Жажда познания. Век XVIII
ПРЕДИСЛОВИЕ
275 лет прошло со дня рождения одного из основоположников отечественной науки, выдающегося российского учёного-энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова. Данный том, посвящённый русской науке и просвещению в XVIII столетии, — одно из проявлений всенародного признания заслуг великого человека перед Отечеством.
Для того чтобы лучше понять характерные черты и особенности русской культуры, науки и просвещения XVIII века, следует выяснить те социально-экономические и политические условия, в рамках которых они развивались, определить место России во всемирно-историческом процессе, проходившем в XVIII веке.
К этому времени в наиболее развитых странах Европы — Голландии (XVI век), Англии (XVII век) победили буржуазные революции, а Франция и североамериканские колонии Англии были на пути к буржуазным революциям XVIII столетия. В России же, как и в ряде других стран Восточной Европы, феодально-крепостнические порядки продолжали укрепляться.
Отличия в социально-экономической эволюции России от передовых стран Запада объясняются многими особенностями природно-географического, политического, исторического характера.
Если до монголо-татарского нашествия Русь находилась примерно на одном уровне развития с европейскими странами, то впоследствии стала заметно отставать от них. На дальнейшем развитии страны сказалась кровопролитная борьба с монголо-татарским вторжением и установившимся двухсотлетним золотоордынским игом. Но и после свержения ненавистного ордынского ига страна должна была отстаивать свою независимость в борьбе с внешней агрессией: татарскими ханствами — наследниками Золотой Орды, Ливонским орденом, Литвой, Польшей, Швецией, Османской империей. Это замедляло темпы исторического развития страны, которая сложилась в единое Российское государство в конце XV — начале XVI века. Трудные природно-климатические условия также не способствовали развитию хозяйства России. Расширявшаяся территория страны, сравнительно небольшая для такой территории численность и плотность населения, многонациональный его состав, различный уровень социально-экономического развития отдельных областей страны, отсутствие выхода к морям — вот далеко не полный перечень причин для развития в России феодализма вширь и вглубь и консервации феодального способа производства при господстве системы крепостного нрава в стране.
В условиях становления и победы капитализма в передовых странах Европы в конце XVII века накопившееся отставание России грозило превращением страны во второстепенную державу. Делавшиеся ещё во второй половине XVII века попытки реформ в различных областях русской жизни лишний раз указывают на закономерность петровских преобразований. Их необходимость диктовалась прежде всего потребностью преодолеть экономическую отсталость страны, что было невозможно без выхода к морю, укрепить власть господствующего класса феодалов, создав сильное абсолютистское государство.
К концу XVII столетия Россия занимала территорию, западная граница которой проходила по линии Псков — Великие Луки — Смоленск — Киев. Днепр был пограничной рекой, и только Левобережная Украина и Киев на Правобережье входили в состав России после освободительной борьбы украинского народа за независимость в 1648—1654 годах. Южной границей благодаря освоению Дикого поля, образовавшегося после монголо-татарского нашествия в лесостепной зоне, в XVII веке стала Белгородская засечная черта. В состав России вошла Сибирь, и её восточная граница вышла на берега Тихого океана. Население страны к концу XVII века насчитывало примерно 11 миллионов человек. По числу жителей Россия занимала тогда четвёртое место в Европе после Франции — 24,5 миллиона человек, Италии и Германии — по 13 миллионов человек.
И совсем по-другому выглядела Россия на карте мира к концу XVIII века. В её состав вошли Прибалтика, Белоруссия и Правобережная Украина, Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, земли между Днестром и Бугом, значительная часть Казахстана. Страна занимала территорию с севера на юг от Ледовитого океана до Чёрного моря, Кавказа, Алтая, Саян и Амура и от Немана, Западного Буга, Днестра на западе — до Тихого океана на востоке. К середине XVIII века в стране насчитывалось 18 миллионов, а к концу столетия — 36 миллионов человек. Правда, следует сказать, что подавляющее большинство населения проживало в сельской местности, в городах жило около четырёх процентов населения.
XVIII век открывается периодом петровских преобразований. «Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы набирая, мужала с гением Петра» (А. С. Пушкин). Были проведены крупные реформы, охватившие все стороны жизни страны. Создавалась мощная мануфактурная промышленность, развивалась внутренняя и внешняя торговля, много было сделано для укрепления крепостничества (ликвидация разницы между поместьем и вотчиной, перепись податного населения и введение подушной подати). Осуществление военных реформ привело к созданию регулярной армии и флота. В области государственного управления была создана бюрократическая система учреждений власти, означавшая установление абсолютизма в стране: император — Сенат — коллегии и Синод. В 1722 году была принята Табель о рангах, регулировавшая порядок прохождения гражданской, военной и придворной службы. В результате победоносных войн Россия прорубила «окно в Европу» и вышла на берега Балтики. Новый размах и характер получили связи с передовыми западноевропейскими странами.
Петровские преобразования были осуществлены прежде всего в интересах дворянского класса. Они способствовали укреплению феодализма в стране. Реформы Петра Великого имели огромное прогрессивное значение для нашей страны, так как они сократили отсталость России от Западной Европы и способствовали укреплению её позиций на международной арене.
В 1725 году умирающий Пётр I дрожащей рукой вывел только два слова завещания: «Отдайте всё...» Наследник не был назначен императором, как то предписывал Указ о престолонаследии, изданный после дела сына — царевича Алексея, дававший право царю самому назначать себе преемника. Разгорелась борьба за русский престол между «ничтожными наследниками северного исполина» (А. С. Пушкин), которая продолжалась вплоть до воцарения Екатерины II в 1762 году. По образному выражению историка В. О. Ключевского, вторая четверть XVIII века получила название «эпохи дворцовых переворотов».
Чехарда на престоле объяснялась узкокорыстными интересами различных группировок господствующего класса. Классовая суть государства оставалась прежней. В. И. Ленин писал: «Возьмите старое крепостническое дворянское общество. Там перевороты были до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян или феодалов отнять власть и отдать другой» (Полн. собр. соч., т. 37, с. 443).
Реформы первой четверти XVIII века «подстегнули» экономическое развитие страны. Господствующий класс в условиях усиления классовой борьбы пошёл по пути создания дворянско-чиновничьей бюрократической системы управления страной. На первых порах, пока аппарат управления ещё только складывался, огромную роль в стране играла гвардия. Дворяне при Петре I должны были нести обязательную службу. Гвардейские полки пополнялись главным образом за счёт детей дворян и были своеобразными офицерскими училищами. Одновременно гвардия была личной охраной императора, гвардейцев использовали и для организации и контроля за деятельностью различных учреждений. Позиции гвардии формировались боровшимися дворцовыми группировками, но в основе действий гвардейцев лежали корпоративные, сословные интересы дворянства. От позиции гвардейских полков во многом зависело, кто будет занимать трон в Петербурге.
Вся вторая четверть — середина XVIII столетия проходили под знаком расширения прав и привилегий дворянства, добившегося в конце концов желанного освобождения от обязательной государственной и военной службы. Сокращение срока службы дворян с пожизненного до 25-летнего; запись в гвардейский полк ещё в детском возрасте, что давало дворянским недорослям возможность по приезде в полк начинать службу сразу с офицерского чина; отмена в 1731 году единонаследия на дворянские имения, утверждение за дворянством исключительного права владеть крестьянами и землёй, раздача казённых предприятий в руки дворянства, Манифест о вольности дворянства 1762 года — таковы основные вехи на этом пути. К этому следует добавить широкую и щедрую раздачу крепостных крестьян участникам дворцовых переворотов и фаворитам. Так, Екатерина II в течение своего царствования раздала более 800 тысяч душ мужского пола, а её сын Павел — 600 тысяч крестьян.
Широкий размах классовой борьбы был тем важнейшим фактором, с которым должен был считаться господствующий класс при выдвижении на престол того или иного претендента.
Со второй половины XVIII века начинается этап разложения феодализма и развития в его недрах капиталистического уклада.
Это было время, когда крепостничество достигло своего зенита в «золотом веке» русского дворянства. Положение крестьян, по выражению В. И. Ленина, «на практике мало отличалось от положения рабов в рабовладельческом государстве» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 76). Желая сохранить крепостнические отношения, государство способствовало распространению их вширь (на новые категории населения и на новые территории) и вглубь (за счёт усиления феодальной эксплуатации). В состав России входят значительные новые территории с различным уровнем экономики, что облегчало сохранение крепостнических порядков в стране. В 1767 году был издан указ, запрещавший подавать жалобы императрице на помещиков. Процветала торговля крепостными.
Невиданное усиление крепостничества проходило в условиях начавшегося разложения феодальной формации. Во второй половице XVIII века в экономике России сложился капиталистический уклад хозяйства. После указов 1762 года, запрещавших покупку и приписку крестьян к заводам, и указа 1775 года, разрешавшего крестьянскую промышленность, в стране уже имелся рынок вольнонаёмного труда, действие которого, конечно же, было осложнено господством крепостничества. Капиталистическая мануфактура успешно выдерживала и побеждала в конкуренции с крепостническими предприятиями. Большую роль в создании капиталистической мануфактуры сыграли крестьяне-отходники, ставшие основным поставщиком кадров для этого типа мануфактур. В так называемых промысловых сёлах (Иваново, Павлово и др.) в результате начавшегося расслоения крестьянства появились так называемые капиталистые крестьяне, которые организовали довольно крупное производство капиталистического типа.
Помещичьи хозяйства стали применять несвойственные им формы организации производства: заводить мануфактуры, рационализировать свои имения, используя более передовую сельскохозяйственную технику, севооборот, выращивание и переработку технических культур и т. п. С 80-х годов XVIII века в черноземных районах, где большинство крестьян несли барщину, стала распространяться месячина (содержание, которое получали от помещиков крепостные крестьяне, лишённые земельных наделов и переведённые на барщину. Крестьянину ежемесячно за работу на барском поле платили определённое количество продуктов и одежды), что также является одним из показателей разложения крепостничества.
Феодальное государство верой и правдой служило своему классу. Была осуществлена секуляризация (передача государству) церковных земель, проведено размежевание земель, что расширило дворянское землевладение, дворянам были за бесценок проданы лучшие металлургические заводы Урала, только дворяне получили право вести винокурение.
В 1754 году были отменены внутренние таможенные пошлины, так как наряду с купечеством дворянство в широких масштабах включилось в торговые операции, прежде всего хлебом. Однако, стараясь помочь дворянству, правительство одновременно объективно способствовало и развитию всероссийского рынка и буржуазных отношений.
Одним из способов сохранения господства дворян было укрепление и насаждение сословного строя в стране. В то время, когда Европа была накануне Великой Французской буржуазной революции, лозунг которой: «Свобода, равенство и братство», в России за каждой группой людей — сословием — закреплялись законами только ей присущие права и привилегии.
Таким образом, XVIII век в общеисторическом развитии — время сложное и противоречивое. Если во всемирно-историческом процессе в этот период победил капитализм либо был канун буржуазных революций в передовых странах мира, то в России экономическое и политическое развитие страны проходило на базе феодального способа производства, а капиталистические производственные отношения в форме уклада возникают при господстве крепостничества лишь во второй половине XVIII века. Особенности социально-экономического и политического развития России во многом определяют характер развития русской культуры, науки и просвещения XVIII века.
XVIII столетие стало переломным в истории русской культуры. Если русское культурное развитие с момента возникновения первого государства у восточных славян в IX веке до XVII века включительно принято характеризовать как традиционную, средневековую культуру, когда принципы познания природы и общества определялись религиозным мировоззрением, го XVIII век открывает качественно новый этап, основанный на рационалистическом (от ratio — лат. — разум), светском мировоззрении. В XVIII веке приходит конец духовной диктатуры церкви в области науки, искусства, образования. Это, естественно, вовсе не значит, что церковь после подчинения её государству в XVIII веке не продолжала оказывать значительного воздействия на все стороны русской жизни. Новый, более широко открытый, постоянный характер стали носить связи с другими культурами, и прежде всего европейской, после выхода России к Балтийскому морю. В XVIII столетии в России, как и в других странах, знания превращались в науку. Происходит становление наук о природе и обществе. Огромные изменения наблюдаются в быту, нравах, обычаях. Наконец, как следствие начавшегося разложения феодального способа производства, роста социальных противоречий и классовой борьбы в науке и общественной мысли появились новые общественно-политические направления, в их числе начала формироваться революционная идеология (А. Н. Радищев).
Одной из самых распространённых характеристик «осьмнадцатого столетия» в истории не только России, но и других стран Европы является звучное и гордое словосочетание «век Просвещения». Именно так можно назвать и данный том, посвящённый русской культуре и науке XVIII века. Однако не раз уже случалось, что красивое и запоминающееся определение эпохи или события заслоняло, искажало, делало односторонним понимание сущности исторических процессов и явлений. С высоты сегодняшних достижений человеческого труда и мысли успехи двухсотлетней и более давности могут показаться не столь впечатляющими, как они представлялись современникам. Сознавая историческую и классовую ограниченность философии и политических взглядов просветителей прошлого, невольно задаёшься вопросом: «Да существовал ли век Просвещения в самом деле?»
Что же, вопрос справедливый, и задавать его начали... ещё в XVIII столетии. Тогда же стало ясно, что ответ на него зависит от понимания самого слова «Просвещение». Пожалуй, наиболее ёмкий и глубокий ответ дал великий философ, один из выдающихся представителей своего столетия Иммануил Кант, считавший, что его время не было «просвещённой эпохой», но несомненно «эпохой Просвещения». Просвещение для лучших умов человечества XVIII века — это не достигнутый идеал всемирной гармонии «просвещённых» правителей и «просвещённых» подданных, а борьба за освобождение, просветление человеческого сознания от теней и мрака «тёмных веков» феодального средневековья. Просвещение — это же состояние, а движение, процесс, происходящий и в обществе, и в душе каждого человека. «Имей мужество воспользоваться собственным разумом!» — вот что считал Кант лозунгом Просвещения. При таком подходе XVIII столетие, так и не ставшее «просвещённым веком», вполне достойно носит имя века Просвещения.
Но почему именно XVIII веку суждено было войти в историю под этим гордым именем? Ведь многих выдающихся деятелей других эпох мы также часто называем просветителями, и называем так по праву. Но здесь наше сомнение опять порождено неоднозначностью понятия «просвещение». В современном языке оно имеет широкое значение, являясь синонимом «образования», «обучения». В таком широком значении «просвещение» является неотъемлемой частью культуры вообще. Борцы за распространение просвещения в массах, Учителя с большой буквы, остаются в благодарной памяти потомков как просветители. Такое понимание вполне приложимо и к просветителям XVIII столетия. Но Просвещение XVIII века и соответственно его деятели имеют и свои, присущие только им черты. Не случайно здесь мы пишем это слово с большой буквы, подчёркивая «индивидуальность», неповторимость данного явления во времени. Просвещение XVIII века (или просто Просвещение) — это мировоззрение передовых людей той эпохи, оно определяло их философские, политические, этические, педагогические, эстетические и прочие представления. В центре всей этой системы взглядов лежала порождённая небывалыми успехами естественных наук вера в безграничные возможности человеческого разума, в том числе в отношении переустройства общества. Казалось, что человечество столь же близко подошло к разрешению тайн личности и истории, сколь понятны стали многие законы природы. Теперь оставалось внушить непременные истины людям, чтобы отношения между ними в обществе стали основываться на разумности и справедливости. Главным орудием в достижении этой цели становилось просвещение в широком смысле этого слова, но обязательно с тем оттенком, что придавали ому Кант и другие передовые мыслители. Речь шла о развитии образования и распространении знаний, но и школа и знания должны были стать новыми, свободными от средневековой схоластики и суеверий.
В философской и исторической науках, в литературоведении сломано немало копий в спорах об отнесении к числу просветителей того или иного деятеля, о национальных особенностях Просвещения в разных странах и т. д. Однозначных выводов о времени, классовом содержании Просвещения в целом и его национальных вариантов эти дискуссии не дали. Но они не были бесполезны, так как помогли уяснить наиболее важные черты века Просвещения. Оказалось, что все стороны Просвещения надо рассматривать во взаимосвязи. Можно говорить о философии Просвещения, об эстетике Просвещения, об общественных идеалах просветителей и т. д., но бесполезно сводить Просвещение только к философским, политическим или каким-либо другим учениям. Также невозможно рассматривать какой-либо национальный вариант Просвещения в изоляции от других, и прежде всего от французского Просвещения, связанного с бессмертными именами Вольтера, Дидро, Руссо и их единомышленников. В силу исторических причин именно французское Просвещение стало классическим образцом этого явления. В нём наиболее отчётливо проявилась связь с социально-политической обстановкой в стране. Франция XVIII века стояла накануне самого мощного в столетии революционного взрыва, и здесь «философская революция предшествовала политическому перевороту» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 273). Ф. Энгельс писал: «Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступили крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй — всё было подвергнуто самой беспощадной критике» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 16). Радикальность и глубина идей французских просветителей определялись глубиной и непримиримостью разрыва между феодальным строем и новыми, бурно развивающимися буржуазными общественными отношениями. В странах, где социально-экономические противоречия не достигли критической остроты, где буржуазные преобразования и революции ещё не стали на повестку дня, Просвещению XVIII века было уготовано решение несколько иных задач, чем в предреволюционной Франции. Но везде, где разворачивалась борьба против феодальных порядков, религиозно-феодальной идеологии идеи Просвещения находили отклик в сердцах передовых людей, способствовали зарождению освободительного движения, революционной идеологии. Одной из таких стран была Россия.
Исторический прогресс в России второй половины XVII — первой половины XVIII веков происходил в рамках феодального строя. Для сохранения своего классового господства внутри страны, для отражения внешней угрозы правящий тогда в России класс феодалов и его государство вынуждены были провести ряд преобразований. В военном деле взамен феодальных ополчений и отрядов служилых людей создавалась регулярная армия, в государственном управлении в основу замещения должностей вместо старинного принципа знатности клался принцип выслуги и заслуг, на казённый счёт строились мануфактуры и новые пути сообщения, поощрялась торговля и т. д. Благодаря всем этим мерам Россия, заметно отстававшая в своём социальном развитии от ряда стран Западной Европы, догнала их в XVIII веке по своему экономическому и военному потенциалу. Отставание в указанных областях проявится лишь к середине XIX столетия в связи с осуществлением промышленного переворота в странах победившего буржуазного строя.
Потребности развития страны в XVIII веке требовали образованных учителей, офицеров, инженеров, чиновников, грамотных мастеровых, торговцев и т. д. Добиться этого было невозможно без развития системы учебных заведений всех уровней, в том числе высшей школы. Однако организация высшего образования могла быть плодотворной только в сочетании с научными исследованиями. В этом убеждал опыт уже имевшихся в России во второй половине XVII — начале XVIII веков высших учебных заведений — Киево-Могилянской и Московской Славяно-греко-латинской академий, находившихся под управлением церковников и ориентированных на средневековую схоластическую учёность, а потому неспособных удовлетворить новые потребности общества и государства. С другой стороны, недостаточно эффективной оказалась и подготовка необходимых кадров в специальных учебных заведениях: артиллерийских, инженерных, морских и прочих школах. Дело в том, что уровень получаемой в них подготовки, её профессиональная узость не позволяли готовить высококлассных специалистов, которые сами могли бы стать в этих учебных заведениях преподавателями, способными улучшить в них качество обучения.
Преодолеть в тогдашней системе образования как низкий уровень подготовки, так и узкий прагматизм можно было только созданием университетов и научных центров. Первой такой попыткой явилась организация Петербургской Академии наук, на которую были возложены и учебные задачи.
В созданную по замыслу Петра I Академию наук были привлечены выдающиеся учёные того времени. Не все из приглашённых согласились отправиться в далёкую и малоизвестную западноевропейцам страну — Россию. Обещания же очень щедрого вознаграждения со стороны русского правительства привлекали в Петербург часто вовсе не тех, кто принёс бы славу новой академии, а учёных среднего уровня и даже ниже того. Тем не менее среди первых членов Петербургской Академии наук были и действительно очень одарённые и талантливые люди. Они помогли ей очень скоро запять самое почётное место среди знаменитейших научных центров Европы. Вместе с тем именно в стенах Петербургской академии происходило становление таких всемирно известных учёных, как Д. Бернулли, Л. Эйлер и других выдающихся исследователей.
Со своими учебными функциями Академия наук справлялась менее успешно, особенно если говорить о подготовке русских национальных научных кадров. Академический университет оказался второстепенным подразделением в системе Академии наук. Почти за 20 лет его функционирования никто из его русских питомцев не получил профессорское звание. Тем не менее процесс создания русской науки был закономерен и необратим. И в академических стенах, и в лучших университетах Европы учились и мужали будущие её первые «капитаны». А на школьных скамьях уже довольно многочисленных русских учебных заведений подрастала и их смена.
Появление Ломоносова было объективно предопределено всем ходом общественного и культурного развития России. В свою очередь, дальнейшему ускорению хода этого развития несомненно способствовало то, что у истоков русской естественной и гуманитарной профессиональной науки, высшей школы, литературного языка нового времени стоял этот гениальный выходец из народа и истинный патриот. Несомненно то, что Ломоносов был по своему значению первым просветителем в России ХVIII века.
В России конца XVII — первой половины XVIII века были и до М. В. Ломоносова люди, активно выступавшие за развитие наук и школ, закладывавшие основы русской культуры нового времени. Однако их мировоззрение было непоследовательным, эклектичным. В нём такие новые черты, как стремление к научному познанию и преобразованию общества на научных началах, соседствовали с верой в незыблемость основных церковных догматов и феодальных устоев. Взгляды этих людей разделялись очень узким кругом образованных единомышленников, а высказываемые идеи имели целью воздействие прежде всего на представителей верховной власти и их окружение. Указанные особенности были свойственны видным деятелям русской культуры конца XVII века: Симеону Полоцкому, его ученикам Кариону Истомину, Сильвестру Медведеву и другим. Примерно то же можно сказать об идеологе Петровских реформ Феофане Прокоповиче, основоположнике русской исторической науки В. Н. Татищеве, первом русском поэте-сатирике А. Д. Кантемире, составивших «учёную дружину» конца 20—30-х годов XVIII века. Их слово звучит смелее по сравнению с концом XVII века и обращено к более широкой общественной среде, взращённой в ходе Петровских реформ, но они ещё не выходят за рамки сословных дворянских интересов.
Заслугой Ломоносова и его ближайших сподвижников (Н. Н. Поповского, Н. Г. Курганова, Я. П. Козельского, А. П. Протасова, А. Д. Красильникова и др.) явилось формирование тех необходимых условий, без которых идеи Просвещения не смогли бы пустить глубокие корни в России и распространиться в демократических слоях общества. Такими предпосылками расцвета русского Просвещения стали: попытки выработать материалистическое (пусть не всегда последовательное) представление о законах природы; создание общепонятного языка русской науки и национальных школ в изучении естественных и гуманитарных дисциплин; знакомство широких слоёв с достижениями передовой русской и зарубежной науки путём издания обширной оригинальной и переводной научно-популярной литературы; организация высшего учебного заведения и общеобразовательных средних школ нового типа (Московского университета и гимназий) с широким доступом в них разночинцев; активная борьба против посягательств церкви на свободу научного творчества и светский характер образования; провозглашение высшей целью науки и просвещения служение Родине на благо всего народа.
М. В. Ломоносов был первым из русских учёных, оказавшимся не только на высоте задач современной ему мировой науки, но во многих областях и далеко опередившим западноевропейских исследователей. Вклад молодой русской науки в сокровищницу человеческих знаний был настолько велик, что, начиная с Ломоносова, уже не могло быть и речи о её отсталом или заимствованном характере. Ломоносов, как никто другой, показал значимость науки и силу её воздействия на общество. Деятельность его имела своим итогом создание своеобразного национального варианта Просвещения. Очень образно о самостоятельной роли Ломоносова в развитии просветительства XVIII века сказал русский поэт Тютчев: «Да, велико его значенье. Он, верный русскому уму, завоевал нам Просвещенье, не нас поработил ему...»
М. В. Ломоносов не смог завершить начатое им строительство здания русского Просвещения, прежде всего в области политической теории. Тому были объективные причины. Его жизнь и творчество приходятся на вторую треть XVIII века, когда ещё явственно не обозначились процессы разложения феодального строя в России. Лишь в последней трети века, когда в экономике страны складывается новый капиталистический уклад, общественная мысль России постепенно приходит к пониманию того, что крепостнические отношения являются тормозом для дальнейшего развития страны. Если сравнивать Ломоносова с французскими просветителями, то стадиально он ближе всего к самому раннему из них — Б. Фонтенелю (1657—1757). Тот также не выступал прямо против феодального строя, но своей борьбой за науку и за более рационально организованное общество прокладывал пути дальнейшему развитию идей Просвещения.
Несомненно и то, что критика Ломоносовым отдельных проявлений крепостничества непосредственно предшествовала формированию антикрепостнической идеологии. Складывание этой идеологии приходится на 60—90-е годы XVIII века и приводит к появлению первого русского революционера А. Н. Радищева. При всём различии взглядов Радищева и Ломоносова оба они — и дети и творцы века Просвещения. Эту глубокую связь осознавал сам создатель бессмертного «Путешествия из Петербурга в Москву». Не случайно первая в России книга — революционный призыв заканчивается «Словом о Ломоносове».
Характеристика русского Просвещения будет неполной, если хотя бы вкратце не остановиться на отношении к нему со стороны верховной власти. В накалённой предреволюционной атмосфере Франции абсолютизм, загнивающий «старый режим» сразу же почувствовал угрозу, таящуюся в Просвещении и просветителях, которые стали знаменем радикальной оппозиции. Иначе обстояло дело в некоторых феодальных монархиях Центральной и Восточной Европы, в том числе в России, где абсолютистское государство продолжало укрепляться.
Используя ряд достижений западноевропейской культуры и поощряя в своих интересах развитие отечественной науки, образования, российская дворянская монархия не могла не способствовать в какой-то мере распространению в стране идей Просвещения, ведь ими были пронизаны творения лучших учёных и писателей сначала Европы, а затем и собственной страны. Более того, при почти полном отсутствии в стране серьёзных антифеодальных сил (прежде всего гегемона революций XVII—XIX веков — буржуазии) самодержавие не побоялось включить в официальную идеологию ряд теоретических установок и выводов французских просветителей. При этом заимствовались, конечно, компромиссные и наиболее слабые стороны их мировоззрения. Особую популярность у властей получила утопическая мечта о «философе на тропе», которую просветители высказывали в качестве альтернативы революции, поскольку боялись последней. По их мнению, идеалы общественного устройства должен осуществить «просвещённый монарх», убеждённый разумностью просветительских теорий и обладающий неограниченной властью, которую он использует во благо подданных и впоследствии разделит с ними, когда они тоже станут просвещёнными людьми.
Концепция «просвещённого абсолютизма» как одного из вариантов внутренней политики дворянской монархии была характерна для России в правление Екатерины II, хотя элементы «просвещённой монархии» можно заметить и во времена Петра I и Елизаветы Петровны. Реальная политика «просвещённого абсолютизма» по своему характеру и целям не имела ничего общего с просветительскими идеалами, поскольку это была политика дворянского государства в интересах господствующего класса феодалов ради дальнейшего укрепления их классового господства. Однако она характеризовалась также поощрением промышленной и торговой деятельности, ограничением применения принудительного труда в промышленности, изъятием церковных земельных владений и монастырских крестьян в государственную собственность (секуляризация), реорганизацией непопулярных судебных учреждений и законодательной активностью с привлечением к составлению законов представителей сословий, большей религиозной терпимостью, поощрением наук и художеств, расширением литературной и издательской деятельности. Но эти, а также некоторые другие мероприятия осуществлялись, пока не задевали коренных интересов дворянства и самодержавия.
Во второй половине XVIII века более широкие слои населения России получили доступ к знаниям. Но при этом правительственные круги старались держать под контролем духовную жизнь общества, «фильтровать» мысли писателей, публицистов, учёных, допуская в печать или в публичные выступления лишь выхолощенные, лишённые антифеодального содержания, не несущие опасности для существующего строя выжимки из их взглядов. Кроме того, для большинства дворян просветительство было лишь модой, идейная сторона творчества лучших умов Франции и России не воспринималась ими сколь-нибудь глубоко. Особенно ярко всё это проявилось, когда во Франции грянула революция. Тогда Екатерина II, её окружение, дворянские писатели и идеологи отреклись от имён и дел французских просветителей, которыми ещё недавно громко восторгались. Не имея возможности расправиться с наследниками революционных идей Просвещения во Франции, самодержавие обрушилось с репрессиями на русских просветителей, хотя первые гонения на них начались гораздо раньше.
В конце XVIII века просветительское мировоззрение переживает кризис. Рушится один из его устоев — вера в возможность мирного переустройства жизни на началах разума, в просвещение как универсальное средство исправления всех людских и общественных пороков. Лучшие из сторон Просвещения были восприняты и продолжены первыми русскими революционерами. Не случайно его высокие идеалы вдохновляли декабристов, не случайно «просветителями» называл В. И. Ленин русских революционеров-демократов 1840—1860-х годов и сравнивал их борьбу «с крепостным правом и его остатками» с борьбой французских просветителей XVIII века (Полн. собр. соч., т. 2, с. 520). Но в новых передовых теориях просвещение уже не являлось центральным пунктом, а рассматривалось как одна из форм революционной борьбы. Век Просвещения так и не породил «просвещённую эпоху».
* * *
Темой данного тома является развитие русской культуры XVIII века, прежде всего науки и образования, то есть тех её сторон, которые в первую очередь охватывает понятие «просвещение». В центре тома стоит личность и деятельность великого учёного и патриота России Михаила Васильевича Ломоносова. Это не композиционный приём, а реальное отражение русского культурно-исторического процесса эпохи Просвещения, в котором сыну поморского крестьянина было суждено сыграть главную роль в развитии материалистической философии природы, естествознания, гуманитарных наук, высшей школы, литературы, монументальной живописи.
Том открывается романом Н. М. Советова «Вознося главу!..». Это одно из последних по времени создания художественных произведений о Ломоносове. Роман впервые был издан в Саратове в 1983 году. Особенно интересны в нём страницы, посвящённые научным раздумьям п экспериментам Ломоносова. Это не случайно. Автор романа — сам учёный, физик. Ему ближе всего образ Ломоносова-исследователя.
Портрет учёного-гражданина — так можно кратко определить замысел романа. Этот портрет как бы выполнен в ломоносовской технике мозаики. Он состоит из отдельных тщательно выделанных деталей — эпизодов жизни и деятельности Ломоносова. В совокупности они создают цельную картину его образа на фоне политической и научной жизни России второй трети XVIII века. Здесь нет связанного и плавного изложения биографии Ломоносова, а скорее видится попытка дать из неё несколько самых важных временных срезов. Такая структура романа оправдывает допущенные автором отступления от реальных фактов и последовательности событий (все они оговорены в комментариях), поскольку полнота впечатления и художественная правда при этом не страдают. Достоверно показаны образы таких государственных деятелей, как И. И. Шувалов, императрица Елизавета Петровна, А. И. Ушаков, К. Г. Разумовский. Довольно хорошо представлена среда, окружавшая Ломоносова в Академии наук. Вымышленные персонажи, как, например, Силине, Широв, Харизомесос, представляют вполне правдивые для своего времени собирательные образы.
Количество исторических источников и научных трудов по русской культуре, просвещению и науке XVIII века столь значительно, что их публикация заняла бы десятки и сотни томов. Не претендуя на всесторонний рассказ, документы, представленные в этом томе, иллюстрируют четыре страницы из многотомной истории русской науки и просвещения XVIII столетия.
Первая из них «В начале века» характеризует состояние науки и просвещения в «доломоносовский период», включая эпоху петровских преобразований, и 30—40-е годы XVIII века. Речь здесь идёт и о реформах в области культуры, осуществлённых в первой четверти XVIII столетия, и о борьбе за них в неблагоприятное для русской культуры время иноземцев-временщиков. Подборка содержит самые разнообразные по происхождению документы: законодательные акты, мемуары, учебную и просветительскую литературу, публицистику.
Второй раздел «Благородная упрямка» посвящён Ломоносову. В его название вынесены слова, которыми великий учёный оценивал одну из главных черт своего характера. Все документы здесь, несмотря на временной разброс (1734—1765) и непохожесть по характеру и жанрам (деловые бумаги, письма, стихи, доклады), объединены одним автором — Ломоносовым. Это рассказ Ломоносова о времени и о себе.
Только одно ломоносовское письмо отнесено в третий раздел, поскольку речь идёт в нём о плане создания нового университета, которому посвящена вся подборка. Её название — «Московский университет». В подборку включены материалы об открытии университета, воспоминания его воспитанников. Здесь же помещён первый из изданных в России словарей о деятелях русской культуры, поскольку он составлен человеком, для которого Московский университет значил очень многое и который сам много сделал для славы университета, — Н. И. Новиковым. К тому же значительная часть упоминаемых им имён принадлежит деятелям и выпускникам Московского университета.
В заглавии четвёртого раздела документальной части стоит вопрос: «Что есть сын Отечества?» Два ответа на него, характеризующие два разных мировоззрения, дают два документа. Один из них — официальный учебник времени «просвещённого абсолютизма» в России «О должностях человека и гражданина», другой — сочинение А. Н. Радищева «Беседа о том что есть сын Отечества». Здесь приведены противоположные точки зрения на цели и задачи воспитания, образования, просвещения в целом. Идеологии российского самодержавия противостоит ещё совсем юная в России идеология революционная. В этих произведениях только начало их спора. Пока он ведётся в традициях века Просвещения, когда оба противника взывают к разуму. Через несколько лет верноподданные «сыны Отечества» приведут в качестве аргумента страшную мощь карательного аппарата царизма. Истинные сыны Отечества — наследники Радищева, собравшись с силами, ответят залпами на Сенатской площади. Впереди ещё более ста лет борьбы, прежде чем история решит окончательно этот спор.
В качестве иллюстраций в томе помещены прижизненные изображения деятелей русской науки и просвещения XVIII века. Их около полусотни. К сожалению, портреты многих русских учёных и изобретателей, профессоров и преподавателей либо не были написаны, либо не дошли до нас. Но даже эта небольшая галерея вместе с теми, о ком рассказывается в книге и чьи портреты история не сохранила, даёт яркое представление о подъёме науки, взлёте общественной мысли, распространении знаний в России XVIII века. Ломоносов не был одинок в своих делах, в своей борьбе. Сбывалось его предсказание о том, «что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать».
Век Просвещения многое сделал, но ещё больше из начатого завещал довершить потомкам. Поставленная М. В. Ломоносовым задача развития страны и превращения её в могучую державу, где расцветут науки и принесут полезные всему народу плоды, была решена только в советское время в ходе строительства социалистического общества. Для советской науки и культуры, для всех нас имя и дело Михаила Васильевича Ломоносова остаются символами самоотверженной любви к Родине и верного служения народу.
А. ОРЛОВ, Ю. СМИРНОВ
Николай Советов ВОЗНОСЯ ГЛАВУ!..[1]
Дерзайте, ныне ободрены,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
М. Ломоносов
Глава 1 РЕТИРАДА ДЛЯ ВИКТОРИИ
Что ж до меня надлежит, то я сему себя
посвятил, чтобы до гроба моего с
неприятелями наук российских бороться,
как уже борюсь двадцать лет, стоял за
них смолода, на старость не покину.
М. Ломоносов
Ломоносов поднялся по каменным ступеням здания Академии наук, открыл массивную резную дверь и, пройдя несколько шагов по вестибюлю, остановился. Сняв и отряхнув заиндевевшую шляпу, потопал валенками, обил их один об другой и приветственно кивнул спешившему навстречу ему привратнику Симеону.
— С добрым утром, господин профессор, — кланяясь, произнёс Симеон, принимая с плеч Ломоносова тяжёлый овчинный, не покрытый сукном, а лишь по-северному расшитый тесьмой, тулуп, который Ломоносов по бедности ещё не поменял на шубу.
— Здравствуй, Симеон, — ответил Ломоносов. — Что служба? — И, как всегда, с удовольствием оглядел огромную, несмотря на седьмой десяток лет, ещё не начавшую грузнеть фигуру Симеона.
Отставной петровский гренадер Симеон уже много лет служил в академии при вратах. Он раздевал и одевал посетителей, среди коих бывали не только академики и студиозы, но и персоны самого высокого ранга, ещё по петровскому заводу соблюдавшие искреннее почтение к наукам. Симеон топил печи по всему просторному низу и, когда добровольно, а когда понуждаемый начальством, ценившим его недюжинную силу, нёс бремя стража порядка, смиряя порой весьма буйный нрав студентов и гимназистов, приписанных к академии.
Ломоносов ещё не был профессором, только адъюнктом физического класса[2], но Симеон именовал его профессорским титулом в знак особого своего расположения к родному ему российскому мужику, такому же, как и он, но только обученному.
— Дела, Михайло Васильевич, не шибко хороши, — неторопливо, по-волжски окая, отвечал Симеон. — Да, очень даже не шибко.
— Чего так? — подтолкнул старого солдата Ломоносов, зная, что тот всегда не прочь передать новости тем, кого уважал.
— Да вот указ! Вчера исполнял. И хоть вельми не старался, но исполнял!
— Что за указ, Симеон?
— Ея императорского величества! Извольте. Господин асессор Теплов[3] после зачтения не смогли отнести в архив по случаю воскресенья.
Ломоносов взял с готовностью протянутую ему Симеоном солидную кожаную папку, в которой лежал лист гербовой бумаги.
«По указу е. и. в.[4], — прочёл он каллиграфически выведенные строки, — в Академии наук определено: ученика Матфея Андреасова, что он без ведома профессора Бакштейна[5] от него отлучился и пьянствовал и не явился шесть дней, бить батогами нещадно для того, дабы ему впредь чинить того было неповадно!»
Ломоносов сморщил пухлые губы и сердито глянул на Симеона:
— И ты, значит, исполнял?
— Не во всю силу, Михайло Васильевич. Не во всю. И даже не вполсилы! Оговорил Матвея немчишка[6] Бакштейн. Оговорил!
Симеон сокрушённо развёл руками, в одной из которых продолжал держать тулуп Ломоносова.
— Не пьёт Матвей запойно, — заключил он категорически и со знанием дела, ибо зелия не чурался, понимал в нём толк и сам в подпитии твёрдость имел изрядную. Уж в этом его не собьёшь.
Ломоносов, сердито сопя, сел в кресло, сбросил валенки, под которыми оказались белые чулки, и натянул на них услужливо протянутые ему Симеоном красновато-жёлтые туфли с большими медными пряжками, в которых Ломоносов из бережливости домой не ходил, держал в академии и переодевал по приходу.
— Заметил я Матвея, — согласно кивнул он на слова привратника, — щупл, но любознателен. Ну да верю, что не забил ты его. — И, сердито притопнув туфлями, в бордовом, всего год назад сшитом кафтане, окантованном серебряным галуном, и таких же штанах, быстрым шагом пошёл к лестнице.
— Так те шесть дней Матвей у купца Черникова амбарные описи составлял. И за то ему купец корм на месяц вперёд положил, — выговаривал Симеон, провожая Ломоносова до лестницы. — О том и Бакштейну Матвей сказывал, да не поверил ему тот!
Ломоносов, соглашаясь, кивнул. «Да, немцы большую силу в академии имеют», — в который раз подумал он, поднимаясь в астрономические палаты.
Вернувшись в академию полтора года назад из Германии[7], где завершал обучение, Ломоносов обнаружил, что все профессоры — немцы, речь в обиходе по академии немецкая. Сказывались, конечно, петровские указы. Он смело приглашал и ставил иностранцев. Но приглашал не для них самих, а токмо для того, чтобы людей своих елико возможно скорее обучить, с малыми убытками и с великой пользой для государства. Пётр был достаточно дальновиден, чтобы идти на подобные издержки.
«Да, забыли, что всё сие не для чужестранцев создано, забыли, — думал Ломоносов, имея в виду академию. — Ну дела, дела». — И сокрушённо покачал головой, скрываясь за поворотом лестницы.
Копиист академической канцелярии[8] Иван Харизомесос изнывал от скуки и голода. Голод одолевал потому, что в академии не только канцеляристам, но и академикам уже более полугода не платили жалованья; Иван утром сжевал краюшку хлеба с квасом, а ещё купить было не на что. Скучно же было оттого, что малое количество бумаг, такое, чтобы в безделье не обвинили и розгой не наказали, Иван уже переписал, а более того писать не хотел. В комнате Иван был один. Старшие канцеляристы были розданы правителем канцелярии Шумахером[9] в работу богатым купцам, на службе неделю не появлялись, задав Ивану урок, который он исполнять не спешил.
И потому он в унынии сидел в канцелярии, смотрел через большое окно с венецианскими стёклами на заледенелую Неву, на царские дворцы по той её стороне и размышлял.
А для размышлений были поводы. К примеру, неплохо бы знать куда деваются деньги, кои три, а то и четыре раза в год, чаще всего к вечеру, привозят в мешках под охраной двух преображенцев в крытом возке управителя Шумахера. Мелко семеня и подозрительно оглядываясь по сторонам, Шумахер провожает преображенцев с мешками в свой кабинет, потом солдаты уходят, лошадь и возок уводит на конюшню хромой академический конюх Федот, а вот куда деваются деньги из мешков, Ивану так никогда увидеть и не удавалось.
И ещё: отчего это Шумахер так своих немцев бережёт? Чуть не целуется с ними. А русских не жалует! Вот Нартова[10], например, придворного механика покойного государя Петра Великого, терпеть не может, притесняет и при раздаче казны от жалованья по разным причинам отставляет. И с Ломоносовым то ж, и с Поповым[11].
А уж о нём, Иване Харизомесосе, дьячковом сыне из рязанского села Малиновское, взятом в писцы по великому снисхождению, и говорить нечего. Его дело — исполнять, что прикажут, и быть там, куда пошлют. Тем чаще всего и живёт. Бывает, пошлют в хороший дом, там и поесть дадут изрядно, и с собой пирог за пазуху сунут. Но это только если Шумахер к русскому за делом пошлёт. А если к немцу, то не то что пирогов — пирогов-то они отродясь не пекут, — а и простой краюшки не получишь.
— Данке, данке. Ком, ком[12], — и всё!
Грузные шаги за дверью заставили Ивана встрепенуться. Он торопливо обмакнул перо в чернильницу, согнулся над листом бумаги, высунул кончик языка и, поглядывая на дверь, изобразил прилежность и старание, каковые и полагается выказывать бедному отроку, взятому в работу из одолжения за-ради обучения и прокорма.
Шумахер был мрачен. Вошёл, морща ноздри, сердито ухнул и, не замечая вскочившего с поклоном канцеляриста Ивана, прошёл в свой большой, редкостно обставленный кабинет. Огромный резной письменный стол занимал немалое пространство в углу. Картины живописных мастеров на стенах, несколько бронзовых и мраморных статуй, часы с боем, часы с фигурками, кои выскакивают из дверцы каждый час, и много других диковин. Всё это великолепие отражалось в блестяще натёртом паркетном полу, радуя хозяйский глаз и веселя хозяйское сердце.
«Хоть и не моё это, а в то же время и моё, — часто и с удовольствием думал Шумахер, оглядывая своё служебное обиталище. — С четырнадцатого года и по сей момент моё это есть!» — И он удовлетворённо гладил ласково-тёплые под рукой перья чучела некой диковинной птицы, то ли страуса, то ли ещё какого индюка, которому место бы в кунсткамере, да притащили вот сюда для украшения кабинета вершителя всех дел академии.
Для худого настроения Иоганна Шумахера имелись основания. Конец 1742 года был для него беспокоен и даже немного жутковат. Прежняя тёплая жизнь, в достатке, с полным и безотчётным владением всеми прибытками академии, вдруг зашаталась. С сентября заведено было следствие над ним по жалобе механика Андрея Нартова.
Шумахер давно знал Нартова. Чуть ли не тридцать лет тому назад, призванные Петром, они служили рядом. Шумахер вёл переписку с иноземными учёными, ведал книжным делом, покупал за границей редкие приборы. А Нартов творил механические чудеса, ублажая Петра, учил того слесарному и токарному мастерству, доводя свои изделия до тонкости и совершенства. И потому Нартов был в большом фаворе у покойного императора.
«И надо же! Чуть ли не двадцать лет после смерти Петра сидел тихо и вдруг жалобу учинил», — обозлённо думал Шумахер.
Дочь Петра, императрица Елизавета[13], чтившая память отца, отнеслась к жалобе Нартова на самоуправство Шумахера со вниманием. И хоть неспешно комиссия работает, хоть не торопится быстрее дело завершить, всё же вскорости сюда, в академию, для следствия прибудут генерал Игнатьев и князь Юсупов[14].
Шумахер покрутил головой, снял парик и утёр платком выступившую на лысине испарину. Затем, решив, что нелишне будет в таком деле ещё pas поговорить со своими, в делах проверенными, надёжными людьми, взялся за колоколец и звякнул.
В дверь просунулся копиист Иван, встал у порога, весь изображая робость и усердие.
— Вот что, Ивашка. Беги в кабинет господина академика Бакштейна. Проси ко мне. Шнель!
Иван кивнул, плавно закрыл дверь и бросился бегом по анфиладе комнат, минуя длинные коридоры, спустился по лестнице, пробежал вестибюль и стукнул в дверь кабинета профессора физики и математики Бакштейна.
— Ком хере, — услышал Иван, насмешливо хмыкнул и, всунув голову в дверь, передал приглашение. Худой, в очках, со всегда сердитым выражением красноватого лица с отвислой нижней губой, Бакштейн насупленно выслушал Ивана и кивнул головой:
— Ихь комме гляйхь...[15]
Уже не слушая ответа, захлопнув дверь, Иван состроил ей гримасу и, благо появилась возможность ненадолго оторваться от постылых бумаг, побежал в мастерскую к Нартову.
Нартов был в мастерской. Он всё время был в ней, почти что жил там, вечно что-то мастеря, выделывая или оттачивая малопонятные Ивану штуковины. И когда бы Иван ни входил в мастерскую, он всегда испытывал трепет и благоговение. Всё вокруг было интересно, удивительно и непонятно.
Удивительного много было и в кунсткамере[16], куда Иван также не раз, когда позволяли, забегал. И уроды о двух головах, и наряды индийские, и разные заморские редкости. И даже сам восковой царь Пётр Великий с резкими усиками, прямо смотревший на входящих, вызывая страх живота, отбивая у многих охоту преступать порог кунсткамеры.
Но всё же в мастерской Ивану нравилось больше. Машины с колёсами, вертя которые можно было со свистом качать воздух. Весы пружинные, весы с гирями, большими, пузатыми и крохотными, меньше ногтя. Блестящие зеркала и увеличительные стёкла.
Особенно хотелось Ивану подольше глядеть в зрительные трубы. Их немало было у Нартова, как купленных за границей, так и сделанных им самим. И в трубы смотреть хотелось не украдкой, опасаясь окрика, а подолгу. И направлять их куда вздумается. Однажды навёл Иван трубу на ту сторону Невы, так чуть трубу не уронил. В открытом окне, которого отсюда простым глазом и не разглядеть, стояла персона женского полу. Вся в каменьях, улыбалась и что-то говорила, да так, что все шевеления губ ясно были видны Ивану.
— Императрица! — ахнул Иван и отвёл трубу испуганно, понял, что прикоснулся к запретному.
Но суров был Нартов, никого не баловал и нечасто подпускал Ивана к трубам. Суров он был со всеми, помня, наверное, что обласкан был самим Петром Великим, и из тех, кого знал потом, никто до высоты первого благодетеля подняться не смог. И потому после смерти Петра Нартов замкнулся. И лишь недавно не выдержала душа его измывательств Шумахера над делом Петра — академией. Подал жалобу. Захирели науки. Большие учёные — Леонард Эйлер, Даниил Бернулли[17] покинули Петербург. Деньги тратились немалые, а приборов ценных не поступало. Время же между тем шло. Разве для этого основал Пётр «социетет наук»[18]?
Увидев Ивана, который работал под началом Шумахера, Нартов сразу вспомнил свои огорчения и сердито напустился на отрока, хотя и знал, что ни в чём тот повинен не был:
— Чего прибежал? Шумахер послал, что ли?
— Нет, господин Нартов, не за вами. Они Бакштейна просили к себе.
— Ну да, — кивнул Нартов своим мыслям, — Бакштейн, Гольдбах, Винцгейм, Вейбрехт[19], Силинс... Да господи боже ты мой, сколько их тут поналезло на нашу православную голову! — Нартов даже махнул кистью руки от огорчения, как бы стряхивая с неё что-то липкое, и затем, вдруг смягчившись, уже подобревшим голосом сказал Ивану: — Небось в трубу посмотреть хочешь? На вот, возьми малую.
Иван с радостью потянулся к зрительной трубе, указанной ему Нартовым, а тот уже назидательно продолжил:
— Да только днём глядеть — это всё пустое! Разве что на военных экзерцициях[20].
Снова окинув суровым взором из-под густых седых бровей нежное, ещё не запушённое волосами лицо Ивана, добавил:
— Ночью бы тебе надо к обсервации прикоснуться. Планеты узреть или хотя бы Луну. Дойди-ка ты до адъюнкта, господина Ломоносова. Доложи, что линзы я ему направил. Ну и понравиться постарайся: может, он приветит тебя и в дело возьмёт. А если что мастерить надо будет, то уж я помогу.
Всё утро, как и много дней до этого, сидя за столом. Ломоносов трудился над главными пунктами своей диссертации «О тепле и стуже».
На голове Михаилы был светлый парик, завитый мелкими буклями, кафтан слегка расстегнут, хотя в апартаментах жарко не было; однако полную шею обматывал белый шёлковый шарф. Во всём этом сказывались привычки коренного уроженца севера Руси, которые кутать не кутались, но и зря не заголялись.
«...Теплота состоит в скором обращении маленьких частиц тела около их оси...» — писал Ломоносов разборчивым почерком, и неоднократно продуманные, выстраданные в нелёгких умственных усилиях мысли выстраивались в плотный ряд основательных заключений.
«Конечно же, так», — в который раз укреплял он себя в только что изложенных утверждениях. И ему хотелось верить, что многие из вводимых им в российский язык учёных слов, вот к примеру «частица», долго жить будут и достанутся в употребление потомкам.
«Всё в мире суть движение. И нагревание тел есть движение, которое мельчайшим частицам вещества огонь сообщает. Больше огня, больше движения, и частицы сильнее в мостах своего закрепления шатаются. А закреплены они силами сцепления, и сцепляются частицы по-разному». «Вот опять новое слово — «сцепление», — подумал он. — Ну да чего же? По-русски звучит сие. А то ведь немцы свои слова всунут. Потрафи им чуть, так они и напишут «антлия пневматическая», вместо того чтобы просто сказать «воздушный насос». Да и мало ли чего ещё!»
Ломоносов сунул руку под парик, почесал затылок, затем сердито скинул его вовсе и бросил на стол, словно эта немецкая неудобная и обязательная принадлежность и была той «антлией», которую надо было отбросить.
«Да! Движение частиц, сцепление преодолевающих! То есть: «основание, которое по всей физике поныне неизвестно и не только истолкования, но ещё имени не имеет», — написал он и поставил жирную точку.
Мысли, записанные Ломоносовым, шли поперёк тем воззрениям на теплоту, которых держалась не только Российская академия, но и вся мировая наука. И маститый Вольф[21] у которого Ломоносов учился физике в Марбурге, хоть и любил механику, считая её наукой наук, а движение — основой физики, не раз повторял своему ученику:
«Движение одно свойство материи есть, теплота — другое. И теплота подчиняется высшему знанию, а пути её передачи смертными пока не познаны!»
И Вольф, тыча пальцем в тетрадь Ломоносова, заставлял его дословно записывать туда свои полные стройной мудрости речи. А потом дотошно, с немецкой пунктуальностью, требовал повторения их изустно слово в слово.
«И пока наиболее основательно думать, — повторял Вольфу свой урок Ломоносов, — что теплота есть особая материя. Не газ, не жидкость, но чудесная субстанция, легко от горячего тела к холодному перетекающая. Называется та материя — флогистон, и физикам большая задача есть: измерить, имеет ли эта материя вес или она, божьим помыслом, от весомости освобождена».
Ломоносов недовольно поморщился от этих воспоминаний, высокий лоб прорезали складки, и он вдруг сердито выдохнул воздух.
— Взвешу я этот флогистон! — прихлопнул ладонью по столу Ломоносов. — Взвешу! И тогда не будет никакого «флогистона»! — Но это была уже совершенная крамола, и потому подобные мысли Ломоносов до поры публично не высказывал, хотя и понимал, что это рано или поздно придётся сделать.
«Придётся! Диссертацию-то ведь надобно будет подать на обсуждение конференции. То-то дело будет!» — подумал он о высшем учёном собрании Академии наук и сокрушённо покачал головой.
Дверь физического класса тихонько скрипнула, Ломоносов вскинул брови и уставился на бочком протиснувшегося в дверь копииста Ивана.
— Здравствуйте, господин адъюнкт, — весело, без всякого подобострастия поздоровался Иван, знавший простоту и неспесивость Ломоносова в обращении с людьми, не осенёнными чинами и званиями.
— Здравствуй, господин писец. А ты что, моё имя забыл?
— Не забыл, Михайло Васильевич! Но ведь адъюнкт-то красивее.
— Не скажи, — Ломоносов помотал головой. — Не скажи! Да к тому же не имя красит человека, а человек имя. — Он секунду помолчал и продолжил вопросы: — Но ты ведь не за тем пришёл, Иван?
— Не за тем... — Иван помялся и вдруг решительно выпалил: — Взяли бы вы меня в ученики, Михайло Васильевич. Я бы целый день физические трубы мастерил. А ночью глядел в них. — Иван просительно и с надеждой уставился в лицо Ломоносову, вызвав в нём сочувствие и воспоминания о прошлом — о собственной молодости и неудержимой тяге к свету знаний, о поиске хороших учителей и великой их ценности.
«Но из сочувствия щей не сваришь и шубы не сошьёшь», — одёрнул себя Ломоносов и нарочито сурово спросил:
— А есть что будешь? Сейчас тебе Шумахер платит за письмо, а я чем платить буду?
— Да и не платит он ничего, уже год не платит! — едва не всхлипывая, пробормотал Иван. — Доброхотством только и питаюсь да на купцовой переписке.
Невысокого роста, с большой вихрастой головой, в бедной одежонке, он выглядел несчастным, как выпавший из гнезда и ещё не обучившийся летать птенец. Ломоносову стало жаль мальчика. Но сейчас, когда и ему самому почти год не платили жалованья, когда и его положение в академии было совсем непрочным, брать на себя ответственность за этого паренька, который хотя и дрянные, но всё же место и корм имел, Ломоносов не мог. И поэтому неумолимо отрезал:
— Нет, Иван! Учеников адъюнктам не положено! — И, опять сжалившись над Иваном, глаза которого заполнились слезами, более мягко добавил: — Но, если хочешь, заходи, когда Шумахера нет. Поучу тебя тому, чего сам знаю. — Ломоносов помолчал, вглядываясь в сразу посветлевшее лицо Ивана, и продолжил: — Латынь тебе надо уразуметь, Иван, и греческий.
— Я в немецком малость поднаторел, — робко вставил Иван.
— То дело. Но латынь и греческий зело полезны для образования мужей учёных. — И Ломоносов, вдруг улыбнувшись, спросил: Вот твоё фамильное прозвание — Харизомосос, так?
Иван согласно кивнул головой.
— Из греков ты?
— Не знаю, Михайло Васильевич. Русские мы.
— Из греков ты, Иван, из греков. А Харизомесос по-гречески значит «дарящий учение», «советчик». Стало быть, ты Советчиковым должен зваться по-русски. Так и пишись!
Ломоносов опять помолчал и, посерьёзнев, сказал:
— И всё же, Иван, знай, что большое знание ныне, увы, только по-латыни изложено. — И подумал, что все эти немецкие, латинские и греческие заборы на дороге к знаниям надо ломать. Российским языком всё изложить можно и должно!
Чтобы окончательно приободрить и обнадёжить Ивана, добавил:
— Скоро лекции начну читать по физическим наукам и основаниям химии на российском языке. Вот туда приходи обязательно!
Зимний день в Петербурге проходит быстро, в пять часов уже темно, особенно если день пасмурный. Над Васильевским островом темнота кажется ещё гуще, ибо всё здесь удалено от суетных дел Дворцовой набережной, от сверкающих окнами до глубокой ночи императорских и вельможных палат. Лес на острове тронули топором лишь местами. Прорублены были Средний и Большой проспекты, но домов на них отстроили мало, а каменных и вовсе не было.
Боновский дом[22], в котором отвели квартиру Ломоносову, ставлен был ради поддержания порядка на академическом огороде, где собирались ботанические редкости. В застеклённых островерхих избах, на отопление коих дров не жалели, разводились всякие нежные растения, из заморских стран вывезенные. Сушились гербарии, а высушенные, в папки клались и с подписями на полках в шкафах раскладывались. Произрастали там разные цветы, которые по готовности срезали и, укутав рогожей, на быстрых санках отвозили ко двору.
Но и редкостей ботанических и цветов ранее было куда больше. Ныне же Боновский дом немецкая челядь едва ли не целиком заселила. Но от трудов на пользу науки та челядь всячески уклонялась, хотя многие были у академии на жалованье. И под стеклом всё более картофель и огурцы для собственного потребления выращивались.
Закрыв свои комнаты на висячий замок, дабы кто не стал шарить там без его ведома, что уже не раз до того бывало, Ломоносов под вечер вышел прогуляться.
На воздухе было хорошо. После дня сидения за столом хотелось размяться. От долгих размышлений ум стремился к занятиям более возвышенным, нежели напряжённым. И само так выходило, что по вечерам, на отдыхе, Ломоносов задумывал и сочинял стихи.
Ломоносова вдохновлял торжественный стих: он нашёл себя в одах. Одический стиль давал ему стихотворный размер, соответственный его настроению и его пониманию стиха. Да к тому же и польза некая была видна от преподношения од: сильные мира сего склонялись в его сторону, и это сулило защиту от Шумахера и его сторонников.
«И ничего в том зазорного нет, — успокаивал себя Ломоносов, отводя укоры некоторых в том, что он заискивает перед двором. — Ведь посвятил же умнейший Бернулли свою «Гидродинамику» всесильному Бирону[23]. А царствующая ныне императрица — это уж никак не Бирон. Она наша, русская, Петрова дочь!»
Сейчас в работе его ума была ода на случай возвращения императрицы Елизаветы из Москвы в Петербург для приготовления, как поговаривали, войны со Швецией. Стихи клеились, наполнялись гневным вдохновением против шведов и короля их Фредерика[24], коих Елизавете до конца унизить и поразить предначертано!
Едина только брань кровава Принудила правдивый меч Противу гордости извлечь, Как стену, Росску грудь поставить...Снег мерно похрустывал под валенками, разъезженная санями Большая Перспектива уводила далеко к морю. В сумерках стало безлюдно, влажная изморозь сменилась лёгким морозом; вышедшая из-за туч слегка ущерблённая луна замелькала промеж заснеженных сосен. Кругом было тихо, задумчиво и таинственно красиво. Насыщенный хвоей воздух бодрил лёгкие и румянил щёки. Произнося про себя слова и укладывая их в плотные строки, совершенно увлёкшись рифмами, Ломоносов отрешился от всего, что было вокруг. И он не заметил, как из лесной чащи вышли трое и стали обходить его.
Как стену, Росску грудь поставить… —
повторял Ломоносов речитативом в такт своему мерному шагу и вдруг очнулся от грубого окрика:
— О-го-гой! Стой-ка, купец! Иль нас не видишь?
В призрачном, отражённом от снега свете луны в двух шагах перед собой Ломоносов увидел здоровенного детину в армяке, подпоясанном светлым кушаком, в посконной остроконечной шапке, заломленной на затылок. На тёмном, не видном без света лице лишь поблескивали белки глаз да скалились зубы. Справа стал мужичишка из себя невзрачный, но с колом в руках. Почувствовав скрип снега сзади, Ломоносов сдвинулся на пол-оборота и, скосив глаза, увидел третьего. Бородатый, квадратный, он стоял полусогнувшись, словно готовый кинуться медведь.
— Вы что? Вы чегой-то?! — ещё не до конца осознав намерения ватаги, спросил Ломоносов.
— Га! Чего ему? — ухмыляясь, передразнил детина. — Спрашивает ещё! — А плюгавый мужичишка, вдруг замахнувшись колом, в истошный голос заорал: — А ну, скидовай шапку! Сымай тулуп! И-и-и-шь ты! — И уже нешуточно полез колом к Ломоносову. Сзади послышалось сопение квадратного мужика.
Вспыльчив был Михаила Васильевич. Несдержан и смел, когда вдруг задирали его. В юности среди поморов умным почитался, но тихим не числился. И, взрослым став, никому спуску не давал.
«А тут?! Мало нам Шумахеры и Бакштейны жить не дают, так ещё свои, русские, разбойничают!» — молнией пронеслось в мозгу. И захлестнуло его, понесло удалью, через край выбившейся:
— У-ух, матерь вашу растуды!! Воровство чинить!!
Ломоносов с устрашающим рёвом бросился на мужичишку, в котором заподозрил главного, схватил кол, дёрнул к себе и тут же получил сзади сильнейший удар, к счастью скользнувший по воротнику и пришедшийся в плечо. Прийдись удар в голову — Ломоносову бы несдобровать. «Кистенём бьёт, кат проклятый», — успев крепко уцепить свободный конец кола, подумал он.
Сила была у Ломоносова немалая. Да и свирепел он сразу. Во мгновение, рванув кол и сбросив с него мужичонку, он, словно выполняя ружейный приём, ткнул концом дубья детину в армяке, одновременно уйдя в сторону. Бородач с кистенём, нанося второй удар, промахнулся и, не удержавшись, сунулся в снег возле брошенного оземь скорчившегося детины. Следующий удар колом по голове бородача лишил того чувств. Мужичонка, выпустивший кол, в страхе отскочил, Ломоносов же быстро перешагнул через бородача и стал плашмя дубасить колом по спине детину, который, не сумев стать, на четвереньках, вопя от боли, пытался выползти из-под ударов. Остановившись, Ломоносов яростно взглянул на отскочившего мужичонку, но тот, поняв, что и до него дошла очередь, в испуге бросился бежать.
Кровь толчками билась в жилах Ломоносова, ярость застилала глаза. Но драться было уже не с кем, и разум подсказывал, что ни догонять убегавшего, ни совершать убийство оставшихся не стоит.
Приподнявшись с четверенек, детина, с ужасом оглядываясь, хотел было тоже бежать, но Ломоносов, опять замахнувшись колом, твёрдо объявил ему:
— Стой! Чьи будете?
— Трубецкие мы, — снова упав на колени, пролепетал детина. — Трубецкие! — Шапка слетела с него вместе с наглостью; губы уже не кривились в оскале, а мелко дрожали.
— Княжеские? — удивлённо спросил Ломоносов.
— Точно так, ваша милость, — кланяясь, подтвердил детина, — княжеские мы. Князя Владимира.
— И как же это вы до большой дороги дошли? — спросил Ломоносов, остывая, затем нагнулся и сдёрнул с руки зашевелившегося бородача массивный кистень на кожаном ремешке.
— Тимофей повёл, — опять кланяясь, ответил детина. — Тимка Трубецков. Тот, что убежал. — И махнул в сторону скрывшегося в темноте тщедушного мужичишки.
— Ах, канальи, ах, проклятущие! Втроём на одного! Да исподтишка! — всё ещё с гневным раздражением ругался Ломоносов. — Ограбить меня захотели, яко тати в нощи? Так вот я вас ограблю! А ну, снимай армяк! — Детина, не прекословя, по-прежнему стоя на коленях, спешно стал развязывать кушак. Затем скинул армяк и, взглянув на Ломоносова, боязливо спросил: — Штаны снимать?
Ломоносову вдруг стало смешно. Гнев прошёл, кровь остыла, наступило удовлетворённое успокоение.
— Ладно, — усмехнувшись, махнул он рукой. — Штаны тебе пусть твой пьяница-князь снимет да заодно и выпорет. Армяк твой мне тоже не надобен, — и Ломоносов носком валенка отшвырнул лежащую на снегу одежду. — Помоги вон брату-разбойнику, — кивнул он на подымавшегося со снега бородача. И, уже повернувшись, чтобы идти к дому, добавил: — А Тимке Трубецкову, подлому оборотню, передай: пусть не попадается мне — зашибу.
Бакштейн и Шумахер уже час целый сидели в кабинете, обсуждая сложившуюся в связи с ожиданием ревизии диспозицию.
— Генерал Игнатьев — полковой орёл! — рассуждал Шумахер. — Ему цифирные счета проверять не захочется. А князь Юсупов премного Бирону обязан. При покойной императрице Анне Иоанновне[25] вельможный Бирон род Юсуповых из башкирской грязи вытащил и возвысил. Вот мы ему о том и напомним. Бирон-то нам всем не чужой ведь был! — Шумахер сделал значительное лицо, намекая на то, что всесильный царедворец Анны Бирон сам был немцем, насаждал всё немецкое, и немцы при нём на Руси жили припеваючи.
— Оно есть так, — холодно ответил ему Бакштейн. — Да только вы, Иоганн, уж очень перебирать стали. Какие это счета вы Игнатьеву покажете? Может, счёт на содержание шестивёсельной шлюпки и гребцов при ней, на которой вы изволите по Неве и Фонтанке разъезжать, словно адмирал флота?
Шумахер дёрнулся, как бы пытаясь остановить Бакштейна, но тот вовсе не думал умолкать.
— Или, может быть, вы покажете счёт на жалованье в пятьсот рублей, как у профессора, егерю Штальмайссеру, что взят на отстрел редких птиц для кунсткамеры? Так он есть ваш лакей и, кроме кур да гусей, к вашему столу, и то на Василеостровском привозе, да денежной дробью, ничего более не стрелял. Или, может, предъявите комиссии счёт на оплату вашего особняка?
Бакштейн, насмешливо кривясь, смотрел на зло вскинувшегося Шумахера, а тот, вовсе не желая спускать соучастнику своих нечистых делишек по растрясанию российской казны, в долгу не остался.
— Ах так! Тогда и ваши платы Дрезденше за её девиц, любезный профессор, тоже могут комиссии интересны быть. Во сколько вам пышненькая Элиза обошлась? А красавица Матильда? — Шумахер мелко захихикал, не сводя взгляда с побагровевшего лица Бакштейна.
Дрезденша была энергичной дамой неопределённого возраста, несколько лет как приехавшая из Пруссии и обосновавшаяся в доме на Вознесенской улице с целым штатом весёлых девиц. Дом её уже снискал себе популярность в Петербурге, и с именем Дрезденши было связано немало скандалов. Поняв, что сумел наступить Бакштейну на больную мозоль, Шумахер мстительно продолжал бросать ему ответные обвинения:
— А кто акт подложный составил о покупке физических приборов наиточнейших за десять тысяч, якобы из Гамбурга вывезенных? Где эти приборы?! — Шумахер вскочил с кресла и ткнул пальцем прямо чуть ли не в трясущиеся очки на физиономии Бакштейна. Тот, истерически взвизгнув, разразился было ответной тирадой, но Шумахер, опять прочно сев в кресло, вдруг громко шлёпнул ладонью по столу и отчеканил:
— Генук![26] Нам нет смысла дальше по этой линии двигаться. Довольно обвинений! Подумаем лучше, что нас ждёт?
Краска медленно начала сходить с лица Бакштейна. Он согласно кивнул, и оба немца, поостыв, продолжили обсуждение того, что и как им делать и что говорить и показывать сиятельной комиссии.
Часы в кабинете Шумахера громко тикали, покачивая блестящими маятниками; белоснежные амуры лукаво улыбаясь, бесстыдно тянули свои пухлые ручонки к прелестям мраморной Венеры. Вельможи в париках строго смотрели с портретов на людей в таких же париках, но только живых, которые, сидя за столом, плели прочную сеть интриги.
— Так и будем делать, — заключил разговор Шумахер, поднимаясь из-за стола. — Надо к другому внимание привлечь. И с большим шумом желательно. А желающие расшуметься у нас в академии имеются. Им только помочь в этом надо, подразнить их. А как расшумятся, так мы на них гнев начальства и направим.
И оба немца как ни в чём не бывало покивали друг другу кудлатыми париками и расстались.
Уже несколько месяцев в академической канцелярии томилось доношение Ломоносова о создании при академии химической лаборатории.
«...Понеже я, нижайший, в состоянии нахожусь не только химические (эксперименты для приращения натуральной науки в Российской империи в действо производить, но ещё могу и других обучать физике и химии... — писал он в своём репорте, — имею я искреннее желание наукою моею Отечеству пользу чинить».
Студиозы Степан Крашенинников[27] и Алексей Широв в сей химической лаборатории виделись ему в качестве помощников. Оба давно уже работали вместе с Ломоносовым, несмотря на то что по ранжиру и не были к нему приставлены. Работали помногу и с увлечением, хотя и без постоянного места. И нужду в ретортах и химикатах имели большую. Но изворачивались. Правда, Крашенинников не одной химией жил и весьма заметно к возвышению по карьере стремился. Искал дружбы асессора Теплова, благо тот в силу входить начал. Шумахеру угождать не избегал и не прочь был его поручения выполнять.
— Ну что ты, Степан, всё к начальству норовишь приблизиться? — корил его Ломоносов. — Вот мешай селитру. Ведь какое вещество интересное! В порохе уже более трёхсот лет используется, но свойств непознанных всё ещё ой как много имеет. — Он тряс пробиркой с беловатым порошком селитры перед лицом Степана, наставляя того на путь чистой науки, и настойчиво убеждал: — Опишем её досконально, труд будет учёный, в химии весьма полезный!
Степан, хотя и не больно смущаясь, признавал укоры Михаилы Васильевича. Химия была ему интересна: по селитре, которую изучал вместе с Ломоносовым, он и в адъюнкты представляться собирался. Но командовать тоже любил. Склад имел такой, с детства мальчишками верховодил. И тогда ещё никому не было ведомо, что быть ему ректором первого российского университета при академии. И хоть и корил его сейчас Ломоносов, но в будущем к его продвижению руку приложил.
Алексей Широв, из себя чернявый, по-цыгански разбитной, также к наукам рвение имел, но и развлечений не чурался. Когда случался перерыв в учении или работе, становился Алексей в позицию и, веселя всех, начинал шлёпать себя ритмично по груди, икрам и ляжкам: ну точно цыган перед тем, как в пляс пуститься. Но когда дело экспериментов касалось, никто чище него опыт сделать не мог. Сидел он над огнём и чашками безвылазно, до сути докапывался въедливо и, пока не получал результата, дела не бросал.
Но лаборатории им не давали, просьба лежала без движения, работать часто было негде и нечем. От вопросов Шумахер уклонялся, ссылаясь на занятость и отсутствие средств. Но как-то, сильно прижатый Ломоносовым, вероятно памятуя о грядущей комиссии, вроде бы сдался и сказал, что дело поручено адъюнкту Геллеру[28] разобрать и затем все доступные возможности организации лаборатории доложить Конференции. Геллер был сродни Шумахеру, больше интересовался дворцовой перепиской по иностранному ведомству, куда был вхож, нежели науками. Но всё же Ломоносов, взяв в качестве адъютантов Широва и Крашенинникова, направился в географический департамент академии, где сейчас пребывал Геллер.
Адъюнкты Геллер и Трускот[29] перебирали карты Российской империи, а копиист Мессер одну из них тут же перерисовывал на прозрачный пергамент. Вошедшего Ломоносова и двух студентов встретили напряжённые взгляды и даже испуг, как будто делали они что-то недозволенное. Кинув взгляд на копию, Ломоносов нахмурился.
«Что-то здесь не так», — подумал он и вдруг сообразил, что на столе под пергаментом лежит крупномасштабная карта западных частей Российской империи. Та самая, при составлении которой, путём великих трудов, целых шестьдесят точек были геодезически точно вымерены и сделаны опорными, чтобы вести от них все отсчёты. Даже в просвещённой Европе того ещё не сделали, и потому на недавней европейской карте Силезия, к примеру, в сторону на сто вёрст отъехала.
— Вы что копируете? — сердито спросил по-латыни Ломоносов. — Разве сии карты кому обещаны?
Геллер его совсем не понял, а Трускот, разобрав лишь, что этот невозможный русский опять чем-то недоволен, ответил ему по-немецки:
— Мы работаем по поручению профессора Винцгейма и просили бы нам не мешать.
Чужестранцы с разрешения такого же чужестранца крали российскую карту, а он, природный русский, не в силах этому препятствовать! Ломоносова передёрнуло от негодования: «Нет, так не пойдёт!» Ноздри его нервно расширились, глаза сверкнули, полные губы стали рассерженно подрагивать.
— А может, то, что вы тут творите, как раз и требует вмешательства? — уже раздражаясь, как это часто случалось с ним в последнее время, снова по-латыни заявил Ломоносов. И опять услышал в ответ немецкую речь Трускота:
— Ихь хабе нихьт ферштандн.
— Ах, ты меня не понял? — вконец рассердившись, воскликнул Ломоносов уже по-русски и затем, сознательно мешая русский и латынь, закричал: — Нет, извольте говорить со мной по-латыни! Не можете? А что у вас в аттестатах написано? Что вы в философии юс натуры, институционес юстинианес, пандектум и юс феудале! Что языки компонуете екстемпоре! — И заключил по-русски, ответственно, как приговор: — Значит, оба в адъюнкты недостойно произведены! Иль забыли, как вас Шумахер тащил, Бакштейн подталкивал, а дружки всем кагалом орали «за»?!
Скандал был сейчас единственной возможностью привлечь к происходящему внимание и помешать немцам тайно скопировать и украсть карту России. И Ломоносов шёл на скандал, хотя и знал, что сам лично только проиграет от этого. Застывшие у стены студенты, но смея вмешаться, слушали перебранку.
«И если немцы молчать будут, то эти-то уж все поняли и всем расскажут», — подумал Ломоносов.
Трускот же, задохнувшись от злобы, выкрикнул:
— Вы забываетесь, адъюнкт Ломоносов! Господин профессор Винцгейм поручил нам...
— Плевал я на вашего Винцгейма, — снова по-русски закричал в ответ Ломоносов. — И ежели он будет побуждать карты России воровать, то я ему зубы направлю! Да и вам заодно. — И Ломоносов устрашающе двинулся в сторону Геллера и Трускота. Те шарахнулись к двери, к которой ещё раньше, оставив копию, на всякий случаи отошёл Мессер.
Ломоносов сорвал со стола приколотый булавками пергамент, грубо сминая, сложил его и сунул в карман. И про себя подумал: «Сего довольно! Тайны теперь уже нет, и они вряд ли скоро рискнут повторить воровство!»
Обернувшись к молча стоявшим у стены студентам, кивком позвал их за собой и вышел из департамента.
Скандал на этот раз всё же не разразился. Осторожный Шумахер не дал ему ходу, и даже Винцгейм не показывал виду, что Ломоносов грозил ему, хотя никто ничего не забыл. Однако вопрос об открытии химической лаборатории надолго был оставлен.
Ломоносов спустился в мастерскую к Нартову с просьбой. Для чрезвычайно точных взвешиваний ему нужны крохотные разновески. В одну восьмитысячную и одну шестнадцатитысячную долю фунта. Надо бы и меньше, да уж куда — и эти-то числа Ломоносов опасался называть Нартову.
Однако Нартов, к его удивлению, выслушал просьбу спокойно.
— Вывесим. — И, как бы отметая это дело как решённое, спросил, глядя на Ломоносова усталыми глазами на старческом морщинистом лице с красными прожилками: — Что, господин адъюнкт, покажешь комиссии, коя дело ведёт на Шумахера?
— Жулик Шумахер! То нам ясно. И ему бы не Шумахером, а Шулермахером прозываться! — ни секунды не колеблясь, ответил Ломоносов. — Но ведь показать-то мне, Андрей Константинович, по-крупному не на что. Только едва более года, как из-за границы приехал. Много наслышан о воровстве, да мало знаю.
— Нет уж! Ты, Михайло, не уходи! Смотри кругом. Что видишь, то и показывай. Где приборы новейшие, за кои деньги академические якобы плачены? Вот, к примеру, где глобус механически вертящийся, внутрь которого многим персонам залезать можно, чтобы оттуда изображения движущихся светил созерцать? За огромные деньги его из Шлезвиг-Голштинии выписали да столько же на содержание и ремонт отвалили, а где он?
Ломоносов неопределённо пожал плечами, а Нартов, сосредоточив на нём напряжённый взгляд, воскликнул:
— Сгорел, говорят, тот глобус! Сгорел, нету его! И денежки вместе с ним сгорели!
Действительно, Ломоносов слышал историю о большом глобусе небесной сферы, который вроде бы сгорел. И даже видел каркас, который собирались заново обтягивать размалёванной материей с отверстиями, изображающими звёзды и планеты.
Но было ли это сооружение тем, за которое плачены деньги, или его делали русские мастера целиком заново, сказать не мог. Поэтому он уклончиво, стараясь не раздражать Нартова, произнёс:
— Сие всё точно доказывать надо. Не словами. Бумаги поднять, счета проверить.
Однако этот осторожный ответ ещё более раздразнил старика.
— Вот так все и вывёртываются. И ты, адъюнкт, тоже? А ведь молод ещё, и неча те за шкуру бояться! — Нартов начал было энергично наседать на Ломоносова, затем вдруг обиженно махнул рукой и устало опустился на лавку. — Вон лишь один Матвей Андреасов, бакштейновский ученик, показал, как тот обман творил. Золотые монеты, что якобы для физических опытов в кислоте растворялись, Бакштейн на самом деле себе в карман клал и домой уносил. Так слыхал, что с Матвеем сделали? Ты, видать, того же боишься?
Огорчение Нартова было неподдельным. Старожил академии, он знал больше других, но, имея дело с приборами, бумаг избегал и ни писать их, ни читать не любил.
— Ничего я не боюсь, господин Нартов, — строго ответил Ломоносов, — и что знаю — покажу. А счета проверить бы надо.
— А-а! — уже сникнув, махнул рукой Нартов. — Они и счета покажут, и какие хочешь бумаги изготовят. Они ватагой разбойничают! А мы, россияне, как всегда, в дураках останемся. И академия наша тож!
Ломоносов ушёл от Нартова с чувством недовольства собой и даже вины. Ведь какое дело тот задумал — воров из академии вывести! И хоть Нартов давно академик, и заслуги у него немалые, но нелегко сие сотворить! И Ломоносов прикидывал, чем он может пособить Нартову, пособить с пользой. И огорчался тем, что особо-то ему ухватиться, чтобы свою силу приложить, не за что. Бумаги ревизовать надо, а ему того немцы не дадут!
Потому в тот день работа у него не спорилась. Клал в котёл с тающим льдом двухаршинные полосы железа, бронзы, меди и замерял точно длину их. Потом доводил воду до кипения, щипцами выдёргивал бруски из воды и, обжигаясь, дуя на пальцы, снова вымерял, желая знать, насколько брус удлинился, чего достоверно никто ещё не знал. Понимая, что тепло упускает и точности не достигнет, полез с меркою прямо в воду, ошпарил пальцы, сердясь плюнул и работу отложил.
Небо в утренней дымке казалось блёклым, низкое солнце неярко пробивалось сквозь пепельный полог высоких облаков.
Ёжась от колючего морозца, Ломоносов перешёл по утоптанной тропинке Неву, поднялся на берег и вышел на Дворцовую площадь. Кинув взгляд на широко раскинувшуюся площадку с глыбами развороченной земли, копанной под фундаменты, и грудами камня для строящегося Императорского зимнего дворца, одобрительно кивнул и направился к Невской першпективе. Не торопясь перешёл мост, обрамленный четырьмя серыми беседками с каменными же колоннами и круглыми куполообразными крышами, свернул в лавку купца Кропилова, который вместе с нежными галантерейными причиндалами — лентами, нитками, пуговицами, кружевами — держал также и книжный товар. Правда, полки были невелики, изобилия книг не являли, да ведь и охочих до этого товара у полок много не толпилось.
Попадали книги сюда всё больше из коробов разорённых дворянских семейств или из палат вельмож, чьи владения конфисковались в казну по случаю обречения владельцев на немилость или кару.
Лавка была большая, служили в ней четыре приказчика, и сам хозяин в поддёвке и чищеных сапогах выскакивал из-за дубовой кассы, когда входили сановные покупатели или высокия дамы.
Ломоносов, как лицо незначительное, был удостоен простого поклона старшего приказчика, который проводил его до полок. Хозяин же хотя и любезно, но лишь кивнул ему из-за прилавка.
Здесь Ломоносов находил иногда хорошие книги. Подобрал сочинение по истории государств и царей Пуфендорфа[30], купил особо нужную ему книгу «Элементы химии» Бургаве»[31], которая хотя и пострадала от мышей у прежнего хозяина, но зато пошла недорого. Ломоносов потоптался у полок, перебирая корешки, затем заинтересованно выдернул книгу. Руку увесисто оттянул фолиант Галилея[32] «О двух главнейших системах мира». «О!» — негромко и восхищённо цокнул языком Ломоносов и далее подумал, что сию книгу надо будет купить обязательно. А если хозяин и заломит цену, так что сразу не расплатиться, придётся в долг взять. Но в долг ему обычно хозяин верил, ибо не подводил его Ломоносов ни разу.
Денег на книги всегда у Ломоносова шло немало. Покупать их начал ещё в Москве, когда пребывал студентом Славяно-греко-латинской академии. Подбирал их в лавках, что стояли на спуске к Кузнецкому мосту. Продолжал искать книги и обучаясь за границей. Купил там физические сочинении Мариотта и Торричелли, том Христиана Гюйгенса[33]; прочитав, восхитился глубиной его мышления и многое из того для себя полезного вынос. Латинцев насобирал: Овидия, Вергилия, «Эпиграммы» Марциала[34]. Там же с комедиями Мольера[35] познакомился и оттого тягу к театру заимел. Тем более что ещё до заграницы, в Москве, также бывал на зрелищах.
В те годы на Красной площади возведён был «комедиальный амбар», где труппой во главе с директором «гоф-комедиантов» Кунштом давались разные «интерлюдии». Пиесы ставились всё больше библейские: «Божье унижение в гордом Израиле», «Праведное отца-ругателя Авессалома наказание» и подобное тому. Цены на представления были доступные, хотя и не так уж малы: за места в первых рядах брали но два алтына[36], за средние — по пять копеек, а за последние — всего по алтыну. Да ведь простому народу и это ох как не по карману было. Но всё же многие желали потолкаться около знатных особ, что в первых рядах сидели, или хотя бы поглазеть на них. Где ещё царскую семью и верхних бояр так близко увидишь?
Правда, вскорости сие московское зрелище прекратилось. «Гоф-комедиантов» Куншт, собрав выручку с нескольких представлений и прихватив главную исполнительницу ангельских ролей эльзасскую немочку Клотильду, сбежал за границу. Жулика догнать не сумели, труппа разбрелась, театр закрыли, а «комедиальный амбар»[37] после этого за ненадобностью сломали.
Отерев пыль с тиснёной кожаной обложки фолианта Галилея, Ломоносов взял его в обе руки и понёс к хозяину торговаться. Сговорившись, выкупил книгу за рубль с четвертью. Полтинник отдал сразу, а остальное обещал к весне, и хозяин без особой неохоты за ним этот долг себе для памяти записал. Книги — товар неходовой. Не то что ленты или кружева голландские, охотников читать мало, надо продавать тому, кто берёт.
Бережно засунув приобретение по студенческой привычке под рубаху и нетуго притянув поясом к животу, Ломоносов снова вышел на Невскую першпективу. Народу на ней было довольно. Праздно шатались разодетые господа, ходили разносчики с пирогами в лотках на голове, с булками в коробах; на углу кричал зазывала, приглашая отведать горячего медового сбитня[38]. Ломоносов аж слюну проглотил — до чего же захотелось. Да все деньги за книгу отдал, ничего в карманах не было.
По проезжей части улицы возки сновали. С одной конякой или с парой, украшенные и не очень. Со стёклами, из-за коих персона выглядывала, и просто овчинной полстью укрытые. И вдруг всё смешалось, засуетилось, послышались громкие возгласы, свист, гиканье. От дворцов проскакали два всадника с криками: «Пади, пади!» За ними ещё пятеро — эти уже нагайками хлестали направо и налево без разбора. Дворянский возок, парой запряжённый, со стёклами, не дешёвый, с дороги согнали, дышлом в стену упёрли, прижали, чуть не поломали. И в нём, за окошком, кто-то в шляпе с пером испуганно метался, возразить не смея.
Затем показались скачущие во весь опор конные, окружая санные возки, пышно расцвеченные золотой резьбой, шестериками запряжённые, со звероподобными кучерами на козлах.
— Лейб-кумпанцы[39] скачут! Императрицу везут! — услыхал возле себя Ломоносов голос небогато одетого мужика и увидел, как тот истово бросился оземь. По всему Невскому толпа простого народа бросалась на колени, а чистая публика склонялась в земном поклоне. Мужчины при этом сбросили шляпы, дамы низко присели. Ломоносов, сдёрнув шляпу одной рукой, второй вытолкнув из-за пояса под рубашку фолиант Галилея, также склонился. «Лейб-кумпанские» гвардейцы, ежели им поклоны вдруг покажутся неуважительными, очень просто подскакать могут и нагайкой измордовать, а то ещё чего хуже сделать. Императрица им благоволит, и управы на них нет.
Особо среди «лейб-кумпанцев» выделялся некий Гринштейн, крещёный еврей, отличившийся при перевороте, вознёсшем Елизавету. Он всех мордовал нещадно, удержу не зная, может, в отместку за унижения, которые он претерпел, пребывая в лоне своей прежней религии, а может, просто по причине врождённой наглости. Многие от него стенали, а Елизавета, его полезностью для себя смиренная, препятствий ни в чём не чинила.
Вот недавно, рассказывали, тот Гринштейн с «лейб-кумпанцами» пьяными ворвались в дом старинного рода боярина Рюмина. Там его же боярским вином и мёдом упились до изумления, а упившись, невзирая на вопли чада и домочадцев, на боярине верхом ездили и вертелами в разные места кололи для убыстрения езды. И оттого боярин помер в тот же день. А императрице донесли, что он «от тяжкие своея недуги, паче же изволением божьим, переселился в вечные кровы...». В народе от тех игрищ бесовских пошло возмущение, были представления и из Сената, отчего многим выпали гонения. Вскорости издала Елизавета энергичный указ, которым повелевалось всех евреев немедленно выслать из России и впредь ни под каким видом в Россию не пускать. А золото и серебро вывозить с собой не разрешать — предлагалось обменять его на медную монету. Да только виноватых то мало коснулось, всё больше безвинные пострадали, а кто побогаче — откупились; на том всё и завершилось.
«Одних потеснили, — проводив взглядом кавалькаду, подумал Ломоносов, имея в виду поверженного Бирона и его присных, — другие поналезли, ничуть не лучшие». Тяжело вздохнул и покачал головой.
Поезд императрицы промчался, как и не было его, народ поднялся с колен. Ломоносов выпрямился, одёрнул под тулупом рубашку, заправил за пояс фолиант и зашагал в академию,
«В чём суть вещей? Где причина гармонии мира?» — думал Ломоносов, сидя в академии за своим столом, обложенным листами исписанной и чистой бумаги, с большой чернильницей посредине и пучком белых гусиных перьев, торчащих из деревянной вставочки. Мысли были ясны, голова свежа, и тому способствовал ещё Петром заведённый лад работы академии, когда всё делалось по-светлому, по утрам. Шло это то ли от старинного уклада трудового люда на Руси, привыкшего вставать спозаранку и трудиться при солнышко, то ли от свирепой экономии на свечах, которые академический кастелян выдавал не поштучно, а вершковой мерой: профессору — двадцать вершков свечей в неделю, адъюнкту — шесть, а студиозам по два вершка, да и то не всегда. И недостача света очень чувствовалась, особенно в зимние, по-северному короткие дни. «Но чем бы то ни объяснялось, всё же по утрам работать лучше, — соглашался Ломоносов. — Недаром народ говорит: «Утро вечера мудренее».
«В чём причина гармонии и вечности? — продолжал он свои размышления. — Земля и планеты согласно обращаются вокруг Солнца. Ни одна не запаздывает приходом в надлежащую точку.
Могучие умы размышлению над этим свои силы отдавали: Аристотель, Декарт, Коперник[40]... С ними сравняться нелегко, не то что превзойти». Ломоносов покачивает головой, как бы отдавая дань уважения своим великим предшественникам, и снова задумывается.
«Согласно обращению Земли сменяются времена года. Природа воскресает, цветёт, даёт плоды и опять засыпает, чтобы снова возродиться и продолжить извечный свой круговорот. В мире всегда что-то рождается и что-то умирает. Куда девается то, что умирает, и где берёт силу то, что рождается?» Ломоносов, потирая высокий лоб, задумчиво смотрит на белый лист, и перед глазами проходят картины этого нескончаемого возрождения и умирания природы, взлёта и падения всего живого и сущего, колебания великих качелей природы.
«Круговорот — вот основа вечности. Одно даёт жизнь другому. Молодой росточек не взойдёт на песке: он вбирает в себя вещества из земли, из перегноя опавших листьев. Крестьянин унавоживает почву и затем собирает с неё умноженную дань. Стало быть, ничто не рождается из ничего, но ничего и не пропадает. Всё согласно замыкается в извечном природном круговороте». Ломоносов невидящими глазами обводит комнату, затем снова переводит взгляд на бумагу, макает перо в чернила и пишет: «Ничто сущее не исчезает в мире сем. Одно вытекает из другого... Согласие всех причин — есть наиболее устойчивый закон природы».
Мысли, мысли, мысли... Как много вопросов и как мало знаний. Можно, к примеру, часами смотреть на струи текущей воды в ручье или реке и гадать по её серебристым переливам, что она есть такое. Можно смотреть на небо, восхищаться красками заката и думать, почему в полдень небо голубое, а на заходе солнца окрашивается в такие восхитительные багряные тона, что никакими красками повторить их невозможно. А между голубым и багряным лежит гамма цветов, плавно переходящих один в другой. Увидеть сии цвета можно и в небесной радуге, и в призме за лабораторным столом. И уже в этом малом проявляется сила человеческого разума: явление природы — радугу можно повторить. «Радуга — это мириады капелек воды, похожих по свойствам на стеклянную призму. Это ясно. Но вот что есть сама цветовая гамма? Откуда в радуге такие цвета? От света, конечно. Но свет-то белый?! Так что есть свет?..»
Мысли, мысли, мысли... В размышлениях и трудах время шло к полудню. Пора от раздумий переходить к опытам. Сегодня Широв но заданию Михайлы Васильевича изменил способ замера удлинения тел при нагревании.
Вода в медном корыте, где нагревались испытуемые полосы, теперь покрывала их только-только, чтобы они наружу не высовывались. Сквозь парящую, едва не закипающую на огне трёх спиртовок воду железная и медная полосы видны прекрасно, по длину их на этот раз решили мерить похитрее. На кончиках полос Широв, по указанию Ломоносова, засверлил тонюсенькие
дырочки и в них швейные иголки свейского[41] изготовления плотно вставил. Кончики иголок над водой торчали, как столбики сторожевые; к ним мерный аршин теперь подносить удобно: размер виден точно, и не обожжёшься. А мерный аршин снаружи лежал в талой воде, чтобы температура его была неизменной и мера его всё время постоянную длину имела. И аршин тот испытатели, когда нужно, щипцами из воды доставали, к торчащим из воды иголкам прикладывали, записывали результаты, а аршин снова в талую воду клали, чтобы сам он не нагревался и замеры не искажал.
Измерения начали с железом и медью и провели их в крайних точках, в талой воде и в кипящей. По десять раз замерили длину того и другого бруска; для точности один держал мерный аршин, второй в лупу положение иголочек рассматривал, после этого посчитали среднее. Оказалось, что медь удлиняется в полтора раза больше железа.
— Смотри-ка, сколь интересно, — подтолкнул Ломоносов к размышлению Широва. — Вот попробуй-ка железо с медью вместе склепать. Что случится? — И Ломоносов, лукаво сощурившись, уставился на Широва. Тот немного подумал, почесал для верности мысли затылок и не очень уверенно ответил:
— А не будут они вместе согласно жить. Небось рвать друг друга будут при утеплении или похолодании.
— Верно! — одобрительно отозвался Ломоносов. — Вот почему медные пушки, сколько стальными обручами их ни стягивай, крепче не станут. Толку от этой затеи не будет, хотя и пытались того добиться. Порвутся обручи.
— То дело не наше, военное, — равнодушно ответил разжарившийся у огня Широв, утомлённо утирая пот со лба.
— Как это не наше? — строго возразил Ломоносов. — Разве русские пушки, по врагу стреляя, тебя не обороняют? А ежели пушку разорвёт, то и оборона в этом месте может ослабнуть и разорваться. Ну?
— То так, — согласился Широв.
— То-то и оно, что так. И потому и пушки и металлы, из коих пушки льются, — наше с тобою кровное дело! Ибо слава и польза Отечества для россиянина — превыше всего!
Сегодняшний разговор с Шировым о пушках, металлах и литье их напомнил Ломоносову отставленную прошлым летом работу с им самим изобретённым прибором для плавки металлов. Это был «зажигательный инструмент», в котором солнцем создавалась жара необычайная. Взяв в помощники студиоза Котельникова[42], Михайла Васильевич стал готовить зеркала и линзы, чтобы, используя летнее солнышко, проверить возможности дармовой печки, в которую ни дров, ни чего другого горючего подкладывать не надо.
Коренастый, по-калмыцки скуластый лицом студиоз Котельников загорелся идеей Ломоносова изготовить такую солнечную печку для химической плавки металлов, а если получится, то и кристаллов. Чтобы настроить и опробовать печь, оба забрались высоко, на круглую балюстраду астрономической башенки академии и расположились с южной её стороны.
Под ними раскинулась широкая панорама города и Невы, стрелки Васильевского острова и уходящих на север лесистых пространств. Неву пересекал недавно наведённый наплавной мост с лодочными понтонами, который способно держал не только дворянские возки, но и гружёные ломовые подводы. Если надо, мост разводили и пропускали по Неве парусные корабли, гребные галеры или барки на бечевах. Вверх по реке блестел шпиль Петропавловской крепости, а по тому берегу, казалось, прямо от них, убегала вдаль Невская першпектива. Но Ломоносов и Котельников влезли сюда не для любования, а за делом, и потому по сторонам не глазели.
— Поближе к солнышку, подальше от немцев, — усмехнувшись, сказал Ломоносов.
Бережно, опасаясь разбить, приладили три зеркала, сосредоточивавших свет в одном месте, и начали налаживать фокусную линейку, на которой предполагалось разместить линзу.
— Вы думаете, получится? — недоверчиво спросил Котельников, вертя в руках круглую трёхдюймовую линзу.
— Дай-ка сюда, — вместо ответа сказал Ломоносов, взял из рук Котельникова двояковыпуклое стекло и, не предупреждая, повёл солнечным пятном по его руке.
— Ай! — заорал студиоз, отдёрнув кисть, и начал плясать, трясти рукою и дуть на обожжённое место.
— То-то, Фома неверующий, — засмеялся Ломоносов. — Предание говорит, что грецкий философ Архимед[43] солнечными лучами от многих зеркал сжёг целый вражеский флот.
Котельников, перестав дуть, кивнул и ответил, что об Архимеде и его зеркалах наслышан, да только сомневается.
— Вот мы и проверим, так ли жарок луч, — изрёк Ломоносов. — Давай-ка заделывай линзу в обойму. Будем её крепить на линейке.
Солнце ярко светило в июльском небе, дышалось легко, настроение было прекрасным, и Ломоносов, устанавливая нажим, запел на бравурный, маршевый лад:
Шумит ручьями бор и дол, Победа, Росская победа! И враг, что от меча ушёл, Боится собственного следа.— Что за песня такая? — спросил Котельников.
— Не песня это, — помедлив, ответил Ломоносов, — ода. Пою же я её потому, что она поётся. А ода называется «На взятие Хотина»[44].
— Где это — Хотин?
— Надо бы знать, студиоз. Хотин — турецкая крепость в Балкан-краю. Русские войска победно взяли её летом 1739 года, — ответил Ломоносов. И стал теперь уже не петь, а читать Котельникову оду, где говорилось про победу, про русских храбрецов, про разбитых татей, кои уже не будут чинить препятствий безбедной жизни и покою славян.
— Хорошо написано, — похвалил Котельников. — Кто сие сочинил?
Ломоносов секунду помолчал, потом спокойно ответил:
— Написана ода в том же одна тысяча семьсот тридцать девятом году неким пиитом Ломоносовым.
— Вами? — удивился Котельников. — Так отчего же мы не читали её? Где она напечатана?
— А нигде не напечатана. Не печатают. — И неопределённо развёл руками. — Денег же на издание собственным иждивением покуда не имею. Ну-ка, ладно. Давай совмещать фокусы.
После некоторых переналадок «зажигательный инструмент» был готов. Ломоносов сунул в точку за линзой, где сходились лучи, щепку — она вспыхнула.
— Во, — выдохнул Ломоносов. Но сразу же добавил: — Это пустяк. Не для того трудились. Давай теперь тигель сподобим чурке. То будет уже дело!
Ломоносов полез в ящик, который они захватили снизу, и достал маленький глиняный горшочек-тигель, заложил в него рубленые кусочки свинца, поставил под луч и поправил зеркала. От луча тигель засиял ярким отражённым светом, засветился, будто золотой, и через малое время деревянная подставочка под тиглем задымилась.
— Вот, смотри, как жарит! — воскликнул Ломоносов, щипцами выхватил тигель и перевернул. Жидкая серебристая струйка выплеснулась со шлепком на пол и разлетелась десятком сверкающих панелек, которые тут же недвижно застыли на досках.
— Работает солнце в нашей печке! Работает, хотя солнышко северное и не ярко, — удовлетворённо произнёс Ломоносов. — А что в полуденном краю будет? — и вопрошающе уставился на Котельникова.
— А там, верно, и железо потечёт, — ответил тот.
— Потечёт, непременно потечёт! Так что Архимед в своей жаркой Сицилии очень даже мог солнышком врагов жечь.
Вспомнив всё это, Михаила Васильевич посетовал, что с наступлением пасмурных дней он опыты с печью оставил, а осенью солнца стало вовсе мало. Затем работа отошла на задний план других дел и забылась.
«А жалко, — подумал Ломоносов. — Может, и вправду бы вышла дармовая печь жару необыкновенного. — И затем снова подумал, продолжая предыдущие размышления: — Что же такое свет? И как он связан с теплотой? Свет оборачивается теплотой, в его печи это очень явно видно. Но и теплота, нагревание приводит к свечению — то нетрудно видеть в раскаляемом куске металла. Так что же, свет и тепло — едины? И при чём здесь невесомый, невидимый флогистон?»
Вопросы, вопросы, вопросы... Кто ответит на них?
Заседание академической Конференции обставлялось торжественно, а посещение заседаний являлось строго обязательным для её членов. В большом зале Конференции кресла и стулья были расставлены по ранжиру, и каждый занимал своё место согласно регламенту. Во главе помещалось высокое кресло президента, которое давно пустовало. Поговаривали, что в президенты готовят младого Кириллу Разумовского, брата вошедшего ныне в силу фаворита и тайного мужа императрицы Алексея Разумовского[45]. А пока же сию должность отправлял вес тот же Шумахер. Ему очень нравилось состоять главою в таком собрании, ибо сам он в науках был немощен, и это главенство возвышало его и в собственных, и в чужих глазах.
Поблизости от президентского кресла размещались профессоры. Солидный Гольбах, профессор и советник юстиции, в обязанности коего входило также сочинение корреспонденции чужестранным учёным на латинском, немецком и французском языках. Злющий Бакштейн, поблескивая очками, стремился ничего но упустить из сказанного и, чтобы лучше слышать, приставлял ладонь к уху, а иногда и две ладони к обоим ушам, делаясь похожим на угрюмого ночного филина. Рядом сел Вейбрехт, профессор физиологии, а также анатомик; он разнимает человеческие и звериные тела, все их смотрит и старается употребление им сыскать.
Чуть дальше от президентского кресла плюхнулся на своё место большой, рыхлый, с неподвижным, заплывшим от жира спесивым лицом профессор Андрес Родбарт Силинс. Его упражнения в горнорудном деле не принесли России ещё ни фунта металла, но солидно разорили казну радением о поставках железа из Швеции. Силинс настойчиво убеждал, что только шведский металл верно может служить основой оружейного дела в России, и при всех сравнениях с уральским давал тому убийственные аттестации: и хрупко-де уральское, и ломко, и никуда не годится.
Он люто ненавидел Ломоносова, который уже два раза, несмотря на малый ещё срок пребывания в академии, особое своё мнение в горнорудный департамент о пробах Силинса излагал.
Рядом садились профессора Байер и Миллер[46]. Первый занимался антикваритетом и многие истории изыскал из жизни царей. Миллер тоже занимался историей, однако более стремился к изучению варягов, от коих, как всеми в Европе было признано и Миллер то упорно подтверждал, и пошла русская государственность.
Опаздывая, вбежал вертлявый француз Ле Руа[47], бывший домашний учитель детей Бирона, а ныне академик, произведённый за весьма достойный труд о надгробной надписи на могиле прародителя Адама, предполагаемой на острове Цейлоне. Многие другие профессора, все в кафтанах с шитьём, надушенные, в цветных шарфах, потряхивая витыми париками, садились в кресла. Некоторые обмахивались веерами, другие время от времени прикладывались к нюхательным табакеркам и громко чихали.
Демонстративно пустым оставалось кресло Нартова.
Адъюнкты — Адодуров[48], Ломоносов, Попов — садились в дальний ряд, ибо им первые места занимать было не положено. И лишь асессор Теплов хоть и добился звания адъюнкта вместе с Ломоносовым, но далее к наукам охладел, снискав покровительство Разумовских, о чём всем ведомо было, сел близ Шумахера.
Позади всех, тихонько перешёптываясь, рассаживалась на простых стульях студиоза: Крашенинников, Протасов[49], Широв, Котельников и другие. Матвей Андреасов, претерпевший недавно от Бакштейна телесно, мелькнул было среди них и снова куда-то подевался.
На сегодняшнем заседании должен быть обсуждён специмен Ломоносова «О причинах теплоты и холода»[50]. Ломоносов несказанно удивился объявлению этого обсуждения. Специмен был подан давно, более полугода назад. С того времени далеко продвинулась работа над диссертацией, коя также была о теплоте и о чём в специмене изложены лишь начала.
Затяжка обсуждения была в академии делом обычным; Ломоносов даже и забывать стал о том своём сочинении. Новые мысли и новые идеи захватили его. И вдруг, не далее как два дня назад, Бакштейн объявил, что изучил его специмен и выступит оппонентом.
«К чему бы сие? — недоумевал Ломоносов. — Жаль, что опыт всё ещё не готов. Разновески не сделаны, не доделан колпак безвоздушный, в котором взвешивание надо производить, чтобы воздух весы не колебал». Но успокоил себя тем, что наиточнейшее взвешивание, такое, чтобы флогистон уловить, ещё никому не удавалось.
Он спокойно устроился на стуле, дабы переждать, когда Конференция откроется, все рескрипции[51] будут объявлены и ему дадут слово.
Ломоносов приступил к докладу, начав с обычных и обязательных реверансов. В сторону царствующего дома, к отсутствующему господину президенту, в сторону господ председателя и профессоров, почтивших своим присутствием его доклад, хотя это им за их жалованье было обязательно. И реверансы те никто в расчёт не принимал и не замечал, но ровно до того момента, пока они есть. И страшно подумать, как все бы это заметили и что было бы, если бы сих поклонов но сделать.
Совершенная латынь, овладением которой Ломоносов гордился, ибо далась она ему непросто и нелегко, лилась спокойно, размеренными периодами:
«...Эт императрикс Элизабета прима елле дю троне эст... ...Ле президенте дю академи......ле профессоре...»При каждом обращении Ломоносов совершал полный достоинства полупоклон — к портрету государыни Елизаветы, в сторону кресла президента, в сторону председателя и господ профессоров. Всё это чинное благородство заведено было в европейских учёных собраниях давно и здесь, в Российской академии, поддерживалось неуклонно, внушая всем присутствующим должное почтение и веру в незыблемость провозглашаемых истин.
Всё было как обычно. После длинной и монотонной речи докладчика, при полной прострации слушателей, должно было последовать не менее тягучее выступление оппонента, тоже по-латыни. Затем нудное обсуждение, в котором обычно выхватывалась какая-либо незначительная часть доложенного и обсуждение уводилось в дебри, не имеющие никакого отношения к рассматриваемому предмету.
Парики медленно покачивались в сумрачном полусвете короткого зимнего дня, неярким потоком льющемся через большие, скруглённые сверху окна зала Конференции. Торжественная тишина собрания не нарушалась, а скорее подчёркивалась мерной речью докладчика, и лёгкий, почти церковный резонанс под высоким потолком придавал происходящему оттенок священнодействия.
Но Ломоносов был слишком поглощён существом излагаемого; увлёкшись своими мыслями, он перестал замечать сонное настроение слушателей, оторвался от текста специмена и по памяти перешёл к изложению идей своей диссертации.
— Неверно мнение, что расширение тела при нагреве происходит от наполнения его флогистоном, а сжатие — из-за вытекания оного. Положим, что при самом сильном морозе, под арктическим кругом, ударится сталь о камень. Мигом вылетит искра, то есть материя теплоты. И сколько раз ни ударить, столько раз и вылетит искра, а ведь считается, что теплота оттуда едва ли не вся вытекла: тела-то холодные, сжались! — Ломоносов сделал паузу, обдумывая следующие аргументы, затем продолжил:
— А животное тело непрерывно испускает теплоту, но никогда не принимает её в себя! Это как? Откуда ей у живых существ взяться, ежели она всё время выливается?
Задав вопрос, Ломоносов оглядел ряды слушателей, как бы призывая их к согласию с ним, и убеждённо выговорил давно продуманное, выношенное:
— Не может что-то всегда убывать, ежели ниотколе оное не прибывает. Следовательно, теплота не зависит от сосредоточения посторонней материи, а есть некоторое состояние тела!
По учёному собранию прошла волна оживления. Многие очнулись от сонной одури и стали прислушиваться к негромким пока разговорам и репликам, исходившим из кружка Шумахера, Бакштейна, Силинса. Напряжённо вцепившись в спинку стула, слушал и внимал словам Ломоносова Степан Крашенинников. Студиоз Алексей Широв, пристроив на коленях папку с листом бумаги, а на полу чернильницу, быстро записывал сказанное, дабы потом всё это на досуге обдумать и обсудить, Матвей Андреасов, стоявший сзади всех, ибо сидеть он ещё не мог, с сомнением качал головой, вспоминая свои безуспешные попытки что-то сделать не так, как внушал ему учёнейший Бакштейн.
В среде профессоров оживление росло, захватывая всё большее их число. Наклоняясь друг к другу, тряслись парики, шёпот, идущий по рядам, стал переходить в громкие замечания и выкрики, высказывавшие откровенное неодобрение докладчику.
— Дас ист думм, — донеслось вдруг до Ломоносова. Он вздрогнул, поняв наконец, что обвинение в глупости относится именно к нему.
— Глупость? — оторопело спросил он, недоумённо взглянув на присутствующих, и вдруг увидел иронические, насмешливые или просто враждебные ряды лиц тех, кому он только что стремился отдать найденное, выстраданное в трудных раздумьях знание. Увидел, но воли своим мыслям о том не дал и спросил спокойно: — Почему глупость? Что здесь не вяжется с опытом и здравым смыслом?
Конференция ответила множеством голосов по-латыни, на немецком, на русском языках. Перекрывая этот нестройный хор, Ломоносов, поняв, что надо завершать речь, твёрдо заявил:
— Нет места в природе для флогистона! Не согласуется он с её законами, и всё без этой мифической субстанции объяснить можно!
На этом кончив, он насупленно оглядел взбаламученное собрание и отошёл от кафедры, освобождая поле деятельности оппоненту.
Выдержав небольшую паузу, председатель Шумахер, сочтя за благо самому пока помолчать, сделал приглашающий жест Бакштейну. Тот с высокомерным видом, даже не подходя к кафедре, лишь поднявшись со своего места, резким, неестественно-визгливым голосом, над которым студиозы часто посмеивались, обрушился на Ломоносова:
— Весь учёный мир признает флогистон, а сия персона, — Бакштейн кивнул на Ломоносова, — нет. Великий Бойль, во многие академии избранный, признает, а наш адъюнкт — против! И никакого опыта тому не противопоставил, только слова. Умнее всех себя почитает! И хоть учился ин фатерлянт, ума не набрался.
Осуждающее выражение на лицах многих стало сменяться понимающими улыбками. Парики согласно закивали, выказывая одобрение оппоненту и осуждение докладчику:
— Ай-яй-яй! Нихьт шён[52]. Как некрасиво. Всеми признано, а он против. Ай-яй-яй!
Обсуждение опять входило в плавную, наезженную колею, оберегавшую от всяких неожиданностей. Один учит и указывает. Все с ним соглашаются и не перечат:
— Удобно, приятно, вундершен!
— И ежели бы то стал нам какой студиоз излагать, — издевательски продолжал Бакштейн, — мы могли бы его на колени поставить, содержания лишить, а то и выпороть! Но когда нам такое патологическое знание преподаёт адъюнкт, да ещё к званию профессора тянущийся, то... — Бакштейн, подняв палец, сделал значительную паузу, — то здесь нужны меры серьёзные. Очень!
Бакштейн опять приостановился, дабы оттенить сказанное, но на этот раз значительной паузы не получилось. Ломоносов вмешался, прервав речь оппонента, чем безмерно нарушил ритуал:
— Так ты што, и меня выпороть хочешь? — Он оставил учёную латынь и бросил вопрос по-русски, гневно вперивши взгляд в Бакштейна и едва сдерживая дрожь возмущения. — Так не выйдет! Кишка тонка!
Шумахер яростно затряс колокольцем, словно грозя им вспылившему Ломоносову, осмелившемуся прервать уважаемого оппонента, а Бакштейн, состроив презрительную гримасу, солидно продолжил:
— Я не буду отвечать на дерзости неуча, коего академия осчастливила принятием в свои стены. Но полагаю, ему следует признать, что всё им здесь сказанное есть совершенная глупость и ересь, ничем не доказуемая.
— Признать?! — взревел Ломоносов. Он рассвирепел, кровь бросилась ему в голову, словно он опять оказался на Большом проспекте противу ватаги разбойников. — Чего признать? Что я неуч? Что глупостей наговорил? — Ломоносов весь напрягся от негодования, глаза затмило туманом, голове стало жарко, и он громко и яростно выкрикнул: — Накося, выкуси! — И, сложив пальцы, резко выбросил в сторону Бакштейна хорошую дулю.
Собрание оцепенело. Профессоры ошалело смотрели на выставленный в их сторону кукиш, студиозы замерли в испуге, ожидая того, что теперь будет. И лишь, подвижный французик Ле Руа, весело рассмеявшись, вдруг громко произнёс:
— Вуаля, месье! Кстати, а почему бы нам и правда не пойти закусить?
Ломоносов медленно опустил руку. Поняв, что совершил недозволенное, что погорячился, что такого Конференция ему не забудет и не простит, он, словно очнувшись, сначала медленно, затем всё убыстряя шаг, пошёл к своему стулу, взял оставленную там шляпу и нахлобучил её на голову.
На секунду остановился перед всеми, как бы желая что-то сказать, затем махнул рукой и, более ни на кого не глядя, прошёл меж стульями и вышел, громко захлопнув за собой дверь.
Конференция академии не мешкала. Решением, принятым в полном соответствии с процедурой, Ломоносов был исключён из её состава. Не помогло и заступничество Нартова, который, оставив небрежение, убеждал академиков и грозил им комиссией. Но ему не удалось даже отложить вопрос на время.
На стол сиятельной комиссии, прибывшей вскоре для проверки дел академии, легла обстоятельная жалоба на Ломоносова, подписанная одиннадцатью профессорами. Адъюнкт Геллер, ведший протокол, всё записал, не упустив ничего, и сделал это с пристрастием. Ведь он не забыл, как Ломоносов при студентах высмеял его и Трускота за незнание латыни. От всей жалобы так и веяло злобной мстительностью: «Ах, ты посмел восстать против нас?! Ну, мы тебя выучим! Да так, чтобы другим неповадно было!»
В жалобе показывалось, что Ломоносов поносные слова говорил господам академикам. И перечислялись слова, сказанные им, а также и те, которых он не говорил. И то, что срамной знак выказал, и как это было для всех зазорно. И что зубы обещал Винцгейму направить, хотя это было сказано не на Конференции, а раньше. И что был-де он пьян, чего и вовсе не замечалось. И в шляпе по залу Конференции ходил и даже что дверью неприлично громко хлопнул. Всё было поставлено в строку, ничего не упущено.
И таки верно рассчитали. Случившееся для комиссии являлось неслыханной дерзостью, потрясением устоев, а устои надобно охранять. Генерал Игнатьев после прочтения сей жалобы час целый, топорща усы, выкатывая глаза и стуча кулаком по столу, громко и негодующе орал на управителя Шумахера:
— Слюнтяй! Баба в кокошнике! До чего довёл академию! Так распустить нижних чинов! Да куда ты смотрел, как посмел допустить сие?
Шумахер покаянно кивал, разводил руками, кланялся, целиком принимая на себя вину за разлад чинопочитания, и виновато ахал: «О-о, да! О-о, да! Нихьт орднунк[53], нихьт! Науками только увлекались, а об основах порядка забыли. Ах, ах!»
А с князем Юсуповым лекарь императрицы Лесток[54], задобренный Шумахером, уже провёл полный понятных недомолвок и прозрачных намёков разговор. Лекарь ведь тоже был свой человек, не русский. И Юсупов, сидя в комиссии, лишь согласно наклонял голову и поддакивал.
— Ведомо ли вам, — продолжал бушевать генерал, — что, ежели кто адмирала и прочих высших начальников бранными словами будет поносить, тот имеет телесным наказанием наказан быть или живота лишён по силе вины?! Живота лишён! — кричал генерал, потрясая кулаком. И стал далее дословно и длинно цитировать петровский Военный и Морской уставы. А Шумахер, подобострастно слушая, опять разводил руками, огорчённо сетуя на свою штатскую доброту и доброту господ профессоров — Бакштейна, Силинса, Винцгейма и других достойнейших людей.
И конечно же, до тех пор, пока в академии столь вопиющие безобразия не будут искорены, ни о какой проверке имущества, счетов и денежных сумм не может быть и речи? Это ли главное?
Объяснений Ломоносова комиссия слушать не стала, слова ему не предоставила. А он лишь с горечью поражался, как ловко немцы сумели расправиться с ним чужими руками, а сами вроде бы в стороне остались. Российских аборигенов Игнатьева и Юсупова на него напустили, а те, умом недалёкие, так и не поняли, что их другие за верёвочки дёргали, будто кукол деревянных в скоморошьем театре.
Решение комиссии было чётким и ясным, как воинский приказ: адъюнкта Ломоносова за дерзость, непокорство и возмутительное поведение заключить в холодную под стражу. И держать там впредь до того, пока государыня императрица собственнолично не вынесет своего определения по сему делу. С тем комиссия и отбыла, отложив все прочие дела как маловажные и не стоящие внимания. И с отъездом комиссии всякая надежда на ограничение власти шумахеров исчезла на долгие годы. Нартов после этого заболел. Сказался возраст, здоровье расшаталось, он ушёл от дел, слёг и более уже не поднялся.
Академическая «холодная» располагалась в полуподвальной комнате, по размеру немалой, но тускло освещаемой двумя высоко расположенными небольшими оконцами и казавшейся оттого весьма неприютной и мрачной. Нездоровый дух исходил от сырых каменных с потёками стен. Деревянный топчан и табурет перед грубо сколоченным столом составляли всё её убранство. Хорошо, что каземат, по нерушимому доверию, не запирался. Караул возлагался на привратников, и потому вонючей параши в камере не было. Редкие узники, всё больше студенты и служители, наказанные за пьянство, ходили во двор.
Не было в камере и печки, хотя промозглая погода ранней петербургской весны теплом не жаловала. Однако в этом подмогу оказал Симеон, который по службе должен был и охранять Ломоносова. Порывшись в захламлённых каптёрках, он принос железную матросскую печку, которую ставили для обогрева команды на кораблях.
Ломоносов воспринимал происходящее поначалу равнодушно, с полным безразличием. Будучи отлучён от наук, неожиданно оказавшись без дела, он в первые дни заключения совсем сник. Подолгу валялся на топчане, бездумно глядел в каменный потолок. На второй день Иван Харизомесос вместе с конюхом Федотом сгоняли возок в Боновский дом и привезли Ломоносову его постель; лежать оказалось удобнее, но веселее не стало.
Оживлялся Ломоносов лишь по вечерам, когда к нему в каземат, заперев на замок академию, после дня службы спускался Симеон. Он и подкармливал Ломоносова. Тот вечерний харч, хоть и не был жирен, стал ему большим подспорьем, ибо узнику академии никакого тюремного содержания не полагалось. Жарко потрескивая, сухие сосновые чурки разливали по стенам мятущийся отблеск. По камере распускалось сухое тепло, у огня делалось надёжно и уютно. Огорчения последних недель отступали. Сила вновь возрождалась в молодом теле Ломоносова. Обида, хоть и не исчезнув, пряталась, отступала. Снова хотелось жить, надеяться, просто дышать воздухом, наблюдать природу, говорить с хорошими людьми.
Возникали картины детства и юности: величавая Двина, неспешно влекущая свои воды мимо Курострова в Холмогорах с отчим домом на угорье; сизое суpoвое море, большую часть года действительно белое, скованное льдом и заметённое снегом. Видение весны, когда так хорошо бежать на отцовском гукаре[55] в то море на промысел за треской и палтусиной или по ледовому припаю выискивать и бить тюленя. А если повезёт, загарпунить шальную белуху, покинувшую студёный океан и пригнавшую в губу за рыбой, и затем тащить громадину многими карбасами к Архангельску. Там купцы её брали скоро и за хорошую цену. А если с одними не сговаривались, шли к другим: город Архангел для всех кораблей был открыт, и торг там купцы со всей Европы вели.
Забирались карбасами иногда и за Святой Нос, а бывалые поморы и на Грумант[56] и в Гренландию хаживали, хотя и небезопасно то было из-за свейского разбоя. После Петровых войн, правда, полегче стало, остудились свей, былую силу и наглость потеряли.
— Ах! Здорово там! — мечтательно вздыхал Ломоносов и толковал Симеону о том, как хороша простая работа: — Всё понятно! — И рубил утверждающе ладонью по столу. — Добыл рыбу или зверя — это корм тебе и прибыток! Добыл — и ешь!
Симеон согласно и понимающе кивал.
— А тут! Годами мелешь горы фактов. Сотни опытов ставишь, до головной боли устаёшь, и что? Добыл знание, так это пока ещё и не прибыток вовсе. Надо, чтобы его признали, приняли. А кому понесёшь? Кому? — допытывался он у Симеона, вперившись в него настойчивым взглядом. И сам же отвечал: — Немцам! Кроме них, пока некому. А доложишь, так они носы воротят, тебя же и освищут! А всё почему? — опять теребил он Симеона, который понимающе-вопросительно разводил руками. — Токмо потому, — продолжал Ломоносов, — что не они сие знание добыли. И не ихнему честь оказать надо, а русскому! А они того ну никак не хотят! Никак!
Симеон с готовностью соглашался.
Потом Ломоносов мирно засыпал на своём топчане, а Симеон, сокрушённо вздыхая, на цыпочках, тихо закрыв за собой дверь, уходил на первый этаж, в привратницкую камору, спать.
Петербургское лето коротко и ненастно. Уже проходил июль, но лишь едва отцвели в палисаде вывезенные из Подмосковья кусты сирени. Ещё только конец августа, а уже часто закрывают небо набухшие влагой сизые тучи, изливаясь нудным осенним дождичком. В июне перестали топить печку, в сентябре уже надо думать о новой зиме. Но в заключении время идёт медленно, и потому Ломоносову лето 1743 года казалось нескончаемым.
Понемногу возвращались интерес к наукам и тяга к работе. Попросил Крашенинникова притащить ему из академической лавки Невтонову[57] «Физику». Стал её вычитывать; поражала мощь ума великого англичанина, но не все мысли вызывали согласие.
Студиозы Крашенинников и особенно Широв часто посещали Ломоносова. Добровольный же ученик Иван Харизомесос забегал, когда только мог, а иногда просился и ночевать остаться.
Ломоносов учил Ивана латыни и полной арифметике, учил, заставляя того всё записывать со своих слов. Да и как же иначе было поступить, ежели в «Арифметике» Магницкого, изданной ещё при Петре Первом и бывшей до сих пор единственной книгой по предмету, как говаривал Ломоносов, «сам чёрт голову сломит».
— Ну-ка, попробуй пойми, — говорил он, показывая пальцем в строчки, и затем читал: — «Радикс, или корень, есть число яковыя либо четверобочныя или равномерный фигуры или вещи, един бок содержащие».
Иван морщил лоб, пожимал плечами, а Ломоносов, отложив книгу, всё объяснял понятно. А потом, словно жалуясь, добавлял:
— А вот нам-то каково было в Славяно-греко-латинской академии? Ежели чего не понял, розгой лишь только и разъясняли.
Когда приходили студенты, Ломоносов обсуждал с ними уже не арифметику, а высокие материи. Но и тогда Иван не уходил.
Он сидел и в оба уха слушал речи старших, сначала совсем непонятные, но потом как-то незаметно наполнившиеся значением и смыслом. И хотя от себя пока ничего не решался вставить, но уже разбирал многое.
Чаще всего наседал на Ломоносова Алексей Широв. И не то чтобы о умыслом раздразнить, нет. Просто он въедливо донимал непонятными вопросами, а Ломоносов, не уклоняясь, то разъяснял и спорил, когда знал ответ, то озадаченно замолкал, размышляя над неясным.
— Вот вы говорите, что теплота есть коловращение частиц материи? — спрашивал Широв.
— Да, так!
— Ну а как же она через расстояние передаётся? Частицы воздуха расталкивает?
— И это так, – спокойно подтверждал Ломоносов.
— А если воздуха нет? Пустота Торричеллиева, тогда чем теплота будет передаваться? – торжествующе задал каверзный вопрос Широв.
— Теплота плохо проходить будет, — несколько нерешительно ответил Ломоносов.
— Так будет проходить или не будет? — с беспощадной настойчивостью допрашивал Алексей.
Ломоносов задумывался, ища верное объяснение, а Широв уже спокойно договорил:
— Значит, одним коловращением частиц нагретого тела всего не описать, Михайло Васильевич!
И Ломоносов согласился:
— Что ж! Над тем ещё великий Гугений[58] размышлял и объяснение дал. Есть эфирные частицы. По ним-то волнами и распространяется движение; тож и теплота.
— И солнечный свет? — уже не задиристо, как бы отступая, спрашивал Широв.
— И солнечный свет тоже, ибо нет никакой «светящейся материи», — уверенно отвечал Ломоносов. — Не может оная в огромных количествах из Солнца истекать и неизвестно куда деваться.
— Но Невтон...
— Не прикрывайся Невтоном, сам думай! Невтоновы корпускулы — весьма сумнительная вещь.
В разговорах время проходило быстрее. Но когда собеседники покидали его, наваливалась тоска. Ползучая, тошная, хватающая за душу хладными пальцами неуверенности, неверия в будущее, безнадёжности.
Ломоносов терзал себя вопросами: «А стоило ли связываться? Может, надо было потише? Может, лучше было смириться и стерпеть? — И тут же отвергал эти мысли как недостойные, как минутную слабость: — Нет! Кто-то рано или поздно должен был выступить против засилья чужестранцев. Должен! Не я, так другой. Так почему не я? — И укреплял себя мыслью о том, как храбро всегда выступали россияне против врага внешнего, против супостата: — Жизни не жалели и тем не гордились, шли на смертный бой естественно и просто. А как же иначе? — И затем уже с усмешкой корил себя: — Так чего же здесь на миру-то осторожничать? Хотя и здесь тоже враги, замаскированные, хитрые. Всей российской наукой завладеть хотят, но только скрытно, изнутри. А потому восстать нужно было! Нужно! Ради чести русской науки!»
Мысли эти укрепляли Ломоносова в его твёрдости, помогали ему сносить унижение, терпеть бремя вынужденного безделья, отрешённости от наук, к занятиям которыми он всегда стремился со всею силой своей неуёмной души.
А время шло. Решение императрицы всё не выходило, Ломоносов же, почитая себя оскорблённым, прошений не посылал и уже двоекратно наотрез уклонился от дачи Шумахеру показаний, проявляя страшное упорство и нераскаянность. Вхожий к Шумахеру Крашенинников докладывал тому, что Ломоносов пришёл в крайнюю скудость и даже дневной пищи себе купить на что не имеет и денег взаймы достать не может.
— Надо бы, господин Шумахер, поддержать его кормовыми деньгами, выдать в счёт жалованья, — искательно ходатайствовал Крашенинников. И глазами просил поддержки у сидевшего рядом Геллера.
— Ничего, перетерпит, — сухо отвечал Шумахер. — Посидит голодным — сговорчивей станет.
Чужестранцы к пощаде склонны не были, цепко держались за свои привилегии, твёрдо оберегая, чтобы в их почтенную компанию не вмешался русский, чего здесь отродясь не бывало. И после ухода Крашенинникова Шумахер наставлял своего родственника Геллера:
— Всё так, верно! Ибо русский, вмешавшись, может лишить хлеба кого-нибудь из наших. А тех, готовых вмешаться, уже несколько видно. — И кивнул на ушедшего Крашенинникова.
Как-то летом Симеон, раздвигая на столе в холодной бумаги и книги, чтобы поставить котомку с едой, вдруг несказанно удивился.
— Гляди-кось, — уважительно произнёс он, взяв в руки толстую, в кожаном переплёте с медными застёжками книгу, — Михайло Васильевич за псалтырь[59] взялся? От, слава те, господи! В разум вошёл человек.
Симеон несколько раз мелко перекрестился. Ломоносов неопределённо усмехнулся, как бы согласившись, кивнул и спросил:
— Я вижу, Симеон, ты с книгой сей знаком? Грамоту бегло разумеешь?
— Не бегло, но разумею. По псалтырю и учился, — ответил Симеон и, открыв книгу на лежавшей в ней закладке, медленно, по слогам стал читать: — «...егды человецы суть многогрешны велегласно яко единые усты глаголаху...» — На том задохнулся и, переведя дыхание, удовлетворённо закончил: — Вот видите, читаю.
— Вижу, — одобрительно отозвался Ломоносов. — А другие какие книги читал?
— А зачем, Михайло Васильевич? Сия книга единая только и есть в народе. Самонужнейшая. Других не читают.
— Вот-вот, — согласился Ломоносов. — Другого не читают. Ну а что уразумел ты из прочитанного?
— В книге сей ох как много премудрого, — уклончиво ответил Симеон.
— Да нет, я проще спрашиваю. Что ты уразумел из того, что сейчас прочитал мне?
Симеон смущённо, опустив руки, смотрел на Ломоносова, моргая глазами, и не знал, что ответить.
— Ну, расскажи своими словами, что ты мне сейчас прочитал, — снова, как нерадивого ученика, подтолкнул его Ломоносов. — Отвечай!
— ...велегласно... глаголаху... — тихо пролепетал Симеон.
— И что это значит?
Совершенно смущённый Симеон замолчал, потом вдруг сердито выпалил:
— Мудрено спрашиваешь, Михайло Васильевич! О том и поп меня не вопрошал, что грамоте учил. А с тех пор времени прошло... ой-ей-ей!..
— Вот то-то и оно! Аз, буки, веди выучили, да и то лишь кому повезло. А в дело сие умение но идёт. — Ломоносов было рассердился, но потом смягчил тон, улыбнулся и сказал Симеону: — А прочитал ты слова: «...когда воскликнули люди в один голос...», ну, и так далее. Вот как это своими-то словами сказать должно. Понял?
— Уразумел, — кивнул Симеон.
Ломоносов взял у него из рук псалтырь и, держа его на отлёте, как бы взвешивая заключённые в нём премудрости, добавил:
— Предложили мне господа поэты Тредиаковский и Сумароков[60] соревноваться с ними в переводах с древнеславянского. А я им козу в ответ: давайте-ка псалтырь переводить — самая народная книга на Руси.
— То так, — снова кивнул Симеон.
— И ведь согласились!
Ломоносов, вроде бы удивившись, взял со стола полученное ныне письмо.
«Милостивый Государь, господин адъюнкт Ломоносов! Поразмысливши с господином Сумароковым, мы согласно пришли к решению, что предложение, Вами изложенное, для нас приемлемо и может быть осуществлено вполне. В начинание сего предприятия предлагаем из священного писания углубиться в псалмы Давида и перевести оные в стихотворной форме на Российский язык.
Пребываю в почтении.
Профессор элоквенции[61],
Василий Тредиаковский».
Обучавшийся наукам и искусствам в Париже, Тредиаковский был назначен указом Сената в профессора и роль свою видел в упражнении изящной словесностью. И преуспел: многие празднества начинались с иллюминаций, в которых огнём зажигались строки стихов Тредиаковского. При Анне, правда, он чаще пребывал в немилости и даже бывал бит палками, но при новой царице воспрянул, осолиднел, стал академиком. Письмо послужило завершением разговора, который неделю назад состоялся между Ломоносовым и Тредиаковским. В тот день Симеон неожиданно спустился в холодную днём. Ломоносов сидел за столом и при скудном свете высоко расположенного малого окна в который раз разбирал и обдумывал выкладки и рассуждения Невтоновой «Физики».
— Михайло Васильевич, — прервал его размышления Симеон, — к вам господин профессор Тредиаковский пожаловали.
— Вот как? — удивлённо откликнулся Ломоносов, отрываясь от книги и непроизвольно окидывая взглядом своё скорбное помещение. — Ну, проси.
— Они изволили сказать, чтобы вы к ним поднялись.
— Ишь ты! Это кто же к кому тогда пожалует? Да и что Шумахер скажет, ежели я каземат свой не для бани и не на двор сходить покину? Он же всё унюхает? — уже насмешливо, хотя и понимал, что Симеон в его сарказме не разберётся, спросил Ломоносов.
— Господин Тредиаковский сказали, что они испросили соизволения.
— Ну, ежели Шулермахер высочайше разрешил, пойду, — нарочито переиначивая фамилию Шумахера, в котором он видел корень многих своих бед, отозвался Ломоносов. И в чём был: в халате, шлёпанцах и шерстяном платке на шее — направился к выходу.
— Одели бы кафтан, пошто в халате-то... — подсказал было Симеон, но Ломоносов отмахнулся:
— Неважно, в чём я; важно, что я.
Тредиаковский — сорокалетний мужчина, с гладко выбритым лицом, одетый в скромный чёрный сюртук, отделанный бордовым кантом, и белую с воланами на груди и манжетах рубашку, — сидел в кресле в боковом от вестибюля покое. Встречая Ломоносова, встал, вежливо поклонился, приглашающе показал на соседнее кресло и, как бы не замечая совершенно непотребного вида вошедшего, столь противоположного его костюму, произнёс:
— Рад приветствовать вас, дорогой коллега, в добром здравии.
— Благодарствую. Я есьм здрав и прав, да вот не по нутру иным мой нрав, — в рифму, не задумываясь, ответил Ломоносов.
Однако Тредиаковский уклонился от обсуждения правоты или вины Ломоносова и его нрава и ответил вежливым комплиментом:
— Стих у вас слагается легко, Михайло Васильевич. Оттого мы с господином Сумароковым и решили предложить вам конкурс.
— Это что же — на кулачках драться иль умом состязаться? — опять в рифму и опять довольно дерзко спросил Ломоносов.
— Выбором, какие сочтём достойными, древнеславянские писания и стихами на российский язык переложим, — опять ровным тоном ответил Тредиаковский и снова кончил комплиментом: — Вас же к тому делу приглашаем, как уже способного поэта.
— Что же. Я рад выступить в столь почтенной компании, — теперь уж спокойно ответил Ломоносов. — Однако боюсь, господин Сумароков вовсе не столь, как вы, к моей персоне расположен, — добавил он, намекая на давнишнюю и ревнивую нелюбовь дворянского поэта Сумарокова к мужику Ломоносову.
— О нет, Михайло Васильевич. Господин Сумароков преисполнен уважения ко всем стихотворцам, возделывающим ниву российской поэзии, — ответил Тредиаковский более от себя, нежели опираясь на мнение Сумарокова.
Беседа потекла спокойно. Тредиаковский мягко не заметил задиристых намёков Ломоносова, дипломатично обошёл разницу их нынешних положений, а Ломоносов, поняв и оценив его тактичность, тоже смягчился и повёл беседу в дружелюбном тоне. Правда, Тредиаковский долго и задумчиво качал головой, услыхав идею перелагать, раз речь зашла о древнеславянском, избранные псалмы псалтыря. Но резону Ломоносова о том, что это на Руси самая распространённая книга, противопоставить ничего не мог. И потому сказал, что посоветуется с господином Сумароковым и сообщит их обоюдное решение.
Ещё поговорили и на том расстались. Ломоносов же после получения согласительного письма весь июль работал над стихами и переслал сделанное Тредиаковскому в означенный срок. А в конце августа Степан Крашенинников, почтительно склоняясь, принёс в подвал к Ломоносову серенько изданную книжечку под названием «Три оды парафрастические псалма 143», изданную за счёт авторов тиражом 350 экземпляров. Немного смущаясь, Степан при сем объявил по поручению Тредиаковского, что издание книжечки обошлось в 14 рублей 50 копеек с разложением сей суммы на трёх авторов. И, глянув на изумлённо вскинувшиеся в безмолвном вопросе глаза Ломоносова, поспешно добавил:
— Как сообщил господин Тредиаковский, вашу долю, Михайло Васильевич, он взаимообразно внёс из своих средств.
Последнее время сильно стал ворчать Симеон.
— Ну што ты, Михайло Васильевич, в гордыне своём замкнулся? — сердито спрашивал он, макая в соль редьку, коя вместе с хлебом только и бывала у них на столе в конце лета. — Составь прошение, повинись. Глядишь, Шумахер кое с кем поговорит. И то, можа, делу во дворце более скорый ход даст?
Ломоносов, устав отмалчиваться, как он раньше лишь и делал, неохотно ответил:
— Не в чем мне виниться, Симеон. Ни в чём не согрешил я перед державой! А в огорчении нахожусь лишь от напрасных на себя нападений.
Симеон, сердито выдохнув воздух, с хрустом дожевал редьку, запив квасом из бадьи, который теперь только и мог брать у знакомого целовальника, и, качая головой, стал снова укорять Ломоносова:
— Ишь ты! От нападения пострадал! А кто ты такой есть? Князь удельный или принц какой? Ну кто?
Ломоносов, прихлёбывая квас, безразлично пожал плечами.
Сильно похудевшее лицо его было грустным, щёки заросли третьёводнишней щетиной: каждый день греть воду, править лезвие, бриться было тошно и ни к чему.
— Вот! — словно получив определённый ответ, утвердительно кивнул Симеон. — А я так от самого царя Петра после Нарвы слышал, что иная ретирада виктории стоит[62]!
При воспоминании о Петре лицо Симеона вытягивалось, будто он опять становился во фрунт перед неподражаемым императором.
— Вот и ты ретируйся пока, — продолжил он. — А потом, бог даст, и победишь ворогов!
Ломоносов смотрел на Симеона и думал о том, что тот прост душою сам и призывает его, Ломоносова, также не осложнять свою жизнь такими идущими от ума понятиями, как гордость, твёрдость в решениях, даже принципиальность. «У всего живого в природе ведь только один принцип — выжить. Выжить любой ценой! И лишь человек торгуется и не соглашается на чрезмерную плату. И нередко людям честь бывает дороже жизни. Честный человек не может жертвовать ради неё долгом. Трудно ему поступиться и своей гордостью, бросить её на растоптание, низко склониться перед недостойным. По ведь и могучие дубы ураган выдирает с корнем, а гибкие осины его выдерживают и остаются жить. Так какая же цена чрезмерна, а что можно отдать ради будущего?»
Дожёвывая хлеб, Ломоносов задумчиво молчит, но слова Симеона не пропадают бесследно.
«Отступить ради победы! Эту мысль из ума просто не выкинешь».
В начале ноября неожиданно заявился приехавший из-за границы, где он пребывал для образования Кириллы Разумовского, асессор Теплов. Расправив фалды лилового с голландскими кружевами кафтана, устроился на табурете, втянул застоявшийся воздух и брезгливо повёл носом. Глядя на печального, осунувшегося Ломоносова, спросил:
— В баню часто ходишь?
— Как же! — усмехнулся Ломоносов. — Токмо в две недели раз дозволяется. — И вдруг, словно сорвавшись, торопливо заговорил: — Ну што я здесь время трачу напрасно? Ну што? Я бы мог других людей моим учением пользовать! А от меня никакого проку Отечеству не происходит!
Он говорил быстро, в словах звучали огорчение и просьба о помощи. Ведь Теплов хоть и вылез наверх, был свой, природный мужик.
Теплов молча слушал Ломоносова, внимательно разглядывал его. Выбившийся из низов, сын истопника, отчего и сохранил прозвание — Теплов, он и чурался прежнего своего состояния и крайней нужды, в которых сейчас пребывал Ломоносов, и сочувствовал ему одновременно.
— Полно, Михайло, полно! — величественным тоном, который он уже успел усвоить, отираясь вместе с Кириллой в дворцовых покоях, произнёс Теплов. — Себе ты сам только можешь помочь. — И замолк, значительно глядя на Ломоносова.
— Чем помочь, Григорий, чем? — подавшись к нему всем телом, выпалил Ломоносов, а Теплов, помолчав, произнёс весомо:
— Оду сочини! Во здравие внука Петра Великого, наследника престола Карла-Петра-Ульриха[63]! — И, видя, что слова его не вызвали ответного энтузиазма Ломоносова, стал настойчиво уговаривать: — Ты ведь умеешь сие делать, Михайло Васильевич! Умеешь! Вот и покажи свою преданность государыне. А уж я через Разумовских преподнесу всё как надо, и дело твоё ускорим к милостивому разрешению.
Надо было думать, надо было решать. И после недолгой паузы Ломоносов ответил:
— Что ж, Григорий, физика — моё упражнение, а стихи — моя утеха. Сочиню! — И про себя печально подумал о том, как прискорбно, что эту утеху он вынужден строить на потеху другим.
Прощаясь, Теплов оставил на столе два золотых гульдена, кои вызвали немыслимый восторг Симеона и горькую признательность Ломоносова.
Молодой гольштинский герцог Пётр-Ульрих уже почти год, как покинул город Киль и жил обласканный тёткой, императрицей Елизаветой, в Петербурге. Поистине прихотлива судьба, сделавшая этого малозаметного принца незначительного, хотя и суверенного клочка земли в Европе наследником престола великой Российской империи. И хоть недолго обольщалась им Елизавета, быстро разуверилась в достоинствах провозглашённого ею преемника, но выбора у неё не было: престол без наследника оставаться не мог.
Ломоносов не удостоился чести лицезреть будущего императора Петра III, но был много о нём наслышан. Ломоносову нередко приходилось участвовать в сооружении ракетных иллюминаций для дворцовых празднеств. И как-то в прошлом году, после одного из таких фейерверков в Царском Селе, учитель наследника, профессор Штелин[64], разоткровенничался:
— Я учу Его Высочество Петра токмо наглядными способами. Историю проходим по картинам и монетам с изображениями государей. А географию ландкартами лишь амюзую[65], — и Штелин разочарованно повёл руками. — Но в делах военных, — продолжал он, — рвение мы имеем огромное. Я даже сам маршировать выучился.
И, ставши в позу, комично выставляя ноги, показал, как он шагает вместе с наследником. Штелин был тогда по случаю праздника и иллюминации слегка навеселе. Академию не посещал давно и рад был поговорить с коллегою. И потому, прыснув в рукав, лукаво поглядывая на Ломоносова, продолжал рассказывать:
— И вы не поверите, до чего они все невежественны! Государыня — так убеждена, что в Англию можно проехать сухим путём. Когда же я сказал, что Англия — остров, она сердито возразила: дескать, что же, англичане — дикари какие, чтобы заместо Европы на островах жить? А Его Высочество при этом хохотал и в меня глобусом швырнул.
Весёлый Штелин смеялся, пребывая в совершенном легкомыслии, которое преобладало при дворе Елизаветы, где шут зачастую учил канцлера, а канцлер делался шутом. Но смеялись лишь до тех пор, пока не затрагивались основы престола. С великой осторожностью, только шёпотом и не всякому, передавали о раскрытии дворянскою заговора в пользу отставленного младенца-императора Иоанна VI[66], сосланного в Холмогоры. А о том, как пытали заговорщиков, как ломали на дыбе и на каторгу слали, даже шёпотом говорить боялись.
И ода в честь наследника Петра слагалась плохо. Ломоносов и старые вирши свои из забвения вытянул, латал, подновлял их и перелицовывал, но не радовалась душа, и красоты не было.
— А, пусть! — махал рукой Ломоносов. — Сойдёт! И уже нарочито закручивал тяжёлые, многоэтажные строки, которые едва ли не насильно ложились в стих.
Новогодние торжества, отмечавшие наступление 1744 года, были омрачены грозным знамением. На утреннем небосводе появилась зловещая, всё более растущая в размерах комета. Яркая, с вертикально торчащим хвостом, она не меркла и при дневном свете, становясь день ото дня ярче и внушительней. Били в колокола в церквах, носили крестным ходом в Александро-Невскую лавру чудотворную икону Казанской божьей матери. В народе ползли слухи[67] один страшней другого.
Из проруби на Фонтанке еженощно после полуночи, не оставляя следов на снегу, вылезал синий утопленник. Позванивая волосами в сосульках, бегал по тёмным улицам, страшными глазами заглядывая в окна домов. Простой люд и так по ночам не больно по улицам расхаживал, теперь же ворот не открывали, даже если «караул» кричали под окнами. А солдаты из городской кардегории[68] наотрез отказывались идти на ночь в свои полосатые будки, если им не давали для окропления упыря освящённой крестным знамением четвертной бутыли с водкой, ибо святая вода для этой надобности идти не могла по причине замерзания.
От сих ужасов многое число незамужних девок ощутили во чреве своём младенцев от непорочного зачатия. Поелику влияние хвостатой кометы было несомненным, в церквах с амвонов провозглашено было, чтобы по прошествии должных месяцев от оных девок рождённых младенцев принять и по ангельскому чину в монастыри с пелёнок постричь.
По поручению Святейшего Синода[69] академию посетил архиерей Александр Обидоносцев, землисто-серый лицом, тонкогубый аскет, отвергавший все мирские утехи и дозволявший себе лишь единую — собственноручно ловить снастями рыбку и потреблять оную. Для сего за Охтой были ставлены специальные архиерейские пруды, в кои живая рыба в бочках завозилась не только с Онеги, но даже из Волги и Печоры. В академии Обидоносцев имел целью устранить недоумение в том, не ведёт ли ко греху подогревание воды перед её освящением. Согласно писания святых отцов, знатоком которого был архиерей Обидоносцев, упаси боже, если в зачерпнутую из природных источников — колодцев, рек, озёр — воду будет перед освящением что-то подмешано! Не умён был Обидоносцев, зато сам себя почитал учёным иерархом.
Преосвященный иерей и спрашивал, действительно ли, как он слышал, наука подтверждает, что при подогреве воды в неё примешивается из огня посторонняя материя, называемая флогистоном. И, получив от господ академиков разъяснение, что это именно так и есть, со всей строгостью запретил подогревать воду в купелях для крещения младенцев. Распоряжение пошло по епархии, а затем и далее, по провинциальным губерниям, и оттого зимние младенцы на Руси чаще помирать стали. Но на то уже была божья воля, а наказания, как известно, посылаются людям в меру их прегрешений. И господа профессора тут уж были совершенно ни при чём.
В то смутное время Ломоносов всё продолжал пребывать в заключении. Январскими ночами выходил во двор и, ёжась от крепких утренников, глядел на комету. Инструментов не было, в астрономическую палату не пускали, мастерская была заперта. И потому даже простую ночезрительную трубу[70] он себе ни взять, ни сделать не мог.
Но всё равно, сердясь от бессилия увидеть больше, чем различает глаз, каждый день зарисовывал комету, следил за нарастанием хвоста и строил догадки, как сие явление природы объяснить можно. По вечерам слушал приносимые Симеоном страсти. Но не перечил, справедливо полагая, что образовать старого солдата ему не по силам.
Преподнесение оды императрице и наследнику состоялось в новогодние празднества, и ода встречена между развлечениями была благосклонно. Правда, больший фурор произвели стихи академического поэта Тредиаковского, которые он прочитал сам, удостоившись высочайших аплодисментов. Однако и фамилия Ломоносова звучала, была услышана и одобрена.
В средине января Алексей Разумовский по просьбе брата сумел подтолкнуть государыню к делам академии. Елизавета в тот день отдыхала от большого катания на тройках по Неве. Длинный поезд императрицы домчал едва ли не до самой Ладоги. Там всех ждали деревянные жарко натопленные балаганы, в которых на полах лежали ковры, уставленные яствами и питием, и медвежьи шкуры. По выдумке императрицы обходились без столов и стульев, располагались прямо на шкурах, подражая зырянам и самоедам[71]. Шумели целую ночь, пили, плясали, выбегали на воздух — жгли шутихи, взрывали петарды. Под утро всех затейников, сомлевших, закутанных и шубы и меха, сонных, вповалку мчали в Петербург и развозили по домам.
И потому в тот день императрица пребывала в ленивоутомлённом состоянии, к развлечениям не тянулась и неожиданно позволила доложить о делах, что случалось крайне редко. Пленительная, смешливая толстушка в молодости, кумир гвардейских офицеров, кои и помогли ей сесть на престол, Елизавета ныне обленилась, стала раздаваться вширь, грузнеть. Сохранившиеся у неё повадки милой девочки-шалуньи всё более противоречили набухшим мешкам под глазами, отвисающим перепудренным щекам и увядающим прелестям, которые, вместо того чтобы их в меру закрыть, она всё более и более откровенно выставляла в глубоко вырезанном декольте.
Срочно призванный и явившийся вице-канцлер граф Воронцов[72], приятный, пышногубый и величавый, в кафтане с большим кружевным жабо на груди и такими же манжетами, приступил к докладу. Елизавета подписала давно подготовленный указ о ревизии налоговых душ, дабы сосчитать число плательщиков податей в империи. Подушную подать — семьдесят копеек в год — не изменили, но недоимку ревизией надеялись уменьшить и воровству установить предел. Было доложено и получило разрешение дело по установлению нового налога на соль, от коего ожидались огромные прибытки казне, а лично Елизавете — миллион рублей на дворцовое содержание.
Выслушала Елизавета и утвердила проект договора со Швецией о размене беглых крестьян и возвращении их на места прежнего прикрепления. После сего наконец подписала благодарственное письмо французскому королю Луи Кейзьему[73] за поздравление о её восшествии на престол, кое было получено чуть ли не два года назад и стоило вице-канцлеру Воронцову немалых дипломатических стараний. Морщась, подписала ещё несколько бумаг и в нетерпении взглянула на Воронцова. В трудах и заботах скучно, не то что дебоширить на Неве. И когда в заключение ей было доложено, что поэт и адъюнкт, некий Ломоносов, оды которого она не раз слушала, наказанный за дерзость начальству, ожидает решения своей участи, она спросила:
— Ну, так мало, что ли, наказан?
Алексей Разумовский вовремя вмешался и сказал, что наказан уже вполне и достоин прощения.
— Тогда прощаю, — произнесла императрица. — Пусть повинится перед теми, кому надерзил, и может далее сочинять. — И нетерпеливо махнула ладошкой, показывая, что с делами уже довольно, что Воронцову следует откланяться и уйти.
И, словно дожидаясь этого жеста, из угла выскочил шут Телещин в кривобоком красном колпаке с бубенчиками, а за ним две его дрессированные шавки: Зоркая и Малявка. Шавки залаяли на Воронцова, шут Телещин кувыркнулся через голову, звеня бубенчиками, встал на четвереньки и, виляя тощим задом, глядя на Воронцова, тоже залаял, перемежая тявканье словами:
— Тяв, тяв! Прискорбно утомили матушку! Тяв! тяв! Иди, иди! Не нужен ты, не нужен! Иди! Тяв. тяв! — И дрыгал ногами, словно закапывая гадкое, а шавки истошно в унисон заливались лаем. Воронцов неторопливо собрал бумаги, поклонился императрице и величественно удалился, не поведя в сторону тявкающего шута даже бровью.
Тем Елизавета и закончила государственные труды свои едва ли не на весь год вперёд. А с её бездумных слов вышел указ о том, чтобы Ломоносова «для ево довольного обучения от наказания освободить и во объявленных учинённых им предерзостях у профессоров просить ему прощения».
В конце января указ дошёл до академии. Шумахер, никогда не перечивший начальству, тут же послал сообщить о том Ломоносову. И поскольку всё сие являло императорскую милость, коя требовала должного антуража, дабы не было упрёка в принижении её значимости, он приказал выдать деньги — жалованье за весь год. Но в половинном размере, так как должности своей Ломоносов почти год не исполнял, и не по чьей вине, как только по своей собственной. Однако и полученные сто восемьдесят рублей были для Ломоносова неожиданным богатством. Щедро одарив Симеона, он первые дни, воротясь домой, только гулял по улицам, через день ходил в баню и отъедался, стараясь поменьше думать о предстоящей ему экзекуции извинения.
И всё же, как ни противно это было ему, он вынужден был извинительную речь написать на бумаге заранее. Шумахер потребовал, чтобы текст её был с ним согласован: чужестранцы хотели торжества полного, опасались, что Ломоносов не всё скажет, извинится коротко, не слишком низко поклонится им. И Ломоносов, впервые в жизни ненавидя собственноручно изложенное, писал приготовление к своему аутодафе.
Конференция, на которой Ломоносову предстояло произвести извинение, назначена была на утро 28 января.
Привратник Симеон, как и в былые времена, встретил Ломоносова с поклоном у входа и по случаю свалившихся на него бешеных денег был в подпитии уже с утра. Принимая тулуп, укоризненно заметил:
— Уж теперь-то, Михайло Васильевич, извольте шубу купить! Поскольку вы государыней отмечены и награждены. Вам не след более в тулупе расхаживать.
— Да уж так отмечен, Симеон, — грустно ответил ему Ломоносов, — что не знаю даже, как сегодняшний день переживу.
Из всего происшедшего Симеон пока углядел одну лишь чистую полезность: Ломоносов из напрасного заключения указом царицы освобождён и деньгами одарён. Только Ломоносов совсем не чувствовал себя награждённым, он томился ожиданием и, хотя твёрдо постановил себе пройти через предстоящее унижение, всё же настроение имел прескверное. Но Симеон, штоф которого теперь наполнялся ежедневно, а то и по два раза в день, лишь осуждающе покачал головой. Затем, сказав, что господь бог не оставляет страждущих и вознаграждает за веру и доброту, удалился на миг в привратницкую за малой чаркой.
Ломоносов, как к лобному месту, направился к залу Конференции, потом замедлил шаг и, чувствуя, что не в силах сидеть там, смотреть, как все собираются, и ожидать начала, свернул и до самого времени открытия простоял в книжной палате у заиндевевшего окна.
Затем началось действо. Ломоносов был выставлен к кафедре, но не для научного объявления, а ради позорища и унижения. Зал собрался полный[74], никто не манкировал такой случай. Но выражения на лицах были не у всех одинаковые.
Довольно кивал головой Шумахер, по-кабаньи приподняв верхнюю губу и обнажив зубы, улыбался толстый Силинс. Издевательски-насмешливо уставился на Ломоносова Винсгейм, а на всегда злющей физиономии Бакштейна очки сегодня блистали особо торжествующе. Радовались Вейбрехт, Миллер, Буксбаум, Гросс, Делиль[75], Байер, Гольбах...
Грустно и сочувственно смотрел на Ломоносова Адодуров, насупился Попов; в заднем ряду виднелись огорчённые лица Крашенинникова, Протасова, Котельникова. Алексей Широв, нашедший Ломоносова в книжной палате и проводивший до зала, всячески утешал и говорил, что не надо так огорчаться, что всё сие пройдёт, а наука останется. И даже величавый асессор Теплов, ныне уже редко замечавший своих однокашников, сохранял на лице приличествующее случаю серьёзное выражение и, вдруг рассердившись, зло цыкнул, осадив не в меру развеселившихся шойбесов[76] — Геллера и Трускота.
Ломоносов по-латыни начал извинение. Сдерживая голос, старался, чтобы он звучал ровно, чтобы волнения не очень видно было, чтобы не отдать лишнего на потеху недругам; ничего сверх того, что написано.
— Я, нижайший, прошу господ профессоров простить и извинить меня... — говорил он и далее перечислил господ профессоров поимённо. Перебирал свои вины и просил прощения, перечислял господ профессоров и кланялся. А в голове билась обида, билась и рвалась наружу, туманом застилая глаза, мешая говорить. Одной лишь волей держал чувства в узде: «Нельзя срываться! Нельзя! Ведь они только того и ждут!»
И он торжественно объявил, что «не желал сколько-нибудь посягать на доброе имя известнейших господ профессоров», и опять с поклонами имена оных профессоров перечислял. Насмешливые и торжествующие, презрительные и высокомерные, не свои, не русские лица мельтешили перед ним, качались, сливаясь в единое рыло, мерзкое, отвратное, чужое. Спазм давил горло. Губы излагали округлые латинские периоды, а в голове мутилось, наплывала ярость, охватывало желание вздыбиться. Но затем вновь побеждала решимость и проступало твёрдое: «Через всё пройду ради науки! Через всё! Она того стоит!»
И он шёл медленно, как сквозь строй, корчась и рыдая душою. И лишь великая убеждённость в своей изначальной правоте и вера в будущее помогали ему не упасть.
Ломоносов чувствовал свою силу, чувствовал великое рвение к наукам. Он ощущал свой ум и понимал, что способен на многое. Впереди была долгая, с большими победами, жизнь. Впереди было открытие и утверждение Закона Ломоносова! Для этого стоило пройти всё.
И потому он отступал. Отступал ради победы!
Глава 2 ПЕТЕРБУРГСКИЕ РУССЫ
Аще кто восхощет много знати,
тому не подобает долго спати...
Поучение из старославянской рукописи
Науки юношей питают...
М. Ломоносов
Совершенно неожиданно из Германии как снег на голову Ломоносова свалилась жена — Елизабета Христина Цильх. Давно он того опасался, мучился сознанием юношеской промашки, необдуманной горячности, но утешался незаконностью, с позиции российских законов, брака в реформатской церкви[77] лютеранки Елизабеты с православным вьюношем Ломоносовым. И сам, покинув Германию, где-то в глубине души прятал мысль об этой непозволительной женитьбе, и от неё, и сам от себя убегая. Молодо, зелено, глупо!
Но, оказывается, не отпустила его супружница Цильх, разыскала-таки. Помог ей советами и делом в том друг дома, негоциант Рогеман, старый, неулыбчивый, рыхлый, зато педантичный и внимательный к оберегаемому сокровищу семейства Цильх — двадцатилетней Елизабете, столь неосторожно доверившейся неотёсаному русскому медведю. Помогал несколько лет и довёл её до самого русского консула в Гааге, графа Головкина. А тот, уже по службе, в тонкости не вникая, отправил в Петербург эстафету, да с укорением, что, дескать, адъюнкт Ломоносов брак скрывает и от исполнения супружеских обязанностей уклоняется, чем наносит урон российскому политесу в глазах просвещённой Европы.
Что было делать Ломоносову? Едва из заключения вышел, со рвением в науки погрузился, счастлив был, что работает, мыслит и тому пока не мешают. И вдруг выплыло, выявилось — на́ тебе твой юношеский грех, как ярмо на шею.
Отказаться, заявить, что согрешил, что поскользнулся, но чист перед законом и богом, ибо в православной церкви не венчался? Но честно ли сие? К тому же тогда опять свара, ушаты помоев на голову, опять вероятна опала. Уж он-то знает, как академические немцы друг за дружку стоят, как вцепляются в края ничтожной щёлочки, влезают туда, раздирая её до размеров зияющей дыры, чтобы затем, подняв громкий хай, кричать везде и всюду: «Глядите, глядите, в каких он прорехах весь! Видите?»
Вот и доказывай то, как в сию «женитьбу» он с тоски и безысходности, будто в омут, кинулся. Проявил малодушие, порешил было от тягостей тех лет уйти, скрыться. Но как стала его трясина житейская затягивать, как понял, что тонет, нашёл в себе силы вырваться, к жизни вернуться. И тем утешался, что реформатская церковь, где 6 июня 1740 года их окрутили и в книге то записали, не внушала уважения к святости сего брака. Но докажешь ли? Нет, лучше принять её, признать. Может, притерпится? Не главное это в его жизни, сбоку это.
А Шумахер, вызвав Ломоносова, уже смотрел ядовитым глазом, уже жмурился сладостно, скандал предвкушая: «Ах, зер гут, зер гут. Сейчас ты, майн фроенд, опять взбрыкнёшься, а мы на тебя аркан! Запрыгаешь ты, замечешься, силы попусту теряя, потом выдохнешься!»
И, улыбаясь лишь глазами своим мыслям, а лицом суров, Шумахер объявил Ломоносову: «Какой же, на запрос консула из Гааги, ответ дать? Что сообщить несчастной, покинутой женщине?»
Ломоносов думал не более секунды и затем воскликнул, может даже и не больно лукавя:
— Ах, боже мой! Я никогда не покидал её и никогда не покину. Пусть приезжает! — И, видя, как вытянулось лицо Шумахера, желавшего раздуть скандал, присыпать его скабрёзным перчиком, дабы сальным душком от всего потянуло, подумал, что ответил правильно.
Да ведь и было у него что-то к Елизабете! Было, было!
Кровь-то молодая не водица, буйным хмелем шибает в голову, в тугой жгут свивается в чреслах, толкает к жгучему, сладкому. Вспомнилось, как всё было, как случилось. Вспомнилось, нахлынуло! Прожитое ещё раз пахнуло из прошлого дуновением памяти.
Многое, очень многое позади у двадцатипятилетнего Михайлы, осенью 1736 года прибывшего в Германию ради обучения при Марбургском университете. Позади блестящий Петербург, восхитительный парадиз[78] Невской першпективы, венчаемой золотым шпилем Адмиралтейства, навсегда поразившей сердце восторгом созерцания. И Академия наук на той стороне Невы, пробудившая в нём надежду на радость познания и творчества. Хоть и немного провёл он времени в академии, но понял — там его место и, чтобы занять его достойно, многому научиться должен.
Ещё далее, в розовой мгле уходящей юности, осталась древняя Москва с её много давшей ему Заиконоспасской школой, или, по-иному, Славяно-греко-латинской академией. Всегда будет добром вспоминать её Ломоносов, ибо там приютили ещё совсем неопытного и бедного пришельца с севера, отрока Ломоносова. Приютили, приняли, хотя и не был он дворянским сыном, коим только и можно было поступать в такое заведение. Помог в том ректор школы, архимандрит Герман[79]; убедившись после беседы в светлом разуме претендента, почёл за благо поверить ему на слово и о происхождении не допытываться. Вечный за то поклон ему.
Не ошибся архимандрит: за полтора года упорный отрок прошёл целых три класса и, начав с нижнего, отлично от других вошёл в четвёртый. А латынью всего за год овладел столь полно, что, оживляя сей мёртвый язык, споро стал сочинять на нём живые стихи. И хоть не больно в Заиконоспасье грели и тешили тело, но зато вскормили и зажгли его разум.
Да, это уже позади. Но только по времени, отбиваемому календарём. А по хронометру души — прошлое всегда с ним, всегда живёт, живёт даже не то чтобы в памяти, а совсем иначе: он сам своей памятью будто перемещается порою и в Москву и в Петербург, словно он опять там, со своими надеждами, огорчениями, своей великой тягой к свету знаний. И не только там, в столицах, но ещё и дальше, дома, в Холмогорах, на своём Курострове, и потому он, Михайла Ломоносов, всегда немного мальчишка. Тепло неизжитого детства часто то зажигает щёки румянцем бурного восторга, то бьёт в раздражении гневной кровью по вискам, застилая глаза туманом ярости, то, наоборот, нежно трогает душу, вызывая на глазах: слёзы, а в сердце сладостное умиление.
Старый Марбург совсем не столица: тесно притулился на холмах, лепя друг к другу островерхие домишки, разделённые горбатыми улицами. Городок словно стесняется расправить своё тело и жмётся, принижая себя и освобождая место для возвышения над собой старому замку, обиталищу ныне угасающего рода бывших правителей этой местности ландграфов Гессенских. Город стягивает к себе нити дорог, все обсаженные старыми деревьями, а одна, идущая с севера, замощена и потому даже сейчас, в ноябрьскую распутицу, проезжа и не пуста.
Крашенный чёрной краской, запряжённый тройкой цугом почтовый дилижанс, гремя по брусчатке четырьмя окованными обручами колёсами, вкатился на площадь, лошади сами стали у ратуши и, словно приветствуя тёмное стрельчатое здание, замотали головами.
— Вир зинд ангекомен, приехали! — объявил, слезая с козел, красноносый возница в форменном мантеле с оловянными серыми пуговицами в два ряда. — Ратуша прямо, бирхалле, то есть, пивная, — налево, а Марбург — кругом, — уточнил он, обведя рукою плавную дугу и как бы предлагая каждому из прибывших выбирать то, что ему более всего по душе.
Но большинство пассажиров дилижанса сошли раньше, и потому слова возницы были обращены лишь к трём студиозам, посланцам Российской Академии наук, — Виноградову, Райзеру[80] и Ломоносову.
— Приехали, братцы, — повторяя слова кучера, крикнул Виноградову Ломоносов. — Буди толстяка, — и кивнул в сторону молодого человека, привалившегося к стенке дилижанса. Виноградов затряс толстого Райзера, который мирно дремал всю дорогу и сейчас, раскрывая глаза, недовольно жмурился.
— Марбург! У-ух, Марбург. Держись! — закричал Михаила и полез наверх, в империал, откуда стал сбрасывать на землю узлы с их немудрёными дорожными пожитками.
— Там, подальше, за бирхалле, и гастхауз, — участливо подсказал возница. Сказал не из обычной услужливости к иностранцам в надежде получить на водку, а просто из сочувствия к юношам, прибывшим под вечер в незнакомый город.
— Данке шён, — спрыгнув сверху, любезно раскланялся Ломоносов, и все трое, подхватив мешки и узлы, пошли к гостинице.
Европейский ноябрь был не по-русски тёпл, предвечерний дождичек оросил чисто выметенную брусчатку улицы, в которой тускло поблескивали отражения кое-где освещённых окон. Прохожих не видно, хотя час был ещё не поздний.
Вдруг невдалеке послышались громкие голоса:
О, ла-ла, вир варэн нихьт цу хауз, О, ла-ла, вир ген шпацирен. У-ух!Пятеро молодых людей, залихватски певших о том, что они, у-ух, гуляют и потому их нет дома, вышли из поперечной улицы и двинулись за троицей русских. На гуляках были тирольские шляпы с пёрышками, цветные камзолы, из-под которых, задирая полы, воинственно торчали длинные шпаги; на ногах — атласные белые чулки до колен и чёрные башмаки.
— Эге! — крикнул один из них высоким фальцетом. — Глядите, ландлисе хане, деревенские петушки! А не попросить ли нам их покукарекать? Ну-ка... — И компания гуляк, прибавив ходу, стала догонять русских юношей.
— Стойте! Не то перья ощиплем! Петушки!.. — кричали сзади.
— Марбургские студенты, — опасливо проговорил Райзер.
— Они что, хотят драться? — удивлённо спросил Ломоносов, перекладывая свой узел с правого плеча на левое и поправляя заплечный мешок. Затем сделал попытку обернуться, чтобы глянуть на задир, но не успел.
— Бежим! — решительно крикнул Виноградов и, схватив за руку уже готового дать отпор Ломоносова, чуть ли не силой повлёк его за собой. — Бежим, у них ведь шпаги!
— Трусы! У-лю-лю!.. — послышались крики подвыпивших гуляк, и сзади раздался топот десятка ног.
Трое русских, с узлами на плечах, запыхавшись, под хохот и улюлюканье преследователей, толчком распахнув дверь, вбежали в гостиницу. Пожилой полный хозяин, в куртке и кожаном переднике, привязанном к поясу, вовсе не удивился столь неожиданному вторжению. Он, пожалуй, даже чуть насмешливо оглядел ворвавшихся к нему постояльцев. Переводя дух, они опасливо оглядывались на дверь, за которой слышалось удаляющееся пение разыгравшихся корпорантов.
Хозяин, однако, отнёсся с полным сочувствием к молодым людям, которые ещё не знали, что такое марбургские студенты. Он и сам не раз бывал объектом их выходок в своём заведении. Скандалы, студенческие дуэли, как правило, правда, без особых потерь с обеих сторон, и прочие необузданности никого в Марбурге не удивляли, приучив, однако, жителей держаться настороже.
— Вы не беспокойтесь, — утешающе произнёс хозяин, жестом приглашая гостей войти и освободиться от поклажи. — Эти студенты! Они такие забияки! Бывает, и не то ещё вытворяют... Це, це, це... — поцокал он языком. — Но, как я смею заметить, вы ведь тоже приготовились вступить в славную корпорацию марбургских студентов? Ну так вы ещё с ними встретитесь!..
«Что ж, встретимся, — хмуро качнув головой, подумал недовольный своим бегством Ломоносов, проходя в отведённую им комнату. — Будем знать, что здесь ходить надо как в тёмном лесу, с опаской»! А потом, обращаясь к спутникам, произнёс:
— Ладно. Поживём, приглядимся, а там увидим, кто от кого бегать будет!
Старый католический монастырь немецкие протестанты, отколовшиеся от римского папы, в шестнадцатом веке слегка перестроили и открыли в нём университет. Задрав головы, трое россиян рассматривали массивные серые стены, которые вот уже пять веков возвышаются над Марбургом, подавляя окружающие строения своей массивностью. Смотрели, но особо не удивлялись.
— Новгородские соборы старше лет на двести, а сохранены лучше; время белый камень не так выедает, — заметил Ломоносов.
— А что в этой церкви? — обратился к проходившему мимо студенту Райзер, который пока лучше всех говорил по-немецки, ибо сам был выходец, как шутил Ломоносов, из «наших», то есть прибалтийских, немцев.
— Богословский факультет, — ответил студент, не задерживая шага.
— Ясно, — засмеялся Ломоносов, — порядок есть порядок. Раз церковь, стало быть, в ней богословие. Но нам туда не надобно: божьих слов мы и в Заиконоспасье наслушались. Пошли искать медицинский и философский, где Вольф.
Профессор Христиан Вольф, который заранее, оговорив приличную плату, дал согласие Петербургской академии взять в учение русских студентов, принял их не сразу. Дня три они толкались в анфиладах и закутах бывших монастырских келий, а ныне кабинетах и канцелярии философского факультета, передали декану свои рекомендательные письма, тот переправил их Вольфу, и лишь затем и не сразу, будто у сиятельной персоны, состоялась первая аудиенция.
— Каков-то он из себя, знаменитый Вольф? — с почтением и даже трепетом спросил Виноградов, заранее подавленный всеевропейской славой маститого учёного.
— Да уж, верно, не прост, — ответил Ломоносов, оглядывая дверь кабинета, которая вот-вот должна была раскрыться, чтобы впустить в сокровищницу мудрости трёх робеющих неофитов.
— Слава у него не меньшая, нежели у каких маркграфов, — вставил и своё слово молчаливый Райзер.
В назначенный срок, минута в минуту, дверь растворилась. Открыл её сам профессор и величественным жестом пригласил молодых людей войти. Лицо профессора было серьёзно, по сторонам подбородка нависали полные щёки, глаза в лёгком прищуре смотрели строго, но не равнодушно, даже с любопытством. Одет он был в чёрный бархатный камзол, на плечи которого десятками локонов ниспадал пышный пудреный парик. Посередине в парике просечен широкий пробор, а по бокам завитки валиком приподымались над головой, и оттого Вольф анфас на секунду показался вдруг рогатым. Ломоносов чуть было не ухмыльнулся шуткам проекции, но сдержался и тут же изобразил на лице приличествующие случаю трепет и смирение.
Сухое приветствие и расспросы о дороге не заняли много времени. Чувствовалось, что Вольф вообще ценит время, не любит тратить его зря, и Ломоносов понял это по точно поставленным вопросам и экономным фразам. Поговорив немного по-немецки, Вольф перешёл на латынь, и здесь по его лицу Ломоносов увидел, что тот приятно удивлён тем совершенством, с которым «петербургские руссы», и особенно он, Ломоносов, на нём изъяснялись.
К концу беседы Вольф объявил, что пока он сам ничем заниматься с ними не будет,
— Вам надо прежде всего усовершенствоваться в немецком языке, а затем уж я стану читать вам механику, гидравлику, гидростатику, астрономию и архитектуру» — Вольф довольно наблюдал, какое впечатление произвело перечисление сих мудрых наук, и затем чуть потеплевшим тоном добавил:
— Пока же оглядитесь, попривыкните, освойтесь. Если хотите, сообщите мне, какие дополнительные курсы вы хотели бы избрать и слушать, кроме моих.
— Химии... — тут же ответил Ломоносов.
— Гут, химии, — одобрил Вольф. — В медицинской коллегии химию читает Израэль Конради[81]. Он загружен менее других, и, я полагаю, вы сможете к нему обратиться.
— И ещё тригонометрии... — добавил Ломоносов.
— Зер гут, — снова одобрил Вольф. — Она есть одно из оснований математики. Учителя я вам порекомендую.
Ломоносов хотел было тут же сказать, что желал бы заниматься ещё и арифметикой, геометрией, французским, греческим, а также неплохо было бы фехтование и танцы освоить. Да мало ли чего ещё! Но осёкся, дабы не показаться бахвалом. Пока хватит, а там разгонимся и всё охватим.
Вольф же в заключение спросил, какое содержание им положила академия на прожитие и оплату учителей.
— Триста рублей в год, что есть триста восемьдесят пять талеров, — быстро ответил Райзер, который хоть и не больно любил арифметику, но деньги и счёт им весьма уважал.
— Это есть значительная сумма, — согласно кивнул Вольф. — Обойдитесь с ней разумно. — И подумал, что всё-таки зря он отпугнул Российскую академию, которая года два назад предложила ему занять пост её президента. Назвал он тогда, полагая, что русская царица баснословно богата, двадцать тысяч золотых рублей в год содержания себе, но правительствующий Сенат в такой выплате отказал. «А я мог бы и сбавить, всё равно деньги были бы весьма и весьма большие».
Покинув кабинет, молодые люди оживлённо заговорили о Вольфе. И хоть мнения ещё не были полными, страх и трепет уже готовы были уступить место уважительному почтению.
— Кажись, дело знает и пустое долбить не заставит, — заключил Ломоносов. Завершив этим официальное представление, вся компания направилась устраивать свои квартирные дела, ибо жить в гостинице было накладно и неуютно.
Хозяин гастхауза не был за то на них в претензии: иного ли возьмёшь со студиозов. Потому даже сам указал адреса, где возможно недорого снять приличную квартиру. Следуя его рекомендации, Ломоносов и явился в дом достопочтенного Генриха Цильха, искусного пивовара, бывшего члена здешнего городского магистрата и церковного старшины, но, увы, ныне уже покойного. И потому вдова его, обременённая детьми, липших средств не имея, но будучи практичной и деловой женщиной, объявила по Марбургу о сдаче студентам внаём комнат с пансионом или без, по их желанию.
Дом выглядел солидно: не тесный, с пристройками, службами и высокой мансардой под рубчатой, красновато-коричневой черепичной крышей. Дебелая и дородная фрау Цильх рассыпалась в похвалах сдаваемой комнате, её чистоте и удобствам, не упустив упоминания о своих кулинарных способностях, кои так восхищали покойного Генриха Цильха и которые столь учёный юноша, геллертер юнглик, не может не оценить. А плата за жильё, дрова, стол и стирку вполне умеренная — всего сорок талеров в год. Разве это много? Но уж если герр цукунфтигер профессор, господин будущий профессор, считает, что сорок талеров дорого, она готова сбавить до тридцати шести.
Господин будущий профессор всё же колебался, прикидывая и размышляя, но тут дверь растворилась, и в комнату вошло, а Ломоносову же показалось, что не вошло, а впорхнуло, нечто сияющее, голубое, как мечта.
— Моя дочь, Елизабета Христина, рукодельница и умница, хотя ей всего шестнадцать, — не злоупотребляя излишней скромностью, представила фрау Цильх сие неземное создание.
Елизабета сделала почтительный книксен, юбки её разлетелись кружевным ворохом, а глазки, выпалившие в Ломоносова заряд кокетливого любопытства и завлекающего внимания, побудили в молодом человеке мысли о том, что в жизни ей интересно вовсе не одно лишь рукоделие.
Всякие сомнения были отброшены, и Ломоносов тут же заявил, что он снимает квартиру и готов уплатить деньги вперёд. И был награждён бурными комплиментами фрау Цильх и обещающей улыбкой Елизабеты.
Тёплая и мягкая зима, то с небольшим морозцем, который не холодил, а лишь высвечивал на ярком солнце блестки лёгкого снега, то вдруг налетающими оттепелями, развозившими всё вокруг лужами и грязью, не позволяла забыть ни на минуту, что здесь не Россия. Пришлось обзавестись двумя парами сапог, часто размокавших от слякоти, и потому в одних Ломоносов ходил, а вторые в это время сушились у круглой голландской печки.
Две пары сапог в России мало кто имеет; одна-то далеко не у всех: большинство всю жизнь в лаптях протопает. А ведь, кроме зимних, ему нужны также и летние башмаки, под чулки. Что же он, русский посланец, промеж немцев в опорках, что ли, ходить будет?
Понимая всю обременительность сего роскошества для российского иждивенца и видя в то же время необходимость этих расходов, Ломоносов неистово сердился на себя за то, что должен отдать башмачнику за обувки целых пятнадцать талеров. Был башмачник человеком трудовым, сам сидел, постукивая молотком с утра до вечера, спины не разгибая, и сыновей к тому же приучил. Потому никак не мог Ломоносов обвинить его в обирательстве. Но всё равно сразу пятнадцать талеров Ломоносов выкроить не сумел; задолжал башмачнику и оттого сердился на себя ещё пуще.
Как и намеревался, нанял учителя французского языка. Недорого — договорился с месье Раме на полгода всего за девять талеров. Француз из Лотарингии месье Раме гордецом не был, диплома не имел и перебивался частными уроками у немецких студентов, что давало ему возможность жить с женой и детьми на окраине Марбурга в собственном домике. Был он в меру образован, в меру начитан и не в меру восторжен. Ахал и всплёскивал руками по каждому поводу, вскакивая, вертелся по комнате и опять садился, весь в движении и улыбках, ни на минуту не переставая говорить. Читал Мольера, восхищался Фенелоном, цитируя его «Похождения Телемака», и настойчиво рекомендовал изучать Эразма Роттердамского[82]. Свои уроки он превращал, в противоположность педантичной манере немецких учителей, в интересные и весёлые диалоги на французском. А Ломоносову, при его-то способностях, такой стиль и темп только и надобны: освоение французского шло легко и свободно.
Не то было на лекциях Вольфа. Там всё строилось солидно, весомо, основательно. Без парика Вольф на лекции не являлся и потребовал того же и от русских студентов; опять расход — восемь талеров. Сидели тихо, не перебивали, Вольф этого не терпел. Читал он неторопливо, пунктуально раскладывал все знания по полочкам — для каждого правила — своё место, для всякого знания — своя полочка. А ежели полочки нет, то, стало быть, а знание сие неважное, если оно в клетку на полочку не уложилось. Всё записывали гусиными перьями, на бумаге, которой изводили немало — опять расходы.
Писали не скорописью, а разборчиво, клякс старались не ставить. Вольф и здесь неряшливость не одобрял и проверял аккуратность записей.
Математика и механика влекли к себе Ломоносова, восхищали строгостью и законченностью своих построений. В математических выкладках ничего не убавишь и не прибавишь, ничего не спрячешь ложного: оно всё равно наружу выплывет.
— Люди лукавят, люди врут, — иногда позволяя себе отступить от формул, говорил Вольф. — Математика врать не может. Она чиста и правдива, прозрачна во всей сути своей, от начала и до конца.
И Ломоносов увлечённо искал пределы функций, дифференцировал их и потом графически осмысливал производные. Вычитывая труды Лейбница[83], исчислял квадратуры функций, восхищаясь, как здорово, как остроумно брались некоторые интегралы. А порой, натолкнувшись на неподдающийся интеграл, сутками искал решение, проворачивал формулы в мозгу и днём и по ночам, во сне. А ежели вычислить квадратуру удавалось, приходил в телячий восторг: громко пел, танцевал, выкидывая коленца, и целый день после этого пребывал в хорошем настроении.
Не вызывала сомнений и полезность гидравлики, астрономия же увлекала в чудесные дали, где светила и планеты согласно заранее предначертанным законам обращаются друг около друга, являя уму величайшую гармонию, которую только и может познать и постичь человек.
Смущала архитектура, которую Вольф читал в ряду других дисциплин, уделяя ей не менее двух часов в неделю. И не то чтобы ненужной казалась она, нет; поэзия в камне вовсе не чужда была Ломоносову. Да и великих образцов архитектуры он уже увидывал немало и в Москве, и в Петербурге, и здесь, в Германии. Благоговел перед ними, понимая, что бессмертные творения — это всегда песнь гения, и каждый поёт её на том языке, который ему всего ближе: математик — формулами, поэт — рифмами, архитектор же складывает слою песнь из камня.
Но вот не было песни в лекциях Вольфа об архитектуре и строительстве. Перечитывал Ломоносов свои записи и осуждающе качал головой,
«.................
2. Определение
§ 2. Под строением мы разумеем пространство, которое искусственно ограничено, чтобы... произвести на нём известные сооружения.
3. Определение
§ 3. Строение называют прочным, когда нет опасности, что оно развалится.
1. Аксиома
§ 12. Каждое строение должно быть воздвигнуто прочным
.......................
3. Добавление
§ 28. Ежели дерево не сухо, то оно коробится... Того ради дерево для строения должно быть сухо».
— Вот ведь как! «...Дерево для строения должно быть сухо...» А ранее того никто не знал, и потому следует сему знанию учить! — сердился Ломоносов.
Но вот в конце года он был вознаграждён и смеялся до упаду, радуясь тому, что не одному ему претит «наука на полочках». Есть и ещё умные люди, которые всё это понимают и не прочь посмеяться над чрезмерным педантизмом.
Виноградов, копаясь в университетской библиотеке, наткнулся на рукопись математика Иоганна Бернулли, также учившегося в Марбурге у Вольфа, а ныне живущего в Швейцарии, Откопав рукопись, Виноградов принёс её Ломоносову, и они вдвоём взахлёб читали её вслух, покатываясь от хохота и выражения своего восторга автору. Это был памфлет на манеру Вольфа читать лекции.
«................
1. Определение
§ 1. Башмак есть одежда для ног, сделанная из кожи...
2. Определение
§ 2. Сапожником называют человека, который делает одежду для ног.
1. Аксиома
§ 3. Так как башмаки делают для ног (§ 1), то они не предназначаются для носа. ..................».
— Точно, — смеясь кричал Ломоносов, хлопая Виноградова по плечу. — А поелику сапожник человек, то, стало быть, он не гриб.
— И не птица, — вторил Виноградов.
— И не лошадь! И всё это аксиомы, не требующие доказательств, что мы утверждаем и записываем.
Студенты хохотали, дурашливо возясь, катались по полу, топоча по нему пятками, а внизу, у очага, фрау Цильх воздевала к потолку глаза и осуждающе качала головой в белом чепце с кружевами, пышным венчиком обегавшими лицо до самого подбородка.
Дни учения отлетали звеньями длинной, быстро бегущей цепочки, в каждом из которых умещалось множество сведений из разных наук, интересных предметов и нужных дел.
Утром Ломоносов вскакивал в шесть и ополаскивался водой из кувшина, который предусмотрительно наполнял водой с вечера и ставил возле печки. Умывшись, около часа читал или вычислял что-либо. Затем спускался завтракать в большую кухню, средоточием которой был очаг, весь увешанный медными тазами, сковородами, вертелами, шумовками и прочим, что представляло кухонный инструментарий хозяйки.
Фрау Цильх по утрам подавала оладьи со сметаной, яичницу или гороховый пудинг с белой подливкой и молоко. Михайла проглатывал всё не отрывая глаз от книги и откладывал её только в том случае, ежели к завтраку выходила ди медхен Елизабет, что, кстати, случалось крайне редко, ибо та весьма любила поспать, а фрау Цильх не донимала обожаемую дочку делами по утрам.
Затем каждый день в университете и вне его с утра до вечера был заполнен до отказа. С девяти до одиннадцати — теоретическая физика. Сия наука занимательна и хоть мудра и не проста, но всё равно за зиму они с Вольфом продвинулись столь далеко, что профессор не скрывал своего удовлетворения. Даже написал в Петербург президенту академии похвальный отзыв: «У г. Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова...»
После физики — час рисования. Голова немного отдыхала от физической премудрости. Карандаш споро бегает по бумаге, вырисовывая и оттеняя то голову Аполлона, то верхний кус греческой капители с крупными листьями и виноградными гроздьями. А когда учитель рисования выдвигал из-за ширмы в рисовальном классе голую Венеру, отлитую из гипса, либо какую другую статую, Ломоносов готов был рисовать хоть до вечера и с сожалением оставлял карандаш. И уж конечно, не жалел, что записался в рисовальный класс и платил за курс по четыре талера в месяц из своих денег, ибо академический реестр занятия рисованием не предусматривал, как, впрочем, и французским, танцами, фехтованием и мало ли чем ещё, мимо чего пройти никак нельзя.
С полудня — опять физика, но уже экспериментальная. Работали с разными приборами. Сначала освоили все тонкости взвешивания тел на весах, доходя до самых мельчайших разновесков. Работали с термометрами разных систем, манометрами и прочими мерными штуками. Плавили металлы в лабораторном горне, смотрели превращения при расплаве материала в жидкость и потом наблюдали её кипение. Не раз грели и тянули стекло, делали трубки, выдували колбы.
Утомившись, нанюхавшись гари, шли обедать, но прерывались ненадолго — с трёх опять учение, хотя там уже ставились науки полегче: метафизика, логика, риторика или право.
Хуже было с химией. На медицинском факультете сия «аптекарьская» наука особым почётом не пользовалась. Терпели её по необходимости, впереди других не ставили, и студенты манкировали ею при любой возможности. Но всё же была кафедра, и была нужда в химии, ибо не все видели в ней поучения к составлению слабительных порошков, многие понимали пользу сей науки и записывались на неё.
Профессор химии Израэль Конради был фигурой для христианского университета нехарактерной. И хотя протестанты и не исповедовали столь ярой нетерпимости к иноверцам, каковую насаждали католики, всё же Ломоносов было вначале подумал, что держат Израэля в профессорах в силу его особой одарённости. Поэтому когда он договаривался с ним о прочтении курса теоретической и практической химии, то согласился со всеми его условиями, поторговавшись лишь самую малость.
Профессор запросил за курс сто двадцать талеров и потребовал деньги вперёд. Но сие было просто невозможно, таких денег у Ломоносова не было, он уже и так влез в долги и потому, согласившись на всю сумму, стоял лишь на том, чтобы произвести выплаты в три срока, каждая по сорок талеров. Почему-то герр профессор упирался и согласился лишь после того, как первый взнос был увеличен до пятидесяти талеров.
Израэль объявил, что лекции будет читать только по-латыни, чем, как ему показалось, вверг студентов в немалый трепет. Но Ломоносов только ухмыльнулся про себя тому сообщению, ему-то что? Ныне хошь по-латыни, хошь по-немецки, хошь по-французски, а то и по-гречески читай — он уже всё единообразно и понимает, и говорит, и пишет. А также постановил себе итальянский и английский не упустить и ужо изучать их начал.
Вот тут-то, на латыни, и пришли первые сомнения. Израэль явно путал конъюнктивы с императивами, слова многие ставил невпопад, а то и просто заменял латинские глаголы немецкими.
— За такую латынь у нас в Заиконоспасье враз бы под розги положили. Ори не ори, но выучи. Нерадивость, она через задницу иногда ой как хорошо испаряется! — высказал Ломоносов Виноградову после лекции своё о ней мнение. Но всё же решил пока ещё походить, послушать.
После вводных лекций приступили к изучению материй и их взаимодействия. Материя огня выделялась как самостоятельная, наравне с твердями, жидкостями и газами, и возражений это не вызывало. Но когда Израэль, без переосмысления, изложил воззрения Декарта на горение, утверждая, что горение не есть процесс соединения веществ и потому приток их не нужен, Ломоносов, соблюдая ритуал, дабы не прерывать профессора, по окончании лекции всё же задал вопрос:
— Как же это так, горение не есть соединение? Значит, свеча в закрытом объёме будет гореть?
— Так утверждал Декарт. А он есть авторитет! — внушительно-утверждающе ответил профессор Израэль, в то же время настороженно глядя снизу вверх на высоченного, широкого в плечах россиянина. Но Ломоносов до того не только Картезия, сиречь Декарта, изучал, но прочёл и многие другие сочинения и потому возразил:
— Но ведь Отто Герике[84] провёл опыт с воздушным насосом. И показал, что под колпаком, в пустоте, свеча гаснет. Значит, горение требует притока веществ для соединения.
Израэль, не ожидавший такой начитанности от студента, всё же для поддержания своего престижа заносчиво вздёрнул голову. Немецкие студенты чаще всего были почтительны и не прекословили: не столько из-за отсутствия духа противоречия, сколько от безразличия к наукам.
— Ах, какой вы дерзкий. — Теперь уже профессор напал на Ломоносова. — Наука есть сокровищница сведений, накопленных авторитетами. Так, как я излагаю, считал Джамбатиста Порта[85], так считал великий Декарт, и я не поставлю их ниже упомянутого вами Герике. — Профессор окинул Ломоносова величавым взглядом и гордо направился к двери, чтобы поскорее избавиться от спора, за которым со вниманием следили другие студенты.
— Так давайте сами зажжём свечу под колпаком! — уже распаляясь, закричал Ломоносов вслед удаляющемуся профессору.
— Нельзя посягать на сокровищницу мудрости, накопленной гениями, — на секунду остановившись, упрямо отвечал Израэль, не находя ничего иного, чем мог бы опровергнуть Ломоносова.
— Но свеча-то погаснет! — по-прежнему стоя на своём, громко возразил тот.
— Фехьлинг, нахал! — выкрикнул, заключая спор, repp профессор и скрылся за дверью, чем вызвал изумление Ломоносова и хохот окружавших его студентов.
— И как это его держат здесь? — возмутился Ломоносов, удивлённый невежеством и упрямством Израэля, направляясь с группой студентов из университета домой. Райзер, который больше пообтёрся в загранице и потому быстрее оброс нужными и ненужными связями, из коих черпал разные сведения, разъясняюще ответил:
— А ты, Михаила, как я слышал, к Моше Вираху за деньгами бегал?
— Ну, бегал, — не понимая, какое это к его вопросу имеет отношение, ответил Ломоносов. — Сей проклятый ростовщик — кровосос умелый. Ты знаешь, какие проценты он дерёт? — распалившись уже другой неприязнью, спросил Ломоносов.
— Знаю, знаю. От тридцати до пятидесяти годовых. Как ты ему придёшься, так и положит.
— С меня сорок взял!
— Вот, вот! Так вот, сей Вирах не только мне и тебе деньги даёт. К нему, да ещё к Римешинейдеру, и титулованные персоны на поклон ходят.
— Неужто он так богат! — недоверчиво спросил Ломоносов. — А выглядит-то что сирота казанская.
— Да пожалуй, он побогаче нескольких курфюрстом, вместе взятых, — ответил Райзер. — А потому и курфюрст Гессенский, и ландграфы Кургессенские, да мало ли кто, все у него в долгу по уши. Ну а Марбургский университет-то ими основан, ими додерживается, и здесь их вельможное слово — закон.
— Всё равно, при чём же здесь профессор Израэль?
— А при том, что, как говорят, он приходится Вираху то ли родственником, то ли шабром[86], то ли ещё кем, и тот ему протежирует.
— Во-он как? — протянул Ломоносов. — Ну тогда бедная химия, жаль мне её. Чего тут ещё скажешь? — затем подумал и заключил решительно: — А от услуг сего «профессора» нам следует отказаться. Химия — наука експериментальная, а он и химии не знает, и експериментов боится. И хоть деньги явно пропали, но время дороже.
Христиан Вольф долго качал головой, услышав сие заявление российских студентов, но против сути не возразил и после размышлений посоветовал слушать лекции по химии у профессора Герарда Дуйзинга[87], предварительно предупредив того и наставив тщательно к лекциям готовиться. И для себя из сего происшествия тоже сделал выводы. От Ломоносова же не только не отвернулся, но, наоборот, в очередном письме в Петербургскую академию написал: «...более всего я ещё полагаюсь на успехи г. Ломоносова...»
Все годы учения Ломоносова волновало российское стихосложение. Давно это началось и всю жизнь не кончалось. В детстве слушал сказки, песни, прибаутки, все они были рифмованы. Затем стал читать разное: в писаных русских книгах стихов вроде не было, но и тут в иных выражениях и поучениях слова часто рифмовались, иногда на целые страницы ложась сложной причудливой лесенкой.
Когда в юность вступил, ощутил большое влияние Тредиаковского. Многое в его сочинениях восхищало, трогало. А здесь, на чужбине, строки, писанные Тредиаковским в своё время из Парижа, волновали, будто его, Ломоносова, лично касались:
Начну на флейте стихи печальны, Зря на Россию чрез страны дальни...Но отнюдь не всё у Тредиаковского звучало так легко и проникновенно. Много было тяжеловесных виршей, таких, что весь стих в них держался на одинаковом числе слогов в каждой строчке и рифмы были порой тяжелы и несозвучны.
Слогов в строку накладывалось много, двенадцать и более, пока последние отбиваешь языком, первые забываются. А Тредиаковский всё сие в правило возвёл, так советовал делать. Давал рецепты, приводил примеры в своём «Новом кратком способе к сложению российских стихов», книжице, давно изученной и осмысленной Ломоносовым. Но стих, построенный по сим правилам, не взлетал сам и не побуждал взлететь вслед за ним человеческую мысль.
Ломоносову хотелось писать по-своему, легче, ритмичней, короче. Многие вечера, если они были свободны от других дел или прямо между делами и вместе с ними, Ломоносов строил свои стихи. Сколь ни напрягался мозг в попытке постичь какое-либо явление природы, всегда оставалось место и для возвышенных мыслей, и он, прямо между математическими формулами, набрасывает стихотворные строки:
Сладкой думой без кручины Веселится голова...А тут ещё образ Елизаветы, прельстительный, мыслимый и одновременно земной, реальный и ежедневно зримый, не давал покоя. С некоего времени он стал постоянно чувствовать её присутствие. При мимолётных встречах на лестнице, во дворе, в прихожей дома и даже в кухне, когда маменька отвернётся и не глядит, обливали Михайлу нежным вниманием кокетливо-лукавые глазки юной Елизабеты. Не был робок Михаила, в анахореты себя не записывал и книжным червём становиться не собирался. Елизабета волновала его, притягивала, но всю первую зиму он её остерегался, боясь обжечься, самолюбие-то у него было ой какое! Стоило ли подвергать его потрясению: сунешься, по мордасам получишь, а потом что?
Но в стихах Ломоносов не лукавил, искал и находил в них отдушину для сердечных излияний:
А гуслей тон моих Звенит одну любовь. Стянул на новый лад Недавно струны все.Что ж! Струны души вторят настроению, и сей «новый лад» душевных струн окрылил жизнь его радостью. Молодость властно требовала и младых утех, зажигала сердце волнительной страстью.
Сердце — радостно при лире, Не желая чести в мире, Счастье лишь одно поёт.Кончилась зима, и в первое же лето в душу прокралась ревность. Появились и другие певцы, кои не упустили очарования юной метхен. Как-то тёплым вечером, когда все сидели за ужином и Ломоносов тешил себя созерцанием пухлых губок и уже весьма выпиравших из-под платья прелестей «прекрасной Галатеи», под окном вдруг раздались призывные звуки мандолины и томный голос, слегка фальшивя, завёл сладкую немецкую мелодию, где пелось про негу, счастье любви и тому подобное.
Надо же! Когда такие мысли Михайла поверял бумаге сам, ему сие нравилось. Но как только похожие слова полились с чужого голоса, он разозлился. Однако все остальные обитатели дома Цильх сначала замерли в приятном изумлении, а затем бросились к по-летнему раскрытым окнам.
О чудная Лизхен, даруя нам свет, Алеешь под солнцем, как маков цвет... —выводил с лёгким дребезжанием молодой фальцет,
Что-то в этом голосе Ломоносову сразу почудилось знакомое. И вдруг будто вспыхнуло, выплыло в памяти: «Эге!.. ландлисе хане... покукарекайте для нас!..»
Под окном стоял молодой человек в камзоле с дорогой отделкой, в атласных белых чулках и блистающих глянцем башмаках. Сзади с двумя мандолинами и гитарой расположились трое услужливых приятелей, одетых столь же богато и лишь в подражание итальянским «мандолиньеро» заменивших свои тирольки широкополыми шляпами и цветными шарфами. Правда, треньканье их звучало неискусно, да и голос певца был вовсе не «бель канто», но всё равно сие всё гляделось вальяжно и впечатлительно. Когда в окнах показались обитатели дома и хорошенькая головка Елизабеты, молодой человек, затянув голосом высокую поту, сдёрнул с головы свою шляпу и, отставив левую ногу, галантно замахал рукой, подметая шляпой землю, весь изображая преданность и восхищение «ди рейценд метхен», очаровательной девушкой.
— Ах, какая галантность... плезир... плезир... — закудахтали дамы; лицо Елизабеты залила улыбка, а фрау Цильх закивала чепчиком: «О, майн гот... ист ангенем... как приятно...»
«...Ландлисе хане... покукарекайте!..» — снова пронеслось в мозгу уже возбуждённого ревностью Ломоносова, взвилось бешенство, вырвалось на волю молодечество неистовое:
— Ах, так твою растак... хмырь болотный!.. У-у-у!.. — по-русски заорал он и, непочтительно отпихнув разомлевшую от комплиментов «ди метхен», выпрыгнул из окна на улицу.
Мощный пинок ногой в зад растянул певца на мостовой. Оторопевшие приятели схватились было за шпаги, но не тут-то было. Выхваченная гитара с треском обрушилась на голову её обладателя; голова проткнула деки, и гитара застряла на шее, прижав к ней поля колпаком надвинувшейся широкополой шляпы, превратив тем гитариста в слепца, ошеломлённо дёргающего руками этот гремящий оборванными струнами ошейник. Двое других, получив оглушающие зуботычины, бросились бежать.
А Ломоносов, обернувшись к певцу, схватил того за шиворот и, приподнимая с мостовой, заорал в самое ухо:
— А ну-ка, покукарекай для нас! — и сопроводил слова внушительными ударами кулаком по рёбрам. — Ну, живо! Не то перья ощипаю!..
Возмущённые дамы надрывно визжали за окнами. Выскочивший Виноградов попытался было успокоить разбушевавшегося Ломоносова, но также был отброшен хорошим пинком.
— Кукарекай! — неистово кричал Михайла в ухо одуревшего от страха и боли в намятых боках непрошеного ухажёра.
— Ку... Ку... Ку-ка-ре-ку, — жалобно заикаясь, пискнул тот.
— Громче! — снова гаркнул Ломоносов и, отпустив певца, удовлетворённо стал слушать:
— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку-у!
— Ах, какое приятное пение, — комментировал Ломоносов. — Какая прелесть, какой плезир! — глянул в окно и, юродиво гримасничая, поклонился. — Если дамы желают, он споёт ещё. Не желают? Ну, тогда проваливай! Вэг! — гаркнул Ломоносов «певцу». — Не понравилось твоё пение, прочь! — отвернулся и, отряхивая руки, как ни в чём не бывало, пошёл в дом.
Слух об этой расправе быстро распространился среди студентов, вызвав много толков и пересудов о силе а бесстрашии Ломоносова. Всё же раза два его пытались вызвать на традиционную дуэль на шпагах, которые между студентами, как правило, кончались одной, двумя отметинами. Но Ломоносов, приняв вызов, приходил с палкой и, плюя на традиции ломал её о голову и плечи дуэлянта. После этого всякие попытки задрать его, а заодно и других русских, прекратились. Их стали просто бояться, и укрепилось мнение, что этих «медведей» лучше не трогать, иначе будет плохо.
Фрау Цильх после этого случая долго смотрела на Ломоносова поджав губы, подавала еду молча, без обычных похвал и восхищений. Друг дома, негоциант Иге Рогеман, её в этом поддерживал и возмутительное поведение постояльца осуждал всячески.
Однако это не мешало ему всякий раз, когда он получал торговые письма то из Франции, то из Италии, а то ещё на каком-нибудь незнакомом языке, прибегать к услугам Ломоносова. «Варвар» переводил цивилизованному купцу деловые письма и составлял ответы. Рогеман благодарил, притворно изображая улыбку, способности Ломоносова к языкам хвалил как нечто полезное и могущее принести доход. Остальные же его занятия негоциант считал несусветной чушью, пустой тратой времени и денег.
Ну а Елизавета дулась недолго. Её, пожалуй, даже восхитило то, что из-за неё состоялось сражение, и она была бы совсем не прочь узреть что-либо подобное ещё раз.
Физика, теоретическая и экспериментальная, составляла главные труды учения, поглощая большую долю времени Ломоносова. Но нельзя же мимо другого пройти, что есть здесь, в университете. Всё надо увидеть и попытаться постичь, ежели даже и не на всякое осмысление сил и натуры хватит.
Медикусы и ранее вызывали любопытство Ломоносова, но поелику он сам был отменного здоровья, то от мыслей о болезнях ёжился до мурашек, дохтуров избегал и медицейской науки чурался. Всё же однажды, поддавшись уговорам приятелей, рискнул посетить в медицинском факультете анатомический театр.
Посетил и обмер, холодным потом зашёлся, испытав бледность чрезвычайную и слабость в чреслах. Кабы не страх прослыть трусом в глазах приведших его приятелей, убежал бы сразу.
А пред глазами разверзлось ужасное. Анатомию производили над одним человеком мужска полу, которова была голова отсечена и отдельно на доске обальзована и представлена. В тоей палате её тело вынято из гробу и положено на доску свинцовую. А медицейский профессор, собрав всех студентов той науки, сзади коих и Ломоносов отирался, почал мужика разнимать. При том осказывал причинные вещи, тянул жилы от рук и ног, указуя, как и куды они действуют. Все члены перебирал, и лёгкие, и сердце, и ту перепонку, в которой сердце лежит. Всякое место мертвецкое давал тем студентам осматривать и руками ощупывать, и тут оказалось, что то тело было в спиртусах налито, чтобы духу не было смрадного[88].
Но всё равно Ломоносову вдруг всё сие стало изрядно противно, его затошнило, и он, зажимая рот, что было духу побежал из анатомического театра, а едва выскочив на улицу, опростался. Тяжело дыша, расстегнул рубашку, утирая слезящиеся глаза и сдерживая спазмы горла. Вспомнил улыбающееся лицо профессора, ковырявшегося в человечьем нутре, любознательные глаза медицейских студентов, снова отринул набежавшую слюну и подумал: «Воистину, кому что дано! Но я уж лучше на уравнениях мозги сломаю или сутки у жаркого горна простою, с металлом орудуя, нежели ещё хоть на минуту загляну в тот театр».
И, облегчённый телом, отираясь платком, быстро пошёл в лабораторию, чтобы побыстрее дыхнуть горелыми запахами окалины и застывающего металла.
Плавильные работы, длительные опыты, наблюдения и размышления у лабораторного горна привели к потребности осмыслить и обобщить узнанное. К концу второго года пребывания в Марбурге Ломоносов подготовил к отправке в Петербург в академию свой первый специмён: «О превращении твёрдого тела в жидкое».
Прочитав специмён, Вольф вдумчиво и долго глядел на Ломоносова, одобрительно кивал и скупо хвалил:
— Написано обдуманно и зрело. У вас, герр Ломонософф, светлая голова и большое будущее в науке. — Помолчал, выпятив губы, из-за чего щёки его ещё более отвисли и лицо показалось Ломоносову вдруг усталым и старым, потом медленно и даже грустно сказал: — Пожалуй, следует и о продолжении вашего образования подумать. Полагаю, в Марбурге вы уже всё исчерпали и более вас нечему и некому здесь учить.
И снова молча смотрел уже не на Ломоносова, а как бы углубившись в себя вспоминая, каких высоких почестей он достигал, с триумфом продвигаясь по лестнице научной иерархии, и вдруг понял, как мало, несоразмерно его прижизненной славе, мало останется в науке после его смерти из сделанного им. И не будет ли сей талантливый ученик лучшим из всего того, к чему он приложил руки и ум?
Месяц спустя Вольф отправил в Петербург письмо с изложением доводов о необходимости подыскания для Ломоносова нового места обучения. Сам же и рекомендовал Фрейберг в Саксонии, где сей выдающийся ученик сможет лучше освоить химию и горнорудное дело. А написав так, ощутил сожаление лишь о том, что скоро должен будет расстаться с талантливым учеником. Но на этот раз ни на минуту не пожалел, что лишится приличного денежного вознаграждения за его обучение. Есть счастливые и мудрые учители, которые роста своих учеников не тормозят, успехам их не завидуют и купонов с этих успехов не стригут. Вольф был из таких!
К двадцати семи годам Ломоносов вышел в очень заметного мужчину — здоровенного росту, косая сажень в плечах, твёрдого характеру и немалой силищи. Лицо с приятной улыбкой, речь всегда умна и, когда он того желал, — обходительна.
Потому уже давно ни он женщин, ни женщины его без внимания не оставляли, видывал он их, волновали они его, интересны были.
Случалось ему ещё в юности голых лопарок зрить: у них в ярангах это обыденно. Меховую парку с себя сбросила, голышом осталась, что при своих, что при посторонних, и никакого смущения, никакой боязни — всё на виду. Лопари — люди незлобивые, мягкие, русским доверяли и своих обычаев от них не прятали.
В Москве иначе бывало. Хоть учился там Ломоносов в школе с церковным уставом, но монашеского обета не давал, ко всему стремился, ко всему интерес проявлял. А поглядеть было что: Москва — город вострый, удали бесшабашной, и от тоски безысходной там всякого случалось немало. Только лишь в рядах торговых, в Охотном, что делывалось. Тут цыгане поют, с медведями балуются, цыганки пляшут и телесами трясут возбудительно. Там скоморохи паясничают, прибаутки и присказки таково охально заворачивают, что у собравшихся мужиков рот до ушей растягивается. А бабоньки, отворачиваясь и краской заливаясь, концами платочков рот закрывают, но всё равно не уходят, слушают да в платки и ладоши заливистым смешком прыскают.
А за лабазами и того хлеще: непотребные девки, мордастые, размалёванные, подолы задрав, срамно ляжки выставляют, в двери лабазов заманивая. Но уж тут-то Михаила, хоть молод и горяч был, ставил сим соблазнам твёрдый заслон; страха не тая, всякий раз от гундосой заразы убегал без оглядки.
Однако же тому непотребству на Руси никогда особой воли не давали. Православная церковь распутство осуждала, а и цари не жаловали. Пётр Великий повелевал даже гулящих девок хватать, в колодки забивать и ссылать в каторжные работы на заводы и в мануфактуры: «...кои девки и бабы лишь блудодействуют, абы беса тешить, тех не миловать...» — объявляли народу строгие царские указы.
При Анне строгости к тем блудям ослабели; за любую провинность, сущую или мнимую, били-забивали нещадно, и, наверное, потому на все жестокости не хватило, и блудодейство терпели. Оттого в тридцатых годах и нагляделся Ломоносов на гулящую Москву.
Но ведь с Лизхен совсем не то. Тянет к ней не только телом, тянет душою. Из мыслей она не выходит, по ночам снится. Ну а то, что он, Ломоносов, её почти два года оберегает и тронуть себе запрещает, лишь подогревает его к ней добрые чувства и нежность. Может, и полюбил он её, а уж то, что «присушила», как у него на родине говорят, она его, так это уж точно! Присушила!
Пройдёт ли сё мимолётно или поранит на всю жизнь? Не мираж ли это, не зыбкий ли туман в безбрежном океане его могучих замахов и дерзновенных мыслей?
А Елизабета Цильх расцвела сияющей осьмпадцатилетней красой. Пышненькая фигурка, щёки бело-розовые с ямочками, шелковистая нежная шея вливается в аппетитные плечики. А далее... Там, далее, по непривычной для российского глаза французский моде — всесмущающее декольте. Ох, декольте, которое фрау Цильх позволила-таки сделать дочери, когда та достигла восемнадцати лет! Груди Елизабеты, поддержанные корсажем и оттого выложенные, будто товар на прилавке, как магнит тянули к себе взоры Ломоносова, будя волнение крови и греховные мысли.
Два раза в неделю он стал брать уроки танцев, и эти два часа обратились для них обоих в краткие мгновения радостного единения. По средам и субботам в дом фрау Цильх, с кларнетом в футляре под мышкой и золочёной с каменьями тростью в руке, приходил немец Глосс, нанятый Ломоносовым за восемь талеров. Глосс имел отличную репутацию, учился танцам в Париже, много лет служил балетмейстером у герцога Мекленбургского в Шверине и лишь по смерти сиятельного владыки был отставлен и посему снизошёл до частных уроков. Костюм его и манеры ещё сохранили остатки крикливой роскоши этих мелких царственных дворов с большими претензиями и малыми доходами.
Глосс приходил в шляпе с пышным страусовым пером; его камзол был расшит столь плотно, что самого материала промеж шитья видно не было, а кружевные воланы рубашки напоминали пену взбитых сливок. Правда, парик у него облез, а башмаки вот-вот готовы были запросить каши, но сие уже всего лишь ничтожные мелочи, являющиеся досадным следствием расхождения между его, Глосса, претензиями и его же возможностями. И потому талеры Ломоносова приходились ему очень кстати, хотя Ломоносов ради всех этих новых трат по уши влез в долги к проклятым ростовщикам.
Глосс задорно и мастерски играл на кларнете, одновременно показывая мудрёные танцевальные па. Иногда он отрывался от кларнета, дирижировал руками и, танцуя сам, командовал такты голосом.
— Айн, цвай, драй! Алонс, медам э шевалье! — слышали Михаила и Елизабета. Держась за руки, они медленно сходились и расходились в аристократическом менуэте и, повинуясь командам, переменяли фигуры. Потом вновь раздавались звуки кларнета, и маэстро, перестав танцевать, отбивал такты ногой, а Ломоносов, подняв руку и держа Лизхен за пальчик, смотрел на неё сверху вниз. Вырез с очаровательной ложбинкой посредине кружился перед глазами, кружилось в такт музыке поднятое кверху смеющееся личико Елизабеты, от всего этого в бездумном дурмане кружилась у Михайлы голова.
Ещё один учебный труд завершил Ломоносов и отправил в Петербург: «Физическую диссертацию о различии смешанных тел». Но не сразу согласился Вольф со всем тем, что там изложено. Были споры, несогласие, но Ломоносов твёрдо стоял на своём, доказывая, что тела состоят из «корпускул».
— Конечно! И оные корпускулы, при смешивании, свойства свои сохраняют. — И вперивался в учителя напряжённым взглядом, весь подавшись к нему, словно застыв в мгновенном порыве. Что бы Ломоносов ни доказывал, ни внедрял в сознание слушателей, всё делал горячо, страстно.
— Вот взаимное расположение корпускул меняется, но не более. Думал я над этим, герр Вольф, много думал. Сию корпускулярную теорию ещё досмысливать надо, но идея верна, я убеждён.
И опять Вольф задумчиво качал головой, размышляя о недюжинном таланте и завидной работоспособности Ломоносова.
— Зи зинд бравер. Молодец! — хвалил он затем, уже не считая, что этим может испортить ученика. — Хорошо думать — это талант. Но хорошо думать и хорошо трудиться — дважды талант есть.
— На том стоим, — теперь уже улыбаясь, отвечал Михаила. — У нас народ знает: ежели труда не вложишь и мозолей не натрёшь, думай не думай — с голоду помрёшь.
Вольф с Ломоносовым ныне беседовали на равных. Последнее время много спорили, обсуждая философские основы мироздания.
— Картезий, он же Декарт, велик! — начал на утренней встрече Ломоносов. — В своём учении он не бога ставит во главу всего сущего, но разум.
— Бог есть высший разум. И потому противоречия нет, — как бы обходя неудобную тему, не столько возражая, сколько призывая к примирению, согласился Вольф.
— Да нот. Картезий говорит о человеческом разуме. Сомнение человека и преодоление сомнения — вот что, по его учению, движет мысль.
— О да, — Вольф, полузакрыв глаза, наклонил парик. — Духовная мысль, дух, лежит в основе всего зримого и мыслимого, в том числе и нашего существования. «Когито эрго сум!» Так великий Декарт и говорил.
– Да, да! — Это «да, да» прозвучало у Ломоносова чуть иронически. — «Я мыслю, значит, я существую». Но чтобы мыслить и существовать, надо, простите, жрать, и хорошо бы каждый день. А жратву духом не вырастишь и не породишь. Жратву надо трудом делать, и не внутри себя, то есть духа, а снаружи, во внешнем мире. — Увидев протестующее движение собеседника, Ломоносов хитро ухмыльнулся, сам веселясь тому, что он сейчас скажет Вольфу: — Ну а от труженика на миру, как вы, наверное, ощущали, двуедин дух идёт: пот да натужная вонь.
— Фи! Герр Ломонософф! Какие вульгарные выражения вы применяете. Они не к лицу учёному с вашими способностями.
— Энтшульдиген зи. Простите. Но это я для рельефности. Но ежели вернуться к чистой науке, то ведь даже Аристотель, уж на что древен, но и тот полагал, что в основе познания лежит реальное бытие. И спорил о том с Платоном[89].
— Что ж. Я вижу, древних вы хорошо изучили.
— Изучил. Наша Заиконоспасская школа в Москве, хоша и не древнегреческий ликей, однако учение Аристотеля нам преподали там досконально. Да и сам я от наук не бегал, что мог, выучил.
— Ну так как же вы решаете спор Аристотеля с Платоном? — спросил Вольф, вполне серьёзно интересуясь мнением своего ученика.
— Не в пользу Платона. Нельзя жить одним идеальным, не замечая реального бытия. Вот и Декарт пренебрегает внешним миром. Отвергает опыт. А я с тем не согласен и того не приемлю. Всё надо проверять опытом. — Ломоносов замолчал, насупился и подумал, что опыты надо ставить, а не рассуждать об их пользе. «И буду ставить!» — упрямо сказал он про себя.
— Ну а Лейбниц, он что, тоже для вас не авторитет? — снова спросил Вольф, будто нарочно перебирая предшественников и проверяя, не склонится ли Ломоносов ещё перед одним великим именем.
— Лейбниц — гигант. Его разве что с Невтоном равнять. Авторитетнее Лейбница в математике никого нет. Утвердив анализ бесконечно малых, дифференциалы, интегралы и ряды, он на века поставил себе памятник.
— Да, да. Насчёт математики и вашего в неё проникновения нисколько не сомневаюсь. А вот философские пункты Лейбница?..
— Достойны внимания, — быстро ответил Ломоносов. — Достойны. Но спорны!
— И здесь спор?
— И здесь! Постулат Лейбница о том, что красота теоретического построения, его непротиворечивость есть один из критериев правильности — это хорошо, приемлемо. Но сие совершенство мыслимого само по себе отнюдь не достаточное основание для его верности. Совсем не достаточное для возможности реализации воплощаемых построений, хотя Лейбниц и утверждает противное.
— Чего же вам не хватает?
— Проверки! Проверки опытом! — твёрдо отрубил Ломоносов.
— Опять опыт, — покачивая головой и поджав губы, как бы осуждающе проговорил Вольф. Затем вдруг лукаво посмотрел на Ломоносова, словно вот-вот выложит что-то непререкаемо-убеждающее. Ещё помолчал, будто для солидности, затем выложил:
— Ах, молодость, молодость. У самого у вас ещё мало опыта, вот вы и думаете, что явственно видимое всегда и есть истинное.
— Ну, — приготавливаясь к отпору, подтолкнул Вольфа Ломоносов.
— А вот! Тысячелетиями люди смотрели, как солнце встаёт на востоке, обращается над землёй и, обойдя её, садится на западе. Опыт всего человечества утверждал, что солнце обходит землю! Солнце землю, а не земля солнце! — подчеркнул Вольф. — Но так ли это?
Ломоносов молчал, собираясь с мыслями и обдумывая каверзный вопрос, а Вольф уже наступал далее:
— Но вот явился Коперник. Его могучий гений, дух его, воспарил над землёй и осветил нам истину вопреки опыту. Во-пре-ки! — переходя к своей обычной манере диктанта и тыча пальцем в стол, раздельно произнёс Вольф. — Так что Платона, Декарта, Лейбница и других великих, что ставили духовное выше вульгарного опыта, не отвергайте!
Ломоносов молчал. Не принимая этих доводов, чувствуя в них какую-то внутреннюю неправду, он не находил нужных слов, не смог на этот раз одержать победу в споре с учителем и ушёл неудовлетворённый. Ушёл, бичуя себя за скудность своих знаний, за невозможность рывком разорвать железный обруч веками скованных философских установлений.
Он не знал и не мог знать, что человечество в лице лучших своих умов ещё потратит века, чтобы эти путы разорвать и утвердить примат материального над идеальным, духовным.
Извещение русским студентам о том, чтобы они: «...из Марбурга около Троицына дня в нынешнем лете в Саксонскую землю в Фрейберг для изучения металлургии ехали», было получено из Петербурга в марте 1739 года. Реляцию доставили, а деньги — нет. Поэтому не токмо собираться, но даже объявить об отъезде было немыслимо. Студиозусы настолько завязли в долгах, что, наверное, расписками об этих займах можно было бы заменить их платье и в оные одеть их с головы до ног. Точный же список своих долгов они, по требованию Вольфа, вручили ему ещё месяц тому назад.
Лишь к июлю, когда на имя Вольфа пришли из Петербурга деньги, Вольф позволил сообщить, что студенты покидают Марбург. И велел объявить ростовщикам предложение, в день отъезда, но не ранее, явиться за деньгами, и не к должникам-студентам, а к Вольфу.
Узнав, что Михайла уезжает, оставшиеся дни Елизабета ходила с надутыми губками и мокрыми от слёз глазами. Весь её вид выражал укор, вызывал жалость, а её упрёки приводили Михайлу в отчаяние.
— Вы есть жестокий, гадкий, безжалостный человек, — говорила она срывающимся голосом. — Я доверилась вам, не спросившись даже майи муттер. Доверилась, и вот... вы бросаете меня, и так неожиданно!.. — Слёзы брызгали из несчастных глаз Елизабеты, мокрыми дорожками прочёркивая пухлые щёки. Михайла гладил её по плечам и, целуя душистые, вымытые лавандовым мылом волосы, говорил ласковые слова, которые не могли утешить юную женщину:
— Майн либхен. Я ведь учусь иждивением государства и должен ехать. Что поделаешь. Но ты не горюй, не плачь. Это ненадолго. Я вернусь, милая. Вернусь.
Он в самом деле чувствовал себя неважно. Грусть сжимала сердце.
Необходимость разлуки, сознание обиды, которую он наносит Елизабете, подарившей ему немало сладких мгновений, терзали его душу. Понимая, что отъезд отложить нельзя, он мысленно торопил время, чтобы поскорее уйти от слёз Елизабеты и трагически-надменных глаз ныне молчаливой фрау Цильх.
Ранним июльским утром девятого дня, как было условлено, студиозы явились на площадь у ратуши, откуда обычно отправлялись почтовые кареты из Марбурга. Карета запаздывала, ростовщики явились вовремя. Вирах, Рименшнейдер и ещё два процентщика, все в старых, засаленных лапсердаках; лишь один Вирах в шляпе, остальные в ермолках со свисающими из-под них пейсами, они, сбившись кучкой на мостовой, громко галдели промеж себя на своём языке. Троица провинившихся должников стояла в стороне, с опаской поглядывая на своих заимодавцев.
Вольф явился точно в шесть, строгий, неприступный, в обычном чёрном бархатном камзоле, с небольшими счётами и складным стульчиком в руках. Осадив обещанием заплатить налетевшие на него лапсердаки, Вольф уселся на стульчик и стал деловито принимать и просматривать расписки.
— Вы представляете счёт на тридцать пять талеров? — пощёлкав костяшками счетов, сухо спросил Вольф у Рименшнейдера.
— О, вай мей! Это есть так, и да падёт на мою голову прах и пыль, если то не были полновесные талеры! — заговорил, захлёбываясь словами от желания выпалить их быстрее, Рименшнейдер. Стоявшие кругом лапсердаки дружно закивали в поддержку.
— Тридцать пять талеров вы дали студенту Виноградову из расчёта сорока процентов годовых? — снова спросил Вольф,
— Всё есть так. И сорок процентов — это немного при том риске, который имеешь, давая деньги таким вертопрахам, которые того и гляди сломают себе шею, а тогда пропали денежки...
— Эти сорок процентов годовых, составляющие четырнадцать талеров, вы сразу вычли из суммы и вручили Виноградову лишь двадцать один талер? — методически задавал вопросы Вольф, пропуская мимо ушей страстные тирады Рименшнейдера. Пахло деньгами, а разве могут рименшнейдеры при этом оставаться бесстрастными?
— Ну да, и что? А иначе...
И, вновь прерывая говорливого ростовщика, Вольф продолжал:
— Но года со дня займа ещё не прошло. Прошло всего десять с половиной месяцев.
— Подумайте. Это же надо? Мы взяли год для ровного счёта...
— Но превышение суммы за счёт излишнего начисления процентов за полтора месяца составляет один талер семьдесят пять геллеров, — снова ровным голосом заговорил Вольф. — Сумма заметная, её я изымаю, и потому по настоящей расписке вам причитается не тридцать пять талеров, а тридцать три талера и двадцать пять геллеров.
— О! Вы есть профессор математики, а мы, бедные люди, так точно считать не умеем...
По каждой расписке Вольф без всякого стеснения провёл точные расчёты, выкроив более десятка талеров, на которые жадные ростовщики, не довольствуясь бешеными процентами, намеревались обжулить молодых людей. Затем подвёл итог, но, прежде чем отдать деньги, выторговал у лапсердаков ещё и скидку за то, что выплачивает им всю сумму сразу, и наличными. Лапсердаки хоть покричали, жалуясь на то, как с ними плохо обращаются, призывая в свидетели этого почему-то не присутствующих, а всех пророков, начиная с Мафусаила и кончая Еносом, но всё же ничего поделать не могли, так как подобное было принято и всегда учитывалось при сделках. К тому же выгода гешефта была налицо — они получали денег больше, чем давали, а гофрат Вольф был не той фигурой, перед которой можно куражиться.
Однако же и после этого денег, присланных академией, на всё не хватило: ведь надо было дать что-то студентам и на дорогу. Но Вольф поступил благородно, добавил своих денег и расплатился с ростовщиками, забрав у них и тут же, на глазах у пристыженных студентов, изорвав в клочки все расписки. А им деньги на путевые издержки вручил только лишь тогда, когда они сели в подъехавшую карету.
Молодые люди были потрясены и растроганы сей воспитательной процедурой. Прощаясь, преданно благодарили Вольфа, клялись впредь вести себя осмотрительнее, а тот помахивал кружевным платком и, отбросив суровость, улыбался и прощально кивал головой.
Карета, качнувшись, тронулась и, загремев по булыжнику, покатилась в дальний путь. Прощай, Марбург, прощайте, три счастливых года ученья и молодости, прощай, Елизабета!
Через пять дней длинной, но нескучной дороги с запада на восток, почти через всю Германию, въехали в Саксонию. Погода радовала мягким теплом, глаз услаждался красивыми видами живописных горок, усаженных виноградниками долин и быстрых прозрачных речек. На последней остановке, вечером, на скамеечке возле деревенского «шинке», то есть трактира, пили дешёвое местное вино. А потом, взявшись за руки, вместе с отдыхавшими после работы крестьянами распевали песни и раскачивались в такт её нехитрой мелодии. Пожалуй, то было их последнее веселье чуть ли не на весь год вперёд.
На подъезде к Фрейбергу стали попадаться шахтные башни, возвышались отвалы пустой породы, кое-где зияли дыры старых выработок. Затем из-за поворота у мульды[90] открылся и сам городок.
Новый учёный наставник студентов, берграт Генкель[91], принял их на следующий же день по приезде. Это был старый человек с властным лицом и, как выяснилось позже, весьма сварливый. Выстроив молодых людей перед собой, Генкель, будто фельдфебель перед новобранцами, несколько минут молча прохаживался, разглядывая студентов. При этом по лицу его блуждала брезгливо-знающая улыбка, словно он давно знаком с каждым и наперёд видит все их недостатки и провинности. Затем началась нотация:
— Вы есть избалованные молодые люди, не уважающие порядок. Мы наслышаны о ваших похождениях, разгуле и вольной жизни в Марбурге. — Генкель потряс зажатым в руке бумажным списком, и Ломоносов подумал с огорчением о том, уж не Вольф ли прислал Генкелю письмо с их осуждением.
Но Генкель, развернув список, скрипуче прочёл им, что правитель Петербургской академической канцелярии Шумахер предупреждает о вольных склонностях направляемых студентов и о слишком большой обременительности для Российской академии их прежнего денежного содержания. А посему объявляет о его уменьшении чуть ли не вдвое — до двухсот талеров в год.
Студенты изумлённо переглянулись, а Ломоносов грустно усмехнулся и подумал о том, как туго теперь придётся им затягивать пояса.
— Но здесь не Марбург! — въедливо продолжал Генкель. — И университетской богемы здесь нет. Здесь есть труд, и я, как лицо, поставленное над вами, заставлю вас трудиться.
Хотелось возразить Генкелю, хотелось сказать, что они многому научились в Марбурге у строгого, тоже педантичного, но в общем-то доброго Вольфа, а научиться без труда, даже немногому, невозможно. Так что понукать их нет нужды. Но Генкель смотрел высокомерно, вещал непререкаемо, возражать было бесполезно, и студенты молчали.
— И с настоящего дня кормиться вы будете в трактире при гастхаузе, где для вас оплачен пансион, и нигде более. Что дадут, тем и обойдитесь. А денег наличных на все мелкие расходы и письменные материалы будете получать один талер в месяц! — Назвав эту жалкую сумму, Генкель с торжеством посмотрел на молодых людей, будто говоря: «Вот, дескать, как я вас!»
— В письме из Петербурга о вас ещё указано, — Генкель развернул бумагу, поднёс к глазам монокль со стеклом и, глядя в список, прочёл: — «Платьем они должны обходиться как знают и довольствоваться тем, которое; имеют...» Ферштее?
Оторвавшись от бумаги, Генкель снова поглядел на притихших студентов и, дабы завершить начатое, вывалил последнее:
— И по всему Фрейбергу объявлено, чтобы никто не верил вам в долг, ибо если это случится, то ни Петербургская академия, ни я не уплатим ни гроша.
После сей грозной реляции Генкель распорядился науками: Райзеру изучать преимущественно руды и минералы, Ломоносову — строение рудников и машины, а Виноградову — горнозаводское плавильное искусство.
— Друг другу не метаться, в чужие науки не лезть, точно соблюдать установленный порядок. Аллее ист ил орднунг! — завершил своё сообщение Генкель.
Но тут Ломоносов не сдержался и спросил, а что будет, если он, Ломоносов, пожелает знать и то, и другое, и третье? А также и то, о чём высокоуважаемый берграт не сказал или не знает. Ну, например, водятся ли в шахте мыши? — сказав сие, новоприбывший студент невинно воззрился на высокоуважаемого берграта. Знавшие Ломоносова молодые друзья его, уже забыв про огорчительные вести, еле сдерживали смех, а не знавший его Генкель оторопел: соображая, как оценить этот вопрос — то ли как дерзость, то ли как глупость? Склонившись ко второму, солидно ответил:
— Чтобы изучить все, нужны многие годы, а их у вас нет. Мыши же в шахтах не водятся, потому как боятся воды и есть нечего. А вот почему там вода появляется, это вам узнать будет полезно.
Дав такое разъяснение, Генкель повелительным жестом отпустил студентов. Ломоносов же, продолжая ёрничать, в скрипуче-назидательном тоне Генкеля уже перед дверью громко сказал, обращаясь якобы к Виноградову:
— А чего узнавать? Вода в шахту оттого попадает, что она туда натекает. И думать иначе было бы нарушением порядка! Орднунг нихьт!
Когда дверь за студентами закрылась, берграт Генкель, наконец поняв, что сей студент глупости говорить не склонен, подняв бровь, долго смотрел им вслед и осуждающе качал головой.
Шахты и рудничное дело поначалу были интересны и новы. Конечно, ещё перед отъездом сюда Ломоносов всё, что нашёл по шахтному хозяйству, прочитал. По одно дело — читать, другое — всё своими глазами узреть и руками пощупать.
Старые выработки имели простые штольни, выкопанные в склоне горы тоннелем, под уклон, ведущие вниз, в её нутро, к рудным жилам. В первые же дни, не мешкая, Михайла без страха, только лишь с факелом, углубился в старую штольню. Однако повороты считал точно и потому с пути не сбился. Крепёж в штольне был бревенчатым, полным окладом охватывая стены и потолок. А боковые норы креплены только редкими брёвнами, стоящими вертикально, комлем вверх.
Ломоносов, согнувшись, зашёл в одну такую нору — штрек, во вторую, поднял и потёр руками породу. Понюхал её, даже послюнявил в пальцах и растёр, на ощупь различая твёрдые вкрапления. Затем, увидев при свете факела, что крепёжное дерево уже гнило, поостерёгся ходить дальше и почёл за благо вернуться.
Дома озадачил Виноградова и Райзера вопросом:
— Скажите-ка, почему, по-вашему, крепёжные стойки комлем вверх устанавливаются?
Приятели задумались, зачесали в затылках.
— Комель шире, большей площадью вверх подпирает, — не слишком решительно ответил Виноградов.
— А ты, Райзер, что скажешь?
— Спрошу у Генкеля, он и скажет.
— Ну а если всё же подумать? — настойчиво вопрошал Ломоносов. Подождал и сам же ответил:
— Дело тут явно не в площади опоры. Иные стойки так отпилены ровно, что по размеру и не разберёшь, где хлыст, а где комель. Но ставят всё равно низом дерева вверх. — Ломоносов сделал паузу, как бы размышляя над собственной задачей.
— А смысл тут, вероятно, в природных свойствах древесных, кои рудокопы давно, видно, заметили. Влага-то по живому древу от корня идёт. Вот я и полагаю, что и у спиленного дерева влага по-прежнему лучше сочится от комля, нежели наоборот. А стало быть, при комле вверху стойка будет суше, и оттого меньше опаски, что сгниёт.
— Спрошу у Генкеля, — невозмутимо повторил Райзер и предложил отправляться спать. А на следующий день действительно с его слов оказалось, что Генкель подтвердил это объяснение.
— И ещё похвалил меня, — посмеиваясь, сказал Райзер. — За наблюдательность.
Все дни недели Ломоносов стал посвящать изучению шахт. Вертикальные стволы их были укреплены деревянными срубами, на манер того, как это делалось на Руси в колодцах. Вниз уступами шли лестницы без перил, каждая по четыре сажени длиною. По ним Ломоносов порою опускался на сорок лестниц до самого низу; там делалось сыро и душно, воздух казался спёртым, с каким-то едким запахом.
Во тьме, с маленькими фонариками на шее, внутри коих теплились свечи, натужно согнувшись, двигались рудовозы. Держась за ручки, они толкали одноколёсные тачки с рудою, которую брали у рудокопов. Рудокопы же, неудобно изогнувшись, почти на карачках, кайлом и лопатой отбивали руду в тесных и длинных забоях. Рудовозы, тоже сгибаясь, почти вползали туда с тачкой, грузили руду, выползали в штольню и везли тачки к стволу.
В стволе работала машина. Большая бадья на толстом канате, до краёв загруженная рудою, медленно начинала ползти вверх, мимо лестниц, смягчая удары о стенки привязанными к ней мешками с опилками. Канат наматывался на барабан, который приводился в движение большим водяным колесом, в который била вода из текущего с горы водопада.
Около тех колёс Ломоносов стаивал часами. Не то чтобы водяных мельниц он ранее не видывал; их на Руси было немало. Но вот чтобы водяное колесо груз тягало — этого видывать не случалось.
Он глядел и прикидывал, какие ещё приложения водяной силе придумал бы. Виделись ему насосы, которые качают воду на поля в жаркой стороне, где дождей мало и воды не хватает. Чудился водопровод для города — вода по трубам разбегается, и на речку али к колодцам бегать не нужно. И мнился большой завод, где та водяная сила токарные станки крутит без устали. Да мало ли какое ещё можно придумать употребление для сей дармовой силы, ежели ещё поразмышлять! И Ломоносов, дав волю фантазии, думал, заворожённо глядя на мелькающие в брызгах и радуге лопасти водяного колеса.
Но вот в один шахтный двор Ломоносову ходить было невмоготу — раз побывал, и душу зажало, сдавило и не отпускает. Зашёл он по своему регламенту изучения горнорудного дела в большой бревенчатый амбар, где, как он знал, толчейные мельницы помещаются, чтобы сурмяную руду до тонкой взвеси измельчать. Взошёл и ахнул.
Десятки мельничных кругов за рукоятки, взявшись по двое, но трое, вертели маленькие детишки. Двенадцати-, десяти-, а то и восьмилетки. Со скрипом проворачивали слабые руки тяжёлые жернова, подсевали руду, отделяли взвесь. На Ломоносова глянули несколько тусклых, нелюбопытных глаз и тут же вернулись к прежнему, трудному и нудному делу. А меж мельницами прохаживался мейстер с трубкой и время от времени оделял кого-нибудь подзатыльником.
— Так неужели нельзя шкивы от водяного колеса подвести к тем мельницам? — чуть ли не сразу стал кричать дородному мейстеру Ломоносов. — Ты-то тут на што? Потрудись, сделай!
А мейстер, вынув изо рта трубку, долго и оторопело смотрел на Ломоносова, соображая, по праву ли тот кричит и не есть ли он какой новый начальник. А выяснив, что этот возмущённый человек — всего лишь студент, да ещё иностранный, произнёс лишь два слова: «Так дешевле!» Затем опять сунул в рот трубку и указал Ломоносову на дверь.
Как ни грозил Генкель, пытаясь пресечь все «посторонние» занятия студентов, Ломоносов всё же тем пренебрёг. Изучал не только химию, минералогию и рудничное дело, но и давнюю свою любовь к чтению по оставил. Но где брать книги? Уговорил фрейбергского книгопродавца Фихта давать ему книги только лишь для прочтения, с возвратом. Поклялся книги те с великой осторожностью честь и, не помяв, не порвав, без пятнышка, возвращать. А также был допущен и к чтению газет и журналов, которые приходили на имя влиятельных фрейбергских особ. Особы те газеты выписывали более для престижа, слуг присылать за ними не спешили. Газеты подолгу лежали в книжной лавке, потому Ломоносов и успевал их прочитывать.
Конечно, задарма и во Фрейберге никто ничего не делал: книготорговец также своё получить желал — счета небольшие, но и они непомерны, когда нет ни гроша. Потому Ломоносов и уговорами, и посулами, и лестью умолил того предъявлять счета за чтение не сразу и не Генкелю, а слать их в Петербург, уверяя, что там чтение сие признают и за него деньги пришлют. Но сам, уже познакомившись со скаредным характером Шумахера, особенно в свою затею не верил и думал лишь о том, что таким кружным путём счета будут ходить долго, это даст отсрочку, а отсрочка платы поможет ему со временем как-нибудь выкрутиться.
Вот благодаря всему этому осенью 1739 года он и узнал из немецких газет о блестящей победе русских войск под Хотином. Читал взахлёб, с восторгом, с гордостью за великую державу, частицей народа которой он всегда себя чувствовал. Восхищался подвигами солдат, наголову разбивших турецкие войска, штурмом взявших возвышавшуюся над местностью «преизрядную крепость» Хотин и захвативших турецкого главоначальника, «трёхбунчужного» Калчак-пашу. От сего душевного подъёма строчки стихов в уме сами складывались в победную оду:
Восторг внезапный ум пьянил, Ведёт на верьх горы высокой.Оторвавшись от чтения, помчался домой сообщить новость. Чуть ли не за грудки схватил Виноградова, ошарашил вопросом:
— Ты читал? Читал?
— Что читал, что? — не понимая, о чём речь, вырывался тот.
— А про Хотин? Не читал? Ай темнота! Виктория! Виват! Да какая виктория! Пошли, сам прочтёшь. — И потащил уже взвинченного его энтузиазмом Виноградова в лавку. Дал газеты, а сам ходил туда-сюда и комментировал победу. На следующий день и Генкелю всё в подробностях доложил, но тот скривил губы и ограничился колючей репликой о том, что студенты должны радеть о науках.
— А о войне и победных реляциях пусть дворяне беспокоятся.
И хоть подумал Ломоносов: «Ну что с сухаря возьмёшь?», но на сию реплику ответил:
— Вот, вот. У вас о победах дворяне думают, сколько дворян, столько и замышляемых побед. Оттого вся Германия ваша на княжеские лоскуты разорвана. А у нас уже давно не то! У нас победы общие, и потому держава наша во-он какая! Во! — пояснил свои слова Ломоносов, широко раскидывая руки, словно показывая необъятность русской земли. Генкель в ответ недовольно пожал плечами и, сказавши: «лякхяфтер патриот», смехотворный патриот, ушёл из комнаты.
Но радости тем Ломоносову не испортил. Просто он вспомнил предыдущие листки тех же газет. Там о России отзывались пренебрежительно, а войско её описывали как сборище «диких казаков» на неосёдланных лошадях. И что, дескать, со смертью Петра военная слава России закатилась навсегда.
— Вот тебе и закатилась! — ликовал Ломоносов. — Нет и нет! И ещё не раз вы о нас писать будете! Ибо далеко не по всему миру разлетится наша слава!
Лавровы пьются там венцы, Там слух летит во все концы.Свой восторг и подъём Ломоносов не мог не выражать стихами. Всю осень работал и закончил «Оду на взятие Хотина». Наполнил её своей гордостью за Россию, желанием её величия и славы.
Нетщетен подвиг твой и мой,
Чтоб россов целый свет страшился.Но «страшился» чтобы не ради страха живота, а ради внимания и уважения к великому государству Российскому!
Чрез нас предел наш стал широк, На север, запад и восток...«Именно через нас, — утверждающе думал Ломоносов. — Через всю Россию, через тех солдат под Хотином и немножечко и через меня. Да, и через меня, ибо я здесь, далеко от родины, пребываю не для чего иного, как лишь за-ради расширения её научных пределов». Ода была написана новым, необычным размером и не походила ни на хореическую поэзию Тредиаковского, ни на беззубые стихи вошедшего в моду Витынского[92], ни на признанные строфы Сумарокова. Стих был краток, лёгок, и ударения ради рифмы не коверкались, рифмы выбирались свободно, а не только женские, как до сих пор.
И Ломоносов почёл за необходимость всё суммировать и связно изложить. Во исполнение этого составил учёное «Письмо о правилах Российского стихотворства», которое направил Петербургской академии, но скромно, не в Конференцию, а лишь Российскому собранию при ней, где главенствовал Тредиаковский. К письму приложил и «Оду на взятие Хотина».
Но не прозрел тогда Тредиаковский, не поднялся выше личной амбиции, всё то пришло потом. А тогда отверг «Письмо», однако же «Оду» заглушить не смог. И никому это было не по силам — пошла ода в списках по Петербургу, читалась и при дворе, и в аристократических журфиксах. Проникла и в Академическую гимназию, дошла даже до семинарий — и там ныне уже не одни лишь требники[93] читали.
Да и не могло быть иначе. Кончалось средневековье, письменно и печатно оформлялся живой, современный новому веку, русский язык. И если с «Жития» Аввакума[94] началась в русской литературе проза, то с «Оды на взятие Хотина» — современная поэзия.
А жизнь во Фрейберге для русских студентов стала сурова и голодна. Еды не хватало, особенно Ломоносову, завидная комплекция которого, да ещё при том напряжении, в котором он себя держал, требовала харча довольного, и жалкий немецкий миттагэссен, обед, никак не мог его насытить. Шахтная работа и плавильные занятия драли и пятнали платье, что собаки, догнавшие цыгана. Пообносились, пооборвались. И за что всё это? Ведь работали не ленясь! Даже заезжий из Петербурга академик Юнкер[95] отписывал тогдашнему президенту академии барону Корфу[96], что русские студенты «...по одежде своей, правда, выглядят неряхами, однако же по части указанных наук, как в том убедился берграт, положили надёжное основание...».
Но и с науками, пожалуй, ныне всё было исчерпано. Генкель повторял зады, давно пройденные Ломоносовым. И тот возмущался вместе с приятелями познаниями Генкеля, выдаваемыми тем за научные откровения.
— Ну что это за профессор? Из всего тайности делает, и токмо фасону ради, буде думали, что он один всё то знает. А ведь оное знание уже во многих химических книжках описано!
И в Петербург Ломоносов писал, что Генкель «...за первые четыре месяца едва с изложением учения о солях управился, на что и одного месяца хватило бы...». Писать-то писал, да на понимание не надеялся: Шумахеру жаловаться, что против ветра плевать. Сам же и оплёван будешь.
К тому же ещё недавно Ломоносов узнал, как тоже обучавшиеся у Генкеля молодые немцы из влиятельных семей, фон Кнехт и магистр Фрейслебен, платят ему за всю химию только по сто талеров.
— А с нас дерёт столько, что нам и на пропитание не остаётся! — громко возмущался Ломоносов, пререкаясь с хозяином трактира, который, разводя руками, объяснял, что, сколько ему платят, столько он и еды им даёт.
Всё это несомненно дошло до Генкеля, и он, и так-то будучи подозрительным, теперь стал мстительно придираться к Ломоносову, изводить мелкой докукой, недостойными поручениями, будто мальчишку-подмастерье, а не мужа, довольно уже учёного. Из всей лабораторной науки ему много дней доставалась только одна: растирать в ступе ядовитую сулему.
Оголодав и разозлившись безмерно, сговорились и все втроём пошли к Генкелю объясняться. Открыли дверь квартиры, но там гурьба расслоилась: Ломоносов, естественно, впереди, а приятели, опаской переполнившись, отошли назад. Генкель встретил делегацию хмуро и настороженно. Он сразу догадался, о чём пойдёт речь, и думал лишь, как бы не себя, а студентов обвиноватить.
Ломоносов от лица своего и остальных начал о харчах и прочем довольствии, но Генкель увёл к тому, будто они занимаются не тем, что он, берграт и их начальник, им предписывает, а чем им вздумается! Ломоносов платье изорванное своё и друзей показывает, а Генкель свернул на дерзость и непослушание. Ломоносов потребовал увеличить сумму денег на их содержание за счёт чрезмерной доли, забираемой Генкелем себе за лекции, Генкель, взъярившись, в ответ стал кричать и ругаться. Слово за слово, и вот уже Генкель заявляет, что сейчас пошлёт за городской стражей, дабы наказать непокорных, ибо это уже есть бунт!
Не убоявшись, Ломоносов хотел было и дальше наступать, но приятели, Райзер и Виноградов, услыхав о страже, задёргали его за фалды, зашептали в ухо, что лучше уйти, не то худо будет. И тут же задом в дверь и упятились. Ломоносов даже оглянуться не успел, как один остался.
Ну что? Нападать на Генкеля дальше? Тот и так уже в крике зашёлся. Обвинит в бесчестии, за свидетелями дело не станет — угодишь в тюрьму. А что тюрьма, карцер, во Фрейберге есть, Ломоносов твёрдо знал: что же это за город, да ещё немецкий, без тюрьмы? Порядок есть порядок.
И потому укоряюще покачал в ответ на крик профессора головой и токмо и позволил себе смачно плюнуть тому под ноги, а боле ничего. Повернулся и ушёл.
Не просто ушёл Ломоносов, а навсегда. Из Фрейберга, от Генкеля, от видимости занятий науками, кои уже постигнуты, и ничего научного в них уже не находил. Поступил решительно, как всегда поступал, хотя и немалые тяготы тем на себя возложил. Но потому-то он и сделался тем Ломоносовым, который вошёл в века, что никогда не боялся решать. А решив что-то, соответственно и поступал — решительно и твёрдо!
План Ломоносова был прост. Разрубив одним ударом узел фрейбергских противоречий, он намеревался сообщить о том русскому консулу в Саксонии, барону Кайзерлингу. А потом просить того помочь ему вернуться на родину. Домой, в Россию. Там работать, там далее заниматься науками, приносить пользу. А иждивенцем жить, на чужбине обретаться — хватит. Он уже довольно обучался у других, пора и самостоятельно работать. Да и сам он других уже поучить может. По слухам, консул находился на весенней ярмарке в Лейпциге, и Ломоносов отправился туда.
Со всех сторон Саксонии, да и не только оттуда, а почитай со всей Германии, к Лейпцигу на ярмарку стекался народ для торговли. Ехали телеги на больших и хорошо смазанных дёгтем колёсах, груженные разными товарами. Везли тюки сукон и холстов из Польши, рогожные кули со знаменитым чешским хмелем, с коим так чудно бродит пиво, из Пльзени. На возах, запряжённых парами кормленых битюгов, громоздились мешки с зерном или мукой, бочки с вином, маслом и иной снедью. За возами, привязанные верёвками, шли коровы, назначенные на убой; в решетчатых фурманах визжали свиньи в поросята. Около возов шли степенные бауэры в шляпаx и с трубками во рту, белых рубахах, торчавших из-под чёрных жилетов. По реке Плейсе, вниз по течению, шли на шестах плотно связанные плоты из франконского леса. Из него в Лейпциге делали многие деревянные вещи, а из обрезков — кремоватую атласную бумагу, коей так много в лейпцигских печатнях потребляли.
Однако по сравнению с русскими, а особенно малороссийскими ярмарками, которые Ломоносов повидал в юности, когда ездил из Москвы в Киев, было меньше шуму, криков и веселья. Не плясали цыгане, не вертели карусели, не ловили воров, и пьяные мужики не бились на кулачках. Но торговые дела никогда особо Ломоносову интересны не были. Потолкавшись день, выяснил, что Кайзерлинга в Лейпциге нет. Вроде бы отбыл из Лейпцига в Кассель на торжества по случаю бракосочетания принца Фридриха Прусского[97]. А до того Касселя вёрст не менее чем сто пятьдесят с гаком. Надо идти туда, а чего жевать? Денег-то нет!
Покрутился Ломоносов, подумал и решил, что даром разве он учился, ежели при своих познаниях, да на ярмарке, не сумеет на хлеб заработать. Стал приглядываться. И усмотрел, как в скотном ряду крестьяне коров продают, спорят об упитанности, часами торгуются, а доказать, что та или эта корова дороже, потому как тяжелее и мяса в ней больше, не могут. Токмо на глазок да на ощупь прикидывают и ещё кто кого переспорит.
— А вот как я их вам точно взвешу? — заявил Ломоносов.
— Таких больших весов нету, — ответили ему и отмахнулись: чего говорить о том, чего нет.
Но Ломоносов уже загорелся, да и есть больно хотелось. На имевшийся грош взял в пользование на лесной бирже топор, лопату и три бревна. Два бревна вкопал в землю почти рядом, к ним перекладинку посредине приладил в виде высокой и узкой буквы П. Затем обрывком каната, там же, на лесной бирже подобранного, подвязал к перекладине третье, длинное и прочное бревно, в виде неравноплечего рычага с отношением плеч один к двенадцати. И рычаг тот мешочками с песком уравновесил. На короткий конец толстый канат привязал, чтобы коров под грудки подхватывать, а с длинного конца крюк для пудовых гирь привесил и для более мелких гирь мешок. Как кончил, на другой грош, тоже на время, в аренду, взял гири в пуд, два и три и много мелких.
Часа три работал, прикидывал, вымерял. Взмок даже. А кончив, пошёл к скототорговцам, предложил коров взвешивать, и за недорогую плату. Те вроде бы и согласны, да не верят, на перекладину глядят, усмехаются. Тогда Ломоносов два шестилудовых мешка с зерном, точно вывешенных на малых весах, к удивлению собравшихся, вскинул себе на бёдра, обхватив их руками под мышками, принёс к весам и на короткий конец бревна за канат подвесил. А с другого конца пудовую гирю нацепил. И предложил убедиться — вывес точный, один пуд — двенадцать удерживает. А ежели вес неровный, у него более мелкие гири есть.
Поверили торговцы, стали подгонять коров. Подхватывали их, сердечных, канатом под грудки, от земли отрывали. И пока их вывешивали, они покорно смотрели на мир большими и грустными коровьими глазами. На сей придумке заработал Ломоносов несколько талеров и пешком отправился в Кассель — благо на еду и на ночлег в пути денег хватит.
Шёл до Касселя недолго, но, когда пришёл, оказалось, что торжества там уже кончились. Принц Фридрих с супругой отбыли в свадебную поездку, парадная шумиха улеглась, в городе было тихо и спокойно, лишь на плацу под барабанный бой репетировали фрунт и маршировали солдаты. Консула Кайзерлинга там гоже не было, а где он, никто не знал: либо Фридриха сопровождает, либо ещё куда уехал. И снова Ломоносов оказался в затруднении: куда теперь податься? Поневоле пришло на ум, что отсюда и до Марбурга недалеко — вёрст сто всего. Может, туда?
Поразмышляв, Ломоносов решил идти в Марбург. Там с Вольфом можно посоветоваться, да и Елизабету надо было увидеть. Подумал о том и почувствовал, что мысль эта его взволновала, заставила быстрее забиться сердце, закинула в душу нетерпение и желание прибавить шагу.
Во время сих странствий выпали ему приключения и похлеще. Мир во всех его проявлениях всегда был интересен Ломоносову. Как же мог он брести по Германии и не посмотреть на неё? Городов больших, окромя Касселя, правда, на пути не было, но и в маленьких Ломоносов не пропускал достопримечательностей: тут кирха заметная, здесь знатная вальцовая мельница, а там, сказали, у крестьянина четверо близнецов родилось; всё, что можно, осмотреть желательно.
Даже Лейпциг покидая, любопытством не пренебрёг, крюк сделал и в Иену завернул: не утерпел посмотреть на Иенский университет, дабы сравнить его с Марбургским. Но снаружи мало что увидишь, а изнутри — времени нет.
Когда шёл, людей не чурался: с тем поговорит, тому поможет, этому повозку в гору толкнёт, глядишь — ему по ровному и сесть в неё предложат. На ночлегах, в шинках ужиная, сходился с людьми запросто и от компаний не бегал. Из-за той общительности приключилось с ним такое, что не чаял, как и ноги унёс. Да хорошо ещё, что унёс: очень, очень это могло плохо для него кончиться.
В один из вечеров остановился Ломоносов на постоялом дворе и отправился ужинать в придорожный шинок. Шинке как шинке — обыкновенный. Внутри большая комната со столами; над всем главенствует огромный очаг. Кухонная половина, как в трактирах на Руси, не выделена; большую часть еды здесь же, на очаге, и готовят. Лишь вино не тут разливалось по кувшинам, а в погребе.
Войдя, увидел много народу в одном из углов зала — пили, ели, смеялись. Человек шесть были в мундирах, остальные кто в чём, но всем было весело. Возглавлял компанию прусский офицер в расшитом мундире, с усами и при сабле. Почему-то приход Ломоносова был встречен бурным восторгом. Офицер встал и, галантно поклонившись, пригласил к столу:
— О, как приятно видеть столь сильного молодого человека, который, наверное, много может выпить.
— Ставлю талер против дохлой мухи, что он может одним духом выпить кварту рейнского, — заявил один из военных, тоже с усами, стрелочками пересекавшими полные щёки, одетый в мундир прусского вахмистра.
— Нет, не выпьет! — убеждённо заявил второй, с большим красным носом и хмельными глазами.
«Хм! Интересно, — ухмыльнулся Ломоносов, — почему бы и не сесть, раз приглашают? Сяду», — подумал он. Ну а уж что он может выпить, это ему известно. И не тому красноносому в сём усомниться.
— Не обращайте на них внимания, — снова вежливо и обходительно, поддерживая Ломоносова за локоть и усаживая, сказал офицер. — Они немного подгуляли. Мы празднуем счастливую женитьбу нашего принца Фридриха и желаем ему долгой жизни и хорошего потомства.
— Хох, Фридрих! Эс лебе, да здравствует наш обожаемый повелитель! — раздавались возгласы гулящей компании; перед Ломоносовым оказалась кружка с вином, и он её осушил.
Если бы он оглянулся, то увидел бы, как сокрушённо покачал головой пожилой трактирщик в кожаном жилете и белом колпаке на голове, как осуждающе бормотал себе под нос:
— Канальи! Проклятые вербовщики... дьяволы! — Трактирщик почему-то не одобрял присутствия компании в его заведении. Может быть, потому, что она, хоть и явно имела силу, не позволявшую ему перечить гулякам, но зато сделала на этот вечер трактир почти пустым: многие из посетителей, заглянув в зал и увидев компанию, поспешно удирали. Вероятно, и они и хозяин знали о веселящихся что-то такое, чего не ведал доверчивый Ломоносов.
Но он не обернулся и вообще ничего не заподозрил. Пил вино и пел песни, сначала со всеми вместе, а потом и с каждым в отдельности: и с красноносым солдатом, и с усатым вахмистром, и даже с офицером при сабле.
— Гросс бауэр, гут манн, большой мужик, хороший муж-чина! — чокаясь с ним бокалами, одобрительно говорил офицер, подмигивая красноносому. Тот доливал кружку Ломоносова, и они опять пили и пели. А затем Ломоносов целовался с красноносым, убеждая того, что он, красноносый, тоже гросс бауэр. Офицер смеялся, а Ломоносов рассказывал ему, что зовут его Михайла и сам он русский. И у них в России таких мужиков много. Так что, если офицер желает, он, Ломоносов, сходит в Россию и приведёт сюда ещё много таких же больших мужиков.
— Ходить за ними не надо. А вот ты нам нравишься, ты нам подойдёшь. — И одобрительно похлопал Ломоносова по плечу, а красноносый снова и снова наполнял его бокал.
— И ты нам подойдёшь! — тоже сказал Михайла, тоже похлопал офицера по плечу и похвалил его мундир.
Офицер расплылся в довольной улыбке и тут же сказал, что для такого вежливого и умного молодого человека ему не жаль мундира. Снял мундир и стал надевать на Ломоносова. Мундир на того не полез, поэтому его накинули ему на плечи, скрепили на шее витой золочёной шнуровкой и перевязали в талии поясом. В знак же своей искренней дружбы офицер повесил ему через плечо также и свою саблю.
Снова пили и кричали «хох». А Ломоносов кричал «ура» и довольно опасно размахивал саблей, пока у него не отняли клинок, оставив на нём лишь одни ножны на перевязи. Трактирщик подавал вино и, отойдя за стойку, осуждающе морщился. И снова что-то бормотал про себя.
Потом перед Ломоносовым оказался чистый лист бумаги, и он доказывал не верящему в его учёность офицеру, что может говорить и писать на разных языках. И действительно, на семи языках: русском, немецком, французском, английском, итальянском, латинском и греческом — написал, что все присутствующие здесь — очень хорошие люди, в чём и подписывался. А затем подписал и ещё какой-то лист, и уже до того весь кем-то сверху исписанный. Это вызвало бурю восторга. Офицер кликнул трактирщика и заявил, что теперь уже сей молодой человек — Лом-софф, Ломо-и-софф, — никак не справляясь с трудной для него фамилией, говорил офицер, — так вот он теперь угощает и за то платит.
В руке у Ломоносова почему-то оказались деньги, и он сразу неё отдал их кабатчику. Но тут офицер заставил кабатчика тоже подписаться под той же бумагой.
— Чтобы он не отказался, что взял у тебя деньги за вино, — пояснил он Ломоносову. — А то они все такие плуты! — Кругом засмеялись, и Ломоносов засмеялся. Лишь трактирщик, тихо проговорив что-то вроде «Несчастный дурак», подписал бумагу и ушёл за вином, ещё более мрачный, чем до этого.
Куда потом пошли, как он, Ломоносов, оказался там, где проснулся, — не помнит. А утром, придя в себя, с похмелья больной, голова трещит — понять не мог, где находится. Ощупал голову, потёр виски, почесал затылок и грудь и тут обнаружил, что на шее у него узлом завязан красный галстук. Не сразу сообразил, зачем он, но всё же вспомнил, что так в Пруссии помечают новобранцев, принятых в военную службу. Сообразил и ужаснулся.
— Ах, мать честная, вот это попал! — испуганно охнул он, вскочив с подстилки, лежавшей прямо на полу и заменившей ему этой ночью постель. В сердцах сдёрнул с себя галстук, скомкал его и сунул в карман, хотя и понимал, что тем ничего не изменит. Потом огляделся.
Кругом были прочные каменные стены. Сквозь зарешеченное окно без стёкол пробивались лучи утреннего солнца. На полу вповалку спали вчерашние весёлые собутыльники, те, что тогда не были в мундирах. У всех на шеях повязаны такие же галстуки. «Стало быть, и их забрали вчера. Но неужели же они, как я, ни о чём не подозревали?» — подумал он. Люди храпели, иногда шевелились и вскрикивали, будто от страшных кошмаров, натужно дышали в тяжёлом похмельном сне.
— Эх попал, — мотая головой и хлопая руками по бёдрам, сокрушённо корил себя Ломоносов. — Ох влип!
Через малое время дверь отворилась, и вошёл вчерашний вахмистр, в мундире, шляпе и с тростью в руке.
— А, приятель! — сказал он Ломоносову. — Ты уже поднялся? Молодец! Ну а этим лежебокам мы сейчас поможем проснуться. Встать! — резким начальничьим голосом заорал вахмистр и ногами стал колотить спящих, чтобы они быстрее поднялись. Затем, взглянув ещё раз на Ломоносова, вдруг строго спросил:
— А ты почему галстук снял? Надеть сейчас же!
— Это пошто же я буду его носить? — возмущённо возразил Ломоносов. — Я вам не солдат и в службу не нанимался.
— Как не нанимался? — возмутился вахмистр. — А кто вчера бумагу подписал у поручика, а потом на полученные деньги вино пил и других угощал? Разве не ты? — И, видя недоумение и несогласие Ломоносова, снова заорал:
— А ну, надень галстук, скотина! — и огрел Ломоносова тростью по голове. Огрел и тут же отскочил к двери.
Дёрнулся Ломоносов от неожиданности, вспылив, бросился было на вахмистра, но тот уже кричал в дверь:
— Солдаты! Ко мне!
Мгновенно Ломоносов сообразил, что даже своей немалой силой он ту вражью силу не одолеет. Изломают они его, и не будет он тогда ни на что годен. Нужно применить силу ума, ею он сильнее и потому смирился, надел галстук и спокойно отошёл в угол.
— Вот так-то! — удовлетворённо сказал вахмистр, погладив усы. — Будешь всегда таким же умным, дослужишься и до вахмистра.
Солдатская служба в те поры в Германии была делом не сладким. Войско набиралось из наёмников, и на службу людей залучали специальные вербовщики любыми способами. Особое внимание уделялось поискам людей высокого роста, к которым Фридрих Прусский питал большое пристрастие и комплектовал ими свою гвардию. Были среди наёмников и такие, которые по своей воле запродавались, спасаясь либо от нужды, либо от долгов, либо от кары и мести владык мелких земель, из коих и состояла тогда Германия. Но не брезговали вербовщики и обманными путями, ложными посулами и опоем.
И уж коли завлекли, залучили, коли ты подписал бумагу, то всё. На целую жизнь попал в кабалу. Только ежели на войне убьют али покалечат — иного выхода из солдатчины нет. А ежели убежишь и поймают — смерть! Забьют шпицрутенами, сквозь строй гоняя, дабы другим было неповадно.
Целый день Ломоносова на плацу учили фрунту. Наука сия, как объяснил вахмистр, сложная, и потому начали её с самого простого: весь день то тянулись но стойке «смирно», то по команде поворачивались кругом. Для разминки заставляли бегать и ползать на брюхе. Вахмистр поучал их, что через полгода такой науки они её постигнут даже и в том случае, ежели головы у них набиты не мозгами, а собачьим дерьмом, что, по твёрдому убеждению вахмистра, скорее всего так и есть.
Но у Ломоносова голова всё же была наполнена совсем не тем, чем уверял вахмистр, и потому он думал и во время тех военных экзерсисов внимательно оглядывал крепость и её окрестности.
Нужно бежать! Но днём он всё время на виду, кругом солдаты, днём не убежишь. Бежать можно только ночью. И Ломоносов, старательно исполняя солдатские сикурсы, нетерпеливо ждал конца дня.
Наступил вечер. Новобранцам дали жидкий ужин — гороховой похлёбки с фунтом хлеба, затем опять привели в ту же караульню, где они спали и первую ночь. На этот раз Ломоносов очень внимательно её осмотрел. Всё было то же, каменные стены, окна с решёткой. Перемены коснулись лишь подстилок — их переложили на деревянные топчаны и дали набитые сеном подушки. Дверь, как убедился Ломоносов, была крепка — её не выломать. Окно выходило прямо на старый крепостной вал, по которому прохаживался часовой с ружьём.
Ломоносов осторожно, дабы не привлечь внимания остальных, подёргал толстую деревянную решётку окна, на вид казавшуюся очень прочной. И, о счастье, — в нижних концах перекладин решётки, где они входили в каменный подоконник, дерево от влаги подгнило, и Ломоносов почувствовал, что, ежели на решётку хорошо навалиться, её можно и выломать. Заметил это себе, но виду не подал. У него не было никакой охоты посвящать в план побега своих компаньонов по солдатчине: он не забыл, как предательски они вели себя вчера в шипке, когда офицер стал его завлекать и одурманивать. Могли бы ему и знак подать: ведь они-то знали, что делается, ибо запродались добровольно, хотя кое-кто из них днём уже горько каялся.
Потому Ломоносов решил бежать один. Заранее поставил свой топчан прямо под окно, чтобы никто не пересёк дорогу. Улёгшись, долго ждал, когда соседи захрапят. Потом ещё слушал, как затихают звуки в крепости: перестали слышаться крики солдат, топот лошадей, бряцание оружия; лишь за окном время от времени раздавались шаги проходившего часового.
Когда всё угомонилось, Ломоносов тихо встал, натянул кафтан, обувку, влез на топчан и прильнул к окну. Выждал прохода часового и, прослушав его удаляющиеся шаги, осторожно, приложив силу, потянул решётку. Ещё, ещё чуть, и дерево вдруг слегка хрустнуло, и тот хруст отдался в ушах, казалось, прогремев кругом великим грохотом. Ломоносов замер в испуге, слушая, не разбудил ли кого. Но соседи спали, часовой не бежал на шум по валу, всё было тихо.
Нажал ещё, ещё, навалился со всей силой, и вот уже угол решётки вышел за подоконник. Опять прислушался, снова надавил и с ещё большим хрустом, хотя на самом-то деле он был и невелик, поломал последнюю перекладину. Слава богу, опять всё сошло, никто не проснулся. Тогда Ломоносов осторожно вынул решётку и опустил её на пол караульни. Потом сообразил, что надо бы её выложить наружу, благо там было до земли близко. И после того как вылезет, снова наживить в окне, чтобы зияющий проем в глаза не так бросался. Но перекладывать решётку не стал, боясь шума и не желая терять время.
Ещё послушал, подтянулся, перевалил через окно и тут же замер, услышав шаги часового. «Только бы он сию минуту дыры окна не заметил, а там-то уж я удеру», — затаившись, подумал Ломоносов, едва ли не молясь о том, чтобы всё сошло благополучно.
И снова часовой прошёл, ничего не заметив. Ломоносов ползком перебрался через невысокий, полуразрушенный временем вал, переполз через сухой ров и, пригибаясь, стараясь ступать в темноте как можно тише, двинулся к лесу, который приметил ещё днём. Первые минуты едва сдерживал себя, чтобы не выпрямиться и не побежать, но, когда отошёл футов на пятьсот-шестьсот, уже не таясь, кинулся со всех ног. И бежал так долго, сначала по лесу, потом по какой-то дороге, ориентируясь по звёздам, время от времени переходя на быстрый шаг, чтобы не задохнуться.
Шесть-семь вёрст пробежал, как вдруг услыхал со стороны крепости гул пушечного выстрела: «Тревога! Значит, часовой-таки заметил окно, и меня хватились», — охнул он про себя и наддал ходу.
Географию тех мест Ломоносов в общих чертах представлял и решил держать путь на Марбург. Вспомнил, что по какой-то счастливой случайности, когда пьян был, вроде бы о Фрейберге, откуда шёл, болтал, а о Марбурге не заикался. Стало быть, преследователи вряд ли составят погоню на юг. Скорее всего на юго-восток, к России и Фрейбергу, либо на северо-запад, к голландской границе.
И всё же постановил себе Михайла пока идти лишь ночами, а днём в лесочках отлёживаться, отсыпаться. Так и делал, предпочитая голод терпеть, но к людям не выходить, лишь бы только не попасть опять в руки солдат.
Лишь далеко уйдя от места своего полонения и приблизившись к Марбургу, немного успокоился, позволив себе поверить, что оное приключение закончилось благополучно. Но ещё долгое время корил себя Ломоносов за легкомыслие, ругал за необдуманную доверчивость и постановил: выводы из сего зарубить себе на носу на всю жизнь.
Марбург встретил изгибами знакомых улиц, видом засевших в памяти островерхих домов, а когда проходил мимо старых стен университета, стало грустно из-за того, что всё это уже позади, в прошлом. Стараясь избегать многолюдства и знакомых, ибо вид имел непрезентабельный, а жалко выглядеть не хотел, Ломоносов добрался до квартиры Вольфа.
Встрече старик обрадовался, обо всём расспрашивал, но понял Ломоносов, что и он для Вольфа тоже в прошлом. А когда узнал Вольф о ссоре с Генкелем, посуровел, опять по своей манере поджал губы и расположения не выказал. Явно увиделось, что Вольф в это дело мешаться не хочет. Не желая портить своего прежнего мнения о нём, Ломоносов ни о чём его не попросил, дабы не испытывать отказа, ничем Вольфа не обременил. Только лишь умылся у него, как мог, почистил платье и пошёл в дом фрау Цильх.
Подходил медленно, не давая воспоминаниям овладеть собою, сдерживая себя и приглядываясь. Вошёл в дом и ощутил, будто в этом доме что-то изменилось. А может быть, не в доме, может быть, это он сам изменился и ощутил разницу между собой нынешним и тем прошлым Михайлой, которого здесь оставил?
Фрау Цильх сначала побледнела, потом вежливо, но холодно пригласила проходить, ни о чём не спрашивая, и пошла за Елизабетой. Замер Михайла, губу прикусил в нетерпении, а та не появлялась долго. Но выбежала, улыбающаяся, повзрослевшая. С восклицанием: «Ах! Вас фюр айн иберрайшунх! Какая неожиданность», — бросилась на шею, стала обнимать Михайлу, целовать, прижимаясь знакомым, тёплым и податливым телом.
И он размяк, истосковавшись по ласке, отпустил натяг души и согрелся, почувствовав привязанность и влечение к нему этой молодой женщины; на минуту почувствовал, буде чуть ли не домой пришёл. Нежно гладил заплакавшую Елизабету по волосам и щекам, утирал слёзы ей и себе и радовался тому, что есть и здесь, на чужбине, крохотный уголок, где он нужен и его ждут.
И потому почти без размышлений принял, едва ли не мимо ушей пропустил, звенящие слова стоявшей здесь же фрау Цильх о том, что она не потерпит более в доме постороннего мужчину, который позорит её дочь. Что она не может долее терпеть её обиду и пересуды соседей, И что он, как благородный и учёный человек, должен узаконить их отношения и обязан жениться на Елизабете.
— Да, да, конечно, — растроганно говорил Ломоносов, глядя в глаза Елизаветы, до того смотревшие на него сияющим взором, а после слов матери опять вдруг заполнившиеся слезами, но уже не радости, а печали.
— Да, конечно, конечно... я должен... я женюсь, — едва ли не машинально, не вдумываясь в эти слова, в их последствия, но лишь подчиняясь минуте, желая только одного — изгнать печаль из затуманенных глазок Лизхен, отвечал он.
Подумать бы Ломоносову, поразмышлять, как всегда делал. Приглядеться бы, прежде чем решать столь важное, но устал он очень. И в той усталости, хотя и был всю жизнь твёрдым, здесь размяк, снял у души обручи воли, расслабился.
И сразу всё стало легко. Заулыбалась фрау Цильх, закружилась, защебетала радостно Елизабета.
Пришедший вскоре негоциант Рогеман доверительно беседовал с Ломоносовым, одобрял его верное решение о женитьбе и советовал не придавать значения прошлым огорчениям во Фрейберге.
— Это всё есть кляйнихькайт, пустяк. Забудьте! — говорил он, моргая подслеповатыми глазами, хвалил невесту и, не чинясь, сразу же ссудил деньгами, велев о процентах не беспокоиться.
Свадьба состоялась незамедлительно, на следующей неделе, но была скромной. Михайла как бы со стороны наблюдал сам за собой, одетым в почти новый чёрный камзол и белые чулки, справленные на деньги Рогемана. За оживлённой невестой в белом платье при фате видел и не видел солидного Рогемана, каких-то полузнакомых и совсем незнакомых свидетелей и гостей.
Пастор, в чёрном одеянии с белым галстуком-воротничком, в непривычно голой реформатской церкви, как в театре, заставленной некрашеными скамьями с высокими и прямыми спинками, прочёл что-то по книжке, без венцов над головами, без пения, без возгласов и без «Исайя ликуй!». Уж больно просто всё было, буднично, не по русской традиции, а потому будто бы и не всерьёз, а понарошке.
Ну да чего там говорить! Не позволял себе думать о том Ломоносов, как бы отрешился от всего. Потом потекло застолье, весёлая Елизабета, сидя рядом, подкладывала ему лучшие куски, любовно оглаживала на нём то воротник, то складочку, и снова всё было легко и приятно.
Так же, в лёгком тумане, прошёл и медовый месяц; никуда далеко не ездили, свадебные путешествия — это для аристократов. Но много гуляли, катались на лодке по реке Лан. Ломоносов весело и споро грёб вёслами, будто хвастая сноровкой, приобретённой в юности, а Елизабета, сидя под зонтиком, опускала в воду руку и брызгала на Михайлу тёплой речной водой. Вечерами купались в укромных местах, строго соблюдая, чтобы друг на дружку не смотреть и не дай бог чего-либо недозволенного не увидеть. Даже совершили прогулку за тридцать вёрст на вершину Фогельсбарга и с высоты почти трёх тысяч футов озирали окрестности. И порой им казалось, что мир замкнулся в их радости и покое и эти радость и покой растянутся на всю жизнь.
Быстро пролетел месяц, быстро кончилась единственная в жизни Ломоносова вакация. Не отпускал он себя от работы и устремлений никогда до этого, не отпускала и его работа от себя и потом, всю его последующую жизнь. Но этот месяц был его, он позволил его себе в долг и с долгами потом с лихвой расплатился.
В августе состоялся серьёзный разговор. Сидели за обедом в кухне: Ломоносов, уже не пытавшийся прогнать из мыслей завтрашний день, Елизабета, вполне вошедшая в роль замужней дамы, фрау Цильх, хоть и продолжавшая держаться ближе к очагу, но время от времени встревавшая в разговор, и неулыбчивый Иге Рогеман, который этот разговор вёл и направлял.
— Майн теуер, мой дорогой Ломонософф. Пора вам подумать о настоящем деле. У вас очаровательная жена, будут дети, — Рогеман значительно поглядел на Елизабету, и та скромненько потупилась от упоминания о столь интимных делах. – Глава семьи должен обеспечить дом.
— Думаю! — сокрушённо ответил Ломоносов. — Нешто я не понимаю, что жить надо не в долг. Вот буду писать в Петербург...
— К чему это? — прервал его Рогеман. — У вас есть прекрасные возможности строить своё будущее независимо от Петербурга. — Рогеман сделал паузу, готовясь к подробному разъяснению. — Я беру вас в свою фирму. Лет десять вы поработаете у меня служащим по вопросам заграничной конъюнктуры. Будете много ездить, мир посмотрите. При вашем знании языков это самая для вас работа; мы установим связи со многими странами, развернём оптовую торговлю.
Рогеман говорил обстоятельно, разворачивая перед Ломоносовым заманивающие перспективы:
— На все посты фирмы я расставлю своих людей, преданных, надёжных. Но производить фирма ничего не будет, это хлопотно — только покупать и перепродавать. Наладим дело, капиталы вырастут, а там и компаньоном моим станете. И как знать, как знать... — задумчиво протянул Рогеман. — Ежели дела пойдут, то и фирму затем возглавите...
Ломоносов, не совсем ещё в его предложение вникнув, глядел на него оторопело. В науках всё быстро схватывал, а тут даже сразу и не понял, к чему клонится.
— Это как же так? Я же ведь наукам обучался, а не мешками с товарами торговать...
— Всякое дело постольку приемлемо, поскольку оно приносит доход, — возразил Рогеман. — Но что-нибудь и от ваших наук пригодится.
— Но как же я начну у вас служить, ежели я на родину, в Россию, должен вернуться?
Тут уже вмешалась Елизабета. Ласково прильнув к плечу и заглядывая ему в лицо снизу вверх, она проникновенно заговорила:
— Милый, ну при чём тут твоя Россия? Ну при чём? Разве тебе здесь плохо? — Она нежно потёрлась виском о его щёку, приникая к нему своей полной грудью и тёплым плечом. — Ведь хорошо же? Правда, хорошо? Ну а там, где тебе хорошо, там, значит, и твоя родина.
— О да! Человек должен думать о том, чтобы хорошо было и ему, и его семье. — От печки подала реплику фрау Цильх.
— Так это что же? — всё ещё недоумевая и не принимая смысла их слов, спросил Ломоносов. — По-вашему, я в Россию возвращаться не обязан, а могу здесь остаться?
— Ну да, милый, да! Как хорошо, что ты наконец всё понял, — защебетала Елизабета, крепко прижимая к себе локоть Михайлы. — Останься здесь, и ты увидишь, как прекрасно мы будем жить. Останься!
— Именно так. Останьтесь, и это лучшее из того, что вы можете предпринять, — опять солидно кивнул Рогеман.
Останься! Останься, и ты никогда не увидишь русских просторов, не выйдешь босиком в поле и не вдохнёшь целительного воздуха родины, напоенного ароматом спелого хлеба и диких цветущих трав. А зимой не ударит по щекам крепкий русский морозец, заставляя тебя бодрее шевелиться, быстрее гнать кровь по жилам, радоваться блесткам солнца в сугробах и скрипу снега под ногами. Будешь киснуть в здешней простудной слякоти.
Останься, и не обременят тебя порой непомерные тяготы русской жизни, потоки бабьих слёз и мужицкого пота, что так обильно льются на твоей родине. И несправедливостей, кои тебя так возмущали, ты более не увидишь. Будут чужие несправедливости, чужие слёзы, чужой пот, а свои останутся где-то там, далеко, и тебя они не тронут, и не ты будешь их искоренять.
И не возликуешь ты более, услыша о победах русских, которые тоже будут. Не сможешь громко их воспевать, ибо не принял ты в их созидании участия, бросил те победы ещё у их колыбели и потому не посмеешь радоваться им открыто. А чужим победам радоваться не захочешь, ибо они навсегда останутся для тебя чужими.
Корни твои, истоки твои останутся там, в России, а ты и потомство твоё, безо всяких корней, лишь тобою начатое, будет взрастать здесь. Дети твои станут немцами, а внуки уже никогда не постигнут родной твоей русской речи, которую ты так любил. И всё это не потому, что они этого захотели, а потому, что это ты, ты своей волею их всего этого лишил!
Ломоносов мрачнел, душой деревенея. До того казавшиеся ему близкими люди отдалялись, отгораживались будто стеной непонимания. А Елизабета, приняв его долгoe раздумье за молчаливое согласие, уже завихрилась в мечтах об их будущей жизни.
— О Микаэл, мы разбогатеем, у нас будет всего много. Заведём собственный выезд: в лакированную коляску на мягких рессорах будет запряжена пара каурых лошадей. Ты будешь на прогулках иногда править ими, но для содержания их мы наймём конюха.
Даже суровый Рогеман одобрительно, едва ли не улыбаясь, наклонял голову, а фрау Цильх, оставив очаг и севши за стол, поближе к собеседникам, тоже подала реплику:
— Ну зачем же каурых? Вороные выглядят лучше.
Продолжавший молчать Ломоносов, внутри которого поднимался гнев, раздувая ноздри и вцепившись руками в стол, остервенело глянул на Елизабету, ещё ничего не говоря, но уже всем видом показывая, что он вот-вот скажет. Елизабета, перехватив этот взгляд, поняла его по-своему.
— О муттер, — недовольно возразила она матери. — Ну что вы вмешиваетесь! Разве вы не видите, что Микаэлу совсем не нравятся вороные лошади? Правда, дорогой? Но зачем спорить? Ты сам выберешь лошадей; какие тебе понравятся, тех и возьмём.
«Каурые, вороные, серые в крапинку!.. А к ним и меня впристяжку?!»
Свирепо вытаращив глаза и скривив губы в яростной гримасе, Ломоносов с силой трахнул по столу кулаком. Посуда подпрыгнула, две чашки, упав на пол, разбились, отброшенная Елизабета откинулась к спинке стула. Тут же вскочив, он громко закричал:
— К чёрту!.. Чтобы я здесь остался?.. Да вы што!.. — Испуганный визг Елизабеты перекрыл резкие слова Рогемана, но Ломоносов, не слушая их, громко выкрикнул:
— Нет, милая! Это не я здесь останусь, а ты, жёнушка, со мной поедешь!
И снова услышал визг Елизабеты, но уже осмысленный:
— Нет! Нет! Никогда!.. Не поеду! Ты дикий медведь! В твою грязную Россию!.. Ни за что!.. — Она вскочила, отшатнулась, её так недавно ещё такие нежные глаза смотрели теперь враждебно и непримиримо, покрасневшее лицо сделалось злобным и чужим.
— Не забывайте, герр Ломонософф, что вы ещё и в долгах! — громко вмешался Рогеман. — А для несостоятельных должников у нас есть долговая яма! — Его отвислые щёки затряслись, как у рассерженного бульдога, покрасневшее лицо пошло пятнами.
— Да, да! В яму его, в яму! — забилась в истерике Елизабета, бросаясь к матери. — Пусть поваляется там... одумается в тюрьме! Не хочу в Россию!
Три пары глаз с отвращением и злостью смотрели на Ломоносова, три рта выплёскивали в него поучения, ругательства, упрёки. Три голоса хором грозили ему карой за то, что он поступает не так, как они хотят, как у них принято, как делают, по их мнению, порядочные люди. Видя это, видя, что его слова не будут ни приняты, ни поняты, сколь бы он ни старался, что живут они по другим меркам, нежели он, Ломоносов уже почти спокойно и твёрдо произнёс только одно:
— Моё желание вернуться в Россию неизменно! Для этого я сделаю всё возможное! — И, не считая нужным дальнейшие споры и объяснения, покинул помещение, но пошёл не в спальню жены, а наверх, в свою бывшую комнату. Там запёрся и, не отвечая на стуки и крики Елизабеты, лёг и постарался заснуть.
На следующее утро, ещё до рассвета, по-тёмному, когда все спали, Ломоносов, ни с кем не простясь, ушёл из дому. Опять решительно, опять круто. Как всегда в переломные моменты своей жизни, он просто брал и уходил из прошлого в будущее. Это в науке он всё вымерял и прикидывал, всё тщательно и по многу раз взвешивал и рассчитывал, ибо там взвешивается природа, существующая вне его, и то, что взвешено, остаться должно на века. А жизнь его коротка, она сама лишь частность в природе, и от её изменения в той ничего не нарушится, потому с собой и может он поступать так, как желает, как просит душа, лишь бы это было правильно с позиции сердца и разума и не вредно людям.
Так поступил он в первый раз, когда, ещё отроком, тайно ушёл из Холмогор, бесповоротно решив учиться. Второй раз, никого не спросясь и ничего не боясь, ломая прошлое, ушёл из Фрейберга. И сейчас, уже в третий раз, не имея иных способов выбраться из пут, в кои вольно или невольно, но таки попал, снова рывком сбросил их, отринул прошлое и ушёл. Ушёл, по велению сердца, не к лёгкой жизни, но лишь ради единства душевных устремлений со своим будущим. Ушёл искать пути на родину, в Россию,
А путь домой был долог и непрост, опасностей сулил немало, в чём ранее Ломоносов уже мог убедиться. И он решил, по возможности, стеречься, дойти до русского консула, теперь уже в Голландии, графа Головкина, для чего ему надо было добраться до Гааги. Там он Головкину всё объяснит и получит помощь для возврата на родину. И снова по задуманному не вышло.
Разное испытал Ломоносов, добираясь до Голландии. Нашёл там Головкина, с трудом набился на аудиенцию, но тщетно. Ничего Головкин не понял, а вникнуть, разобраться не захотел. Наоборот, стал орать, что Ломоносов студент нерадивый и от наук бежит.
И это ему-то, Ломоносову? Спросить бы тебя, вельможа обзаграниченный, а не зажился ли ты здесь, русскую державу собой замещая? Пошто от важности раздулся, буде сам ты есть лицо России? Спросить бы... Да нельзя! Маленький ты покуда человек, Михайла, и потому покорись и уйди.
Но надо сказать, что по шаблону, приложимому ко многим, Головкин был не так уже не прав. Немало дворянских детей, посланных для учёбы за границу, всеми правдами и неправдами норовили от наук отлынуть и часто, сказываясь больными и умственно немощными, одолевали просьбами вернуть их домой. К мамкам, нянькам, лакеям и ленивому безделью, с одобрения сиятельного папеньки и любезной маменьки. Ломоносов же был не как все, он был исключительным, а вот этого-то Головкин как раз и не понял.
Уйдя от Головкина ни с чем, кроме наказа вернуться в Марбург и ждать изволения Петербурга, Ломоносов решил отправиться в Амстердам и там попытать счастья морем вернуться в Россию.
Придя пешком из Гааги в Амстердам, Ломоносов сразу же пошёл в порт. Ходил по причалам, дивился множеству кораблей из разных стран, слушал разноязычную речь, дышал солёным морским воздухом, тянувшим от залива Зюйдер-Зее. А на тех кораблях хоть куда уплыть можно, хочешь в Индию, хочешь в Африку, хочешь в Америку — да вот беда, ему только в Россию надо, и более никуда. И вдруг услыхал русский говор, да с родным северным оканием. Схватил за рукав бородатого мужика, закричал:
— Милый, ты кто? Ты откуда?
Подозрительно отстранившись, мужик ответил:
— Мы-то поморы, товар привезли. А вот ты кто — незнамо! — Рядом стоял второй бородач и также с сомнением оглядывал Ломоносова, имевшего весьма потёртый вид.
— Да свой я, свой, русский! — по-прежнему, радостно подаваясь к землякам, убеждал их Ломоносов.
— Не всякий хват ухвату брат, — снова, сторонясь, ответил мужик, и оба хотели было уйти, но Ломоносов не отпускал, шёл за ними, горячо рассказывая о себе.
Смилостивились мужики, привели на свой корабль, под названием «Гавриил», пришедший из Архангельска и названный так по имени архангела Гавриила, которого северные поморы чтут. Там кормчему представили.
Рассказывал Ломоносов свою одиссею, просил взять с собою в Россию. Долго думали мужики и почти то же, что и Головкин, порешили.
— Ты, Михайла, человек подневольный, — поглаживая бороду, уже не сурово, а с душой говорил кормчий. — Тебя сюда служить послали...
— Не служить, а учиться, — поправил Ломоносов.
— Учёба — тоже служба. Послали тебя служить-учиться, так ты и служи честно.
— Да выучил я уже всё, что здесь можно выучить и что мне было предписано. Даже более...
— Это уж пусть начальство решает, что выучил, — весомо ответил кормчий. — Ну подумай, вот я, кормчий, разве соглашусь, чтобы какая салага али бо даже статейный матрос сами решали, что они свой урок довольно выполнили? — насмешливо спросил он. Бородачи кругом той несуразице заулыбались, а кормчий сам же и ответил: — Уж нет. Это я решаю! А почнут перечить — не потерплю! Вот и у тебя то же. Решит начальство твоё, что ты урок выполнил, — отзовёт. А самовольничать не надо — места лишишься!
Неожиданно кормчий, высказав главное, ударил по больному, по тому, чего Ломоносов сам боялся более всего — лишиться места в Академии наук. Знал ужо, что Шумахер не больно к россиянам расположен. Черкнёт пером, и вылетит Ломоносов из академии, ещё и не попав в неё толком. Не лучше ли в самом деле подождать? Уж ежели академическое начальство само его вызовет, а рано или поздно ведь вызовет, не спишут же его здесь, в Германии, то уж тогда его не за что будет выгонять. Деньги на него затрачены, а отчитаться за науки он с лихвой может в любое время.
Снова смирился Ломоносов, самовольно в Россию не поехал. Всю зиму инкогнито жил, чтобы заимодавцы за горло не взяли. Перебивался случайными заработками и писал, чуть ли не каждую неделю, слёзные письма в Петербург. Трудно это было, вспылить и ударить легче. Но всё мог Ломоносов ради дела, ждал терпеливо, находя утешение лишь в занятиях теоретической физикой. И наконец весною 1741 года он получил разрешение вернуться в Петербург. Наконец-то!..
Всё это вспомнил Ломоносов, получив извещение Шумахера о намерении жены его Елизаветы приехать к нему в Россию. Всё вспомнилось, но не всё всколыхнулось... Наверное, уже отошло волнение крови, и сердце не забилось в радостном предвкушении свидания. «Ну да ладно. Здесь не Германия. Здесь она будет вести себя так, как надобно, как я укажу». И снова подтвердил свои слова: «Пусть приезжает».
Елизабета приехала. Она прожила затем с Ломоносовым всю жизнь, родила ему дочь и, хоть была моложе, умерла, пережив его ненадолго. Вероятно, она Ломоносова всё же любила, раз решилась покинуть ради него отчий дом и уехать в чужую страну. Вероятно, она таки стала для него тем, чем он хотел, и наверняка стала русской и по языку, ибо дома Ломоносов не терпел нерусской речи, и по духу. И вряд ли иначе могло быть, ибо он был слишком силён и сам был олицетворением русского духа.
Но более никакие заметные события в жизни Ломоносова с его женою не связаны, и в его письмах, документах и сочинениях упоминаний о ней практически нет. Но именно за то, что она всю оставшуюся жизнь провела скромно, в тени великой фигуры, Елизабета достойна добрых слов потомков.
Глава 3 ЗАКОН ЛОМОНОСОВА
Ежели где убудет несколько материи,
то умножится в другом месте...
Сей всеобщий естественный закон простирается
в самые правила движения...
М. Ломоносов
С диссертацией Ломоносова было много заминок. Долго мытарили её по Конференции, до публичного зачтения более года не допускали. Но Ломоносов соблюдал совершенное спокойствие, начальству глаза не мозолил, как и всегда, по всем поводам имел своё мнение и высказывал его прямо, но признания в профессорском звании особо не добивался. Всё своё время проводил в закуте, который выгородил наверху в физическом классе под непризнанную пока химическую лабораторию. И тем вводил в сильное смущение и Шумахера, и других немцев: «В чём дело? Не отнёс ли он тайной жалобы в Сенат или императрице? И ждёт решения: уж больно спокоен».
Шумахер донял бы Теплова вопросами, но тот опять отбыл с Кириллой за границу для евойного дальнейшего образования и приобщения к политесу. И потому сочли за благо диссертацию пропустить. Сильно не вникая в смысл и споров не затевая, общим согласием определили, что моменты, изложенные Ломоносовым в диссертации, достойны признания и присуждения ему профессорского звания. И, «в небытность в академии президента», подали в Сенат доношение о производстве Ломоносова в профессоры.
Указ о том, вышедший летом 1745 года, Ломоносов принял как должное, в работе не убавил и лишь потребовал, чтобы ему официозно, актом закрепили учеников: Протасова и Широва. А Степан Крашенинников тем же указом был произведён в адъюнкты.
Не обошлось и без курьёза, в который Шумахер по зловредности попал сам. Тайно, не говоря о том Ломоносову, он послал его диссертацию в Берлин Леонарду Эйлеру. И намекнул в письме на желательность кислого отзыва, надеясь, что Эйлер не подведёт. Но ошибся. Эйлер был большим учёным. На мелочи не разменивался и к подлости тяги не имел. В своём ответе он написал: «Все сии диссертации не токмо хороши, но и весьма превосходны... И я совершенно уверен в справедливости его изъяснений... Желаю, чтобы и другие академии в состоянии были произвести такие откровения, какие показал Ломоносов».
Шумахер был обескуражен и то письмо решил скрыть. Однако письмо проходило через канцелярию и, таясь от Шумахера, Иван Харизомесос показал его Ломоносову. Ломоносов долго смеялся над кознями недруга, но сам очень доволен был похвалой Эйлера и написал тому благодарственное письмо.
А жизнь продолжалась в трудах и раздумьях. Ум Ломоносова был теперь занят осмысливанием опытов Бойля[98]. Тот окислял свинец в колбе и взвешивал её — до опыта и после. И после опыта колба с окисленным свинцом весила у Бойля больше, отчего он и возвестил на всю Европу, что при нагревании натёк в колбу флогистон.
«Что-то в опыте нечисто», — морща лоб, размышлял Ломоносов, в который раз проводя и уточняя взвешивание и всё же действительно получая после нагрева больший вес, чем до опыта. Продолжал ладить безвоздушный колпак, но больно хлопотно с ним было: воздух всё время подтекал, разновески подкладывать неудобно — оставил колпак. Решил от воздуха запереть лишь одну колбу со свинцом. Взял да и запаял её на спиртовой горелке.
— Взорвётся, — убеждённо заявил Широв. — Воздух расширится и разопрёт колбу.
— Давай за дверь выйдем, — предложил Ломоносов, после того как точнейшим образом вывесил запаянную колбу и подставил под неё спиртовку. Оба вышли и как соглядатаи осторожно высовывались из-за угла, подсматривая за колбой. При опытах Ломоносов отмерял время большими песочными часами; из верхнего сосуда в нижний песок пересыпался ровно четверть часа. Когда песок весь пересыпался, Ломоносов перевернул часы, и оба ещё подождали. Колба не взорвалась.
Перестав хорониться, вернулись к столу и хотели было приняться за взвешивание, но, взглянув на весы вблизи, поняли, что нужды в этом не было: чашки весов не сдвинулись с места.
— Гляди! — торжествующе воскликнул Ломоносов, дёргая за рукав Широва и уставив палец другой руки на стрелку весов. — Гляди! Не прибавилось веса! А свинец-то, видишь, побурел. Значит, было горячо. А никакой флогистон не натёк!
И, радостно приплясывая, стал хлопать Широва по плечам и заключил восторженно:
— Ошибался Бойль! Нот никакого флогистона! А вес у него прибавлялся из-за того, что воздух в колбу натекал и со свинцом соединялся. Во! Давай, Лексей, пляши!
И Широв охотно плясал, дробно шлёпая себя по груди и ляжкам, вывёртывая ноги, чечекал каблуками и улыбался, огненно кося блестящим цыганистым глазом.
Река времени — одна, но течёт она для каждого по-разному. Ломоносов трудился с утра до вечера, проверял и перепроверял найденное. Не давал себе ни минуты покоя, лихорадочно отыскивал изъяны в своих опытах и рассуждениях. И вновь убеждался, что всё верно: если ничего ниоткуда не прибывало, то и исчезнуть никуда не могло. При любой реакции веса всех составляющих и общий их вес не изменялись. Пробовал разные вещества и разные условия, сам себе строил ловушки, снова переделывал ранее сделанное. Замысливал новые опыты, делал их, и на всё это времени никак не хватало. Мчалось оно для Ломоносова быстро, неудержимо; жадно хватая новое, стремясь понять и переварить узнанное, в работе не видел дней, не замечал месяцев.
Но по-прежнему неспешно, вразвалочку шло время для всей великой Руси. Взбаламученная, поднятая Петром на дыбы, держава успокаивалась, жизнь потихоньку сползала к старым устоям, всё стремилось вернуться к прежнему, дедовскому укладу. И хоть полностью это было и невозможно, рамки жизни расширились, и новые персоны в ней фигурировали и в новых костюмах, всё же общий тон картины тёмной, немного сонной, неповоротливой и неторопливо шевелящейся жизни не изменился.
Вновь стали ценить благолепие, тишину и неспешность. Поговаривали, хотя и осторожно, даже о том, что невредно было бы восстановить упразднённое Петром церковное патриаршество. Тем более что Елизавета была набожна, строго блюла православие, и с годами это её рвение только возрастало.
Дворцовая церковь Елизаветы блистала богатством и великолепием. Червонным золотом пылали оклады величественного иконостаса, отражая переливчатый свет множества свечей в витых серебряных подсвечниках чудесной работы. Тёмные лики святых глядели на разодетых придворных талантов неистовыми глазами. Искусные художники расписали стены и потолки, всё умилительно, по православному чину. Святые и ангелы расположены пристойно, и никаких человекоподобных болванов, как то себе позволяют католики в новомодных костелях, здесь не было и быть не могло.
Императрица стояла на клиросе и пела вместе с певчими. Регент в невысоких местах мелодии указующе приглушал хор, и по церкви становился слышен несильный, но приятный голос царицы:
«...Возлюбим Бога всем сердцем своим, всей душою своей и всем помышление-е-м... да сохранит нас Господь и покроет дланью неви-и-и-димой... И ныне, и присно, и во веки веко-о-ов!»
Молодой дворцовый поп, красавец Гедеон Криновский, в голубой шёлковой рясе, из-под коей иногда выставлялась нога в изящном башмаке с тысячной бриллиантовой пряжкой, мерно помахивая кадилом, вёл службу к завершению. Отстояли заутреню, потешили императрицу — весь двор был тут, время переходить и к мирским делам.
Православные иереи богу служат безвозмездно, по велению души. Но церковь не токмо дворцовая должна выглядеть благолепно. И другие дома божьи нуждаются во вспомоществовании, и дело то и духовное и мирское, ибо целью имеет воздействовать на души мирян, кои приход составляют. И потому после службы, следуя настойчивым наставлениям епархиального начальства — отцов Дубянского[99] и Обидоносцева, Гедеон, сводя за руку с клироса расчувствованную от службы и пения императрицу и провожая её до выхода, елейным голосом внушал:
— Явите, матушка, милость служителям божьим. И бог вас не оставит своей милостью. По выходе отсюда в малой гостиной вас ожидает отец эконом от Святейшего Синода, при нём указ заготовлен о дарении земли, так вы уж подпишите давно обещанное.
Елизавета согласно кивала сладкогласому Гедеону и даже вспомнить не пыталась, были какие обещания или нет. Да и к чему это? Дело-то божье! И потому почти весь левый берег Невы по дарственным царицы перешёл во владение митрополита Дубянского и его духовных братьев.
Нёсся над толпами верующих запах росного ладана, осеняли их голодные животы простые и чудотворные иконы, величаво били колокола, отмеряя неторопливое русское время.
Одно — для всех, но своё — для каждого.
Со временем оперялись «птенцы» Ломоносова. Вырос Крашенинников, сам стал учить студентов, осолиднел, потолстел и, увы, всё реже брался за разновесы и реторты, всё больше писал бумаг и заседал в комиссиях, от наук отрываясь. И лишь иногда грустно вспоминал о временах, когда истово мешал селитру, вдумываясь в ещё не познанные её свойства. Прочно стал на ноги Широв, но от наук не отстранился. Имея за плечами ломоносовскую школу, высказывался твёрдо; о делах научных своё мнение имел и на авторитеты уже не оглядывался. Самостоятельно продолжал решать проблему расширения тел при нагреве. Стал адъюнктом и готовился к профессорскому званию Котельников.
— Но наука безгранична, — говаривал Ломоносов, — служителей требует много. — И потому привлёк к химическим занятиям нескольких студиозов — Софронова, Фёдоровского, Клементьева[100].
— Васька, чёрт, — как-то тёплым августовским утром прокричал Широв Клементьеву, — я тебе поручал вчера нагнать дистиллированной воды! Где вода?
— Нету, — комично развёл руками Клементьев, подымая плечи и пряча в них вихрастую голову с русыми нечёсанными волосами. — Дрова кончились, а больше Шумахер не даёт.
Широв вышел из-за перегородки, где ставил опыт, и внимательно, словно только сейчас увидел его, уставился на Клементьева. Потом спросил:
— Тебе годов сколько?
— Семнадцать.
— И грамоту, конечно, хорошо разумеешь? — тихим голосом продолжил Широв.
— Ну а как же? На што я неучёный-то Ломоносову?
— Так, так, — согласился Широв. — А может, ты и топор когда в руках держал?
— Нешто нет? — с обидой ответил Клементьев. — Да только чего колоть? Вон за ту поленницу было взялся, — Клементьев кивнул через окно на большую кучу дров в углу академического двора, — так мне передали от Шумахера, что он с меня шкуру спустит, ежели я те дрова трону.
— Эх ты, цыпля желтоголовая! — с сожалением произнёс Широв. — А ещё говоришь — учёный. Когда это нам Шумахер чего по-доброму давал? Хорошо б не украл то, что мы сами добыли. Вон Нева, видишь? Бери багор и лодку. По Неве коряги и дерева плывут. Лови и тащи к берегу — вот тебе и учёное задание. Но если к вечеру перегонный куб не затопишь, то уж не Шумахер, а я с тебя шкуру спущу. — И Широв, довольный своей распорядительностью, ушёл к себе, оставив молодого соискателя наук в задумчивости и недоумении.
Но делать было нечего. Ломоносов, с утра запыхавшийся от каких-то важных дел, бегал по академии, таскал с подручными непонятные жерди и трубки к берегу, где что-то сооружали. И обращаться к нему, отрывать от дел причины не было. Потому Клементьев взял в дровяном сарае багор и направился к лодке.
Перед фасадом академии к сваям, укреплявшим берег, были привязаны несколько академических лодок — простые некрашеные дощаники, скромно уткнутые прямо в берег, и сияющий белой краской, кокетливый шестивёсельный вельбот Шумахера, стоявший отдельно, на собственном якоре.
Клементьев с сомнением оглядел один из дощаников, потыкал пальцем в законопаченные просмолённой паклей щели и, взяв лежавшую тут же деревянную пличку, стал откачивать воду. Затем кинул на дно лодки багор, надел вёсла с ремёнными уключинами на колки, отвязал лодку и оттолкнул её. Берега сразу быстро поплыли мимо, от воды повеяло прохладой и влажной свежестью; смолистый запах, исходивший от лодки, дразнил ноздри. Клементьев, бодро ухая, навалился на вёсла, и дома на берегах сначала остановились, затем медленно стали отходить назад по течению.
Клементьев грёб, окидывая глазами набережные. Вон на той стороне Зимний царский дворец, вот уже много лет всё в лесах, ближе — адмиралтейство со шпилем; его опять переделывают и наращивают. Наплавной мост через Неву почему-то разведён, хотя на улице день. Справа от Василия медленно уходит назад здание академии с высокой башенкой, а перед её фасадом различаются контуры какого-то ажурного, в два человеческих роста сооружения, около которого второй день возятся Ломоносов и три плотника.
«Ага, — только сейчас сообразил Клементьев, — так это и есть та самая иллюминация, о которой ещё на прошлой неделе говорил Ломоносов. Строят каркас, который загорится потешным огнём, а в нём где-то должны быть сплетены императорские вензели». — Клементьев всматривался в нагромождение жердей и пакетов, но всё переплеталось затейливо — не разберёшь. До берега было уже далеко, и Клементьев, так ничего и не поняв, занялся тем, для чего поехал, — поисками плавника на дрова.
Через некоторое время попалось первое дерево, шуршавшее некогда хвоей где-то в дремучих лесах далеко на Ладоге, затем павшее от старости, и вот теперь вода тащила его скелет в море, где оно бы долго странствовало по воле волн, пока не приткнулось бы гнить на каком-нибудь пологом северном берегу.
Василий зацепил ствол багром, привязал к суку верёвку и, упираясь, с трудом потащил его к берегу. Здание академии приближалось медленно, Клементьев посетовал, что взял слишком мало вверх по реке, и потому последние сажени ему пришлось тащить, изо всех сил налегая на вёсла, почти против течения. Он вспотел, рубашка стала мокрой. Но всё же молодая сила и упорство пережали напор воды, лодка ткнулась в сваи, на которые Василий, перебежав с кормы, накинул носовой конец. Коряжистый ствол сплыл вниз, развернув лодку, и привалился к берегу, упёршись ветками в дно и сваи. Вода быстро обтекала дерево, образуя струящиеся водоворотики и завихрения.
«А не так-то легко мне будет вытянуть его на берег», — подумал Клементьев и, словно ища поддержки, оглядел берег и окна академии.
По берегу, от своей стройки, весело улыбаясь и помахивая рукой, шёл Ломоносов и с ним один из плотников.
— Э-гей, Василий! — услыхал Клементьев зычный голос Михайлы Васильевича. — Сейчас поможем. — Ломоносов был без парика, в расстёгнутом кафтане и в сапогах, в голенища которых были заправлены простые штаны. Шедший рядом плотник распоясывал зипун, готовясь его скинуть; ноги были обёрнуты онучами и обуты в лапти.
— Ты, Василий, всё равно мокрый, — подойдя, сразу начал командовать Ломоносов. — Подводи верёвку под комель и давай с нею сюда — втроём и выдернем.
Клементьев завёл верёвку, перебежал на берег, они навалились и вытянули дерево.
— Помучишься рубить, — кивнул Василию Ломоносов, — Ну да ничего, привыкай к трудностям науки. — И, засмеявшись, пошёл назад к своей иллюминации.
Раззадоренный удавшейся работой, Клементьев снова прыгнул в лодку, решив ещё половить, навалился на вёсла. На этот раз он не спешил и поднялся выше по реке, почти к дворцам. Перевалило за полдень, река струилась в августовском мареве, было в меру жарко, тянуло искупаться. Василий совсем было решил скинуть рубашку и портки и окунуться в серебристо-свинцовую манящую воду, как вдруг внимание его привлёк военный вельбот с андреевским флагом на корме, быстро резавший воду под взмахами дюжины вёсел.
Ровной гребёнкой весла на вельботе согласно подымались и окунались, загребая воду. Синие воротники на парусиновых робах матросов мерно качались в едином стройном ритме.
Вельбот подлетел к лодке Василия, и по команде одетого в чёрное боцмана, вёсла, чуть выгнувшись, как натянутые струны, затабанили, с шумом вспенив воду.
— Эй ты, пентюх, семь чертей тебе в задницу! — услышал Василий громкий голос стоявшего на корме чёрного боцмана со свирепыми усами и жёлтой медной дудкой, свисавшей с шеи на такой же медной цепочке. — Ты што, указа не слыхал? А ну, в два счёта убирай своё корыто с фарватера! — И боцман угрожающе замахнулся зажатым в руке узловатым линьком. И хоть достать Василия этим линьком он никак не мог, тот испуганно отшатнулся, лодка качнулась, едва не зачерпнув бортом. Клементьев схватил вёсла и беспорядочно, путаясь, сразу потеряв всю сноровку, заколотил ими по воде. Громкий хохот матросов и угрожающее улюлюканье боцмана ещё долго стояли в ушах Василия, заставляя сильнее колотиться сердце и налегать на вёсла. Задохнувшись, добрался до своего причала, уткнул лодку носом в сваи, выбрался на берег.
А на Неве действительно что-то начиналось. Снизу кильватерным строем шли шесть белоснежных вельботов, украшенных флагами, и гребная галера «Днепр», также расцвеченная по фалам разными флагами. Многовесельная галера, словно огромная цветная бабочка, летела по реке в сопровождении мотыльков-вельботов. Навстречу эскадре из Петропавловской крепости вывели небольшой, едва видный от академии и тоже убранный флагами ботик. Ботик Петра Первого — как потом узнал Клементьев. Оркестр на галере грянул марш. Выстроенные вдоль всей дворцовой набережной матросы и солдаты взяли «на караул». Били барабаны, звонко гремели литавры.
Вдруг галера окуталась белыми дымками, вспухшими вдоль её бортов тринадцатью пушистыми клубами. И через несколько мгновений до Василия донёсся слитный гул пушечных выстрелов.
— Раз, два, три, — считал выстрелы Клементьев, забыв про страх и разинув рот, наблюдая не виданное им. доселе зрелище морского парада. Оглянувшись, он увидел, что на берегу собралось много людей: горожане, пришлые мужики, академический люд, студенты, служители. По всему второму этажу раскрылись окна, и оттуда смотрели более важные лица; некоторые глядели на происходящее через подзорные трубы.
Двенадцать раз ударили пушки галеры. Двенадцать раз полыхал корабль огнём и окутывался белым дымом, который, рассеиваясь, клочьями шёл по реке, расстилаясь затем над нею тонким прозрачным пологом.
Снова грянул оркестр, забили барабаны. Затем всё опять смолкло, и тут вдруг ударили пушки ответного салюта из Петропавловской крепости. Пушки били размеренно и гулко, салютуя по высшему ритуалу — двадцать один раз.
Клементьев огляделся и, проталкиваясь через толпу зевак, подошёл к стоявшему невдалеке в компании плотников Ломоносову. Забыв про почтение, с любопытством спросил:
— Михайло Васильевич, что это за празднество нынче?
Ломоносов, глянув на него, на секунду запустил пальцы в вихрастые волосы Клементьева и ответил:
— Праздник в честь бракосочетания наследника престола Петра с принцессой Софьей, в православии Екатериной[101]. Об этом ещё вчера высочайше объявлено на всех перекрёстках. Не слыхал?
— Нет. Промешкал.
— Ну тогда смотри и запоминай. Ибо это первый морской парад со времён Петра Великого, который их завёл и наказал проводить ежегодно. Да вот только сейчас вспомнили.
После салюта ещё гремела музыка, доносясь до академии отдалёнными аккордами, в которых сильнее всего здесь слышались удары барабана. Галера взяла ботик Петра на буксир и отвела его вверх по Неве к Александро-Невской лавре, где состоялся торжественный молебен.
А к вечеру Невский плёс снова заполнился, но уже прогулочными лодками. Большие наёмные гулянки загружались простым народом. В отдельные лодки садились кавалеры в шляпах с перьями, военные в киверах, дамы и барышни в шляпках с цветами. И, несмотря на то что ни дождя, ни солнца не было, некоторые из них раскрывали над собой новомодные зонтики. Много вышло собственных лодок, богато украшенных коврами, а иные и балдахинами.
Надутый важностью Шумахер в сопровождении Бакштейна водрузился на корме своего вельбота с командой наёмных гребцов, содержание которых выплачивалось, конечно же, из академических сумм. А на корме вельбота — синий флаг с белым квадратом посредине, который кто-то из академических угодников притащил Шумахеру из флотского экипажа. И Ломоносов, прыская в кулак, шепнул Широву, а тот с хохотом поведал остальным, что флаг сей по морскому своду означает: «Стою на мёртвом якоре». Но Шумахеру его глупость всегда была невдомёк, ему главное — выпялиться, главное, чтобы все видели: «А у нас тоже флаги!»
Дело шло к сумеркам. Ломоносов велел Клементьеву и Широву держать на привязи и никому не давать два дощаника. А сам стоял и смотрел неотрывно в сторону зимнего Царского дворца. В должный момент праздника там вспыхнет плошка с земляным маслом, сиречь нефтью, которой уже несколько лет, как питали сигнальные огни на стрелке Васильевского острова.
И вот на той стороне наконец вспыхнул и заметался огонёк. Пора. Ломоносов подошёл с факелом с одной стороны иллюминатского сооружения, Крашенинников, как лицо особо доверенное, тоже с факелом, с другой. Ломоносов крикнул:
— Поджигай! — и сунул факел под один из пакетов.
Мгновенно то же сделал и Крашенинников. Пакеты вспыхнули, зашипели, от них по горючим шнуркам огонь побежал к другим пакетам и трубкам, потом ещё далее и ещё. И вот уже всё сооружение вспыхнуло разноцветными огнями — кроваво-красными, изумрудно-зелёными, синими.
— Всё! — восторженно крикнул Ломоносов. — Виват! — И, махнув Крашенинникову рукой, бегом побежал к лодкам, Крашенинников за ним.
В лодках уже сидели Клементьев, Широв, Котельников, Харизомесос. Ломоносов прыгнул в лодку, где наготове держал вёсла Василий; Крашенинников вскочил в другую. Не садясь и разведя руки для равновесия, Ломоносов азартно крикнул: «А ну, навались!» — И сразу повернулся лицом в сторону берега, потом, всё же не удержавшись от толчков лодки, плюхнулся на банку. Разноцветные искры плясали, переливались на берегу и, отражаясь в воде, удваивали яркость и силу зрелища. Клементьев, поражённый сверканием и игрой огней, но ещё не различая деталей, с силой навалился на вёсла, отгоняя лодку всё дальше от берега.
И вдруг картина иллюминации стала чёткой и понятной. В контуре российской императорской короны, очерченной красными и жёлтыми огнями, были искусно вплетены две зелёные буквы — П и Е.
— Пётр и Екатерина! — воскликнул Иван Харизомесос, сидевший на носу.
Как бы не слыша ничего, Ломоносов безотрывно смотрел на огни, потом повернулся к Василию и Ивану и закричал:
— Красота! Эх, красота-то какая! — И, обращаясь уже к Василию, закончил с нажимом: — Смотри, что химия делает! Да она ещё и не то может! Смотри и восхищайся!
На лице Ломоносова отражался восторг, в глазах плясали огоньки фейерверка, он восхищался одновременно и делом рук своих, и химией, и красотой зрелища. Затем посмотрел опять на Ивана и негромко сказал:
— Кроме нынешнего Петра, был ещё Пётр Великий. А дочь его, императрицу, зовут, как тебе известно, Елизаветой, — и хитро подмигнул.
Зрелище иллюминации и фейерверка было одобрено.
На следующий же день Шумахер получил со специальным нарочным высочайшую благодарность и пятьсот рублей «на покрытие расходов», которые он без малейшего смущения как персональный приз положил себе в карман.
Указом императрицы президентом Академии наук был назначен только что вернувшийся из-за границы осьмнадцатилетний Кирилла Разумовский. А до сих образовательных поездок пас Кирилла волов под хутором Лемеши, что в Малороссии, и счастливым себя почитал.
И пас бы волов Кирилла до сих пор, ежели бы не чудный голос брата Алексея, громкогласного певчего в их приходской церкви, который был услышан заезжим барином. Тот барин завлёк Алексея, увёз его в Петербург, а там уже его за выдающийся голос определили в дворцовую капеллу. И опять судьба оказала Алексею благодеяние! Обратил на себя внимание царевны Елизаветы, всегда бывшей от церковного пения без ума. В одном хоре согласно певали, переглядывались, потом пел для неё отдельно, потом слюбились — оба молоды были. И чтобы грех прикрыть перед богом, тайно обвенчались. И надо же! Через немногие годы после этого бесправная царевна стала царицей Всея Руси!
Разумовские круто пошли в гору. Вся семья была вывезена в Петербург. Приехал с матерью в Петербург и Кирилла. Мать его, дородная казачиха Розумиха, и месяца в столице не выдержала.
А Кирилла остался, тёрся при высоких персонах, место своё искал. Тут с ним и подружился дальновидный асессор Теплов, который также думал, к кому бы притулиться. Вместе у них стало неплохо получаться, и мысль о президентском кресле в академии, конечно, Теплов высказал, взрастил и взлелеял.
Поначалу, заняв кресло, Кирилла заметно смущался. Часто сморкался в надушенный кружевной фуляр[102], отводил глаза от взглядов чопорных многомудрых академиков. Но Григорий Теплов, друг надёжный, всегда был рядом, в случае чего подсказывал, что сказать и как кивнуть. Душевно поддерживал.
Потом привык Кирилла. Объездив заграницы, много повидал, многому научился. По верхам схватывал хорошо и уже немецкую и французскую речь разбирал и мог излагать бегло.
— А чего ещё надо? — успокаивал его Теплов. — Разве что немного латынь уразуметь, так ведь досконально того тебе и ни к чему. Досконально уж пусть господа академики упражняются.
Наверное, от той первородной простоты и выделил Кирилла среди академиков Михаилу Ломоносова особо. А потом вдруг решил его лекции посещать.
Лекции по основам физики и химии Ломоносов ныне читал в новом аудиториуме, который соорудили амфитеатром по древнему образцу. В том были и старания Шумахера, который весьма заботился, чтобы свою полезность для академии новому президенту выказать. Денег не пожалел, хотя и невеликую сумму, ибо работали выпрошенные им у графа Шувалова крепостные столяры. Но всё же и лес и лаки оплатил, столяров кормил. Ломоносов же удобный аудиториум громко хвалил, не стесняя себя тем, что это сделано иждивением его недруга, и Шумахеру ту работу в заслугу ставил.
Слушателей на лекции набиралось немного, человек девять-десять. Несколько обросших дылд, ежегодно присылаемых в студиозы из московской Славяно-греко-латинской академии и столь же исправно, за неспособностью к наукам, отправляемых назад. Два семинариста, разуверившихся в духовной карьере за отсутствием протекции, и, чего ранее, когда лекции читались по-латыни, вовсе не бывало, несколько молодых людей из разных чиновных семей.
Но и это количество слушателей удивительно было, ибо не далее как несколько лет назад не только профессоров, но и студентов выписывали из Германии, дабы профессорам не приходилось бы читать лекции самим себе. Бывали времена, когда на семнадцать профессоров приходилось восемь, а то и менее слушателей! Вот и толкли академические немцы воду в ступе — профессора есть, студенты, немецкие правда, но есть, вывеска на академии тоже есть. Лишь пользы России, которая за всё это платит, нет.
Ныне же стараниями Ломоносова дело сдвинулось к лучшему: хоть и малое число радивых студентов, а появилось. Иван Харизомесос, подросший, но всё равно самый молодой из всех, регулярно усаживался против Михайлы Васильевича и всё записывал. Уже рассмотрели главные вещества, мир составляющие: тверди, воду, газы, огонь; прошли основания механики и законы движения по Ньютону. Ломоносов перешёл к изложению гармонической картины качания маятника. Тут-то и появился президент[103] Кирилла Разумовский. Перед началом скромно прошёл вместе с Тепловым и сел в третий ряд. В тот день Ломоносов, как и не раз до этого, ставил опыт. На деревянной перекладине подвешены одинаковые грузики: один на длинной верёвочке, второй на более короткой, третий — совсем на маленькой.
— Быстрота качаний, — спокойно, подбирая простые русские слова, размеренно читал лекцию Ломоносов, — зависит от длины подвеса. Длиннее подвес — больше размах. Короче — маятник чаще зыблется.
Ломоносов толкал маятники, и все воочию убеждались в справедливости его слов. Затем он брал другую подставку, где на одинаковой длины верёвочках были подвешены уже разные грузики, и показывал, как влияет на частоту колебаний массивность грузиков.
— И что интересно и огромным смыслом наполнено, так это то, что схожи все зыблющиеся движения в природе — продолжал Ломоносов. — Посмотрите на волны по воде. Представьте, что вы в лодке качаетесь, вверх-вниз, вверх-вниз! — Ломоносов качался телом и улыбался, будто действительно перенёсся на реку. — Лодка замирает на миг внизу и вверху. Глядите! — он показывал на маятник. — Здесь маятник также на миг замирает, прежде чем назад стронуться. — Ломоносов ещё раз подталкивал длинный маятник, стремясь помочь слушателям поймать миг замирания скорости при полном его отклонении, и утверждал: — Сходны колебания маятника и колебания лодки! Но зато что на воде явственно видно? — спрашивал он, значительно поднимая палец и устремляя вопрошающий взгляд на аудиториум. — А то, что бегут волны! Бегут без остановки от места толчка. На воде то видно. И то же в воздухе. Звук, который мы слышим, — те же волны. Их также увидеть можно.
Ломоносов клал на стол заткнутую с концов стеклянную трубку, на треть заполненную песком, рассыпал его равномерно по всей её длине и, не двигая трубку, тёр по ней кожей, усеянной толчёной канифолью.
Мерзкий звук резал уши, царапал нервы. Слушатели неприятно ёжились, а Ломоносов смеялся и показывал пальцем на рябь, подобную водяной, что пошла по песку от этого звука.
— Зрите! Вот они, звуковые волны, проявили себя. Бегущие волны песок подмяли и тем себя обнаружили.
И многое в природе волнами передаётся, но не все их мы вот так увидеть можем! — завершил лекцию Ломоносов. — Сие единство природы чудесно и удивительно. Рассматривал Кирилла Разумовский, президент Российской Академии наук, волны и поражался тому, как просто можно науку излагать, не зная, сколь много нужно сложностей учёному преодолеть, чтобы явление постичь и до этой простоты добраться.
Два раза ставил Ломоносов перед профессорским собранием на обсуждение своё прошение в Сенат о строительстве лаборатории и выделении на то денежных сумм. Просил также выдать что-то заметное и из тех денег, кои получала для развития наук академия. Первый раз ничего не доказал, со второго — дело сдвинулось.
Конференция собралась, но прошением занялись не сразу. Сначала долго судили о том, надо ли по западному образцу вводить в академии обязательное ношение чёрной учёной мантии. Одни говорили — надо, другие — нет. И пожалуй, первый раз и Шумахер и Ломоносов выступили согласно: Ломоносов говорил, что не стоит вводить чёрные мантии, ибо тогда академия в глазах многих станет похожей на монастырь, коих на Руси и так много, и от того доверие к академии не возрастёт. А Шумахеровы аргументы иные, хоть и к тому же вели: ежели ввести обязательные мантии, то некие персоны, которых академия залучает к себе почётными членами, посещать её не будут, ибо под мантиями их ленты и звёзды скроются. А от того урон престижу и персон и академии.
И то и другое подействовало: с мантиями порошили отложить и дали слово Ломоносову. Михайла Васильевич зачитал своё доношение в Сенат о строительстве лаборатории, а потом добавил:
— К сему надобно постановить, чтобы уже сейчас из средств академии выделить на строительство две тысячи рублей. — Сказал и увидел картину, будто у стаи волков, овцу задравших и пирующих над ней, кто-то решил мясо отнять. Оскалились волосатые парики, потом кинулись:
— Не давать! Он хочет разорить академию!..
— Сумм и так не хватает, а тут ещё и ему на строительство!..
— У Сената просит, у нас просит. Это же надо? Фрешхайт, какая наглость!
— У нас тоже важные прожекты! И нам нужны деньги!..
Попытался было профессор Попов замолвить слово в защиту, так и его криками заглушили, едва ли не рот заткнули.
Сел Попов, беспомощно и виновато поглядел на Ломоносова, слаб был он в спорах и боялся огорчений. Крашенинников и ещё кое-кто, кто мог бы поддержать Ломоносова, смутились тем дружным отпором и не выступили.
Видя такое, засомневался Ломоносов, как бы и прошение в Сенат не загубили, и потому смягчил просьбу:
— Сии две тысячи рублей будут погашены из тех сумм, что даст Сенат. Так что это как бы в долг.
Но не смягчились профессоры, а Шумахер жёстко подытожил:
— Вот и подождём решения Сената.
Профессоры же ещё долго не могли утихомириться, протестующе орали, но всё же прошение в Сенат о деньгах вышло. И Шумахер его поддержал, но не более чем с корыстными целями: знал, что деньги через него пойдут, ну а это при всех условиях выгодно — обязательно что-то к рукам прилипнет.
Смущённый Попов подошёл после заседания, извинялся за слабость, ссылался на неприятности, в кои он попадал часто и, не будучи сильным, переживал их мучительно. Вот недавно залучил его Бакштейн в компанию посетить дом Дрезденши, повеселиться там, с девицами побаловаться. А дом сей давно уже Елизавете глаза мозолил. Произошло немало семейных скандалов, и это дошло до императрицы. И хоть сама Елизавета тоже была не без греха, но то многолюдство, которое через тех девиц перетекало, ужаснуло её. Нарядили для следствия «строгую комиссию о живущих безбрачно». И надо же! Комиссия нагрянула в дом, как раз когда там были Попов и Бакштейн! Но Бакштейн, бестия изворотливая, едва ли не без штанов утёк через чёрный ход, а Попова взяли с поличным. Его да ещё асессора мануфактур Ладыгина застали неглиже; так и доставили в полицейскую часть.
Скандал был громкий: для пострадавших — горький, для всех же остальных — смешной. Кончилось тем, что по приказу Елизаветы обоих, в назидание другим, торжественно обвенчали в соборной церкви с немедленно выделенными для сей цели бесприданными девицами из казённых крестьян. Дрезденшу арестовали и сослали в Сибирь, а весёлых девиц заключили в прядильный двор в Калинкиной деревне. Над бедным же Поповым многие потешались, и более всех злословил Бакштейн.
Так или иначе, однако прошение о лаборатории пошло в Сенат. Немного погодя обратился Ломоносов к Разумовскому, тот поддержал начинание и вскорости вышел сенатский указ: «Построить по приложенному при том чертежу» химическую лабораторию и выделить на это средства.
Создание лаборатории Ломоносову стоило великих трудов, пота и нервов. Сначала надо было всё в уме решить, потом подробно нарисовать, в листах бумажных раскинуть, указать, где что будет и что сколько стоит. Полагал строить лабораторию в виде отдельного дома: химия и огня много требует, и воняет, и взрывом опасна. Но рисовать не строить. В планах можно многое изобразить, картинка хлеба не просит. Но потом-то каждую линию надо в камень и дерево перевоплотить, а это уже совсем иной труд, а к тому же ещё и деньги.
Всё же нарисовал, что хотелось. На кирпич решил частично использовать старый каземат, ставленный лет сорок назад, ещё в петровские времена. Тот каземат стены имел непомерной толщины, мог бы использоваться, да уж больно мрачен, холоден и сыр — обосноваться в нём никто и но мыслил. Дрова и те не держали, так как крыши в нём не было: давно сгорела. А Ломоносов взялся за него с великой охотой, так как материал получался дёшев. Вкладывал в работу и те гроши, кои со скандалом, но всё же удалось выцарапать у Шумахера. Да и свои деньги отдавал — платил за разборку кирпича, за известь, песок, глину. Всё надо найти, погрузить, вывезти.
Строили кругом много, но работали все люди крепостные, подневольные. Лошади тоже барские или казной подряженные — внаём никого не найдёшь, вольных нет. Иному вознице порой и везти нечего, спит в телеге, лицо шапкой накрыв, а лошади распряжённые тут же соломой или сеном хрумкают; однако на сторону отъехать не смеет. Заводил Михайла разговоры, полтины щедро сулил на водку. И взять-то их мужику охота, и время вроде есть, и лошади простаивают, но боится.
— Узнают, выдерут на конюшне как Сидорову козу! — говорит: — Иди к подрядчику, а то хошь и к самому барину. Пущай разрешат. А так — не-е...
Пожалуй, пойдёшь! Подрядчик хам, он уже не полтину ломит, ему червонцы отваливай, а до барина и вовсе не доберёшься, да и смысла нет, ежели незнаком. А ежели знаком, то всё равно порой просто не понимают они его: кривят губы, морщат носы:
— Какой кирпич, какая известь? Фу, господин Ломоносов, и зачем это вы такой прозой голову себе забиваете? У вас же талант! Вам бы стихи писать в белых перчаточках! А вы...
Теребил Соляной Комиссариат, говорил, доказывал. Там хоть поначалу и чинились, но всё же потом вняли: тягло дали и отвалили извести. Убедил Канцелярию Главной артиллерии и фортификации в том, что химическая лаборатория военному делу не чужда: например, пороха сможет улучшать, металлы для пушек рассматривать, да и мало ли что другое. Нашлись там умные русские головы, поняли настойчивого академика, дали полувзвод солдатиков. А уж в Монетной и Медицинской канцеляриях, куда он за посудой, весами и прочим дельным набором обратился, было полегче: там его ранее знали и потому дали многое.
Шаг за шагом, но дело страгивалось с места. И вот уже скрипели подводы, строительная площадка полнилась криками мужиков, копавших землю, клавших стены. Ломоносов вместе с мужиками и солдатами копал, разгружал, катал брёвна, командовал. Потом глину месил, вместе с печниками клал печи, выводил трубы, колдуя над лучшей тягой. И росла лаборатория, осуществлялось задуманное, получил-таки Ломоносов место для учёных занятий любимой химией!
Без кафтана, только в рубашке и жилете, надев поверх кожаный нагрудник, Ломоносов жарил в горне железный прут. Металл раскалялся сначала до малинового свечения, затем постепенно белел в горячих углях, переливающихся под непрерывным дутьём, словно самоцветы.
— Поддай, поддай! — командовал Ломоносов Клементьеву, качавшему длинной деревянной ручкой большие кожаные мехи, из дыхала которых при каждом взмахе с посвистом вырывался и ухал вдуваемый в горн воздух.
Схватив раскалённый прут за торчащий конец рукою во влажной рукавице, Ломоносов вдавил его в ящик с песком и стал отсчитывать секунды:
— Раз, два, три... — затем выхватил прут из ящика и сунул в бочку с водой. Шипящий слой пара выбросился к потолку, вода забурлила, и затем всё опало, прут остывал, резко сбросив цвет и став невидимым в казавшейся чёрной воде.
— Опять шлифовать? — унылым тоном спросил Клементьев, который уже не раз производил сию манипуляцию, и она ему изрядно надоела.
— Опять! — отвечал Ломоносов. — Может, углядим, что с металлом делается при закалке.
— Говорят, в древнем Дамаске сабли закаливали, втыкая раскалённый клинок в тело молодого раба? — оставив рычаг и подходя к бочке, произнёс Клементьев.
— Говорят...
— Подумать страшно!
— Да, история людей кровава, — ответил Ломоносов. — Но сдаётся мне, что суть закалки не в веществе, куда клинок после нагрева закладывается, а в перепаде температур и быстроте остывания. В воде остывание скорее, и сталь делается хрупка. А вот в песке али бо в тюленьем жире остывание идёт медленно, и сталь приобретает иные, лучшие свойства. Вот я и выдерживаю остывание по-разному...
— Так что? Ежели бы в Дамаске водились тюлени?..
— Не знаю! И не мути душу... — отринул пустой вопрос Ломоносов. — Кстати, клинки делают не для того, чтобы сделанные потом погружать в тюлений жир. Тут тоже крови не счесть. — И он строго посмотрел на Клементьева. — Но вот поелику не делать клинков покамест нельзя, хорошо бы раскрыть секрет дамасской стали. Иди шлифуй!
Клементьев взял прут из бочки и пошёл к верстаку, где лежал наждачный камень, а Ломоносов вышел из кузни в лабораторию и стал прилаживать увеличительные стёкла, чтобы таки разглядеть изменение структуры металла при закалке. Но увеличения не хватало, в стёкла мало что было видно. То вдруг блазнилось, будто частицы металла в одну линию вытянуты, или вкруговую завихряются, или ещё как; но потом, в перешлифованном срезе, оказывалось, что это — мельчайшие царапки поверхности от наждака.
Решил добиться большего увеличения, тщательно подобрал стёкла, вставил их в тубус, наподобие телескопического, и получился... микроскоп. Сам усмехнулся тому, к чему пришёл. Слыхивал о микроскопе в Германии — им в основном биологи и медикусы пользовались, но самому видеть его не приходилось.
Сразу работать стало легче. Многократное увеличение позволило различить в шлифе металла такое, чего раньше и не мыслил узреть: и кристаллические формы, и включения, и зёрна металла, разделённые слоями окалины. Но секрет стали не давался, верно, не только в структуре дело было; Ломоносов понимал, что надобно и рецептуру плавки принимать во внимание. И хоть секрета булата не открыл и опыты со шлифами отложил, но микроскоп-то остался. Остался и хорошо служить начал.
Применил Ломоносов его в химии и с интересом наблюдал под стеклом подлинные реакции. Вот, например, откусил щипцами махонький кусочек железной проволоки, положил под стёклышко и капнул на него азотной кислоты. Забурлили под стёклами пузырьки газа, бурно метались капельки, словно ключ бил из-под земли и низвергался водопадом. А по железному куску, казавшемуся под микроскопом каменной глыбой, расползались раковины и каверны буро-ржавого цвета, съедая глыбу прямо на глазах. Дивился тому Ломоносов и твёрдо уяснил, что природа чудна и удивительна не только в большом, в проявлениях небесного масштаба, но велика и в малом, микроскопическом. Там тоже целый мир, огромный, непознанный и достойный приложения к себе сил и внимания.
Сажал против себя вихрастого Клементьева, серьёзного Харизомесоса, вечно над чем-то трунящего Широва, иногда Котельникова и Протасова и читал им лекцию, с ходу, без подготовки. Собственно, даже не лекцию, а размышления вслух, призывая молодых людей думать вместе с ним, соглашаться или спорить, принимать или отвергать его рассуждения.
— Как огромный внешний мир, включая планеты и космос, так и малый мир, который мы и под микроскопом не всегда углядываем, всё объединяется едиными законами. Законами движения. И наше дело все сии законы раскрыть, сформулировать, в науку внедрить и до людей довести.
— Планеты и звёзды движутся, то мы видим, — возражал Харизомесос. — А под микроскопом, ежели реакции нет, ничего не движется!
— Увеличение малое, — отвечал Ломоносов. — Материя делима, но не бесконечно. Ещё древние говорили о неделимом атоме. Вот они-то и движутся! До этой самой последней «нечувствительной частицы» и надо бы добраться микроскопом. Да нелегко это. Не знаю, как сделать такое увеличение. Но если бы добрались, могли бы узреть, как сии частицы между собой сцепляются и как шатаются.
— Читал я, крючочки к ним приделаны. Ими они и сцепляются, — подал реплику Клементьев.
— Чушь! Это отбросьте. О форме атомов судить мы пока не можем. То ли они шарички, то ли как сложнее устроены, — но никаких крючочков на них нет. И западным болтунам от науки, кои то измышляют, не верьте.
Ломоносов немного помолчал, собираясь с мыслями, внимательно вглядываясь в глаза студентов, ищущие, ждущие от него разъяснений.
— Но вот то важно, — снова заговорил Ломоносов, — что, колеблясь, те частицы своё движение сохраняют. Так же, как сохраняется и материя.
— Стало быть, этим «нечувствительным частицам» — атомам — можно и «живую силу», Лейбницем введённую, приписать? — спросил Протасов.
— Обязательно. И телега, катящаяся под уклон, и маятник, зыблющийся на подвесе, и тот атом, о коем мы говорим, — все обладают «живой силой». И сия живая сила[104], как и материя, сохраняется. Это — закон природы. Об нём я уже давно размышляю. Сей всеобщий естественный закон[105] простирается и в самые правила движения. Ну, подумайте: тело, движущее своей силой другое, столько же движения у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает.
— О неуничтожимости движения говорил ещё Декарт, — совсем неязвительно, но лишь добиваясь точности, сказал Харизомесос, который, латынь освоив, уже много чего за эти годы начитался.
— Да. Картезий говорил о сохранении, но лишь движения. Я же утверждаю, повторяю вам, всеобщий закон сохранения материи, вещества и движения. Находится всё сие в естественном единстве, и о том ранее, до меня, никто не говорил.
Ломоносов прихлопнул ладонью по столу, словно утверждая мысль и значение сказанного им. Не пытаясь отбросить или присвоить истины, высказанные другими, но и не желая умалять обдуманное и предложенное им самим. И в последнее время очень много сил и времени отдавал размышлениям о записи и смысле предложенного закона.
Вчера доводил до ума формулировки закона сохранения материи, подбирал слова, искал ясности и краткости для уяснения и понимания многими. Сегодня изложил кое-что из продуманного в письме к Эйлеру:
«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего от одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте...»
Хотелось дальше писать, понимал, что это всеобщий и дотоле неизвестный закон природы. А подметить, найти новый закон и преподать его людям — ох немногим дано. Это открытие!
Ставя точку и поглаживая лоб, удовлетворённо думал, что не зря работает, что и его весомая лепта внесена в копилку науки. Есть всеми признанные законы Невтона, теперь будет закон Ломоносова. Закон природы, всеобщий, для всех единый, но открытый, описанный и в науку внедрённый им, Михайлой Ломоносовым.
«Это хорошо! Хорошо это!» — едва ли не кричал Ломоносов, гордясь ладно сделанной работой и радуясь за себя и за Россию!
Негромко протарахтев по брусчатке набережной, к дверям академии подкатила украшенная гербами, раззолоченная карета на четырёх золочёных же колёсах, умягчённых длинными, гибкими рессорами. Одерживая шестерик лошадей в красочных попонах и с плюмажами на головах, гривастый кучер с дремучей бородой, с трудом полуобернув невероятных размеров тело, протодиаконским басом изрёк:
— Академия де сиянс, ваше превосходительство!
Два ливрейных лакея, соскочивших с запяток, откинули подножку и, открыв дверцу, с поклоном помогли спуститься на землю молодому вельможе в мундире со звёздами и голубой лентой через правое плечо. Башмаки его были украшены золотыми пряжками, белые атласные чулки у колен замыкались бархатными красными штанами. Сбоку у колен штаны были украшены алыми бантами, столь же красочным бантом на шее был завязан и заколот бриллиантовой пряжкой белый шёлковый шарф.
Один из лакеев продолжал поддерживать вельможу, второй, отбежав, толчком открыл дверь академии и прокричал в тёмную и гулкую пустоту вестибюля:
— Его превосходительство Иван Шувалов! — после чего, не заботясь о получении ответа, вернулся к вельможе, чтобы не дай бог тот не споткнулся на ступенях.
Переполох, поднявшийся в академии через секунду после этого, можно сравнить разве лишь с тем, что было бы, ежели б закричали о пожаре. Забегали, засуетились, выскакивая из своих кабинетов, профессоры, кто спросонья кафтаны и парики на себя торопливо натягивая, кто действительные дела побросав и от наук оторвавшись, — все спешили навстречу высокому гостю. Подобострастно шаркая ножкой и чуть ли не пританцовывая от раболепства, появился Шумахер. Изобразив нелепую улыбку, бежал Бакштейн; кланялся, с трудом пережимая живот, Силинс. Спешили Миллер, Гнезиус, Гемелин[106], Штелин... Что же до челяди, то о ней и говорить нечего: вжались в стенки, в углы; по единому знаку готовые по полу распластаться, половиками стать, дабы сиятельству удобно было о них свои вельможные ноги отереть.
Шувалов что-то негромко сказал. И ливрейный лакей тут же, на всю анфиладу покоев, громогласно провозгласил:
— Его превосходительство желает видеть господина Ломоносова и его лабораторию посетить!
Братья Шуваловы[107], сами из костромских дворян, возвысились при Елизавете и великую силу обрели. Старшие вели политику и коммерцию, младший, Иван, фаворит и любовник императрицы, более к искусству и наукам являл привязанность. А то, что не один он был у императрицы, никого не смущало. Век был такой; и в высшем свете порою законный муж с фаворитом, жена и любовница — прекрасно уживались, не о чувствах, но лишь о пользе своей помышляя.
И хоть избаловались Шуваловы при дворе от власти, изнежились в роскоши, но природной предприимчивости и любознательности не потеряли. И потому Иван Иванович Шувалов, поначалу отличив Ломоносова за его фейерверки, затем стал более пристально внимать его образованности. Приглашал к себе, бывал у него и дома и в академии. Часто беседовал с ним, даже пытался стихи слагать и советовался об этом.
Повезло Ломоносову, «вошёл в случай», как тогда говорили. Ведь Шуваловы к императрице прямой ход имели! Конечно, и Кирилла Разумовский располагался к Ломоносову и был с ним покамест ещё прост. Но далеко не прост был его наперсник Григорий Теплов, и что он внушал Кирилле — предугадать трудно. Однако уверен был Ломоносов, что внушал президенту Теплов не всегда лестное о нём, случалось, и оговаривал. Так что Шуваловы весьма полезны могли быть Ломоносову, а через него — и наукам, ради которых он всю жизнь только и старался.
Но подачками жить Ломоносов не собирался, всё время желал полезным быть и то шуваловское расположение воспринимал и как дань уважения своим способностям, и как плату за фейерверки, хотя работа с ними и отвлекала от наук. Сюда надо ещё отнести и правку стихов Ивана, что тоже труда стоило, ибо вирши графа были, прямо скажем, не того. Шувалов же, будучи мягок, изнежен и ленив, но, понимая, как необходимы эрудиция и знания просвещённому барину, коим он непременно желал быть, вполне доволен был своим талантливым наставником. И в том ему в неменьшей степени, чем Ломоносову, повезло.
Проникаясь незаметно идеями и чувствами Михаилы Васильевича, Шувалов давно собирался осмотреть место, где Ломоносов проводил столь большую часть своего времени, что того но сразу даже к себе в гости, в роскошные шуваловские покои, залучишь.
— У тебя, Михайло Васильевич, способности к изящной словесности. А ты спишь и видишь свою химию, и от тебя несёт копотью и гарью, — морщась, говорил Шувалов. — Дай-кось я взгляну на то, чево ты там варишь.
— Вот, ваше сиятельство, Иван Иванович, ещё не завершено всё в лаборатории, но погляди. Здесь у меня покудова шесть печей. Но хочу скласть девять. — Ломоносов обвёл рукою сводчатое помещение, одну часть коего занимали выставленные в ряд печи и горны с дымовыми трубами, уходящими в потолок. Другая сторона помещения заставлена была ретортами, склянками белого и зелёного стекла, чашками, ступками, воронками и прочей полезной посудой и дельными вещами.
— На што так много печей, — спросил Шувалов, оглядывая лабораторию и прикидывая, на что сесть, дабы не испортить своей роскошной одежды.
— А вот зачем. Гляди, Иван Иванович. В этой печи металл плавлю. Она самая большая, шихты много в неё можно заложить, и мехи мощные — жар большой раздувают. Видишь? — Ломоносов слегка качнул рычаг, и большой мех натужно ухнул, выбив из печи клубок холодного пепла.
Шувалов брезгливо ширкнул рукой по кафтану, стряхивая частицы гари, а Ломоносов, увлекаясь, показывал далее:
— Вот это — горн. Видишь, он открыт. Металл здесь не плавится, но лишь раскаляется. Зато большие куски входят; в нём, ежели хочешь, и якорёк невеликий разогреть и сварить можно. Вот тут близко и наковальня. А вон там дальше — стеклянная печь: стекло в ней варю, — Ломоносов махнул рукой в сторону стоящей чуть поодаль стекольной печки.
— Ну а теперь иди сюда, — Ломоносов схватил Шувалова за руку и подвёл к небольшой печи, от которой тянуло жаром. Шувалов, отказавшись от желания присесть, покорно пошёл за ним.
— Это финифтяная печь. Про финифть слыхивал? — Ломоносов внимательно смотрел на собеседника. Шувалов взглянул на печь уже заинтересованно:
— Знаю, знаю. Шкатулка у меня есть, финифтяная, чудесной работы. Приедешь — покажу. На крышке Ника Самофракийская полураздета летит... Таково, скажу тебе, соблазнительна... — Шувалов с удовольствием прищёлкнул языком.
— Так вот, — по-прежнему серьёзным тоном продолжил Ломоносов. — В сей финифтяной печи я хочу секреты той эмали раскрыть. Чтобы самому научиться оные мозаики составлять и делать картины прельстительные.
Ломоносов качнул мехи финифтяной печи, она тонко загудела, окошечко в ней засветилось, засияло раскалённым белым светом. Немного подождав, он щипцами вытащил из печи один из нескольких тигельков, стоящих в огне, и опрокинул содержимое в ячеистую форму.
Огненно сияя, растеклась по форме красноватая масса, на глазах охлаждаясь и застывая красивой, оранжево-жёлтой, поверхностью, глянцево-тёплый тон которой так и хотелось погладить рукою. Шувалов даже руку протянул, чтобы потрогать, да Ломоносов резко пресёк его:
— Ты что? Нельзя же, горячо!
— И какие краски в сих формах ты отливать надеешься?
— Все! — твёрдо ответил Ломоносов. — Надеюсь все краски и любые их оттенки делать. Чрез слитие жидких материй разные цвета произвести можно. А для этого надо научиться химию через геометрию вымерять, через механику развешивать и через оптику высматривать. Вот тогда и желаемых тайностей достигну. Но то ещё не скоро будет, работать надо много. Вот почему я ныне тут днюю и ночую. Правда, для науки и самой длинной жизни мало.
Покачал Шувалов головою, не всё понимая, но уважением проникся ещё большим:
— Ты, Михайло Васильевич, больно сильно-то здесь себя не истязай. Нужен ты и для других дел. Вот приезжай-кось ко мне. Угощу вкусно, поговорим, а там, может, и к Елизавете Петровне заглянем.
Хоть немного не по себе стало Ломоносову от такой фамильярности по адресу государыни, но потом, качнув головой, усмехнулся и про себя подумал, что всякий к своим вершинам стремится.
С гордостью глядел Ломоносов, как набирала силу, крепла, расширялась Россия. Азовские походы Петра угомонили крымчаков, и потому богатый южнорусский чернозёмный край, дотоле пустовавший из-за набегов крымских орд, постепенно заселялся окраинным казачеством. На время утихомирилась Туретчина, не слыхать шведов, затихли Польша и Литва. Мужал, давая всё боле железа и прочих ископаемых, Уральский край, а грядущая за ним Сибирь сулила Российской державе такие просторы, каковые другим и не снились. Иноверческие народы вливались в державу, ища под её крылом защиты и покоя, а насильного крещения, дабы обрусить их, никому не было.
В каждое из посещений апартаментов графа Шувалова, когда Ломоносов непривычным для себя барином приезжал к тому в присылаемой золочёной карете, чаще всего говорили серьёзно и о важном. После обильного угощения, от которого Ломоносов не отказывался, ибо поесть любил, Шувалов однажды прозрачно намекнул, что неплохо бы государыне императрице величественную оду преподнести.
Тут уже не то что с одой наследнику Петру-Ульриху, тут иначе, как-то сразу решил Ломоносов. И потому согласно кивнул и, не мешкая, ответил:
— Давно о том думаю. Дщерь Петра Великого сама насквозь русская и верно, по-русски державой правит, величию России способствуя. Многие её дела ко благу ведут. Потому напишу. — А про себя подумал: «Не то хорошо, что Елизавета сама хорошо правит, а то хорошо, что не мешает. Не мешает многим русским людям истинную пользу государства блюсти; чужаков же и дураков до кормила не допускает. Потому-то и идёт всё ныне слава богу ладно и гладко. Подоле бы так!»
Помолчал немного, как бы обдумывая дальнейшую речь, потом сказал:
— Вот слушай, как я написал о России:
Россия, вознося главу на высоту, Взирает на своих пределов красоту: Чудится в радости обильному покою...Шувалов даже охнул и замотал головой от удовольствия:
— Легко ты пишешь, Михайло Васильевич. Да как ладно льётся... Вознося главу!.. Высота, красота... Молодец!
Ломоносов прочёл ещё:
Воззри на горы превысоки, Воззри в поля свои широки, Где Волга, Днепр, где Обь течёт...Шувалов слушал и глядел на Ломоносова, не решаясь и не желая прерывать его, а тот увлечённо, словно перед народом, читал:
Российска тишина пределы превосходит И льёт избыток свой в окрестные страны... Воюет воинство твоё против войны; Оружие твоё Европе мир приводит!Дочитав, пояснил:
— Широко распространилась держава, предки начали, мы продолжаем. Да, продолжаем! Слыхивал, что корабли Беринга и Чирикова привезли[108]?
Шувалов, будто отрываясь от каких-то внутренних созерцаний, неохотно наморщил лоб, вспоминая:
— Было что-то, просились капитаны с оных до государыни. Вроде бы не приняли их...
— Было, вроде!.. Эх ты! А они флаги Российской державы в неизвестной дотоле верхней Америке установили! И то сообщение императрице привезли! — Ломоносов недовольно сморщил губы и, укоряюще глядя на Шувалова, покачал головой.
— Непременно узнаю ещё о них. И если всё так, сам подведу их под высочайшие очи, — непривычно для себя смущаясь, ответствовал Шувалов. И почти просительно, что удивило бы любого, кто знал вельможу, произнёс: — Но ты уж, сделай милость, читай ещё...
— Ещё?.. Об Америке не написал покуда, а вот о соседстве с хинами, китайцами то есть, кое-чего есть. Слушай. Вот какова наша Россия:
В полях, наполненных плодами, Где Волга, Днепр, Нева и Дон Своими чистыми струями, Шумя, стадам наводит сон. Сидит и ноги простирает На степь, Где Хинов отделяет Пространная стена от нас...Ломоносов читал о просторах России, которую окружают кристальные горы, заполняют усыпанные цветами луга, над которыми несутся «бисерные» облака. И улыбался, мечтал о том, как Россня кругом весёлый взор свой обращает, вокруг довольство исчисляет, возлёгши локтем на Кавказ.
И чтобы, не боясь погоды, С богатством дальни шли народы, К Елисаветиным брегам...— Вот тебе слава и хвала государыни. Она в том, чтобы к её брегам без боязни шли народы. То и в оде скажу.
Кончая читать, посмотрел на притихшего Шувалова, в эту минуту совсем не похожего на всесильного царедворца.
— Но ты не преминуй напомнить императрице, что всё сие надо защищать, благо делать то россияне всегда умели. А тишь и благодать, увы, не вечны. — И закончил сие рассуждение гордой строфой:
Мы дерзкий взор врагов потупим, На горды выи[109] их наступим, На грозных станем мы валах!..Дочитал и своими словами добавил:
— А стоять ещё много придётся. Ох много! Пустая стена, даже вроде китайской, без храбрецов с оружием на ней, ни от кого не защитит. Только лишь:
...от российских храбрых рук, Рассыплются противных стены, И сильных изнеможет лук!..Ломоносов надолго замолчал, а Шувалов, выдержав паузу, спросил:
— Когда все сии стихи известны будут? Когда напечатаешь?
— Со временем. Допишу, отделаю и напечатаю.
— Но ты, Михайла, всё же оду-то напиши, как обещал.
— Напишу.
— И что-нибудь ещё из прочитанного возьми туда.
— Подумаю.
Ода была написана через малый срок. Шувалов, первый читавший её, громко оду хвалил и посоветовал передать её ко двору не через него, а от академии, через её президента, что и было сделано. Сам Ломоносов на том торжестве не был; почестей не ища, отдал оду Кирилле Разумовскому, чтобы уж он от лица академии её вручил.
Печатали оду в Академической типографии на александрийской бумаге, переплели красною тафтою, а внутри корочки оклеили блистающей золочёной бумагой. Для печати шрифт подобрали высокий, заставки мудрёные, с вензелями и выкрутасами.
Качал головой Ломоносов, бережно держа в руках своё творение, и даже расставаться было жалко с ним: себе-то ничего такого не оставалось, ибо сделали и переплели так роскошно лишь три экземпляра — токмо для императрицы и их высочеств — наследников престола. Однако же затем многие из вельмож себе ту оду заказывали и столь же роскошно переплетали: иметь у себя сочинения Ломоносова становилось престижно и модно.
Вскоре пришла Ломоносову и награда. Польщённая Елизавета милостиво одарила его за оду двумя тысячами рублей. Узнав об этом, Ломоносов обрадовался и поинтересовался, когда можно будет получить деньги.
— Доставят, — кривясь, коротко ответил Шумахер и ушёл, в сердцах хлопнув дверью. Злился, что деньги пожалованы лично автору, а не академии; уж тут-то бы он на них лапу наложил.
На следующий день, к обеду, косолапо передвигаясь от непривычной быстроты, в физический класс ввалился Симеон и громко объявил, чтобы Михаила Васильевич бежал ко входу. Там ему привезли деньги.
— Так пущай несут сюда, — обрадованно сказал Ломоносов. — А ты, Симеонушка, проводи.
— Никак невозможно, — разведя руками, возразил Симеон. — Денег тех привезли уйму — на двух возах. А мешков много, и oнe неподъёмные.
— Что за притча? Откуда же столько денег? — подивился Ломоносов, но, более не рассуждая, быстро пошёл к парадному входу.
У дверей стояли две ломовые телеги, груженные пузатыми мешками. На каждой, кроме извозчиков, восседали усатые солдаты-преображенцы с ружьями и в киверах. В вестибюле ждал пристав с бумагой, дабы сдать деньги под роспись.
— Это что же за деньги такие? — растерянно спросил Ломоносов, оглядывая возы.
— Профессор Михайло Васильевич Ломоносов? — прежде всего строго спросил пристав. — Распишитесь в получении двух тысяч рублей. — Протянул Ломоносову гербовую бумагу и добавил: — Медною монетой.
Засмеялся Ломоносов, сразу поняв всё. Двадцать пять рублей в мелкой медной монете весили... полтора пуда. Стало быть, две тысячи рублей, которые ему привезли на телегах, тянули на сто двадцать пудов! Продолжая смеяться, закричал подошедшему Симеону:
— Гляди! Все медью! — и показал за дверь, на возы. — Вот это подарочек! Весомый! Ну, хоть то хорошо, что не украдут. Ворам сей суммы не поднять.
— Деньги, они есть деньги! — сурово осудил его весёлость Симеон. — И реготать тут неча. Бери, пока дают.
— А я и беру, — всё так же весело ответил Ломоносов. Подписался, пошёл к телегам и довольно похлопал ладошкой по массивным мешкам. Преображенцы не сдвинулись с места, сидя на мешках, держали ружья и строго смотрели на Ломоносова.
— Лексей, Васька! — крикнул Ломоносов выбежавшим Широву и Клементьеву. — Садитесь на телеги. Повезём деньги ко мне домой. Один я там их не осилю.
Под крики бородатых извозчиков телеги развернулись по набережной и поехали к дому Ломоносова. А он шёл сзади и зубоскалил, тщетно пытаясь развеселить непроницаемых усачей. Лишь дома, когда разгрузили мешки и он оделил деньгами и солдат и извозчиков, те малость отмякли, ответив ему громогласными: «здравия желаем» и «премного благодарны». После того сели в опустевшие телеги, и мужички-извозчики с посвистом, взяв лошадей в кнуты, умчали со двора.
А Ломоносов, уплатив долги и одарив приятелей, стал серьёзно размышлять, на что полезное ему употребить своё богатство. И всё более склонялся к давно лелеемому: построить большой дом, с лабораторией, обсерваторией и хорошо бы ещё с мастерскими для выделки эмалевых красок. Но сразу на такое не размахнёшься, сразу не потянуть. Денег пока на то маловато, это — впереди.
Однажды произошёл случай, который был замечен супругой наследника, великой княгиней Екатериной. А та никогда ничего не забывала. И как знать, не аукнулось ли то Ломоносову более чем через пятнадцать лет пристальным вниманием императрицы Екатерины П.
Тогда вечером состоялся не бал, а раут. В малом аудиенц-зале, украшенном по стенам богатой золотой лепкой с частым повторением белоснежных амуров, купидонов и прочей лукавой невинности, все канделябры были зажжены, и сверкание их отражалось в зеркально натёртом паркетном полу. Гостей звано немного, менее сотни. Дамы и кавалеры стояли группами, иные сидели на затейливых, с гнутыми, на французский манер, ножками, козетках, расставленных вдоль стен. Другие, всё более солидные мужчины, в шитых кафтанах и белых париках, в лентах и звёздах, прохаживались, беседуя о войне, деньгах и политике.
Из угла, от кучки молодых гвардейцев, доносились взрывы хохота — эти явно болтали ни о чём ином, нежели как о фривольном.
Елизавета недомогала и потому ещё не явилась. Гости, однако, не зная, будет она или нет, ждали, не смея разойтись и находя утешение в оживлённых сплетнях и злословии, чего при императрице громко делать опасались. Шут Телещин, исчерпав свои трюки, изрядно уже всем надоевшие, боясь, как бы его не прогнали за ненадобностью, мучительно искал, чем бы отличиться. Но то было трудно, ибо его любимая шавка Зоркая, исполнявшая многие штуки, подавившись костью, сдохла в корчах. И хоть он завёл несколько новых, они ещё не постигли азов дрессировки и, кроме как оглушительно лаять и по команде ходить на задних лапах, пока ничего боле не умели.
Ломоносов томился в углу на кушетке, размышляя, сколько ему тут ещё терять времени, а Шувалов, как обычно расфранчённый и с непременными бантами, беспечно развалился рядом, насмешливо наблюдая за толпой придворных. Из них он один лишь знал, что императрица не выйдет, но не уходил, так как понимал, что его уход как раз и будет объявлением того, что императрица не придёт. Ему же хотелось лишний раз позлить ожиданием всю эту толпу: мелкопоместные привычки всё же сказывались, несмотря на то что стал он ныне большим барином. Придворные тоже не питали особой любви к фавориту, ехидничали и не упускали случая, ежели то им ничем не грозило, подпустить ему шпильку, благо знали, что он, по своей мягкости и лени, не очень злопамятен.
В тот вечер одна из фрейлин принесла на руках болонку. Дурачась, она повязала ей розовый бантик на шею, затем красные бантики на передние и задние лапки, потом даже ещё и голубой на хвост.
— Теперь ты вся-вся в бантиках, — хихикнула фрейлина, выставляя болонку на обозрение и поворачивая разукрашенную животину во все стороны.
— Как Иван Иванович! — со смехом вставил весьма знатных кровей молодой паж великой княгини, происходивший из фамилии Голицыных.
Шутку тут же подхватили смешливые фрейлины, затеребили болонку, затискали, передавая друг другу, и наперебой прыскали смешками:
— Иван Иванович! Ах, какой ты хорошенький... Ах, ах... Иван Иванович!
Распространившись по залу, смех стал всеобщим, его лишь притворно сдерживали, дабы сделать вид, что всё сие к Ивану Шувалову отношения не имеет, прямо на него не глядели, но множество искоса брошенных взглядов были красноречивее прямых выпадов. Ломоносов тоже взглянул на Шувалова и по его необычно напрягшейся позе и теперь уже совсем не беспечной улыбке понял, что того сия шутка задевает, но он просто не знает, как ответить: «Не заметить, пропустить? Обидно! Встать в позу и прекратить? Глупо!»
Шут Телещин нутром, лакейской своей кишкой почуял, что можно вмешаться, отвести смех и, шутку сохранив, персону вывести из трудного положения. Быстро скрутил какую-то бумажку, случайно оказавшуюся под рукой, слегка свистнув, поднял на задние лапы своего чёрного пуделя Щейню, сунул ему бумажку в пасть и послал того прыгать к пажу Голицыну. Пудель, держа в зубах бумажку и дрыгая передними лапами, скакал впереди, а Телещин, с ужимками, за ним. Подстраиваясь под прыжки чёрного пуделя, Телещин гримасничал, показывал всем: «Вот он, чёрный, кучерявый, и есть мой хозяин, он ведёт, а я лишь в такт ему подпрыгиваю».
Все повернулись к прыгающей паре, ожидая, что будет. Подскочив близко к мальчишке-пажу, Телещин, согнувшись, подмигнул тому и тихохонько сказал:
— А вот и Михайло Васильевич скачет. И с новым сочинением...
Громко захохотал глупый паж и заорал на весь зал:
— Ха, ха, ха! А вот и Михайло Васильевич на задних лапах скачет к Ивану Ивановичу! И новое сочинение несёт!
Все опять громко засмеялись, и Шувалов облегчённо засмеялся тоже: ушла стрела от него в другого. А другой, будь то Ломоносов или ещё кто угодно, — это уже не он, царский фаворит, и потому смеяться над ними можно.
Паж по-дурацки хохотал, на все лады пережёвывая свою новую выходку. Осклабился Телещин — получилась шутка со всех сторон: умнейшего себя — дураком выставил, персону вывел из затруднения, всех развеселил. Можно теперь и награду схлопотать.
И схлопотал. Ломоносов не Шувалов, с ним шутить было накладно, и того никто не учёл. Встал Михайла, медленно, чтобы не спугнуть дураков, подошёл к шуту и пажу. Шут изогнулся в шутовском поклоне, в крайнем случае простого, шутливого тумака ожидая, а паж вообще ничего не ждал. Разинул рот в дурацкой ухмылке, пялился нахально — чего ему-то, Голицыну, быть может? И тоже промахнулся.
Как бы ненароком задев ногу шута Телещина, Ломоносов встал на неё всем своим более чем шестипудовым весом. Хрустнуло что-то, взвыл Телещин от боли, а Ломоносов, якобы ничего не заметив, шагнул далее к пажу Голицыну и, нимало не смущаясь породой, схватил того за ухо и стал больно драть его туда-сюда, ухо выворачивая.
— Ай, мамочка, ты што... А-а-а! Больно!.. — тонко завопил паж, а Ломоносов ещё крутнул. Хотел после этого повернуться и уйти, да вдруг увидел краем глаза, как все склонились в почтительном поклоне. Оборотись, увидел, как от двери идёт к нему молодая дама, одетая в белое парчовое платье с драгоценной наколкой в каштановых волосах. Открытое чело и римский нос украшали даму, а нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок придавал её лицу горделивый вид. На Ломоносова взглянули твёрдые, но приятные глаза, в которых отражение света переливалось голубыми оттенками. Губы чуть дрогнули в проницательной усмешке, она остановилась около Ломоносова и, погрозив ему веером, негромко, с едва заметным акцентом спросила:
— Ты пошто это, Михайло Васильевич, моих пажей за уши дерёшь?
Это была жена наследника престола, Екатерина. Шут Телещин, проглотивши вой, предпочёл за благо от разбирательства уползти в угол. Паж перестал хныкать, ибо Екатерина, хотя речь вела о нём, не уделила ему ни малейшего внимания, сосредоточившись только на Ломоносове. А тот, поняв, что сия первая встреча может породить далеко идущие последствия, решил не оправдываться и до мелочей не спускаться. С достоинством ответил:
— Деру за дело, ваше императорское высочество. — Екатерина не прервала его, слушала со вниманием, и он продолжил: — А на то, что он твой паж, замечу: мы оба твои подданные, но я старше. И потому учу младшего уму-разуму, дабы тебе впоследствии того делать не пришлось. — И, уже будучи наслышан о разумности Екатерины, замолчал, предлагая ей тем считать вопрос исчерпанным.
Улыбнулась Екатерина столь неподобострастному и краткому объяснению, но выспрашивать не стала. Зачем? Всё равно ей угодники всё потом в подробностях расскажут. И потому, одарив улыбкой, милостиво разрешила конфликт:
— Верю, верю, что ты зря не накажешь, и малому твоя наука в пользу пойдёт. — И, кивнув на прощание красивой головкой, прошла в другой конец залы.
— Ох горяч ты, Михаила. Не по чину горяч, — не столько укоряя, сколько радуясь вмешательству Ломоносова, оградившему и его сиятельную персону от насмехательств шутов и придворных, говорил Шувалов. И лениво жмурил глаза, прикидывая, а было ли в его жизни, чтобы он хоть раз вот так, не раздумывая о последствиях, без мелочной расчётливости, бросился на защиту своей чести. И с сомнением покачал головой: нет, не помнит...
Ломоносов после того стал избегать посещений дворцовых раутов. И как-то, не пропустив случая, гневно отписал Шувалову: «Не токмо у стола знатных господ... дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога».
А шут Телещин надолго охромел, ковылял с палочкой, что, впрочем, не сделало его умнее, но лишь озлобило.
Сретенские морозы ударили по недолгим февральским лужам, сковали льдом свежие намоины на Неве и Фонтанке. Замела, закрутила свирепая позёмка. Вьюжные кнуты хлестали по щекам, снежные плети, с диким посвистом вылетев из-под углов, срывали с прохожих шапки, драли за полы одёжек. Кутаясь в шубу, время от времени поворачиваясь спиной к ветру и потирая деревенеющие щёки, Ломоносов шёл по шестой линии, направляясь к Большой першпективе.
У церкви Трёх Святителей богомольная толпа преградила дорогу, заставила задержаться, посмотреть, чему дивится народ. В полукруге людей, у паперти, на мёрзлой выдутой ветром земле дёргался юродивый. Рваное рубище дырами обнажало грязные плети рук, мослы плеч и торчащие рёбра спины. Голые пятки выпирали над вывороченными ступнями, костистые, лишь до колен прикрытые драными портами ноги елозили по мёрзлой земле. На тощей шее сомкнулись верёвки, связывающие две чугунные вериги: та, что сзади, лежала на спине ледяным грузом; со стороны груди верига болталась маятником, будто пудовый крест на узловатом гайтане. Плешивая голова не прикрыта шапкой, безумные, водянисто-белёсые глаза глядели мимо толпы куда-то в бесконечную даль вьюжного морозного неба.
Юродивый дёргался, разевая впалый рот на тощем землистом лице. Изо рта со всхлипами вырывались несвязные восклицания; они то били резкими выкриками, то рассыпались по толпе хлёсткой словесной картечью, заставляя людей поверженно сгибаться в земном поклоне под ударами тёмных, неясных пророчеств:
— ...Антихрист!.. Грядёт!.. Страшно! У-у-у!..
Народ молчал, жадно внимая словам, пытаясь вникнуть в смысл отрывистых восклицаний. Многие истово крестились, негромко передавая друг другу своё толкование понятых прорицаний:
— Об антихристе говорит! Придёт в мир антихрист... Всё заполонит, всё заметёт!
— Васенька, блаженненький наш, — залопотала согнутая старушка, вся в чёрном, мелко крестясь и кланяясь юродивому. — Яви святость, предскажи, что будет с нами-то, грешными? — И толпа, обратившись вопрошающими лицами к убогому, застыла в ожидании. А юродивый, запрыгав, задёргавшись, вдруг выкрикнул почти связное:
— Придёт антихрист! И будет он сыном Израила-Иакова и Валлы-Рахилины!.. Рога скроет, хвост спрячет, прикинется добрым и поведёт обманутых в геенну огненну!.. У-у-у!
Опальным, страшным пахнуло от слов убогого. Было в них что-то от гонимого староверия и ещё не забытого двуперстия. Блаженный выбросил вверх руки, вскинул голову. Глаза дико вспыхнули, опалив толпу вдруг на секунду ставшим осмысленным взглядом, потом взор снова потух, голова упала, и юродивый приник к стылой земле. Приник, распластался, словно на тёплой печи, бессильно раскинув оголённые руки и приложившись щекой к мёрзлой ледяной корке.
— Ох сердешный, мученик ты наш! — взвыла старушка, и толпа ответила ей сдавленным вздохом: — Ох! Что сулишь ты нам?.. Господи помилуй, господи помилуй!..
Ломоносов стоял молча и вдруг увидел всё это действо совсем с другой стороны: «Бог с ними, с пророчествами. Их не проверишь. А вот то, что юродивый, на страшном морозе, практически голый на земле валяется, не обмораживается, и ничего ему — это факт. Не болеет, не умирает, даже не простужается, хотя сидит у паперти не первый день, обретается здесь и зимой, и летом не один год. Вот это как так и почему?»
Ломоносов задумчиво отошёл от церкви, поплотнее нахлобучил шапку и запахнул шубу, снова поёжившись от пронизывающего холода. И, придя в академию, долго обсуждал оную загадку с Шировым.
— Святость оставим, — говорил он Широву. — Нимба святости никто ни над кем достоверно не наблюдал. Сей Васька — человек! И своей нечувствительностью являет нам лишь великие возможности человечьи, пределов коих мы, верно, совсем не знаем.
— Да, видать, на многое способен человек, — сказал Широв и замолк, размышляя, а Ломоносов, как бы заново переживая то, что отложилось в памяти, опять стал рассказывать:
— А ведь подобные чудеса людские, если повспоминать, не столь уж и редки. Могу поведать... — Ломоносов запнулся, обдумывая и колеблясь, с чего начать, потом как бы про себя произнёс: — Нет, лучше сначала про других... Вот помню, что видел я мальчишкой, бывши в Архангельске на лесной бирже...
Ломоносов опёрся локтями на стол и неторопливо начал рассказывать:
— На той бирже высоченные штабеля гладкого строевого леса клетками выложены, в ожидании погрузки на суда. Между штабелями проходы, как улицы, сделаны, нешироки и глубоки. Дерева сложены друг на дружку в десятки рядов, а чтобы не раскатились — стойками подпёрты, и те стойки штабель держат. И если стойку свалить, штабель рассыплется, что и делают перед погрузкой, чтобы сверху, с высоты, стволы не таскать. А когда брёвна рассыпаются, глядеть страшно: стволы с грохотом этаким дровопадом валятся, и горе тому, кто под него попадёт. В тот день, когда был случай, о котором рассказываю, Матрёна, жена плотника Лепёшкина, баба из себя невидная, но лицом очень мила, пришла с двухлетним сыном на причал. Принесла обед: щи в глиняном горшочке, хлеб, треску отварную, всё, чтобы не простыло, в кулёчек уложено. Шла, в одной руке кулёк несёт, в другой — руку сына держит. Так и шли они вдоль прохода, как по улице, меж бревенчатых штабелей, издалека видные. Лепёшкин с артелью брёвна чистил, сына и жену заметив, даже помахал им рукой: «Вижу, мол, вижу». И сынок, отца увидев, руку у матери вырвал и вперёд затопотал, чтобы к отцу побыстрее.
И вдруг услыхала Матрёна, как что-то громко хрустнуло, ещё, ещё, и в ужасе увидела, как стронулся верхний ряд брёвен. Медленно, но, разгоняясь, покатились вниз балясины, надломилась стойка, и вот, ещё мгновение — и обрушатся брёвна сокрушающей лавиной прямо на мальчишку. Сама-то она на пару саженей сзади была, успела бы выскочить в сторону целых клеток. Но мать не может о том и помыслить — кинулась не назад, а вперёд, к сыну. Да не выдернуть ей его из-под брёвен, не выскочить!.. И Матрёна в рывке схватила руками не сына, а валящуюся стойку и сама в стойке задеревенела, криком зайдясь. Задеревенела, застыла в страшном напряжении и удержала-таки, удержала штабель от раската, на одну, на две, на три секунды!.. Держала, не себя — младенца спасая!
На тот её надрывный крик, мгновенно всё увидев и поняв, сорвалась артель с места, без страха по проходу кинулась, по пути ваги хватая. Подбежав, здоровенные мужики, с огромной натугой, да не руками, вагами, надрывно крича и напрягаясь, груз брёвен на себя приняли, стойки закрепили, Матрону от тяжести освободив. Она же, закаменев, всё не отпускала, ещё не понимая, что уже свободна и что сыну ничего не грозит. А как поняла, вдруг осела и, даже на ребёнка не взглянув, сникла в каком-то оцепенелом молчании.
Долго потом судили мужики, донимали Матрёну вопросами:
— То, что не испугалась, — нам понятно. За дите жизнь клала, о том не спрашиваем. Но как ты одна сумела удержать тот штабель, который целая артель мужиков едва одолела? Вот что скажи, это вот как?
А Матрёна тихо всхлипывала, ласкала сыночка и только одно отвечала:
— Чего понимать-то? Ребёночка жалко было. Задавило бы его. Не могла я отпустить, потому и держала.
Мужики в ответ только качали головами и переглядывались. Всю жизнь грузы тягали, и уж они-то знали, что сколько весит и что может человек, а чего нет. А тут и не человек вроде бы вовсе, а баба... И вот ведь, смогла! И ничем более не сумели сего объяснить, как только лишь божьей волей. На том порешили и долго случай тот поминали, как перст божий, своею милостью на Матрёну указавший и её отличивший.
Но я-то думаю, — завершил свой рассказ Ломоносов, — что и тут не божья воля проявилась, а человечья. И сие чудо внутри самого человека заложено. Но не всегда такое обнаруживается, а лишь в непредсказуемые минуты величайших порывов и напряжений.
И опять задумался о своём, о том, что уже много лет всплывало иногда из уголков памяти, на время лишая покоя. Мучило загадкой, ответа на которую найти и не мнилось, ибо лежало оное где-то за гранью доступных его пониманию физических законов.
— Ещё расскажу, — всё же заговорил Ломоносов, решив довериться Широву, ибо только в себе носить такое, да ещё учёному, трудно. Широв же коллега, ученик его, а ныне и сам уже муж учёный, должен понять. В мистицизме али бо и того хуже — в шарлатанстве не обвинит, свой он и ему, Ломоносову, верит.
— Ты, Лексей, верно, знаешь, что из дому, от отца, ушёл я учиться в Москву девятнадцати лет, — начал Ломоносов, и Широв в ответ согласно кивнул. — И с тех пор отца я ни разу не навестил и ни разу, до его смерти, не видел.
Ломоносов грустно потупился и, будто бичуя и казнясь, сам себя укорил:
— В том моя великая вина перед отцом! Вина несмываемая... Письмишками отделывался, но не навестил...
— Так ведь когда же вам было? — участливо вмешался Широв. — Учёба, заграница на четыре года, дела. Когда вырваться?
— Всё так, — грустно согласился Ломоносов. — Он как раз и умер, когда я был в Германии. О том и рассказ мой, но вину свою всё равно чувствую. Оттого, вероятно, а может, и ещё отчего и случилось странное... О чём и хочу рассказать.
И Ломоносов стал неторопливо, с грустью в голосе, рассказывать, что случилось с ним:
— Знаю, отец мой тосковал по мне в последние годы жизни, а перед смертью звал меня и мыслью ко мне стремился. Метался я тогда по Германии, дорогу в Россию изыскивая, и вот однажды, весною, засыпал смутно, и приснился мне смутный сон. Снился мне отец. И был он один-одинёшенек на известном мне острове в нашем море, куда нас с ним однажды, когда я ещё мальчишкой был, на гукаре нашем в бурю выбросило.
Тот остров, низкий, пологий, ветром насквозь продуваемый, я в том сне как наяву увидел. Как на нём отец оказался — не ведаю. Но только плохо было ему. Изнемог он от трудов своих, и видел я — кончается. Один, помочь некому, пусто вокруг, а он меня, сына своего, зовёт. Приподнялся с ложа, лицом исхудавшим ко мне обратился и зовёт:
— Михайла, сын мой, где ты? Помоги!..
Ломоносов сглотнул слюну, превозмогая спазм. Видилось Широву, что хоть и годы прошли с тех пор, но трудно ему забыть такое.
— Рванулся я, вскочил в порыве отцу помочь и... проснулся! — Ломоносов сокрушённо развёл руками, глядя на Широва, словно оправдываясь за свою беспомощность. — Сон это был. Сон! Но недаром говорят в народе о вещих снах. Я от того сна так просто уверился, что отец мой в ту весну умер. И я точно знал где — на том острове в Белом море.
В тишине громко тикал большой хронометр в ажурном медном корпусе. Серый сумрак уходящего зимнего дня вползал сквозь окна в неосвещённую лабораторию, и лишь на возвышении, ярким, кроваво-красным глазом, светилось огненное окошечко остывающей финифтяной печи.
— Как тем летом вернулся я в Россию, — негромко продолжал свой рассказ Ломоносов, — так и застал там уже давно поджидавшее меня известие из дому: отец ушёл в море и не вернулся. Я сразу же отписал знакомым поморам, умолял, упрашивал их зайти на сей безымянный остров, поискать на нём тело отца. И карту подробную нарисовал с описанием, как идти и где искать.
— И что? — словно слушая сказку, подался к Ломоносову Широв, весь изображая нетерпение. — И что? Нашли?
Ломоносов помолчал секунду, ещё более серьёзно посмотрел на Широва и тихо ответил:
— Нашли.
— На том острове?
— Да. На том острове. На том самом!.. Рассказали бы мне это другие, ответил бы им — небылицы плетёте. Но ведь сие не другие пережили... Не другие, а я сам! И за слова свои ручаюсь!
— Так что же? Чудесное видение?
— Не знаю. — Ломоносов снова задумался, на секунду замолчал, потирая щёки и подбородок, потом продолжил уже твёрдо и обдуманно: — Но было это! Факт это! Фактам же я верю и уважаю их!
Действительно, ничего не мог сказать против этого Широв: умел Ломоносов наблюдать факты и делать из них выводы.
— Так вот, раз это факт, то есть и причины, сии факты порождающие. Они в непознанных свойствах человеческих, которыми мы вполне владеть ещё не научились и которые порой нам кажутся чудом. Что юродивый, в мороз на снегу без опаски лежащий, что баба, гору сдержавшая ради спасения дитя, что моё видение... Наверное, в одном ряду эти явления стоят. Какие-то внутренние силы в вас есть, и в редчайшие минуты, и не у всех, но они проявляются.
Снова остановил речь, потом заключил:
— Когда-нибудь познают свои свойства люди. Доберутся до всего тайного. Но не мы, и это единственное, что я об этом знаю точно. Не мы! — замолчал и, отрешённо глядя в стекло потемневшего окна, подумал: «Непознанные законы природы, сколько вас? И сколь вы сложны?»
Шумахер, усадив в своём величественном кабинете, в креслах против себя, профессоров Миллера и Бакштейна, ставил перед ними дилемму: если в академии не только лекции, но и научные сочинения станут излагать не по-латыни, а на русском языке, верно ли будет?
— Латынь есть общенаучный язык. От древности и до наших дней всё на нём сообщается и пишется, — весомо говорил Шумахер, и профессоры солидно и согласно кивали париками. — А что у нас? Вон Ломоносов не успел профессором стать, как сразу же ввёл чтение лекций по-русски. Полезно ли нам это есть?
— Не полезно! — сразу же отсёк Бакштейн. — Ныне мы, латынью владеющие, уже по одному тому — избранная элита. Это нас над другими возвышает. А если данный барьер разрушить, то на бастионы науки кинется чернь, и нам их не удержать.
— Да. Это так, — отвечал Миллер. — Но мы от Ломоносова ни одного специмена и ни одной статьи на русском и не принимаем! Заставляем переписывать по-латыни, хотя он и противится.
— И впредь не принимать! — одобрил Шумахер.
— Однако есть трудности, — словно смущаясь и испытывая неудобство, ответил Миллер. — Кое в чём Ломоносов истинно прав, и нам порой трудно возражать.
— Какое значение имеют истина и правота, если они нам не полезны? — резко и откровенно выкрикнул Бакштейн, заработав тем одобрительную улыбку правителя канцелярии.
— И всё же. Вот подготовил профессор Ломоносов сочинение: «О пользе книг церьковных в Российском языке». Там почти всё на церковнославянском, о его пересечении с нынешним языком и влиянии на него. Как же такое на латынь переводить?
— Неважно, неважно! — кликушески упорствовал Бакштейн. — Тогда это сочинение надо раскритиковать, отбросить, запретить. Надо объявить, что оно целиком неверно, ошибочно, вредно. Но ничего, ничего по-русски не пропускать!
— В словах коллеги есть разумное основание, — теперь уже смягчая резкость Бакштейна, сказал Шумахер. — Если даже не найдётся веских причин для отвода сочинения, надо его надолго отложить, задержать. Потом что-нибудь придумаем. Тактика наша должна быть гибкой, но постоянной и временем не разрываемой.
— Но всё же лекции Ломоносов продолжает читать по-русски, — возразил Миллер.
— Да. Здесь мы пока бессильны, — сокрушённо развёл руками Шумахер. — К нему высокие персоны ходят. А они латыни не знают. И потому, увы... — Шумахер посмотрел на Бакштейна, который злобно поджал губы, словно спрашивая: «Так неужели мы, в академии всесильные, ничего не можем сделать?» — и успокаивающе произнёс: — Подождём, потерпим. Мы умеем ждать. Персонам все эти премудрости быстро наскучат. И вот тогда!.. — Шумахер тонко улыбнулся, и вся компания, поняв его угрожающее «тогда», улыбнулась тоже.
Ломоносов все те козни прекрасно видел и понимал, но держался твёрдо. Верил: если самому не отступать и другим открывать глаза, то потом всем легче станет. И потому, упрямо отстаивая российскую честь, продолжал читать лекции по-русски.
— Что значит говорить красно? — вопрошал Ломоносов на одной из своих лекций, стоя за кафедрой и оглядывая собравшихся в аудиторуме серьёзным и внимательным взглядом. — Как явить слушателям искусство красноречия, как сделать, чтобы мысль шла к цели кратчайшим путём? И чтобы не сухо всё было, красиво и интересно?
Аудитория скрипела перьями. Народу уже не менее двух десятков ходит, и молодых, и не очень. Пришлые — сзади, ряда эдак за три. В первом весь в звёздах Иван Шувалов; ничего не пишет, только слушает, рядом с ним два лакея дремлют. За ними во втором ряду Крашенинников, Котельников, Широв, Харизомесос, Клементьев и другие. Проявили недюжинные способности и влечение к наукам недавно пришедшие из гимназии совсем ещё юный Николай Поповский и чуть более взрослый Антон Барсов[110]. С ними Михайла Васильевич занимался отдельно, дабы побыстрее до уровня старших поднять. Пленял Барсов любознательной хваткой, влекло его к русской словесности, множество народных пословиц и поговорок в уме держал и к месту их высказывал. На обоих Ломоносов надежды возлагал, и они их в будущем оправдали. Недавно стал посещать лекции новый родственник Шумахера, за которого тот сосватал дочь, — Таугерт. Маленький, рыжеватый, с хитро прищуренными глазами; очень, очень угодливый.
«Пока, — усмехался Ломоносов, зная сию породу, — пока! Но что потом будет?»
Ну а Кирилла Разумовский, когда ему доносили, что прибыл Шувалов, на лекцию не шёл. Что-то его задевало, может, ревность царедворческая, может, спесь разъедающая. А может, просто наговоры Теплова — дескать, жирно будет Ломоносову, ежели такие вельможи хором к нему на лекцию потянутся.
— Как сделать, — говорил Ломоносов, — чтобы голос звучал не нудно, чтобы он мысль оформлял и нёс её к слушателям? И чтобы пустых слов не было, ибо нет прегрешения большего в красноречии, как непристойное и детское, пустым шумом, а не делом, наполненное многословие?
И отвечал на поставленные вопросы:
— Сё должно выражаться наукой о красноречии — риторикой и сведено в её правила — законы. А красноречие — это искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению. Есть законы природы — они даны нам природой извне. Правила, по которым живут и общаются люди, — это законы людские, их не природа ввела, а люди создали, кои сами есть дети природы. Но дети разумные, и они уже для себя строят правила, строят сознательно, добиваясь той или иной пользы и выгоды.
В речении — тоже правила. Речь строят люди, и не абы как, а каждый народ строит свою речь по своим законам. Познать сии закономерности не менее важно, нежели дать миру иные полезные открытия.
Ломоносов увлёкся лекцией, излагал чётко, убеждённо:
— Что важно в правилах прозаической и стихотворной речи? Для разных дел надобно употреблять разную речь, разные штили. Всего под одну гребёнку не причёсывать.
Есть высокий штиль. Им пристойно говорить о важных материях, употреблять в поэмах, одах. Сим-то они от обыкновенной простоты к важному великолепию и возвышаются. А возвышенное людям нужно, без возвышенного и человек мельчает, принижается.
Понимал Ломоносов назначение высокого стиля, часто им пользовался и стремился это понимание донести до других. Но понимал также, что принижать и затирать высокий стиль нельзя. И потому определил дальше:
— Затем есть средний штиль. Он для театральных сочинений, с употреблением обыкновенных человеческих слов, ведущих к живому представлению действия. Оный же штиль подходит и при написании дружеских писем, сатиры, елог и елегий. Сюда же можно принимать и славенские речения, однако с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Можно здесь и низкие слова употреблять. — Сказав слово «низкие», Ломоносов улыбнулся, даже чуть ласково, показав, что никакого пренебрежения он к сим словам не испытывает. «Низкий» — это тот, что ниже высокого, но вовсе не подлый. — И тут же уточнил: — Но, употребляя такие слова, надо, однако, остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И лучше держаться возможной ровности, не нарушая её соседством высоких речений и простонародных.
Сделав паузу, чтобы отделить сказанное, стал говорить далее:
— Есть и низкий штиль. Там те речения, которых вовсе нет в каноническом, церковнославянском языке, но вошедшие в употребление. Этим штилем должно описывать обыкновенные дела, писать комедии, епиграммы. Просто разговаривать, как то мы и делаем. Здесь и простонародные низкие слова допустимы, ежели к месту приходятся. Из этого низкого, народного штиля и идёт приток новых слов. Грамотный книжник отвергать их не должен, однако обязан отбирать только лучшее и с великим тщанием и осторожностью подобно тому, как пахарь, собрав урожай, отделяет зёрна от плевел — зёрнышка не потеряет. Но шелуху отсечёт безжалостно, и потому непременно надо отвращать дикие и странные слова-нелепости, входящие к нам из чужих языков.
Лекция текла живо. Ломоносов то обращался ко всем одновременно, то смотрел на кого-нибудь одного, вглядываясь тому в глаза, то снова пробегал взором по рядам, опять привлекая к себе всех и словно объединяя слушателей в единую дружину. Заражая их своей увлечённостью, говорил:
— Речь не должна быть суха, но поэтична. Для того можно употреблять метафоры, то есть переносить речение от собственного знаменования к другому, ради некоторого обоих подобия. И о любой, самой строгой материи говорить образно не зазорно. — Затем, подняв голос, понёс слушателям, по его мнению, самое важное, что всю жизнь отличало его самого от других: — Нельзя забывать, что хотя доводы ваши порою сами довольны к удостоверению справедливости предлагаемой материи бывают, их одних мало. И потому сочинитель слова должен, сверх того, слушателей учинить страстными к оной. Страстными, и это очень важно!
Да, это очень важно и нужно, и Ломоносов всю жизнь это понимал. Сам всегда учинялся страстным, страстно говорил, страстно науки любил, страстно поступал. Страстно, не ища собственной выгоды, страстно, без боязни чьей-то мести — действовал. Страстно, только за-ради осознанной им пользы наукам, людям, России, вёл себя. И ненавидел бесстрастных, равнодушных, всегда осторожных. А видя таковых перед собой, теребил их своими речами, бередил порой нарочитыми поступками, потрясал сердца и души лучших, твёрдо веря, что в толпе равнодушных есть просто неразбуженные. Слово его дойдёт до них, глаза их откроются, вырвутся они из трясины равнодушия, болота паразитизма и пойдут вперёд, за ним. А потом некоторые, обогнав, и впереди его! Вот почему был он страстен без страха и упрёка и видел в том назначение страстных!
Через некоторое время, собрав свои мысли на бумагу, издал Ломоносов книгу «Риторика». То было первое в России руководство к красноречию: «...книга перьвая... сочинённая в пользу любящих словесные науки трудами Михаила Ломоносова...»
Шуваловские столяры разбирали паркет в анфиладе академических покоев, заменяли потрескавшиеся и выпавшие плашки, обновляли циклями старые, наводили блеск и красоту. Приятно пахло стружкой и спиртовым лаком, но комнаты стали непрохожими, и, кроме столяров, туда никто, чураясь ремонта, не заходил. Только Ломоносов, любя всякую работу, что делать, что глядеть, порой появлялся, смотрел, как ловкие руки клали чудный деревянный узор; кое-чему учился, кое-чему сам учил.
Так, увидев, что столяры кладут паркет просто на костяном столярном клею, который застывал слишком быстро, мешая подгонке и перекладке, решил химию к сему приложить. Сенька-мастер, мужик лет сорока, в холщовом переднике, таких же портах и мягких войлочных чунях, дабы сделанную работу ногами не царапать, долго отнекивался.
— Не извольте беспокоиться, ваше степенство. Всё отменно сделаем.
— Так давайте я вместе с вами клей поварю. Мне это привычно, — уговаривал Ломоносов. — Чего я только не варил через свою химию.
Столяры, видя такое доброе обхождение и неспесивость барина, а он вроде бы явно барин, даже раз в парике к ним пришёл, располагаясь к нему, перестали дичиться и пошли за ним в лабораторный класс. Долго колдовали: Ломоносов что-то вывешивал, добавлял, грел, двое столяров рядом толклись, дивясь невиданному ремеслу, — и в результате получилась добрая мастика.
Маслом мазалась по доскам настила, не сразу застывала, позволяя лучше подгонять плашки паркета, а застыв — схватывала вмёртвую.
Когда Ломоносов на другой день зашёл к столярам, Сенька-мастер не мог нахвалить мастику:
— Чудеса в руках мастера, — говорил он. — У нас ремесло простое, у тебя, барин, чу́дное. Но для всего руки нужны, а они у тебя, видать, золотые. — И хоть, по мнению Ломоносова, золотые руки были как раз не у него, а у столяров, те не соглашались. И, не зная, чем угодить Ломоносову, Сенька лишь и мог что закричать подмастерью: — Ванька! Налей-ка барину нашего кваску.
Ломоносову поднесли затейливо долблёную деревянную сулею с искристым, пенящимся квасом, и он с наслаждением стал пить пахучий прохладный напиток. Сенька-мастер, глядя на него, тоже будто сам пил, вкусно чмокая, и с певучей мягкой растяжкой приговаривал:
— Ах, харош, масковский квасок. Пьёшь — не нарадуешься. Остер квасок — к нему бы хлебца кусок.
— Да, квас чуден, — напившись, утирая губы и переводя дух, ответил Ломоносов. — А вы из Москвы давно?
— Да уже с полгода, как их сиятельство граф занарядил нас сюда, в стольный град. В его палатах паркет собирали, ныне вот здесь чиним. — Мастер немного погрустнел, оглянулся на свою артель и добавил: — А уж кагда дамой, в Подмасковную-то, нам незнамо. Как их сиятельство решит.
В этих «кагда», «дамой» и «незнамо» снова прозвучало то нежное, растянутое «а», так характерное для московского говора, который Ломоносов и любил и отличал. Даже подражал ему иногда, хотя совсем истребить своё лёгкое северное окание вовсе не пытался. В своих стихах этот певучий говор, конечно же, не мог обойти и не отметить, потому и написал ласково:
Великая Москва в языке столь нежна, Что «А» произносить за «О» велит она...И его собственная речь, при совершенной грамотности, была своеобразна, сочна и книжные слова не повторяла.
— В языке отклоняться от писаного можно. Язык творит народ, а он покуда читать не весь умеет, — передавал Ломоносов Клементьеву своими словами споры в Российском собрании, где верховодил Тредиаковский.
— Что же, прикажете иметь язык писаный и язык устный? — задавал вопрос Ломоносов и тут же категорически отверг: — Нельзя иметь двух языков: один дворянский — писаный, другой крестьянский — устный. А Сумароков вот, ежели разобраться, именно того хочет. Видный поэт, но в языке барствует, — качнул головой Ломоносов, и одобряя Сумарокова-поэта и в то же время осуждая его за высокомерие.
— Счастье России в том, что русский язык един, что все друг друга понимают, хотя людей порою разделяет не одна тысяча вёрст. А вот в Германии люди, живущие всего за сотню вёрст, к примеру бранденбуржцы и швабы, друг другу уже толмачить должны, иначе плохо понимают. — Это — по расстоянию, — пояснял далее Ломоносов. — А по времени? — посмотрел на Клементьева, словно ждал от него ответа, по опять тут же ответил сам: — И по времени дистанция не помеха. С древнеславянских времён язык не столь изменился, чтобы понять его ныне было нельзя[111]. А множество церковнославянских слов так просто в обиход вошли.
— Но всё же Тредиаковский велит говорить, как пишешь, и писать, как говоришь, — передал Клементьев дошедшие до него отголоски дебатов в профессорских верхах.
— Велит, — ответил Ломоносов. — Да кто его слушать будет? Народ как говорил, так и говорит. И писать надо для народа, и то мы делаем. Едино для всех. А не то сколько диалектов, столько и грамматик будет. — Ласково потрепал Клементьева за вихор и сказал: — Вот кончаю грамматику русского языка. В ней правила излагаю и описываю орфографию, коя должна служить чистому выговору.
— Ох и трудно правописание, — вздохнул Клементьев. — Вон Харизомесос на что уж писец знатный, а на фите сломался. Так и не объяснил мне, почему ныне, например, имя Фёдор пишется через фиту, а Фёкла — через Ф.
— Это я могу тебе объяснить, — Ломоносов лукаво усмехнулся, посмотрев на Клементьева.
— Объясните.
— Фита, от она... — Ломоносов быстро написал на листе большую фиту и поставил листок ребром. — Гляди, она равновесия на строке не держит, того и гляди свалится на бок, как пьяный мужик.
Клементьев недоверчиво посмотрел на Ломоносова, не понимая, серьёзно он говорит или шутит. На всякий случай спросил:
— Ну и что?
— А то, что литера Ф, наоборот, гляди, стоит, как баба, руками подпёршись, и потому бодрее выглядит. Ея для бабы и берут.
Теперь Клементьев понял, что Ломоносов шутит, и заулыбался:
— Вы их, Михайло Васильевич, как живых выставляете.
— А что? Они и похожи на живых, ибо глас людской выражают. Вот смотри, — Ломоносов снова стал писать литеры и пояснять: — Ежели будешь перекликать их на улице, то станут они для нашей стужи в широких шубах, какие они носят в церковных книгах, — Ломоносов писал растопыренные старославянские знаки, показывая, как широки эти литеры.
— А в гражданской печати сии буквы уж словно раздеты; представь их в летнем платье.
Клементьев улыбался смешным оборотам, а Ломоносов спросил далее:
— Вяземские печатные пряники ел? Литеры на них разглядывал? — Клементьев утвердительно кивнул, и Ломоносов сразу же новое обличье буквам сделал.
— Так писали в старинных книгах на заставках, — вывел он на листе новые знаки. — Буквы вытянутые, с длинными палочками, будто люди на ходулях. Правда, похоже?
Оба снова засмеялись, а потом, кончая разговор, Ломоносов задумчиво произнёс:
— Очень, очень надо эту работу завершить. Закрепить грамматикой правила русского письма.
Впоследствии, показывая Шувалову рукопись «Грамматики», говорил, не столько жалуясь, сколько поясняя, почему всё, что задумал, как ему кажется, не выполнил:
— Меня хоть другие мои главные дела и воспящают от словесных наук, однако видя, что никто не принимается, я хотя бы начну...
Но он не только начал, но и кончил — издал первую обстоятельную русскую грамматику, много служившую просвещению народа. Вместе с ранее изданной «Риторикой» они составили первый свод законов русской речи и письма.
Законы родного языка!
Глава 4 ЗА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ...
Мой нрав был завсегда уму порабощён.
М. Ломоносов
Григории Теплов вёл себя на удивление странно и непоследовательно. «Правая рука президента Кириллы, а мудрой устойчивости не проявляет. За каждым дуновением ветра следит, в любую сторону готовый уклониться», — думал о нём Ломоносов, с огорчением вспоминая времена, когда и он и Теплов стремились к званию адъюнкта и даже делали шаги если не к дружбе, то к товариществу.
Теплов был неглуп, имел способности к языкам, но цифирь, геометрия и прочая математика давались ему с трудом. И потому здесь он часто прибегал к познаниям Михаилы, и тот много помог ему; может, без той помощи не добрался бы Теплов даже до звания адъюнкта. А нынче, наоборот, Ломоносову нужна бы помощь Теплова, да не тут-то было — не спешит тот с поддержкой, выжидает чего-то. И в сваре с Шумахером, когда комиссия работала, Теплов выжидал. Когда же понял, что Шумахер уходит от возмездия и обвинён не будет, сразу его сторону принял. Ныне ленивым Кириллом вертит как хочет, но только ради своих страстей, а не к общей академической пользе.
«А ведь как хорошо бы с ним объединиться и в дело направить, — думал Ломоносов. — Он же русский. Вместе с ним смогли бы мы укрепить академию. Держались бы россияне вместе — ничто бы их сокрушить не могло. Но ведь нет того, и не идёт Теплов на прочный союз».
Как раз подошло время получить остатние деньги из выделенных Сенатом на строительство лаборатории.
— Это есть дотация академии к её бюджету. Академии! — с нажимом заявил Шумахер Ломоносову. — Пусть оная дотация имеет целью направление в лабораторию. Пусть. Но канцелярии академии дано право это направление регулировать. И расходы проверять.
Ломоносов в упор смотрел на тощую, как ему казалось, чуть вибрирующую фигуру Шумахера. В этой змеиной гибкости противника Ломоносову вдруг увиделась постоянная сиюминутная изготовленность того либо к молниеносному укусу со столь же мгновенным отступлением, либо к льстивому, изгибающемуся поклону. Причём без намёка на обиду за то, без гордой вспыльчивости и прочих давно отброшенных эмоций. Всё подчинено делу быстрейшего извлечения выгоды, всё лишнее — устранено.
«Вот ведь какой совершенный всесосущий инструмент высокой приспособляемости создала природа в лице сего субъекта», — уже не как противник, но как любознательный естествоиспытатель подумал о Шумахере Ломоносов. Однако, решив до конца выяснить, куда тот клонит, спросил:
— Так когда выплату сделаете? Дела по лаборатории почти закончены, хотя многие и в долг. Мне с рабочими надо расплачиваться, с подрядчиками и за материалы разные.
— Когда представите отчёт по расходам, а мы его рассмотрим, проверим и признаем, вот тогда и о выплате поговорим.
Понял Ломоносов, что Шумахер уже вцепился в деньги и вырвать их у него будет непросто. Потому решил сходить к Теплову.
Попал не сразу. Теплов, лицо президента представляя, важничал и через писца секретарствующего всё отнекивался и встречу перекладывал. Но наконец сошлись.
Ломоносов вошёл в президентский кабинет, где за внушительным столом владетельным вельможей восседал Теплов. На нём синий асессорский вицмундир, а на шее — недавно полученный Владимирский крест[112], предмет лютой зависти Шумахера. Взглянул Ломоносов и вдруг с ясностью ощутил, что Теплов и Шумахер чем-то похожи, не внешне, а иным, внутренним. Причём Теплов у Шумахера явно заимствует: и раболепство перед начальством, и наглость с низшими, и ждущую готовность немедленно угодить сильнейшему.
«Ах ты, боже мой! Вот так плодятся шумахеры! — ахнул про себя Ломоносов. — И всё ради чего? Сытого брюха, тёплого места, дутой важности!» — Говорить даже расхотелось о том, зачем пришёл, но всё же заставил себя и решил попытаться затронуть лучшие струны души Теплова. Есть же она у него.
— Послушай-ко, Григорий Николаевич, — начал Ломоносов после кратких приветствий, — мелочами надоедать не буду. И деньги Шумахер утаивает, и учеников моих от меня отвращает, и в представлении их в адъюнкты задерживает, и многие другие козни строит, но это все следствия. А я на причины хочу внимание направить...
Теплов сидел, величественно поджав губы, ни одним мускулом лица не выказывая, что согласен или возражает, оставляя за собой право до конца разговора скрыть своё отношение к предмету. А Ломоносов рассказывал о злонамеренной стратегии Шумахера и его подлых, но продуманных приёмах, жадности, о бедах академии и бесчинствах, в ней творимых во вред наукам:
Не ты ли, Григорий, писал: «...канцелярия без членов, университет без студентов, правила без власти и в итого беспорядок, доселе безысходный». Помнишь? Мы когда-то вместе всем сим возмущались.
Ломоносов уже воспламенился, но сдержал себя, дабы его горячность не составила большого контрасту спокойной холодности Теплова.
— И ныне ничего не изменилось, чужой нам народ объял академию, всех нас, россиян, в пучину гибельную толкает. И происходит это не потому, что сии чужестранцы умнее и способнее, а мы глупее и нерадивее, как они сами то разъясняют. Нет, вовсе нет! Дело в том, что чужаки спаяны, мы разобщены, они друг дружку тянут, а мы топим. Они умных и энергичных россиян бьют прицельно, дураков же ставят и поддерживают, в своих холуёв их тем обращая. Мы же на то смотрим, ушами хлопаем и рассуждаем о христианском равенстве и гуманной снисходительности.
Лишь самую малость, чуть-чуть, дрогнуло тело Теплова, а затем снова застыло, опять ничего не выражая. Он всё ещё не избрал позиции и потому безмолвствовал.
— Сегодня вот ты в чести и милости, — снова убавив голос, проникновенно говорил Ломоносов, — но больше следуешь стремлениям своей страсти, нежели академической пользе, хотя представляешь всё под именем охранения президентской чести.
Это можно было бы считать прямым вызовом, но Теплов, уже вникший в тонкости лицемерия, опять не отозвался, лишь полуприкрыл глаза и наклонил голову, как бы призывая Ломоносова продолжать.
— Но на всё несмотря, ещё есть в тебе время обратиться на правую сторону. Говорю это только в той надежде, что иногда примечал в тебе и добрые о пользе российских наук мнения.
Сие уже не дерзость, это призыв, замешенный на доброте и признании его, Теплова, заслуг. «Пожалуй, можно будет в итоге и не обидеться», — подумал Теплов.
— Ещё уповаю, что ты не будешь больше ободрять недоброхотов русским учёным. Откинь льщение опасных противоборников наук российских. У них что хула, что лесть — на языке не задерживаются и не от души, а от хитрости идут. Бог свидетель, для себя я сим ничего не ищу, как только чтобы закоренелые несчастья академии пресеклись.
Теперь уже Ломоносов замолчал, выдерживая длинную паузу. Потом с грустью произнёс, как бы готовясь оторвать от себя что-то дорогое, во что он ещё верит:
— Буде ж ещё так всё останется и мои праведные представления уничтожены о тебе будут, то я забуду вовсё, что ты мне некоторые одолжения делал. Приватно отблагодарю, но души своей к тебе более никогда не приложу. — Прямо посмотрел в глаза молчавшего Теплова и окрепшим голосом, по-прежнему грустно, но твёрдо заключил: — За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
Сказал, а душа сжалась, ибо то была истинная, жестокая правда. Он сам, действительно, ради стремления к наукам восстал против отца, восстал, покинул дом и за то никогда более отца не увидел. Нигде не говорил неправды Ломоносов, даже если это било его в самое сердце; не сказал и тут.
Думал Теплов во всё время разговора, как повернуться, чтобы не промазать, что ответить, чтобы не прогадать. А слова действовали; чувствовал он великую силу убеждённости, которая исходила от Ломоносова, сила эта обнимала и завораживала, как он тому ни противился.
Да и те идеи, кои проповедовал Михайла, не чужды были Григорию, сидели внутри, с молоком матери впитались, хотя и задавлены были стремлением к возвышению. Он на секунду почувствовал себя ребёнком, неодолимо тянущимся к светлому огню, хотя уже и знал, что об него можно больно обжечься.
Но всё же огонь пересилил, убеждающее влияние могучего ума Ломоносова на сей раз преодолело его, Теплова, мелкие расчёты, и он если и не тепло и задушевно, то уже и не враждебно и холодно ответил:
— Не чужд я, Михайло, твоим устремлениям. Не чужд. Но не всё могу сделать... — А про себя подумал, что в деньгах, выделенных Сенатом на строительство лаборатории, Ломоносов бесспорно прав и ежели шум поднимет, то несомненно правоту докажет. Так что вернее его заранее поддержать. Потому изрёк:
— А насчёт денег изложи всё письменно и подай мне. Думаю, президент верно распорядится.
Уходя, Ломоносов огорчённо подумал, что один, частный, вопрос решился, но вся проблема — осталась. И хоть вроде и внял Теплов ему, и выказал это, а опорой его по-прежнему не назовёшь. Не обопрёшься на него надёжно — выскользнет.
Ещё более огорчился бы Ломоносов, ежели бы мог заглянуть вперёд. Заглянуть и узнать о том, как, ползучим вьюном прилипая то к одному столпу, то к другому, от Ломоносова к Разумовскому, от Разумовского к Воронцову, доберётся-таки Теплов до самого верха — станет личным секретарём императрицы Екатерины II.
Что ж, сосущие шумахеры и ползущие тепловы могут процветать десятилетиями. Но ежели бы даже и мог Ломоносов в эти десятилетия заглянуть, то, испытав огорчение, потом усмехнулся бы и то огорчение просто бы стряхнул. Стряхнул и забыл, ибо про себя самого уже чувствовал, а то и знал, что он, Ломоносов, — избранник судьбы и проживёт не десятилетия, а войдёт в века!
Ея Императорского Величества Тайная канцелярия, или по-старому — Приказ тайных дел[113], управляемый никогда не улыбающимся, суровым, всем внушающим душевный трепет Андреем Ушаковым, без дела не сидел. Сыск вели по всей Руси, на Литовских и Польских рубежах и даже за границей. Работы было много, ибо крамола государственная и внутри замышлялась, и снаружи, и из-за рубежей подогревалась. Да и не удивляло то Ушакова[114]: в очень трудном политесе русский трон оказался. И ниточка к тому ещё при отце Петра Великого, блаженной памяти царе Алексее Михайловиче[115], завязалась. Два раза женат был царь Алексей и от двух жён сыновей имел: старшего, от Милославской, умом тронутого Ивана[116], и младшего, от Нарышкиной, Петра, прозванного затем Великим. И на обоих в своё время Мономахов венец возложили, и было тогда на Руси два царя. Только самому Петру Великому его слабоумный брат и его потомство — дочери Екатерина и Анна — не мешали. Думать о них все позабыли: заслонила их гигантская фигура Петра Великого. И Пётр дочерей Ивана не трогал, выдавал замуж за немецких принцев и в мыслях не держал, что этот род после него на русский трон взойдёт.
Но судьба не была милостива к династическим замыслам Петра: сын Алексей[117] от Евдокии Лопухиной не оправдал надежд, сыновья от второй жены, Екатерины[118], умерли во младенчестве, остались лишь дочери. По завещанию Петра после него стала царствовать жена его Екатерина — слишком сильны были тогда «птенцы» Петровы, коих он возвысил, и никто не осмелился при них воле покойного перечить. А вот после её кончины дворянские верховники, из ранее обиженных, а ныне силу набравших, воспользовавшись ранней смертью внука Петра Великого, Петра II, возвели на престол не Петрову, а Иванову дочь — Анну.
И началось смутное царствование, разнузданная власть временщика Бирона, измывательство его ставленников — немцев, истеричное и взбалмошное правление Анны Иоанновны, по-кошачьи влюблённой в Бирона, не смевшей ни в чём ему перечить и державно не дозволявшей перечить ему другим. А после сих мрачных одиннадцати лет, названных бироновщиной, Анна перед смертью настояла, чтобы после неё короновался на русский престол также Иванов потомок, её внучатый племянник, младенец Иоанн VI, что и было сделано в октябре 1741 года.
Смутное было время, шаткое, трудное. Все искали лучшего, но побеждал тот, кто сию минуту был сильнее. А Россия опять устранилась, опять задремала, словно бы её и не касались все эти дворцовые перевороты; ушла в собственные будни и праздники, уже позабыв о Разине, но ещё не набрав ярости для пугачёвщины[119].
И потому через месяц после смерти Анны гвардия, раздражённая долгим немецким самоуправством и разогретая обещаниями Елизаветы, совершила дворцовый переворот и помогла ей сесть на престол.
Новая императрица самолично участвовала в перевороте; в кирасе, надетой поверх платья, во главе гренадер вступила во дворец. Прослезившись, поцеловала младенца-императора и вместе с матерью, Анной Леопольдовной[120], и отцом, Антоном Ульрихом Брауншвейгским, отправила в ссылку. Сначала милостивую и близкую — под Москву, затем в суровую и дальнюю — на север, в Холмогоры, а ещё позже — в мрачный Шлиссельбург — навсегда; но о том речь будет впереди.
Вот так и получилось, что на российском троне сидит Елизавета, Петрова дочь, законная вроде бы государыня. Но в ссылке томится уже подросший мальчик-император, тоже законный. Опять двоецарствие, опять смута. И потому Приказ тайных дел покою не знал.
Ушаков сам читал доношения о всех сомнительных делах, сам выносил решения. И вот усмотрел нечто. На Польском рубеже изловили подозрительного мужика, назвавшегося Аверьяном Андреевым и не скрывавшего, что он беглый солдат Преображенского полка, уже много лет числящийся в нетях. Был Аверьян мужиком жилистым, с неистовым взглядом одержимых глаз. На допросах но путался, вины своей от побега не отрицал, показывал одно и то же, не сбиваясь. Да и как отопрёшься? На левой руке ещё с рекрутских времён крест вырезан и порохом натёрт. Аверьян в бегах опал, ни жиринки не было в теле, но говорил связно, хотя временами, казалось, плёл околесицу.
И не стали бы с ним возиться в Тайном приказе: выпороли бы шпицрутенами перед строем и опять в полк служить отправили бы. Да только не в столичный Преображенский, а куда-нибудь к чёрту на кулички: на север, в Кемь, или на юг, в Астраханский гарнизон. Но то было подозрительно, что шёл Аверьян не за рубеж, а в Россию. И хоть писаных грамот при себе не имел, но нашли в котомке у него половину серебряной монетки — польского злотого. Как так — серебро у галаха? И почему распилена монета пополам? Не пропустил того доношения Ушаков мимо и распорядился приволочить Андреева в столицу в Тайный приказ.
Там опять принялись бить беглого, но теперь уже с целью выяснить, куда и зачем шёл. Били умело, с толком; узник боль терпел адскую, а для жизни не опасно — Ушаков приказал ни под каким видом не переводить солдата. А тот стоял на своём. Показывал, что едва ли не пять лет назад, напившись пьяну, свалился в беспамятстве в подворотне голицынского особняка. А как проснулся, обнаружил, что кафтана на нём казённого нет: украли. Понял, что попал в беду: в полку капралы ему того не простят и тому, что кафтан украден, а не пропит, ни в жисть не поверят. Стал-де Аверьян оттого рыдать, и плакать, и дьявола поминать. А дьявол тут как тут — раз и явился ему в образе опрятного мужика. Андреев испугался. Но дьявол прикинулся добрым, протянул два рубля и велел новый кафтан справить и беду отвести. А об расплате дьявол велел не беспокоиться: сам, дескать, напомню.
Приказные дьяки слушали ту взбалмошную речь, всё записывали, но промеж себя пересмеивались: «Вот, дескать, как врёт складно. Да зачем только? Ничего тем себе не выговорит».
Аверьян же далее показывал:
— Купил я кафтан на Морском рынке, капралы ничего не заметили, даже отлучку во внимание не приняли. Служил не тужил два года, забывать стал обо всём. Ан нет! Вдруг является ко мне тот же мужик и говорит, что пришёл за долгом. А где взять столько денег? Что делать? «О деньгах не беспокойся, другим расплатись, — сказал мужик, — крест поганый, четырехлапый, скинь, служить брось, иди за Польский рубеж к старообрядцам на реку Сож, к старцу Варсонофию. Он тебе далее всё сам укажет».
— И что же ты сделал? — уже с интересом выспрашивали у него писучие дьяки. — Крест скинул?
— А вы б чо сделали? — с вызовом ответил Андреев, как будто бы и не его пытали. — Ясное дело — сбросил! И пошёл, куда указали. Дьявол же ведь! Против него как?
Дьяки писали, но пересмеиваться перестали. Всяко в мире бывает. Может, и не всё врёт Аверьян, и тогда чего? Над дьяволом-то не больно посмеёшься.
А об монете Аверьян показал, что её-де ему сам дьявол дал. И говорил: «Даю для того, чтобы старец тебе поверил, — ему покажи. И чтобы и меня ты угадал, когда я в другом образе к тебе приду. У меня будет вторая половинка той же монеты — по ней ты меня и узнаешь».
Читал Ушаков показания Аверьяна Андреева, хмурился, не зная, то ли правду мужик говорит, то ли врёт. Может, прикидывается дурачком, может, и в самом деле блаженненький — видения имеет.
Ещё выяснилось, что два года провёл Аверьян у беспоповцев, что на Ветке по реке Сож, за Польским рубежом, обретаются. Старец Варсонофий его не притеснял, только молиться заставлял много. Говорил:
— Прилетит архангел на белых крыльях, с собой всех заберёт и дьявола поразит.
— Ну и прилетел архангел? И где ты дьявола встретить должен? И что ему сказать, когда его признаешь? — в который раз спрашивали дьяки. И каждый раз, и после битья немыслимого, и после хорошего обеда, коим его смягчить хотели, Аверьян упорно отвечал:
— Не погублю душу. Не скажу! Плоть терзайте, ваша она! А душу спасу. Не скажу!
И тогда Ушаков, не слушая дьяков, приказал Аверьяна Андреева расковать, накормить, отдать армяк, портки, лапти, котомку с половинкой монетки и ней и отпустить на все четыре стороны. А от себя ещё и шапку лисью, пушистую, тёплую, а заодно и приметную, пожаловал:
— Носи на здоровье, посрами дьявола. И хоть ты крест и сбросил, но дело у тебя благое — мешать не будем.
Однако непрост был Ушаков. Перед тем как отдать злотый Аверьяну, взял другую такую же монету и так же точненько пополам распилил. Аверьяну новую половинку отдал, а другие себе оставил. И приказал двум лазутчикам-соглядатаям под страхом живота выследить, куда направится Аверьян. И чутьё Ушакова не обмануло. Первое донесение от лазутчиков было о том, что Аверьян после малого отдыха пристроился к санному обозу с пенькой, который шёл не куда-нибудь, а в Архангельск, прямо через Холмогоры.
Пребывавший ныне в академии учеником Иван Харизомесос был по-настоящему счастлив и горд. Михайла Васильевич обещал устроить его в астрономическую обсерваторию, дать большую ночезрительную трубу и учёное задание: вести наблюдение солнечного затмения. Выпало наблюдать редчайший случай — затмение Солнца планетой Венерой. Диск Венеры должен был пройти через Солнце; начало явления было давно наиточнейшим образом вычислено. Иван основы небесной механики Коперника уже изучил и те вычисления сам тоже проделал и перепроверил. Месяцы провёл в труде беспросветном, перемножая столбиком и деля уголком бесконечные заборы шестизначных цифр. Строил на бумаге эллиптические орбиты Земли и Венеры, проводил лучи из фокуса, в коем находится Солнце. И радость высокую испытал, когда вычисления кончил и нашёл время совместного прохождения Земли и Венеры через луч, из Солнца исходящий. И время-то совпало с вычислениями других астрономов.
Ещё за месяц до срока затмения[121] Ломоносов попросил профессора астрономии Эпинуса[122] дать место в обсерватории двум молодым российским учёным — своим ученикам астроному Андрею Красильникову и математических наук подмастерью Ивану Харизомесосу. Эпинус тому несказанно удивился и даже оскорбился. Обсерваторию он считал своим личным кабинетом, давно уже никого туда не пускал и держал её на замке, а ключ от замка — в своём кармане.
Шумахер с деланным сочувствием разводил руками, говорил, что-де обсерватория маленькая, труб мало, и те, что есть, все дорогие; как бы не сломал их подмастерье. И вообще убеждал, что Эпинус всё сам при затмении сделает наилучшим образом и, дескать, вам, господа россияне, там делать нечего.
— Вот так! — грохотал Ломоносов своим заметным голосом, смотря на удручённые лица Ивана и Андрея. — Столько трудов положили на подготовку, такое явление уникальное, и на тебе! Без нас обойдутся, без нас всё сделают! — Ломоносов кричал, ища выхода рвавшейся наружу обиде и раздражению: — А вон землю пахать без нас не хотят! И хлеб растить, и державу защищать не хотят тоже! Это уж мы должны делать, одни, без них! — Ломоносов произнёс последнюю фразу саркастически и затем решительно рубанул: — Подадим жалобу в Сенат!
Красильников и Харизомесос сначала опешили, но Ломоносов отступать не желал и убедил их в том же. Да и они очень уж хотели прикоснуться к редкому событию. Едва не полдня обсуждали и сочиняли жалобу, затем Красильников самолично отнёс её и сдал под роспись писцу в челобитном столе. Писец сначала было без мзды и говорить не хотел: раз просишь о чём, так плати. Но когда вник в смысл просьбы и понял, что у Сената испрашивают разрешения смотреть на Солнце и Венеру, вытаращил глаза и несказанно удивился. Смотри сколько хочешь! Ведь никакой корысти из того извлечь нельзя.
— И зачем это вам? — искренне изумляясь, спросил он Красильникова. — Что так смотреть на звёзды, что через трубу, всё одно — баловство.
— ...Деус нобис хеац отиа фецит[123], — величественно ответил ему Красильников латинской фразой из Вергилия и удалился, оставив оторопевшего писца в полной прострации.
Тем не менее жалоба, как совершенно непонятная и посему казавшаяся экстраординарной, без задержек прошла скрипучий канцелярский механизм Правительствующего Сената и была решена положительно и, что ещё более невероятно, в должный срок. Предписывалось выдать Красильникову и Харизомесосу «инструменты исправные», а дабы не было препятствий со стороны Эпинуса, ключ от обсерватории у него отобрать.
Немцы в академии долго шипели по углам. Потаённо собирались в кружки, наклоняя друг к другу головы, лопотали по-своему; размышляли и прикидывали, чем бы этому неуёмному русскому досадить, чтобы унять его покрепче. А когда много бесчестных голов долго думают, какую-нибудь мерзость измыслят обязательно.
И только профессор Георг Рихман, с которым Ломоносов в последнее время ближе сошёлся, одобрил и поздравил с преодолением рогаток. Был Рихман тощ, любознателен и правдив. Порой за Ломоносова вступался перед Шумахером, и Ломоносову это стало известным. Потому-то за сию правдивость и открыл Ломоносов Рихману свой ум и душу, а тот отозвался, и с того пошла ежели пока ещё не дружба, то уж несомненные понимание и взаимное влечение. А от того и до дружбы один шаг: друзья-то ведь это не те, кто тебе слова приятные говорит, но лишь те, кто тебя поддержать не боится и заслонить готов.
Наблюдение затмения Солнца Венерой русскими учёными дало много интересных и новых фактов; публикации о том стали известны всей учёной Европе. Но Эпинус сорвал-таки наблюдение через большой телескоп. В знак своего неудовольствия он вообще в тот день покинул обсерваторию, заодно не поставив на место объектив новой телескопической трубы, который он брал якобы для доводки, чем и лишил наблюдателей главного инструмента. А Ломоносов, не зная о том, что труба освободилась, и, дабы не лишать места в обсерватории двух молодых астрономов, Ивана и Андрея, оборудовал наблюдение через малую трубу у себя дома на крыше. И наблюдения состоялись в назначенный час.
Харизомесос прильнул к своей трубке, первое стекло которой было закопчено. Перед ним на столе лежали заготовленные заранее шаблоны: солнечный круг, к нему подходит меньший круг Венеры. Венера касается круга Солнца, вот надвинулась, вот проходит и покидает Солнце. Оставалось только подрисовывать замеченные особенности, не отрываясь от наблюдений, и время тем экономить. Напряжённо ожидая начала, Иван поглядывал на большой хронометр. То же делал и Красильников.
И вот явление началось! Иван сосредоточенно смотрел в окуляр, не щадя глаза и лишь иногда утирая льющиеся слёзы. И вдруг он заметил странные отклонения в картине. Что-то делалось с дисками Венеры и Солнца. На краю Солнца, ближнем к Венере, вдруг появился красный пупырь, будто лишай, к Венере тянущийся, а Венера тоже вдруг оказалась без края. Часть планеты словно оторвалась, и Венера подошла к светящемуся диску Солнца обкусанной.
Глаза от яркости Солнца совсем заплыли слезами. И Иван на секунду оторвался от трубы, вытер глаза платком, скользнул взглядом по отрешённому профилю Красильникова, не отрывавшегося от телескопа, и опять прильнул к стёклам. На блестящем, режущем глаз, несмотря на закопчённое стекло, диске Солнца выделялась горошина — планета Венера, которая медленно проходила по нему от края к краю. Прохождение длилось долго, затем Венера стала неторопливо сползать с диска Солнца. И всё то же самое повторилось, но только с другой стороны кругов: Венера с оборванным краем тянула за собой солнечный выступ — пупырь.
Оба астронома торопливо и старательно всё зарисовывали, стараясь не упустить ничего, но не имея пока времени осмыслить увиденное. И после затмения, в тот же день, они вместе с Ломоносовым до глубокой ночи подробно рассматривали свои зарисовки, сравнивали их и обсуждали явление. Ничем другим нельзя было объяснить искажение краёв Солнца, как тем, что оно не есть твердь, а искажение края планеты — только наличием на Венере атмосферы. И потому впоследствии, в специально изданной по поводу этого затмения брошюре, Ломоносов смело писал, что «планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного».
Это было первое доказательство наличия атмосферы на другой планете. Это было открытие.
Андрей Ушаков с подручными только что, не зная роздыху, лишь два раза позволив себе переспать в тепле, пригнал на казённых лошадях с подставами в Холмогоры. Два дня назад санный обоз с пенькой, с которым шёл Аверьян, миновал Холмогоры и проследовал на Архангельск; Аверьян же, как и подозревал Ушаков, остался. Не заезжая к исправнику, Ушаков зашёл в избу, заранее нанятую его нарочным у холмогорского плотника, который летом хлебопашествовал, а зимой вместе с сыновьями работал в Архангельске на Соломбальской верфи и потому Ушакова не стеснял. Расположился в той избе и боле на улицу ни разу не вышел.
Первый подручный Ушакова, Егошка Лапоть, дряблый телом, но невероятной хитрости мужик, в сыске и кознях преуспевший, отправился на встречу с двумя лазутчиками, которые шли с обозом и следили за Аверьяном.
Холмогоры — посад со слободами, раскинувшийся просторно, с захватом островов на Двине, но постоялый двор с трактиром при нём был один, на большой дороге в Архангельск. В том трактире, полном разного пришлого народу, Егошка и нашёл всех троих, и первым — Аверьяна. Сидел тот в углу, против входа, худой, неистовый; запавшими под лоб, будто ушедшими в тёмные подбровные круги, глазами рассматривал входящих. Каждого осенял двуперстным крестом, смотрел долго, испытующе, так и виделось, что ждёт кого-то.
Два лазутчика пристроились в другом углу, пили брагу по малости и совсем никому заметны не были. Трактир большой, открыт для всех от зари до зари. Санный путь в Архангельск накатан, проезжих много, никто трактира не минует, а большинство на постоялом дворе и ночевать устраивается.
— Таково уже второй день сидит, — докладывал Ушакову узнанное Егошка Лапоть, — Никуда не ходил: явно ждёт кого-то. Проел копейку, за то его и не прогоняет пока сиделец.
Потом рассказал, что сиделец всё же кричал на Аверьяна, чтобы тот крест свой раскольничий не больно выставлял. Да на севере к этому делу привычны и особо на то внимания не обращают. Сиделец орал более для отвода глаз.
Хитёр на выдумки был Егошка и совесть свою раскаяниями не терзал. За то и ценил его Ушаков, хотя и поговаривал, что кончит тот на виселице. Но платил хорошо и обоих сынов в Измайловский полк с малолетства определил; один уже офицера выслужил, второй им будет. По замыслу Егошки и подобрали, ещё в бытность Аверьяна в Петербурге в Тайном приказе, подручного Федьку, лицом и телом с Аверьяном схожего. Столь же сухого, жилистого, легко на себя лик одержимости напускавшего.
— Завтра! — твёрдо сказал Ушаков. — Более ждать нельзя.
На следующее утро, едва день разгулялся, Егошка переодел кафтан и поменял шапку, положил в карман вторую половинку распиленной монетки и пошёл в трактир. Утром народу было мало, еду ещё не сварили, кроме квасу да хлеба, ничего не подавали. Сиделец лишь для порядку в зал поглядывал, всё более на кухонной половине обретаясь.
Егошка Лапоть пошёл в трактир, обил валенки от снега, огляделся кругом и неспешно, глядя в упор на Аверьяна, пошёл к нему. Тот, привстав, осенил Егошку двуперстно, вопрошающе всматриваясь в него глубокими тёмными глазами. Егошка, нарочито поморщившись перед крестным знамением, сунул руку в карман, достал серебряную половинку, не сводя взгляда с Аверьяна и не говоря ни слова, положил её, щёлкнув об стол, и отдёрнул руку.
— Слава тебе, господи Иисусе Христос! — облегчённо, словно сбрасывая немыслимую тяжесть, воскликнул Аверьян, полез в котомку, лежавшую рядом на лавке, достал свою половинку монетки и точненько приложил к той, что была на столе. Видя, что они совпали, заговорил захлёбываясь:
— Теперь слушай, Сатана, и потом изыди! Бери свои деньги и сгинь с глаз! А во день летнего спаса прилетит архангел на белых крылах и притеснённых тобою сирот заберёт в чертоги высокия. Пусть будут они готовы в город Архангела к тому сроку прибыть в известное тебе логово. В день летнего спаса, слышишь! А теперь возьми свои деньги, Сатана, и изыди!
Аверьян затих на секунду, дохнул облегчающе и заключил:
— А я пойду! Спасаться! На Повенец, к старцам, — он судорожно оправил одежонку и начал торопливо собирать котомку. Крестясь, вылез из-за стола, нахлобучил лисью, ушаковскую, шапку и, повторяя: — Изыди, Сатана! На Повенце спасусь! Слава Иисусу Христу! — вышел прочь. А Егошка тут же следом побежал докладывать обо всём Ушакову.
— Всё так! — мрачно кивнул Ушаков, выслушав Егошку. — Архангел, говоришь, прилетит на белых крылах? Та-ак! Корабль придёт, Егошка, корабль под парусами. Ко дню спаса, что на первое августа ноне придётся. И птенцы холмогорские на нём улететь чают. Да не выйдет, захлопнем клетку!
Ушаков помолчал, невидяще вперив взгляд мимо Егошки, и затем приказал:
— Федьку сейчас же на место Аверьяиа сажать. Пусть настоящего дьявола дождётся. Нам многое узнать надобно! — Ещё помолчал и закончил: — Аверьяна оставить. Пусть идёт на Повенец, блаженный он. Готовьте лошадей. Я тотчас же еду в Петербург, а ты, Егошка, за меня тут останешься. Сыск правь к завершению!
Подмастерье математических наук Иван Харизомесос постигал сложности математики легко, но испытывал трепет перед людьми, которые сию сложность и глубину собственным умом выявили.
— И как они могли догадаться до этого? — восхищённо задавал он сам себе вопросы. — Я мучаюсь над тем, чтобы понять уже найденное и описанное, а они это выводили из ничего. Из одних только своих умственных предпосылок.
Ньютоновы операции с бесконечно малыми, Лейбницем подкреплённые, составляли анализ для ума восхитительный. Многие функции, например скорость, ускорение и тому подобное, вычисляются как отношения приращений, в пределе стремящихся к нулю. Иван строил производные, постигал их геометрический и физический смысл и снова поражался глубине ума мыслителей, кои впервые сию премудрость в дело ввели.
«Много, много надо работать. До пота между лопатками, чтобы к высотам науки подняться, — вспоминал Иван наставления Ломоносова, — и поту пролить здесь надобно не менее, ежели не более, чем на крестьянской или промысловой работе». И Ломоносов добавлял поучающе, собственным опытом познавши, что правду говорит: «Не жалей своего пота! Трудись и тогда впереди других будешь!»
Следуя тем наставлениям и своему влечению, работал Иван, не жалея трудов, как на землепашеской работе, от зари до зари. Но кое-что до него доходило плохо и не сразу. Иван освоил преобразование Эйлера для экспонента, у которого мнимость в показателе степени стоит, но смысла мнимых чисел пока ещё уверенно постичь не мог.
— Не понимаю, — донимал он Широва, — как это так? Вроде есть число — вот оно. И вроде нет его — одна мнимость!
— Мало каши ел! — отвечал ему Широв насмешливо, но более потому, что сам не очень-то те мнимости постигал. И подначивал: — Но ты грызи, грызи. Не гляди, что знаешь мало, разжуёшь — больше будет!
Иван обижался, но размышлений не оставлял и в голове мысль держал: поговорив с Михаилом Васильевичем, может, и Эйлеру написать? Но потом мысль эту отбросил. Ломоносов с Эйлером переписывается — то так. А ему пока к тем могучим умам лезть не след, не с чем. Действительно, ещё мало каши съел.
Ломоносов и Эйлер переписывались если не регулярно, то уж и но редко. И Эйлер, ценя ум Ломоносова, всячески стремился его поддержать: присылал европейские научные сочинения, помогал печатать его статьи, начальству Ломоносова слал о нём лестные отзывы.
Как-то в одно из редких посещений Академии наук ныне высоко вознёсшимся президентом Ломоносов был приглашён к нему в кабинет. Кирилла Разумовский милостиво в присутствии Теплова и Шумахера обласкал Ломоносова, сиятельно поблагодарил за старание, после чего Теплов зачитал письмо Эйлера к президенту:
«Позвольте, Милостивый Государь, передать Вашему сиятельству ответ господину Ломоносову об очень деликатном вопросе физики; я никого не знаю, который был бы в состоянии лучше развить этот деликатный вопрос, чем этот гениальный человек, который своими познаниями делает честь настолько же Императорской Академии, как и всей нации».
«Так и всей нации», — тут же про себя расчленил Ломоносов похвалы на части и выделил главное. И ответил с подобающей почтительностью:
— Я весьма польщён, господин президент, сей высокой похвалой знатного учёного, кою отношу не столько к себе лично, сколько к усилиям в просвещении великого российского народа.
И признательно склонил голову — не перед Шумахером, не перед Тепловым и даже не перед сиятельным президентом, но перед именем большого учёного.
В письме же Эйлера содержался намёк на всевозрастающий интерес к ещё не изведанному явлению, носящему название «електричество». И то електричество уже много лет вызывало интерес и истинное удивление Ломоносова, который давно имел надежду к этому делу своё старание приложить.
Кругом были домыслы об електричестве и фантазии, и ничего не было понятно. Даже не понять, где это електричество содержится, откуда берёт начало. Ещё Фалес Милетский[124], философ древнегреческий, отмечал чудесные притягательные свойства янтаря, шерстью натёртого; отсюда и пошло — електрон, електрический, что по-гречески означает янтарь, наянтаренный. А француз Дюфей[125] достоверно установил, что електричество бывает разное — «смоляное», такое же, что и от янтаря идёт, и «стеклянное», это если стекло натереть. И наелектризованные одинаково тела — отталкиваются, а по-разному — притягиваются.
«Но это свойства тел природные, хотя и непознанные; это — физика! — думал Ломоносов. — А вот Грей и Уиллер из Лондона подвешивали на волосяных шнурах ребёнка и тоже електричество на нём искали. И находили. Это зачем? И при чём тут ребёнок? Да ведь ещё и не упустили, как влияет то, какого полу ребёнок; оказалось — не влияет. Так это уже и не физика вовсе, магия какая-то или скоморошество».
Ломоносов стал читать всё, что мог найти об електричестве, делал заметки. Резал из бумаги маленьких человечков и зверей и, натирая стеклянную палочку о суконный рукав кафтана, заставлял тех человечков плясать, и подпрыгивать, и за палочку цепляться. Играл и развлекался, но сам размышлял, готовясь к большой работе.
«Займусь, займусь я електричеством, — думал он, — интересно оно. Не менее, чем теплота, интересно!»
Потом вспоминал, что ещё многое по теплоте не доделано, что намечается всеобщий закон поведения вещества во всех реакциях и многие другие дела, и потому бег мысли останавливал, повторяя себе, что сначала одно надо доделать, потом за другое браться.
Ушакову доносили из Холмогор: подсадной Федька ещё три дня сидел в трактире, крестил входящих, ни с кем не разговаривал; в день проедал по копейке, ночевал на конюшне при постоялом дворе. Никого не было. Лишь на четвёртый день появился мужик, одетый исправно, но по виду из простых. Долго смотрел на Федьку, потом подошёл, положил на стол половинку монетки. Затем молча слушал, как ему Федька всё со слов Аверьяна повторял. И про архангела на белых крылах, и про день спаса, и про сирот.
Мужик молчал, рассматривал Федьку испытующе, недоверчиво, наконец выговорил:
— А что ты ещё мне сказать должен? Вспомни!
И Федька опять стал молоть то же самое: про сирот, про архангела и про сатану. Под конец спросил, как и учили его, о том, куда же ему теперь податься. К кому идти?
Мужик ещё подождал, потом встал и, качнув головой, сказал Федьке:
— Пойдём со мной.
Соглядатаи, всё время сидевшие в трактире, заподозрили неладное, вышли следом, но не успели. Мужик прямо за углом, словно то не посад населённый, а большая дорога в тёмном лесу, уже прошил Федьку ножом и задами домов, по снегу, бросился бежать.
Один соглядатай орать начал, между убегавшим мужиком и Федькой заметался, и убегавший мужик, оглянувшись, это видел. А второй, припадая к избам, таясь, стал следить за убивцем.
И выследил. Тот быстро зады домов заснеженные покинул, чтобы следов боле не оставлять, и на дорогу вышел. Затем зашёл в известный дом торгового приказчика фрейлины императрицы Лилиенфельд, имевшей откуп на пушной промысел и торговлю дёгтем через Архангельск. В том доме и схоронился.
— Эх! — крякнул Ушаков досадливо. — Не всё выказал Аверьян! Какое-то слово приметное удержал, Иисусом отделался. Да не по умыслу, явно от блаженности своей. — Потом подумал с облегчением: — Слава богу, не оборвалась ниточка. Да только ох как высоко она тянется. Достанем ли? — Задумчиво почесал переносицу, потом встал и, опершись, придавив ладонь об стол, твёрдо сказал: — Поличные будут — дотянемся!
Со следующим доношением примчал сам Егошка Лапоть. Ушаков было взъярился, что тот следствие без догляду оставил, но, как узнал причину, остыл. Егошка докладывал:
— Между домами, куда убивец нырнул, и узилищем, где известные вам персоны содержатся, сношения были. Замечен офицер охраны Иванов: вечером туда и назад ходил. И в узилище том догляду мало. Охрана у персон — одна чистая видимость. И к ним пройти не трудно, и они гуляют за палисадом и даже к Двине в сопровождении того же Иванова спускаются.
Егошка докладывал обстоятельно, нюх у него был собачий, и, если лаз учуял, обязательно на том следу зверя ловили.
— Дознаемся, кто таков Иванов, — кивнул Ушаков и записал себе для памяти. Егошка, не останавливаясь, продолжал:
— Тот убивец лишь на третий день вышел. Самим приказчиком Петром Зубовым оказался. Самолично же я примчался потому, что Зубов после выхода не мешкал. Ему сразу тройку с кошёвкой подали, и я понял, что гнать будут. А куда? Если бы в Архангельск. А то ведь в Петербург направились.
Егошка лисьим взором вглядывался в Ушакова, в глаза заглядывал, ждал одобрения, а тот, поглощённый мыслями, сидел молча.
— Так разве бы кто смог обогнать на казённых его тройку? Кони-звери! Пришлось-таки на втором ночлеге в Заячьем остроге, что под Вытягрой, где я его нагнал, двух коней у него угнать. С подручными под цыган сработали, хоть и зима. Да что было делать? Ерёмка угнал, а Филимон крестился и божился, что самолично двух цыган видел. Погоня за Ерёмкой была, не знаю, чем кончилась. Догадался ли вовремя коней бросить?..
— Кончай вокруг юлить! — прервал его Ушаков. — Говори далее.
— А далее то, что Пётр Зубов вот-вот в Петербург въедет. На заставе его переймут и проводят, я позаботился. А там уже ваше дело. Но думаю, что по-пустому он бы в Петербург так не гнал. — И искательно посмотрел на Ушакова. Тот наконец кивнул и одобрил:
— Всё верно сделал. Иди спать, я распоряжусь.
Всю зиму в академии шли столкновения; двадцать девять раз заседала Конференция, спорили, ссорились, никак не могли прийти к решению. А причина сих зимних баталий завязалась давно, и толчком к их началу послужили осенние торжества по поводу тезоименитства императрицы Елизаветы.
По императорскому регламенту академия должна была всякий год проводить три ассамблеи публично, но пока ещё ни одна не состоялась. Вот Шумахер и наладил академию пышно отметить именины императрицы, приходившиеся на 5 сентября. Мягкая в тот год погода ранней осени располагала к пребыванию на свежем воздухе. На празднество ожидались любители наук и значительные особы, всегда охочие до всяких развлечений. И как знать, могла и сама императрица пожаловать. И потому на берегу Невы возле академии возвели и размалевали пышный театр, картинами, фонарями и живым огнём украшенный, и соорудили иллюминацию.
Первая речь «О физических материях» была поручена Ломоносову. Здесь Шумахер отступил: вынужден был поставить русского. Это было почётно, выражало признание, умаляло лай и шипение недругов до уровня злопыхательства завистников. И хоть ежели укусят — так же больно, но всё же сторожатся, достать опасаются.
Но вторую речь Шумахер отдал Миллеру. И тот намеревался, опираясь на свои прежние сочинения, излагать в ней историю становления Руси, что также соответствовало торжественности события. И сановитый Миллер воспринял это как должное, лишь чуть скривив рот оттого, что первая речь не ему, а какому-то там Ломоносову была поручена.
Ломоносов написал свою речь в согласии с указанным ему регламентом, рассчитал говорение на двадцать минут и печатать сдал. А потом, когда пришёл в академическую типографию за своим текстом, узнал, что речь Миллера пространна и чуть ли не на два часа рассчитана. Да ладно уж, что тем самым сводилось на нет первенство речи Ломоносова. Так нет! В тексте речи, который Ломоносов сначала пробежал бегло, а затем сел и прочёл внимательно, рассуждения Миллера оказались тёмной ночи подобны.
Забыв о своём собственном сочинении, Ломоносов, чертыхаясь, схватил один из отпечатанных экземпляров речи и, невзирая на запреты печатника, побежал наверх к Миллеру.
— Ну что вы пишете? — закричал он, врываясь к Миллеру в комнаты, называемые историческим департаментом, где также разбирались сочинения философские, стихотворные, критические и вся гуманиора. — Ну разве так можно?
Миллер, насторожившись, поднялся ему навстречу. Тоже высокого росту, плотный, отменного здоровья; это как раз и позволяло ему совершать многие и долгие путешествия в отдалённые губернии России, а также и в Сибирь. От Чардыни и аж до Якутска добирался. В оных путешествиях он насобирал в архивах немало исторических рукописей, но стремился никому их не выдавать и описи составлял им не всегда точные.
— Чего раскричался? — спросил Миллер и тут же, увидя в руках Ломоносова свою речь, заорал: — Зачем речь схватил? Кто позволил? Отдай сюда! — и стал вырывать бумаги, хватая Ломоносова чуть ли не за грудки. Мужики были оба сильные, упрямые, могло и до драки дойти, да сдержался Ломоносов.
— Окоротись, — прервал он Миллера, отбивая его руки. — Ты вот лучше скажи, чегой-то у тебя показано, будто Ермак[126] грабежи и разбой, чинимый его людьми в Сибири, не почитал за прегрешение? А? Где это писано? — Ломоносов опять задышал гневно, обижаясь за могучего русского землепроходца, потом опять умерил тон, сменив гневную речь на уверенную: — О Ермаке Тимофеевиче, херр Миллер, изволь говорить поуважительнее. Многие заслуги он имеет перед отечеством.
Но Миллер умеренного тона не принял, зашёлся в крике:
— Чего ты меня учить вздумал? Кто ты такой? Ты химик, а не историк! Так и вали к своим ретортам!
Ломоносов совершенно взял себя в руки:
— Не ори! Ты не скоморох и не в балагане! Лучше ещё вот что ответь: почему это у тебя на всякой почти странице, — Ломоносов ткнул в Миллера пачкой бумаг, которую продолжал держать в руке, — русских бьют, грабят, бесчестят? И скандинавы их всегдажды благополучно побеждают? Ну? И как же это тогда мы до сих-то пор выжили? — Затем серьёзно и твёрдо спросил: — Это ли речь на российском празднике?
Но Миллер продолжал в ответ непристойно орать и ни на какое умягчение своего изображения не соглашался. Ломоносов, поняв совершенную бесполезность уговоров чужестранца, не теряя больше слов, повернулся и вышел. В тот же день составил доношение президенту Разумовскому, убеждал его, что речь с таким похудением русского народа и умалением его значимости зачитывать публично нельзя. И тут же, с ежедневной эстафетой, отправил доношение в Москву, где ныне пребывал Разумовский.
И вот за неделю до празднеств, 31 августа, из Москвы прискакал курьер от Разумовских с предписанием: празднество отложить, речь Миллера опечатать, из академии никоим образом не выпускать. И затем оную речь наискорейше освидетельствовать кворумом специалистов. Шумахер был вне себя: все значительные особы приглашены, иллюминация поставлена, речи напечатаны, переплетены. Деньги затрачены! И вдруг на тебе — всё отменить!
И таки всё было отменено! Не случилось того, чтобы в России, о России, по-российски, перед россиянами чужеземец напраслину возводил! Зато всю зиму шло разбирательство того события, исчисление вин и безвинностей; шум в Конференции, брань и почти что драки. Опираясь на поддержку визгливого Бакштейна, жирного Силинса, хитрого Шумахера и многих других, хоть они ничего в российской истории не смыслили, Миллер вёл себя непотребно. Многих ругал и бесчестил словесно и письменно, а более всего Ломоносова; на иных замахивался палкою и бил ею громко по столу конференцкому. Но ему это было можно, он был среди своих, а то, что Ломоносов за честь России вступился, при всяком разе ему же в укор и ставилось, как зачинателю свары.
Баталии продолжались. И хоть всё чаще в них Ломоносов правоту свою отстаивал и неотвратимо доказывал, всё равно ждали случая, как бы ему пылу поубавить и к общему знаменателю привести.
Сообщение подушного стола Тайного приказа об Иванове ещё более насторожило Ушакова. Докопались, что Иванов — выкрест, сын богатого откупщика Шрейбера, высланного из Руси в недолгое царствование несовершеннолетнего Петра II, был крещён по православному обряду согласно выраженному желанию. Выслали же Шрейбера-отца за нарушение винной монополии. Корчмарей развёл Шрейбер, сам водку гнал беспошлинно, прикрываясь малыми закупками казённого товара, которого и продавал-то на гроши, при тысячных оборотах со своей водки незаконной.
Убытки казна долго терпеть не могла. Корчмарей тех выявили, взяли, на дыбах изломали, заслали в каторги. А Шрейбер-отец откупился. Страшно перепуганный, деньги, не торгуясь, выбросил и едва живой от страха убрался за рубеж. Сын же его к тому времени в полк был определён, там светило в офицеры выйти, и потому он скоренько поменял вору, крестился, принял фамилию Иванов и тем от отца-Шрейбера открестился.
— Иванов, как же! — негодующе усмехнулся Ушаков. — Он такой же россиянин Иванов, как я мандарин китайский. И на што нам такие Ивановы? — Ушаков в сердцах кинул на стол бумагу с доношением из подушного стола.
— Но ведь православная церковь и святые отцы допускают... — робко вмешался бывший тут же Егошка Лапоть.
— Допускают! — насмешливо согласился Ушаков. — Святые отцы-апостолы допустили и то, что Христа распяли! Допустили, недоглядели! Да только вот до сих пор человека от иуд и предателей избавиться не могут и маются оттого. — Он посмотрел на Егошку сердито и добавил поучающе: — Оные выкресты перемалёванные хуже чужих, иноверцев. Те видны. А этих попробуй найди. — Ушаков криво усмехнулся и добавил язвительно: — А вот свои их находят. По запаху, что ли? — И, закончив размышлять, завершил речь приказом: — Иванова от охраны в Холмогорах отстраним днями. А пока подождём прояснения.
К скорым решениям побуждало Ушакова и прибытие Петра Зубова. Убивец, въехавший поутру в Петербург, сразу направился в палаты на Мойке, в коих размещалась фрейлина Лилиенфельд. Ушаков хотел было взять Зубова до входа в дом, да передумал: пусть свидание состоится, виновным тогда труднее будет отпираться. Всё равно упредить злоумышленники его не смогут. Не токмо до спаса, просто до лета времени много. Можно успеть принять меры. Но всё равно нужны доказательства, без них к царице не полезешь,
В тот день и на следующий в дом Лилиенфельд многие наезжали и сама она ездила во дворец. Хитрющая была баба, премного угождала Елизавете советами и поучениями в одеждах и украшениях европейских. Но более всего времени провела Лилиенфельд со своей приятельницей княгиней Лопухиной[127], наследницей старинного боярского рода, из которого в своё время взяли и первую жену Петра Великого.
Хорошо смотрелась княгинюшка, красавица писаная, хотя взбалмошна была и неумна. Мужиков видом своим к месту припечатывала; грудью восхитительной, весьма объёмно выставленной, дара речи лишала. Но умные разбирались, что красавица княгиня всего лишь кукла яркая, одна видимость, а человека нет. Ну а дуракам то понять не дано, и многие из них в её хвосте обретались. За красоту не выносила Лопухину Елизавета, себя желала первой красавицей видеть. Но за глупость прощала и терпела, не разрушая уважения к древнему роду.
Все эти высокие персоны вводили в сильное смущение Ушакова: не поймёшь, имеют они к делу отношение или просто так — фигуры, антураж составляющие. Но поскольку право имел всем, окромя царской семьи, допросы учинять, сильно не огорчался.
Убивца Зубова взяли при выходе из дома Лилиенфельд, но так тихо, что челядь её того не увидела и о том не прознала. Допрос начали сразу, но о холмогорском убийстве пока речи не заводили, пытали лишь, зачем в Петербург пригнал так спешно, чего хозяйке докладывал.
И опять Ушаков слушал околесицу, но правдоподобную. Что, дескать, наткнулся он, Пётр Зубов, приказчик Лилиенфельдов, во время своих пушных скупок у чудей и весей при Камне Полярном[128] на богатейшую серебряную россыпь. В той россыпи самородки прямо чуть не на земле валяются. Собрал он, сколько нашёл, самородков, той земли для пробы нагрёб в мешочки меченые из оленьей кожи и спешно привёз их в Петербург: дело-то ведь какое стоящее. И те мешочки с пробами в доме хозяйки своей, Софии Лилиенфельд, оставил.
Зубов говорил складно, но взгляд его метался испуганно с Ушакова на дьяка писучего, с дьяка на Ушакова, хотя пытку к нему ещё не применяли. Да ведь напугаешься: в Тайном приказе не у тёщи на блинах, и Ушаков прекрасно то понимал. Но понимал также, что серебро может быть, может и не быть, а злоумышление уже есть, и это главное. И что Зубов почти всё врёт, что он убивец, по государственному делу проходящий, а просто так убивать никто не станет. Стало быть, причина была важнейшая.
Но ежели серебро есть, то Зубов один во всём виноват будет, а головы — те, к кому он приехал, — за то серебро спрячутся, ни при чём смогут оказаться. И даже если Зубов под пыткой признается, это можно будет за оговор выдать. Под пыткой, дескать, чего человек не скажет, а где доказательства?
Задумался Ушаков. Тёр ладонью огромную плешь; парика в Приказе и поездках, естественно, но носил, надевал его лишь в редкие выходы ко двору или в Сенат. И ничего не придумал иного, как изъять те земли в мешочках у Лилиенфельд и незамедлительно направить их пробирерам Монетного двора. А для достоверности также на пробу и в Академию наук.
Сие было исполнено тут же, с огромным переполохом и суетой в доме Лилиенфельд, у которой оттого сделался судорожный припадок. Но руды предполагаемые действительно нашлись, и были они, как и говорилось, в отдельных мешочках, и там же бумажки с номерами вложены. А уж где каждый номер взят, то тайна рудознатца, и он, пока челобитной на откуп тех земель не подал, говорить о тех местах не обязан.
Землю из мешочков разделили и тотчас же повезли в Монетный двор в Москву и в Академию наук. И руда, доставленная в академию, была передана на химическую пробу профессору Ломоносову. На той землице в мешочках, привезённой из Холмогор, и пересеклось дело о государственной измене с линией жизни уроженца Холмогор, российского академика Михаилы Васильевича Ломоносова.
Идти на очередное заседание Ломоносову было тошно. С души воротило сидеть в апартаментах, слушать нудные речи, спорить о бесспорном, доказывать ясное, на опостылевшие рожи смотреть, брань и уязвление слушать.
Таково интересны свои научные дела, коими он занят, за что, собственно, ему от государства корм идёт и деньги платят.
Но, тяжело вздохнув, Ломоносов писание должен был оставить: надо идти заседать.
Шёл до Конференц-зала как лямку тянул. По дороге остановился, хотя и причины не было, заговорил с Симеоном. Старик был неизменно бодр, позиций старости не сдавал и по-прежнему исправно нёс свою службу, только разве что от исполнения наказаний розгами, ссылаясь на возраст, стал уклоняться. Но работа сия была нужная, и потому для неё быстро нашли другого.
— Ну что, Симеон, как должность правишь? Не тяготит?
— Всё хорошо, Михайло Васильевич. Служу.
— А как штоф твой? Не проигрываешь ему баталий?
— Пока держусь! Но поздоровел бес зелёный! Быстрее меня одолевать стал, ох быстрее, нежели ранее. Что и говорить!
— Ну, держись, Симеон, держись, мужик. Пока стоишь — жизнь продолжается! — И, теперь уже не сворачивая, пошёл в Конференцию.
Нынче дебатировалось происхождение языка славянского и его самостоятельность. Миллер, несмотря на неоднократное разгромление своих позиций, учинённое ему Ломоносовым с немногими россиянами, ему помогавшими, продолжал упорно доказывать, что русский язык с норманнским родствен и от него идёт. Имена варяжские в пример приводил: Владимир у него шёл от Вальтмара, Всеволод от Визвальдура и тому подобное.
Ломоносов сидел, слушал такую речь и сначала молчал, надеясь, что глупость сего сама собой всем очевидна станет. Но потом не выдержал и захохотал громко. Байер, который тоже, как историк, Миллеру поддакивал и посему обиделся, шикнул на Ломоносова, указуя на неприличие его смеха.
— Да что в том неприличного, — возразил Ломоносов, — когда подобные объявления, окромя смеха, ничего и вызвать не могут. — И опять заулыбался широко от пришедшей в голову мысли. — Вот ты Байер, да? — громко спросил Ломоносов, как будто сам того не знал, не обращая внимания на неодобрительный гул голосов. Байер недоумённо взглянул на него, а Ломоносов продолжил: — Так вот, по рецепту Миллера, тобой одобренному, ты и не Байер вовсе, а Бурлак. Понял? И не от немцев производишься, а от волжских бурлаков.
На задних стульях послышался смех и одобрительные возгласы. Ломоносов остановился, наблюдая за впечатлением, и затем спросил насмешливо:
— Ну как? Верно сие? — И, уже раззадорившись, уже опять почувствовав прилив энергии, подъём, желание лезть в драку, потребовал слова: — И как вам в голову такое приходит, — заговорил он, обращаясь и к Миллеру, и к большинству Конференции. — Чего это вы всё нас, россиян, принизить, умалить хотите? Вы посмотрите, как обширен славянский мир! От Дона и Оки искони, а ныне и от Великого океана с востока до Альбы[129] на закат; от Чёрного моря на юге до Варяжских морей и Белозера на севере простирается. Это вам как, малая землица? Островок несамостоятельный? — И, не делая передышки, Ломоносов наступал далее: — Вы прекрасно знаете, сколько народов говорит по-славянски. А забыли — так я перечислю. — Ломоносов вдохнул воздух, приосанился гордо и, не обращая внимания на негодующие лица, стал внушительно перечислять: — Слушайте — чехи, лехи, моравы, поморцы, они же померанцы, славяне по Дунаю, сербы, славянские болгары, поляне, бужане, — перевёл дух и крикнул: — Вспомнили? Так это не всё, ещё нате: кривичи, древляне, новгородские славяне, суждальцы. Добавьте ещё казачество забайкальское и амурское, а теперь уже и в Америке того гляди по-русски заговорят! Ну, хватит?
Ломоносов остановился и затем произнёс значительно:
— Так это всё единая славянская семья! И чтобы славянский язык столь широко распространился, надобно было долгое время, многие века! И не столь уж вы необразованны, что античного Страбона[130] не читали, — усмехнулся Ломоносов, утёсом стоя перед взбаламученным им собранием. — Так он ещё за много до нашей эры писал, что на полях между Днепром и Доном живут самые дальние из известных скифов — раксолане. Вслушайтесь — раксолане, россияне! Созвучие-то чёткое, тождественность — явна! Вон ещё когда мы о себе заявляли; и чудные изделия из золота и бронзы, от тех веков дошедшие, нас и поныне восхищают высоким ремеслом.
Ломоносов сделал паузу, торжествующе оглядел Конференцию и, перекрывая вопли и крики одних и немногие аплодисменты других, выкрикнул, словно бросил бомбу:
— Тевтонцы-то и норманны, как это вами же писано, в те времена ещё в шкурах ходили!
Подождал немного и, уже не обращая внимания на председателя Шумахера, надорвавшего звоном свой колоколец и наконец лишившего его, Ломоносова, слова, закончил спокойно, твёрдо:
— Заметьте себе! Славянский язык ни от греческого, ни от латинского, ни от какого другого языка, и уж тем более от норманнского, не происходит! Письменность, кириллица — та да, из греческого взята. А уж язык наш, извольте это признать, никому ничем не обязан!
Ломоносов перевёл дух, снова вскинул голову и внятно закончил:
— Так пусть же звучит наш русский язык громко и ныне и во веки веков! — Утверждающе рубанул рукой и сел отвернувшись. Ещё не спокойный, но уже удовлетворённый тем, что опять выполнил свой долг, что не позволил оболгать великое достояние великого народа — родной русский язык.
Руды, привезённые в академию в нескольких бумажных пакетах, Шумахер передал для исследования на серебро Ломоносову с твёрдым наказом — не мешкать с пробами, поспешать. Но не знал Ломоносов того, что у Шумахера уже побывали срочные гонцы от Лилиенфельд, твёрдо знавшие, где будут пробы изучены, ибо мест таких в Петербурге всего ничего. И хоть не все они Шумахеру открыли и лишь намекнули, какая нужна услуга и что забыта она не будет, нюхом почуял он, что дело это государственной важности, опасное и добром может не кончиться. Но своим отказать не мог, не смел. И потому, призвав для совета Силинса и поразмышлявши вместе, подержали руды у себя малое время, но, однако, достаточное, чтобы нужные махинации произвести. И затем передал Шумахер те руды, но уж, конечно, не горнорудному знатоку Силинсу, а химику Ломоносову.
Ломоносов, получив руды и вернувшись к себе в лабораторию, развернул пакеты. Один, другой, встряхнув землю на свету, повеял из щепоти — даже на глаз были заметны блестящие крупинки.
— Серебро, — качнул головой Ломоносов, — кажись, знатно богатая руда! — И, взвесив одну из проб, начал делать ей в маленькой посудине промывку, чтобы чистое серебро отделить.
После слива мути на дне посудины остался светло поблескивающий осадок. Просушив его и осторожно соскоблив в чашечку весов, Ломоносов вывесил добычу. И значительно выпятил нижнюю губу, удивляясь находке. В пересчёте на пуд проба показала выход серебра до пяти с половиной золотников[131].
— Ого! — одобрительно сказал он сам себе. — Зело тот рудознатец обогатит и себя и государство.
Затем зачерпнул пробу из другого пакета и, прежде чем делать промывку, взял большое увеличительное стекло и стал через него внимательно рассматривать землю. Под стеклом увеличенно поблескивали крупинки серебра; а вот и свинцовые корны[132], кои вместе с известковым шпатом и свинцовым блеском всегда почти вместе с серебром сопребывают. Признаки несомненные, и Ломоносов, уже не тратя времени на дальнейшие рассмотрения, произвёл промывки из всех пакетов. Пробы на другие металлы учинил только на те, которые по тягости и цвету показались пробования достойны. Но ничего заметного более не обнаружил.
Работа не заняла много времени, интереса более не представляла, и Ломоносов спешил вернуться к своим учёным занятиям. Тут же написал заключение — просили же поторопиться — о высоком выходе чистого серебра, не считая связанного, кое он за малостью содержания не определял. И, поддавшись легко видной явности наличия серебра и сопребывающих примесей, Ломоносов, безотрывно думая о своих научных делах, не обратил внимания на одну странность. Уж слишком блестели крупинки серебра, будто недавно наструганы, чернью окисляющей не покрыты, как то от времени должно быть. Да ведь и не знал он, что эти пробы как подложные подозреваются. Шумахер ему, конечно, ничего о том не сказал.
То, что подвохи ему возможны, всегда знал, но что ещё и с этой стороны придёт посрамление, и в разум не брал. А должен был бы, ибо среди недругов работал, и те ему ничего не забыли и ничего не простили.
С теми результатами незамедлительно и пошло заключение Ломоносова из академии в Тайный приказ. А пробиреры государственного Монетного двора, что в Москве помещается, заключили иное: «Самородного серебра в пробах было весьма мало или ничего не явилась, а связанного и вовсе нет. Блестки же серебра были явно пилёные и в землю недавно подсыпаны, что видно по отсутствию должной черни. О том же говорит и совершенное отсутствие сопутствующих признаков: ни в одной пробе нет ни известкового шпата, ни свинцового блеска, ни медных примесей».
Не добрались до Москвы Лилиенфельды, не успели: опередил их Тайный приказ срочностью исполнения.
Пётр Зубов тоже стоял на своём недолго. При втором уже допросе с пристрастием признал всё. Земли серебряные — одна видимость. Он сам в те мешочки серебро спиливал с креста серебряного. И тот крест, пилой обглоданный, до сих пор у него дома в Холмогорах лежит, там его и найти можно. И в убийстве Федьки признался, и в том, что ждали гонца, но береглись очень. И ему, Зубову, было велено держаться сторожко и, если что заподозрит, немедля принимать меры крутые. И за то блага ему обещаны великие, а пока отвалили шестьдесят рублей серебром, и он их до поры закопал на своём подворье.
Ушаков зло тряхнул головой и, поджав губы в усмешке, подумал: «Шестьдесят серебром. Ну хорошо, что не тридцать[133]! Цены растут!»
Зубов лизал языком пересохшие от страха и боли губы. Глаза опять метались в испуге и муке. Понимал уже, что попал в безысходность, прощения ему в этом деле не будет, и только пощады надеялся вымолить чистосердечным признанием. Показывал, что знал.
Хозяйка его Лилиенфельд и въедливый офицерик Иванов взяли Зубова в клещи. Он уже несколько раз якобы по торговым делам мотался между Петербургом и Холмогорами. Иванов сообщения в пакетах слал с ним, и обратно ему Зубов привозил пакеты, а что в них — ему неведомо. Но про корабль догадался, ждали его давно. И на том корабле неизвестные Зубову высокие персоны из узилища, которое охранял Иванов, должны были уплыть. Куда, тоже не знал.
Но Ушаков теперь уже всё то знал хорошо. В Пруссию намеревались увезти отстранённого императора и его родителей — Анну Леопольдовну и Антона Ульриха Брауншвейгского. И потом смуту посеять и войну начать с привлечением к себе сторонников императора в России, дабы посадить эту Брауншвейгскую династию на российский престол. И Пруссии то сулило неисчислимые выгоды. А вот какие жертвы и мучения Россия от этой войны претерпеть могла и возможные от смены царя потрясения и смуту, того Ушаков, даже зажмурясь, вообразить себе не мог.
И потому немедля отправился к императрице для получения дозволения на скорейшие и решительные действия. И нимало не беспокоился, что иной раз послы царственных особ по году ждали аудиенции. Про себя знал: немедленно принят будет, чем бы императрица ни занималась.
Но то заключение из академии, так с правдой не согласующееся, Ушаков в уголок своей памяти отложил, с тем чтобы, решив дела важнейшее, и с этим малым злоумышлением разобраться.
Императорский бал-машкерад в огромном раззолоченном зале полудостроенного Зимнего дворца гремел весёлой музыкой придворного оркестра, полыхал жаром тысяч свечей, метался соцветием сотен костюмов. Пахло разгорячёнными телами, в нос били пряные запахи мускуса, духов и венгерских вин, разливаемых гостям ливрейными лакеями.
Григорий Теплов скромно стоял у стены, чуть позади разодетого в пышный зелёный с золотом костюм президента академии Кириллы Разумовского. И костюм Кириллы был Теплову, вроде бы ко всему привыкшему и ради угождения ничем не гнушавшемуся, смутителей и странен. И лишь то, что странен был не один Кирилла, а и многие мужчины и дамы, хоть и не убеждало Теплова, но успокаивало. Да и Кирилла чувствовал себя неуютно, ёжился, оглядываясь по сторонам, и часто посматривал на Теплова, который по привычке, сам не веря себе, ободряюще улыбался.
Костюм Кириллы составляла пышная, в два обхвата, зелёная юбка на каркасе из китового уса, обшитая по подолу двумя рядами золотой бахромы и позументов. Талия, вернее, то место, которое они вместе с Тепловым с трудом отыскали при одевании и нарекли талией, утянута в громадный корсет. А поскольку Кирилла всё же был мужчиной и декольтировать ему было нечего, плечи и грудь его укрывали воланы голландских кружев, а голову — дамский парик.
Теплов, в бархатном в обтяжку чёрном костюме, изображал пажа своей «дамы», протягивая «ей» время от времени кружевной платок для сморкания или понюшку табаку из цветной табакерки. А в его «пажеской» сумке на перевязи наготове лежали также кисет с табаком и Кириллова трубка, которую тот мечтал закурить где-нибудь в закутке, как только в карусели бала выберется передышка.
Многие из присутствующих статских мужчин, одетые в дамские костюмы, потели и ёжились, косо оглядывая друг друга, а иные, то ли от злости, то ли от смеха, незаметно корчили рожи и гримасничали. А иногда, не выдержав и отойдя в уголок, задирали юбку и чесали, где чешется, ибо через юбку на каркасе достать до тех мест не было никакой возможности.
Но такова была воля монаршая, и перечить ей никто не смел. И лишь военные, которым по форме полагалось носить усы и шпаги, были освобождены от повинности одеваться в дамское. Но вот молодые дамы надевали мужское с восторгом и удовольствием. Их восхищала раскованность и возможность принять любую позу, а взгляды мужчин, которые они жадно ловили, вносили в душу смятение и кружили головы. Однако пожилые титулованные матроны оказались в трудном положении. Им, с одной стороны, очень хотелось омолодиться, утянуться штанами и соблазнительно порхать в мужском, притягивая к себе взгляды усатых кавалеров при шпагах и эполетах. Но всё же у многих хватило ума понять, что порхают они тяжеловато, а перезревшие формы, обтянутые лосинами, порой вызывают у бравых усачей противоположные чувства. И потому эти дамы раздражались и злились, но опять же против воли монаршей идти не решались.
Сама Елизавета хоть и растолстела, но соразмерности фигуры совсем не потеряла и потому выглядела в белых рейтузах и мундире с полковничьими эполетами вполне приглядно. Да и в льстивых речах недостатка не было, а усачи всегда смотрели на неё с подобострастным волнением, которое истолковать можно было как угодно.
Мимо Кириллы прошли две прелестницы, утянутые в белые порты и кургузые уланские курточки. Одна из них, лукаво улыбнувшись, кинула взгляд на Кириллу. «Княжна Долгорукова», — узнал её Кирилла, браво приосанился, хотел было шаркнуть ножкой в галантном поклоне, но тут же вспомнил о своём некавалерском виде, об обязанности делать не поклоны, а реверансы и чуть не плюнул от досады.
А бал гремел и суетился, разгорался в полупьяном весёлом хмелю, разбавленном завистью, интригантством и политикой. И хоть и много было приглашённых, хоть и толклись они по залу где хотели, но всё равно в нём было как бы два круга — внешний и внутренний. Внешний — это вся бальная публика, неближние бояре, сенаторы, военные, иностранные гости и прочие. А внутренний круг составляли императрица и её ближние — Алексей Разумовский, красавец с жутковатыми удлинёнными глазами; он уже теперь не поёт, всё больше рычит и приказывает. Братья Шуваловы, успевшие разнежиться и стать настоящими сибаритами, хотя в люди вышли и графские титулы получили не столь уж давно. Стояли, поглядывая на Елизавету, вечно несогласные между собой канцлер князь Бестужев[134] и вице-канцлер граф Воронцов. Первый тянул руку Англии, носил бачки, цедил сквозь зубы и ратовал за снижение пошлины англичанам. Второй утопал в роскоши и неге, выписывал камзолы из Парижа и проводил мысль о том, что России нужен союз только с Францией. А Елизавета, потакая их сваре, держалась средины и ни с кем союза не заключала. В кругу лейб-кумпапцев, молодых, наглых, заносчивых и безродных, посмеивался родовитый князь Голицын, понимая, что в этой компании сановность свою лишь упрочит.
И те два круга существовали как бы отдельно, друг на друга смотрели, порой пересекались, но никогда не смешивались.
Ушаков появился неожиданно, серьёзным, немашкерадным видом, а более мрачной своей славой пригвоздив к месту ливрейных лакеев и заставив отшатнуться и побледнеть многих из увидевших и узнавших его гостей. Сзади незаметной тенью держался одетый в чёрное доверенный дьяк Поленов.
— Ушаков! — дрогнувшим голосом, почти шёпотом произнёс Теплов и совсем невежливо толкнул в бок президента Кириллу, дабы тот не упустил мига поклониться мрачному гостю. А Ушаков шёл через толпу расступившихся и кланяющихся людей, не замечая их, не отвечая на поклоны, прямо к кружку придворных, обступавших Елизавету.
Императрица удивлённо вскинула бровь, глядя на склонившегося перед нею Ушакова. Затем сообразила, что все на неё смотрят, и, словно спохватившись, милостиво улыбнулась, сделала несколько шагов, взяла Ушакова за локоть, подняла из поклона и ласково спросила:
— Редко вижу тебя, боярин. С чем пожаловал?
— Чем реже видишь, государыня, тем державе лучше. А сейчас у меня два дела — малое и большое. Дозволь с малого начать.
— Говори.
Ближний круг прислушивался к словам императрицы и Ушакова внимательно; внешнему кругу мало что слышно было, подойти же не решались. Но и те, кто был ближе, и те, кто совсем далеко, по обрывкам слов и по лицам пытались понять, что там около императрицы происходит.
— Здесь на балу, государыня, — начал Ушаков, — два польских негоцианта обретаются — паны Трохимовский и Лебединский. Кем приглашены — мне неведомо.
— Узнаем кем, — ответила Елизавета. — А чем сии паны приметны?
— Повели кликнуть их, матушка, — как бы не слыша вопроса, что лишь он один и мог себе позволить, ответил Ушаков. Граф Шувалов-старший, не дожидаясь слов Еливаветы, оглянулся и закричал: — Эй! Трохимовcкий и Лебединский! Где вы там? Про́шу, пане, до государыни.
Буквально расталкивая толпу гостей, из дальнего угла зала, размахивая пышными шляпами, в развевающихся плащах и при шпагах подбежали два пана. Один из них, Трохимовский, седой, с угодливой улыбкой на неприметном лице, подлетел первым и, согнувшись, замахал, подметая пол, шляпой. Второй, Лебединский, с плоским, как блюдце, лицом и торчащими, будто два лопуха, ушами, замешкался и потому кланялся уже не столько императрице, сколько заду Трохимовского.
— Так чем заметны сии паны? — снова повторила свой вопрос Елизавета.
Ушаков помолчал, внимательно глядя на переставших махать шляпами панов, и затем медленно ответил:
— Токмо подлостью, ваше величество. Сии холопы круля польского, выдающие себя за честных купцов, совсем другую цель имеют, к нам заехав.
Трохимовский и Лебединский переменились в лице. Ушаков повернулся к Елизавете и продолжил:
— А навезли они нам из-за рубежа не столько сукон польских, кои поставлять подрядились, сколько гадости писаной, писем подмётных, да не в Польше — в Лейпциге, под Фридрихом, печатанных. — Ушаков посмотрел на побледневшее лицо Елизаветы и снова заговорил: — А в письмах тех земли русские, исконные — Волынь да Черниговщину — за польской короной пишут. Да мало того, русский престол порочат и тебя, государыня, лают столь непотребно, что я и повторять не буду. — Ушаков сделал паузу и, кивнув дьяку, негромко сказал: — Ну-ка, Поленов, пошарь в карманах у ясновельможных. Они могли и сюда своё подмётное дерьмо захватить.
Нога Елизаветы, утянутая в белую кожу и чёрный изящный ботфорт, задёргалась, руки с треском сломали веер, которым она, несмотря на мужской наряд, обмахивалась. На панов же стало страшно смотреть. Губы Трохимовского испуганно задрожали, лицо посерело, взор воровато заметался. Пан же Лебединский сначала побледнел и совсем было сник, но затем вдруг гонористо вскинулся, дёрнул головой и, вытаращенно глядя на Ушакова, на довольно чистом русском языке громко выкрикнул:
— Я шляхтич великой Ржечи Посполитой и подданный круля Польского... Я!..
В это время Поленов, обшаривший Трохимовского, выдернул из кармана его короткого накидного плаща пачку свёрнутых бумаг и, кинув на них беглый взгляд, протянул бумаги Ушакову со словами:
— Они самые. Такие же, как и ранее находили. Трохимовский трясущимися губами пытался выговорить:
— Не... Не... я не... — а Лебединский ещё что-то продолжал про польского круля, но их уже никто не слушал: все смотрели на Елизавету. Глаза её расширились, полная щека затряслась. Она выдернула из рук Ушакова бумаги и, подскочив к панам, затрясла перед физиономией Трохимовского смятой пачкой и закричала на высокой ноте:
— Псы, псы шелудивые! Мразь поганая... Запорю! — и стала хлестать письмами по лицу Трохимовского. Затем разодрала листы и сунула смятые в ком пасквили Трохимовскому в рот с криком: — Жри, жри, пёс шкодливый, жри!.. — и ударила валящегося на колени Трохимовского несколько раз ногами. Резко вложив остатки пергаментов в руку Разумовского, она крикнула: — А эти забей второму в его тошнотворную пасть!
Разумовский, шагнув, вломил пану Лебединскому увесистую оплеуху, другой рукой начав запихивать ему в рот большой ком из писем. Подскочившие лейб-кумпанцы свалили Лебединского на пол и, колотя обоих ногами, заставили панов на коленях ползти к выходу. Не будучи в состоянии уклониться от ударов, ползущие паны жевали бумаги, давились ими, не смея выплюнуть, в томительном ужасе выли страшным носовым криком, уже не надеясь выбраться из залы живыми. И животный их страх, и унижение не вызвали у большинства присутствующих ни сочувствия, ни жалости: заслужили!
Во всём этом действии лишь один Ушаков соблюдал привычное спокойствие, не двинулся с места, не проявил любопытства, на панов более не взглянул. Лишь когда их выставили за дверь, когда Елизавета медленно приходила в себя, прохаживаясь взад и вперёд посредине зала в круге не смеющих обратиться придворных, к ней подошёл Ушаков и успокаивающе промолвил:
— С малым, матушка, мы нынче покончили. Ты сейчас отдохни, остынь. А завтра с утра дозволь мне явиться и доложить о большом злоумышлении, весьма более опасном. И для его решения нужно спокойствие. — Ушаков замолчал и, как бы заранее зная, что Елизавета согласится с ним, откланялся и удалился, провожаемый незаметным дьяком Поленовым и множеством серьёзных, насупленных, испуганных и ненавидящих взглядов.
По Петербургу ползли мрачные слухи. Сначала неясные, глухие, затем всё более определённые, с подробностями. Открылся новый заговор, умышление против императрицы и трона, и в том заговоре главными были дамы высокого положения, фрейлины Лилиенфельд, Лопухина, графиня Бестужева. Вроде бы дамы, дамский заговор — не страшно. Но ведь уже давно трон российский занимали дамы, и почти весь тот век суждено дамам править Россией, и потому умалять заговор по этой причине никто не думал: все были перепуганы всерьёз.
Ещё более глухо говорили о целях заговора, о холмогорских узниках, о задуманной смене венценосицы. Разговор об этом уже могли расценить как причастность к заговору. Лишь с уха на ухо передавали, что некая персона из Холмогор срочно вывезена и заключена в Шлиссельбургскую крепость. Но имя персоны не произносили, только глядели многозначительно да палец к губам прикладывали.
Ушаков вернулся от императрицы, наделённый широкими правами. И мешкать не стал. Первым делом снарядил отряд с доверенными офицерами во главе для срочного и тайного перевоза Иоанна VI в Шлиссельбургскую крепость, в отдельный каземат, без права сноситься с кем бы то ни было и видеть кого-нибудь, кроме охраны. А родители его пока, для пресечения слухов, были оставлены в Холмогорах, но с полной сменой караула. Иванова же Ушаков повелел заковать в цепи и привезти в Петербург для очных ставок и наказания. Все дамы также были арестованы.
Лилиенфельд выворачивалась змеёй, всех оговаривала, себя выгораживая. Но очные ставки показали, что письма из Пруссии через неё шли и через неё сношения были с Брауншвейгами. Она же и в заговор с Фридрихом Прусским самолично вступила и была всему душою. А тех двух баб, Лопухину и Бестужеву, Ушаков жалел: дурами они были, в дурах и оказались. Да теперь уж делу помочь было нельзя, далеко всё зашло.
Однако Лилиенфельдиха и после того выкручиваться пыталась, тут же сказалась беременной, надеясь на снисхождение. Ушаков и здесь подозревал обман, но выяснять и усугублять положение не стал, бабку-повитуху не пригласил, а просто со слов в докладе от своей канцелярии оную ситуацию как есть изложил.
Но одна баба другую редко когда помилует. Да к тому же понимала императрица, что трон от потрясений любой ценой надо охранять: бироновщина научила, что нет хуже, как чужестранцев к власти допустить. А здесь грозилось Брауншвейгами — чем это лучше бироновщины? И потому на доношении из Тайной канцелярии о злоумышленницах написала беспощадное:
«Надлежит их в крепость всех взять и очную ставкою производить, несмотря на её болезнь... плутоф и наипаче жалеть не для чего, луче чтоб и век их не слыхать, нежели от них плодоф ждать».
И после этой резолюции имена заговорщиц были объявлены и приговор вынесен. Палач на Сенатской площади кнутом бил и терзал белые женские тела. Истошным криком выли за несколько дней поседевшие красавицы, холёные аристократки. И тот звериный женский вопль бил по людским нервам, леденил души, вселял ужас. А после битья у заговорщиц вырвали языки и безгласных, чтоб век их не слыхать, отправили в Сибирь. Чтобы всем было страшно.
Народ плакал. Простые люди всегда сочувствовали видному страданию, и никогда ещё жестокость не вызывала у них радости. Протеста не было: ведь заговорщицы, преступницы! Но жалели. И всем было страшно!
Ломоносов начал было ставить опыты с електричеством: соорудил лейденскую банку для накопления заряда, о которой вычитал в присланном Эйлером журнале. Хотел выяснить, как електричество по разным телам, твёрдым и жидким, протекает, но дело валилось из рук. На площади едва ли не против окон били кнутом, резали языки. И електричество то, никому не нужное, вестей оных ни заслонить, ни отменить не могло. Не под колпаком стеклянным жил, в России, среди людей. Тошно было и страшно.
Но на этом страшное для него не кончалось. В один из дней той недоброй весны Ломоносова вызвал Шумахер и, запинаясь от страха, дрожа от ужаса по причине, которую сам же породил, и оттого трясясь ещё больше, передал, что господина профессора Ломоносова вызывают в Тайную Ея Величества канцелярию. Затем проглотил слюну и, пряча глаза, добавил:
— Пристав для препровождения ждёт вас там, внизу.
Пришло страшное и в академию. И уж, конечно, боялся Шумахер не за Ломоносова. За шнуру свою трясся, страшась расплаты за учинённое, ибо уже был запрос из Тайной канцелярии о пресловутых пробах, и он, Шумахер, ответил, что пробы те исполнял профессор академии Михайла Васильевич Ломоносов.
А Ломоносов поначалу даже и не понял, к нему ли это все относится. Но пристав был, вот он. И ждал он не кого иного, как его, Михайлу Ломоносова. И не церемонился пристав с каким-то там профессором; таких ли персон за шиворот волокли в Тайный приказ. Велел тут же за ним следовать и так, под конвоем, до самого места препроводил и сдал при входе караульным.
Смутно было на душе у Ломоносова, всё это было непонятно и незаслуженно.
Дьяки приказные протомили его в прихожей ожиданием часа три, наконец вызвали в апартамент и приступили к допросу. Начали задавать вопросы, всё более окольные: какого возрасту, чем живёт, откуда родом, давно ли дома, в Холмогорах, был? С кем встречается и к кому ходит? И не поймёшь в той круговерти, к чему подбираются. Того ведь Ломоносов истинно не знал и причин хитрить не имел. Но чувствовал, к чему-то подбираются.
Спросили ещё, часто ли пробы руд и минералов осуществляет? Сказал, что нечасто, делом этим ведает профессор Родбарт Силинс. Но бывает, что и он, Ломоносов, пробы производит, когда Шумахер поручит. Это тоже записали. И вдруг один из приказных совсем незаметно, в ряду других слов, спросил:
— А оду к восшествию на престол младенца Иоанна VI вы писали?
«Вот оно, проглянуло-таки, — вздрогнул Ломоносов. — Незнамо, с чего всё и началось, но вон куда клонит!» Захолонуло под сердцем, липкий пот проклеил рубашку. Ответил, а чего же отпираться:
— Да, я писал. Было.
Едва возвратившись из учения во Фрейбурге в 1741 году, ещё дел русских не поняв и места в академии не имея, по предложению Шумахера сочинил ту оду. Торжественную, на восшествие. Ведь было же восшествие, и был на престоле младенец-император. Хоть месяц всего, но был. А Шумахер на всём политику делал, хотя иногда в кон и не попадал. И теперь, на тебе, вытащили!
Но вроде и забыли дьяки про вопросик, как будто его и не было вовсе. На другое перешли, но Ломоносов теперь чувствовал: всё к тому же. Спросили: имел ли он какие сношения с домом Лилиенфельдов и других злоумышленниц? Ответил твёрдо, что не имел и знать их не знает. Это тоже записали.
А затем устроили очную ставку. Вывели мужика, лицом белого, как мука. Передёрнуло Ломоносова от взгляда мужика, травленого, замученного, как из могилы. Смотрел тот, голова подрагивала, глаза бегали, выражая искательную готовность выполнить всё, что прикажут. Это был Пётр Зубов. Ломоносов стоял перед ним, как обнажённый, а тот смотрел то на него, то на приказных. На вопрос о том, знает ли он стоящего перед ним человека, видел ли где ранее, ответил не сразу, переводил бегающий взгляд с одного на другого, стараясь угадать, как ответить. Но ничего не увидел и сказал правду: не знает, не встречал.
Зубова увели, и Ломоносов почувствовал, что самое страшное как будто миновало. Старший из приказных дьяков встал и объявил, что на сегодня хватит. Положил на стол, велел прочесть и подписать бумагу, в которой предлагалось профессору академии Ломоносову никуда не уезжать, никуда не ходить, всё время безотлучно проводить на службе, то есть в академии, ночевать дома и нигде более. То не арест вроде бы, но и не свобода. Ломоносов подписал, и ему разрешили вернуться к месту службы одному, без сопровождения.
В академии установилась настороженная тишина. Прекратились баталии в Конференции; перестали собираться. Затих Шумахер, затаились Бакштейн, Силинс, замолк Миллер. Другие немцы было начали злорадничать над Ломоносовым, злословить, но потом, как по команде, замолкли.
Испуганно перешёптывались студиозы, провожая Ломоносова долгими взглядами. Никто ничего толком не знал, кроме того, что Ломоносова с приставом препроводили в Тайную канцелярию для допроса по тому самому страшному государственному делу. И сейчас он почти что под арестом, под негласным надзором, того и гляди за ним опять придут, и потому лучше держаться от него подальше.
Как-то боком отошёл Крашенинников. Ему теперь замараться нельзя: он ректор Академического университета, гроза студентов. Отошли Котельников и Попов. Широв не отошёл, но и близости избегал, шутить перестал, маялся; видно, что и совестно ему, и боится в то же время. Лишь Иван Харизомесос, совершенно ушедший в свои математические экскурсы, вообще ничего вокруг себя не замечал и при встрече с Ломоносовым по-прежнему улыбался и тут же начинал разговор о дифференциальных уравнениях, эллиптических орбитах и эксцентриситетах.
Ломоносов сунулся было к Теплову за советом, за поддержкой — куда там! Встретил прозрачный, невидящий взгляд и холодный ответ о том, что ему, Теплову, а уж тем более президенту Разумовскому, сейчас недосуг заниматься Ломоносовым. Оба совершенно заняты. И разговор на том быстро кончил. Лишь в последнюю секунду где-то в уголках глаз его уловил Ломоносов и вопрос, и недоумение, и досаду: «Дескать, как же это ты, братец? Ай-яй-яй!»
И конечно, Шумахер тут же свёл бы с ним счёты, привёл бы наконец этого умника к давно всеми желаемому общему знаменателю, растоптали бы его копытами Бакштейн и Силинс, если бы сам Шумахер панически не боялся открытия своего умысла. И потому выжидал. С каким-то даже заискиванием пригласил Ломоносова к себе в кабинет и долго выспрашивал, о чём была речь в Тайной канцелярии и что Ломоносов отвечал. И кивал угодливо, стараясь выведать больше. От этой угодливости подозрительной, интереса к себе повышенного возникло у Ломоносова ощущение, что где-то чего-то он недоглядел и обвели его вокруг пальца, возвели напраслину. Расстались с Шумахером, тот в ещё большем испуге, ибо теперь уже точно узнал, что тем анализом руд интересовались, а Ломоносов, теряясь в догадках по поводу непонятного внимания Шумахера.
Один лишь Симеон с ещё большим почтением и услужливостью подавал Ломоносову шубу, чистил её старательно щёткой и участливо говорил:
— Не огорчайся, Михайло Васильевич! Всё образуется. Всё будет хорошо! — а затем приглашал в привратницкую на миг, за малой чаркою. И хоть и не нужна была чарка Ломоносову, хоть он благодарил, отказывался и не шёл за нею, но душе становилось легче и теплее.
Не строил Симеон никакой карьеры и потому вёл себя токмо согласно своим симпатиям. По-человечески.
Ломоносову достало твёрдости не раскиснуть, распуститься нервам не позволил, рук не спустил. Но на всякий случай решил бумаги свои в порядок привести. Если уж приказные будут в них рыться и описывать, пусть всё дельное на виду окажется, пусть само за себя говорит. С утра приходил, садился в своей лаборатории за стол у окна, перебирал папки, подписывал, нумеровал листы и делал на них реестры.
Вот черновик рапорта графу Шувалову, меценату и покровителю наук, об организации университета в Москве. «Нужное, созревшее дело? — думал Ломоносов, перебирая бумаги, к сему относящиеся. — Давно писано и говорено много, да пока толку нет. — Листая, перечитал несколько строк: — «Предприятие сие произвести намереваюсь к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества». — Перечитал, поморщился и сам себя укорил: — Вот так! О славе отечества всегда пёкся, а ныне под следствием о злоумышлении пребываю ни за что ни про что. Да-а!»
Снова мысли эти отогнал, стал дальше просматривать: «Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может. А факультетов должно быть три: юридический, медицинский и философский. — И задумался: куда бы сам пошёл? Сразу было ответил: — Конечно, на медицинский; для естествознания факультет самый подходящий. Кафедр там должно быть не менее трёх: химии, натуральной истории и анатомии. Вот химию бы и принял. — Затем посидел, подумал и мечтательно продлил мысли далее: — Но и на философском дела немало. Там кафедры философии, физики, оратории, поэзии, истории древностей. Может, на философский податься? Всё то близко, всё родное».
Но вдруг осознал, что никакого университета нет ещё и незнамо, будет ли, что всё это пока мечты на бумаге. А ему в его сегодняшнем утеснении и думать нечего подобные бумаги успешно продвинуть.
«Сулил Ерёма на Луну прыгнуть с дома», — вздохнул и отложил папку. До времени.
Взял другую. Снова черновики, наброски, разрозненные вроде бы, но мысли в них намечены важные и одной нитью прошиты. Всё о размножении и сохранении российского народа.
Пробежал записи: «Величие, могущество и богатство всего государства состоит в обилии трудоспособного, здорового и благоденствующего населения, а не в обширности тщетной, без обитателей». Прочёл и подумал удовлетворённо: «Что ж. Пусть приказные то почитают. И за это ему не стыдно».
Предлагал в этих записях внедрять в народ правила, медицинскую науку составляющие. «По всем городам довольное число докторов, лекарей и аптек завести». И вот ещё хорошее дело, — сам себе заметил Ломоносов, — да пока не нашёлся медик, к тому способный. — И прочёл: «Надобно собрать дело знающих повитух и особое наставление об искусстве повивальных бабок издать». И добавил: «Чтобы всё по науке было, по само дело их простыми словами изложить, без латыни. Чтобы и необразованная повитуха понять могла». — Отчеркнул лист как важный, поставил номер, вложил в папку.
«Ещё к тому же», — вскинулся Ломоносов, вспомнив баталии о флогистоне. И дописал в бумаги: «Надобно по церковным правилам разрешить воду в купелях для крещения обязательно подогревать». И в памяти возник варварский указ Обидоносцева, будто он был злыднем болотным, а не православным иереем, о запрете подогревания воды по причине натекания флогистона. Ломоносов зло передёрнулся от неприятного воспоминания: «Вот тебе и абстрактное знание о природе теплоты. Вред-то уж куда как конкретен. Я бы вот таких грамотеев обидоносцевых на площади кнутом бил, чтобы к народу подобрели». Но мысли этой, конечно, не записал.
В той же папке перечитал свой совет не женить в юности насильно. Качнул головой одобрительно: «Всё верно. От них потомство пойдёт непрочное, ибо до двадцати пяти лет парень ещё не муж, но вьюнош. Вон и в природе то же: к примеру, сохатый, пока сам в силе, бычка молодого ни за что к самкам не допустит, хотя те и лезут. Бережёт породу. И потому наказать надо мужикам подбирать жену не ранее тридцати с лишком лет из девок осьмнадцатилетних».
Ухнула пушка в Петропавловке — полдень. Оторвавшись от бумаг, Ломоносов увидел, как потемнело за окном, нависло. Налетел порыв ветра, стукнул створкой приоткрытого окна, занёс несколько шальных дождевых капель. Ещё более сгустилось на небе, ещё порыв ветра, и как грохнет за окном, как ахнет, загремит, будто сто пушек одновременно вдарили канонаду. Окно со стуком распахнулось. Ломоносов захлопнул папки, хороня бумаги, сдвинул их, сложив одна на другую, и встал у окна.
Хлестнуло дождём, словно прорвало, и вдруг раскололось небо огненным деревом, ветвями вниз направленными, и через мгновение-другое ударило громом по ушам, аж страшно стало. Потом ударило ещё; за окном грохотало и било неистово, без передышки. Ломоносов жадно вдыхал острый весенний воздух, смотрел на небо, на тучи, ловил взглядом молнии, содрогался и восхищался неукротимостью разыгравшейся стихии.
— Сила-то какая! Ах, какая сила немыслимая!
И вдруг в голове, как та молния, сверкнула мысль: «А ведь это електричество! Оно, електричество, и ничто другое! — И он удивился, как это до сих пор никого эта мысль не осенила. — Из лейденской банки искорка маленькая, здесь вон какая! Но ведь похожи как! Значит, явление то единое — електричество. Стало быть, и молнию можно ловить, накапливать, в банки, подобные лейденским, загонять? Ловить грозовое електричество!»
И жутко стало и страшно от этой мысли, но восхитительно. Восхитительно оттого, что можно это сделать, можно! «Поймал же человек ветер. Заставил корабли парусные гонять, мельницы вертеть. Заставил работать!» И Ломоносов, радуясь своему прозрению, своим догадкам, удало закричал в окно:
— Ого-го! Молния! И тебя поймаем! И тебя заставим работать! Ого-го!
И хоть темны века будущего и не дано смертному заглянуть в них, на секунду показалось Ломоносову, что пронзил он их мыслью и узрел в той темноте яркий свет.
На этот раз вызов в Тайную канцелярию обошёлся без пристава. Пришёл рассыльный, сдал бумажку под роспись академическому конторщику, а тот передал Шумахеру. Но всё равно был переполох, всё равно Шумахер, отдавая бумагу ту с вызовом Ломоносову, заглядывал в глаза и просил, уже просил взвешивать каждое слово, не говорить лишнего. Разумеется, только о благе своего профессора и вверенной ему академии заботясь.
В Тайном приказе сегодня ожиданием не томили, сразу провели в кабинет к Ушакову. Ломоносова встретил суровый взгляд из-под серых бровей на большой лысой голове. Оторвался взгляд от бумаг, просверлил Ломоносова, сделал знак сесть и опять в бумаги уставился.
Ломоносов сел, огляделся, увидел большой стол, заваленный папками, а за столом уже старый и, видно, усталый человек сидит, внимательно бумаги читает, пометки делает, думает.
«И здесь бумаг полно, — решил Ломоносов. — Не только у вас и академии».
Ушаков читал и молчал, лишь иногда гостя мгновенным взглядом окидывая. Многое о нём выяснил перед вызовом к себе, многое одобрил и теперь уже своё мнение составлял, не бумажное, личное. А Ломоносов сидел и думал, что вот и тут, за этим столом, тоже делается история. Ибо наивным не был и знал, как бывает: здесь ниточку дёрнут, а во дворцах, и не только на Неве, но и в других столицах, персоны запрыгают. А прыжки их иные зряшными окажутся, а иные породят дела, которые в историю войдут.
Наконец Ушаков оторвался от бумаг и каким-то совсем не приказным, домашним голосом спросил:
— Вот что, Михайло Васильевич, академик российский. Как же это ты с пробами руд так оплошал? А? На-ка вот, почитай.
И протянул ему две бумаги. Одна — его собственное, Ломоносова, заключение, вторая — заключение пробиреров Монетного двора. Читал их Ломоносов и потрясался. Как небо от земли, отличались пробы. «Что произошло?» И сразу стало ему понятно возложенное на него подозрение: основания к тому имелись; но страшно уже не было. Видел, что доверяют ему и ждут разъяснений. И разъяснение должно найтись, хотя он его пока не видит. Растерянно развёл руками:
— Как могло такое случиться? Не понимаю.
— Может, ошибся? — спросил Ушаков.
— Ну уж нет! — твёрдо и резко ответил Ломоносов, словно не в Тайном приказе на допросе, а у себя в академии с немцами спорит. — Всё, что изложил, — он показал глазами на своё заключение, — видел собственными глазами и за то ручаюсь. Может, в Монетном дворе ошиблись? — так убедительно ответил, что Ушаков и обсуждать более того не стал, пошёл по другой линии:
— Нет, Михайло Васильевич, там не ошиблись. — Помолчал, чтобы мысль закрепить, и продолжил: — Но и ты говоришь, что не ошибся.
— Не ошибся, — ещё раз подтвердил Ломоносов. — Вот, правда, блестели крупинки серебра слишком, то признаю. Не придал значения. Да ведь все признаки сопребывающие были налицо: и свинцовый блеск, и шпат известковый. Не знал я, что подозревать сие можно.
— Стало быть... — Ушаков чуть помолчал. Для него, умудрённого в сыске и раскрытии обманов, сия картина особой загадки уже не представляла. — Стало быть, подсыпали в твои пробы того шпату и свинцового блеску, который тебе глаза затмил. Подсыпать-то есть кому? Есть способные?
Ломоносов остолбенело смотрел на Ушакова, сразу же поняв, что это единственное объяснение случившегося, что иначе и быть не может. Потёр лоб и полуутвердительно-полуизумлённо произнёс:
— Подсыпали? Ну конечно, подсыпали! В академии минералогическая коллекция во-он какая! Чего хочешь найти и подсыпать можно!
— Так ведь надо знать, что подсыпать и где то взять. Кто это знает? — точно ставил вопросы Ушаков.
— Ну, это уже Силинс. Он и никто больше, — твёрдо ответил Ломоносов, — наш горнорудный знаток. Меня же ненавидит, наверное, поэтому и произвёл подлость.
— Ладно, — закончил Ушаков, — пощупаем твоего Силинса и выясним, кого он хотел подвести, а кого выручать. — Опять помолчал и, заканчивая теперь уже не допрос, а беседу, сказал: — А ты впредь на пробах будь осторожнее. Требуй запечатанные. — Затем встал и, подойдя к Ломоносову, добавил доверительно: — Ода твоя на восшествие хорошо написана. Читал. — И хитро посмотрел на Ломоносова, не говоря тому, чьё восшествие в виду имеет, хотя и так всё было понятно. И продолжил: — Только вот не ко времени вспомнило о ней твоё начальство и нам о том донесло. Ну да это тоже к подсыпке отнеси, — и поморщился. Такие ли подлости по своей должности видывал!
Потом проводил Ломоносова до двери, крикнув:
— Эй, кто там! Проводите господина академика к выходу.
Когда пристав приехал на тележке с вызовом Силинса в Тайный приказ, тот от страха лишился языка. Шумахер, бледный, весь в крупных капельках пота, текущих по лицу, метался между Силинсом и господином приставом, которого усадили в кресло и поднесли вина, умоляя дать Силинсу время прийти в себя, собраться. Пристав вино выпил, крякнул, утёр усы, но велел не мешкать.
— Признайтесь, что подмешали пробы! Сразу признайтесь, — настойчиво шептал Шумахер трясущемуся Силинсу, который беззвучно открывал и закрывал рот, бессмысленно глядя перед собою. — Но, я умоляю вас, не упоминайте меня, — продолжал Шумахер. — Поймите, мы тогда все погибнем. Все. И вы тоже. А так вас сильно не накажут. Скажите, что сделали это из нелюбви к Ломоносову! Только! Слышите? Только из личной неприязни к нему!
Силинс, с закатывающимися от страха глазами, судорожно дёргая жирной щекой, еле волоча ноги, шёл к тележке, поддерживаемый под руки Шумахером и Бакштейном. Всегда красноватая физиономия Бакштейна теперь покрылась яркими пятнами, очки запотевали и потому не сияли обычным блеском. Шумахер всё что-то шептал Силинсу на ухо, гладил его по плечу, и, когда тот безвольно свалился в тележку пристава и та тронулась, оба умоляюще протянули к ней руки, и Шумахер, уже вслед, закричал:
— Риттен зи унс... Ихь битте зи...[135]
В Тайном приказе дело Силинса не отняло много времени. Он, едва вошёл, не дожидаясь вопросов, пал в ноги приказным дьякам и стал повторять одно и то же:
— Виноват! Энтшульдиген зи, простите. Намешал пробы по злобе на Ломоносова. Виноват, подмешал по злобе, энтшульдиген зи, простите... — Приказные слушали, качали головами и всё же позвали пыточных дел мастера, чтобы выяснить, сколь правдиво это признание. Однако тот лишь и успел, что содрать с визжащего Силинса рубаху и привязать руки к большим кольцам у места наказания кнутом, как Силинс вдруг обмарался. И так из него начало свистать, и такой дух пошёл отвратный, что всем стало невмоготу.
А пыточный мастер после этого заявил, что работа у него и так вредная и потому от лишних тягот его следует оберегать. И здесь надобно поступить по правилам: перед допросом дён пять-шесть подержать узника голодным, чтобы жир согнать и кишки очистить. И уже после по всей форме допрашивать с пристрастием. А Силинс всё это слышал и оттого ещё больше свинства учинил. Мастер плюнул и, забрав кнут, ушёл из апартамента, а дьяки побежали к Ушакову советоваться.
Ушаков уже к тому времени всё это дело завершал. Злоумышление было искоренено, виновники наказаны, главные особы изолированы, трон от посягательств ограждён. Заниматься пустяками было недосуг. В сопредельных странах опять началось бурление. Австрийская Мария-Терезия[136], утеснённая Фридрихом Прусским — с одной стороны, и Людовиком — с другой, взывала к Елизавете. Оттого многие хлопоты государственные назревали, и это бурление со свинством Силинса несравнимо было. Поэтому, выслушав возмущённых дьяков, норовивших изложить подробности, Ушаков усмехнулся и приказал:
— Взять немца за шиворот, дать пинка и выкинуть на улицу с наказом: если в три дня из России не уберётся — возьмём опять. — И снова углубился в бумаги.
Много грязи переворошил в своей жизни Ушаков и сам порой был грязен по уши. Но в деле Ломоносова то не сказалось. Вряд ли понял он значение Ломоносова в науке, но, что прикасается к чистому понял несомненно. И потому сам в этом деле остался чист перед историей и людьми.
Крепко пуганул Ушаков немцев в академии. И хотя недосуг оказалось ему досконально разобраться в их мелких, с его государственной позиции, кознях, но напугались они страшно. На следующий же день рано утром Силинс покинул Петербург и ровно через три дня, совершенно растрясённый бешеной ездой, сел в Ревеле[137] на корабль, направляющийся в Гамбург. А в академии вдруг стало как-то свободнее, светлее, легче стало дышать. Громче заговорили россияне, чаще стали улыбаться студиозы. Опять начал зубоскалить Широв и снова, не глядя на то, что ныне уже в учёные мужи выходил, бил ногами чечётку. И хоть число чужеземцев заметно не сократилось, держаться они стали поприличнее, спеси и наглости поубавили.
На другой же день после отъезда Силинса Шумахер собрал Конференцию. И прежде всего лучившийся добротой и вниманием асессор Теплов объявил о желательности поддержать предложение профессора Михайлы Васильевича Ломоносова об организации Московского университета. Предложение это было сразу же принято единогласно, и Теплов сказал, что он незамедлительно сообщит о том графу Шувалову, дабы тот предпринял необходимые шаги. Ломоносов сидел и думал, как просто решаются иногда дела, казавшиеся неразрешимыми: цыкнуть надо на мерзавцев, показать им палку, поставить на место. И дело пойдёт.
Вторым вопросом Конференция рассмотрела предложение, и не кого иного, как Шумахера, о том, чтобы за беспрерывное умаление заслуг русского народа, в также искажение его истории разжаловать академика Миллера из профессоров в адъюнкты. И соответственно уменьшить жалованье. Слушал это Ломоносов и ушам своим не верил. Столько спорили, дрались, столько нервов истрепали, и на тебе — как будто и не было ничего. Пошли на попятный, все признали, и виновный наказан. Невероятно! Но всё было так. Конференция проголосовала, записала то в протокол и постановила: внести соответственное ходатайство в Сенат. А Миллер сидел и не протестовал вовсе, как будто его милостью одаривали.
Дивился Ломоносов, не зная того, как рад, как доволен Шумахер, что вывернулся из страшной западни, в которую сам же и залез. Какую работу провёл среди своих, чтобы их успокоить, чтобы убедить, сколь малую, ничтожную цену колония чужестранцев платит за свои многолетние воровство и прегрешения. Но не верил Ломоносов в их долгое смирение и потому немного спустя подал президенту Разумовскому памятную записку, в которой предлагал число русских и число чужеземцев в Российской академии хотя бы уравнять. Но уж этому-то его предложению предстояло на долгие времена остаться лишь благим пожеланием.
А весна уже кончилась. ...И Ломоносов торопился жить, спешил работать, думать, сочинять.
Глава 5 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
...Зная правила, изысканы стеклом,
Мы можем отвратить от храмин
наших гром.
М. Ломоносов
Ломоносов с удовольствием разложил на столе желтоватые, только что доставленные рассыльным хрусткие листы «Санкт-Петербургских Ведомостей» и со вниманием стал читать газету сверху донизу, начав с заглавия и кончив рассмотрением завершающей листы виньетки.
Учреждённая ещё Петром первая в России газета, ставшая ныне из просто «Ведомостей» «Санкт-Петербургскими Ведомостями», отзывалась не только на дела государственные, торговые и военные, но также печатала и новости научные. Колонка с правой стороны третьего листа сообщала, как «...осознав опыты Франклина[138], «некий француз, д'Алибар» ...установил железный шест в сорок футов вышины, из которого в ближайшую грозу были извлечены крупные яркие искры».
Ломоносов вычитал всё это в европейских газетах, изложил по-русски и передал в «Санкт-Петербургские Ведомости», которые печатались тут же, в академической типографии.
«Пусть читают люди и друг другу передают, — думал, исполнив эту работу, Ломоносов, — чтобы всякого звания люди к наукам приобщались».
И конечно, оные занимательные опыты снова пробудили давний интерес Ломоносова к електричеству. Академик Георг Рихман, также к електричеству приверженный, сильно тот интерес подогревал и вниманием своим к Ломоносову, и беседами о разных материях, и долгими спорами об електричестве.
— Мы с тобой, Георг Гельмович, суть вроде електрической пары — тянемся друг к другу. Но как сойдёмся, так искрами сыплем, об електричестве рассуждая, — говорил Ломоносов с весёлой усмешкой, обращаясь к своему коллеге — академику Рихману. Имя Рихмана было Георг Вильгельм, но Ломоносов переиначил его для краткости на русский лад — Георг Гельмович, чем того ничуть не обидел. Сам Рихман занимался науками истово, в интриги не ввязывался и посему завоевал доброе расположение и дружбу Ломоносова.
— Это хорошо, — отвечал Рихман. — Искры сии воспламеняют наши умы. И делу то очень полезно есть. — Сказал и уставился на Ломоносова колючим взглядом, который можно было бы назвать и сердитым, ежели бы Ломоносов не знал, что Рихман добр.
— И всё же чудно електричество, — задумчиво произнёс Ломоносов. — По тому, как оно растекается по металлическим телам и задерживается деревом и стеклом, усматриваю я многое сходство с теплотою. — Сказал без нажима, предположительно, ибо мнение о сём сходстве хоть и сложилось, но подтверждения не имело.
— Искры от раскалённого тела с електричеством не сходственны, — возразил Рихман. Он тоже много думал о електрической природе, но в силу большей осторожности характера мнения не высказывал.
— Ясно, не сходственны, — согласился Ломоносов. — Я лишь о течении говорю. Теплота движением частиц передаётся. Електричество, вероятно, тоже движением. Движением частиц! Но каких? — И застыл с напряжённым лицом, вперивши взгляд в пространство, словно надеясь углядеть эти частицы. А Рихман, неопределённо качая головой, не соглашаясь, но и не отрицая сказанного, лишь повторил несколько раз:
— Не знаю, не знаю... Наблюдать надо явление. Изучать...
— Будем изучать. Громовые машины и у тебя и у меня сделаны. Хлеба не просят, а гроза придёт — заработают, — будто утешая обоих, ответил Ломоносов. — А сейчас мы твёрдо знаем одно: по молниеотводу електричество уходит в землю. Стало быть, ежели около строений молниеотвод, то стрела молнии в дом не ударит — уйдёт по отводу в землю. Уже в том знании несомненная польза.
— Это установлено, — подтверждающе сказал Рихман. — И польза от сего есть; вы правильно на то, Михайло Васильевич, указываете. Но истинные учёные должны не столько пользою озабочены быть, сколько познать явление, установить, откуда оное електричество в атмосфере берётся. Откуда?
— Думаю, от трения. Трения, подобного тому, которое вы осуществляете, натирая палочку сукном. Али бо щёткой о стекло в електрической машине.
— Помилуйте, Михайло Васильевич! — уже протестующе воскликнул Рихман. — Какое трение? Что обо что трётся?
— Потоки воздушные трутся друг о друга.
— Потоки?
— Да, потоки трутся, и в том трении участвуют мириады шаричков водяной материи, из коих облако состоит.
— Так в воде електричество не держится! Не дер-жит-ся! — протестующе затряс руками Рихман, по слогам выкрикивая слова несогласия.
— А оно не в воде держится, — уже не столько запальчиво, сколько лукаво, возразил Ломоносов. — В облаке, на мелкие частицы разделённом, поверхность тех частиц безмерна. Вот на той поверхности, — он подчеркнул это слово голосом и выбросил вверх палец, будто указывая, где та поверхность находится, — на поверхности шаричков и накапливается електричество!
— Где, где?
— На поверхности водяных частиц, как на поверхности стеклянной палочки! А поскольку поверхность сия, как я сказал, безмерно велика, то и сила електрическая в облаках при грозе велика тоже.
Ломоносов хотел было продолжить свой напор на Рихмана, но тот, вдруг перестав спорить, задумался, и потому Ломоносов остыл и замолчал. Два учёных молча и сосредоточенно сидели друг против друга, размышляя над непонятным и будто по молчаливому согласию перенеся эти вопросы, не говоря уже об ответах, на будущее.
В который раз снова и снова задавал себе Ломоносов вопрос: «Что есть свет и как связаны с ним наблюдаемые глазом цвета? Свет все цвета в себе содержит и всякий предмет может окрасить. Но и цветные составы, особенно цветные стёкла, белый свет в свой цвет перекрашивают. В чём же дело? Стеклянная призма радугу цветов творит из самого света, белый свет разлагает на составные части. А цветное стекло что делает? Белый свет, положим, в красный окрашивает. Но чем? Как стекло свою краску к свету примешивает? — Ломоносов морщил лоб, напрягался, думал, играя цветными стёклами и гоняя по белой бумаге разноцветные зайчики. — Может быть, так? Призма разделяет свет на части, располагая их одну за другой по цветам. А цветное стекло отделяет одну часть от остальных. Отделяет! — Ломоносов тёр виски и вдумывался в сказанное им в уме слово: — Отделяет! Отделяет один цвет от другого. Но как? Вот сито, например, крупные зёрна от мелких отделяет по размеру зёрен. А стекло по какому размеру один цвет от другого отделить может? По какому признаку?»
Здесь наступал предел знания. Ломоносов чувствовал, что близко подошёл к пониманию сути явления, вот здесь, здесь, рядом, ответ. Но далее двинуться не мог. Не хватало знания, и ничего с этим поделать пока нельзя. Это знание будущих поколений, они достигнут, а ему не дано. И потому, оставляя размышления, снова окунался и практику, в живое дело.
Занимаясь плавкой стекла, пытался получить разноцветные стёкла, но на прозрачности запнулся. Понял, что легче делать полупрозрачные и непрозрачные цветные составы, смальты, и видеть их окраску уже не в проходящем свете, смотреть не на прозрачность, а глядеть на них в отражённом свете. Здесь виделись картины прекрасные. Ещё в былые времена, разглядывая в доме графа Михаила Илларионовича Воронцова привезённые им из Италии мозаичные картины, восхищался и думал: «Нельзя ли сие искусство у нас возродить? Ведь строили же в Киевской Руси мозаичные иконы и фрески!» А осознав в руках силу создать стеклянные кусочки, смальты, всех цветов, решил полную рецептуру этого дела систематизировать.
Лаборатория стала тесна. Оставлены дела железные, не плавится более металл, не гудит горн, не слышно стука молота о наковальню. Всё заполонили ящики с песком из разных карьеров, глины всяческие: и местные, ближние, и дальние, привозные. С переплавкой их одна стеклянная печь не справлялась, на то дело ещё две печи перестроил.
— Во всяком експерименте главное — система, — поучал Ломоносов заметно возмужавшего Клементьева. — Держись системы и тогда истину как рыбу сетями изловишь и за жабры схватишь.
Клементьев, работая с Ломоносовым уже не один год, соблюдал эту истинную верность, трудился с ним в лаборатории не покладая рук. И как ни нашёптывали ему разные други и недруги на ухо, что-де эта возня с огнём — пустое дело, что истинные науки он упускает и звания адъюнкта так и не добьётся, а потому и должного себе оклада жалованья никогда не получит, всем тем наушничеством Василий пренебрегал.
— Интересно мне с Ломоносовым, — отвечал он доброхотам и шептунам. — А брюхо... Так брюхо никаким жалованьем под завязку не набьёшь. Коли хотения его своим несогласием не оградишь, ему всякого жалованья будет мало.
А Ломоносов открывал красочные дали и вёл за собой других:
— До познания всех цветов радуги в стекле обязательно дойдём. Но должно для этого избрать кратчайший путь експеримента. В каком порядке что перебирать, смешивать и варить. Тогда найденное по пути теряться не будет, всё останется в копилке, и цели достигнем.
В специально заведённом толстом лабораторном журнале рисовал Ломоносов квадраты, писал в них номера ящиков с песками, глинами и присадками, а потом те квадраты соединял карандашными линиями со стрелками, объединяя их в схему. И та схема помогала последовательно перебрать все нужные комбинации, не повторяясь и не путаясь в них.
Чтобы всю эту дорогу пройти, сидеть в лаборатории приходилось безвылазно, ни лета, ни зимы не видать. Как-то здесь же, расслабившись после очередной плавки, написал Михаила на смятом листке:
...о лете пишу, но им по наслаждаюсь И радости в одном мечтании ищу.Действительно, об отдыхе более помышлял, нежели отдыхал на самом деле. Но зато дело двигалось.
— Вот мы уже и понимаем, какие смеси какие цвета дают, чего куда надо добавлять и чего отнимать, — говорил Ломоносов, разливая в тысячный раз по формам очередную порцию жидкого, матово сияющего варева, которое, застыв, образует цветную смальту. — Как все цвета получим и рецепты их запишем, картины начнём собирать из тех стеклянных пуговок. И картины, знаю, будут не хуже итальянских. — Это была красивая, сияющая радугой цветов даль, и Клементьев шёл с Ломоносовым к ней, не зажмуриваясь.
Строить мозаику начали сразу с большого. Из собрания Шувалова выбрал Михаила Васильевич мадонну с младенцем, а по-русски — Богоматерь, исполненную итальянским живописцем Солименой[139], и решил скопировать её в мозаике. Сложна была картина, мягкие полутона тепло осеняли строгое лицо женщины-матери, покрывало ниспадало волнистыми, кажущимися объёмными складками. Цвета были мягкими, подчёркивая нежность и любовь, олицетворяемую мадонной; они возвышали душу, пробуждая мысли добрые и светлые. Ломоносов выбрал именно Богоматерь, ибо намеревался подарить картину Елизавете, а та была богобоязненна и потому иного сюжета могла бы и не оценить.
Серьёзно подошёл к сему предприятию Михайла. Сам рисовал неплохо, но всё-таки всё на себя не взял, подумал, что художники, осенённые большим талантом, чем он, полезнее будут. Да и смену надо готовить из нарочито приставленных к мозаичному делу молодых людей. И потому добился через Академическую Канцелярию права выбрать себе в помощники двух самых способных учеников рисовальной палаты, что состояла при академии же. Долго рассматривал ученические рисунки, перебирал, оценивал. Потом с их исполнителями беседовал и выбрал двоих: Матвея Васильева и Ефима Мельникова[140]. Работы их понравились, да к тому же юный их возраст обещал многое: Матвею едва исполнилось шестнадцать, а Ефиму и того меньше.
Далеко смотрел вперёд Ломоносов и хотел, чтобы дело его и после него долго жило в его учениках.
Образ Богоматери был готов к сентябрю 1752 года. Шувалов прислал рессорную тележку и мужиков, дабы доставить мозаику без повреждений. Сбитую на железном противне, двух футов высоты и на четверть меньше ширины, мозаичную картину с великим тщанием привезли во дворец. Хотели было сразу в церкви поставить, но пока воздержались; каменных образов до того не бывало, все писаные, и потому решили подождать высочайшего одобрения.
Дело было утром. Елизавета хорошо выспалась, а после пробуждения её приветствовал свежий, улыбающийся Иван Шувалов, и от того настроение императрицы ещё поднялось. В переменчивой дворцовой погоде и эта малость важна, красота мозаики легла на доброе расположение Елизаветы, и образ был принят с оказанием удовольствия. Она ласково погладила край картины, провела по складкам одежды, будто пытаясь убедиться, что они лишь кажутся объёмными, а в самом деле плоски. Затем перекрестилась на новый образ и повернулась к Шувалову:
— Красивая, пристойная Богоматерь. Образ достоин освящения, хоть и необычно сделан.
— Исполнен академиком Михайлой Ломоносовым, — склонившись, ответил Шувалов. — Ждёт вашего соизволения войти.
— Зови, — улыбнулась Елизавета и сама направилась к дверям, заранее протягивая руку для поцелуя и выражая тем высочайшую милость. Обласкав вошедшего, Елизавета спросила: — Так что, действительно, ли сия мозаика времени неподвластна?
— Вещей, времени неподвластных, нет, ваше величество. Но по сравнению с картинами, писанными красками, мозаика живёт столь дольше, сколь долговечнее камень над тленным деревом.
— Я вижу, она из мелких разноцветных кусочков склеена?
— Их там более четырёх тысяч. И чтобы подобрать оные по цвету, ваш покорный слуга две тысячи с лишком опытов варки в стекольной печи сделал, — точно ответил Ломоносов, будто забыл, что он не в академии, а во дворце.
— Сии печи я лично наблюдал, — вставил слово Шувалов. А Елизавета, наклонив голову, произнесла милостиво:
— Достоин ты награды, господин Ломоносов. Проси. — И, взяв под руку Шувалова, повела того в сторону, заведя с ним какой-то совсем иной разговор.
Аудиенция была тем совершенно закончена, но Ломоносов понял: с немалым к нему расположением — и твёрдо решил из сего для себя и наук извлечь должную пользу.
«Как замерить електрическую силу, природой или нашими руками порождённую?» — мучился вопросом Рихман. Немало думал о том сам и не один долгий разговор вёл о том с Ломоносовым.
— Многое мы мерить можем, — говорил, размышляя вместе с Рихманом, Михайла. — Всякая мера есть сравнение. Сравнение с уже известным. Версту мерим саженями, то есть сравниваем с уже известной мерой — саженью. Неизвестный вес определяем, находя, сколько гирь меченых его перетягивают. И так далее.
— И так далее, — повторил Рихман. — Куда далее? Площадь ценим квадратами, объем — кубами. И то и другое видим. А електричество видим? Пощупать можем?
— Иногда видим, иногда, ежели и не щупаем, то ощущаем. Сам же не раз кололся об него, — шутливо напомнил Ломоносов.
— И всё же как мерить? С чем равнять?
— Свойство какое-то надо уцепить. По силе того свойства и меру учинить, — уже серьёзно ответил ему Ломоносов и опять задумался. Потом как бы нерешительно произнёс: — Вот помню, поначалу играл я бумажными человечками и волосками. Прыгали они и притягивались к наелектризованной палочке, а волосы вздымались, будто от ужаса. Может, мерить електричество по силе притяжения бумажки? А то, может, волосы вздымать тою же силой: чем больше електричества, тем более волосы вздымаются?
Рихман молчал, задумчиво морщил лоб, размышляя над услышанным. Потом ответил:
— Может, и так. Но что-то обязательно надо придумать.
Снова расстались, чтобы потом встретиться для обсуждения возникших мыслей.
А Шумахер в академии чутко следил за колебаниями весов успеха Ломоносова. И тот явный толчок их в сторону Михайлы Васильевича после вручения им императрице мозаичного портрета заметно его обеспокоил, заставил вновь извиваться и хитрить, дабы та чаша не сильно потянула в противную ему и его клевретам сторону. Он ведь не делил мир, как Ломоносов, на родное, истинно научное, и всё иное, тому противоборствующее. Шумахер делил всё иначе: моё, наше, и всё остальное, что пока ещё не моё, не наше, но долженствует таковым стать. И потому демарш Ломоносова к императрице и обещание милости он мимо своего злокозненного сознания не пропустил.
А чем пронять Ломоносова, Шумахер знал. Давно уж тот не юноша, давно муж зрелый и твёрдый, но сохранил святую искру непосредственности в отзыве на зло и несправедливость. Никогда в хитрости не затаивался, удобного момента для ответного удара не выжидал, вспыливал и бил без промедления. Доброе мог терпеливо созидать годами, злое стремился разрушить сразу, порой силы своей с препятствием не соразмеряя, часто лишь после удара поняв, что её для искоренения зла не хватает. На то и рассчитывал Шумахер вместе с зятем своим Таугертом[141], коего уже довольно поднатаскал в построении хитросплетений и прочил того на своё место. Колючку они придумали вроде бы маленькую, незаметную, но ядовитую. И Ломоносов об неё обязательно наколоться должен. Насмерть она его не поразит, нет. Но испортит настроение, перемолотит впустую его энергию, меньше её в работу пойдёт, стало быть, Ломоносов меньше наработает. А того и надо! Его успехи в работе — немцам нож вострый. Сбить с работы — значит сбить с успеха, а виновны будут не они, а тот, кому настрой сбили: «Смотрите! Он ведь хуже стал работать! Не оправдывает надежд! Отработался, выдохся!»
Шумахер, тонко усмехаясь и потирая бледные, никогда не работавшие руки, продиктовал документ архивариусу Стефангену и, переглянувшись с Таугертом, наставлял:
— Сей, регламент, нами утверждённый, должен выполняться неукоснительно. В каком порядке кто здесь перечислен, в том и подписываться, в том и выступать в академии будут. — И снова поглядел на Таугерта: «Дескать, учись, как других сбивать, копи рецепты!»
Имя Ломоносова в том реестре стояло далеко от начала, даже позади Таугерта, который вообще в науке ничего не сделал, несмотря на приличный срок своего пребывания в академии. То давало иным незаслуженное возвышение, Ломоносову же удар по самолюбию и престижу. А в государстве, где табель о рангах[142] действует и каждому свой шесток указан, это уже не только престиж, это прямой урон и правам и делу.
Мина была подложена, и она взорвалась с немалым треском, хотя и не поразила тех, кого бы так желал извести Шумахер. В тот ноябрьский день в собрании профессоров обсуждалось что-то незначительное, споров вызвать не могло, и потому согласительный протокол был составлен быстро. Протоколист дал бумагу на подпись одному, другому, все подписывали без возражений. Когда же протокол дошёл до Ломоносова, тот сначала взглянул равнодушно, потом брови его поднялись, рука с гусиным пером, уже готовая поставить подпись, застыла в воздухе, и он издал возглас изумления.
— Это что такое? Ты пошто мою подпись едва ли не в конец поставил? — и вопросительно упёрся взглядом в архивариуса Стефангена.
— Согласно новому регламенту, утверждённому правителем Канцелярии, — изогнувшись, ответил тот. — Могу показать.
Это было уколом, мелким, но публичным. Снести его — дать коготку увязнуть в Шумахеровой трясине. А там и всей птичке пропасть. И потому Ломоносов въярился. С необыкновенной горячностью схватил поданный лист, имя своё снизу вычернил, дописал его с самого верху и поставил размашистую подпись.
— На! — гаркнул он архивариусу Стефангену прямо в лицо и с размаху швырнул лист на стол, прихлопнув его ладонью. — Вот так будешь впредь меня писать, и никак иначе!
Стефанген, струхнув, опять что-то пискнул про новый регламент. Тогда Ломоносов снова схватил протокол и, брызгая чернилами с пера, приписал свои резоны, для чего он так сделал: «Я природный русский и заслуги имею перед науками и державой не меньшие, ежели не большие прочих!» Поставил жирный восклицательный знак, швырнул лист протокола Стефангену и вышел прочь.
Конечно, потом была жалоба президенту Разумовскому от негодующих профессоров-академиков, поддержанная Шумахером. На то и расчёт был. Они представляли свои мнения о новых несогласиях, коими вся академия в беспорядочное состояние приведена быть может. А прекословия и раздоры объясняли характером, который некоторым академикам сверх профессорского достоинства дан. И под теми «некоторыми» без обиняков подразумевался Ломоносов. Потому у президента испрашивалось официальное распоряжение, чтобы «профессоры, характер имеющие, должность свою исправляли по академическому регламенту».
Рихман в сваре не участвовал. Он и ранее всегда стремился утихомирить скандалы в академии, но безуспешно. В разговорах же корил Ломоносова:
— Плюнул бы и не связывался. Их же не переспоришь.
— Нет, Георг Гельмович, надо спорить. Не будем противодействовать — шумахеры всё заполнят, в каждом деле подножки ставить будут. Потому, ежели совсем его отбросить, вместе с его камарильей, сил пока нет, надо его, где можно, до времени хотя бы осаживать. Тут пришлось, тут и осажу.
И уже со своей стороны написал изложение случившегося Разумовскому и Шувалову. Написал гневно, требовательно. Воззвал к патриотическим чувствам российских вельмож, призвал вступиться за русских учёных. И не ошибся — подействовало. Из Москвы, где ныне был двор, пришло Шумахеру строгое указание: «В дела академиков не мешаться», самочинных регламентов не устанавливать, свару не подогревать!
Зашипел Шумахер, съёжился, будто плевок на горячем железе, и опять на время затих. Ломоносов же, восстановив справедливость, более о том не вспоминал, снова весь в дела ушёл.
Совсем тесна стала лаборатория. Не развернуться, не осуществить того, что задумано, чего хочется. Ломоносов оглядывал низкий сводчатый потолок, смотрел на своих трёх запарившихся помощников, неизменного Клементьева, молодых Васильева и Мельникова, и всё более убеждался, что разворачиваться надо шире. Больше надо простору, больше людей. Иначе стеклянного дела на должную высоту не поднять.
Решил подать в Сенат прошение, дабы разрешили ему, Ломоносову, к пользе и славе Российского государства, завести фабрику делания изобретённых им разноцветных стёкол и из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов. Особо подчеркнул, что всего этого ещё поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценой на многие тысячи. В том прошении доказывал, что вышеописанные товары станут здесь заморского дешевле.
Место с угодьями и лесом просил отвести ему не далее ста вёрст от Петербурга, чтобы расстояние исполнению должности в академии не препятствовало. Испрашивал также денежную ссуду на строительство фабрики.
Писал всё это и задавал себе вопросы: для чего старается? Для умножения своего благополучия? Для достижения славы и денег? Задавал и тут же отвергал эти вопросы. Не нужны деньги ему — делу нужны. Не нужна слава сама по себе — только через посредство наук российских и процветание развиваемого им неординарного промысла.
Понимал также, кроме денег и места, для сего предприятия нужны и люди: для строительства и затем для работы на фабрике, обучения ремеслу, художествам и тому подобное. По заботам своим при строительстве химической лаборатории помнил, каких трудов стоило найти рабочих; мало вольных людей в Российской империи, все крепостные или служивые, за помещиками, за казной записанные. А поелику именно в этом государстве жил Ломоносов и ему отдавал все силы и умение, полагал верным к его устройству применяться: испрашивал у Сената указа — приписать ему, Ломоносову, двести душ крестьян мужского полу.
Узнав о том предприятии, поняв, сколь много независимости даст осуществление сих замыслов Ломоносову, снова взвился Шумахер. Стал писать доносы, что не осуществит сей кабинетный учёный своих посулов, растратит деньги, провалит дело. Пустил мерзкий слушок, что-де сенатская ссуда нужна Ломоносову только для покрытия многочисленных собственных долгов. Чужеземцы-ненавистники сей слушок тут же подхватили. Распространяли его продуманно, здесь тоже система — указано было, кому из немцев куда пойти и что сказать. Один в сенатской Канцелярии о том ненароком скажет, второй — в Поместном приказе[143], иные вельможам при случае нашепчут, иные простачков-россиян подучат, а те уже будто бы от себя ту выдумку понесут. И пошла, посыпалась напраслина; через малое время её уже как достоверность повторяли.
Клевета в Шумахеровых арсеналах не последнее место занимала, ненавистники пользовались ею умело и безо всякого смущения. Потому, верно, в Сенате первое прошение Ломоносова осталось без ответа, решили там воздержаться на всякий случай, замотали, затёрли просьбу по столам и папкам.
Однако отступать Михайла Васильевич не собирался! Уже загорелась в нём идея, зажглась пламенем, а когда Михайла воспламенялся — не было ему препятствий, одни ломал, другие отбрасывал, третьи обходил, но цели достигал. Написал новое прошение и решил обратиться прямо к императрице. Вот он и случай получить обещанную награду!
Но двор в те поры находился в Москве. Масленичное веселье там, на пушистом снегу при февральском солнышке, веселей и здоровее, нежели в петербургской пронизывающей изморози и промозглой слякоти. Хотел сразу поехать туда, да опять не тут-то было, снова затор — паспорта у Ломоносова нет. Ранее не выправлял, не было нужды, ныне же сунулся в Канцелярию, но Шумахер и слышать о том не хочет. А без паспорта по Руси ездить не положено и невозможно — любой пристав, любой ярыжка имеет право беспаспортного схватить и, невзирая ни на какие словеса, как беглого, в кутузку затолкать, до выяснения.
Снова отнёс жалобу в Сенат, испрашивая твёрдого указания Академической Канцелярии выдать ему, Ломоносову, паспорт для поездки в Москву и лошадей. Опять задержка, опять ожидание, но ожидать чего-либо лучше всего за работой — продолжал стекло варить, составы перебирать, рецепты записывать.
В разгар сих дел в лабораторию прибежал сияющий Рихман. Колючие глаза сверкали, взмокший парик набекрень, лицо красное от быстрой ходьбы.
— Придумал! — едва ли не от порога закричал он. — Придумал, как мерить електричество! Просто и безотказно!
Ломоносов кивнул Клементьеву и Васильеву, с которыми составлял шихту, и пошёл к Рихману.
— Что же ты придумал?
— А вот, смотри! — Рихман протянул руку, в которой была зажата металлическая линейка.
— Вижу линейку. К чему её прикладывать?
— Не её прикладывать. К ней прикладывать електрическую силу. И эта сила будет отталкивать от линейки шёлковую нить. Чем больше електричества, тем больше угол отклонения нити. Я проверил. Давай вместе убедимся.
Качнул утвердительно головой Ломоносов, улыбнулся своим мыслям и потом одобрительно ответил:
— Молодец! Дело предложил. Давай проверим, — и пошёл за електрическими причиндалами, сукном, стеклом, лейденской банкой.
Долго тёрли стекло сукном, подносили к линейке, зажатой в сухом дереве, но нить только чуть дёргалась.
— Мала сила, — говорил Рихман. — У меня от електрической машины нить отклонялась.
Поэтому решили натирать два стекла одновременно и отдавать его заряд в лейденскую банку. Провели манипуляцию раза три, затем поднесли банку к линейке — и вышло: нить отошла от линейки, чуть отклонилась и снова медленно опустилась на место.
— Всё верно, — подтвердил Ломоносов. — Електрическая сила иссякает со временем, и нить опускается. — Посмотрел на воодушевлённое лицо Рихмана и снова одобрил: — Молодец. Вот и сделал ты прибор для наблюдения електрической силы. Електрический измеритель, електроскоп.
Время шло, народ отгулял масленицу, наступили великопостная тишь и церковные бдения. Отставлены блины масленые, пироги разные, мясное варево и прочие скоромные разносолы. На столе щи пустые да каша с конопляным маслом — надо дать животу разгрузиться, телу от лишнего жира очиститься. Михайла по той причине полагал пост в меру полезным. Но только в меру, цинготное же голодание считал столь же вредным, как и безмерное обжорство.
Будни не тяготили Ломоносова, Михаила Васильевич никогда особенно праздники от будней не отличал, и часто с пользой отработанный день давал ему удовлетворение и создавал праздничность настроения гораздо большие, нежели праздно проведённый день календарного праздника. А сейчас удачно сложились дела по изданию давно подготовленного собрания стихов. Шумахер, видя, что стихи Ломоносова в моде, разрешил напечатать «Собрание стихов» в академической типографии. Вероятно, надеялся собрать приличную сумму от продажи «Собрания» в доход академии, а стало быть, и в свой личный. Хоть и не желал Шумахер поощрения Ломоносова, но деньги пересилили, и «Собрание стихов» пошло в печать.
Кроме этого, подготовил Михаила Васильевич все бумаги по фабрике в Мануфактур-коллегию[144], составил планы запроектированных строений, описи оборудования и ведомости предполагаемых затрат для обоснования ссуды. Всё написал и разрисовал продуманно, экономно, с наивысшей выгодой для дела, хотя и понимал, что все ловушки финансовые не обойдёт и промашки относительно плана будут обязательно.
Несколько раз толкался в Сенатскую Канцелярию, дабы ускорить рассмотрение прошения, и вот наконец пришла в академию бумага из Сената с решением по его жалобе. Снова предписывалось Шумахеру препятствий поездке не чинить, отпустить академика Ломоносова в Москву, дать паспорт, лошадей в санные подводы за его, Ломоносова, счёт.
Ни минуты более после того не медлил Ломоносов. Наступил март, надо было успеть до распутицы сгонять в Москву и хорошо бы назад тоже санным путём вернуться. В том резон был немалый: санями гнать до Москвы — это не в коляске трястись. Подорожной, дабы брать перекладных лошадей на почтовых станциях, Ломоносов не получил, ехали на одних и тех же, с ночлегами и отдыхом. Но и то по сто с лишком вёрст в день без натуги делали и за неделю до Москвы добрались. А в тележке, да по распутице и за две недели могли бы не управиться, пришлось бы поездку откладывать до лета.
В Москве Ломоносов несколько дней потратил, чтобы вырвать Шувалова из придворной суеты и без помехи поговорить. А залучив того на беседу, вместо одного дела изложил сразу два. Первое — о фабрике, а второе — напоминание о ходатайстве по поводу открытия Московского университета. Никак не мог, попав в Москву, то дело не вспомнить, никак.
Шувалов, одуревший от масленичных затей и хороводов, в себя ещё не пришедший, слушал его невнимательно. Утомлённые глаза смотрели лениво и равнодушно, губы брезгливо кривились от нежелания заниматься делами. Видя такое безразличие и полную забывчивость прежних обещаний, не погнушался Ломоносов поиграть на тщеславных струнках души Шувалова.
— Ну, подумай-ко, Иван Иванович. Открытие университета в древней столице — предприятие великое и честь немалую окажет тому, кто это дело до конца продвинет. В глазах всей учёной Европы ты станешь выглядеть истинным просветителем российской нации и всех иных восточных народов, к ней примыкающих.
В лице Шувалова, что-то дрогнуло, словно проснулось; в глазах пробудился заметный интерес. Осознав подобную оценку сего начинания, он кивнул головой уже совсем одобрительно и ответил: — Да, ты прав. Дело великое.
А Ломоносов, едва ли не забыв, зачем в Москву прикатил, далее доказывал и усиленно побуждал Шувалова немедленно найти все его, Ломоносова, памятные записки по поводу открытия Московского университета и выйти к государыне с ходатайством.
Смутился Шувалов, ибо те записки давно потерял в своих резиденциях то ли в Москве, то ли в Петербурге, а где — вспомнить не мог, но виду о том не подал. Ответил так, будто с большой натугой, но сие дело он всё же продвигает, трудов не жалея:
— Не всё сразу можно сотворить, Михайло Васильевич. Сам знаешь, сколько забот государственных и какие нынче расходы несёт казна. И на то, и на это... А тут ещё и на университет деньги надо выкраивать. Не сразу... Но ты обнови записки, можа, у тебя новые мысли появились. Приноси, как буду в Петербурге, опять обсудим и доведём то дело до полного завершения.
И вероятно, чтобы без урона уйти от этой темы, перевёл на другое:
— Но ты ведь приехал, как сам же говорил, по поводу стекольной фабрики?
— Да, и о фабрике пекусь.
— Ну так давай сюда прошение. Завтра доложу, и, полагаю, государыня императрица с милостью своей не задержит.
Расставшись с Шуваловым и перебирая в уме разговор, сам над собой подтрунивал Ломоносов: «Всё-то тебе надо, альтруист несчастный. Ты же по делам фабрики приехал. Их бы и продвигал. Так нет, всюду тебе надобно влезть, всё осилить, и то, и это, и пято, и десято!» Но корил себя не зло, не бичевал, ибо знал: бесполезно. Будет иной повод — опять полезет. А то, что не со своими собственными, не с корыстными заботами лезет, а за-ради общего дела и процветания науки, так то лишь ему самому утешение. Многим другим это непонятно. Но лишь сейчас. Потом пройдёт время, и поймут его люди, поймут и оценят, что в исканиях своих всегда шёл он не к личному успеху, но к общей пользе.
На сей раз решение императрицы вышло быстро, видать, не забыла она ни оды Ломоносова, ни образа Богоматери. В средине марта высочайшим указом пожалованы Ломоносову в Копорском уезде для работ на фабрике девять тысяч десятин земли и двести двенадцать душ крестьян. Разрешалась также и денежная ссуда в четыре тысячи рублей.
Появилось место, где можно развернуться, осуществить задуманное. Появились и средства на первое обзаведение. И Ломоносов с указом в руках, не мешкая, на другой же день выехал из Москвы в Петербург.
Хлопоты в Сенате и Поместном приказе о вхождении во владение, несмотря на указ в руках Ломоносова, заняли ещё более трёх недель, но по сравнению с прежними проволочками это были уже не сроки. Всё же Ломоносов спешил, чтобы как можно быстрее начать и развернуть строительство, стремясь употребить лето для дел полностью, и потому, едва завершив бумажную канитель, двинулся во вновь обретённое имение, где виделась ему возможность осуществить многие свои замыслы без вредной докуки шумахеров.
По апрельской распутице, в телеге, по ступицу увязавшей в грязи, перемешанной с талым снегом, отправившись спозаранку, ехал Ломоносов к устью речки Рудицы, вёрст за семьдесят от Петербурга. Там ему были выделены место для фабрики и земельные угодья. Пара лошадей тащила телегу, меж полей с редкими рощицами деревьев по разъезженной дороге, если только то жидкое месиво, в которое лошади иногда погружали ноги до колен, можно было назвать дорогой. Нанятый Ломоносовым возница лениво подхлёстывал натужно тянущую телегу пару и тихонько поругивал треклятую дорогу. Тело его на козлах моталось туда-сюда в такт ухабам, так же мотался и Ломоносов, но не сердился и лишь посмеивался над негромкой, но заковыристой руганью извозчика. Потом сказал ему:
— Не поноси словоблудно ни крест, ни бога, ни душу, а паче матушку разлюбезную. Не они виноваты — люди, что дорог не строят.
Возница фыркнул, но не возразил, а Ломоносов уверенно продолжил:
— Погоди. Придёт время — будут и у нас ровные, мощёные дороги!
— Будут, — на этот раз отозвался, и весьма ехидно, возница. — Ко второму пришествию!
— Это почему же к пришествию, а не раньше?
—А потому, что сказано в писании, како возглашал Иоанн Креститель: «Приуготовьте путь господу, прямыми сделайте стези ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Вот!
— О-о! Ты, я вижу, евангелист. Где поднаторел-то?
Возница повернул к Ломоносову свою взъерошенную бороду, лукаво ухмыльнулся и ответил:
— Седоков-то я всяких важивал. Попадались и духовные. Они-то и высказывались, а я уж только запоминал.
Однако грязь и валкая тряска ни в малой степени не омрачали приподнятого настроения и прекрасного расположения духа, в котором пребывал Ломоносов. Талый весенний воздух глубоко проникал в лёгкие, слегка кружил голову и будил в теле дремлющие силы, будто возвращая его к дням юности; освобождал душу от городской скованности, множества условностей и подчиняющих правил, которые, как порой казалось, стали второй натурой. Ломоносов с наслаждением дышал этим пьянящим воздухом, вглядывался в поля и перелески, обнимал глазами голубизну неба, ощущая его величественную бездонность, лишь оттенённую разбросанными по нему прозрачными лоскутами облаков.
Подъезжали к Рудице. Стало посуше, дорога пошла ко взгорку, за которым открывался вид на небольшую, но сейчас вздутую речушку, где-то невдалеке впадавшую к реку Ковшу, чтобы уже та донесла её воды к близкому морю.
— Вот и Рудица! — воскликнул Ломоносов, охватывая глазами открывшуюся даль. Попросив возницу остановиться, сошёл на землю, окинул взглядом окрестности, сладко потянулся, разминая затёкшие от сидения мышцы, и тут же стал мысленно прикидывать, где что поставить.
«Вон там, на взгорке, — жилой дом. Рудицу запружу плотиной, на ней водяную мельницу поставлю. Привод от мельницы пойдёт на фабрику, чтобы вручную тереть и вертеть как можно меньше. А вот там фабричные строения возведём, пока два, а потом посмотрим».
Ломоносов с удовлетворением оглядывал открывшуюся местность и уже словно бы видел водохранилище, строения на его берегу и слышал шум вертящегося водяного колеса, дающего дармовую силу для облегчения человечьего труда. Затем перевёл взгляд на ближайшие предметы и огляделся вокруг себя. Небольшой овражек проточил почву, открывая выход талой воде к речке.
Подойдя к овражку, Михаила Васильевич копнул край его, сначала ногой, потом нагнулся и ковырнул пальцами. Выпрямившись, удовлетворённо хмыкнул:
— А вот и песок под ногами. Да какой хороший, кварцевый. — Ломоносов растёр в пальцах взятый из верхнего слоя, перемешанный с землёй песок, в котором на весеннем солнышке высветились блестящие кварцевые крупинки. — Здесь карьер откроем. Издалека возить песок нужды не будет, всё близко.
Ещё постоял, наслаждаясь неяркой природой, застывшей в первозданном покое, затем снова сел в тележку и приказал ехать в деревню Шишкино, где жило большинство тех крестьян, полновластным владельцем тела и душ которых он отныне становился. По дороге открылся большой лес.
Купы высоких сосен перемежались лиственными деревами, голые кроны которых, во множестве увешанные корзинами птичьих гнёзд, обещали густую тень и обилие пернатых летом. Но, кроме прохлады и красоты, лес обещал и пользу практическую — топлива для фабрики будет в избытке, и к тому же своего, непокупного.
Дорога углубилась в гущу деревьев, и там Ломоносов вдруг услышал недалёкий перестук топоров. Вскоре попались большие поленницы брёвен, а по лесу разостлался сизоватый дымок с запахом горелой смолы. Ломоносов велел подхлестнуть лошадей и вскоре увидел между деревьев мундиры солдат, рубивших и валивших лес, а невдалеке ставлена была даже смолокурня, где вовсю вываривалась смола.
Поджал губы Ломоносов. Не то чтобы собственность в нём уже заговорила, собственником он ещё себя не ощутил, но возникло недоумение. При отводе поместья было указано, что оно свободно от долгов и казённых порубок. А тут солдаты вовсю крушили лес. Решил, однако, не мешаться, доехать до деревни и там всё выяснить.
Как и множество российских деревень, которые Ломоносов повидал ранее, проезжая на пути в Москву и обратно, и в другие времена, деревня Шишкино была бедна и неприглядна. Низкие рубленые дома с маленькими подслеповатыми окошечками, заклеенными промасленной бумагой или бычьими пузырями, венчались взлохмаченными ветрами соломенными крышами. Крыши эти, по объёму превышавшие сруб, как бы вдавливали его в землю, оттеняя убогость и приниженность сего человеческого жилья. В отдалении, на возвышенности, стояла небольшая деревянная церковь, а при ней кладбище. И сразу весь пейзаж из радостно-весеннего как-то потускнел. Уже не голубая просинь неба, а сизые хвосты омрачающих эту синь облаков выставились на первый план над тем церковным крестом. Даль приблизилась, и грязная полоса размешанной дороги между бедными избами подчеркнула нищету и безрадостность открывшейся картины.
Ломоносов мотнул головой от огорчения, Сколь же разнится жизнь — блестящий Петербург, величественные дома вдоль Невской Перпшективы и вот здесь, рядом, — грязная дорога и убогие домишки. Огорчился, но тут же подумал, что, как только наладится фабрика и пойдёт стекло, — обновится деревня.
«Обязательно обновится! Фабрика даст крестьянам дополнительный заработок, умножится благополучие, придут новые ремесла. Ну а уж о стекле и говорить нечего, заблистает деревня новыми окнами, веселее будет глядеть на мир большими прозрачными стёклами».
Появилась возможность порадеть не о людях вообще, а об осязаемо близких вот тут, в его деревне. И хотя чувствовал он, это будет трудно, хлопотно и многим непонятно, от тех мыслей Ломоносов не прятался, думал обо всём практически и конкретно.
Остановившись на улице, послал возницу за старостой, и вскоре Ломоносова окружили мужики. Из опаски близко не подходили, но любопытства не скрывали: «Что-то ты нам сулишь, новый барин? Каков-то ты?» За мужиками, выглядывая, прятались не менее любопытные бабы; все одеты в сермягу, мужики в таких же колпаках на голове, бабы в платочках. Обуты и те и другие в лапти, ноги обмотаны белыми онучами, перевитыми лыковыми же оборками.
В середине круга, ближе всех подойдя к Ломоносову и смявши в руке шапку, беспрерывно кланялся староста Викентий, сын Петров, как он представился, и затем лишь только и повторял:
– У нас порядок. У нас тихо. Тихо у нас.
В этом непрерывном повторении слов «у нас тихо» уловил Ломоносов великую тягу и старосты, и тех мужиков, коих он представлял, к тому, чтобы всё так же тихо и оставалось, чтобы не было перемен, ибо тёмным людям перемены, даже в лучшую сторону, порой кажутся непонятными и страшными.
Ломоносов подошёл к старосте Викентию, поднял его из поклона, заговорил дружески, ласково, обращаясь и к нему и ко всем. Рассказал о фабрике, о стеклянном деле, о той новой жизни, которая ждёт их всех. О работе, ремёслах и художественных промыслах. Говорил от сердца, обращался к сердцам. Потом объявил, что каждый может приходить к нему со своими делами и нуждами без боязни. А сейчас они со старостой будут думать и решать, как начинать строительные работы, кого, куда и когда на эти работы наряжать.
Расходились крестьяне озадаченные, мало что поняли, лишь уловили одно — пахота и сев на носу, а новый барин сулит новое тягло.
— Стеклянную фабрику строить будет. Всю из стекла.
— Да где же он столько стекла возьмёт?
— Вестимо где — из заграницы навезёт. Денег-то много!
— Реку прудить собирается. Водяную мельницу ставить, воду молотить!
— А зачем её молотить?
— Как зачем? Чтобы стеклянный дворец обрызгивать. А сам внутри сидеть будет, пряники кушать и всем этим любоваться.
— А нам всё сие тянуть! Нам-то каково будет? Ох, дела, дела... Господи, твоя воля... Спаси и помилуй!..
Потом поговорил Ломоносов со старостой, вник во всё. Ну, может, пока ещё и не во всё, а лишь в то, что сверху лежало и сразу могло быть понято. И осознал, как нелегко будет ему править всем этим хозяйством, как непросто приучить будет потомственных хлебопашцев к стройке и фабричному делу. Но делать нечего, назад пути нет, и Ломоносов, засучив рукава, сам стал подрядчиком и главным производителем работ на своей стороне.
Выяснил, что в лесу делают незаконные порубки солдаты Белозерского полка, понуждаемые к тому полковым начальством. Лес пускали на сделание к полковым надобностям колёс и жжение смолы, а то и на продажу. Пришлось Ломоносову обратиться с челобитной в Мануфактур-коллегию. Добился той челобитной освобождения имения от всяческих казённых окладов, воинского постоя и ямской гоньбы.
Временно Ломоносов обосновался в избе у Викентия, был тот одним из немногих в деревне, кто имел пятистенку; занял у него горницу. Первое время, не глядя на распутицу, сам гонял в Петербург, сам в своей лабораторной кузне сковал три десятка лопат и ломы, приобрёл топоры и прочий инструмент, всё привёз в Усть-Рудицу. И, торопясь до начала сева, когда крестьян от земли уже не оторвёшь, приступил к закладке фундаментов.
Утром зарядил нудный, мелкий дождичек. Ломоносов, досадливо морщась на небо, натянул на голову толстый башлык из верблюжьей шерсти и, чавкая сапогами, пошёл к своей строительной площадке. Там уже собрались несколько десятков мужиков, встретили его обязательными поклонами, кои он не поощрял, хотя и полностью истребить не старался. Достал из котомки угломер, верёвки, заранее выструганные колышки и стал размерять периметры под фундаменты строений.
Сразу мужики разделились. Одни равнодушно смотрели на непонятное им действо с колышками, верёвками и угломером. Другие, сразу смекнув, что к чему, охотно начали помогать. Отметив любознательную рожицу молодого паренька, Ломоносов, обратившись к нему, громко спросил:
— Ты чей будешь? Назовись.
— Аз есмь Игнат Петров, ваше степенство. — И, конечно, тут же снял шапку и поклонился.
— Шапку надень, Игнат, и иди сюда. И ты, и ты, и вон ты, — поманил Михайла наиболее любознательных, спросил их имена и сразу стал объяснять, что делает.
— Вот глядите, ребята. Нам надо, чтобы дом стоял на фундаменте и стороны его были одинаковые. — Ломоносов взглянул на парнишек и с радостью убедился, что на него смотрят глаза, серые, голубые, карие, но все неравнодушные, ищущие понимания. — Но этого мало. Стороны могут быть равны, а площадка будет косая. — И Ломоносов нарисовал колышком на сырой земле сначала прямоугольник. Это то, что должно быть, а потом пару похожих фигур, но со скошенными сторонами — параллелограммы.
— Вот видите, — показал он на прямоугольник. — Копать мы должны фундамент вот по такой фигуре, а не таким, перекошенным. — И он ткнул в параллелограммы. — Для того колышки вобьём и верёвки меж ними натянем. А чтобы не ошибиться и стороны не скосить — углы вот этим прибором, угломером, вымерять будем. — Ломоносов показывал угломер, читал на нём цифры и объяснял, какие бывают углы.
Уже не мешал дождь, его как бы и не было. А были понимающие, родные глаза русских парнишек, которым только объясни, что к чему, с толком, воспламени их — загорятся они, поняв тебя, и пойдут за тобой к свету, к знаниям.
— Увлечённо работал Михайла Васильевич, увлеклись парнишки Игнат Петров, Михайла Мешков[145], Яков, Иван, Василий... вся молодёжь, будущие его мастера. А за ними и мужички постарше потянулись. Раз тут не как у всех, раз барин к мужикам пришёл, до них спустился, то и мужикам в возрасте не зазорно к мальчишкам примкнуть, за ними двинуться, хоть и необычно всё это. И пошла земля из-под лопат, с прибаутками и присловьями, потому как работа была хоть и трудна, да не из-под палки. И само дело стало понятным, и для чего оно делается — тоже.
За несколько дней выкопали в клёклой, тяжёлой, набухшей влагой земле фундаменты под стены и печи фабричного здания, которое Ломоносов сразу же наименовал лабораторией. Выкопали канавы и под мастерскую и под мельницу. Последнюю расположили близко от будущей плотины, ибо там предполагались жернова для размола материала и шлифовальные машины. Затем начали рубить и возить дикий камень для закладки в ямы фундамента. Начали было и сразу бросили: поглядел Михаила Васильевич на тощих, оголодавших за зиму крестьянских лошадёнок, которые, надрываясь, волокли груженные камнем телеги по весенней грязи, увидел хмурые лица крестьян, которые вынуждены были расходовать и себя и лошадей, ещё не дойдя до тяжёлой пахотной работы, и остановился. А затем наступили погожие дни, подошло время сева, и Ломоносов приостановил все работы, отпустил крестьян в поле, а сам на время уехал в Петербург.
Никогда не забыть Ломоносову ещё в детстве поразивших его воображение ярких картин северного сияния. Во время длинных приполярных сумерек, почти ночи, вдруг начинают полыхать на тёмной стороне небосвода сполохи, тут, там, слева, справа. Играют, будто живые, дразня и поджигая друг друга, огни, и вот уже, захватывая всё новые и новые участки, переливаются голубовато-жёлтые, зеленоватые языки света, занимая полнеба. Беззвучно полыхает сияющий полог, накрывший небосвод, поражая бесчисленными переливами блёклых оттенков своего холодного огня, смиряя гордыню человеческую безмерным величием природы.
Обучаясь в Германии, познакомился Ломоносов с воззрением на то явление своего учителя Вольфа.
— Причину северных сияний надо искать в исходящих от земли тонких испарениях, — утверждал Вольф. — Эти сернистые и селитерные пары образуют в верхних слоях атмосферы искры. Во множестве они вспыхивают, но, полностью не воспламенившись, гаснут и в молнию не превращаются. — Более того, Вольф вообще был уверен, что северное сияние — это как бы недоразвившаяся гроза.
Не понимал того Ломоносов. А раз не понимал, то и не принимал. Даже стихи сочинил с вопросом:
Как может быть, чтоб мёрзлый пар Среди зимы рождал пожар?Ныне на эти вопросы приходили на ум и ответы. Немало со времён студенчества познал и размышлял немало. Изучение електричества много тому способствовало, и в последние годы Ломоносов всё более склонялся к мысли об електрическом происхождении северных сияний. Но как это доказать?
Добиваясь решений дел своих по имению, в дорогах туда-сюда, на стройке, вечером перед сном, а иногда, может, и во сне, не переставал Ломоносов думать, сопоставлять, размышлять. Об електричестве, о роли его в природе и возможном порождении им сполохов. Но понимал: теоретические объяснения могут быть хороши, однако более всего физика и химия уважают опыт. Уже много раз исхитрялся Ломоносов измерить высоту северного сияния, и вышло у него, что вышина верхнего края дуги сполоха лежит где-то на высоте трёхсот-четырёхсот вёрст.
«А что там? — размышлял Ломоносов над свойствами пространства, в котором ещё никто не бывал. — Вероятно, разрежение воздуха страшное. Ведь все путешественники отмечали, что воздух в горах, на высоте, столь разрежается, что и дышать трудно. А ещё выше, там, где сполохи полыхают, вообще воздуха почти нет».
Однако больше известно ничего не было. Одни говорят — искрятся пары. Он думает, что полыхает електричество.
Мысль пришла после того, как он и Рихман соорудили у себя дома молниеотводы. Сооружали каждый по-своему, как всегда, спорили и советовались, соглашались и расходились во мнениях, но потом пришли к близким конструкциям. У Ломоносова это был железный штырь, на восемь футов торчащий над крышей. В козырьке крыши была провёрнута дыра, и там этот штырь закреплён. Но ни стропил, ни кровли он не касался. В досках была закреплена бутылка с отбитым донышком, а уж в ней зажат штырь. К торчащему снизу концу прикручена железная проволока, и она, ничего не касаясь, заведена в комнату и намотана для укрепления на стеклянную же бульбу, зажатую в штативе.
К концу этого провода Ломоносов и Рихман прикрепили по металлической линейке с шёлковой нитью. Как и намеревались, приспособили для измерения електрической силы изобретённый ими електроскоп. Нить електроскопа действительно во время грозы отклонялась, и тем сильнее, чем сильнее била и полыхала гроза.
Вот тут-то и пришла мысль проверить, действительно ли северные сияния порождаются електричеством.
«Если наверху нет воздуха, то ведь можно создать подобное разрежение в колбе! А затем приложить колбу во время грозы к молниеотводу, тем самым как бы опустить кусочек верхнего пространства атмосферы вниз, чтобы можно было увидеть, что в нём деется. Ежели колба засветится хоть чуть-чуть, значит, это будет маленьким сиянием». Мысль бежала вперёд, не успевал за нею експеримент, и потому было сомнение: подтвердится ли всё сие?
А Рихман изучал совсем другое. Он рассматривал угол отклонения нити, связывая это отклонение с силой грозы и расстоянием до неё. Придя однажды в мае, восхищённо рассказывал, как сыпались искры у него с пальцев во время только что прошедшей первой грозы. И Ломоносов в ту грозу работал. Но, кроме искр, запомнил и острый, насыщенный влагой воздух, и величественное нагромождение пронизаемых молниями туч, и хлёсткий, будто прорвавший запруду и разом низвергнувшийся вниз, на землю, ливень, и то умиротворённое успокоение, которое всегда наступает после грозы. Потому, слушая рассказ Рихмана об искрах, задумчиво молчал, понимая, сколь малую часть всего грандиозного явления природы они наблюдают, и сожалел, что даже эту малую часть объяснить пока толком не могут.
Узнав о попытке Ломоносова заставить светиться откачанную колбу, Рихман задал недоумённый вопрос:
— Что же там будет светиться, ежели ты весь воздух выкачал?
— Весь? — вопросительно отозвался Ломоносов. — Почему весь? А может, не весь? Может, там его частичек столько же осталось, сколько их есть на верхнем краю атмосферы? — Смотрел на озадаченного Рихмана, а потом добавил: — Вот и твои искры из пальцев, кои я тоже наблюдал, не есть ли те малые огоньки, из коих и складывается северное сияние?
Оба снова разошлись, полные вопросов, ибо жизнь истинного учёного состоит из вопросов, которые он задаёт. И счастлив тот из них, кто дождётся ответов если не на все из них, то хотя бы на большую их часть. Но чтобы дождаться, надо эти ответы искать, ибо сами они не придут, и потому Ломоносов мысли о наблюдении искр в колбе не оставил и дожидался лишь подходящей грозы.
Строительство в Рудице после окончания полевых работ продолжилось. Ломоносов не спускал с него глаз и не покладал рук. Уже возведены здания фабрики: лаборатория с круглой башенкой и флюгером на крыше, мастерская, где будет развешиваться шихта, поместятся шлифовальщики, гравёры, мозаичисты. Здания прочны и добротны — на фундамент из дикого камня положены тяжёлые брёвна, чищенные из самых рослых сосен. Вывели строения размером восемь сажен в длину и шесть в ширину, высоты же по тем временам непомерной — шести сажен. Берег Ломоносов стропила и крышу от печного огня, стремился также дать внутрь больше воздуху, потому и возвёл такие высокие стены.
Вспомнил, как чуть не опростоволосился с фундаментами, и усмехнулся тому: «Век живи, век учись». А дело было в том, что хотел было он навезти из Петербурга извести, чтобы класть на ней фундамент, о том и сказал своим рабочим. Переглянулись работнички, потом старший из них, кряжистый мужичок Прокоп, прозванный Шалым, подошёл к Ломоносову и поклонился:
— Не осуди, барин, за совет.
— Зачем же судить? Приму со вниманием.
— Так вот, не надо известь везти из столицы, как вы изволили сказать.
— А где же её взять? Здесь, что ли? Так скажи где?
— Совсем не надо извести. Нехороша она в основании.
— Это отчего же? Разве не крепка будет? — Ломоносов с интересом вглядывался в жилистого Прокопа, у которого в глазах, несмотря на возраст, будто огоньки бегали, с хитринкой и озорные, за что, вероятно, его в молодости и прозвали Шалым.
— Не то, — ответил Прокоп. — Известь будет крепка. Да вот лесины на неё нехорошо класть. Камень можно, а лесины нет.
— Почему, объясни.
— А потому, что камень, оклеенный известью, будет воду из земли тянуть, и от того нижние брёвна почнут сыреть и гнить.
— Во-он как, — протянул Ломоносов, сразу поняв, что всё так и будет. — И как же надо делать?
— Глинкой надо камни соединять. Глинкой. Она, высохнув, закаменеет не хуже извести, однако воде ходу не даст. Не тянет воду глина, а, напротив, держит.
— А ведь верно! — восхитился Ломоносов. — Ох верно. — «И объяснение точное. Действительно, для каменных зданий то неважно, хотя и к отсырению стен может привести, что порой и наблюдается. Ну а для деревянных стен сырость — смерть. Сгниют!» — Спасибо тебе, друг Прокопий, спасибо!
Смекалистый Прокоп, хитро улыбаясь, отошёл, а Ломоносов ещё долго с восхищением крутил головой и думал, сколь велика мудрость народная, только не пренебрегай — черпай. А сейчас, видя внушительные стены на каменном фундаменте, мысленно благодарил тех людей за подсказку. Хорош бы он был со своей наукой, ежели обрёк бы здания на гниение!
А вот с укладкой плотины, запрудившей речку Рудицу, он уже обошёлся собственной смекалкой. Тоже была задача: как речку перекрыть? Конечно, запланировал Ломоносов мощные дубовые ворота-шлюзы для спуска воды в канал к водяной мельнице. Но ведь их же не установишь в проране, ежели по нему будет бурлить и кипеть поток. Канал соорудить и ворота в плотине сделать надо ещё до поднятия воды.
Стало быть, нужно сначала возвести плотину, отрыть канал, поставить ворота, а потом уже перекрыть проран и поднять воду. С плотиной Ломоносов всё решил быстро: «Будем подвозить землю и наращивать вал». Но вот как быть в том месте, где крылья плотины будут сходиться и между ними, чем ближе насыпанные края, тем бурливее, будет течь пока-то тихая Рудица. Туда, в проран, ведь землю сбрасывать бесполезно — унесёт её. Ждать межени[146] — долго, да и кто знает, какое будет лето? Может, польют дожди, и не спадёт вода. Засыпать проран камнем? Так его возить надо издалека, а потребуется камня куда как больше, чем на фундаменты. К тому же крупные глыбы желательны, а как их нарубить? Здесь не Египет, и строит он не пирамиды!
И вдруг сообразил. По Рудице, в широких поймах, полно лозняку. Среди крестьян наверняка найдутся умельцы, наплетут корзин. Надо будет засыпать в корзины землю да так и укладывать с обеих сторон вала, постепенно сводя плотину. Из корзин землю не унесёт, а если в последние корзины добавлять ещё и мелкого камня, то и остатние вода не осилит и проран можно будет закрыть. Постепенно поднимая воду, направить её в мельницу.
Так и поступил Ломоносов. А потом с удовольствием глядел на широкую гладь созданного им водяного хранилища, в котором в тихую погоду отражались возведённые на берегу лаборатория и мельница. А водяное колесо с весёлым шумом и днём и ночью вертелось в брызгах, без устали вращая канатные приводы к толчейным мельницам и шлифовальным кругам.
Мало того – в отдалении уже выкопаны ямы под фундаменты для фабричной слободы. Михайла Васильевич понимал, что его будущие мастера от крестьянства должны отойти — вот в слободе и поселятся.
Уже видится фабрика: первая печь разожжена, мельница работает. Теперь всё стекольное производство можно переселять в Рудицу и разгрузить городскую лабораторию от заполнивших её стекольных причиндалов, что Ломоносов и начал делать в первое же лето. И всеми теми свершениями очень гордился, ибо сделано всё было его иждивением, его стараниями, по его замыслу и не потехи ради, а для дела, для облегчения труда людей и процветания небывалого дотоле на Руси стекольного промысла.
Первая половина лета была жаркой, дождей не случалось, но затем, в июле, погода начала хмуриться, по всему небу часто нависали и громоздились кучевые облака, от чего, по всем приметам, надо было ждать грозы. Ломоносов всё подготовил для експериментального наблюдения своего маленького «северного сияния». Линейку аршинной длины, подвязанную к молниеотводу, слегка подогнул по форме стекла и приложил к колбе сверху. Самое же откачанную колбу он поставил на медную пластину, которую соединил проводом со штырём, забитым в землю. Сделал так, мыслью опираясь на предыдущие наблюдения. Ведь искры летели от линейки к пальцу либо иному телу, стоящему на полу или на земле. Молния так же всегда била в предметы, стоящие на земле, — в дома, деревья, а то и в неосторожно торчащих на виду во время грозы людей. Вот и думалось, что через те предметы и тела молния уходит в землю, а ежели для неё другой путь будет, то она его изберёт. Ведь именно в том и виделся смысл молниеотводов при строениях. Вот он и облегчал путь искрам — от молниеотвода через колбу к земле. А про себя думал, что так наблюдать спокойнее, понимал: нужно блюсти осторожность, ибо с грозой шутки плохи. Недаром ещё в научном отчёте за прошлый, 1752 год записал: «...чинил електрические воздушные наблюдения с немалой опасностью».
Всё было подготовлено. Не раз и безо всякой грозы и слышного грома нитка, подвешенная рядом с линейкой, трогалась и вроде бы даже слегка отходила от неё, но Ломоносов уже знал, что електрическая сила при этом невелика. Потому выводов пока не делал, ждал настоящей грозы Ставя опыты и проводя наблюдения, Ломоносов и Рихман одновременно готовились к публичному Акту, которым в академии торжественно завершались годовые исследования. Уже решил, что речь на Акте «будет отправлять» Рихман и тут же предложит свои опыты. А он, Ломоносов, «наиподробно изложит теорию и пользу, от оной происходящую».
Оба от Акта ждали многого — и интереса публичного, и повсеместного внедрения молниеотводов для уменьшения убытков от пожаров в державе, и европейских публикаций, одобренных академическим собранием. Дабы не терять возможности наблюдений во время строительства в Рудице, Ломоносов и там соорудил «громовую машину». В жилом доме ещё рамы вставлены не были, а молниеотвод уже торчал, и для наблюдений там тоже всё было готово.
Устроил всё это не зря. Часто собирались, ходили, громоздились угрюмые тучи, потом развиднялось. Затем ещё хмарилось, по снова проходило. И вдруг ударило по-настоящему. В те дни Ломоносов был в Рудице, занимался строительством жилого дома и ладил приводы к мельнице. Ставили на деревянных опорах барабаны, натягивали приводные ремни, сам подбивал топором клинья, регулируя их натяг.
Гроза налетела быстро, послав перед собой метущие вихри палых листьев и пыли. Ломоносов поглядел на небо, да так с топором в руке и побежал в дом к молниеотводу. Прилучившийся в руке топор с его сухой деревянной ручкой оказался весьма способным инструментом, и Ломоносов тут же к сему делу его пристроил. Приставил топор к железной линейке и увидел, как с трёхгранных его углов беспрерывно полетели к аршину искры, как некая текучая материя, наподобие небольшого пламени. Его же самого сухое топорище от уколов предохраняло. А как в небе сильно ударило, так к оному топору конический шипящий огонь на два дюйма[147] и более простёрся.
А потом и вовсе чудесное увидел. Вдруг из неровных брёвен, из коих было выложено ещё но заделанное окно, выскочили шипящие конические искры сияния, самого аршина достигли и почти вместе у него соединились.
Остро пах наелектризованпый воздух. Лесины в просохшем недостроенном доме зловеще потрескивали, тревожная грозовая атмосфера взвинчивала нервы. Голубые искры, время от времени бьющие в аршин, вызывали зябкую настороженность и пробуждали ощущение какой-то новой, неизведанной опасности. Плотники, ладившие двери, сначала недоумённо смотрели на действия барина, который с огненно блиставшим топором, со вздымающимися на голове волосами метался по комнате. Затем недоумение сменилось страхом, и они, сбившись в кучу, крестясь при каждом ударе грома и пятясь, покинули дом. Ломоносов, орудуя топором, вызывая искры и наблюдая особенности явления, не удерживал их. Он уже понимал, что его действия опасны, что может возникнуть пожар, а то ещё чего хуже. Потому без посторонних стало ему спокойнее, лишь одного себя смел он подвергать риску. Жалел во время грозы, что в Рудицу колбу не привёз, и потому, как только прояснилось, немедля поспешил в Петербург, дабы не упустить надвинувшейся полосы гроз.
Всё остальное произошло уже в Петербурге. В тот злосчастный день, 26 июля 1753 года, с утра погода опять нахмурилась. Потом загремело в небе низкими раскатами, накатила, нависла тёмная грозовая туча, кое-где опаляемая подсветами пока ещё далёких молний. Время шло к полудню. Ломоносов приехал из академии к обеду, но есть не хотелось, и кушания остывали. Поднёс раза два пальцы к своей громовой машине, но она почему-то не обнаруживала ни малейшей електрической силы. Сморщив губы, Михаила Васильевич подошёл к окну, выглянул. Ворчавшие вдалеке басы грома, вторя лёгкому шуму ветра, шуршанию ветвей качающихся деревьев и барабанной россыпи дождя, настраивали на грозу. Она ещё повременила, затем налетела, внезапно ударила, и оттого из аршина вдруг потекли ожидаемые искры. Больше, больше, и вдруг слегка вспыхнула колба разноцветными огнями, засветились искры зеленовато-голубыми переливами, воистину подобно маленькому сиянию. Ломоносов громко закричал, призывая жену и всех домочадцев:
— Скорее сюда, смотрите, смотрите! Разноцветное сияние! Видите?
Ему непременно хотелось иметь свидетелей появления разных цветов огня, против которых профессор Рихман с ним спорил. Домочадцы стояли разинув рты, глядя на мелькавшие огоньки, смотрели, мало что понимая. Внезапно гром грянул чрезвычайно, в то самое время, как Ломоносов поднёс руку к железу. Затрещали искры, воздух в комнате вдруг переменился и запах остро, возбуждающе. Все домочадцы испугались и побежали прочь. А жена Елизабета, мельком взглянув на сияние, верно, не столько испугалась, привыкла уже к необычному с мужем, сколь, озабоченная тем, чтобы «шти» не простыли, уже весьма настойчиво попросила идти обедать.
Ломоносов ещё немного задержался, никого не слушая и ожидая новой вспышки, но вдруг електрическая сила совсем пропала, треск прекратился, сияние исчезло. Всё замерло в совершенном молчании, гром затих, и потому стал отчётливо слышен ровный и всё нарастающий шум дождя. Вот он забарабанил по крыше, по стёклам, капли забили по подоконнику, отражёнными брызгами залетая в открытое окно.
— Ну вот, более ничего не будет, — словно сожалея о бесследно ушедшем явлении, сбросив напряжение, сказал самому себе Ломоносов и отправился обедать.
Обед не затянулся. Съели щи с кислой капустой: свежей в июле ещё нет, слишком рано. Затем подали жареную говядину с луковым соусом и в отдельном горшке вытомленную в печи пшённую кашу. Ломоносов любил есть её горячей, размазывая по ней деревянной ложкой тающее масло. Запивали всё топлёным молоком из широких кружек, в каждую из которых попадали из пузатой глиняной крынки дужки коричневой запечённой пенки.
Внезапно обед был прерван. Дверь рывком отворилась, и в ней появился человек Рихмана. В растрёпанной мокрой одежде, с раскрытыми широко глазами, он, запыхавшись, встал в проёме. Лицо его было испуганно, рот стремился что-то сказать, но ничего слышно не было. Ломоносов повернулся к нему; мелькнула мысль: «Уж не побил ли его кто по дороге?» Ни о чём другом, плохом, более и не подумал, как вдруг человек, еле шевеля губами, выговорил страшное:
— Профессора громом зашибло!
Вскочил Михайла Васильевич, лицом побелел. Закричала, запричитала Елизабета, а кухарка, нёсшая посуду, выпустила её, и грохот падения той посуды слился с воплями испуга остатних домочадцев.
— Ка-ак зашибло? — только и смог спросить Ломоносов, но, более ничего не выпытывая, закричал человеку: — Сейчас. Сейчас бегу! — Схватил кафтан и стал натягивать его, не попадая в рукава.
Рихман лежал на полу, кругом стояло много народу, слышался плач его жены и детей. И у Ломоносова в душе возник ужас, когда он вспомнил, как сидел с ним, живым, в Конференции и рассуждал о будущем публичном Акте. Промелькнула в голове мысль о минувшей близости и его, Ломоносова, смерти, и на него было наставлено остриё молнии, но тут же мысль эта была им отброшена. Зачем о том думать, он-то как раз жив, а мёртв Рихман! Плач жены Рихмана, его детей и всего дому оказались столь чувствительными, память о бывшем с Рихманом согласии и дружбе столь велика, что сразу же вытеснили из головы мысли о собственной персоне.
Быстро, не теряя ни секунды, Ломоносов склонился над Рихманом и начал сводить и разводить ему руки, стараясь движение крови в нём восстановить, ибо тот был ещё тёпл. Увидев это, кто-то из собравшихся разул Рихмана и стал растирать ноги. Но вскоре поняли, что всё сие было уже тщетно, ибо голова Рихмана повреждена, и недвижность его не оставляла более надежды.
Рихман мёртв, и то была непреложность! Но как ни горька была мысль о случившемся, всё же в голове оставалась, не покидала Ломоносова мысль не только о смерти друга, но и о самом явлении, о его причине и всех тому сопутствующих подробностях. И ту мысль он не гнал, потому как понимал: не чёрствость это и не бездушие, а просто вторая натура учёного. С той любознательностью всю жизнь прожил, с нею и умрёт. Потому огляделся и попытался составить картину того, что произошло. Удар молнии от линейки с привешенной к ней нитью пришёлся Рихману в голову. Виделось, как Рихман неосторожно склонился к линейке, тёмно-вишнёвое пятно на лбу указывало место удара. Вышла громовая електрическая сила у Рихмана через ноги в доски: нога и пальцы сини, и башмак разодран, хотя и не прожжён.
Академический мастер Иван Соколов[148], помогавший Рихману и бывший тут же, рассказывал, что Рихман стоял не ближе чем за фут от прута. И тут из этого прута без всякого прикосновения вышел синеватый огненный клуб с кулак величиною и поразил Рихмана, который упал, не издав и малого голосу. И в самый тот момент последовал такой удар, будто бы из небольшой пушки выпалено было.
Соколов тёр бледные щёки, суетливо повторяя одинаковые движения, по многу раз разглаживая на себе одежду, часто сморкался и, будто чувствуя себя виноватым, опять рассказывал, перебирая всё, что запомнилось ему в ту страшную минуту:
— Сам я напугался безмерно. И от испуга упал на пол. Упал и чувствую, в спине уколы, лёгкие такие, будто щёткой сапожной меня кто постукивает. А сколько всё длилось — не могу сказать. Как встал — вижу, профессор не жив лежит. Тут уж я кричать начал.
На полу валялись куски проволоки, которая ко всему послужила причиной; концы проволоки были оплавлены, в линейке была большая раковина. Ломоносов проследил глазами весь путь громового удара и ещё более уверился, что електрическую силу можно отводить, а также в том, каковую осторожность отныне надо проявлять при работе с громовой машиной.
Потом подошёл к жене Рихмана, склонил голову её себе на грудь и поцеловал в волосы. Жалел и утешал её, а про себя думал, что умер Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Умер, исследуя новое, неизведанное, и то неизведанное, выглянув ужасным своим ликом, поразило смельчака, рискнувшего невероятную силу нового познавать и описывать.
А потом стало налипать кругом смутное. Выйдя из дома, увидел Ломоносов толпу людей, стоявших у дома, негромко переговаривавшихся и часто крестившихся. Слова их были дики, невежественны:
— К богу потянулся, чернокнижник. А бог его поразил!
— Одному всевышнему дано править молниями в небе. А убитый туда же сунулся. Вот и получил!
— Дедушка, вон дяденька молвил, что это Илья Пророк убиение сотворил. Как это он сделал? — спросил мальчик седобородого мужика в поддёвке и сапогах, скорее всего состоящего в приказчиках, а может, и купца.
— То есть тайна великая, — отвечал мужик. — Но ведают святые отцы, что по небу Илья Пророк в огненной колеснице ездит и ею-то гром и производит.
Мальчик круглыми испуганными глазами глядел на деда и понимающе кивал.
— А убитый, не к ночи будь помянут, с нечистой силой якшался. Вот Илья и пустил свою стрелу в него.
— Ой, страшно-то как! — поёжился мальчик.
— Воистину страшно! Но ты молись, и тебя не тронет напасть сия. — Потом, перехватив возмущённый и гневный взгляд слышавшего его слова Ломоносова, мужик торопливо взял внука за руку и со словами: «Пойдём-ко, пойдём от греха подальше» — поспешно увёл его за собой.
В академии тот громовой удар тоже вызвал отзвук недобрый. Вместо учёных разъяснений Шумахер со своими клиентами и единомышленниками занялся шепотанием по углам, наговорами и науськиванием. Выдумывали, лгали, стращали, и простой народ, и вельмож возбуждая. Дородного Нащокина разбередили, а тот далее уже по собственному невежеству метал в Сенате громы и молнии не хуже Ильи Пророка, стремясь громовые машины оговорить и запретить. Другой могущественный вельможа, Воронцов-старший[149], возмущался также, дерзкие испытания природы сурово осуждая.
Разумовский по своей высокой должности президента обязан был решить, как отозваться на печальное явление небесных сил непосредственно в адрес академии, но Шумахер нашёптывал Теплову, чтобы торжественный Акт, посвящённый електричеству, по сему случаю отменить, и президент проявлял нерешительность. Уже понял Шумахер, что неудачи не прижимают Ломоносова к земле, не лишают работоспособности, а, наоборот, вздымают, пробуждают в нём новые силы. Потому искал чем если и не свалить, то хотя бы подбить.
Много проработав летом, Ломоносов подал к Акту который уже по счёту в своей жизни новый специмён: «Слово о явлениях воздушных, от Електрической силы происходящих». А Шумахер того научного выхода Ломоносова, конечно же, как всегда, не желал, противными действиями добиваясь его принижения. Потому и норовил ударить по ногам, чтобы труднее было подняться.
«Отменят или не отменят Акт? — волновался Ломоносов. — Неужели невежество и злоба победят?» Поначалу Шумахер пересилил. Что там он Теплову шептал, что Теплов говорил Разумовскому — угадать Ломоносов не мог, но в августе пришла резолюция президента: «...с представлением Канцелярии согласиться», из чего следовало, что «Актус» будет отложен.
Снова началась околонаучная возня и хлопоты о восстановлении Акта. Да тут ещё одна подлость Шумахера выявляться начала. Вдова Рихмана оставалась с малыми детьми безо всяких средств к существованию. Канцелярия академии отказала ей в выплате не только вспомогающих сумм, но даже того жалованья, которое Рихман уже заработал, будучи жив. Михаила Васильевич, оставив остальные дела, бросился на её защиту. Но что он может сделать? С Шумахером спорить бесполезно; пряча лисьи глаза, от правды уклоняясь, тот без малой совести показывает на чёрное и говорит — белое. Лишь одно оставалось — взывать к милосердию покровителей наук. Пишет письмо к младшему Воронцову, графу Михаилу Илларионовичу, объясняет, как обошлись со вдовою, призывает к милости, «...которую все прежде её бывшие профессорские вдовы имели, получая за целый год мужей своих жалование... А у Рихмановой и за тот день жалование вычтено, в который он скончался...». Писал сие Ломоносов, и о вдове сокрушаясь, и о том, как подлость Шумахера границ не знает. Мстит всякому, кто с ним, Ломоносовым, близок, даже немцу, ежели он не интересами своего синедриона живёт, а истинную пользу науки соблюдает.
Тут же написал письмо и Шувалову с изложением случившегося и с просьбой не оставлять вдову: «...того ради, Ваше Превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лутчего профессора до смерти своей пропитание имела...»
А по поводу Акта поставил Михаила Васильевич спор в Конференции. Там для начала выдвинули «сумнительства». И положили, чтобы с вопросом ознакомился и «сумнительетва» связно изложил академик Августин Гриш, или, как его именовали на русский манер, — Гришов[150]. А Ломоносов должен был те «сумнительства» опровергнуть.
Ну что же, это уже дело. Истина иногда рождается и в спорах. Не перечил тому Михайла Васильевич, лишь противу проволочек возражая и настойчиво добиваясь, чтобы Акт не отменяли. На том и схлестнулись: Ломоносов, с одной стороны, публичного научного спора добивается, Шумахер, с другой — тихой сапой работает, дабы всё приватно похоронить.
Схлестнулись, но как пересилить? Спор в Конференции неравен — большинство там не у россиян, у немцев. Как захотят, так и проголосуют. Оттого снова пишет Ломоносов Шувалову о «коварных происках» Шумахера с целью задержать его речь. И без обиняков указал на Шумахера, что «...он всегда был высоких наук, а следовательно, и мой ненавистник... коварный, злохитростный приводчик в несогласие...».
— Вот ведь как, — громко говорил Ломоносов в перерыве Конференции немногим россиянам, там заседавшим, Попову, Крашенинникову, Котельникову. — Не хотят немцы публичных обсуждений. Боятся, что ли, своё невежество открыть? Воду в ступе молотить желают на заседаниях, а не науку двигать? А потом в Европе скажут о нас — чего у них там за наука? Нет там у них ничего! — Ломоносов говорил громко, никого не стесняясь, а чужеземцы зло пялились на него и осуждающе указывали, будто он делал что-то неприличное, чего в обществе делать нельзя.
И всё же победили доводы Ломоносова, ибо он добивался истины. Но не голосованием победили, а разумом власти. Из Москвы нарочным прислали новый ордер[151] президента, где повелевалось публичную ассамблею собрать, «...дабы господин Ломоносов с новыми своими изобретениями между учёными людьми в Эвропе не упоздал». Таки «Слово» было произнесено, при большом стечении публики в оную ассамблею. И было оно действительно новым в зарождающемся учении об електричестве.
Речь предварительно была напечатана и в разные иностранные академии разослана, и за этим Ломоносов сам проследил — так положено, пусть так и будет сделано. И речь его не была оставлена без внимания. Её вычитывали, обсуждали, строили на базе её новые гипотезы. Наиболее светлые умы Европы под впечатлением той речи долгое время пребывали и рекомендовали «Слово о явлениях воздушных, от Електрической силы происходящих» изучать, как наиболее откровенное описание трудно постигаемых тайн природы. Могучий умом Эйлер писал: «То, что остроумнейший Ломоносов предложил относительно течения этой тонкой материи в облаках, должно принести величайшую помощь тем, кто хочет приложить свои силы для выяснения этого вопроса».
Но сколько сил человеческих надо было затратить, чтобы понятие о тех електрических силах сначала добыть, а потом громко и публично о них сказать! Великие надо было иметь силы, и Ломоносов, себя не щадя, приложил их к созданию основания грандиозного здания науки о електричестве.
Петербургский парадиз блистал и взвивался празднествами и подпорными фейерверками, вовлекая в свою суетливую орбиту всё высшее общество и к ним примыкающих, лишь когда двор находился в столице. Но почти весь год Елизавета пребывала в Москве; исконная столица своей солидной основательностью и неподвижной древностью тянула к себе стареющую императрицу. В эти поры Петербург пустел. Он словно каменел в геометрической красоте своих первозданных линий, и тогда праздная суета двора в нём казалась красивой, но лёгкой и бесследно опадающей пеной шипящего вина в и без того прекрасном хрустальном бокале.
В такое время хорошо работалось, не отвлекали на фейерверки, не требовали од, не приглашали на журфиксы, в кои и идти не хотелось, и отказываться невозможно. Но всё же повеления двора время от времени и из Москвы до академии доходили. Так, в том же 1753 году получил Михайла Васильевич сообщение от Шувалова[152] о том, что Елизавета Петровна «охотно желала бы видеть Российскую историю, написанную его, Ломоносова, штилем». В противовес иным дворцовым поручениям это было лестным и почётным. Но время, время! Где его взять?
Огляделся вокруг Ломоносов и прикинул: чего он только не делает! По своей профессии и должности опыты ставит новые — раз. Говорит публичные речи и диссертации — два. Вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости — три. Составляет правила к красноречию на своём языке — четыре. Мозаичные картины строит — пять. Да всего не перечесть. И вот историю своего отечества он должен на срок поставить. «Можно ли от себя большего требовать?» — думал Ломоносов, получив это предложение.
Но отказаться и отклонить — и мысли не допустил. «Столь великая держава, а должно написанной истории дотоле ещё не имеет. Один Василий Татищев[153] замахнулся, много потрудился, но не во всё вник. Не во все». Теми мыслями сам себя подбадривал Ломоносов к началу сего труднейшего предприятия.
Конечно, Миллер како историк, не говоря уже о Шумахере, был против. Кто-то заметил, что деяния древних греков и римлян описаны полно, российским же с ними пока не равняться. Даже Теплов на заседании Конференции не удержался. Криво усмехаясь, уколол:
— Ишь, говорят, Нестор-летописец у нас объявился. — И довольно принял рой подобострастных улыбок и одобрительно-ядовитых смешков сидевших кругом угодников.
Укол тот Ломоносов мимо ушей пропустил, не на всё же взрываться. Но ещё раз отметил себе, что не внял его увещеваниям Теплов и прежнюю свою линию гнёт — на любого наступить ногой, лишь бы вверх самому продвинуться. Спокойно ответил:
— Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела героев, греческим и римским подобных, унижать нас перед оными причины иметь не будет. — На секунду остановился и, глядя на Теплова, договорил: — Но вину осознать должны мы, что своих героев в полной славе ещё не предали вечности, каково то сделали греческие и латинские писатели.
И своё назначение в написании Российской истории видел — отдать должное великому народу, предать дела его вечности. «Да есть ли ещё такой народ, каковой бы в труднейших исторических условиях не токмо не расточился, но и на высочайшую степень величества, могущества и славы достигнул?» Чем более Михайла Васильевич вдавался в историю, тем более восхищался исторической судьбой России. А восхитившись, писал для будущего, чтобы не забывалось: «Извне Угры, Печенеги, Половцы, Татарские орды, Поляки, Шведы, Турки; изнутри домашние несогласия не могли так утомить Россию, чтобы сил своих не возобновила». Какие бы исторические тяготы ни выпадали на долю Руси, что бы она ни пережила, «...каждому несчастью последовало благополучие большее прежнего, каждому упадку — высшее восстановление».
Писал таково Ломоносов и утверждался в своём прежнем восхищении перед исторической ролью, выпавшей России, её победному пути через века, её могучему, неумирающему гению, проявляющемуся в сообществе народов российских, создавших столь живое, могущественное государство. И как всегда, личины ложной скромности не надевал: «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу...»
Просил Крашенинникова, мужа вполне уже учёного, имя приобретшего описанием земли Камчатской, прочитывать написанное и свои замечания делать. Говорил ему при этом:
— Смотри, как память европейская и воздаяния их несоразмерны совершенным делам. Вон венецианские гондольеры но всей Европе знамениты. А что сделали — поют сладкогласно, да и всё! Российские же мужики Европу от нашествия орды кровью своей, телами своими заслонили — и что? Кто в Европе им за то благодарен и память о том хранит?
Не скрывая огорчения, призывал работою своей ту несоразмерность исправлять:
— Скажем верное слово, потомки нам того не забудут. Сам же я готов великое терпение иметь, когда бы что путное родилось.
Крашенинников не отказывался, но, смущаясь, отвечал:
— Боюсь, не судья вам я в том предприятии, Михайло Васильевич. Всего лишь Камчатку осилил, а тут вся Россия, да от истоков!
— Ну и что, Степан? Камчатка — часть России, а ты часть её народа. От кого ждать России должного описания? От них, что ли? — Ломоносов ткнул пальцем в сторону зала Конференции, имея в виду заседавших там высокоучёных мужей. — Так они только о собственном животе пекутся, а на Россию им плевать! Потому думай не думай, а правды ждать не от кого, самим себя понукать надо. Но мы дело делать умеем и его сделаем.
Спросил бы потом себя, как уже со введением и первою главою истории справился: «Когда написал, ведь столько дел было?» Сразу бы и не ответил. А верно, суть была в том, что работал Михайла Васильевич над всем сразу. Но не одновременно, а полосами. Как в природе погода идёт: всё в году есть — и холод, и жара, и вёдро, и дождь. Так и он, то полосой строительства жил, то електричество разрабатывал, то мозаику делал увлечённо и лишь о ней неделями думал. А бросившись мыслию в бездонную пучину истории, ничего другого не видел. То в Киевской Руси жил, с княгиней Ольгой мысленно беседовал, то на половцев шёл с дружиной Игоревой, то мертво стоял на поле Куликовом. Обо всём том писал, будто сам всё видел, хотя видел всё то лишь через древние документы, летописи, сказания, которые находил и изучал. И фраза Ломоносова-поэта:
Открой мне бывшие, о древность, времена...–чеканилась им в граните твёрдо установленных фактов и действительных исторических событий.
В один из наездов к Ломоносову Иван Шувалов, сиятельно оглядев его, спросил значительным тоном:
— Помнишь работу с гаубицами, Михайло Васильевич? — Увидев согласный кивок, одобрительно произнёс: — Весьма полезна оказалась помощь твоя военному ведомству. Весьма!
«Ещё бы не помнить такую работу!» — подумал Ломоносов и заинтересованно спросил:
— Так что? Приняли те гаубицы к вооружению?
— Две дюжины уже отлили, нарядили в войска и твои таблицы приложили. Да вот беда: офицеров артиллерийских не хватает, чтобы всем этим грамотно пользоваться и хорошо стрелять.
Всё вспомнил Ломоносов о той работе. Брат Ивана Шувалова Пётр Шувалов над теми пушками считался шефом, потому и прозвали их, с лёгких на лесть языков его приспешников, «шуваловскими гаубицами». А началось всё с того, что Главная Канцелярия Артиллерии обратилась к Ломоносову с просьбой помочь в исчислении траекторий полёта ядер невиданных ранее пушек. Тупорылые, короткие, они, как сидящие на берегу лягушки, смотрели мордами вверх. Ядро выплёвывали высоко, и оно, пролетев крутой дугой, уже сверху шлёпалось на неприятеля, поражая его даже за укрытием. Вот Канцелярия Артиллерии и спрашивала Ломоносова, как наиболее точно вычислять и устанавливать угол выстрела, дабы в нужное место попасть. Ведь по старинке, целя прямо в неприятеля, наводить такие пушки нельзя.
Ломоносов охотно за то дело взялся. Его это была наука, понятна ему, да к тому же и патриотические чувства в нём всегда говорили громко. А усилить пушки российской армии — это ли не достойное приложение сил патриота! Но, взявшись, потребовал соблюдения тайны и того, чтобы своей собственной Академической Канцелярии о сих делах не докладывать. Лукавым чужестранцам не доверял, знал, что те предадут военные секреты сразу же и с радостью.
К сей работе привлёк Ивана Харизомесоса. Ему, в расчётах движения небесных светил поднаторевшему, было ясно, с какого конца за те вычисления браться. Но только, как взяться, ясно, а каков ответ будет — конечно же, не знал. И поначалу они с Михайлой Васильевичем многие трудности встретили. Как определить начальную скорость, и как она связана с величиной порохового заряда? Как рассчитать уменьшение скорости из-за трения ядра о воздух? Как учитывать снос ядра ветром? Да мало ли вопросов было — так ещё до того никто не стрелял.
Иван стал было задавать эти и тому подобные вопросы Михайло Васильевичу, но тот рвение его сразу окоротил и выставил резоны:
— Ну нет! Чего это ты меня обо всём пытаешь? Я тебя учил, труд затратил. А уж теперь ты, будь любезен, сам потрудись, сам главное определяй. А уж я с удовольствием результаты вместе с тобой готов обсудить и обдумать.
Всё было верно. Задача понятна, знания есть — надо проявлять самостоятельность. Всё понял Иван и в те вычисления погрузился с головой, по-ломоносовски. Обобщённое уравнение траектории составил быстро, но вот начальные и граничные условия для него каковы? Как их определить?
Сперва шарики чугунные, специально отлитые, швырял маленькой баллистой. Делал експеримент, определял по нему начальные скорости и углы выброса. А потом по уравнению пытался рассчитать расстояние, которое пролетит шарик. Поначалу не высказывался по этому поводу Ломоносов, но те забавы недолго терпел и, как-то подойдя, начал подсмеиваться:
— Ты что, в Древнем Риме живёшь, что баллистой играешь столь долго? Давай-ка сами маленькую гаубицу отольём. С нею и продолжишь работу, чтобы всё было как в натуре. А со временем и настоящую пушку запросим в Артиллерийском Департаменте.
Игрушечную гаубицу, такую, что без натуги под мышкой унести можно было, отлили здесь же, в лаборатории, и к ней ядра соответственные. Иван запасся порохом и уехал к Ломоносову в Рудицу. Там с крестьянскими мальчишками такую стрельбу открыл, что все деревенские галки за версту то место облетали.
При выстреле у пушки вспухали чёрные вонючие клубы порохового дыма, гаубичка отскакивала назад и опрокидывалась вместе с деревянным лафетиком. «Лафет легковат», — сразу отметил себе Иван. Дабы точно знать, куда ядро шлёпается, вскопали кусок земли, землю ту разгладили и разбили на пронумерованные квадраты, расстояние до которых было точно вымерено. Каждый выстрел сопровождался восторженными воплями мальчишек — все гурьбой бежали к межевым дорожкам и затем от них по квадратам — искать ядро. Снова разглаживали землю и опять стреляли. Игра была весела и интересна.
Зато тот натурный експеримент позволил на маленькой гаубице выявить все особенности составления достоверных таблиц углов вылета снаряда и связи их с расстоянием до цели и величиною заряда. И хоть стреляла игрушка всего на сотню-полторы шагов, но препятствий к распространению полученных результатов на большие пушки не было.
Ломоносов, наезжая в Рудицу, тоже стрелял и тоже с восторгом бегал к ядру, наперегонки с мальчишками. Потом, когда все осмыслили и черновые таблицы составили, Ломоносов сказал, что дело получается и можно переходить к стрельбе из настоящих пушек. О том сообщил Шувалову и в Главную Артиллерийскую Канцелярию.
В артиллерийский полигон под Гатчину Харизомесос уехал уже один на целых два месяца. Снял квартиру на мызе местного крестьянина, отставного капрала, женатого на беловолосой чухонке Жили те в крытом щепой доме, промышляли огородом и молоком от двух коров, Весь продукт сбывали офицерам гарнизона, стоявшего в Гатчине. В самом же поместье доживала последние дни престарелая сестра царя Петра — Наталия Алексеевна, которая и владела поместьем до самой смерти.
Ротою Нарвского полка, при которой состоял артиллерийский отряд, данный Ивану в полное распоряжение для производства стрельб, командовал поручик Фёдор Измайлов. Был он молод, любознателен, но, по мнению Ивана, совершенно невежествен: кроме фрунту, кавалерийского бою и чуть-чуть грамоте, ничему не учился. И потому смотрел Измайлов на манипуляции Харизомесоса с любопытством и недоверием. В синем мундире с эполетами, шпагой на перевязи и высоких сапогах, красивый, весёлый, заносчивый. Бывало, с интересом внимал объяснениям Ивана, а бывало, и орал на него, как на нижнего чина.
Иван, когда его слушали со вниманием, загорался, объяснял с охотой и понятно. А как-то начал на него Измайлов по-пустому орать, послушал его Иван, послушал да и сказал ему по-ломоносовски:
— А ведь ты, поручик Измайлов, дурак!
Измайлов даже глаза выпучил от такой дерзости, едва ли не за шпагу схватился, но, видя на лице Ивана не злость, а сожалеющую улыбку, не нашёл ничего иного, как спросить:
— Это почему же я дурак?
— А вот почему. Кто такой дурак? Дурак — это тот, кто ничего по своему делу не смыслит, не умеет и обучаться не хочет.
— Так что же, — опешил Измайлов, отложив свой крик, но лишь стремясь осмыслить поставленную дилемму — дурак он или не дурак? — Так что же, я, по-твоему, ничего таки не умею?
— По своей артиллерийской должности пока ничего, — спокойно и по-прежнему дружелюбно ответил Иван. — Вот подумай. Положим, неприятель засел на позиции да за валами. — Иван, протянув руку, показал, где мог бы засесть воображаемый неприятель. — Тебе его выбить надо. Так что, вскочишь на коня и помчишься на него с саблей?
— И с саблей не струшу, и в штыки не оробею, — гордо ответил Измайлов.
— Не оробеешь, верю. Да только неприятель тебя прежде из-за укрытия укокошит. А с тобою и твоих солдатиков. И грех за то на тебя падёт! Так не лучше ли, прежде чем шашками махать, умом пошевелить и вот с этими пушками неприятеля выбить. А уж потом скакать на позицию!
— Оно, может, и так, — примирительно согласился Измайлов.
— Ну а раз так, то учись стрелять. Потом и солдат своих научишь.
И Харизомесос взялся за Измайлова. Объяснял ему, как стреляет пушка, как летит ядро, чем прямая наводка отличается от навесной. Пришлось и математику затронуть и объяснять.
— Вот смотри, — учил он, объясняя, как пользоваться таблицами, как наводить, как исчислять траекторию. — Видишь, сколь сильно гаубица от простых пушек отличается. Ядро сверху бьёт! А ежели по массе вражьей пехоты или кавалерии не ядром, а картечью ударить, каково противнику придётся? Картечь-то сверху сыплет, чем от неё закроешься?
Фёдор слушал, потихоньку просвещался, а потом в пользе артиллерийской науки совершенно уверился. А когда время пришло Ивану покидать полк, поручик Измайлов, нарушив все регламенты, пригласил Ивана к себе на квартиру, соорудил стол, выставил вино и не скрывал своего сожаления о разлуке.
— Эх, Ванька, добрый бы из тебя офицер вышел!
Вернувшись домой, Иван всё доложил Ломоносову. Ещё раз выверили таблицы и представили их Главной Артиллерийской Канцелярии для внедрения в войска, и всё то было принято. О наладке вот этих-то гаубиц и напомнил Шувалов Ломоносову. А тот гордился, что принял посильное участие в создании сих навесом стреляющих пушек. И то, что их назвали «шуваловскими гаубицами», ничуть не задевало. Пусть будут шуваловские, лишь бы русские. И чтобы врагов России уверенно поражали, а остальное неважно.
Не прошли даром многие годы ломоносовских стараний, хлопот и ходатайств перед властями предержащими и сильными мира сего об открытии Московского университета. В июле 1754 года с фельдъегерской почтой получил из Москвы Михайла Васильевич большой пакет от Шувалова. Был пакет по углам и в середине украшен пятью сургучными печатями с графскими гербами на них. Вручил его Ломоносову под роспись засыпанный дорожной пылью утомлённый офицер, который мчал из Москвы в фельдъегерской коляске с курьерской скоростью.
Однако в пакете был всего лишь черновик доношения Ивана Шувалова Сенату. Черновик о важном, об открытии в Москве университета. Но ведь черновик же! При чём тут фельдъегерь? Ломоносов пожал плечами, отпустил офицера и стал читать письмо Шувалова. Тот просил Ломоносова над черновиком подумать и дать свои поправки.
Обо всём том много раз было говорено-переговорено, писано-переписано. И в том черновике Ломоносов свои собственные фразы узнавал из прежде поданных им Шувалову памятных записок. И почему много лет молчали, не шевелились, а теперь фельдъегерей гнать начали — уму непостижимо. Однако поспешил ответить: «К великой моей радости, я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества».
Подумал, как бы в спешке не заложили такого, что потом оказалось бы негодным. И потому приписал: «...советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план приложить могу».
— Вот ведь какая чертовщина, — мотая головой, говорил Ломоносов Барсову и Поповскому, которых прочил профессорами в Московский университет. — Годами не чесались. А теперь я пять дней выпрашиваю. Да не знаю, дождутся ли и послушают ли.
Дождаться дождались, но не во всём послушались. И план Шувалов к доношению в Сенат приложил, и всё вроде, как предлагалось, выполнили, и 19-го дня июля месяца 1754 года Сенат план тот утвердил. Но только тут обкорнали, там подрезали, а кое-где добавили такого, что стоило бы заранее отбросить. Шувалов собственноручно, росчерком пера, объединил кафедры истории и красноречия, а вдобавок к её историческим делам приписал той кафедре заниматься ещё и геральдикой, хотя сия рыцарская премудрость в России никогда прочных устоев не имела. И число профессоров сократили, и учебные предметы поименовали не всё так, как должно, но всё же главное было сделано — основа университету заложена.
Узнал о том Ломоносов, обрадовался, всех учеников и единомышленников собрал и сообщил им о радостном событии. И кроме Барсова и Поповского, наказал готовиться ехать в Москву и Харизомесосу. Три профессора из десяти будут его, ломоносовской, школы — немало это. Всю осень отдельно с ними занимался, персонально наставляя каждого, как читать лекции, что развивать в них, к чему стремиться.
— Вы мужи люботрудные и в науках подкованы, — говорил всем троим Ломоносов, — в том уверен. Но вот как вы сможете к студентам подойти, чтобы глаза и души их открыть и к наукам расположить, в том, уж не осудите, сомневаюсь.
— Не сомневайтесь, Михайло Васильевич, — отвечал Харизомесос. — Чтобы чужая душа не закрывалась, свою распахивать в первую очередь надо. Тому у вас учились, так и сами поступать станем со всем усердием.
— Истинно так. Заборами от студентов городиться не станем, — подтвердил Поповский.
Ломоносов внимательно смотрел на своих питомцев, думал о большой дороге, на которую те выходят, и считал своей обязанностью о всех рогатках и тяготах, кои он в состоянии усмотреть, их предварить.
— Всё же не забывайте, что большинство студентов в университете будут дворянские дети. Им душу с умом открывать надо. Вот, к примеру, решено уже в университет, как в полки, с младенчества записывать.
— Это как же? — недоумённо спросил Барсов, сам хоть и дворянского роду, но в науку проникший своим трудом и честно. — В полку понятно: во младенчестве самые трудные нижние чины пройдёт, а как юношей в полк явился, так уж сразу и подпоручик. Но ведь в университете-то всё с азов надо вытянуть самому. Иначе как же?
— О том и я думал и ответа не нашёл. Но пожинать-то горькие плоды сего посева не мне, а вам придётся. Вот и готовьтесь заранее, как то вредное иждивение пресечь.
В январе 1755 года Елизавета изволила подписать указ об учреждении в Москве университета. Когда то сенатское решение было ей доложено, чтобы она его указом утвердила, бывший тут же Шувалов, стройный и милый, дабы усилить прошение, напомнил:
— О том, ваше величество, не токмо я пекусь, но и Академия наук того же нижайше испрашивает. — Изящно изогнувшись, сделал лёгкий поклон и выпрямился в позе томной и привлекательной.
— А, помню, — весело откликнулась императрица. — Это там, где вальяжный поэт Ломоносов сочиняет и рисует? Полезное заведение! — Вспомнила, и затеплились в душе её отзвуки строк Ломоносова, не сами они, конечно, в памяти всплыли, а лишь приятные воспоминания о том впечатлении, которое они оставили. Сюда же и образ Богоматери наслоился; был он внесён в дворцовую церковь, привыкла к нему Елизавета, не замечала уже, но образ был. Вероятно, потому настроение её, в последние годы столь же переменчивое, как и состояние здоровья, вдруг улучшилось, и она, пробежав глазами поданный указ, спросила канцлера Бестужева, державшего наготове обмакнутое в чернила перо:
— Это чего-то вы в Сенате так зажидились — положили университету всего десять тысяч рублей в год на расходы?
— Должно хватить, ваше величество.
Елизавета, сморщив губы, посмотрела на скромно улыбающегося чуть в сторонке Шувалова, потом сама заулыбалась и возразила:
— Так, выходит, я на иной свой наряд должна тратить больше, нежели на императорский университет? — Спросила и, тут же кивнув Бестужеву, сделала широкий и милостивый жест: — Ты там укажи Сенату, пусть пятнадцать тысяч дадут. — Исправила, подписала, а потом, обращаясь к Шувалову, тихо и доверительно закончила: — Чего не сделаешь для мил дружка. — После того весь день ходила, преисполненная сознания хорошо исполненного долга просвещённой и щедрой государыни.
Университет разместили при входе на Красную площадь в записанном за казной доме бывшей аптеки, что у Воскресенских ворот. Дом был старый, хотя и в три этажа, и даже с башенкой наверху и шпилем на ней, однако же сразу стал тесен, но другого вблизи Кремля не нашли. Ставить же университет на окраине, где-нибудь выше Неглинной или, паче того, в Сухаревой башне, так тоже предлагалось, почли невместным.
Торжественное открытие состоялось после пасхи, по робкому, весеннему ещё не теплу, но потеплению. Дни были веселы и солнечны, по ночам уже не подмораживало и то тепло празднеству ещё привлекательности добавило.
Оркестры начали греметь с обеда, как только лишь стала затихать базарная суета в охотных рядах. Из досок были выпилены и потом размалёваны фигуры древнегреческих муз и богов, и среди них Минерва, ублажающая нагих младенцев с гусиными перьями в ручках. Зрителям представлялось видеть, что те младенцы вовсе не бестолковы, а упражняются в науках. Как темнеть начало, всё осветили большими кострами, а потом взвились разноцветные фейерверки и зажглись красочные транспаранты с вензелями Шувалова.
Огни горели, сверкали, переливались; фейерверочные колёса крутились увлекательно, шипели и взрывались лутскугели и петарды. Всё то было весьма красиво и произвело знатное впечатление на толпы московского народу, которые, отложив ранние сны, сбивались в кучи, кто вблизи университета, а кто на взгорке, при выезде на Тверскую. Оттуда огни были видны лучше всего, головы впереди стоящих зрелища не заслоняли, и на цыпочках тянуться нужды не было.
Те, кто стоял ближе, видели процессию нарядных дам, кавалеров, гостей из купечества и разодетых вельмож, сзади которых стояли профессоры. А впереди всех Шувалов в сверкающем белой парчой кафтане, при ленте и орденах. По одному выходили профессоры, поднимались на убранный коврами лобок и, громко завывая, произносили приветственные речи на разных языках. И ежели бы москвичи могли их понять, то узнали бы в них и сентенции Цицерона[154], и восклицания Овидия, и страстные речи героев Гомера[155]. Многое узрели москвичи в тот вечер, хотя немногие поняли, по какому случаю праздник.
Но сколько бы зрители ни подымались на цыпочки, сколько бы ни вопрошали друг друга: «Это кто? А это кто?», показывая пальцами на персон в блистающих при свете огней костюмах, они бы всё равно не увидели того, кто всё это выносил, предложил и добился. И не услышали его имени в плавном потоке велеречивых излияний. Потому что Ломоносова на празднестве не было — не пригласили. А имя его там не звучало — не сочли достойным. И уж ежели сие было не в меру обидным не только его друзьям-современникам, но и следующим поколениям грамотных людей в России, то можно лишь предполагать, сколь это обидно было ему самому! А вдвойне обидно, что происходило всё то не от зловредной кознённости каких-либо чужестранцев, с коими он всю жизнь воевал. Причина тому — высокомерная забывчивость собственных российских вельмож и властителей, бравшихся представлять инертный, неразбуженный и к своему будущему пока равнодушный русский народ, ради которого Ломоносов радел и старался. Токмо из-за великой обиды и великого благородства Ломоносов впоследствии не счёл для себя возможным отразить свою обиду письменно хотя бы в единой строчке.
Незадолго до сих событий Ломоносов был озабочен подготовкой и снаряжением в Москву в профессоры университета трёх своих питомцев, на что он имел согласие Шувалова. Барсов уже отбыл, а Поповский и Харизомесос готовились к тому переселению. И хоть дороги они были Ломоносову, особенно Иван, но отрывал их от себя Михаила и отдавал в Москву на общее дело.
И снова не всё пошло как задумано. В народе говорят: «Человек предполагает, а бог — располагает!» Но в сердцах переиначил ту поговорку Михайла: «Человек садит, а нечистый гадит!», ибо всю жизнь путающийся рядом и промеж ног нечистый Шумахер всё время норовил изгадить и выпачкать его, Ломоносова, созидания.
Как-то в те дни в лабораторию, задолго до означенного часа бесед, вошёл Иван Харизомесос и тихо сел в углу. В дела не мешался, не заговорил, лишь молча сидел, смотря на Михайлу Васильевича, перебиравшего за столом бумаги, на Клементьева, орудовавшего у печи, на Матвея Васильева, сидевшего у окна над мозаичным набором. Смотрел, молчал, обводя всё глазами, будто впервые видел и стремился всё запомнить.
Ломоносов, оторвавшись от бумаг, поглядел на Ивана и чуть удивлённо спросил:
— Ты что, Иван, сидишь как именинник? — И тут же сообразил, что то неживое спокойствие Ивана неспроста. — Кручина какая? Что сделалось?
Не сразу ответил Иван, помолчал немного и сказал:
— Прощаться пришёл, Михаила Васильевич. Сдали меня от Канцелярии в солдаты.
— Что-о? — выпучив от удивления глаза, изумился Ломоносов. — Тебя в солдаты? — И задохнулся, слов более не находя.
Оставил печи Клементьев, поднял голову Васильев, застыл вошедший перед тем со двора с ведром древесного угля Ефим Мельников.
— В солдаты, — подтвердил Иван. — Шумахер в поданной им ревизской сказке подвёл меня под рекрутский набор.
«Вот он, вездесущий нечистый, портит, гадит, смердит!» — просто не знал, что сказать Ивану, Михайла Васильевич. Не по-обычному суетливо сбросил фартук, натянул кафтан и, боле не прибираясь и не охорашиваясь, побежал в Канцелярию. Но без толку — никого не застал. Шумахер, встречу с ним предвидя, но вовсе её не желая, предпочёл спрятаться. Ломоносову доложили в Канцелярии, что-де «оне отъехали и когда будут — неизвестно». Теплова тоже найти оказалось невозможно.
Вернулся в лабораторию ни с чем. Иван ещё не ушёл, возился в своём углу, что-то перебирал и укладывал.
— Так что тебе объявлено? — спросил Ломоносов, чувствуя себя виноватым, что зря пробегал и ничем пока помочь не может.
— До крещения прибыть в воинское присутствие при Васильевской полицейской части для отправки по этапу к месту службы, — ответил Иван. Подумал и тихо добавил: — Вот и кончились мои университеты, Михайло Васильевич.
— Крепись, Иван! — твёрдо ответил Ломоносов. — Я пока ещё не умер и тебя не оставлю. Не оставлю! — И тут же вспомнил, что Шумахер не впервой подобное вытворяет — вот так же в годы оны сдал в солдаты и Матвея Андреасова, не угодившего Бакштейну.
Всё же встреча с Шумахером состоялась. Куда ему было деться? Не мог же он всё время в отъезде пребывать. В своём кабинете, выставив двух профессоров как свидетелей, загородившись двумя протоколистами и своим огромным столом от рассерженного Ломоносова, ехидно и ласково, словно дитю неразумному, объяснял он ему действие российских законов:
— Ваш Харизомесос от духовного сословия давно оторвался, оттого по этой линии ему льготы от воинской повинности нет. В Канцелярии он теперь тоже не служит, потому и чиновной описи не подлежит. Стало быть, кто он? — злорадно спросил Шумахер и сам тут же тихо и радостно ответил: — Человек податного сословия он, временно пребывающий в услужении при академии. Так я его ревизии обязан показывать. Так и сделал.
Шумахер говорил с лицемерной убедительностью, а глаза воровато бегали, и он всё время прикидывал, куда ему лучше будет спрятаться — за канцеляристов или под стол, ежели Ломоносов на него кинется.
— Ну а если он казённый человек есть и возрастом подходит, то, когда ему жребий выпал, я силы против не имею. — Шумахер развёл руками, не сводя глаз с Ломоносова, и даже отодвинул стул, чтобы нырять под стол было сподручнее.
Сжал кулаки Ломоносов, почти врезались в ладони ногти, действительно хотелось запустить чем-либо в это мерзкое и липкое существо, уже столько времени сосущее его кровь и кровь академии, но понял, что главное сейчас — помочь Ивану. А этим только навредишь. Резко сказал:
— Обращусь к президенту! Вредное дело ты сотворил, извёл учёного, умнейшего, нежели десять твоих Таугертов, вместе взятых.
А Шумахер, поняв, что прямая опасность для его хилых телес миновала, возликовал и не удержался, кинул последний козырь:
— Обращайтесь. Но смею заметить, всё сделано с ведома и одобрения господина асессора Теплова!
Понял Ломоносов, что Теплов, ради какой-то своей выгоды, вероятно, походя предал Ивана, дабы дать Шумахеру возможность ущемить его, Ломоносова. Да и сам Теплов совсем не столь расположен к Ломоносову, чтобы из-за того угрызться. Просто потом что-то возьмёт с Шумахера — оба на сделках живут и так, юля промеж людей, вперёд выгребают.
Но дела того Ломоносов не оставил, только обобщил его с одного Ивана на всё окладное сословие Российской империи.
В феврале подоспело обсуждение Академического регламента. Особой нужды в том не было, но по общему указу Елизаветы происходило в Сенате рассмотрение и исправление российских законов. Вот немцы и решили, в ту струю влившись, тоже исправить петровский настрой академии и вкупе с продажным Тепловым учинить ревизию в Конференции. Теплов написал новый регламент, а Ломоносов, взъярённый всем предыдущим самочинством, со своей стороны, составил записку: «Об исправлении Академии».
Именно всей Академии, а не бумажного регламента! Сколько бьётся, а большинство по-прежнему таки у лиц, российской науке противных. Слова записки Ломоносова потрясали Конференцию. Правдивые, гневные, они били по чужеземцам, так не желавшим публичного освещения своих деяний, заставляли морщиться и ёрзать на президентском кресле Теплова, которому нравилось президента замещать, но не нравилось блюсти чью-либо пользу, кроме своей собственной.
«В Академии ровно ничего не делается для подготовки российских учёных, — писал и восклицал Ломоносов. — А если что и сделано, ежели и есть малое число россиян, то оное лишь через непомерные усилия, противу Академических порядков исполнено».
«Вся учебная работа развалена! — объявлял Ломоносов в записке и спрашивал: — Кто виноват? С кого спрошено за то, что «в семь лет ни един школьник в достойные студенты не доучился». Ну а приватно аттестованные прошлого года семь человек латинского языка не разумеют, следовательно, на лекции ходить и студентами быть не могут. Это как? — И добавил саркастически: — Уж больно возлюбили у нас не публичные, а приватные продвижения и аттестации!»
Ломоносов читал свою записку. Как птица, залетевшая в комнату, стучит крылами и в кровь бьётся о стекло, ища выхода, так и Михаила Васильевич бился о стены враждебности явных чужаков — Шумахера и иже с ними — и о дурные рогатки эгоизма, глупости, себялюбия якобы своих — Теплова и президента.
— Главное — надо обеспечить приток в науку всякого звания людям, — восклицал он. И по гнусной улыбке Шумахера, и каменному лицу Теплова, по шепотанию склоняющихся друг к другу париков понял, что на сём месте и будет главный бой.
— А что вы в новом регламенте пишете? — Ломоносов схватил проект и прочитал: — «Пункт 24. ...лиц, положенных в подушный оклад[156], в Университет не принимать». Не принимать, и всё! А ведь их, подушных-то, миллионы! И всем им хода нет?! За что такая дискриминация российскому народу? За что такое унижение?
Шумахер, повернувшись к Теплову, что-то зашептал. Теплов, поджав губы, угрюмо взглянул на Ломоносова и согласительно кивнул. Мановением председательской руки прервал Ломоносова, осанисто встал и размеренно объявил:
— Поелику профессор Ломоносов отвергает сословный строй Российской империи и посягает тем на её устои, я лишаю его слова! — нарочито швырнул тяжёлое, чтобы заткнуть рот Ломоносову, свалить наповал.
— При чём тут устои? Пошто облыжно хулишь? Я же не зову к отмене крепостного состояния! — закричал Ломоносов. Но даже и в форме отрицания слова те уже могли быть расценены как крамольные, было бы желание. А оно было. Потому так начальственно и резко оборвал Ломоносова Теплов:
— Прекрати прельстительные речи! Не спорь! Я лишил тебя слова!
— Это всё, что ты можешь! Потому как тебя бог не слова, а ума лишил!
— Что-о? Вы слышали? Я — сумасшедший! — вскричал Теплов. — Нет, это ты, ты умалишённый! Вон отсюда! Вон! — Теплов зашёлся в крике, но крик его теперь лишь солировал в похульном хоре Шумахера и его присных. Ломоносов тоже не молчал. Голосом громким тоже сказал «некие слова», от которых у Теплова задёргалась щека, а Шумахер припадочно забился, затрясся, дар речи потеряв. Зато лисья мордочка Таугерта скривилась в ехидной улыбке, и он бросился те слова старательно на бумагу записывать.
Но в противном хоре тепловских и шумахеровских прихлебателей слышались и ему несогласные русские восклицания. Не из одних только немцев теперь состояла Конференция, немного, но было там и россиян. Они поддерживали Ломоносова, и речи их звучали всё громче. Потому Теплов и Шумахер, видя, что публичного избиения Ломоносова не получается, предпочли Конференцию сорвать. Сильно поднаторели они в уловках разного рода, чтобы от освещения своих ролей ускользнуть, и в том, чтобы последнее слово за собой оставить. Дождавшись мига замирания шума, забыв, что сам только что прогонял Ломоносова, Теплов объявил, а Таугерт записал, что «за учинённым ему от г. Ломоносова бесчестием с ним присутствовать в академических собраниях не может». Шумахер вслед ему согласно затряс париком, и они оба демонстративно покинули Конференцию.
Вот и думай, кто победил, а кто бежал? Однако потом бумажная машина заработала. Канцелярия от имени Конференции составила представление Разумовскому о наложении строгого взыскания на Ломоносова. Хотели повторить историю сорок третьего года, как будто Ломоносов всё ещё был малозаметным, незначительным адъюнктом, а не всеевропейски известным учёным. И как будто Россия за эти двенадцать лет не прошла пути, на который иным государствам не хватало и веков.
Разумовский ныне от дел академии почти отошёл, состоял президентом уже лишь номинально. Выкрикнули его Малороссийским гетманом, увлёкся он держанием булавы под полковыми знамёнами, печати и прочих клейнодов власти[157]. Науки совсем оставил, все академические дела передоверив Теплову. Не утруждая себя разбирательством дела, подписал ордер, по которому Ломоносов опять был отрешён от присутствия в профессорском собрании. Хотя это не его от них, а их всех надо было бы от него отрешить и заменить другими, добрыми россиянами, истинными учёными. Да только до полнот свершения того века надобны!
Но и тогда уже Ломоносов был велик и в России и вне её весьма заметен. Те, кто пониже стоял, того величия не видели или если видели, то боялись его и потому оболгать стремились. А может, попросту не дано было некоторым голову вверх поднять, чтобы всю его величину охватить. Но, к счастью, на этот раз вверху, в Елизаветинском дворце, хоша и не в прямом научном, а в отражённом от публики свете, то величие увидели и его не убоялись, к славе России присоединив. Потому Шувалов, како российский вельможа, масштаба исторически более крупного, нежели Кирилла Разумовский, сам вошёл к Елизавете с просьбой об отмене несправедливости к Ломоносову.
По именному повелению императрицы президенту Разумовскому пришлось не только отменить своё определение, но и ордер тот обидный затребовать назад, да не просто, а с указанием: «не оставляя с него копий». Во многом можно было бы укорить себялюбивую, порой безвольную, взбалмошную и часто к людям недобрую императрицу Елизавету. И великого много было в её царствие, и мелочного. Но своей заступой за русского гения от посягательств недругов она заслужила человеческую признательность нашей доброй памяти.
Утомился Ломоносов на казённой академической квартире, жена стала ворчать, и домочадцы нервничали. Действительно, тесно стало там со всеми его причиндалами, и крыша протекала, и соседи лезли со своими претензиями. Громовая-де машина страшна, шлифовальный круг шумит, от мозаичных дел суеты много. Да и мало ли чего соседи напридумают! Хотелось также для малой дочки своей место прогулок иметь, поиграть ребёнку надобно, порезвиться, воздухом подышать. В Рудицу выезжали ведь только летом.
К тому добавилось и то, что делать мозаику в построенной им химической лаборатории стало невозможно. И вот по какой причине. Около года назад объявил Михаила Васильевич в Конференции во всеуслышание, что, имея работу сочинения Российской истории и многие другие, он не чает так свободно упражняться в химии, как раньше. Потому понадобится иной химик, и он о том позаботится и порекомендует.
Собрание профессоров даже опешило от неожиданности — Ломоносов отказывается от химии и от лаборатории, которой долго добивался и создавал годами. Шумахер аж на стуле заёрзал, поняв, какие хитроумные комбинации для утеснения Ломоносова сей его шаг открывает. С подсказки и одобрения Миллера всё тут же в протокол записали и подписями затвердили, как обычно.
А Ломоносов ни от чего и не думал отказываться, просто, порядочность соблюдая всегда, либо делал работу со всей отдачей, либо отходил, освобождая место более свободному и достойному. Именно так он желал здесь поступить и, конечно же, намеревался подобрать достойного химика из учеников своих или ещё кого и тому, достойному, отдать лабораторию. Но по неискоренимому простодушию объявил о сём рановато, и тут-то его на слове и поймали.
Хитроумные ловкачи заработали, зашевелили изощрёнными мозгами, и всё, конечно, молчком, подпольно, по тёмному. Тайно послали приглашение в Германию доктору Зальху[158]. Был тот бездарен, льстив, хитёр и нагл — зато свой. А иных немцы себе в компанию не желали и в академию старались не пускать. Ломоносов и ведать ни о чём не ведал, как появился в Петербурге сей Зальх, и ему со ссылкой на протокол того заседания Конференции выдали ордер для занятия ломоносовской лаборатории.
Зальх пожаловал в сопровождении Таугерта, Трускотта и Миллера. Трое последних, вроде бы ни о чём не ведая, пришли полюбопытствовать на лабораторные дела и встали в сторонке. А Зальх, с превеликим достоинством поклонившись, однако соблюдая всевозможную осторожность в изъяснениях, протянул Ломоносову ордер, подписанный президентом.
— Что? — изумлённо вскричал Ломоносов, вчитавшись в ордер. — Отдать лабораторию тебе? — От сих неожиданных слов насторожился Петров, вскинулись, отрываясь от дел, Широв и Клементьев.
— Согласно протоколу № 2 о заседании 30 генваря 1755 года, — нижайше кланяясь, вмешался Таугерт. И добавил с немалой долей скрытого яда в тоне, дабы себя выгородить и Ломоносова посильней ужалить: — Вами же и подписанного. Потому у его светлости, господина президента, никаких сомнений не возникло.
Опутали змеи Лаокоона и его детей[159]. Крепко оплели хитростью, не разорвать, не разбросать сих ядовитых тварей никакой силой. «Что ж, драться? Драки уже бывали. Так вон они, свидетели. Сам же и бит будешь!» Рассердился Ломоносов, зашёлся от негодования, но сделать ничего не мог и лаборатории таки лишился. А Зальх, како человек ничтожный и в химии негодный, хоть и оттягал лабораторию, но весьма быстро привёл её к совершенному запустению. Вот так из-за лишения места для научных занятий, где можно было бы разместить мозаичное художество и продолжить химические опыты на своём коште, и стал Ломоносов приискивать что-либо иное, для того подходящее. По случаю подвернулось погорелое место на правом берегу Мойки. Решил Ломоносов поставить там каменный дом и при нём сделать мозаичную мастерскую. В Рудице останется только стекольный завод, за ним присмотру меньше. Мозаика же требовала постоянного участия, а в Рудицу ездить далеко.
Собственно, только стекловарение там было налажено и присмотру теперь уже особого не требовало — и мастера подучились, и рабочие пообыкли. Но вот коммерческая сторона того дела страдала, и пока фабрика приносила лишь убытки. Староста Викентий, произведённый ныне Михайлой Васильевичем в управляющие и посему надевший картуз, поддёвку и сапоги, привёз стеклярусные и посудные изделия в Петербург на продажу. Сдал их купцу Сазанову, с коим ранее была договорённость, и после того, стоя перед Ломоносовым, сокрушённо докладывал:
— Привёз я, ваше степенство, пронизок разноцветных 56 тысяч штук, запонок со стеклянными каменьями 75 пар и посуды разной 23 фунта. — Викентий перечислял всё, глядел в бумажку. Со стороны можно было подумать — читает. Но Ломоносов знал, что Викентий лишь цифирь разумеет, а грамоты — нет. Встал, подошёл и поглядел из-за спины на его бумажку. Надписей там не было, лишь коряво изображены картинки: бисерные пронизки, а далее цифры. За числом 56 стоял один крест. Ломоносов догадался, что так Викентий метит тысячу. Пуд обозначен рисунком большой гири, фунт — маленькой. Ломоносов усмехнулся новому рождению иероглифического письма, но возражать не стал. Будет возможность — выучится Викентий грамоте, нет — и так проживёт. Возраст-то у него далеко не ученический.
Викентий же, подойдя к рассказу о вырученной сумме, заскучал:
— А как до расчёту дошло, так тот купец-кровопиец совсем ничего не даёт. Дескать, не берут ваш товар покупатели, не нужно им стекла. А кому нужно, те заграничного требуют!
Ломоносов погасил усмешку, подтолкнул Викентия:
— Ну!
— Наши пронизки блестят не хуже иных, и прошивны и разноцветны. А посуда-то как красива! Говорю ему о том, указываю. Да только Сазанов всё равно не внемлет. «Не идёт!» — говорит и рукой машет. Нащёлкал своими костяшками мне 55 рублёв 86 копеек, — уже не глядя в бумагу, произнёс Викентий и протянул Ломоносову деньги. — А не хочешь, — говорит, — отдавать, так забирай назад. Ну что делать? Не везти же стекло опять в Рудицу?
— Это какой же Сазанов столь ко мне расположен? — с печальной иронией спросил Ломоносов.
— Да Мельхиор! Мельхиор Савлович! Одно имячко-то чего стоит! Из печенегов он, что ли?
— Да нет, имя библейское. А вот ухватки — разбойные. Впрочем, чему удивляться? — уже как бы разъясняя Викентию причины происходящего, произнёс Ломоносов. — Как у вас в академии всяк в свой класс определён, я — в физический, Миллер — в исторический и так далее, так и Сазанов по законам торгашеского класса живёт. За лишний кусок для своего брюха отца родного не помилует.
Сказав это, Ломоносов совсем погрустнел. Так радел за развитие своего, русского стекольного дела, так хотел России независимости от заграничных поделок. Где мог, говорил о том, подчёркивал, убеждал. Даже распорядился выгравировать на своей посуде «С российских стекольных заводов». И вот не принимают его изделий! Видимо, есть какая-то легкодумность национального сознания россиян, недопонимание, что своё, родное нужно отстаивать и в большом, государственном, и в малом, бытовом. От Орды национальное кровью отстояли, чуждое сбросили, мощь свою ощутили — и всё! Уже едва ли не забыли, что она, мощь, не безмерна, что, если русское не беречь, оно растворится, рассеется в наносном, мишурном, чуждом.
Однако всё это не снимало с Ломоносова денежных забот и растущего долга по взятым ссудам. Их надо возвращать, а доходов от фабрики нет, один убытки. Траты росли. Бухгалтерская книга наводила уныние: «Капиталу на все строения, на материалы и инструменты, на содержание и обучение мастеровых людей деньгами и провиантом изошло с лишком семь тысяч рублёв». Сделал ту запись, потом долго ходил взад и вперёд по комнате, морща лоб и вздыхая: «Что же. Выход один. Надо добиваться казённых заказов и делать больше мозаики. На неё спрос выше».
Заложил несколько портретов: матери наследника, Анны Петровны — сестры Елизаветы, графа Петра Шувалова, а потом наиболее внимательно стал обдумывать эскизы ликов Елизаветы и её отца, Петра I. От тех картин не только удовлетворение, но и денежные поступления предвиделись несомненно.
Когда расположил мозаичную мастерскую на Мойке, стало полегче. Успевал и в академии с делами справляться, и над мозаиками сидеть. Правой рукой в том деле стал Игнат Петров. Переехал из Рудицы, поселился в доме Ломоносова и всё время посвящал рисованию.
— Как же будем Петра Ивановича Шувалова складывать? — спрашивал он у Ломоносова. — Его же надо в позу ставить. Придёт ли сюда и будет ли позировать?
— Не придёт. Это не Иван Иванович, надобно к нему ходить.
— Как же это? Со станком и мешком мозаики, что ли? Неудобно.
— Придётся тебе, Игнат, с красками за ним бегать. Эскизы делать, а уж потом, в них глядючи, подбирать мозаику.
Так и складывали портреты. А образ Петра Великого делали, собирая эскизы с разных зарисовок покойного царя. Даже в Кунсткамеру ходили и писали натуру с восковой фигуры, коя, как утверждали, весьма схожа была с великим царём.
Картины те понравились, вызвали интерес и разговоры. Михайла Васильевич представил их на освидетельствование в Академию художеств. Всё же это не наука, и потому желалось мнения истинных живописцев.
В письменном отзыве Академии художеств указывалось: «С удивлением признавать должно, что первые опыты такой мозаики... в такое малое время столь далеко заведены, то Российскую империю поздравляем». И далее: «...сие благородное художество изобретено и уже столь далеко произошло, как в самом Риме...»
Видя такие успехи и благосклонность двора, Сенат распорядился определить указом: «Канцелярии от строений приобретать для убрания» декоративные и прочие изделия Усть-Рудицкой фабрики. Богатства все те действия Ломоносову не принесли, но оказали возможность время от времени вылезать из долгов и новое для России стекольное дело поддерживать и к жизни направлять.
Московский университет, возникший иждивением мысли Ломоносова, отныне стал жить собственной жизнью, будто выбившийся из истока ручей, который по мере течения вбирает в себя вливающиеся в него ручейки и речки, набирает силу и превращается в полноводную могучую реку. И университету для поддержания его будущей жизни сразу были приданы начальные притоки — открыты две гимназии, в Москве и Казани, со специальным указанием их задачи — служить питомником для университетских слушателей. Так что жалоб на отсутствие грамотных студентов и нужды выписывать их из-за границы в Москве не предвиделось. И что важно: преподавание наук признано было в университете самодовлеющей целью, а не малой частью дел, как при учреждении Петербургской академии наук.
Но большинство профессоров всё же из-за границы пригласили, сначала шестерых, а потом ещё двоих. Из Вены, Гёттингена, Тюбингена и Штутгарта. Оттого снова много трудностей возникло. Так, каждый профессор обязывался читать лекции на двух языках: на латинском и русском, а русского они пока не знали. Но то, что обязывался профессор по-русски читать, а не исхитрялся то делать в виде крамольного исключения, было большой победой, и не кого иного, как Ломоносова, — это он первый сделал...
— Ну и как? — весело спрашивал Ломоносов прибывшего в Петербург на летние вакации Поповского. Тот обзавёлся долгополым сюртуком, выложив в отворотах его воланы кружевной рубашки, из рукавов выглядывали тоже кружевные манжеты, а бант чёрного галстука оттенял молодое, но бледное лицо с тёмными пышными волосами. — Герр профессор! — нарочито восхищённо прищёлкнул языком Михайла Васильевич. — Франт, франт! — Но сказал то не осуждающе и не в укор, вспомнив, как сам в молодости, будучи в Германии, старался ради пары приличных башмаков. — Так что там у вас в Москве?
— Приступили, — отвечал Николай. — Обставляемся. Набрали и студентов. Все профессоры читают лекции по пять раз в неделю, и я тоже. Не скажу, чтобы сие просто было.
— Вижу, физиономия вытянулась. Но ничего, ничего, я и поболее раз читал, хотя то уже явно чересчур — дело страдает.
— Профессоров подобрали неплохих, — продолжал Поповский. — Заметен Шаден[160], хвалят его. Сей учёный муж имеет отменное дарование преподавать лекции и внятно всё излагать.
— Ишь ты. А на каком языке?
— Пока всё больше по-латыни изложение ведут. Русский только постигают. И потому вот у меня ученик появился, профессор Дильтей[161]. — Поповский улыбнулся. — Старше меня годов на десять, но учится примерно. Русский ему даётся приемлемо, и он уже неплохо говорит.
Ломоносов понимающе кивнул и стал слушать дальше.
— Объявлено разрешение принимать в университет людей всех свободных сословий, вольноотпущенников тоже. Бедным обещано казённое пособие. А от полицейских и воинских повинностей мы все освобождены. — Сказал это Поповский и вздрогнул, вспомнил о Харизо-месосе и замолк, вопросительно глядя на Ломоносова и спросить об Иване желая и не решаясь.
— Ну, — подтолкнул его Михаила Васильевич. — Чего замолк?
— Об Иване хотел бы узнать...
Добро улыбнувшись, Ломоносов кивнул и похвалил:
— Не забыл своих, ходючи в профессорах, не зазнался. Хорошо. А Иван не пропал, нет. Дошёл я таки до Шувалова, хотел Ивана освободить, да Шувалов меня убедил: не надо делать этого! — Ломоносов развёл руками, сам и удивляясь тому, как это произошло, и одобряя это в то же время.
— Как же так?! — даже лицом переменившись, воскликнул Николай.
— А так. Шувалову давно доносили, что гаубиц понаделали, а стрелять некому. И обучить той стрельбе тоже. Я ему об Иване, a он возьми да и вспомни, что Иван-то как раз и налаживал прицеливание тех гаубиц.
— Так Иван теперь насовсем в солдатах и остался? — разочарованно и осуждающе спросил Поповский.
— Почему же в солдатах? — Ломоносов качнул головой. — Офицером стал. Произвели его указом, да не как-нибудь — сразу в поручики; многих дворян обошёл. Теперь есть кому обустроить те пушки в русской армии.
Ломоносов говорил удовлетворённо. Так случилось, что не было счастья, да несчастье помогло. Хоть и не служил он по военному ведомству сам, но душою россиянина и патриота увидел и почувствовал, как нужна новая, грамотная струя русской армии. Потому резонам Шувалова внял сразу, а потом убедил и Ивана примениться, понять нужду государства и окунуться в новое дело.
— Теперь о гимназиях расскажи. Ты бывал в них? Что там? — Объяснив про Ивана, снова начал пытать Поповского Ломоносов, будто о собственном предприятии выспрашивал, словно сам преподавать в тех гимназиях непременно намеревался.
— Хаживал в Московскую. В Казани на будущий год указано побывать.
— И что видел?
— Много видел. — Поповский несколько смущённо посмотрел на Михаилу Васильевича, ибо заранее знал, как он к его разъяснениям отнесётся. — Два отделения в гимназии учредили. Дворянское и разночинное.
— От как! — замотал головой Ломоносов, будто стряхивая с себя какую-то докуку. — И чем они отличаются?
— Да уж отличаются, — ответил Поповский. — И по-моему, в разночинном деле больше. У дворян курсы в полном объёме проходить необязательно и выбирать их можно. А казённокоштным гимназистам из разных чинов — обучение обязательное, как в «латинской» школе. Личным запросам их не внимают.
— И так действительно лучше! — утвердил Ломоносов.
— И ещё то сделано, что дворянам один язык иностранный обязательно предписан, а разночинцам — два.
— И это, думаю, неплохо, — снова подтвердил Михайла Васильевич.
— Но вот содержание им положено разное, — подпортил его удовлетворение Поповский и стал обстоятельно перечислять: — Прилежному гимназисту из дворян выдают пятьдесят рублей в год, а разночинному — тридцать. Дворянам в харч кладут полтора фунта мяса в неделю, а разночинцу — фунт. И кашу маслят по-разному: дворянам маковым маслом, а разночинцам — конопляным.
— Ты гляди, — не столько удивляясь, сколько сравнивая с тем, что было в его времена, вставил Ломоносов.
— И золотая медаль за успехи разночинцам не положена, только серебряная. А за провинности, — здесь Поповский заулыбался чуть сконфуженно, будто готовился сказать скабрёзное, — а за провинности и предерзости дворян положено бить линейкой по штанам, а подлых разночинцев — по голым телесам розгами сечь.
— Что ж, — качнув головой, но особо-то уж и не возмущаясь, оценил сие Ломоносов, — за науку и пострадать можно. В моё время простой люд от наук держали дальше, а секли пуще. — Помолчал и опять заулыбался: — Но всем тем и университетом и гимназиями следует нам довольными быть. Всё же дверь в науку ныне приоткрыта. А ранее была заперта, лишь с великим трудом, через щёлочки пролезали. Желаю долгой жизни университету!
Всё, что удавалось Ломоносову в академии, всегда шло только через его великие усилия в противоборстве с немецкой профессурой. Ничего в академии по шерсти не проходило, только против. Но в Московском университете сразу пошло иначе. Когда при университете была создана типография, профессор Поповский сразу проявил инициативу: издать собрание сочинений Ломоносова.
Типографию расположили в подвале, но окна расширили и соорудили перед ними смотровые ямы. Нужное сделали, но не всё рассчитали, и оттого порою случался грех. Однажды Поповский с оттиском одного из листов спустился в типографию. Прошёл полутёмными ступенями, открыл дверь, но наборщиков, Павла Золотухина и его учеников, сначала не углядел.
В те дни в Москве дождило, лило как из ведра, хотя было ещё лето. Поповский не раз уже слышал, что в смотровые ямы вода натекает, из них — в типографию, а здесь увидел прямо-таки морской аврал. За окнами в яме, по колено в воде, стоял молодой наборщик. Золотухин со вторым помощником опускал ему вёдра; стоящий в яме зачерпывал их и подавал наверх.
— С Красной площади течёт, — разъяснил Золотухин, закончив работу. — Обводную канаву не сделали, вот маемся.
Задумал Поповский снабдить сборник сочинений портретом Михаилы Васильевича. Давно его занимало, отчего Ломоносов, сам большой любитель всяких художеств, не позирует и портрета его до сего времени никто не сделал. Ещё будучи в Петербурге, спросил об этом. Посмотрел на него Ломоносов серьёзно, но ответил шутливо:
— Што я, персона какая, чтобы с меня портреты писать?
Потом всё же, в том решении не упорствуя, сам договорился с заезжим гравёром Фессаром[162] о портрете во весь рост. И наказал обязательно отличить род своих занятий, соответственно подобрав предметы. Надо сказать, что до того все вельможи на портретах обязательно требовали себя в латах, плаще, при мече и прочих воинских атрибутах, а ежели в цивильном, то в лентах и орденах, порой им даже не принадлежащих, Всю сию вычурность Ломоносов отверг и потребовал нарисовать натуру, какая она есть: себя за столом, с гусиным пером в руке, на столе бумага, чернильница, циркуль, транспортир и глобус. Сзади шкаф с книгами и химической посудой.
Позировал Михаила Васильевич Фессару неохотно:
— Ты абрис фигуры набросай для себя, а рисунок лика моего кто-нибудь из подмастерьев сделает. Вот хоша бы Матвей. Очень бодро копирует. Матвей! — позвал Ломоносов.
Дело происходило в мастерской. Матвей оторвался от мозаики и подошёл, поправляя волосы, прихваченные кожаной завязкой. Именитый, в летах уже Фессар и молодой Матвей Васильев посмотрели друг на друга с ревнивым любопытством. Михайла Васильевич этот молчаливый диалог сразу понял и, лукаво улыбаясь, помог размежеваться.
— Господин Фессар в гравюрах на меди отменного мастерства достиг. А это — Матвей Васильев, он мастер мозаики, но углём и карандашом тоже восхитительно рисует.
Фессар снисходительно наклонил голову, Матвей поклонился.
— Вот, Матвеюшка, сделай для господина Фессара мой карандашный портрет, дабы он его на гравюру перенёс. Времени у меня нет позировать, а ты свой, ты и на ходу сделаешь.
Матвей ещё поклонился и сказал:
— Сделаю! — А сказав так, не помянул того, что он уже не раз на листах бумаги набрасывал своего учителя в разных ракурсах. Не сказал, потому как Михайла Васильевич всегда требовал сосредоточения: делаешь образ Елизаветы — только о нём и думай, не отвлекайся. Ныне ликом Петра I занят — его и воображай, и никого более. Но как раз кипучая натура Ломоносова, его лицо и поступки и помогали Матвею вживаться в образ столь же страстного императора.
Фессар вскоре получил лист с портретом. Ломоносов, посмотрев на него, только хмыкнул и с ещё большим вниманием стал относиться к Васильеву. Поощрил и денежно — стал тот получать от Ломоносова уже сто пятьдесят рублей в год; деньги для мастерового по тем временам великие.
Гравюра вскоре была готова, и на ней всё было, как ранее и полагалось, кроме пейзажа за окном. Там Фессар изобразил бурное море, несущиеся облака над мачтами штормующих кораблей. И это весьма не понравилось Ломоносову.
— Правды нет! Я хотя и у моря живу, но не мореплаватель и с ним не связан. Фон за окном надо изменить! Пусть там будут строения моей фабрики.
В том исправленном виде гравюра и пошла в первое собрание сочинений Ломоносова, изданное Московским университетом. И это сочинение было первой большой работой университетской типографии, Поповский то дело начал, но до конца, увы, не довёл: скосила его болезнь. И когда Ломоносову доставили в Петербург готовый том сочинений в кожаном тиснёном переплёте, Поповского уже не было в живых. Ломоносов с грустью гладил красиво отпечатанную книгу и читал сделанное Поповским стихотворное посвящение ему, Ломоносову:
...Что чистый слог стихов и прозы ввёл в России, Что в Риме Цицерон и что Вергилий был, То он один в своём понятии вместил.А дальше прочитал такое, к чему совсем уж не привык, хотя сам-то других возвеличивал неоднократно:
Открыл натуры храм богатым словом Россов, Пример их остроты в науках — Ломоносов!И то звучит не о других, а о нём! Лестно, лестно! И особо ему было приятно, что вышло то не откуда-либо, а из взлелеянного им в мечтах и воплощённого в явь Московского университета.
В смущении качал головой Михаила Васильевич и, вероятно, если бы жив был Поповский, распёк бы того. А тут долго сидел молча, иногда переворачивая большие, инкварто, листы и грустно думал, что его ученик сделал ему достойный подарок, но ушёл безвременно. И оттого ещё больше желал другим своим ученикам долгой и плодотворной жизни, а Московскому университету — процветания.
Нет сомнения — радея об университете, Ломоносов знал, что сеет будущее. Каждый сеет будущее, с той лишь разницей, что великие люди своими деяниями на то будущее не просто влияют, но созидают его величие. Кусочек своей души отдал Ломоносов великой московской земле, которая сама искони олицетворяла и питала душу России. Потому этот щедрый дар, растворившись в той безбрежной русской душе, оплодотворил её научным семенем, и, словно зажигательной электрической искрой, воспламенил и толкнул Москву к дотоле и от века не бывшему в ней учёному подвигу.
Быстро мчалась жизнь гения в лоне неспешного бытия породившего его народа. А народу подгонять свою жизнь было незачем, ибо ему ещё многих гениев породить предстояло. И уж они, сверкнув быстрой молнией, тою жизненной вспышкою озарят и возвеличат славу своего народа.
ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ Документы. Мемуары. Литературные памятники
В НАЧАЛЕ ВЕКА
Характерные черты русской культуры первой половины XVIII века во многом объясняются реформаторской деятельностью Петра Великого. Как и другие отрасли хозяйственной, политической и общественной жизни, историко-культурный процесс проходил под знаком необходимости преодоления отсталости страны от передовых государств мира.
Дальнейшее успешное развитие страны было невозможно без распространения светских знаний, образования, науки. Используя ранее накопленные в стране традиции и опыт европейских стран, русское абсолютистское государство провело ряд реформ в области науки, образования, быта. Переход от средневекового, религиозного мировоззрения к рационалистическому, светскому — наиболее характерная черта этих реформ.
Обучение детей грамоте и подготовка знающих людей целиком и полностью до начала XVIII века находились в руках церковников. Светский характер образования, соединение обучения с практикой коренным образом отличали школу послепетровских реформ от прежней, где царила средневековая схоластика. М. В. Ломоносов с сарказмом справедливо замечал, что по псалтыри нельзя научиться астрономии или химии.
Одним из путей подготовки столь необходимых стране специалистов была посылка русских молодых людей на учёбу за границу. В 1697 году в Италию и Далмацию (39 человек), в Англию и Голландию (22 человека) отправились первые две группы волонтёров «для научения морского дела». Лучшие из них должны были освоить строительство кораблей. Каждому из отправленных на учёбу предписывалось завербовать за рубежом по два человека «искусных мастеров морского дела» для службы в России. В условиях, когда обученных людей не хватало, в страну приглашались иностранные специалисты, которым вменялось в обязанность обучать своему ремеслу русских людей. Однако эти шаги не могли обеспечить страну квалифицированными кадрами. Нужно было создавать свою собственную светскую школу.
Важнейшим направлением в деле становления светского образования в стране была организация новых собственных учебных заведений, которые давали своим ученикам необходимые практические знания. В 1701 году в Москве в здании бывшей Сухаревой башни (находилась на нынешней Колхозной площади, названа в честь стрелецкого полковника Л. Сухарева, охранявшего стоявшие там Сретенские ворота Земляного города) была основана Школа математических и навигацких наук, а на территории Пушечного двора (примерно там, где сейчас магазин «Детский мир») — Пушкарская (артиллерийская) школа. Позднее, в 1707 году, открылись Медицинское училище, в 1712 году— Инженерная школа в Москве и Хирургическая школа в Петербурге (1716 г.). По указу 1714 года были открыты 42 цифирные школы для обучения «молодых ребяток» от 10 до 15 лет. По инициативе В. Н. Татищева на Урале были в 1721 году созданы Горные школы. Делались попытки организовать ученичество в школах при верфях, при Посольском приказе, при Канцелярии от строений, руководившей строительством в городах, в частной гимназии (пастор Глюк) или школе (Феофан Прокопович).
В 1715 году старшие классы Навигацкой школы были переведены из Москвы в Петербург, они полошили начало Академии Морской гвардии (ныне Высшая военно-морская академия в Ленинграде). С 1722 года в Петербурге открылись Артиллерийская и Инженерная школы, для которых Пушкарская школа в Москве стала своеобразным подготовительным классом.
Одним из важнейших центров подготовки кадров для отечественной науки и образования стала Петербургская Академия наук, открывшаяся в 1725 году. В состав Академии входили университет и гимназия. Как видим, система светского образования в России складывалась при Петре I без специального плана, как ответ на конкретные потребности страны. Цельной системы школьного образования так и не было создано.
В условиях военного времени (Северная война и др.), реформ государственного аппарата, строительства мануфактур, улучшения путей сообщения и т. п. потребность в обученных специалистах была значительной. В первые петровские школы набирали «ребяток всякого рода, опричь (кроме) помещичьих крестьян». Со второй четверти право на образование становится одной из привилегий господствующего класса. Правительство пошло но пути создания замкнутых сословных учебных заведений.
В 1731 году в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский кадетский корпус, где обучались лишь дети дворян. На базе Морской академии был образован Морской корпус (1752 г.); сословный характер обрели Артиллерийская и Инженерная школы (1758 г.) в Петербурге. Подготовка дворян к службе при дворе велась в Пажеском корпусе. Для обучения дворянских дочерей в 1764 году был открыт Смольный институт благородных девиц. Дворянские дети получали образование через домашнее частное обучение. К концу века в стране имелось более 60 учебных заведений для дворян, где обучалось около 4,5 тысячи дворянских недорослей.
В 1744 году цифирные школы были слиты с гарнизонными и получили название солдатских школ, где готовили унтер-офицерский (сержантский) состав для армии. Дети духовенства учились в духовных семинариях и академиях, их было 66 с числом учащихся более 20 тысяч человек. Дети купцов, разночинцев, горожан получали образование в медицинских, горных, коммерческих школах, Академии художеств и т. п. Здесь обучалось около 1,5 тысячи человек. К концу XVIII века, таким образом, в стране училось лишь два человека из тысячи.
В этом плане своеобразным прорывом в цепи сословного образования в России было открытие в 1755 году Московского университета.
Огромные сдвиги в начале XVIII века происходят в области русской науки. Научные знания имели определённое, хотя и не такое широкое, как в передовых странах Европы, распространение в стране и до петровских времён. Дальнейшее развитие науки задерживалось как отсутствием необходимых специалистов, так и отсутствием специальных научных центров.
Важнейшим результатом деятельности Петра I в области науки было открытие в 1725 году Петербургской Академии наук, указ о создании которой был подписан годом ранее. Академия наук стала основой той материально-технической, научно-исследовательской и научно-педагогической базы, которая возглавила организацию науки в стране.
Собственных кадров учёных в России было явно недостаточно. На первых порах в Академию приглашались иностранные специалисты. Среди «самых лутчих учёных людей», приглашённых в страну, были выдающиеся специалисты: крупнейший математик XVIII века Л. Эйлер, основатель гидродинамики Д. Бернулли, знаменитый естествоиспытатель, один из основоположников эволюционной биологии — К. Вольф и другие. Однако рядом с ними зачастую оказывались иностранцы-авантюристы, мало имевшие отношения к науке.
Петербургская Академия наук создавалась не только как ведущий научный центр страны, по и как высшее учебное заведение. При ней были открыты Академический университет и гимназия. Несмотря на значительные сложности в работе, именно Академия наук помогла подготовить такого гиганта науки, как М. В. Ломоносов.
Петербургская Академия наук была государственным учреждением, тогда как ряд европейских академий были добровольными обществами учёных. Она имела твёрдый бюджет. Первым её президентом был сын лейб-медика императора Петра I — Л. Блюментрост. Вскоре значительную роль в Академии наук стали играть расторопный делец и авантюрист И. Д. Шумахер и его зять И. И. Тауберт, около 35 лет возглавлявшие академическую канцелярию. Борьба М. В. Ломоносова за развитие национальной науки против «шумахерщины», олицетворявшей собой выдвижение на первый план личного интереса, а не интересов России, составляет важный этап в биографии великого русского учёного. С приходом в Академию наук М. В. Ломоносова наблюдается приток национальных русских кадров учёных.
Научные исследования в Петербургской Академии наук велись как над фундаментальными, так и практическими проблемами. Они были обусловлены прежде всего конкретными задачами развития страны.
Одним из таких направлений было изучение и описание населения, природы, климата страны и её картографирование. Многочисленные экспедиции обследовали берега Северного Ледовитого океана, Тихоокеанское побережье страны, территорию Сибири, Камчатки, Прикаспия и т. д. (В. Беринг и А. Чириков, Д. и X. Лаптевы, С. Малыгин, С. Крашенинников). В середине XVIII века И. К. Кирилловым был подготовлен «Атлас Российский» (1745 г.). В то время лишь Франция имела атлас, подобный кирилловскому. Велось также геологическое обследование территории страны.
Крупные работы по математике были выполнены Л. Эйлером. Только в изданиях Петербургской Академии наук он опубликовал свыше 460 работ, в том числе и учебники. Его учениками были замечательные русские учёные С. К. Котельников, С. Я. Румовский, М. Е. Головин и др.
В области техники работали известные специалисты горного дела В. И. Геннин и В. И. Татищев, военного дела — Я. Брюс, механик, «токарь Петра I» А. К. Мартов, строитель Вышневолоцкого канала М. И. Сердюков, математик Л. Ф. Магницкий и др. П. В. Постников был первым русским доктором медицины.
В области гуманитарного знания следует отметить развитие русской общественно-политической мысли. В центре её внимания находились проблемы преодоления отсталости страны, идейная борьба вокруг петровских преобразований. Пётр I и его сподвижники — Феофан Прокопович, П. П. Шафиров с рационалистических позиций «общего блага», которое выступало в образе монарха, который правит в интересах страны и её подданных, доказывали в своих сочинениях необходимость реформ и абсолютистского правления. Например, Феофан Прокопович последовательно проводил мысль о том, что «русский народ таков есть от природы своей, что только самодержавным владельством храним может быть». П. П. Шафиров в «Рассуждении о причинах Свейской войны» доказывал необходимость борьбы за Балтику, землю «отчич и дедич» русских людей.
А. И. Манкиев создал «Ядро российской истории» (как и сочинение П. П. Шафирова, опубликовано уже во второй половине XVIII века). Начало русской исторической науки положили труды В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова, основанные на критическом изучении источников. Горячим поборником развития русской промышленности и торговли выступал И. Т. Посошков, которого иногда называют первым русским экономистом.
Успехи русской науки и просвещения в первой половине XVIII столетия не могут быть до конца поняты, если не сказать о тех переменах, которые в результате Петровских реформ произошли в области быта, нравов, в организации новых учреждений культуры.
Первая печатная газета «Ведомости», продававшаяся всем желающим, сообщала сведения о жизни страны, политические и придворные новости из-за рубежа. Правда, сейчас размер газеты вызовет улыбку — была она величиной примерно с почтовую открытку. Невелик был её тираж: от нескольких десятков у отдельных номеров до нескольких тысяч экземпляров.
В начале XVIII века были созданы первые в стране естественно-исторический музей — Кунсткамера (1719 г.) и Библиотека (1714 г.), впоследствии вошедшие в состав Петербургской Академии наук.
Значительные изменения произошли в облике русских городов, быте и правах общества. Пётр I со свойственным ему нетерпением собственноручно начал обрезать длинные рукава и полы одежды пришедших его приветствовать бояр в связи с возвращением из Великого посольства в Европу (1697—1698 гг.).
Было предписано специальным указом сменить длиннополую русскую одежду на платья иноземного покроя по венгерскому, немецкому, саксонскому и французскому образцам. Приказывалось коротко остричь волосы и брить лицо всем мужчинам, исключая крестьян и духовенство. Разрешалось курение, ранее расценивавшееся «Соборным Уложением» 1649 года как уголовное преступление. Местом встреч и развлечений стали ассамблеи (собрания), куда приходили как мужчины, так и женщины. С немецкого языка было переведено специальное руководство о правилах хорошего топа и поведения в обществе «Юности честное зерцало», дополненное собственноручно Петром I. Начали проводить светские общественные праздники в связи с крупными историческими и культурными событиями. Строительство триумфальных арок, организация фейерверков, массовых народных гуляний сопровождали празднование побед в войнах, смотры армии и флота, коронационные торжества и т. п.
Правда, следует отметить, что мероприятия по «европеизации» России особенно в быту, нравах, обычаях высшего дворянства в середине — второй половине XVIII века принимают форму слепого копирования, подражания и низкопоклонства перед Западом.
В подборке документов нашли отражение наиболее заметные явления русского Просвещения и науки первой половины XVIII века.
Указ о праздновании Нового года предписывает перейти на новое летосчисление от так называемого Рождества Христова. Этот порядок был принят во всех европейских странах. Следует отметить, что до 1700 года в России новый год начинался с 1 сентября и счёт годам вёлся от сотворения мира, которое якобы было за 5508 лет до появления Христа. (Отсюда 1700 год по старому календарю должен быть 7208 от сотворения мира).
Переход к новому летосчислению произошёл на основе юлианского календаря (старый стиль), в то время как в большинстве стран Западной Европы уже использовали григорианский календарь (новый стиль). Вот почему образовалась разница в 11 дней для XVIII века (соответственно в 12 и 13 для XIX и XX столетий) между новым и старым стилями исчисления времени. На григорианский календарь наша страна перешла после Октября 1917 года в соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 февраля 1918 г. Старый юлианский календарь сохранился только в русской и других православных церквах.
Витиеватый и сложный по начертанию церковнославянский шрифт начиная с 1708 года заменился новым, гражданским шрифтом. Это делало книги более доступными для чтения, с одной стороны, а с другой — как бы демонстрировало светский характер науки и просвещения. Пётр I своеручно отобрал рисунки букв и требовательно относился к качеству печатных изданий. Книга стала меньше по формату, более компактной, упростилась графика письма, сократилось число букв. Новое содержание книг требовало и нового их оформления. Публикуемые документы дают представление о характере этой реформы Петра I.
Выше уже говорилось об особенностях созданной Петром Великим Петербургской Академии наук, ставшей основополагающим научным центром страны. Желание поставить науку на службу отечеству ярко просматривается в указе об основании Академии. Уважительное отношение к знанию и учёным, стремление воспитать свои собственные национальные научные кадры, развить исследовательскую работу, публикаторскую деятельность, пропаганду знаний, понимание возрастающей роли науки в обществе — вот далеко не полный перечень мер, заложенных Петром I в основание организации отечественной науки.
О подготовке кадров специалистов, роли иностранных учёных в становлении науки в нашей стране в начале века, распространении просвещения свидетельствуют отрывки из сочинений И. И. Неплюева, М. В. Данилова, В. Н. Татищева.
«Юности честное зерцало» впервые было издано в Петербурге в 1717 году. В течение последующих шести лет оно выходило ещё трижды. Как видим, книга имела широкое хождение в среде дворянства и пользовалась большой популярностью. Она содержит как правила хорошего тона, свойственные тому времени, так и является прагматическим руководством поведения в обществе. Публикуемое с сокращениями «Юности честное зерцало» — яркий документ, в котором отчётливо прослеживается классовый характер петровских преобразований даже в таких сферах жизни, как быт и нравы.
И. И. Неплюев (1693—1773) принадлежал к младшему поколению «птенцов гнезда Петрова». Оставленные им в конце жизни мемуары (в форме дневника) рассказывают о многих интересных событиях и чертах жизни России в 1700—1760 годы. Здесь приводятся те страницы из них, где идут записи бывшего ученика русских и зарубежных учебных заведений, по окончании которых ему пришлось держать экзамен перед самим Петром I. История ранних лет жизни Неплюева была в общем схожа с судьбами многих его современников. Их мы видим среди товарищей Неплюева по учёбе, его спутников в далёких странствиях и среди тех, кого он случайно встречает в разных европейских городах. Эти разбросанные в записках упоминания о встречах с соотечественниками вдали от родины хорошо иллюстрируют тот размах, с которым велась при Петре I подготовка русских специалистов по разным отраслям знаний.
После описанного здесь экзамена И. И. Неплюев был назначен главным командиром над строящимися в Петербурге судами. Однако в дальнейшем его карьера была связана не с морской и даже не с военной службой. В 1721—1734 годы он был русским посланником в Константинополе, в 1742—1758 годы, — оренбургским губернатором, а с 1760 года — сенатором.
Михаил Васильевич Данилов (1722 — после 1790) происходил из небогатой дворянской семьи, большую часть жизни прослужил в артиллерии, где занимался подготовкой кадров артиллеристов, созданием новых видов артиллерийского вооружения, устройством праздничных фейерверков. В конце службы и выйдя в отставку, издал несколько своих книг: «Начальное знание теории и практики в артиллерии...» (1762), учебное пособие по изготовлению фейерверков (1770), письма-рассуждения о «любопытства достойных материях» (1783). Но самым интересным его произведением стали мемуары — «Записки», впервые напечатанные только в 1842 году. Из них приводятся те страницы, где говорится о состоянии домашнего образования и специальных учебных заведений в России во второй четверти XVIII века, после петровских реформ. Перед нами, конечно, картина, относящаяся к вполне определённой социальной среде — мелкому и среднему дворянству и чиновничеству.
Даниловым ярко выведены типы провинциальных и столичных Митрофанушек, которые, кажется, как бы предвосхищают образы бессмертной комедии Д. И. Фонвизина. Воспоминания М. В. Данилова прекрасно иллюстрируют отдельные положения «Разговора двух приятелей...» В. Н. Татищева о состоянии образования в России послепетровского времени.
Василий Никитич Татищев (1686—1750) является одним из выдающихся представителей русской культуры первой половины XVIII века. Историк, географ, экономист, философ, этнограф, лингвист, он в своих трудах охватил практически все области общественно-политических знаний своего времени. Если учесть, что В. Н. Татищев был видным государственным деятелем, артиллеристом, инженером, организатором горно-металлургической промышленности, то перед нами предстаёт фигура человека, исключительно одарённого и энциклопедически образованного.
Вместе с Феофаном Прокоповичем и Антиохом Кантемиром Татищев входил в «учёную дружину» — кружок предтеч расцвета русского Просвещения, наступившего во второй половине столетия. Их объединяли вражда к суевериям и религиозному ханжеству, любовь к науке и искусствам, борьба за развитие образования в России. При этом они оставались выразителями интересов дворянства, сторонниками самодержавия. Крепостной строй в России ещё не вступал в стадию разложения, и передовая общественная мысль не подвергла сомнению его экономические и политические устои.
«Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» представляет собой свод русской политической, философской, педагогической мысли первых десятилетий XVIII века и очерк истории науки, образования в России на фоне мирового культурного процесса. Написано это произведение в 1730-е годы. Поводом к его созданию явились острые идеологические споры о судьбах петровского наследия в жизни и дальнейшем развитии страны.
Чехарда на престоле, олигархические «затейки» родовой и новой знати засилье иноземцев при дворе — всё это неблагоприятно сказывалось на русской культуре конца 20-х — 30-х годов XVIII века. Лишившись поддержки в лице энергичного царя-преобразователя, каким был Пётр I, сторонники его реформ, в том числе в области культуры, отнюдь не сложили оружия и сами повели активную идейную борьбу. В ней они стремились опереться на основную массу консолидировавшегося в единый класс-сословие дворянства (или, как его тогда шпыняли, — шляхетства). Именно к передовой для того времени, патриотически настроенной части дворян обращён «Разговор» В. Н. Татищева При всей классовой ограниченности борьба, которую вели он и его соратники, имела прогрессивное общенациональное значение, так как в конечном счёте способствовала складыванию предпосылок для распространения просвещения, для появления более демократичных по своему социальному составу и убеждениям образованных людей, ярчайшим представителем которых стал М. В. Ломоносов.
«Разговор» написан в форме диалога двух собеседников, один из которых задаёт вопросы, а другой отвечает на них. В этих ответах и содержится изложение взглядов и мыслей В. Н. Татищева. Из обширного текста сочинения выбраны прежде всего те части, в которых показаны история и состояние учебных заведений России, распространённые в то время мнения о роли науки и культуры в обществе, о проблемах образования и воспитания.
Как и все основные произведения В. Н. Татищева, «Разговор дву приятелей...» не был напечатан при его жизни. В 1773 году русский просветитель Н. И. Новиков сообщил о намерении издать это произведение, но не смог осуществить его. Лишь в 1887 году, полтора века спустя после написания, «Разговор» был опубликован. А до того татищевское произведение распространялось в списках. Известны рукописи этого сочинения, принадлежавшие как представителям столичной знати, так и рядовым провинциальным дворянам и чиновникам XVIII века.
О ВВЕДЕНИИ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ[163]
1736, декабря 20. Указ о праздновании Новаго года
Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не только, что во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею церковью во всём согласны, как: волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от рождества Христова осьм дней спустя, то есть генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую разнь и считание в тех летах, и ныне от рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно и новый столетный век[164], и для того доброго и полезного дела указал великий государь впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания и нового столетного века в царствующем граде Москве, после должного благодарения к богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому своём, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе[165], и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно; а людей скудным каждому хотя по древцу, или ветьве на вороты, или над храминою своею поставить; и то б то поспело, ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7-й день того ж 1700 года. Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам боярам и окольничим и думным и ближним и знатным людям палатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своём дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из несколько мушкетов или иного мелкого ружья учинить троежды стрельбу и выпустить несколько ранетов, сколько у кого случится, улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров или хворосту или соломы, а где мелкие дворы, собрав пять или шесть дворов, такой огонь класть или, кто похочет, на столбиках ставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя и худыя бочки, и наполни соломою или хворостом, зажигать, а перед Бурмистерскою Ратушею[166] стрельбе и таким огням и украшению по их разсмотрению быть же.
ВВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ШРИФТА В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА
1710, января 29. Указ о гражданской азбуке[167]
Сими литеры[168] печатать исторические и манифактурные книги[169]. А которые подчернены[170], тех в вышеописанных книгах не употреблять.
В тетради сей правление и подписание собственный руки его царского пресветлого величества. Прислан через секретаря Алексея Васильевича Макарова[171].
ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК
1724, генваря 28. Указ об учреждении Академии[172]
Е. и. в. указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги. А генваря 22 дня, е. и. в., будучи в Зимнем доме и слушав о сочинении той Академии проэкта, на котором собственною своею рукою подписать изволил тако: на содержание оных определить доходы, которые сбираются с городов: Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга таможенных и лицентных[173] 24 912 рублей; и по тому е. и. в. указу Правительствующий Сенат приказали: оные доходы собирая, содержать в рентереи[174], из которых отпускать в тое Академию по указам из Сената. А кроме того, ни на какие расходы не употреблять. И о том в Камер-коллегию и в Штатс-контору указы посланы.
Проэкт учреждения Академии с назначением на содержание оной доходов:
К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания: первой образ называется Университет; второй — Академия или социетет художеств и наук.
§ 1. Университет есть собрание учёных людей, которые наукам высоким, яко феологии[175] и юриспруденции (прав искусству), медицины и философии, сиречь до какого состояния оные дошли, младых людей обучают; Академия же есть собрание учёных и искусных людей, которые не токмо сии науки в своём роде в том градусе[176], в котором оные обретаются, знают, но и через новые инвенты (издания) оные совершить и умножить тщатся, а о обучении прочих никакого попечения не имеют.
§ 2. Хотя Академия из тех же наук и тако из тех же членов состоит, из которых и университет, однако ж де обои сии здания в иных государствах для множества учёных людей, из которых разные собрания сочинить можно, никакого сообщения между собою не имеют, дабы Академия, которая токмо о приведении художеств и наук в лучшее состояние старается учением в спекуляциях (размышлениях) и розысканиях своих, от чего как профессоры в университетах, так и студенты пользу имеют, помешательства не имела, а университет некоторыми остроумными розысканиями и спекуляциями от обучения не отведён был, и тако младые люди оставлены были.
§ 3. Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому образу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и распложение оных польза в народе впредь была.
§ 4. При заведении простой Академии наук обои намерения не исполнятся, ибо хотя чрез оную художествы и науки в своём состоянии производятся и распространяются, однако ж де оные не скоро в народе расплодятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда рассудишь, что ещё прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы младые люди могли началам обучаться, и потом выше градусы наук восприять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую пользу учинить мог.
§ 5. И тако потребнее всего, чтоб здесь таковое собрание заведено было, ежели бы из самолутчих учёных людей состояло, которые довольны суть:
1. Науки производить и совершить, однакож де тако, чтоб они тем наукам
2. Младых людей (ежели которые из оных угодны будут) публично обучали и чтоб они
3. Некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей первым фундаментам (основательством) всех наук паки обучать могли.
§ 6. И таким бы образом одно здание с малыми убытками тое же бы с великою пользою чинило, что в других государствах три разных собрания чинят[177], ибо оная
1. Яко бы совершенная Академия была, ноне же довольно бы членов о совершенстве художеств и наук трудились.
2. Егда оные же члены те художествы и науки публично учить будут, то подобна оная будет Университету и такую ж прибыль произведёт.
3. Когда данные академикам младые люди, которым от е. и. в. довольное жалование на пропитание определено будет, от них науку принявши и пробу искусства своего учинивши, младых людей в первых фундаментах обучать будут, то оное здание таково же полезно будет, яко особливое к тому сочинённое собрание или гимназиум.
При том же бы вольная художества и мануфактуры.
который уже здесь заведены суть, или впредь ещё заведены быть могут, от помянутого заведения пользу имели, когда им удобный машины показаны и инструменты их исправлены будут.
§ 7. И понеже сие учреждение такой академии, которая в Париже обретается подобно есть (кроме сего различия и авантажа[178], что сия академия и то чинит, что Университету или коллегии чинить надлежит), того для я надеюсь, что сие здание удобнейше академиею названо быть имеет. Науки, которые в сей Академии могут учинены быть, свободно бы в три класса разделить можно: в 1-м классе содержались бы все науки математические и которые от оных зависят; во 2-м все части физики; в 3-м — гуманиора[179], история и права.
§ 8. К первому классу четырёх персон надобно: первой надлежало бы упражняться матезии сублимиори[180], яко арифметикою, алгеброю и геометриею и прочими частями теоретическими.
Второй бы тщание имеет к астрономии, географии и навигации.
Третьей и четвёртой о механике.
§ 9. Второй класс разделяется в четыре части, а именно: 1. физику теоретическую и экспериментальную; 2. анатомию; 3. химию; 4. ботанику, и тако ж четырёх персон к тому иметь надлежало б.
А за нужду мог бы академик матезиос сублимиорис за академика физики теоретической и экспериментальной отправлять, ибо собственно физика генеральная ни что иное есть, токмо апликация к телесам[181].
Третий класс состоял бы из трёх членов, которые в гуманиорах и прочем упражняются, и сие свободно бы трём персонам отправлять можно: первая элоквенцию[182] и студиум антиквитатис[183] обучала, 2-я историю древнюю и нынешнюю, а 3-я право натуры и публичное купно[184] с политикою и этикою (нравоучением).
Аще же при том экономия учинена будет, то похвально и весьма полезно, ибо во общем жительстве учением ея великая прибыль и польза чинится.
§ 10. Кроме сих членов, особливой секретарь потребен, которой всё, что в академии предлагается, в протокол вносит, в порядок приводит и тое, что достойно есть, ежегодно или через каждые два года публикует, и купно с библиотекарем корреспонденцию с учёными людьми держит.
§ 11. Должность академиков:
1) всё, что в науках уже учинено, разыскивать, что к исправлению и приращению оных потребно есть, производить, что каждый в таком случае изобрёл, сносить, и тое секретарю вручить, которой понуждён будет оное, когда надлежит, описывать.
2) Каждой академик обязан в своей науке добрых авторов, которые в иных государствах издаются, читать и тако ему легко будет экстракт[185] из оных сочинять; они экстракты с прочими изобретениями и разсуждениями имеют от академии в назначенный в печать отданы быть.
3) Понеже Академия ни что иное есть, токмо социетет (собрание) персон, которыя для произведения наук друг друга вспомогать имеют; того ради весма надобно, чтобы они еженедельно несколько часов в собрании были, и тогда каждый мнение своё предлагать, советом и мнением других пользоваться и партикулярно учинённые эксперименты в присутствии всех членов поверять может; и сие последнее весьма надобно для того, что в таких экспериментах многократно один другова, яко на пример анатомикус механика и проч. к совершенной демонстрации требует.
4) Ещё же Академия повинна: все декуверты (изобретения), которыя в помянутых науках иногда предложены будут разсматривать, и свою апробацию откровенно о том сообщать, сиречь верны ли оныя изобретения. Великой ли польза суть или малой. Известны ли оные прежде сего бывали или нет.
5) Ежели е. и. в. потребует, чтоб академикус из своей науки некоторое дело сыскивал, то повинен он тое со всем прилежанием чинить, и о том в надлежащее время (ибо суть многие дела, которые весьма малы быть кажутся, однако де долговременное разыскание требуют) отповедь дать.
6) Каждый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу учащихся младых людей изготовить; а потом оныя имеют в императорском иждивении на латинском языке напечатаны быть.
И понеже российскому народу не токмо за великую пользу, но и во славу служить будут, того ради надлежит при каждом классе академическом одного переводчика и при секретаре одного ж, и тако во всех четырёх классах определить.
7) Тако ж и чужестранным великая забава будет, понеже ежегодно 3 публичный ассамблеи уставлены, и от одного члена академии разговор и своей науки чинен будет, и в оной похвалы протектора (защитителя) введены будут.
8) А чтобы в академики в потребных способах недостатка не имели, то надлежит, дабы библиотека и натуральных вещей камора[186] Академии открыта были; а над оною надлежит библиотекарю партикулярную дирекцию иметь и власть те книги и инструменты, которые Академии надобны, выписать, или здесь делать и понеже за потребные вещи к экспериментам, которые от того или другова академика партикулярно или публично делаются, из казны платится: того для имеет он академикам помянутый вещи промышлять, и надлежит о том счёт учинить. Ещё имеет он купно с секретарём корреспонденцию вести и тако надлежит ему в подмогу одного определить.
Тако ж может он переводчиков библиотеки и натуральных вещей каморы употреблять.
9) Без живописца и градировального мастера[187] обойтися невозможно будет, понеже издания который в науках чинится будут (ежели оныя сохранять и публиковать) , имеют рисованы и градированы быть.
§ 12. Сие есть собственный образец Академии художеств и наук о пользе и намерении ея выше уже упомянуто, сиречь: 1) дабы науки размножены и в лучшее состояние приведены были; 2) все издания сысканы и апробованы; 3) от оной системы учащимся младым людям изготовлены были; но сие служить токмо к произведению в лучшее состояние наук.
§ 13. А понеже в том намерении Университета смотрится, которыя науки всему народу объявляет, тако ж де и гимназия, в котором младые люди нужным наукам обучаются; того ради я объявляю, каким образом одним зданием обои намерения исполнить можно и не надобно особливыя собрания сочинять.
§ 14. В Университете, как уже упомянуто, четыре факультета имеются, а именно: 1. феология, 2. юриспруденция, 3. медицина и 4. философия. Факультет феологии здесь оставляется, и попечение о том токмо Синоду передаётся. [...]
§ 16. Помянутые и в некоторые классы разделённые академики обязаны будут в своей науке ежедневно один час публичный лекции иметь, как и в прочих университетах.
§ 17. Ежели которой академик похощет за деньги партикулярные коллегии[188] иметь, то ему позволено: однако ж до не надобно ему токмо ради корысти вельми много коллегиев держать, и тем прочим своим наукам и размышлениям, вред чинить.
§ 18. А чтоб пользу от сих обучениев иметь, к тому требуются угодные люди, которые гуманиора отчасти знают и некоторое малое искусство философии и математики имеют; того ради весьма нужно, дабы каждому академику один или два человека из младых студентов даны были и довольным жалованием снабдены, которые со всем прилежанием обучатся и академикам вспомогать имеют, и понеже помянутые младые люди под дирекциею академиков без своих убытков наукам обучаться и при том (если себя хорошо ведут и некоторыя пробы искусства своего объявят) надежду имеют произойти и учителям своим наследовать: и тако подобает, чтоб они за такую благодетель благодарствовали; того ради имеют оные тех, которые учиться начинают первым фундаментом наук обучать, дабы и те со временем учением академическим пользоваться могли, и таким образом можно б без великих убытков намерение нижной школы исполнить.
Резол[юция]. Надлежит по два человека ещё прибавить, которые из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить, а каких наук, написать именно. [...]
ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, ИЛИ ПОКАЗАНИЕ
К ЖИТЕЙСКОМУ ОБХОЖДЕНИЮ, СОБРАННОЕ ОТ РАЗНЫХ
АВТОРОВ[189]
В первых наипаче[190] всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не выглядовать, но все потаённым образом с великим почтением, не с ними вряд, но немного уступи позади оных в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. В доме ничего своим имяием не повелевать, но имянем отца или матери, от челядияцев[191] просительным образом требовать, разве что у кого особливыя слуги, который самому ему подвержены бывают. Для того, что обычайно служители и челядинцы не двум господам и госпожам, но токмо одному господину охотно служат. А окроме того, часто происходят ссоры и великия между ими бывают от того мятежи в доме, так, что сами не опознают, что кому делать надлежит.
2. Дети не имеют без имянного приказу родительского никого бранить или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они должни учинить вежливо и учтиво.
3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, которой на солнце валяется, но стоять должни прямо.
4. Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны они благоприятно, а не криком и ниже с сердца, или с задору говорить, не яко бы сумозброды. Но всё, что им говорить, имеет быть правда истинная, не прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою благообразно в приятных и учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким лицем говорить случилось, дабы они в том тако и обыкли.
5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, но смирно ести. А вилками и ножиком по горелкам, по скатерти или по блюду не чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть.
6. Когда родители или кто другии их спросят (позовут), то должни они к ним отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать: что изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне прикажете, государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, чего хочешь. И не дерзостно отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвить, нет; но сказать: так, мой государь, слышу, государь: я выразумел, государь, учиню так, как вы, государь, приказали. А не смехом делать, яко бы их презирая, и не слушая их повеления и слов. Но исправно примечать всё, что им говорено бывает, а многажды назад не бегать и прежняго паки вдругорядь[192] не спрашивать.
7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать, и других речи не перебивать, но дать всё выговорить, и потом мнение своё, что достойно, предъявить. Ежели случится дело и речь печальная, то надлежит при таких быть печальну и иметь сожаление. В радостном случае быть радостну и являть себе весела с весёлыми.
А в прямом деле и в постоянном быть постоянну и других людей разсудков отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели чиё мнение достойно и годно, то похвалить и в том соглашатца. Ежели же которое сумнительно, в том себя оговорить, что в том ему разсуждать не достойно. А ежели в чём оспорить можно, то учинить с учтивостью и вежливыми словами, и дать своё рассуждение на то, для чего. А ежели кто совету пожелает или что поверит, то надлежит советовать сколько можно и поверенное дело содержать тайно. [...]
9. Никто себя сам много не хвали и не уничижай (не стыди) и не срамоти, и ниже дела своего возвеличивая, разширяй боле, нежели как оное в подлинном действе состоит, и никогда роду своего и прозвания без нужды не возвышай, ибо так чинят люди всегда такия, которыя не в давне токмо прославлялись. А особливо в той земле, где кто знаком, весьма не надлежит того делать, но ожидать, пока с стороны другия похвалят.
10. С своими или с посторонними служители гораздо не сообщайся. Но ежели оныя прилежны, то таких слуг люби, а не во всём им верь, для того, что они, грубы и невежи (неразсудливы) будучи, не знают дерягать меры. Но хотят при случае выше своего господина вознестись, а отшедши прочь, на весь свет разглашают, что им поверено было. Того ради смотри прилежно, когда что хощешь о других говорить, опасайся, чтоб при том слуг и служанок не было. А имян не упоминай, но обиняками говори, чтоб дознатца было неможно, потому что такия люди много приложить и прибавить искусны.
11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи, также и о умерших никакого зла не говори.
12. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, не бодро, а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ожидать можно, кроме дряхлова тела и червоточины, которое с лености тучно бывает.
13. Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безнокоен, подобно как в часах маетник, для того что бодрый господин ободряет и слуг: подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седока прилежна и осторожна. Потому можно от части смотря на прилежность и бодрость или радение слуг признать, како правление котораго господина состоит и содержится. Ибо не напрасно пословица говорится, каков игумен, такова и братия.
14. От клятвы чужеложства (блуда) играния и пьянства отрок себя велми удержать и от того бегать. Ибо из того ничто ино вырастает, кроме великой беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и погибель дому его, и разорение пожиткам. [...]
16. Имеет прямым (сущий) благочестный кавалер быть смирен, приветлив и учтив. Ибо гордость мало добра содевает (приносит), и кто сих трёх добродетели не имеет, оный не может превзойти, и ниже между другими просиять, яко светило в тёмном месте или каморе. [...]
24. Младому человеку не надлежит быть резву и ниже доведыватся (выведывать) других людей тайн. И что кто делает — ведать не надлежит. Так же чужих писем, денег или товаров без позволения не трогать и не читать, но когда усмотришь, что двое или трое тихо между собою говорят, к ним не приступать, но на сторону отдалиться, пока они между собою переговорят. [...]
26. Честный отрок должен остерегать себя от неравных побратенеств в питье, чтоб ему опосле о том не раскаиваться было. И дабы иногда новой его побратеник не напал на него безвестными и необыкновенными словами, что часто случается. Ибо когда кто с кем побратенство выпьет, то чрез оное даётся повод и способ к потерянию своея чести, так, что иной принуждён побратеника своего устыдиться. А особливо когда оной отречётся или нападёт несносными поносительными словами.
27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя, продаёт как может.
28. Младыя люди не должни ни про кого худого переговаривать. И ниже всё разглашать, что слышат. А особливо что ближнему ко вреде, урону и умалению чести и славы касатися может. Ибо на сём свете нет иного чувствительнее, чим бы бог до зела прогневан, и ближней озлоблен были, кроме сего.
29. Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или подобное неистовство не чинить, да бы от издёвки не учинилось в правду повадки и обычая: ибо такия принятый повадки, младаго отрока весьма обезобразят и остыжают так, чтоб потом в домах, их посмехая, тем дражнят. [...]
32. На свадьбы и тайцы младый отрок не зван и не приглашён для получения себе великой чести и славы отнюд не ходи, хотя такой обычай и принят. Ибо в первых, хотя незамужния жёны и охотно то видят, однако ж свадебныя люди не всегда ради тому бывают. И понеже невзначай пришедшия, причиняют возмущения, а пользы от них мало бывает, но часто от таких нестройных поступков ссоры происходят, что либо излишняго вина не могущи стерпеть и самим собою владеть, или, не узнав меры, не пристойным своим невежеством подаст к ссоре причину, или незванной похощет посесть званнаго и возбудит великое неспокойство: ибо говорится, кто ходит не зван, тот не отходит не дран. [...]
34. Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую честь позываетси, но ожидает пока его тапцовать, или к столу итти с другими пригласят, ибо говорится: смирение молодцу ожерелие. [...]
36. Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при дворе, так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подобно как сами себе хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь какову они ныне оным показуют, со временем и им такая ж показана будет.
37. Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в таких церемониях, в которых напредь того не бывали и не учивались, прилежно присматривать, как в том те поступают, которым оное дело приказано. И примечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в том поступали или плохо. Слушать же и примечать, в чём оныя погрешили или что просмотрели. [...]
43. Все, которая что кому обещают, имеют прилежно трудиться, чтоб как возможно без отлагательства оное исполнить. Хотя в том и убыток себе повесть или прежде обещания должно наперёд довольно размыслить. Ибо такого человека не много почитают, которой слово своё пременяет, понеже пословица гласит: не молвя слова, крепись, а дав слово, держись. А особливо должны шляхетныя сие хранить. Оных бо постоянство имеет быть безсмертно и непременно, а не имеет глупой оной пословицы следовать, что говорится: обещать, то дворянски, а слово держать, то крестьянски. Но ведай себе, что и такая есть пословица. Со лжи люди не мрут, а впредь веры не имут. И конечно, крестьянина лучше почтут, нежели дворянина, которой шляхетского своего слова и обещания не исполняет и не сохраняет: от чего и ныне случается, что охотнее мужику, нежели дворянину, верят.
44. Ещё же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да служит о охотою и радением. Ибо как кто служит, так ему и платят. По тому и счастие себе получает. [...]
47. Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит.
48. Когда о каком деле сумневаешься, то не говори того за подлинную правду, но или весьма умолчи, или объяви за сумнительно, дабы после, когда инако окажется, тебе не причтено было в вину.
49. Слугам своим и челядинцам не должно давать злаго прикладу, и пред ними никакова соблазну не чинить, и ниже допускать, чтоб они всякими глупостми хозяину подлещались, как обычно такия люди делают, но держать их в страсе, и больше двух крат вины не спущать, но выгнать из дому. Ибо лукавая лисица нрава своего не переменит.
50. Когда кто своих домашних в страсе содержит, оному благочинно и услужено бывает, а слуга может от него научитися, и другие его равестники за разумнаго его почитать будут. Ибо раби по своему нраву невежливи, упрями, безстыдливи, и горди бывают, того ради надобно их смирять, покарять и унижать.
51. Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как пёс огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин: для того не надобно им того попущать.
52. Когда кто меж своими слугами присмотрит одного мятежника и заговорщика (переговорщика), то вскоре такого надобно отослать. Ибо от одной овцы паршивой всё стадо пострадать может, и нет того мерзостнее, как убогой, гордой, нахалливой, и противной слуга, от чего и пословица зачалась: в нищенской гордости имеет диавол свою утеху.
53. К оным, который исправно служат, должно быть склонну и верну, и в делах их спомогать, защищать и их любить, пред другими повышать, и договорную мзду исправно в прямый срок платить: то напротив того, и ему больше счастия и благословения будет от бога и не даст причины, чтоб его порекали, как инако у них обычай делать. А особливо, когда кто их известную мзду задержит: как некоторый в том мало совести имеют.
54. Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах[193] быть, и тако танцовать, для того что тем одежду дерут у женского полу, и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в сапогах, нежели без сапогов.
55. Такожде когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или сидя при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а ежели в каморе, где много людей, то прими харкотины в платок, а также невежливым образом в каморе или в церкви не мечи на пол, чтоб другим от того не згадить или отъиди для того к стороне (или за окошко выброси), дабы никто не видал, и подотри ногами так чисто, как можно.
56. Никто честновоспитанный возгрей[194] в нос не втягивает, подобно как бы часы кто заводил, а потом гнусным образом оныя в вниз не глотает, но учтиво, как вышеупомянуто, пристойным способом испражняет и вывергает.
57. Рыгать, кашлять и подобный такия грубыя действия в лицо другаго ни чини, или чтоб другой дыхание и мокроту желудка, которая восстаёт, мог чувствовать, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или скатертию, или полотенцем прикрой. Чтоб никого не коснутца и тем сгадить.
58. И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкве детей малых пужает и устрашает.
59. Ещё же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях. [...]
61. Должно, когда будешь в церкве или на улице людей никогда в глаза не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осёл. Но должно итти благочинно, постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы пред вышшим сего света монархом стоять довлело.
62. Когда кого поздравлять, то должно не головой кивать и махать, яко бы от поздравляемого взаимной нести требовать, а особливо будучи далеко, но надобно дожидатися, пока ближе вместе сойдутца. И ежели другой тогда взаимной чести тебе не отдаёт, то после его никогда впредь не поздравляй, ибо честь есть того, кто тебя поздравляет и не твоя. [...]
Како младый отрок должен поступить,
когда оный в беседе с другими сидит
Когда прилунится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке но сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы оныя бархатом обшиты, умой руки и сяди благочинно, сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи егда яси, первой не пии, будь воздержан, избегай пьянства, пии, и яждь сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то возьми часть из того, протчее отдай другому, и возблагодари ему. Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но полотенцем, и не пии, пока ещё пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножем. Зубов ножем не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба приложа к грудям не режь, ёж что пред тобою лежит, а инде не хватай. Ежели перед кого положить хощешь, не примай перстами, как некоторый народы ныне обыкли. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и кашлять не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь напред хлеба, и смотри, чтоб при том не вытекло, и яждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, не пии, между тем не замарай скатерти, и не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и протчаго. Когда перестанешь ясти, возблагодари бога, умой руки и лице и выполощи рот.
Коим образом имеет отрок поступать между чуждыми.
Когда (куда) в которое место приидешь, где едят или пьют, тогда, поклонясь, поздравь им к пище их. И ежели поднесут тебе пить, отговаривайся отчасти, потом, поклонясь, прийми и пии, вежливо благодари того, кто тебе дал испить. И уступи назад, пока тебя отправят, когда кто с тобою говорить станет, то встань и слушай прилежно, что он тебе скажет, дабы ты мог одумався на оное ответ дать. Буде што найдёшь хотя б что ни было, отдай оное назад. Платья своего и книг береги прилежно, а по углам оных не разбрасывай. Будь услужен и об одном деле дважды себе приказывать не давай: и таким образом получишь милость. Охотно ходи в церквы, и в школы, а не мимо их. Инако бо пойдёшь путём, которой ведёт в погибель. Не пересмехай, не осуждай, и ни про кого ничего зла не говори, да не постигнет и тебя зло.
Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдеть из устен твоих. Всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от тебя. И не делай, ни приуготовляй никаких ссор: всё, что делаешь, делай с прилежанием и с разсуждением, то и похвален будешь. Когда ты верно обходисся, то и богу благоприятно, и так благополучно тебе будет. А ежели ты не верно поступаешь, то наказания божия не минуешь, ибо он видит все твои дела. Не учись как бы тебе людей обманывать, ибо сие зло богу противно, и тяжкой имаши за то дати ответ: не презирай старых или увечных людей, буди правдив во всех делах. Ибо пет злея порока в отроке, яко ложь, а от лжи раждается кража, а от кражы приходит верёвка на шею. Не выходи из дому твоего без ведома и воли родителей твоих, и начальников, и ежели ты послан будешь, то возвратись паки вскоре. Не оболги никого ложно, ни из двора, пи во двор вестей не переноси. Не смотри на других людей, что они делают или как живут, ежели за кем какой порок усмотришь, берегись сам того. А буде что у кого доброе усмотришь, то не постыдись сам тому следовать.
Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такова, которой тебе всякого добра яшлает.
Где двое тайно между собою говорят, так не приступай. ибо подслушивание есть безстыдное невежество.
Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не уповай.
Девической чести и добродетели венец
Состоящей в последующих двадесяти добродетелях. А именно. Охота, и любовь к слову, и службе божеи, исстинное познание бога, страх божии, смирение, призывание бога, благодарение, исповедание веры, почитание родителем, трудолюбие, благочиние, приветливость, милосердие, чистота телесная, стыдливость, воздержание, целомудрие, бережливость, щедрота, правосердие и молчаливость и протчая. [...]
ЖИЗНЬ ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕПЛЮЕВА, ИМ САМИМ ПИСАННАЯ[195]
1715-го, марта в первых числах, возвратился я в дом свой и в том же марте месяце взят на службу и, быв на смотре марта в 24-й день у князя Меньшикова, написан в число назначенных обучаться в Новгороде начальных оснований математики.
Того же года, июня в 29-й день, присланным из Новгорода указом повелено — выбрав 84 человека из тех начавших обучаться, отправить в Нарвскую школу, в которой учителем был навигатор Митрофан Михайлов, сын Кашинцов, а директорами над оной были обер-комендант Кирилла Алексеевич Нарышкин, комендант Василий Григорьевич Титов. [...]
Того же года, октября 1-го дня, по присланному указу перевели нас всех в школу в Санктпетербург, которой школы был содержателем француз Баро; оная была под ведением армирала Фёдора Матвеевича Апраксина и генерал-майора и оберстер-кригскомиссара Григорья Петровича Чернышева; потом она поручена была Андрею Артамоновичу Матвееву. В той школе было нас обучающихся 300 человек.
1716-го, по указу царского величества, велено выбрать из той школы 20 человек и отослать в Ревель к флоту, в числе коих и я, Неплюев. [...]
28-го числа того же месяца (августа) его царское величество, будучи на корабле «Ингермоландии», изволил смотреть всех нас, гардемаринов[196], и выбрал для посылки в Венецию (в числе коих находился и я, Неплюев) 30 человек для обучения мореплаванию на галерах[197], да во Францию для обучения мореплаванию на кораблях 20 человек, туда ж для обучения архитектуры 4 человека.
29-го числа перевезли всех нас, выбранных с кораблей, в Копенгаген, где его величество повелел послу своему, князю Василию Лукичу Долгорукому, выдать нам на дорогу по 6-ти ефимков[198] сверх прежняго жалованья и отправить в Амстердам. [...],
Июня 1-го дня (1717 г.) подали мы от республики Венециянской указ генерал-капитану, который по прочтении онаго объявил нам, что он прикажет принять нас на галеры по два человека, и чтоб мы дали ему известие, кто с кем на галере быть желает. [...]
1718-го генваря 10 князь Михайла княж Андреев сын Прозоровский бежал от нас с иеромонахом Филиппом, монастыря святого Павла, бывшим в Корфу для собирания милостыни, в Афонскую гору[199]. [...]
13-го числа (1719 г., май) были мы в Тулоне[200] перво у губернатора. Наших русских гардемаринов в Тулоне было 7 человек: Андрей Иванов сын Полянский, Воин Яковлев сын Римский-Корсаков, Михайло Андреев сын Римский-Корсаков, князь Александра Дмитриев сын Волконский, князь Борис Семёнов сын Борятинский, князь Борис Григорьев сын Юсупов, Александра Гаврилов сын Жеребцов. Учатся они в академиях с французскими гардемаринами, которых в той академии 120 человек, навигации, инженерству, алтиллерии, рисовать мачтапов[201], как корабли строятся, боцманству (то есть оснащивать корабли), артикулу солдатскому, танцовать, на шпагах биться, на лошадях ездить; в школу ходят дважды в день; а учат их безденежно королевские мастера. [...] (г. Кадикс, Испания) Августа 4-го числа от его королевского величества прислан указ... по которому поведено нас определить во академию и содержать в компании гардемаринской, как их гардемарины содержатся. [...]
О учении гардемаринов. Поутру соберутся все в церковь, в указной час, и чередной брегадир[202], понеже по установлению должны к обедни приходить на всяк день; потом в академии учатся все математике два часа; а за вины их штрафует брегадир. В другой раз сходятся гардемарины во академию после обеда в 3 часа вседневно: 3 кварты[203] учатся артиллерному искусству, две кварты учатся солдатскому артикулу[204], одна кварта учатся на шпагах биться, одна же кварта учится танцовать; учатся сим образом, переменяясь по вся дни, по полтора часа. [...]
И как гишпанские[205], так и мы ходили во академию всегда, кроме того, что мы к обедне не ходили; а учились со оными солдатскому артикулу, танцовать и на шпагах биться; а к математике приходили, только без дела сидели, понеже учиться невозможно для того, что мы их языку не знали. [...] И об оном обо всём писали мы многажды в Санктпетербург к адмиралу Фёдору Матвеевичу Апраксину, и в Голландию к послу князю Борису Ивановичу Куракину и просили, чтоб они доложили его царского величества, чтоб нас повелел определить в службу и определил бы нам своё государево денежное жалованье, чем бы мы могли содержаться, понеже гишпанским жалованьем нам содержаться невозможно, и в житье нашем пользы нам никакой нет, понеже шпажное и танцовальное учение к службе его величеству в нас годно быть не может. [...]
14-го числа декабря получили мы от князя Куракина письмо, в котором нам пишет, что нам по указу царского величества велено возвратиться в отечество. [...]
(1720 г., март) А князю был указ, чтоб нас отправить в Петербург на голанских кораблях, а он нас отправил другим трактом, потому что оказии вскоре к Санктпетербургу морем не было, а хотя б и были, но опасно, чтоб шведы в Балтике не взяли в полон. В бытность нашу в Амстердаме были Андрей Фёдоров сын Хрущов да Иван Талызин, Алексей Вишняков, которые учились экипажеству[206] и механике, да царского величества деньщик Иван Андреев сын Толстой для покупки разных птиц; ещё были человек с 40 школьников, которые учились всяким ремёслам — медному, столярному и судовым строениям. [...]
(май) Прибыли в Санктпетербург 22-го числа...
На завтра, собравшись вся наша компания ко мне на квартиру, пошли явиться генералу-адмиралу[207], а потом ко всем флагманам, находящимся в Петербурге, и ко всем присутствующим в адмиралтейской коллегии[208]. Все нас приняли весьма ласково, особливо Григорий Петрович Чернышев... подав нам как отец совет, чтобы просили генерала-адмирала быть представлены к государю, и когда его величество из нас с кем говорить изволит, то чтобы мы но истине и без робости сказали, кто что знает, и сколько кто преуспел в науках. [...] Флагман Змиевич, человек в морской науке весьма искусный, любопытствовал у каждого из нас о нашем в навигации знании и, сколько приметить можно, Кайсарова и моими ответами был довольнее. [...]
30 июня прислан к нам от коллегии приказ явиться 1-го июля на экзамен. Мы, собравшись у коллегии, дожидались повеления. В 8 часов государь приехал в одноколке и, мимо идучи, сказал нам: «Здорово ребята». Потом, чрез некоторое время, впустили нас в асамблею[209], и генерал-адмирал приказал Змиевичу напредь расспрашивать порознь, что кто знает о навигации. Потом как дошла и моя очередь (а я был, по условию между нами, из последних), то государь изволил подойти ко мне и, не дав Змиевичу делать задачи, спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» На что я ответствовал: «Всемилостивейший государь, прилежал я по всей моей возможности, но не могу похвалиться, что всему научился, а более почитаю себя пред вами рабом недостойным и того ради прошу, как пред богом, вашей ко мне щедроты». При оказывании сих слов я стал на колени, а государь, оборотив руку праву ладонью, дал поцеловать и при том изволил молвить: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли: а всё от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству».
Я, стоя на коленях, взял сам его руку и целовал оную многократно, а он мне сказал: «Встань, братец, и дай ответ, о чём тебя спросят; но не робей: буде что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». И, оборотись к Змиевичу, приказал разспросить меня; а как я давал ответы, то он изволил сказать Змиевичу: «Разопрашивай о высших знаниях». И по окончании у всех разспросов, тут же пожаловал меня в поручики в морские галерного флота и другого — Кайсарова, а и других также пожаловал, но ниже чинами. [...]
ЗАПИСКИ М. В. ДАНИЛОВА, АРТИЛЛЕРИИ МАЙОРА, НАПИСАННЫЕ ИМ В 1771 ГОДУ[210]
Брат мой Василий, изучась несколько грамоте в доме отца нашего, потом живучи у сродственника, который отцу нашему был внучатый брат, Ивана Васильевича Афросимова, докончал учение российской грамоте читать и писать. [...]
В 1735 году публиковано было указом, дабы все недоросли дворянские дети явились в Герольдию[211] при Сенате, на смотр; а по рассматриванию Сената, по желанию каждого недоросля, отсылали записываться в школы или в службу, куда кто пожелает. Тогда и брат мой Василий, в 73G году, записался в Артиллерийскую школу. Оная школа была ещё учреждена вновь, на полковом артиллерийском дворе, и было в оную прислано из Герольдии дворянских детей, бедных и знатных по желанию, семь сот человек. А как в новой школе не было ни порядка, ни учреждения, ни смотрения, то через четыре года разошлось оное большое собрание, без позволения школьного начальства, по разным местам, в настоящую службу, куда кто хотел записались; а осталась только некоторая часть дворянских детей, кои прилежали охотно и хотели учиться.
Но великий тогда недостаток в оной школе состоял в учителях. Сначала вступления учеников было, для показания одной арифметики, из пушкарских детей два подмастерья; потом определили, по пословице волка овец пасти, штык-юнкора[212] Алабушева. Алабушев тогда содержался в смертном убийстве третий раз под арестом, был Человек хотя знающий, разбирал Магницкого печатной арифметике и часть геометрических фигур показывал ученикам, почему и выдавал себя в тогдашнее время учёным человеком, однако был вздорный, пьяный и весьма неприличный быть учителем благородному юношеству, где учитель должен своим добрым нравом, поведением и хорошими поступками во всём учении образцом быть; а он редкой день приходил в школу непьяный. Видно, что тогда был великий недостаток учёных людей в артиллерии, когда принуждены были взять и определить в школу учителем колодника и смертоубийцу.
Напоследок, для поправления в школе порядка, ещё определён был, сверх штык-юнкора Алабушева, капитан Гринков, у которого не было левой руки по локоть. Человек был как прилежный, так и копотливый, и был великий заика, однако завёл в школе порядок получше Алабушева. Он вперял в учеников охоту учиться, с обещанием чести, и довёл до того, что его старанием несколько человек из учеников пожалованы были в артиллерию сержантами и ундер-офицерами[213]; из них ныне есть при артиллерии полковники и генералы.
В 1737 году брат мой Василий записал меня в Артиллерийскую ж школу, где я с ним вместе обучался года с три. Потом брат мой, с прочими по выбору и по науке учениками, взят был, указом Канцелярии главной артиллерии, из Московской в Петербургскую школу, а из Петербургской школы, в 740 году, с прочими же учениками, выпущен сержантом в полевую артиллерию. [...]
Я родился в 1722 году. Тогда отца моего разбойники разбили, и подана была на сих злодеев явочная челобитная[214], с которой досталась мне копия, почему я и рождение своё в том году почитаю. Был я любимый сын у моего отца. От роду моего лет семи, или более, отдали меня в том же селе Харине, где отец мой жил, пономарю Филипу, прозванием Брудастому, учиться. Пономарь был роста малого, широк в плечах, борода большая, круглая покрывала грудь его, голова с густыми волосами равнялась с плечьми его, и казалось, что у него шеи не было. У него в то же время учились два брата мне двоюродны, Елисей и Борис. Учитель наш Брудастой жил тогда один с своею женою, весьма в малой избушке. Приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажут «аминь», не смел. Памятно мне моё учение у Брудастого и поднесь, по той может быть причине, что часто меня секли лозою. Я не могу признаться но справедливости, чтоб во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно, и учитель мой задавал мне урок учить весьма умеренный, по моей силе который я затверживал скоро; но как нам кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на малейшее время не было, а сидеть на скамейках безсходно и в большие летние дни великое мучение претерпевали, то я от такого всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна и всё, что выучил прежде наизусть, при слушании урока в вечеру, и половины прочитать не мог, за что последняя резолюция меня, как непонятного, «сечь». Я мнил тогда, что необходимо при учении терпеть надлежит наказание. Брудастого жена, во время нашего учения, понуждала нас, в небытность своего мужа всечастно, чтоб мы громче кричали, хотя б и не то, что учим. Отраднее нам было от скучного сидения, когда учитель наш находился в поле на работе: по возвращении Брудастого отвечал я во всём уроке так, как утром при неутомлённых мыслях, весьма исправно и памятно. Из сего ныне заключаю, что принуждённое детям учение грамоте неполезно, потому что от телесного труда изнемогают душевные силы и приходят в обленение и унылость; явственнее можно усмотреть сию правду, принудить только ребёнка играть сверх его воли: тогда ему та игра и игрушки от скуки омерзеют, и тою игрою мало будет уже играть, или вовсе возненавидеть. В подобие сего обретается: разных рукодел мастера обременяют своих учеников не по силе лет их из коих некоторые, не возмогши снести такой налагаемой на них тягости учения, обращаются в бегство, кроются по разным местам, вымышляют бездельные обманы, наконец от воображения страха, что будут их наказывать за побег жестоко, приходят в отчаянье, делаются бездельниками на век. Вот какой плод происходит от таковых беспутных и ни к чему годных учителей, каков был мой Брудастой. Вымышлял иногда и я, от такого скучного сидения, напрасно показывать, какие ни есть за собою затейные приключения и болезни, коих отнюдь во мне не бывало. [...]
Выучил я у Брудастаго азбуку. Отец мой отвёз меня близ города Тулы к живущей вдове, Матрёне Петровне, которая в замужестве прежде была за нашим свойственником Афанасьем Денисовичем Даниловым. Матрёна Петровна имела при себе племянника родного и своему имению наследника, Епишкова; то той причине просила отца моего, дабы привёз к ней, как грамоте учиться, так и племяннику её делать компанию; а как вдова своего племянника много любила и нежила, потому не было нам никогда принуждения учиться. Однако я, в такой будучи воле и непринуждённом учении, без малейшего наказания, скоро окончал словесное учение, которое состояло только из двух книг, Часослова и Псалтыри[215]. Вдова была великая богомольщица: редкий день проходил, чтобы у ней в доме не отправлялась служба, когда с попом, а иногда слуга отправлял один оную должность. Я употреблён был в таковой службе к чтению, а как у вдовы любимый её племянник ещё читать не разумел, то от великой на меня зависти и досады, приходя к столу, при котором я читал псалмы, своими сапогами толкал по моим ногам до такой боли, что я до слёз доходил. Вдова, хотя и увидит такие шалости своего племянника, однако более ничего не скажет ему, и то протяжно, как нехотя: «Полно тебе шутить, Ванюшка», и будто не видит она, что от Иванушкиной шутки у меня из глаз слёзы текут. Она грамоте не знала, только всякий день, разогнув большую книгу на столе, акафист Богородице[216] всем вслух громко читала. Вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной; только признаюсь, сколько времени у ней я ни жил, не помню того, чтоб прошёл хотя один день без драки: как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батожьём немилосердно, и потуда секут и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уже введено было во всегдашнее обыкновение: видно для хорошего аппетиту. Вдова так были собою дородна, что ширина её тела немного уступала высоте её роста. В одно время гуляли мы с племянником её, и третий был с нами молодой слуга, который нас учил грамоте и сам учился; племянник её и наследник завёл нас к яблоне, стоявшей за дворами, которая не огорожена была ничем, начал обивать яблоки, не спросись своей тётушки. Донесено было сие преступление тётке его, что племянник около яблони забавляется, обивая яблоки; она приказала всех нас троих привести перед себя на нелицемерный суд и, в страх племяннику, приказала с великим гневом поднять немедленно невинного слугу и учителя нашего на козел, и секли его очень долгое время немилостиво, причитая: «Не обивай яблок с яблони». Потом и до меня дошла очередь: приказала вдова поднять и меня на козел, и было мне удара три подарено в спину, хотя я, как и учитель наш, яблок отнюдь не обивал. Племянник оробел и мнил, что не дойдёт ли и до него по порядку очередь к наказанию, однако страх его был тщетный; только вдова изволила сделать ему выговор в такой силе «что дурно-де, непригоже, сударь, так делать и яблоки обивать без спросу моего»; а после, поцеловав его, сказала: «Чаятельно ты, Иванушка, давеча испугался, как секли твоих товарищей; не бойся, голубчик, я тебя никогда сечь не стану». [...]
Потом отвезли меня в город Данков, в котором тогда воеводою был Никита Михайлович Крюков: он считался с отцом моим родством, а как близко не упомню, только называл он отца моего «братом». У воеводы был сын Василий, в мои лета или ещё моложе. Я жил у воеводы более в гостях, нежели учился: хотя и был у сына воеводского учитель, отставной престарелый поп, только мы не всякий день и зады твердили. [...] В 737 году, в Москве, записал меня брат мой Василий в Артиллерийскую школу, где он уже был записан прежде меня.
По вступлении моём в школу учился я вместе с братом. Жили мы у свойственника своего Милославского, которого двор был близ Каменного моста. В доме была дворецкого жена, Степановна, в роде своём добродетельная; она меня не оставляла, а паче, как по приезде моём в Москву, в 737 году, занемог я горячкою, которая тогда во всей Москве была пятнами, перевалка и мор, я лежал у оной Степановны, и она за мною, как за своим сыном, прилежно ходила. Простонародие, от своего незнания тогда в Москве, полагало смехотворную причину оной болезни мора, якобы в Москву в ночи, на сонных или спящих людей, привели слона из Персии. Мы хаживали с братом на полковой артиллерийский двор, близ Сухаревой башни: там была учреждена наша школа, в которой записано было дворян до 700 человек, и обучали без малейшего порядка.
Я был охотник рисовать. Зная мою к рисованию охоту, сидящий близ меня ученик Жеребцов (который ныне имеет честь быть в артиллерии полковником), сыскав не знаю где-то рисунок на полулисте, принёс с собою в школу показать мне рисование; а при учителе нашем, Прохоре Алабушеве, были тогда приватные незаписанные ученики князь Волконской и князь Сибирской. Они по большой части, бродя в школе по всем покоям без дела, разные делали шутки и шалости. Из оных шалунов один, увидя рисунок у Жеребцова, вырвал его из рук и побежал, с великою скоростью, как с победою, являть учителю Алабушеву: «Жеребцов ученик не учится, и вот какие рисунки в руках держит». Алабушев был человек пьяный и вздорный, по третьему смертоубийству сидел под арестом и взят обучать в школу; вот какой характер штык-юнкера Алабушева; а потому можно знать, сколь великий тогда был недостаток в учёных людях при артиллерии. Алабушев велел привести Жеребцова перед себя и, не приняв от него никакого оправдания в невинности, поваля его на пол, велел рисунок положить ему на спину и сёк Жеребцова немилостиво, покуда рисунок розгами расстегали весь на спине; помню, что не один рисунок пострадал, а досталось и подкладке. Оное странное награждение за рисование оказанное, я, видя, положил сам себе обещание твёрдое, чтоб никогда не носить никаких рисунков с собою в школу и товарищу своему Жеребцову советовал тоже всегда припомнить, что в нашей школе вместо похвалы наказание за рисование учреждено; однако не страшило меня Жеребцова наказание, и я про должал учиться рисовать, только не в школе.
Ученики были все помещены в четырёх великих светилищах, стоявших через сени[217], по две на стороне; когда позволялось покинуть ученье и идти обедать или по домам, тогда бывало учинять великий и безобразный во все голоса крик, наподобие «ура», протяжно «шебаш» [ ...]
В один день случилось мне идти переулком близ Воскресения в Кадашах[218], что за Москвою-рекою; усмотрел я в одном доме на окошке поставленный каменный попугай, раскрашенный изрядно. Я, любопытствуя, остановясь против того окна, глядел на попугая пристально; в тот же самый час барыня дородная и хорошего лица, подошед к окну, спросила меня: что я за человек? А как узнал от меня, что я артиллерийский ученик и притом дворянин, то просила меня учтивым образом, чтоб я вошёл к ней в хоромы. Она приняла меня ласково и спросила; где я и далеко ль и у кого живу? Я её обо всём уведомил и не понял тогда скоро, к чему открывается мне такая ласка от боярыни незнакомой. Наконец призвала она своего сына, который тогда был на голубятне, гонял тонким шестом вверх голубей; мать его просила меня, чтоб я спросил сына её, что он учит и хорошо ль знает арифметику. Я, узнав от него, по свидетельству, сказал ей, что он очень мало знает. Она, услыша от меня сие, прибавила своего ко мне учтивства и ласковости, просила меня: не могу ль я ей сделать одолжения, перейти к ней жить и показывать, когда свободно будет, сыну её арифметику? Я рассудил, что приличнее мне и компанию делать дворянской жене и её сыну, Вишняковым, нежели свойственнику своего Милославского управителю Комаровскому, у кого я был оставлен на удовольствии. Живши несколько времени у Вишняковой, выучил сына её арифметике. Сестра родная Вишняковой была в замужестве за Секериным, который записан был в нашей же школе учеником; прилежно просила она меня перейти жить к ней, дабы вместе ездить с мужем её в школу. Я за полезное принял от неё предложение, перешёл к Секериной: намерение её было, чтоб и муж её, так же как и племянник, от меня несколько занял учения; но не удалось ей сего произвесть, по её желанию в действо, ибо муж её Секерин великий был шалун, ничего учить не хотел, переписался из школы в армейские полки и тем отбыл от учения. [...]
Брат мой Егор приехал в Москву из Петербурга для взятия полковых письменных дел от первого Московского полка, в котором тогда ещё служил сержантом. Он выпросил меня из Московской в Петербургскую школу, куда я с ним отправился и приехал в Петербург. Брат мой Василий выпущен был с прочими из школы сержантом, а как по выпуске их было много в школе ваканций, то старанием брата моего Василия определён я прямо в первый класс в Чертёжную школу. В оной тогда было три класса, в каждом положено по десяти учеников из дворян и офицерских детей; жалованье было определено в третьем классе по двенадцати, во втором по осьмнадцати, и первом но двадцати четыре рубли в год, да в той же школе было на казённом содержании, из пушкарских детей, которые в школе и жили, шестьдесят человек. Из чертёжных учеников выпускали в артиллерийскую службу, из коих ныне в генерал-поручиках и генерал-майорах, а некоторые и кавалеры[219] есть; а из пушкарских детей[220] выпускали в мастеровые, в писари полковые и канцелярские. Над оною школою был директором капитан Гинтер, человек прилежный, тихий и в тогдашнее время первый знанием своим, который всю артиллерию привёл в хорошую препорцию. Я по своей охоте, сверх школьного учителя, сыскав хороших себе посторонних мастеров, хаживал к ним учиться рисовать. Писал я также несколько живописи, разные картины, ландшафты и портреты, из масляных красок; в школу прихаживали многие офицеры смотреть моих рисунков, а от похвалы оных смотрителей умножалась во мне прилежность и охота к рисованию. Директор наш Гинтер бесподобен был Алабушеву: отменно меня и других учеников хвалил за рисованье.
В 743 году назначили из артиллерийской школы выпуск, между прочим и я был в числе оных. Я приготовил артиллерийские чертежи и многие рисунки на экзамен, а между тем командирован был на заводы в Сестребек[221], для рисованья вензелей и литер на тесаках, которые готовились для корпуса Лейб-компании; по возвращении моём с Сестребека взят был в Герольдию, для рисования дворянских гербов на лейб-компанцев, чем они тогда удостоены были все. Потом представили нас к фельцехмейстеру князю Гесенгомбургскому: пожалован был фурьером[222]. По выпуске моём из школы директор наш, капитан Гинтер, причислил меня в свою роту и к лаборатории, для рисования планов, в которой тогда был фейверкором[223] Иван Васильевич Демидов. [...]
В. Н. ТАТИЩЕВ РАЗГОВОР ДВУ ПРИЯТЕЛЕЙ О ПОЛЬЗЕ НАУКИ И УЧИЛИЩАХ[224]
1. Вопрос. Мой государь! Я, видя ваши поступки с вашим сыном, которого вы хотя одного имеете, но не пожалели в так молодых летах от себя отлучить и в чужестранный училища послать, прихожу в недоумение, какую бы вы из того пользу иметь чаяли. Ибо, по моему мнению, в детях нам наибольшая есть польза, когда их но очах имеем, по нашей воле содержим, и наставляем, и ими веселимся. Противно же тому, отлуча онаго и не всегда ведая о состоянии его, о паче[225] о благополучии сумневаяся, в страхе и печали пребывать и онаго ищемаго увеселения добровольно лишиться нуждно.
Ответ. Любезный мой друже! Вы мне положили вопрос, видится, иротиво вашего благоразумия, и что вы о увеселении от детей полагаете, оное токмо видимое, а не истинное. Истинное бо увеселение в детех есть разум а способность к приобретению добра, а отвращению зла. Разум неё без научения и способность без привычки или искуства приобретена быть не может. И тако, чтоб разумен был, надобно ему прежде учиться; естьли же того со младенчества не приобретёт, то он, в природной злости и невежестве остався, буйством и непорядками всегдашную печаль и страх вечной погибели, противно же тому, во младенчестве малым отлучением опечаля, разумом науки вечное увеселение приносить будет.
2. Ваше, мой государь, рассуждение изрядно, токмо мне сумнительно, чтоб подлинно благополучие человека в науке состояло, ибо приклады[226] видим довольные, что неучёные в великом благополучии, богатстве и славе, а учёные в несчастий, убожестве и презрении находятся.
Ответ. Вы, по-видимому, истину сказали, и нам так весьма со стороны кажется, что кто в богатстве и славе живёт, тот в совершенном благополучии живёт, токмо в том весьма ошибаемся. Ибо ежели б на их внутреннее состояние посмотрели, то б, конечно, иначе разсуждали, и суще нашли бы, что оные от недостатка разума всегда тем, что они есть и что имеют, недовольны, но всегда большаго, чести, или увеселения, или богатства желая, а довольно никогда получить могуще, непрестанно совестию мучася, в беспокойстве пребывают. Противно же тому, разумный человек, невзирая на других об нём мнения, сам всем доволен и совестию спокоен; а когда оное приобрёл, то ему равно как бы он всея земли владетель был.
3. Сие хотя правда, что благоразумной человек и в убожестве довольнее, нежели глупый в богатстве и чести, но я вас прошу прежде мне сказать, что есть наука.
Ответ. Наука главная есть, чтоб человек мог себя познать.
4. Сия отповедь приводит меня в недоумение, ибо не мню, чтоб человек как бы оной глуп ни был, да себя не знал.
Ответ. Правду вы сказали, что он может имя своё знать и чувствами внешнее, а не внутреннее познавать, да сие не довольно. [...]
8. Что есть добро?
Ответ. Разумеем такое обстоятельство, через которое мы можем истинное наше благополучие приобрести и сохранить.
9. Что разумеете истинное благополучие человека?
Ответ. Истинное совершенство, постоянное пребывание и сущее удовольствование или исполнение воли человека, из которых происходит высшее благополучие, то есть спокойность души или совести, и о сих нуждно человеку крайне прилежать.
10. Что есть зло?
Ответ. Есть такое обстоятельство, которое в чём-либо добру противится, яко или совершенство разрушает, или пребывание прекращает, или удовольствие отъемлет и к приобретению или сохранению оных препятствует. И сих человеку с крайнею возможностию надобно беречись и бежать... [...]
29. Како разделяется возраст человека?
Ответ. Состояние человека по возрасту разделяли многие разным счислением лет, яко по 7-и, 9-ти и до 10-ти лет, но большая часть разделяется тако: 1) стан младенчества, от рождения до 12 лет, 2) юношества, от 12 до 25, 3) мужества, от 25 до 50, 4) старости, от 50 лет и далее. И сие весьма с природою согласует, зане и страсти его то изъявляют.
30. Что примечаем в младенчестве человека?
Ответ. Младенчество когда человек родится, то чрез немалое время ничто в нём более видим, как ест и спит, а потом, когда мало что увидя света, получит силу поятия и возможность члены своя, яко язык, и руки, и ноги, употреблять, по оскудевающей памяти и лишением разсуждения к различным бедам подвержен. В котором призрение и научение от других необходимо нуждно, ибо естьли б его никто не научил, то б имея паче всех животных способнейший к речению язык, ничего сказать и своё желание другим объявить или других познать не мог. И хотя воля к благополучию в нём некоторые возбуждения делает, но за недостатком разума и искусства весьма в смешных и непотребных дедах оное у него состоит, и яко действо его ничто суть, тако и желание ни к чему иному, как спать, пить, есть и играть склонны, для котораго он все лучшие и полезнейшие дела презирает и оные сим предпочитает. Он упрям, не хочет никому повиноваться, разве за страх наказания; свиреп, зане[227] может за малейшую досаду тяжчайший вред лучшему благодетелю учинить; непостоянен, зане как дружба, так и злоба недолго в нём пребывает, и чего прилежно ищет получа, бросает, и всегда новаго хочет; суеверен, зане от недостатка разсуждения всё, что ему скажут, тому верит; любопытен, ибо о всём спрашивает и знать хочет, и для того к научению лёгких наук, о котором немного думать надобно, он лучшее время имеет. Того ради детей в языках от самаго младенчества обучать нуждно и способно, зане его ум власно как мягкой воск, к которому всё легче прилепится, но когда застареет, не скоро изкорениться уже может.
Потом, когда прибавляющеюся кровию от крепчайших брашен[228] тяжкие мокроты станут разводиться, кровь жидеть и быстрейшее течение получит, тогда настанет состояние юношества.
31. Что примечает в стане юношества?
Ответ. Когда оной настанет, то явится в нём острейшая память и свободный смысл, також по искусству вреда начнёт познавать, что оные младенческие поступки есть самая глупость и хотя, по его мнению, о лучшем и полезнейшем прилежать будет, однако ж в немалой опасности беды состоит, зане тогда наиболее в нём страсть роскошности или плотиугодия властвует. Для котораго он музыку, танцование, гулянье, беседы, любовь женскую, любодейство за наивысшее благополучие почитает, а покой, славу и богатство презирает. Он хотя учтив, но и презирателен, хотя ласков, да скоро и досадителен, небережный, самохвальный, скорый на гнев, не тайный и в дружбе ненадёжный, обаче поятный, стыдливый и лехко наставление приемлют; для котораго науки большаго разсуждения принимать в лучшем состоянии находятся. И тако и сим помощь других людей и наставление мало меньше, нежели младенцем, потребно.
Но когда умножающимся жаром мокроты изсушается и быстрость течения жидкой и серной крови умножится, тогда настанет возраст мужества. [...]
34. Пословица сия, век жить — век учиться мне довольно известна, по которой я разсуждая, что век человека неравен и неизвестен, того ради и наука никогда совершенна быть может; о несовершенном же и ненадёжном так много прилежать и трудиться, видится, не потребно?
Ответ. Сие ваше речение ни сами вы правильным иметь можете, разсудя, что человек от самаго рождения даже до престарения помощи и наставления требует и без того никогда пробыть не может, как я вам по разностям возраста сказал. Но паче помысли о себе, когда ты каждодневно с людьми обходишься и разговоры имеешь, то мню, что каждой день услышишь, чего не слыхал или слыхал, да не в том обстоятельстве и разсуждении, а особливо междо людьми учёными; естьли же пойдёшь к разным ремесленникам, то всегда у них увидишь новые обстоятельства. И тако всё оное есть невидимое учение и с пользою продолжается даже до смерти.
35. Почто в древние времена меньше учились, но более, нежели ныне со многими науками, благополучия видели?
Ответ. Сим вашим предлогом, не погневайтесь, показываете вы, что мало о знании древностей прилежали, да и не дивлюся, что вы так думаете, которое в природе всех нас вскоренено, что мы мимошедшее хвалим, наставшему дивимся, будущаго чаем. Токмо оное должно быть с разсуждением обстоятельств. Без разсуждения же таким мнением часто не токмо о других неправо судим, но и о себе самих погрешаем. Например, древние филозофы, а более стихотворцы, сказывали о древнем златом времяни, которое всяких человеку недостатков, досад и оскорблений, яко же и во власти над нами страстей, лишено, быть в довольствии и спокойностию одарённо представляли. Но сие может тако разумели, что младенец под призрением и попечением родителей, не имея никаких от страстей происходясчих себе попечений и тягостей, видя, что ему никто не завидует, ни грабит, ни в чести оскорбляет, ни иной коей обиды делает, есть от всего того спокоен, и ему есть сущее златое время. И как тогдашние филозофы обычай имели из малого чего больше делать, прикладами доводить и силлогизмами утверждать, так они, разумея мир весь подобен быть человеку, для котораго микрокозмус, или малый мир, человека имяновали, то легко из бытия и состояния человека состояние мира заключали, да не весьма благоразсудно. Ибо если кто во младости, ни о чём полезном прилежа, отеческим имением в роскошности, то есть играх, ядении и питии, любви женской и т. п., наилучшее своё время препроводил, пришед в возраст мужества, сил и имения лишены, а способности к приобретению своего благополучия не имея и от людей уничтожаем, хвалит прежний свои лета. Видя же других равных или подлейших себя, но прилежностию и благоразсудными поступками любовь и честь у людей приобретших, а себя уничтожаема, дивится настоящему. А понеже человек желанием благополучия чрез всю жизнь видим, то хотя и неприличные к приобретению онаго способы вымышляет, однако ж на них надеется, да всё безразсудно и беспорядочно оканчивая, чрез всю жизнь тем себя обманывает. Противно же тому благие наши и предков наших дела, от которых собственная самим и ближнему польза произошла, можем благоразумно похвалить и тому других наставлять, настоящим переменам мира сего дивиться, да не просто, но внимая по обстоятельствам притчин, отчего оное происходит, и прияв приклады от памяти, что прежде ис подобных тому дел произошло, и разсуждая, что ныне ис того родиться может, благонадёжно уповай, что в том не погрешишь, каковыми образы многие благоразумные люди о предбудущих следствиях дознаваясь, угадывают. Но что касается до наук и разума прежних народов, то мы, взирая на известные нам древния действа, равно можем о них сказать, как о единственном человеке, что со младенчества ничего, в юности же мало что полезное показали, но, приходя в стан мужеский, едва что полезное показывать стали.
36. Како разделяете состояние всего мира на станы[229] младенческий, юношеский и протч.
Ответ. Мы хотя точно тех перемен, как чинились, равно как и о человеке, показать не можем, понеже такие перемены не вдруг делаются и нелегко всё приметит и время точно положить удобно, да для неразсудных суеверцов о том пространно и толковать небезсумнительно. Однако ж, храня посредство, мню, не можно ль так разуметь, что первое просвещению ума подавало обретение письма[230], другое великое переменение учинило пришествие и учение Христово; третие — обретение тиснения книг. И тако мнится, что удобно можем сравнить до обретения письма и закона Моисеева[231] со временем младенчества человека... [...]
41. Вы прежде сказали, что человек, если токмо внятно подумает, себя самого и протчую тварь прилежно будет разсматривать, то без всякой науки, единым естественным смыслом дойти и ощутить может, еже есть един творец и содержатель твари, то есть всевысшее и непостижимое величество, от него же вся видимая и невидимая произошла, им содержится и управляется, и всё, что есть, в его воли и повелении состоит, и ничто противо всемогущей и предведущей воли его быть не может, и сие то ж самое, что мы бог имянуем. По сему вашему предложению филозофам, которые день и нощь о испытании естества и сущей пользы искали и прилежно поучались, наиболее им удобно было истиннаго бога познать. Но вы, описуя оных, показываете, что они безделицы и никоего почтения достойные вещи за бога почитали, а истиннаго не зная, сущими безбожники, или афеисты, были?
Ответ. Истинно есть, что человек по естеству познать бога способность имеет, если токмо внятно и прилежно о том помыслит, к чему нам сей видимый мир за наилучшую книгу служить может, о чём и учители христианские многие утверждали, особливо Тертулиян, Антоний Великий, Августин и Златоуст в их книгах, и наш Дмитрий Ростовский архиепископ утверждает. Особливо же о сём аглинской епископ Дергам в его преизрядных книгах, имянуемых астро- и физико-феология, изъяснил, которые бы весьма небезполезно на наш язык перевести, ибо оные не токмо у христиан разных исповеданий в немалом почтении, и для того на все языки переведены, чтобы у мохометан и самых идолопоклонников оныя чести не лишились. Что же ты оных древних философов афсистами или безбожниками имянуешь, оное правда, что некоторые древние филозофы тако от других имянованы, яко Ксенократ, Диогор, Феодор Киренаик, Анаксимандр[232] и другие. Но понеже их собственных книг не осталось, а остались токмо те изъяти, которые пишущие противо их показуют, и для того оное за истинну принять неможно, видя, что ныне многие, противо других пишущие, по злобе не сполна речи противников своих берут и доказательства или изъяснения утаивают, и тако неповинно клевещут как вам в книге Камень веры[233], противо протестантов[234] на многих местех пишущаго, видно. Но паче оных надлежит имяновать многобожники, зане множество богов верили. А чтоб мог быть в мире человек, которой бы как глуп или злонравен ни был, а бога быть не верил, того верить неможно. Меньше же о сих правда, что, взирая на их многобожие, в котором так непотребные смертные и тленные вещи за богов почитали, молено бы мнить, что они истиннаго бога не знали, и то о самом простом народе разве сказать, да не без сумнения ж, ибо они хотя от недостатка просвещения правильно о боге разуметь и ему необходимо нуждные или божеству приискренние свойства приписывать не разумели, однако ж всегда пред другими именами, хотя и неприличными, свойства творца твари быть верили. Яко некоторые разумели начало всего быть время, иные называли Юпитер или небо, как то и ныне китайцов видим, что всевысшаго бога и творца твари имянуют небо, но оное, яко невещественное и непостижимое, от вещественнаго и видимого отделяют. Да и сии ещё довольные науки имеют, но остяки[235], самояды и т. п. наши язычники хотя никакого учения и письма не имеют, в житии и обхождении более зверем, нежели людей, подобны, в вере глупейшие идолослужебники[236], ибо всё, что токмо ему полюбится, за бога почитает, ему кланяется и от него милости просит. Но когда ево спросишь (как то неоднова случалось), где есть сущий бог, которой сотворил небо и землю, то тотчас укажет на небо и скажет, что они ему единому кланяются и почитают, а сей, то есть идол, токмо образ его. Калмыки суть також идолопоклонники тангутскаго учения, имеющие закон письменный; они бога имянуют двояко, тенгри и бурхан. Но тенгрии у них хотя и невидимые суть, но их множество кладут, и по разсуждению видится то ж самое, что у протчих ангели и демони имяновано, бурхан же идол всякий разумеют; третие, далай-ламу також за бога безсмертнаго и всеведущего почитают. И хотя они о творце твари и едином начале всего бытия изъясниться по их книгам не могут, обаче небо, или высшее существо, яко и китайцы, признают. Коль же паче непристойно об оных не токмо филозофах, поверя противникам их, но и о подлости их народов думать, чтоб были безбожники, как Полидор Виргилий[237] о многих филозофах, признавших бога, описал, да и доказательством видим противное, что те, которые наивяще о боге учили, тех неразсудные не токмо афеистами называли, но и смертию казнили. Как то читаем, Епикур, которой жил до Христа за 450 лет за то, что поклонение идолом и на них надежду отвергал и сотворение света не тем богом, которым протчие приписывали, но невидимой силе или разумной притчине присвоил, угобжению душевному чрез воздержание телесное учил, от стоиков многими неистовы оклеветан, якобы тварь самобытну учил, и за то афеистом имянован. Сократ жил пред Христом за 400 лет, учил благонравию, предоставлял, еже бог есть всевысший и будущую жизнь настоящей предпочитал, а идолов отвергал за то от Аниты и Мелита злочестиями и безбожеством оклеветан и на смерть осуждён. Но потом не токмо от язычников за премудрейшаго во всей Греции почтён, но и христианские учители, яко Иустин мученик, тако и другие святыи отцы его хвалили и о его спасении не сумневались. Его ученик Платон довольно о всевысшем боге разсуждал, хотя за страх учинившагося с учителем его идолослужение явно опровергать не смел. Сего же ученик Аристотель, довольно оным ругаясь, истиннаго бога признавал, но зато по оклеветанию во афеистстве принуждён, Афины оставя, нагло умереть. Сей от многих учителей церковных, яко Тертулиана, Геронима, Августина и пр., похвален, и хотя сей в 13 сте от пап за афеиста оглашён и книги читать запрещены, но потом папою паки разрешены. Сенека, учитель Неронов, за учение благочестнаго жития пострадал и умерсшвлён. Прочих же их многих не упоминаю, по довольно можешь видеть, что хотя идолопоклонники за оскудением сущаго света истинны лишались и в темноте многобожия пребывали, но безбожников и междо ими не видеть, и что невежды умных и учёных людей безбожниками, или афеистами, называли, оное наиболее от злости и сущаго буйства и невежества происходило. Да сему и дивиться неможно, ибо недостаток просвящения наибольшею того притчиною был.
Паче же ужасно от гистории видим, что подобнаго тому в христианстве последовало, видим бо высокаго ума и науки людей невинно тем оклеветанных и проклятию от пап преданных, как то Вергилий епискуп за учение, что земля шаровидна; Коперникус за то, что написал земля около солнца, а месяц около земли ходит, Картезий за опровержение Аристотелической филозофии и за учение, чтоб всё сущими доказательствы, а не пустыми силлогисмы[238] доводить, Пуфендорф за изъяснение естественного права, которым несколько непристойные папежские законы, или Юс Каноникус, нарушились, прокляты, афеистами оглашены, и книги их употреблять запрещены были. Но потом, не хотя, сами папы всё оное не токмо за полезно, но и правильно признали. И сие токмо в науках философских, коль же паче того в науках церковных находится, и колико сот человек в Италии, Гишпании и Португалии чрез инквизицию[239] каждогодно раззоряют, мучат и умерщвляют токмо за то, что кто с папою не согласует или его законы и уставы человеческими, а не божескими имянует, а большая тому притчина властолюбие и сребролюбие панов. Да и у нас того не без сожаления довольно видимо было, как то Никон[240] и его наследники, над безумными раскольники свирепость свою исполняя, многие тысячи пожгли и порубили или из государств выгнали. Которое вечно достойный памяти е. и. в. Пётр не именем, но делом и сущею славою в мире великий, пресёк и немалую государству пользу учинил. [...]
43. Когда и какое исправление в науках обретением тиснения книг явилось?
Ответ. Тиснение книг хотя в Китаях, по свидетельствам многих описателей, есть древнее искуство, но иным образом, нежели в Европе, ибо тамо вырезывают на досках, у нас же набирают крушцовые буквы[241]. Сие в Европе начало своё возимело не прежде 1440 лет по Христе, и вероятно, что перенесено от китайцов, ибо первое тиснение было досками ж, но потом чрез искусных людей со временем переменено и в лучшее состояние приведено. Что же пользы от тиснения книг касается, то не потребно много толковать о том, что сами можете разсудить и видеть, ибо списывать какую-либо книгу весьма медленно. [...]
Прежде же хотя учёные люди для пользы ближняго изрядные и нуждные книги писали, но оные в одних руках завидливых чрез долгое время в заключении пребывали и те иногда от имеющих противное мнение переправками испорчены. Многие же от нечаянных случаев погибли, как то в письме святом, також от филозофов, мафематиков, историков и пр. упоминаемые с сожалением видим утрачены; особливо читаем о библиотеке Птолемеевой[242], в которой, також и у нас в училище Константина Мудраго[243], так великое число книг погорело, а чрез то многое памяти и наставлению достойное принуждено погибнуть. Чрез тиснение же изданные хотя б во сте местах погибли, то ещё в 1000 и более таковые ж целы останутся, как то по обретении тиснения в скорости множество полезных древних книг немалым числом стали печатать, а чрез то, оные всяк имея, способнее к распространению наук прилежать стали, многия училища и академии по разным местам устроены и чрез оные больший свет истиннаго разума открыли, тогда как в богословии, так филозофии, яко законоучении, мафематике, физике, гистории, протчих вольных науках, яко и в полезных ремёслах, великое исправление явилось и от часу стало возрастать и распространяться, зане учёных от часу умножилось. И хотя сие папе и его сообщникам весьма не полезно было, однако ж весь его труд противо быстроты онаго течения постоять не мог, но вскоре темноты его плотину разорвало и много власти, силы и доходов его убавило. Что же веры принадлежит, то Виклев и Гус[244], хотя с нещастливым окончанием, начинатели явились, но Лютер и Кальвин довольно престол оный назад подвигнули, и если б не Фердинанд, архигерцог аустриской, которой тогда чрез папу о цесарстве по брате добивался, оное удерживал, то б, конечно, оное далее воспоследовало. В нравоучении Гуго Гроций[245], а потом Пуфендорф в физике или всей филозофии[246] Картезий в мафематике, а паче острономии Коперник и Галилей, яко же и Браго, несмотря на папежские пресчения и не боясь проклятия его, истинну доказали и так утвердили, что наконец и сами паписты со стыдом принуждены истинну оных признать. Чрез сие же в филозофии многие способы ко испытанию и дознанию не дознанных прежде свойств обретены, яко трубы зрительные, микроскопии, зеркала зажигательные, насосы водяные, трубы воздушные, или антилиа пнеуматика, и многие и неисчётные к способности работ машины, яко же и самые часы, весьма в лучшее и порядочное состояние приведены. Что ж сказать в орудиях военных и мафематических, в строениях домов, крепостей и водных великих городов или кораблей, то, видя и к прежднему примени, всяк скажет, что тиснение книг великой свет миру открыло и неописанную пользу приносит. И тако сей настоящей век началом старости благоразумной или совершенному мужеству применить можем. [...]
46. Я о сём, яко до церкви принадлежащем, оставляю далее вопрошать, но слышу, что светские и люди в гражданстве искусные толкуют, якобы в государстве чем народ простяе, тем покорнее и к правлению способнее, а от бунтов и смятений безопаснее, и для того разпространять за полезно не почитают.
Ответ. Я верю, что вы то слыхали, да не верю, чтоб от благоразумного политика или вернаго отечеству сына, но паче, мню, от неразеуднаго или мохиовелическими плевелы[247] насееннаго сердца произнесённое. Благоразсудный же политик всегда сущею истинною утвердить может, что науки государству более пользы, нежели буйство и невежество, произнести могут. Я вам прежде говорил, колико науки полезны, а незнание или глупость как себе самому, так малому и великому обществу вредительно и бедно. Ты разсуди сам, что по природе всякой человек, каков бы ни был, желает: 1) умняе других быть и чтоб от других почтение и любовь иметь; 2) как всякому необходимо помощь других нуждна, так он тех помощников, яко жену, друзей и советников, ищет умных и к принесению пользы ему способных; 3) зане сии не в состоянии все нам потребные услуги приносить, того ради прилежит человек, если можно, умных, верных и способных служителей иметь, понеже на умнаго друга более может надееться, что он ему в недознании доброй совет и помощь подаст; а служитель умной всё повеленное и желаемое с лучшим разсуждением и успехом, нежели глупой, произведёт и совершит, а в случае и совет или помощь подать способен. Но во оном наипервее собственный разум должен преимуществовать, дабы как о друге и помощнике, так и о рабе мог по состоянию каждаго разсудить, какая от кого польза быть может, и по тому онаго употреблять, яко иной способен на разсуждение, другой к обороне, ин же к трудам и работам. И тако благоразумной от каждаго по способности пользу иметь и другим полезен быть может. Противно же тому несмысленный и неискусный сам себе вреды и беды неразумием начинает и производит, советом разумных верить не способен и, сумневаяся, полезное оставляет или, начав, произвести не умеет, а глупым и вредительным советам последует, да и обрести умнаго друга не в состоянии; он умному служителю полезное повелеть и определить не знает. Коль же паче трудность и вред происходит, когда глупых советников и служителей имеет, что все его намерения и дела без порядка начинаются и со вредом кончаются, и от такова никакой пользы ни ему, ни обсчеству уповать неможно.
Ещё же можем тако о разности науки и неведения разсуждать.
Разумный человек чрез науки и искусство от вкоренившихся в его ум примеров удобнейшую поятность, твердейшую память, острейший смысл и безпогрешноо суждение приобретает, а чрез то всякое благополучие приобрести, а вредительное отвратить способнее есть. Он советы и представления испытует и по обстоятельству вещей поемлет, преждния же деяния и случаи, от памяти взяв, с настоящими уподобляет и всё, благоразсудя, определяет, неправильным и впредь вредительным не прельщается, безстрашных обстоятельств не боится и, на отвращение страха мужественно поступая, отревает и побеждает, в радости и щастии не превозносится и оному не верит, а в нещастии не ослабевает, беды же и горести великодушием преодолевает и, своим довольствуйся, чужаго не ищет. Противно же тому неведение, всяким неправильным советом и предлогом прельщайся, верит, но вскоре узнавает, что обман есть; он сущаго страха не боится, а где несть страха, трепещет, в печали и радости неумерен, в щастии и нещастии непостоянен и во всём вместо пользы наносит себе вред; и сия есть разница между учёным и неучёным. И хотя сие о единственном человеке говорено, но по сему можешь и о целых народах или государствах разсуждать, особливо, если хочешь обстоятельно знать, прочитай гистории древних времян, увидишь многих народов и государств примеры, что от недостатка благоразумного разсуждения разорились и погибли, которых память токмо на бумаге осталась. Да почто о других читать, довольно своего государства горесть вспомянуть, что после Владимира втораго от неразумия князей и потом по смерти царя Фёдора Ивановича до воцарения царя Михайла Фёдоровича произошло, что едва имя российское вконец не погибло[248]. Что же касается до бунтов, то вы сами можете сказать, что никогда никаков бунт от благоразумных людей начинания не имел, но равномерно ересям от коварных плутов с прикрытием лицемернаго благочестия начинается, которое, между подлостию разсеяв, производят. Как то у нас довольно прикладов имеем, что редко когда шляхтич в такую мерзость вмешался, но более подлость, яко Болотников и Баловня, холопи, Заруцкой и Разин[249], казаки, а потом стрельцы и чернь, всё из самой подлости и невежества. Токмо в чужестранных видим Кромвеля[250], человека учёного, но и тот (яко хищником престола нуждно есть) всё оное с великим лицемерством под образом сущия простоты и благочестия злость свою произвёл и, прилежа народ далее в том безумном суеверии содержать, все училища разорил, учителей и учеников разогнал, дабы в неучёных удобнее коварство своё скрыть мог. Если же генерально о государствах сказать, то видим, что турецкой народ пред всеми в науках оскудевает, но в бунтах преизобилует. В Европе же, где науки процветают, тамо бунты неизвестны. Сего ради многие благоразумные государи неусыпно о распространении наук прилежали, как то видим во Франции Генрик 4 и Людовик 14, в Англии Генрик 8 и Елизавета, в Гишпании Карл 1, в Швеции Густав и Крестина[251]. В России Пётр Великий если не всех оных превосходит, к тому если б я тебе старание и прилежность ея императорокаго величества, ныне благополучно царствующей государыни, сказал, то б ты мог подумать, что я по пристрастию хвалил. Однако ж ведаю, что ты сам видишь, и верю, что мы им ни похвалы, ни благодарения принести по достоинству не в состоянии, но паче верю, что будущие веки более, нежели мы, во оном преисполнят.
47. Хотя вы на вопрос мой пространно мне о безопасности от наук показали, но сие, видится, принадлежит токмо до знатных или шляхетства, мой же вопрос был о подлости[252].
Ответ. Мой государь, прошу мне оную вину, что я невнятно выразумел, отпустить, ибо подлинно то разумел о шляхетстве. А понеже шляхетство в государствах почитается за природное войско, которых должность от самаго возраста до старости государю и государству, не щадя здравия и живота своего, служить. Начало же оных римляне кладут якобы от Ромула учреждены, и служили во младости конницею в войске, а в мужестве и старости в советах и правлениях гражданских, за которое они всем протчим станом предпочтены и владениями земскими, то есть вотчинами, награждены, чего купечеству и крестьянству, яко же и протчим нешляхетным иметь почитай во всех европейских государствах доднесь запрещено. А если кто по случаю не шляхетный вотчины получит[253], таковыя сверх положенных на шляхетские вотчины податей повинны некоторую часть от их доходов в казну государственную платить, доколе они совершенно в тот стан от высшей власти введены и жалованною грамотою утверждены будут. Сей политической вымысл есть весьма изрядный, чтоб более в войске служить охотников и способных воевод, яко же и советников или градоправителей искусных было, и для того я пример о советниках и служителех употребил. А теперь скажу об оных подлых.
Хотя противо неприятелей государство защищать и оборонять напредь сего должность была общая всего народа и всё совокупно на войны ходили, но потом, как гражданство, купечество и земледельство за нуждное и полезное в государстве приято, тогда, оных в покое оставя, особных людей к обороне и защищению государства определили. Но сии были двоякие, одни должны были наследственно в войне пребывать и для того инде всадники, или конница, у нас же дворяне, яко придворные воины, у поляков шляхта от шляха, или пути, имянованы, запе всегда в походы должны быть готовы. Другие подлые, яко козаки и проч., и сии более пехотное, но не наследственно, дети бо их могли иное пропитание искать, как то от гисторей других государств и наших видим. И для того о умножении сего полезнаго стана государи прилежно старались, как то царь Алексей Михайлович несколько тысяч гусар, рейтар и копейщиков[254], собранных перво из крестьянства и убожества, по прекращении польской войны деревнями пожаловал и в дворянство причёл, от того в Крымском походе 1689[255] одного шляхетства более 50000 счислялось, в начале же Швецкой войны близ 20 полков драгунских[256] из дворянства набрано и во всей пехоте офицерством наполнено было. Затем великая часть в услугах гражданских употреблялись, а из служителей дворовых пехота была устроена. Но чрез оную и другие так тяжкие и долголетные войны так шляхетства умалилось, что везде стал недостаток являться, и для того нужда позвала из крестьянства в солдаты, матрозы и другие подлые службы брать. А как многократно случается, что на благоразсудности одного солдата целой армии благополучие или безопасность зависит, а от глупости великой вред произойти может, и для того нуждно, чтоб солдаты были благоразсудные. Також нуждно есть чтоб всякой салдат о том мыслил и прилежал, чтоб в обер- и штаб-офицеры[257] дослужиться, для котораго ему необходимо нуждно все свои поступки благоразсудны и порядочны иметь и во исполнении должности прилежну и бодру быть, ис чего не токмо ему собственно, по и государству польза происходит. А понеже неумеющему грамоте к получению онаго путь пресечён, следственно же, желание и снискание онаго пресекается, и от него желаемая польза не благонадёжна. Да ежели б такой нашёлся, что только писать и читать научен был, и, в нижних чинах быв, за страх наказания благонравием себя к произвождению удостоил, но вышел ис под палки и не разумея, что из противных благонравию поступков собственный ему вред и беда происходит, весьма инаго и непотребнаго состояния явится, каковых мы прикладов с немалою досадою довольно видим. Естьли же бы и того не было, но не имея других полезных наук, за недостатком искуснейших или по старшинству до полковничества произошёл, то какой пользы от него надееться или нуждную команду, где более на разсуждении, нежели на инструкции, зависит, поручить ему без опасности возможно. Но паче мню, что такой и капитаном не без опасности быть может, ибо по его чину суд и расправа на нём за висит и многократно в партиях, заставах и посылках не малое на его благоразумном поступке зависит. Да ещё более вред от неучения народа, что наши духовные или церковные служители, которых по закону божию должность в том состоит, чтоб неведущих закону божию поучали и на путь спасения наставляли, з горестию видим, что у нас столько мало учёных, что едва междо 1000-ю один сыщется ль, чтоб закон божий и гражданский сам знал и подлому народу оное внятным поучением внушить и растолковать мог, что убийство, грабление, ненависть, прелюбодейство, пиянство, обжирство и т. п. не токмо по закону божию смертельный грех, но и по природе самому вредительно и губительно, ибо без отмщения или наказания никогда преходит, закон же гражданский по обличению на теле или смертию казнит. Но они, оставя оное внутренних добродетелей нужду, человеческим преданием и внешним благочестиям поучают, от чего у нас так множество коварных и душевредных ябед[258] в судах, лихоимства и неправд, разбоев, убийств, граблений происходит, что нам иногда, на благонравие других взирая, стыдно о себе и своих говорить, да ещё того горше, что такие неуки и неведущие закона божия оных тяжких злодеяний и в грех не ставят. А если признает за грех, то он в довольное умилостивление бога поставляет, когда свечу иконе поставит, икону серебром обложит, не мясо, но рыбу ест и на покаянии попу за разрешение гривну даст, то уже думает, что ему грех оной отпущен и впредь в той надежде на дальшее поступает. Противно же тому видим, как в других науками цветущих государствах таковых злочестий весьма редко слышится, посему надеюся, что оное лживое разглашение отвержешь, а о научении и самой подлости со мною согласишься. Да и онаго махиовелиста кратче скажу, если бы ему по его состоянию всех служителей, лакеев, конюхов, поваров и дровосеков всех определил дураков, а в дворецкие, конюшие и стряпчие[259] и в деревне прикащиков безграмотных, то б он узнал, какой порядок и польза в его доме явится. Я же рад и крестьян иметь умных и учёных. [...]
49. Я хотя вас сначала спрашивал, что наука есть, на которое вы сказали, что знать добро и зло, но по многом разговоре от того отдалились, того ради прошу, чтоб мне обстоятельно сказали, чего человеку учиться нуждно?
Ответ. Я вам прежде сказал, что нуждно человеку том прилежать, чтоб в совершенство притти и оное сохранить пребывание, елико[260] по естеству возможно продолжить удовольствие, а потом и спокойность приобрести, по которым и науки суть разных свойств и качеств.
И хотя все их подробну толковать весьма пространно и в великую книгу уместить неможно, однако ж я вам кратко скажу. В начале науки разделяются у филозофов по объявленным свойствам сугубо: душевное — богословия и телесное — филозофия. По первому к совершенству наипаче нуждно прилежно стараться, чтоб память, смысл и суждение в доброй порядок привести и сохранить. Другое внешнее, как вам прежде сказал, еже душа с телом толико связаны, что от повреждения телесных членов повреждаются и силы ума. Того ради нуждно и о внешних прилежать, дабы ни один член из надлежащаго природнаго состояния не выступил или не повредился, а почему неё и пр. разуметь можно.
Другое же разделение есть моральное, которое различествует в качестве, яко: 1) нуждные, 2) полезные, щегольские или увеселяющие, 4) любопытные или тщетные, о) вредительные. Но притом некоторые и по стану или состоянию человека могут быть нуждны или полезны.
50. Которые науки нуждные?
Ответ. Как человек из дву разных свойств, то есть души и тела состоит, так его и науки по свойствам оных разделяются. Но понеже телесныя наипервее начинаются, того ради о сих прежде скажу, а оными заключу.
Телесные науки, по вышеобъявленному, нуждны к совершенству.
1) Речение, которым мы пред протчими животными преимуществовать не пщуем[261], в недостатке бо речения ни совершён, ни доволен, следственно, спокоен быть человек не может.
2) К пребыванию[262] нуждно учиться, чем бы плоть свою и свой род содержать и сохранить, для которого по природе нам нужно, как прежде сказал, о имении, нище, одежде и жилище спокойном прилежать, оное добрыми и правильными способы приобретать, а приобретённое з добрым порядком употреблять и сохранять, дабы в случае нечаяннаго недостатка нужды не терпеть. И сие имянуется домоводство, гречески оекономия.
3) Прежде вам изъяснил, что пища питие непотребное или и лучшее, да надмерно употребляемо, наносит нам болезни, а ис того происходит прекращение пребывания, или смерть, и хотя не знающия силы часто боль наго прилежат пищею укрепить, но тем многократно и убивают. И для того нам нуждно прилежать о знании качеств и употреблении количества бранней, дабы мы мог ли здравие, следственно, пребывание или жизнь продолжить, а по утрачении здравие возвратить. Которая наука имянуется врачество, или медицина.
4) К спокойности телесной и душевной нуждно человеку со младости обучаться, чтоб мог себя от враждущих и нападствующих сохранить и обидеть себя не допустить. Но понеже человек по естеству на зло склонен и часто своими непристойными поступки и обидами других на отмщение себя возбуждает, следственно, сам себе беды и пакости наносит. Того ради нуждно самому перво научиться себя так содержать, чтоб никому досады, не токмо обиды, не учинить и в том крайне прилежать, о чём в правилах закона естественнаго довольно показано. И сие называется нравоучение. Оборона же и мщение правильное по закону нам не возбраняется, но зане мы живём под законом и собственные обороны или отмщения для общаго спокойства запрещены и обидителям наказании, а обиженным награждении предписаны, того ради должно нам не токмо законы божественные, яко естественный, библический[263], церковный и гражданский своего отечества знать, но и силу законодавца внятно и благоразсудно разуметь и по оным поступать. Сия наука имянуется законоучение. А к тому ещё, наипаче же шляхетству, нуждно обучаться оружием себя, яко шпагою, пистолетом и пр., оборонять, зане сей стан особливо для обороны отечества и отвращения общаго вреда устроен.
5) Что до души принадлежит, то хотя так бы надлежало думать, что оная, яко дух, никоего обучения не требует, как прежде говорено, однако ж надобно о том трудиться, чтоб члены, чрез который она силы свои изъявляет и движения производит, чрез частое к порядочному движению и прывычке действо производить, чтоб от вне представленные правильно поять[264], твёрдо в памяти содержать, подобности и следствия с смыслом изображать и правильно судить. На что особливая наука логика с пользою устроена.
6) И последнее, нуждно человеку о спокойности души паче всего прилежать, дабы в жизни непотребными и вредительными от необузданной воли попечениями не отягощалось, а паче о будущем и вечном, нежели о настоящем и тленном совершенстве, пребывании и угобжении[265] прилежать. Но сие не может совершенно быть прежде, как человек, яко тварь, познает творца и господа, какое всякому по природе возможно, если токмо внятно помыслить. Что же свойств или обстоятельств божиих касается, то наш ум не в состоянии о том внятно разуметь, да и нужды нет, ибо довольно, что я знаю и верю его быть всех вещей творца и господа, и верить, что он един вечный, безлетный[266], всемилостивый, всеведущий и всюду присутственный, всё, что есть, от него и в ево воли состоит, без воли же его ничто сотвориться не может. Но к тому нуждно нам волю его знать, которая в божественных его законах предписана, и прилежать, елико возможно, оное исполнять, а запрещеннаго им, хотя нам по неразсудности иногда видится приятное, но по учинении вредительное и губительное, онаго воздержаться и бежать. И сие учение имянуется богословия.
Сии науки яко душевно, так и телесно весьма нам нуждны, ибо от неискуства или незнания в них заключающагося пользы и вреда благополучны быть и спокойности приобрести не можем.
51. Которые науки полезные?
Ответ. 1) Полезные те, которые до способности к общей и собственной пользе принадлежат и суть многочисленны. Междо всеми полезными науками письмо есть первое, чрез которое мы прошедшее знаем и в памяти сохраняем, с далеко отстоящими так, как присудственно говорим и ещё иногда лучше нежели языком, мнение наше изобразить можем. И хотя в мире можно сказать, что едва сотая часть письмо умеющих сыскаться может ли, и много незнающих в большем благополучии, а грамоте умеющих в погибели находятся, для котораго и пословица лежит: «Грамоте горазд, не умеет ли пропасть», но сие не от грамоты, но от злодеяния приключается. Письмо же всякаго стана и возраста людем есть полезно, когда токмо правильным порядком и з добрым намерением употребляемо. Но притом надобно и о том прилежать, чтоб научиться правильно, порядочно и внятно говорить и писать. Для того полезно учить и своего языка грамматику.
2) Ещё же человеку, обретающемуся в гражданской услуге, а наипаче в чинах высоких, яко же и в церковнослужении быть надежду имеющему, полезно, а иногда и нуждно знать красноречие, которое в том состоит, чтоб по обстоятельству случая речь свою учредить, яко иногда кратко и внятно, а иногда пространно, иногда темно, и на разныя мнения применять удобное, иногда разны ми похвалами, иногда хулениями исполнить и к тому прикладами украсить, что особливо статским придвориым и в иностранных делах, а церковным в поучениях и в сочинении книг полезно и нуждно бывает. И сия имянуется рускии витийство, гречески реторика.
3) Инородные языки, дабы мы других, не токмо сообщник с нами подданством внутрь России, но и пограничных или имеющих с нами торги и войны народов разуметь и им наше мнение объявить могли. Но сие полезно тогда токмо, когда правильно употребляемо, безразсудное же употребление, го есть примешивание иноязычных слов в свой язык, вредительно. Как то видим многих, но большею частию неразумных и неучёных, от хвастовства и неразсудности не токмо в разговорах, но в письмах весьма нуждных странные слова употребляют, да и к тому не в той силе и разуме или неправильно, а для чего то, сами сказать не умеют, кроме хвастанья, что умеет чужие слова выговорить; а что ис того вреда происходит, того они разсудить не могут.
4) Полезно человеку учиться счислению. И хотя простое счисление младенцы купно с языком от воспитателей приемлют и от употребления с одного до миллиона счислять могут, но сие всякому не довольно, а надлежит знать и счисление разных вещей по их качествам, мерою и весом, которое гречески обще мафематика именуется. А понеже в ней весьма много разных обстоятельств заключено, того ради каждая часть особливое звание, но более греческий от древности сохраняют. И хотя всё подробну сказать и каждой свойство описать времяни не достанет, но скажу вам токмо о главных тоя частях, яко арифметика, или счисление, геометрия, или землемерие, механика — хитродвижность, архитектура — строительство, и сии всякаго звания людей полезны. Следующая же тоя части, яко перспектива, оптика, или видение, акустика — слышание, астрономия — звездощисление, некоторым людем учить полезно.
5) Весьма полезно в знатных услугах[267] быть чающему учить не токмо отечества своего, но и в других государств деяния и летописи, или гистория и хронография, генеология, или родословие владетелей, в которых находятся случаи щастия и нещастия с причинами, еже нам к наставлению и предосторожности в наших предприятиях и поступках пользуются. Землеописание, или география, показывает не токмо положение мест, дабы в случае войны и других приключениях знать всё онаго во укреплениях и проходах способности и невозможности, притом нравы людей, природное состояние воздуха и земли, довольство плодов и богатств, избыточество и недостатки во всяких вещах. Наипаче же собственнаго отечества, потом пограничных, с которыми часто некоторые дела, яко надежду помощи и опасность от их нападения имеем, весьма обстоятельно знать, дабы в государственном правлении и советах будучи о всём со благоразумием, а не яко слепой о красках рассуждать мог.
6) Хотя все врачеве сказуют, что человек, пожив 40 лет, искусяся в болезнях и довольное разсуждение имея, может сам для себя врач быть, но к тому полезно знать ботанику, или знание силы росчений[268], також анатомию, или расчленение, чрез что б совершенно познать внутренних тела своего частей положение и движений притчины. Но сии науки хотя всякому полезны, однако ж более принадлежит тем, которые особливо себя во врачество управляют.
7) Весьма же полезно знать свойство вещей по естеству, что из чего состоит, по которому разсуждать можно, что ис того происходит и приключается, а чрез то многие будущия обстоятельства разсудить и себя от вреда предостеречь удобно. Сия наука гречески зовётся физика, рускии естествоиспытание. И к тому химия, или разделение внутреннее вещей, принадлежит.
52. Какие науки сщегольские разумеются?
Ответ. Оных наук есть число немалое, но я вам токмо некоторые упомяну, яко: 1) стихотворство, или поезия, 2) музыка, руски скоморошество, 3) танцование, или плясание, 4) вольтежирование, или на лошадь садиться, 5) знаменование и живопись. Которые по случаю могут полезны и нуждны быть, яко танцование не токмо плясанию, но более пристойности, как стоять, итти, поклониться, поворотиться, учит и наставляет. Знаменование же во всех ремёслах есть нуждно.
53. Какие науки любопытные и тщетные?
Ответ. Сии суть такие науки, которые ни настоящей, ни будущей пользы в себе не имеют, но большею частию и в истине оскудевают, яко: 1) острология — звездопровещание, которым хотят предбудущая от стояния планет и звёзд познавать; из сея науки календаристы о погодах нативитеты, или от рождения людей им предбудущия припадки и случаи хотят знать; 2) физиогномия, или лицезнание, что по сочинению лица и морщинам, 3) хиромантия — рукознание, что по чертам или морщинам рук жизнь и случаи человека разуметь тщатся, от дневних языческих баснословий остаются. И хотя сии ни физическаго, ни мафематическаго основания не имеют и у людей учёных в презрении и совершенном уничтожении суть, однако ж много таких суеверных, паче людей меленхоличных (которые от природы сребролюбивы и страхами исполнены), немалое место находят, что не токмо сами себя, но и других неблагоразсудных обманывают и в беспутные страхи и надежды приводят. Сверх же того оное божескому и моральному учению противно, ибо если бы мы совершенно все приключения предписанныя и неизбежные разумели, то бы не имели нужды жить по закону. К сему же 4 есть наука алхимия, или делание золота, которая, мню, не лучше оных вышеобъявленных, ибо хотя чрез прилежащих во оной нечаянно многие пользы обретены, но большая часть от оныя разоряются и доднесь[269] ещё, кроме баснословей, ищемаго не обретено.
54. Какие науки вредными быть мнишь?
Ответ. Сии глупяе преждереченных, иже зовутся волхования, ворожбы, или колдунство, и суть разных качеств. У древних на многие роды разделялись, яко: некромантия — чрез мёртвых провещание, 2) аеромантия — воздуховещание, 3) пиромантия — огневещание, 4) гидромантия — водовещание, 5) геомантиа — землевещание и пр. множайшая. А наипаче у язычников оракули, или божеския предсказания, известны были, не более в обманах духовных и суеверестве пребывающих просвещения состояли. Но я сии оставляю, а упоминаю токмо о известных у нас. 1) Есть провещание, что из сновидений, встречи, полёты и крики птиц, бегание зверей щастие и пещастие хотят разуметь. 2) Зовётся просто ворожба, что некоторые плуты вымыслили чрез роскладывание бобов или костей, пунктирование на бумаге, литьё воска или олова и пр., хотят о далеко стоящем и предбудущем сказывать. 3) Заговоры и привороты глупяе того, о котором мнят, якобы из заклинания произошло, а заклинания обретение Иосиф Влавий[270] приписует Соломону. Но я мню, что некоторые великие плуты или безумные меланхолики вымыслили что-либо словами делать, например течение крови или болезнь унимать, от стрелы или другаго оружия заговорить, любовь или ненависть междо двемя особами произвесть. Что хотя никак человеку учинить невозможно, но токмо довольно от гисторей известно, в какие беды от такого безумия люди впадали и не токмо имение или здравие, но и жизнь с поношением погубили. 4) Всего глупяе чернокнижество, чрез которое мнят что-либо чрез диявола делать. Сия наука с древних за великое таинство почиталась, и верили многие истинному быть действу. И хотя не весьма в давных летех в Германии, а паче во Швеции таких людей множество находилось, что не токмо в таких колдунствах от других оговариваны, но сами на себя яко сущую истинну затевали и померли. Но потом довольно доказано, что оное ничто более, как ума повреждение и необузданная злость есть, что многие учёные физического и богословско доказали, еже человек чрез диявола ничего учинить не может. И как за оную казнить перестали, а учением исправляют, то и таких людей умалилось, где же учение распространяется и священники прилежнее о том народу толкуют, тамо весьма уже не слышно. И хотя сии науки или зломудрия ничего совершеннаго в себе не имеют и по разсуждению многих философов смертию их, яко умоизступленных, казнить не безгрешно, но за то, что, оставя полезное, в безпутстве время тратят и других обманывают, телесное наказание неизбежно должны. Не безприлично же сему дурачеству вымысел кликуш и кликунов, которые сказывают в себе быть диявола, что сами себе от злости, когда иным образом досадить не могут, яко бабы, не любя мужа, свекровь и пр., оное притворяют, иногда же в том притворе невинно на кого-либо клевещут и в нескысленных злобу производят. Иныя же по научению сребролюбивых церковников такие притворы чинят, дабы чрез изгнание того новое чудо явить и от людей суеверных деньги выманивать. Котораго зла в России весьма было расплодилось и повсюду в церквах, а особливо в праздники при службе божией мерские крики и ломание тела произносили, но вечно достойный памяти его императорское величество Пётр Великий жестокими на теле наказании всех оных бесов повышал, так что ныне, почитан, уже нигде не слышно, а особливо в тех местах, где благоразсудной начальник случится.
55. Как вы науки разумеете быть, по стану или состоянию, нуждны или полезны?
Ответ. По разности станов и состоянию в людех всех наук точно описать неможно, ибо по склонности охоты людей, а к тому и случаи бывают разные, однако ж кратко о некоторых скажу. Например, наука пнеуматика, которою толкуется о свойстве, качестве и силе духов, богословам весьма нуждно, филозофам полезна; гисторикам же, политикам и другим многим, почитай, обще не потребна. Противно же тому, гисторикам и политикам география, филозофам мафематика необходимо нуждны, но духовным до оных дела нет. И паки врачам анатомия, химия и ботаника суть нуждные, но богословам, политикам и гисторикам весьма не нуждно. Однако ж кто что не полезных наук ни знает, всё невидимо пользу приносит тем, что память, смысл и суждение исправляются. [...]
70. Я о сём вам более не спорю, что языков европейских шляхетству учиться есть польза, но что вы нам сказали подданных российских народов языки учить нуждно, а понеже их так многое число, что всех никому в жизнь свою обучить невозможно, то о невозможном и прилежать тщетно.
Ответ. Правда, что всех оных народов языки знать, мню, что нелегко человек сыщется, чтоб научился, ибо в одной Сибири счисляется разных до 10-ти языков; да я и не говорю, чтоб всех одному человеку учиться, как вам и о европейских сказал, разделяя тем, что полезно каждому из всех нужднейших обучаться.
71. Которые из сих нуждняе и где оных для научения школы учреждены?
Ответ. Нуяеднейших почитаю три: 1). Татарской, котораго удобняе всех мест в Казани, Тобольске и Астраханни, а особливо ныне и в Оренбурге обучать, наипаче же тем, что в Казаки шляхетство деревни свои с ними вместе, а купечество торги и частое обхождение имеют; а притом как междо татары многие в арапском языке ученыя находятся, то могут и арапскаго обучаться. 2). Главной подданных русских язык сарматской[271], но сей употребляют разные народы, яко фины и корелы, лапланцы и самояды, вотяки, пермяки, зыряне, вогуличи, остяки, мордва, чуваша, черемиса[272] и пр. И сии по разности их прежних владетелей и соседей так языки свои перепортили, что один другаго едва разуметь может. Их можно в Тобольске, у города Архангельскаго, Казани и Петербурге училища устроить. 3). Калмыцкой язык и, по употреблению их книг, тангутской[273] удобняе в Астрахании учить. 4). Затем хотя в Сибири многие разные языки имеются, по более мунгальской и тангутской нуждны. Оных и других можно свободно в Иркутске или в Нерчинске, а северных и камчадальских в Якутске или Охотске обучать.
72. Какая нужда в научении сих языков быть может, понеже дел великих посольских до них не касается, губернаторы же и воеводы везде переводчиков и толмачей довольно имеют и без нужды дела надлежащие исправляют?
Ответ. Что губернаторы и воеводы переводчиков и толмачей довольно и чрез них неоскудно богатиться способ имеют, оное не спорю. Но чтоб без погрешности и вреда или многим подданным без обиды править могли, оное сумнительно, ибо все оные переводчики естьли руские, то ис подлости и убожества берутся, и едва сыщется ль, чтоб татарское и калмыцкое простое, не говорю учёных письма разуметь и сам совершенно написать мог, да большая часть и по-рускии писать не умеют. Другия же для письма на тех языках берутся татары и калмыки, не умеющие по-руски правильно читать и писать, а грамматики, без которой переводчику никак правильно переводить невозможно, и ни един не знает, то никогда надееться нельзя, чтоб правильно перевели. Коль же паче когда которой сплутать похощет, то судия, поверя оному, неведением неправду и вред учинит. Наипаче же дело, тайности подлежащее, едва может ли сохранено быть, потому что часто не один, но два или три вместе для перевода писем употребляются, а наипаче махометане законам их обязаны в пользу единоверцов их клятву, данную государю, преступить и то в грех не почитают. И видим, что у нас для такого при допросах и переводах писем чрез употребление многих толмачей, а более махометан прежде времени открывается, и ис того немалые вреды и бунты происходили. А ежели бы из хороших людей и довольно в обоих языках наученые переводчики, а наилучше когда бы шляхетство, обученные в оных языках, воеводами, судиями и другими управители были, то б весьма таких безпорядков и народных от неправосудия обид и бунтов не происходило и опасности не было.
73. Понеже сии народы никаких полезных наук, а особливо, кроме татар и калмык, и письма не имеют[274], то многих и обучать, а для многаго числа школы устроить убыток бесполезной.
Ответ. Правда, что наук высоких филозофских у них нет, но многое, то есть чего филозофы не знают, и от ни нам онаго, что они имеют, достать неудобно, яко гистория их, от которой не токмо наша гистория, но многих древностей в забвении оставшее, чрез них может изъясниться, не токмо от татар и калмык, которыя свои древности написаны имеют, в них же весьма нуждное и гистории полезное находим, но от оных сарматских языков, у которых преданиями из древности где прежния их обиталища были, причины, для чего из оных переходили, хранятся. Не меньше же когда звание городов, рек, озёр их языка в тех местах остались, то наипаче оное утверждается. Да сия польза ещё не так велика, как нужда в научении их закону християнскому, о котором наши духовные должны попечение иметь. […]
74. Посему я не спорю, что другие языки учить полезно или нуждно, да в чужие государства младенцев для того посылать не токмо не полезно, но и вредно, ибо мы учителей оным языкам имеем у нас довольно.
Ответ. Правда, что в чужие край посылать младенцев без надежнаго призрения, а наипаче в малолетстве от вреда небезопасно, но что вы мните о моём сыне, то я опасности не имел, понеже з доброю надеждою к моему приятелю послал и ведаю, что ево призрение не хуже, но ещё и лучше моего тем, что он всегда его видит, а я за многими делами на его поступки и учение призирать времянии и терпения не имею; а к тому, что он тамо, не имея с кем по-руски говорить, скоряе немецкаго научится и потом к научению других наук в наших школах лучшую удобность возъимеет. Что же вы о учении домовном говорите, то истинно, что учителей у нас разных языков есть немало, токмо в домовном учении суть большия опасности, ибо хотя некоторые тщательно родители для научения детей своих содержат в домех своих учителей и тем надеются совершенную пользу учения приобрести, которое за недостатком лучшаго хотя похвалы достойно, однако жив том трудности и недостатки находятся великие, и суще:
1) Сей способ не всякому, но токмо богатым и могущим к выписыванию добрых учителей достать удобный, но таковых у нас весьма мало, ибо некоторые хотя имением к тому довольны, да случая лишаются, а особливо те, которые в услугах государственных в дальних от домов своих отлучках. Коль же паче дети осиротевшие мало от кого в том попечения и способа к научению иметь могут.
2) Многие за недостатком искуства принимают учителей к научению весьма неспособных, и случается, что поворов, лакеев или весьма мало умеющих грамоте за учителей языка францускаго или немецкаго и каких-либо непотребных волочаг[275] для научения благонравия и политики принимают и потом за положенные деньги вред место пользы покупают.
3) Хотя б которой родитель силу науки и сам довольно знал и какого учителя принять довольно разсудил, да у нас нелегко такого человека сыскать, чтоб всему тому, что потребно, обучать мог, многих же учителей содержать не способно. И тако многократно нужднейшее и сущее знание исповедания веры, законов гражданских и состояния собственнаго отечества назади и в забвении остаётся, которому необходимо первым быть надлежало.
4) Понеже всё шляхетство по должности звания наиболея во услугах государственных во отлучении домов своих пребывают, а дети под призрением матерей и холопей воспитываются, то многократно и добрым учителям в научении детей неразсудностью оных повреждается.
5) Обхождение детей в доме з бабами, девками и рабскими детьми есть весьма вредное, потому что научится токмо неге, спеси, лености и свирепству, а учтивости и почтениям к равным и меньшим себе, как то междо всем шляхетством нуждно, до возраста и знать не будет. И для того вместо благонравнаго и ласковаго часто развращённое воспитание в детех знатных людей примечено, которые, и в лета пришед, уничтожительными, досадительными и дерзыми поступками у людей почтение и честь теряют или за недостатком прилежания ко услугам мало способности имеют.
75. Если домовное учение неспособно или опасно, то имеем довольно народных училищ, в которых мы обучать можем.
Ответ. Воистино мы и наши наследники за учреждение школ вечно достойный памяти е. и. в. Петру Вели кому и ныне благополучно царствующей государыне императрице достойно возблагодарить не можем. И хотя сии все учреждённые школы не довольны или не в состоянии всё российское юношество и всему нуждному научить, однако ж для перваго случая и в так краткое время устроенных и плоды приносящих немалой похвалы достойны. Что же недостатка во оных касается, то вы мо жете сами из обстоятельств видеть, что не иное, как время токмо намерению и возможности препятствует, на что есть пословица: «вдруг кривулий не исправишь», и паки: «и Рим не в един год построен». То есть со временем от часу могут распространиться и всем ко всему способными и довольными быть, для котораго вам изрядный приклад скажу. 1724, как я отправился во Швецию случилось мне быть у его величества в Летнем доме[276]. Тогда лейб-медикус Блюментрост[277], яко президент Академии наук, говорил мне, чтоб в Швеции искать учёных людей и призывать во учреждающуюся тогда Академию в профессоры. На что я, разсмеявся, ему сказал: «Ты хочешь зделать архимедову машину очень сильную, да поднимать нечево и где поставить места нет». Его величество изволил спросить, что я сказал. И я донёс, что ищет учителей, а учить некого, ибо без нижних школ Академия оная с великим росходом будет безполезна. На сие его величество изволил сказать: «Я имею жит[278] скирды великие, токмо мельницы нет, да и построить водяную, и воды довольства в близости нет, а есть воды довольно во отдалении. Только канал делать мне уже не успеть, для того что долгота жизни нашея ненадёжна, и для того зачал перво мельницу строить, а канал велел только зачать, которое наследников моих лучше понудит к построенной мельнице воду привести. Зачало же того я довольно учинил, что многие школы математические устроены, а для языков велел но епархиям и губерниям школы учинить, и надеюся, хотя плода я не увижу, но оные в том моём отечеству полезном намерении не ослабеют». Посему от того времяни чрез 12 лет подлинно по губерниям и епархиям надлежало бы многим школам и обученым хотя в языках довольству быть. Но сие желание и надежда его величества весьма обманула, ибо по его незапном преставлении[279] хотя люди в науках преславныя вскоре съехались и Академию основали, но по епархиям[280], кроме Новгородской и Белогородской, не токмо школ вновь устроили, но некоторые и начатые оставлены и разорены, а вместо того архиереи[281] конские и денежные заводы созидать прилежади, чрез что пять лет по смерти его величества весьма преуспевало. Даже возшествием на престол е. и. в. всемилостивейшей государыни Анны Петровны начало возобновилось, а вверженное междо тем препятствие отринуто. Но, оставя сие, вопрос ваш окончаю тем, что все доднесь устроенные школы государственные к научению всех тех, которых и тому, чему нуждно учиться, научить ещё не в состоянии.
76. Для чего сия Академия к научению шляхетских детей, мните, не способна?
Ответ. В сей недостатки всего и всякому научиться суть разные, яко от ея определённого учреждения, тако и от других свойств, их же время и способы ещё не допустили. Всякому видимо, и суще взирая на её учреждение, что она учреждена для того токмо, дабы члены, каждоседмично[282] собирался, всяк, кто что полезное усмотрит, представляли. И оное каждой по своей науке, кто в чём преимуществует и всё во обществе во обстоятельствах прилежно разсматривая, толковали и к совершенству произвести помогали, а по сочинении для известия желающим издавали, как то в изданных от оной книгах довольный плод видим. Другое их должности принадлежит учить младость высоких наук филозовских. И по сему можешь разсудить, что, во-первых, богословия, или закона божия, им учить не определено, для того что учители или профессоры суть не нашего закона[283]. 2). Закона гражданского мы от них також научиться не можем, потому что за незнанием нашего языка всех наших законов знать и об них разсуждать не могут. 3). Понеже им надобно таких обучать, которые бы нижние науки, а наипервее языки, уметь и их наставление разуметь, нуждные книги читать могли, також арифметики и геометрии, хотя нижния части, обучася, к ним токмо для вышших наук приходили. А понеже оных нижних училищ довольно не учрежденно, то во иной и учиться ещё некому. И хотя семинариум и гимназия при оной устроены, но оное недостаточно, ибо изо всего государства младенцов свозить, а наипаче шляхетских малолетных, есть невозможно и вредительно. Невозможность же или трудность есть в том, что многие родители не имеют случая и возможности туда свести, меньше же их и при них служителей содержать. Если же им достаточное содержание казённое определить, то надмерно[284] великой росход будет. Если же малых детей, каковым языка наилучше учиться время от 5 лет, кто за неимением добраго служителя отдаст, то имеет страха более его погубить, нежели надежды научить, а наипаче, имея с подлостию без призрения родительскаго обхождение, могут скоряе пристойность и благонравие погубить. Но со временем всё оное исправится и в надлежащее состояние притти может, ибо когда нашего языка люди, довольно в филозофии и богословии обучась, профессорами будут, тогда и наставление в законе божии и гражданском не оскудеет. 4). При оной же многих шляхетских нуждных наук не определено, яко на шпагах биться, на лошедях ездить, танцовать, знамепования и пр. т. подобное, которое и впредь до сея не принадлежит того ради надлежит ипаго училища для детей шляхетских искать.
77. Сие всё, что во оной недостанет, во учреждённом Кадетском училище для шляхетства со исполнением учреждено.
Ответ. Правда, что сие училище есть для шляхетства лучшее, однакож не меньше же недостатков и способности в ней находится. 1). Для наставления закона божия хотя определены священник и диякон из людей, несколько в письме святом поучеиых, и некогда им катехизм[285] толкуют, и поучениями к благонравию и благочестию наставляют, но сие токмо единою в седмицу и то не всегда, а иногда за другими науками им времяни недостаёт. Ещё же младенцы, яко не имея от оных страха и сами пользы тоя не разумея, не весьма о том прилежат, а другим за множеством и слышать недостаёт. 2). Законы естественный и гражданский не меньше онаго нуждны, но для онаго учителей нет, и младенцу нелегко оное совершенно понять можно. 3). Арифметики, геометрии, фортификации и т. под. нуждных наук токмо начала показывают, равно же и языки. Многих учившихся чрез 5 лет и более видеть случилось, что, кроме тех, кои в домех обучались, мало кто научился, зане начальники их наиболее прилежат их ружьём обучать. А понеже в сие училище не моложе 12-ти лет принимать поведено, языка же надобно научиться от 5-ти или 6-ти лет возраста, и для того нуждно таким школам, где бы младенцы языком научились, быть особным не в одном месте, но повсюду, дабы в близости родителей могли первое учение воспринимать.
Ещё же видимо, что сие училище ея императорское величество всемилостивейше изволила учредить не для высоких наук, таких, которые министрам и главным правителям в государстве потребны, но более для произведения в офицерство, и не для всего, но паче для ближняго убогаго шляхетства и неимущего к собственному научению способа, как то учреждение оного корпуса свидетельствует: 1). Число оных положено токмо 360 человек, которое ни для сотой части всего шляхетства не довольно, но для того есть довольно, что другая, сих обученных видя скоряе в чины производимых, большую к наукам охоту возъиметь могут. 2). Место в Петербурге токмо сначала за лучшее разуметь надобно для того, что ея императорское величество сама и чрез министров удобнее всё видеть и ведать может, и тако в недостатке новыми милости и полезными исправлении снабдевать, а вредное пресекать способ имеет. Ещё же тут учителей поблизости из других краёв способнее доставать, а наипаче дабы поблизости и от Академии наук ко обучению высших наук лучший способ учащияся имели. 3). Положенное им, мундир, жалованье и пища, явно показует, что для не могущих оное иметь. Имущия же могут свободно не токмо без жалованья пробыть, но учителям от себя платить, мундир и пищу охотно свою иметь, а оную милость неимущим оставить. Что же ея императорское величество сначала, по примеру дяди ея величества, во иное знатных детей определить изволила, оное весьма полезно, для того что и знатным, а не имущим способов особно учиться есть с протчими не зазорно, а убогим лучшая к научению охота и по обхождению со знатными детьми добрых поступок научатся и смелость им подастся. Ещё же знатные родители, видя онаго училища пользу, более к потребному вспоможению прилежать будут.
78. Что вы разумеете о школах, особливо мафематических, которых несколько устроено?
Ответ. Все сии також многие недостатки имеют, яко законов божия и гражданского, языков и других нуждных шляхетству наук не учат, а без знания какова либо европскаго языка книг нуждных к знанию читать, следственно, мафематики не токмо всея, но и частей нуждных совершенно научиться не могут. О которых вам порознь скажу.
1) Школа, или академия, Адмиралтейская, она же и Мафематическая имянуется, близ 30 лет устроенная, по доднесь едва три человека, которые бы довольно в мафематике обучены были, сыщется ли. Правда, что много из оной в офицеры морские вышли, да мало совершенно нуждпую им астрономию и географию мафематическую знают, но и более по практике, нежели по той науке, действуют или чрез практику ту науку теоретическую исправляют и наполняют. Равно же вижу геодезистов, которые, нарочно для того лет по 10 учася, не умеют по острономии долготы сыскать, рефракции и паралакснса[286] при наблюдениях вычитать.
2) Артилерийская, которая хотя объявленные главные недостатки показует, однако ж чрез практику как в стрелянии ис пушек, бросании бомб и составах огненных, если токмо прилежно кому показывано, довольное искуство имеют. Но зде многих из шляхетства употребить неможно.
3) Инженерная школа есть подлинно училище шляхетству весьма полезное и нуждное, не токмо тем, которые в войске служить и офицерами быть желают, где им оная всегда как для укрепления себя от неприятеля, так и для поиску над неприятелем укрепившимся весьма полезно, да не меньше и тем, которые в гражданских знатных чинах быть уповают, дабы в случае потребы представления инженерный внятно разсмотреть и разсудить мог. Но для совершеннаго шляхетскаго научения, равно как и первые обе, в научении законов, языков, також и других многих наук лишены, а учат токмо нижния части арифметики и геометрии и потом фортификации теоретической на бумаге, которых производят в кондукторы[287] и офицеры. Но совершенных инженеров мало из оной произшедших видимо, для того что никакого европейскаго языка не знают, книг нуждных читать не могут. Что же они так малой науки долго учатся, оному причина, что о подлости, может, учителя не прилежат, а шляхетство откупаются и долговременно не токмо без пользы, но и со вредом их собственным живут по домам и не учению время тратят.
79. Ежели вы сии училища, академии, гимназии, школы не достаточными полагаете тем, что во оных законов божественных, народных и гражданских научиться неудобно, прежде же сказали, что законоучение и мафематика части суть филозофии, а понеже в Москве Спаская школа особливо для высших сих наук, реторики, филозофии и богословии учреждены, и слышу, что каждогодно по нескольку, филозофшо окончив, во услуги определяются, то мне мнится, сие есть лучшее училище.
Ответ. Подлинно, что сие училище в том намерении основано, но не в том содержится.
Первое, что язык латинской у них несовершен для того, что многих книг нуждных и первое лексикона[288] и грамматики совершенных не имеют, латинских необходимо нуждных имянуемых авторов классических, яко Ливия, Цицерона, Тацита, Флора[289] и пр., не читают, и когда им дать, разуметь не могут, следственно, и в филозофии не более успевают.
2) Что их реторики принадлежит, то более вралями, нежели реторами, имяноваться могут, зане от недостатка выше объявленнаго часто все их слоги реторические пусстыми словами более, нежели сущим делом, наполняют. Да ещё того дивняе, что мне довольно оных реторов видеть случалось, которые правил грамматических в правописании и праворечении не разумеют.
3) Филозофы их никуда лучше, как в лекарские, а по нужде в аптекарские ученики годятся, понеже не токмо ученики, но и учители сами мафематики, которое основанием есть филозофии, не знают, и по их разделению за часть филозофип не счисляют. Физика их состоит токмо в одних званиях или имянах, новой же и доводкой, как Картезий, Малебражнь[290] и другие преизрядно изъяснили, не знают. Не лучше оных их логика в пустых и не всегда правильных силлогисмах состоит. Равно тому юриспруденция, или законоучение, в ней же и нравоучение основание своё имеет. Не токмо правильно и порядочно с основания права естественнаго не учат, но и книг Гроциевых, Пуфендоровых и тому подобных, которые за лучших во всей Европе почитаются, не имеют. О гистории же с хронологией и географиею, врачестве и пр., что к филозофии принадлежит, про то и не слыхали. И тако в сём училище не токмо шляхтичу, но и подлому научиться нечего, паче ж что во оной более подлости, то шляхетству и учиться не безвредно. А затем о народных училищах более вам сказать что не имею, ибо кроме Киевской, в епархиях более ни одной не знаю, но и оная немного лучше Московской. По губерниям же хотя для солдатских детей школы устроены, да во оной шляхетству, кроме малой части арифметики и геометрии, научиться нечего. И тако отдалённые от Петербурга шляхетские дети, а особливо небогатые или в отлучении отцов в дальние услуги, учения нужднаго лишаются. [...]
81. Посему вижу, что вы учении домовное и во учреждённых школах недостаточным и к научению всех неспособными сказываете, но токмо один способ к научению, посылать в чужие край, за лучшей оставляете. Нас же искуство научило, что посыланные младенцы, будучи в чужих краях, большая часть перепортились, и, более непотребного нежели полезнаго научась, отечеству никакой пользы не принесли, как то во многих примечено.
Ответ. Я не говорю, чтоб всем в чужие края посылать, ниже неразсмотрительно и желающих отпущать, но токмо мшо о знатных, к научению способных и надёжных людех, но притом смотреть, чтоб з добрым порядком посылать. Что же посылание в чужия край в добрым порядком полезно, то вы спорить не можете, ибо:
1) Тем, которые впредь чают или надежду имеют быть в знатных услугах и правлениях, яко в Сенате, Иностранной Коллегии и в посольствах во иностранным государства, тем весьма нуждно знать состояние, силы, богатства, законы и порядки всех тех государств, с которым чаем войну пли союз иметь. Ибо хотя оное описано от них самих и посторонних иметь можем, но так совершенно знать и от читания в памяти иметь не можем, как то сами видели и в частых разговорах с разсуждениями слышали. К тому же всё, что в описаниях от недостатка знания или от перемены иначе находится, такой? ежели неясно написано, то удобнее сам обстоятельства познать и, других к лутчему знанию исправя, сугубую отечеству пользу благоразсудным советом приносить возможет. 2) Военные порядки и искуства вам известно, что мы, от других народов европских прияв, великую славу и пользу приобрели. Но его императорское величество Пётр Великий, усмотри на обстоятельства, доколе российские совершенно в науках потребных преуспеют, определил при армия и флоте российском треть иностранных офицеров до полнаго генерала иметь, для того чтоб принятое не запоминали и всё тамо поправленное в сведении иметь могли. Но не довольствуйся тем, а паче усмотри, что генералы чужестранные многих молодых для научения у нас и приобретения денег привозили и в службу рускую употребляли, что было противо намерения и пользы его величества, того ради определил иметь руских офицеров при иностранных войсках на своём жалованье. И для того надобно и ныне нашим знатных людей детем прилежно всех тех государств военные порядки, пользы и вреды разуметь, чтоб сам, ежели того удостоится, способным и мудрым фельдмаршалом и генералом-адмиралом, яко же искусным и сведомым о других государствах министром быть мог. И сие токмо до шляхетства касается. 3) Купечеству весьма нуждно знать состояние торгу, а гражданам ремесл совершенные свойства и ухватки, а наипаче тех, которым наши от них научились или обучиться хотят, оным не меньше нуждно чужие страны навещать. Но что вы показываете о повреждении прежде посыпанных младенцов, оное не весьма право, ибо видим многих из оных достойными чести людей. А если которые спились, смотались или, быв, ничего полезнаго не научились, то можно о них так разуметь, чтоб, дома будучи, столько ж плода принесли. Да хотя бы и от той езды им то приключилось, то на одну неудачу сердиться и за всегдашний приклад к страху класть не надобно, но разсмотреть обстоятельства, от чего такое зло приключилось, и по тому лучшие способы искать и вредительные отвергать. В сём же обстоятельстве не посылка, но паче незнание родителей винно, что непорядочно без добрых приставников младенцев отпущали, а паче что неразсудно много денег оным давали и тем им вред, а государству убыток напрасной учинили. Однако ж, разсудя, что как нет ни единаго добра, в коем бы неразумному зла не находилось, так благоразумный человек и в злейшей вещи добро иметь и оную в пользу употребить может. Того ради нуждно прилежать и способа искать, како бы из добраго худое отринуть, а в худом доброе сыскать и таким порядком себе и ближнему пользу приобрести. И если мне к тому смысла недостаёт, то можно приклады других разсмотреть и совет искуснейших употребить, как нас и писание учит: «вопроси старейших, и возвестят ти». Но, мню, и сие не о старейших летами, но старейших премудростию по его же сказанию разуметь должно, как вам прежде сказывал. Сему же и пословица народная согласует: не спрашивай стараго, спрашивай бывалаго.
82. Какие мы приклады взять и кого спрашивать о науках имеем?
Ответ. Приклады можем взять разных государств, как у них науки основаны и содержатся, а о началах и произведениях спросить историков. И чрез сие можем многое к пользе пашей приобрести. [...] Когда прежде сказанную о старости пословицу разсудишь, то знаешь, что я... о настоящих в науках цветущих государствах вам сказал.
84. Которые государства в науках цветущими разумеете?
Ответ. Франция и Англия, видится, всех превосходят, по междо ими кое преимуществует, оное, чаю, не решительное, однако ж видим, в филозофии Англия, а в феологии и гистории Франция первенствует, потом Италия, Германия, Швеция и Дания довольное в науках прилежание показуют. Но сии последние в некоторых частях особливо пред протчими преуспевают, например Италия во врачестве, Германия в размножении и лучшем произведении горных и конских заводов, Голандия в купечестве, Швеция в гистории древностей, языке латинском и пр.
85. Коего ради случая Англия и Франция греков и римлян в науках преуспели?
Ответ. Хотя как из разсуждения о единственном человеке, так и общем всего мира приобретении наук до вольно сказано, что со временем по естеству возрастат;. и умножаться знанию нуждно, однако ж надобно смотреть и на прилежность. Ибо как человек и, кроме при родных невозможностей, за леность и нерадение собственным, паче же родительским несмотрением того блага лишится, так прилежностию и снисканием един более другаго приобрести может. Равно сему и во общественном един народ или государство пред другим прилежанием собственным и случаями от властей учреждённых училищ более успевает. А противно тому другое за нерадение оскудевает и в темноте неведения остаётся, которому и прикладов неоскудно от гистореи и видимы имеем. [...]
86. Я слышу некоторые разсуждают, что вольность разширению и умножению богатств, сил и учению, а неволя искоренению наук причина есть.
Ответ. Неправо, ибо хотя сих государств силам и богатствам некоторые вольность за основание полагают, однако ж по разсмотрению всех обстоятельств всяк увидит, что то не есть сущее премудрости основание и наук распространению истинная причина. Зане хотя аглинская вольность к распространению, папежское тиранство ко утеснению наук некоторый вид подают, однако ж не существо представляют, зане в других тому противное обретаем. Яко Франция есть государство самовластное и более, нежели Италия, Гишпания, Германия и Польша, властию государя правится, однако ж к разширению наук не токмо не препятствует, но паче любомудрием государей и прилежностию подданных от часу науки умножаются и процветают, оные ж со всею их волностию в углу училищ сидят. И хотя в Германии прехвальный цесарь Карл Великий[291] и по нём многие о распространении наук трудились, да неприлежность подданных надлежащему возвращению, а паче продолжившееся на них папежское иго воспрепятствовало. К сему же я не хочу приводить народов северных, яко лапландцев, остяков, ни степных, яко калмыков, татар, мунгалов[292] и пр., которые изначала совершенную вольность имели и имеют, да что полезное себе приобрели и в какой глубокой темноте неведения и невежества пребывают, и в чём своё благополучие полагают, которое паки как бедность младенчества человеческаго в великое удивление нас приводит, ибо они что верят, сами не знают, по правоверным ругаются и за глупых поставляют, хотя сами нималаго исправления и наставления принять не хотят, но всякаго в их суеверия и заблуждения силою наклонить ищут. Крайнюю их бедность совершенным благополучием и своё сущее убожество довольством почитая, в темноте невежества углубляются и о приобретении света разума нимало не прилежат. И токоль довольно видимо, что водность не есть сущая и основательная причина наук распространению, но паче тщание и прилежность власти наибольшие того орудии суть.
Ещё же яснея из гистории руской видишь, как нашего государства правление по некоим причинам переменялось, яко было монаршеское, потом аристократическое, последи сущая демократическое, или общенародное, и как во оных науки переменялись, то достаточно узнаешь, что при собственном монархическом, или единовластном, правлении науки размножались. А наконец за беспорную истинну признаешь, что до Петра Великаго такого единовластнаго правления у нас не бывало, так и наук никогда в России толико и не слыхали, колико при нём познали, и оная польза с честию и славою безсмертнаго его имяни всей России осталась.
87. Каким образом Англия и Франция так в науках в краткое время преуспели?
Ответ. Англия и Франция во впредь сказанному хотя в Европе не суть старейшие в науках, зане во Франции первую Академию в Париже Карл Великий в исходе осьмаго ста по Христе заложил, також и в Англии первая академия в Оксфорте в средине девятаго ста устроена, каковых в Италии и Гишпании задолго прежде уже неколико было, однако ж оныя в произвождении и размножении наук паче всех прилежали и для того их совет и приклад в том употребить видится весьма с надеждою возможно. [...]
115. Я вас последнее спрошу, какие училища и где вы за полезнейше учредить разумеете.
Ответ. Сие вам выше показано и особливо указы Петра Великаго изъявляют, что по всем губерниям, правинциям и городам учредить надлежит, на которое он все монастырские излишные сверх необходимо нуждных на церкви доходы определил, и оных весьма достаточно; ещё же и богу приятно, что такие доходы не на иное что, как в честь богу и в пользу всего государства употребятся. Но притом нуждно смотреть, чтоб: 1) оные, особливо что шляхетству нуждно, особно от подлости отделено было; 2) чтоб учители к показанию и наставлению нужднаго и полезнаго способны и достаточны, а паче от подания соблазна безопасны были; 3) чтоб всё шляхетству нуждное всюду без недостатка к научению могло быть показано, и для того книг и инструментов надобно иметь з довольством; 4) чего казённое или определённое от государей не вынесет, то нуждно шляхетству самим на то доходы сложить и учредить, чтоб могло и других пользовать; а затем 5), последнее, что над всеми надзирание таким поручено было, которые довольное искуство в науках, а наипаче ревностное радение о пользе отечества изъявить в состоянии. И тако всё желаемое хотя не скоро, но благонадёжно устроиться может.
116. Не хотел более о том вопрошать, по принуждён ещё на сии пункты некое изъяснение требовать, особливо каким образом и где особно шляхетские школы устроить?
Ответ. Я вам прежде сказал, что наук шляхетских, особливо для тех, которые в военную услугу управляются, есть лучшее училище доднесь Кадетский корпус. Показанный же во ином недостатки, видится, легко исправить, а избыточество отвратить и оных не токмо к воинским, но и гражданским неколико обучить удобно. [...]
117. Какое обстоятельство в учителях требуется?
Ответ. Частию о науке, частию и состояния их смотреть нуждно. В начале закона божия, чтоб были сами истинной богословии, яко же и благонравия правил довольно были научены, не ханжи, лицемеры и суеверцы, но добраго разсуждения. И ежели монахов летами не меньше 50 и жития добраго не сыщется, то не противно и мирских, имущих жён, в то употребить. 2). Офицеры суть главные учители, и хотя за недостатком у нас довольно учёных людей иноземцы употреблены, однако ж притом нуждно смотреть, чтоб не были молодые, жён и детей не имущие; а при оных хотя половина руских, таких, которые хотя склонность к наукам имеют. И к тому могут из первых обученных и несколико в армии служивших употребиться. 3). Учители протчих всяких наук хотя все иноземцы, токмо б каждой в своей науке не токмо довольно сам учен, но и к познанию достаточные способности имел; ибо не всякой учёной к научению других есть способен, особливо люди свирепаго и продерзаго нрава к научению младенцев не способны. 4). Как для обучения но губерниям, так и партикулярных училищ нуждно таких учителей из русских приуготовлять, чтоб не всегда иностранных с великим убытком выписывать, то можно из гимназий подлых, взяв в каждую науку человека по два, в помощь иностранным определить. И тако чаятельно своих учителей со временем довольно способных получить.
118. Книги, мню, нетрудно у нас для научения достать, понеже прежде хотя и не столько печатали, а довольствовались, ныне же, видим, непрестанно новые выходят. А к тому для учащихся других языков всегда можно из Немецкой земли довольство достать?
Ответ. Удивдяюся, что вы сказываете, якобы у нас для научения книг довольно. Но каких, разве азбук, и часовников[293], то правда, что иногда их нетрудно достать, да часто случается, что и тех достать неможно. Что же новых книг принадлежит, то весьма таких мало, каковые к научению юности потребно. Мы доднесь не токмо курсов мафематических, гистории и географии российской, которые весьма всем нуждны, не говорю о высоких философских науках, но лексикона и грамматики достаточной не имеем, а что ныне печатаны, то, кроме примечаний, при авизах седмичных[294], все, почитай, для забавы людем некоторыми охотники переведены, а не для наук сочинённые. Но разве о тех думаешь, что вечно достойный памяти Пётр Великий, как сам до артиллерии, фортофикации, архитектуры и пр. охоту и нужду имея, неколико лучших перевести велел, и напечатаны, но и тех уже купить достать трудно, а более, почитай, не видим. И сей недостаток не может никогда наполниться, доколе вольные друкарни[295] з безопасным учреждением устроятся.
119. Как мнишь шляхетству собственные училища иметь, ибо ваше прежднее о потребности домовных школ сказание приводит в сумнительство?
Ответ. Сие я разумею посредственное междо домовными и государственными, что избежания во оных избы точеств и недостатков сами то исполнить должны, чего желать можно. Учреждению же и содержанию их можно с пользою, пример взяв от аглинских и француских учреждений, по способности состояния нашего государства устроить... [...]
Токмо на сие нуждно такую привилегию от ея императорскаго величества иметь, что оной капитал и училище, яко же и вечно наследственное обучение рода того, без всякой опасности осталось, а притом и о всегдашнем надзирании над оным учреждение внести, чрез что та польза может быть, что когда первую увидят в добром со стоянии, то в других местех многие равномерно устроятся, а младенцы в государственные училища по 12 летех будут с довольными основании приходить. И тако польза партекулярная и общая всего государства умножится.
120. Что в правлении нуждное разумеете?
Ответ. Сие есть главнейшее и нужднейшее в государстве, чтоб правление всех в государстве училищ такое было, которое б в состоянии находилось все вреды и препятствия ко умножению наук предуспеть, а вкрадшияся отринуть, о сохранении общей пользы прилежать и оную колико удобно умножать. А понеже науки и училища разных качеств и много о всём разсуждения всегда требует, то весьма нуждно, чтоб для онаго особливое собрание или коллегия учреждена была[296], которая б всегда на все училища, какого б звания они ни были, внятное надзирание на их порядки и поступки, а ко исправлению и лучшему учреждению власть имела. И для того весьма потребно из главнейших российских как духовных, так мирских хотя по одной персоне, а к тому для помощи неколико посредственных определить, а наипаче таких, которые как в науках неколико знания и охоты имеют, чтоб в ревности и прилежности не оскудевали. Чрез что в краткое время более, нежели доднесь, пользы государству во всех обстоятельствах приобрестися может, чего от сердца желаю и сей разговор оставляю.
121. Правда, мы довольно о пользе науки говорили, и я веема тем нахожусь доволен, что мне далась причина о таком полезном всему отечеству деле слышать, токмо какой успех ис того быть может, кроме того, что мы сим разговором толико время продолжили, ибо я и то приметил, что некоторые, слыша оное, посмеявся, вышли, а может вместо благодарения бранить станут.
Ответ. Что вы сумневаетесь о плоде сего разговора, я удивляюсь, понеже вы могли приметить, что многие бывшие при сей беседе со вниманием слушали, и надеюся, что в разсуждении примут и оное в свою и ближняго пользу употребят таким образом, что могут и другим, равномерно или ещё лучшим порядком и со умножением объявя, к пользе объявить, а к научению детей родителем охоту подать. Что же вы приметили некоторых уничтожающих, презирающих или и дурачащих нас, то истинно может быть правда, только вы не извольте дивиться, что такие люди находятся, которые по злонравному нраву всё доброе и их буйству противное за зло почитают, ибо с одного цвета вредительный по природе наук получает отраву, а блаженная пчела с того же цветка приносит мёд. Равномерно и в сих, злые, ухватясь за какое-либо слово, на зло толковать начнут, да есть ли причина того невинному бояться. Я не говорю, чтоб я, говоря так, много не погрешил, по и того не отрекаюсь, когда меня кто обличит правильно, в чём погрешено, я готов исправиться и его за показание лучшаго знания благодарить. [...]
«БЛАГОРОДНАЯ УПРЯМКА»
В середине столетия в России вырастает плеяда выдающихся деятелей науки и культуры. Самое почётное место среди них принадлежит Михаилу Васильевичу Ломоносову.
Родился он 8 (19 — по новому стилю) ноября 1711 года в деревне Мишанинской, что потом слилась с соседней деревней Денисовкой, на Курострове, как назывался один из островов на Северной Двине напротив города Холмогоры. По сохранившимся документам мы можем проследить предков Ломоносова среди обитателей этих мест до XVI века, то есть до времён Ивана Грозного. Все они были поморами, и главным источником благосостояния был для них морской промысел. Небольшой земельный надел являлся лишь подспорьем в хозяйстве. Отца Ломоносова звали Василием Дорофеевичем, мать — Еленой Ивановной. Она умерла, когда Михайле было 9 лет, и в доме появилась мачеха, его не любившая.
Русский Север не знал крепостничества в таких жестоких формах, как центр страны. Здесь не было помещиков, и крестьянам жилось свободнее. Однако сельские жители Поморья всё равно оставались людьми зависимыми. Во времена Ломоносова часть их принадлежала монастырям, а потому называлась монастырскими крестьянами. Другая часть жила на государственных землях, считалась крестьянами государственными, или, как их здесь называли, «черносошными». Куростровская волость была дворцовой. Дворцовые крестьяне находились в крепостной зависимости от царя, считавшегося их владельцем.
Тяга и любовь к знаниям заставили молодого Ломоносова искать возможности получить настоящее образование. Дома он мог только научиться грамоте и заниматься самообразовании по найденным у односельчан книгам, «Грамматике» Мелетия Смотрицкого и «Арифметике» Леонтия Магницкого, но этого ему было мало. Взяв с собой книги, заняв денег у соседей, 9 декабря 1730 года Ломоносов ушёл из дому и направился в Москву. По нормам крепостного права, царившего в России, всякая дальняя отлучка крестьянина от дома разрешалась только с ведома властей и на строго определённый срок. Ломоносов формально выполнил это условие, получив разрешение («паспорт») на поездку в Москву в воеводской канцелярии. Но паспорт ему выдали только до сентября 1731 года. Не вернувшись домой в срок, он считался беглым. Но, уходя, он и не собирался возвращаться в родную деревню, поэтому фактически с конца 1730 года оказался «в бегах» от своего хозяина — российского императора.
С помощью земляков Ломоносов освоился в Москве и поступил в январе 1731 года в Славяно-греко-латинскую академию. Он был вынужден скрыть своё происхождение, так как в 1728 году было указано из этой академии отчислить «крестьянских детей... и впредь таковых не принимать». В течение пяти лет Ломоносов почти закончил курс этого учебного заведения, рассчитанный на 13 лет. Но опять в декабре, теперь уже 1735 года, он отправляется в путь. В числе 12 лучших учеников он был отправлен из Москвы на учёбу в Петербургскую Академию наук. Серьёзное отношение к занятиям, незаурядные способности выделяли Ломоносова и в стенах высшего научного учреждения России. Буквально через два месяца после появления здесь Ломоносов был определён к посылке за границу для изучения химии и горного дела. Заграничное путешествие 1736—1741 годов, насыщенное упорной учёбой и трудом, протекавшее не без драматических происшествий, довершило образование и становление личности Ломоносова. В Петербургскую Академию наук вернулся зрелый человек, вполне сложившийся учёный, убеждённый патриот Родины, горячий поборник просвещения.
Приход Ломоносова в Академию наук открывает целый период в истории русской науки. Вокруг него объединились передовые патриотические и демократические элементы в борьбе о царившим в академии засильем иностранцев и бюрократии. Не имея сил противостоять Ломоносову в открытой научной полемике, враги наносили ему удары из-за угла. Молодому, по уже стоявшему по уровню выше многих академиков учёному только через семь месяцев после возвращения в Петербург предоставили должность адъюнкта (с января 1742 г.), а профессорское звание он получил 25 июля 1745 года, хотя давно уже признавался достойным его.
В качестве профессора химии Ломоносов приложил немало усилий, чтобы добиться создания Химической лаборатории. Указ о её основании был подписан в середине 1746 года, но понадобилось ещё два года беспрестанных хлопот, чтобы реализовать ломоносовский проект лаборатории, ставшей научной базой химических исследований в России. Происки врагов вынудили Ломоносова и 1757 году оставить Химическую лабораторию, но он перенёс исследования в свой дом, старался приложить результаты химических изысканий к практическим нуждам, организовав фабрику цветного стекла в Усть-Рудице.
За годы работы в Академии наук Ломоносов показал себя настоящим учёным-энциклопедистом. Он создал выдающиеся труды по различным разделам химии и физики, а также в областях минералогии, метеорологии, географии, астрономии и других. С огромным воодушевлением Ломоносов работал над русской историей. Он занимался русской грамматикой, стихосложением, стилистикой и прочими филологическими проблемами. Сам писал стихи и трагедии, прославившие его как литератора. В качестве поручений от академии выполнял переводы, редактировал газету «Санкт-Петербургские ведомости», подготавливал к печати периодические научные издания, составлял проекты праздничных иллюминаций и фейерверков.
«В чивовничье-дворянской монархии XVIII века», как назвал В. И. Ленин Российскую империю того времени, прочное положение в обществе могли обеспечить только принадлежность к правящему классу — дворянству и наличие определённого чина в военной или бюрократической иерархии. Само по себе учёное звание профессора не обеспечивало бывшему беглому крестьянину авторитета перед лицом власть имущих. Это было одной из причин, почему Ломоносов был вынужден прибегать к покровительству некоторых вельмож, более других расположенных к развитию наук и искусств в России. Это помогало в какой-то мере нейтрализовать интриги врагов и осуществить ряд важных проектов. Так, Ломоносов предоставил в распоряжение И. И. Шувалова свои планы создания Московского университета и убедил его добиться их осуществления. Но в отношениях с вельможами Ломоносов никогда не терял чувства собственного достоинства, не позволял помыкать собою. Эту черту ломоносовского характера отметил ещё А. С. Пушкин: «Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, представителю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним шутить. «Я, ваше высокопревосходительство, но токмо у вельмож, но ниже у господа моего бога дураком быть не хочу».
В марте 1751 года Ломоносов за «отличное в науках искусство» получил чин коллежского советника. По петровской «Табели о рангах» 1722 года он соответствовал армейскому чину майора и наделял его обладателя правами и привилегиями потомственного российского дворянина. Российский абсолютизм прибегал к включению в состав господствующего дворянского класса талантливых и выдающихся представителей народа, чтобы привлечь их на свою сторону, заставить служить своим интересам. Ломоносов до конца дней не забывал о своём происхождении, не рассматривал свою карьеру как результат чьей-то «милости», все силы продолжал отдавать служению народу, его взрастившему. Он писал, что «низкою моею породою попрекают, видя меня, как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но... талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения».
В 1757 году Ломоносов стал членом академической канцелярии и попытался как-то преобразовать характер этого реакционного органа. При этом он до конца жизни занимал принципиальную позицию и требовал упразднить канцелярию как орган управления академией и предоставить высшему научному учреждению страны автономию от чиновного произвола. Энергичная деятельность Ломоносова по расширению фронта академических исследований в теоретических и практических дисциплинах, по улучшению подготовки молодых учёных, по избавлению академии от рутины была прервана в 1762 году. Приход к власти в результате дворцового переворота Екатерины II привёл к опале Шувалова и некоторых других придворных, оказывавших поддержку Ломоносову. Вынужденная зависимость от царских прихотей и фаворитов обернулась для учёного самой отрицательной стороной. Обласканные новой царицей, враги Ломоносова развернули против него кампанию травли и интриг. Ухудшилось состояние его здоровья. В июле 1762 года он писал: «Бороться больше не могу, будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой старости». Но не в характере Ломоносова было сдаваться без борьбы. Когда болезнь временно отступила, он вновь приступил к научной работе, возобновил занятия литературой и мозаичным искусством, составил проект организации «Государственной коллегии земского домоустройства» для научной помощи развитию земледелия в стране, продолжал отстаивать необходимость реорганизации Академии наук. Напряжённая работа и обстановка в академии подорвали силы учёного, который скончался на 54-м году жизни в 5 часов вечера 4(15) апреля 1765 года. Через четыре дня его похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге, как сообщалось, «при большом стечении народа». Уже тогда начали сбываться слова, написанные Ломоносовым перед смертью: «...знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют».
В этом разделе собраны документы, характеризующие деятельность М. В. Ломоносова в Академии наук, его жизненный путь, общественные взгляды, работу в качестве популяризатора науки. Охватить всесторонне труды и личность великого русского учёного в этой небольшой подборке невозможно. Мы постарались как бы высветить отдельные важные стороны жизни и творчества M. В. Ломоносова, рассказать о них с его же слов. Для этого в подборку включены те его произведения и документы, которые сами по себе понятны и интересны современному читателю. В них М. В. Ломоносов предстаёт не только как учёный и общественный деятель, но и как выдающийся писатель, публицист, создатель русского литературного и научного языка нового времени.
Первым из представленных документов (они расположены в хронологическом порядке) идёт ответ на допросе в Ставленническом столе канцелярии Московского Синодального правления. Обстоятельства его появления следующие. В начале 1734 года известный русский географ, обер-секретарь Сената И. К. Кирилов предложил проект организации экспедиции в казахские («киргиз-кайсацкие») степи с целью закрепления этих земель за Россией. Проект был утверждён Анной Ивановной 1 мая 1734 года. Экспедиции был необходим образованный священник, и Кирилов согласился принять любого желающего поехать с ним ученика Славяно-греко-латинской академии. 2 сентября того же года в названную выше канцелярию явился выбранный ректором академии архимандритом Стефаном ученик: им оказался Ломоносов. Здесь же находился и Кирилов, который заявил после беседы с кандидатом, «что тем школьником... будет он доволен». Ломоносова при этом привлекал явно не священнический сан, а возможность участия в экспедиции в неизведанные доселе земли. Чтобы добиться своей цели, Ломоносов назвался поповичем.
Для проверки показаний М. В. Ломоносова указанная канцелярия сделала запрос в Камер-коллегию. Узнав об этом запросе, явившийся 4 сентября в Ставленнический стол Ломоносов дал новые, теперь уже правдивые сведения о себе и обстоятельствах, заставивших его скрывать своё происхождение. Жажда учения и любознательность вынудили его выдавать себя то за дворянского сына (при поступлении в академию), то за поповича. Вскрывшиеся обстоятельства лишали выходца из крестьян возможности перехода в духовное звание. Однако к этому времени Ломоносов зарекомендовал себя лучшим учеником академии, а потому не был из неё отчислен. Более того, через год он был направлен для дальнейшей учёбы в Петербург, в Академию наук.
Второй документ рассказывает об одном из самых трудных эпизодов в жизни М. В. Ломоносова — попытке расправы над ним со стороны реакционной части Академии наук. В 1742 году было проведено следствие над Шумахером по жалобам механика А. К. Нартова и других академических служащих. При поддержке влиятельных сил в окружении императрицы Шумахер был оправдан, а его обвинители оказались сами в положении обвиняемых. Ломоносов не подписывал жалобы на Шумахера, так как недавно прибил из-за границы и но был ещё достаточно осведомлён о конкретных преступлениях главы канцелярии. Однако не без основания его признавали единомышленником тех, кто поднялся на борьбу против иностранного и бюрократического засилья в Академии наук. Его перестали приглашать в Академическое собрание, членом которого он являлся, а 21 февраля 1743 года официально запретили там присутствовать. Ломоносов отказался подчиниться этому несправедливому решению и продолжал являться на заседания, хотя каждый раз его противники требовали его удаления. В этой накалившейся обстановке 26 апреля 1743 года Ломоносов откровенно высказал конференц-секретарю Х.-Н. Винсгейму и адъютанту И. Ф. Трускоту своё мнение о Шумахере и его приспешниках. Естественный и справедливый протест был сделан в грубой форме, что вовсе не было исключением для нравов того времени. Спровоцировав взрыв негодования Ломоносова, его враги воспользовались этим как поводом для расправы. 28 мая 1743 года Ломоносова арестовали. Публикуемое доношение Ломоносова полно достоинства и веры в свою правоту. Он не опускается до сведения личных счетов и обид, а подчёркивает главный вред этой несправедливой акции — невозможность ведения исследовательской и преподавательской работы на благо науки и Отечества.
Это доношение было оставлено без внимания. Ломоносов пробыл под стражей почти 8 месяцев, и лишь 18 января 1744 года вышел сенатский указ об его освобождении. При этом его вынудили подписать и произнести устно 27 января текст извинения, написанного не им самим, а его противниками. В качестве наказания годовое жалованье ему было урезано наполовину.
Несмотря на тяжёлые условия ареста, Ломоносов пишет в заключении диссертацию «О тепле и стуже», участвует в поэтическом состязании с В. К. Тредиаковским и А. П. Сумароковым в переложении русскими стихами 143-го библейского псалма, работает над курсом риторики. Видимо, тогда же им создано и публикуемое ниже «Вечернее размышление...», вошедшее в изданную в 1747 году его «Риторику». Это воистину необыкновенное произведение в русской литературе XVIII века, достойное века Просвещения. Сам Ломоносов определял его жанр как оду. Однако ода эта написана не в честь правителей мира сего или какого-либо важного политического события. Это ода северному сиянию, величественному и таинственному явлению природы. Интерес к нему у Ломоносова, видевшего его на родном Севере во всей красоте, никогда не исчезал. Наблюдал он его и в Петербурге. В своём стихотворении Ломоносов даёт изложение существовавших гипотез о природе этого явления. Сам же он выдвинул идею об электрической природе северных сияний, предвосхитившую результаты экспериментальных исследований, ставших возможными лишь в нашем столетии.
Здесь мы видим удивительный симбиоз научного и художественного творчества. Ломоносов-поэт и Ломоносов-учёный взаимно дополняют друг друга. Это было замечено такими непохожими людьми, как Н. В. Гоголь и Г. В. Плеханов. Первый писал, что «чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта», а по мнению другого, «поэтом несомненным, глубоко чувствующим поэтом» Ломоносов «становится тогда, когда смотрит на вселенную... с точки зрения современного ему естествознания, так хорошо ему знакомого». Плеханов добавляет: «Научное представление о космосе располагало душу Ломоносова к живейшему восприятию впечатлений, получавшихся им от картин природы». Действительно, в «Вечернем размышлении...» поэт-учёный показывает северное сияние на фоне величественной картины бесконечного космоса, наполненного «несчётными» солнцами и планетами. Здесь Ломоносов вступал в прямую полемику с церковью, выступавшей против гелиоцентрической системы мира Н. Коперника, Г. Галилея, Д. Бруно и связанного с нею представления о множественности миров.
В название оды включены слова «о божьем величестве». Как и многие другие учёные его времени, не порвавшие окончательно с религией, Ломоносов близок к деизму, то есть не отрицает «бога», но отождествляет его с природой, мирозданием. Содержание этого и других творений Ломоносова не изменится, если мысленно заменить «бога» «натурой» и т. п. понятиями. Перед нами сочинение отнюдь не «духовного», а космологического и астрофизического содержания. Не случайно Ломоносов не ставил непроходимой грани между своими учёными трактатами и научно-философской лирикой. Он ссылался на «Вечернее размышление...» в споре о приоритете в выдвижении «эфирной» гипотезы природы северного сияния так же, как он сослался бы на сугубо научный труд.
Благодаря высоким художественным достоинствам стихи Ломоносова легче доносили до сознания современников передовые научные идеи. «Вечернее размышление...» было известно не только читателям его «Риторики» и собраний сочинений. Оно заняло прочное место в рукописных песенниках, которыми был богат XVIII век. Это значит, что «ода о северном сиянии» пелась, передавалась с голоса, заучивалась наизусть в широкой народной среде. Схожая судьба была и у написанного, вероятно, в то же время «Утреннего размышления...». Его по аналогии можно назвать «одой о Солнце», в которой была выдвинута революционная научная идея о постоянно происходящих на солнечной поверхности изменениях состояния вещества.
Между 1743-м и 1747 годами Ломоносов пишет несколько надписей к конной статуе Петра I работы В. К. Растрелли, которая ныне стоит перед Инженерным замком в Ленинграде. Из этих надписей, впервые напечатанных в 1751 году, мы публикуем первую. Здесь особенно ярко выступает присущая Ломоносову идеализация Петра, который в поэзии Ломоносова выступает даже не столько как реальное лицо, сколько как образец «просвещённого монарха». Примером Петра I Ломоносов стремился воздействовать на власть имущих современной ему России. Он особо подчёркивает наиболее привлекательные выходцу из народа качества выдающегося государственного деятеля: трудолюбие и демократизм поведения.
Перед нами одно из писем И. И. Шувалову, казалось бы, сугубо деловое, но оно являет собой образец великолепной ломоносовской прозы. Это отметил ещё А. С. Пушкин: «Как хорошо его письмо о семействе несчастного Рихмана!» Научная деятельность Ломоносова и его соратников поворачивается к нам ещё одной гранью. Ради служения науке они готовы идти на смертельный риск. Опыты с атмосферным электричеством М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман начали в 1752 году. Как писал Ломоносов в своём отчёте: «Чинил электрические воздушные наблюдения с немалою опасностью». Русским исследователям был уже известен принцип громоотвода, изобретённого американцем Б. Франклином, но они сознательно не заземляли металлические стержни, так как для опытов необходимо было использовать накапливавшийся на них заряд атмосферного электричества. Эксперименты завершились трагически. Во время грозы 26 июля 1753 года Рихман был убит образовавшейся во время наблюдения шаровой молнией. Как видно из письма, лишь случайное стечение обстоятельств отвлекло Ломоносова от продолжения опыта в самый опасный момент и, возможно, тем спасло его. При всём потрясении, которое пережил Ломоносов, он не потерял дара наблюдателя, чётко отметив следы удара молнии. Это, конечно, не проявление чёрствости, а профессиональная черта. Ломоносов пытался оказать первую медицинскую помощь Рихману, а затем взял на себя заботу о его семье, оставшейся без средств к существованию. Зато чиновники Академии наук во главе с Шумахером проявили бездушие. Вдова Рихмана так и не получила пенсии за погибшего мужа. Более того, враги Ломоносова пытались использовать и эту трагедию для беспринципных нападок на Ломоносова. «Просвещённые» академики, идя на поводу невежд, сорвали торжественный акт 5 сентября 1753 года, на котором Ломоносов собирался огласить результаты своих наблюдений над этим явлением. С большим трудом добился учёный возможности публично произнести 26 ноября «Слово о явлениях воздушных, от Електрической силы происходящих». Благодаря этому тот риск и упорство, с которыми проводили свои исследования Ломоносов и Рихман, не остались безрезультатными.
Письмо о смерти Рихмана не случайно заканчивалось опасением, что этот случай будет использован силами, враждебными науке. Если такие силы играли немалую роль в самой Академии наук, то за её стенами были они ещё влиятельней. Одной из самых опасных делу Просвещения сил оставалась церковь. Против неё направил остриё сатиры Ломоносов в «Гимне бороде», продемонстрировав ещё одну грань своего поэтического таланта и общественных убеждений. При жизни Ломоносова и в течение почти 100 лет после его смерти это стихотворение не могло быть напечатано. Создано оно было в ответ на ужесточение церковной цензуры, проявившееся в конце 40-х — 50-х годах XVIII века. Церковные иерархи неоднократно выражали своё возмущение тем, что академические профессора и издания внушают «опасные начала», склоняют «к натурализму (то есть материализму) и безбожию». В первую очередь имелся в виду Ломоносов и основанный им журнал «Ежемесячные сочинения, к увеселению и пользе служащие». В 1756 году Синод потребовал запретить кому бы то ни было писать «как о множестве миров, так и о всём другом, вере святой противном». Предполагалась конфискация ряда поморов «Ежемесячных сочинений» и книги Б. Фонтополя «Разговоры о множестве миров», переведённой А. Кантемиром. Правда, правительство не утвердило этих мер. Однако. Синод запретил печатать перевод поэмы А. Попа «Опыт о человеке», сделанный верным учеником Ломоносова, профессором молодого Московского университета Н. Н. Поповским. Причина та же — изложение в ней учения Коперника и идеи о множестве миров. Нападки на Поповского задевали Ломоносова лично. При дворе у реакционных церковников нашёлся свой глашатай, пользовавшийся влиянием на богомольную императрицу, — проповедник Гедеон Криновский, допустивший весьма прозрачные намёки на безбожие Ломоносова, причём в печатной проповеди.
В этой обстановке Ломоносов сделал ответный выпад, избрав своим оружием смех. Списки «Гимна бороде» быстро разошлись и среди образованного столичного общества, и среди губернских чиновников и купцов. Вскоре последовала жалоба от Синода императрице. Ломоносова вызвали в Синод для «беседы», а точнее — для выговора и приведения в «раскаяние». Ломоносов прямо своего авторства не подтвердил, чтобы не давать официальным признанием повода для преследования, но и не отрицал ого. Со свойственным ему темпераментом он стал защищать «оный пасквиль», начал адресовать членам Синода «ругательства», и вместо увещевания «отступника» разговор в Синоде закончился перебранкой. Добиться наказания Ломоносова Синоду не удалось, а на эти попытки Ломоносов ответил ещё несколькими острыми сатирическими стихами и эпиграммами.
«Мысли предосудительные, несправедливые, противные православной церкви» были замечены и в трактате Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа». Причём так о нём было сказано уже в 1819 году, когда он был впервые опубликован в сокращённом виде. Здесь перед нами Ломоносов предстаёт как учёный-экономист и демограф. Он рассматривал подъём благосостояния народа как основной способ увеличения его численности. Этот подъём должен быть достигнут путём распространения культуры, научных и медицинских знаний. Не выступая прямо против крепостничества, Ломоносов указывает на ряд отрицательных последствий жестокой эксплуатации крестьян и дворянского вмешательства в их личную жизнь.
Этот трактат рассматривался Ломоносовым как первая из восьми глав обширного научного труда о вопросах, «простирающихся к приращению общей пользы». План этого труда, как и указанный трактат, был изложен в 1761 году в одном из посланий к И. И. Шувалову. Однако, если вельможные меценаты и поощряли занятия Ломоносова «изящной словесностью» и мозаикой, мало понимали, но не мешали его естественнонаучным исследованиям, то позволять ему вмешиваться в дела внутренней социальной и экономической политики дворянской империи были совсем не расположены. Ломоносовские заботы о благе простого народа, не вмещавшиеся в рамки крепостнических порядков, были чужды и враждебны правителям дворянской России. На долгие десятилетия эти идеи учёного были обречены на забвение.
Примерно за семь месяцев до смерти, в июле — августе 1764 года, Ломоносовым была написана «Краткая история о поведении Академической канцелярии в рассуждении учёных людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени». По сути дела, это история борьбы не только с Шумахером и Таубертом, но со всеми тёмными силами, стоявшими за ними, выступавшими против материалистического и просветительского направления в деятельности Академии наук, против патриотических тенденций, то есть против всего того, что олицетворял собой Ломоносов и его сподвижники.
Составление «Краткой истории» было одним из самых решительных актов идейной борьбы, которую вёл Ломоносов за новую, демократическую науку и культуру. Важно оно и тем, что это самый ранний и безусловно достоверный (за исключением непринципиальных деталей) обзор деятельности Академии наук.
«Краткая история...», которую Ломоносов адресовал Екатерине II, при его жизни не получила хода. Однако уже в 1766 году не без влияния этого документа было принято решение об отстранении Тауберта от академических дел и назначении директором академии В. Г. Орлова, который должен был поправить в ней дела. Широкому же читателю ломоносовский текст оставался неизвестным до 1865 года.
Заключает этот раздел документ, который, пожалуй, является самым последним из рукописного наследия Ломоносова. Это план беседы с Екатериной II, которая так и не состоялась, потому что через несколько дней после составления плана между 5 и 7 марта 1765 года на 54-м году жизни учёного свалила болезнь, от которой он уже не оправился. По содержанию план близок к заключительному параграфу «Краткой истории...», но тон высказываний здесь ещё более решительный. Ломоносов собирался не жаловаться, не просить, он предостерегал. Он чувствовал, что его борьба и его жизнь подходят к концу, он осознает своё значение для России, подводит итог своих трудов. По его убеждению, сила Отечества определяется развитием в нём просвещения. Но враги просвещения не разбиты, они пользуются поддержкой реакционных верхов, опираются на засилье чиновников, ничего общего с наукой не имеющих. Это враги не лично Ломоносова, они посягают на достоинство и безопасность страны. Бездействие правителей в деле защиты Просвещения грозит им «великой бурей». Надежды на «просвещённую» мудрость российских самодержцев были иллюзорны, но грозное пророчество оказалось справедливым.
ИЗ СОЧИНЕНИЙ М.В. ЛОМОНОСОВА
1734, СЕНТЯБРЯ 4. ПОКАЗАНИЕ О СВОЁМ ПРОИСХОЖДЕНИИ, ДАННОЕ ПРИ ДОПРОСЕ В СТАВЛЕННИЧЕСКОМ СТОЛЕ МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИИ[297]
1734-го году сентября в 4 день в Ставленническом столе Московской Славено-греко-латинской академии школы риторики ученик Мпхайла Васильев сын Ломоносов допрашивая.
А в допросе он сказал: отец у него города Холмогорах церкви Введения пресвятый богородицы поп Василей Дорофеев, а он, Михайла, жил при отце своём, а кроме того нигде не бывал, в драгуны, в солдаты и в работу е. и. в. не записан, в плотниках в высылке не был, от переписчиков написан действительного отца сын и в оклад не положен[298]. А от отца своего отлучился в Москву в 730-м году октября в первых числех и, приехав в Москву, в 731-м году в генваре месяце записался в вышеписанную Академию, в которой и доднесь пребывает и наукою произошёл до риторики. Токмо он, Михайла, ещё не женат, от роду себе имеет 23 года, и чтоб ему быть в попах в порученной по именному е. и. в. указу известной экспедиции статского советника Ивана Кирилова, он, Михайла, желает. А расколу, болезни и глухоты и во удесех повреждения никакого не имеет и скоропись пишет. А буде он в сём допросе сказал что ложно, и за то священного чина будет лишён, и пострижен и сослан в жестокое подначальство в дальный монастырь.
К сему допросу Славено-греко-латинской
Московской академии ученик
Михайло Ломоносов руку приложил
1735, СЕНТЯБРЯ 4. ПОКАЗАНИЕ О СВОЁМ ПРОИСХОЖДЕНИИ, ДАННОЕ ПРИ ДОПРОСЕ В МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИИ
В Московскую Синодальнаго правления канцелярию из прежней Камор-коллегии[299] потребно известие: города Холмогор церкви Введения пресвятые богородицы поп Василей Дорофеев и при нём, попе, сын его Михайло во время переписи мужеска полу душ при той церкви действительными ль написаны и коликих он, Михайло, лет? Сентября 4-го дня 1734-го года. № 931. Секретарь Павел Протопопов. Канцелярист Алексей Морсочников.
А при отдаче в Камор-коллегию вышеписанной справки означенный Ломоносов сказал, что-де он — не попович, ко дворцовый крестьянский сын[300], о чём значит обстоятельно в последующем его допросе.
Рождением-де он, Михайло, Архангелогородской губернии Двинского уезда дворцовой Куростровской деревни крестьянина Василья Дорофеева сын, и тот-де его отец и поныне в той деревне обретается с прочими крестьяны и положен в подушный оклад. А в прошлом 730-м году декабря в 9-м числе с позволения оного отца его отбыл он, Ломоносов, в Москву, о чём дан был ему и пашпорт (который утратил он своим небрежением) из Холмогорской воеводской канцелярии за рукою бывшего тогда воеводы Григорья Воробьёва, и с тем-де пашпортом пришёл он в Москву и жил Сыскного приказу у подьячего Ивана Дутикова генваря до последних чисел 731-го году, а до которого именно числа, не упомнит. И в тех-де числах подал он прошение Заиконоспасского монастыря архимандриту (что ныне преосвященный архиепископ Архангелогородский и Холмогорский) Герману, дабы принят он был, Ломоносов, в школу, по которому его прошению он, архимандрит, его, Михайла, приняв, приказал допросить, и допрашивай, а тем допросом в Академии показал, что он, Ломоносов, города Холмогор дворянский сын. И по тому допросу он, архимандрит, определил его, Михайла, в школы, и дошёл до риторики. А в экспедицию с статским советником Иваном Кириловым пожелал он, Михайло, ехать самоохотно. А что он в Ставленническом столе сказался поповичем, и то учинил с простоты своей, не надеясь в том быть причины и препятствия к произведению во священство. А никто его, Ломоносова, чтоб сказаться поповичем, не научал. А ныне он желает по-прежнему учиться во оной же Академии. И в сём допросе сказал он сущую правду без всякия лжи и утайки, а ежели что утаил, и за то учинено б было ему, Ломоносову, что Московская Синодального правления канцелярия определит.
К сему допросу
Михайло Ломоносов руку приложил
1743, ИЮНЯ 23. ДОНОШЕНИЕ В АКАДЕМИЮ НАУК ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ[301]
В императорскую Академию Наук доносит тоя же Академии Наук адъюнкт Михайло Ломоносов, а о чём моё доношение, тому следуют пункты:
1. Минувшего майя 27 дня сего 1743 года в Следственной комиссии били челом на меня, нижайшего, профессоры Академии Наук якобы в бесчестии оных профессоров, и по тому их челобитью приказала меня помянутая Комиссия арестовать, под которым арестом содержусь я, нижайший, и по сие число, отлучён будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций.
2. А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я, нижайший, других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я, нижайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении.
И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моём из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить и о сём моём доношении учинить милостивое решение.
Сие доношение писал адъюнкт
Михайло Ломоносов и руку приложил
Июня дня 1743 года
1753, ИЮЛЯ 26. И. И. ШУВАЛОВУ[302]
Милостивый государь
Иван Иванович!
Что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мёртвые не пишут. Я не знаю ещё или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мёртв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча от норда[303]. Гром был нарочито силён, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со много споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шёл. Любопытство удержало меня ещё две или три минуты, пока мне сказали, что шти[304] простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан. Он чуть выговорил: «Профессора громом зашибло». В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и её мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому столь были чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым я за час сидел в Конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте. Первый удар от привешенной линеи[305] с ниткою пришёл ему в голову, где красно-вишнёвое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжён. Мы старались движение крови в нём возобновить, затем что он ещё был тёпл, однако голова его повреждена и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет. Между тем умер г. Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, тёща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нём, так и о своём крайнем несчастий плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти своей пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Ему жалованья было 860 руб. Милостивый государь! исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние господь бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за своё. Между тем, чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки и
вашего превосходительства всепокорнейшего
слугу в слезах Михайла Ломоносова
Санктпетербург
26 июля
1753 года
НАДПИСЬ К СТАТУЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО[306]
Сё образ изваян премудрого героя, Что, ради подданных лишив себя покоя, Последний принял чин и царствуя служил, Свои законы сам примером утвердил, Рожденны к скипетру[307], простёр в работу руки, Монаршу власть скрывал[308], чтоб нам открыть науки. Когда он строил град, сносил труды в войнах, В землях далёких был и странствовал в морях, Художников сбирал и обучал солдатов, Домашних побеждал и внешних сопостатов; И, словом, сё есть Пётр, отечества отец; Земное божество Россия почитает, И столько алтарей пред зраком сим пылает, Коль много есть ему обязанных сердец.Между 1743 и 1747
ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖИЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ ПРИ СЛУЧАЕ ВЕЛИКАГО СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ[309]
1
Лице своё скрывает день. Поля покрыла мрачна ночь, Взошла на горы чорна тень, Лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна звёзд полна; Звёздам числа нет, бездне дна.2
Песчинка как в морских волнах, Как мала искра в вечном льде, Как в сильном вихре тонкой прах, В свирепом как перо огне, Так я, в сей бездне углублён, Теряюсь, мысльми утомлён!3
Уста премудрых нам гласят: «Там разных множество светов[310]; Несчётны солнца там горят, Народы там и круг веков: Для общей славы божества Там равна сила естества».4
Но где ж натура[311], твой закон? С полночных стран встаёт заря! Не солнцель ставит там свой трон? Не льдистыль мещут огнь моря? Се хладный пламень нас покрыл! Се в ночь на землю день вступил!5
О вы, которых быстрый зрак[312] Пронзает в книгу вечных нрав, Которым малый вещи знак Являет естества устав, Вам путь известен всех планет; Скажите, что нас так мятет? Что зыблет ясный ночью лучь? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных тучь Стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мёрзлый пар Среди зимы раждал пожар? Там спорит жирна мгла с водой; Иль солнечны лучи блестят. Склонясь сквозь воздух к нам густой; Иль тучных гор верьхи горят[313]; Иль в море дуть престал зефир, И гладки волны бьют в ефир. Сомнений полон ваш ответ О том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет? И что малейших дале звёзд? Несведом тварей вам конец? Скажите ж, коль велик творец?1743
ГИМН БОРОДЕ[314]
Не роскошной я Венере[315], Не уродливой Химере[316] В имнах[317] жертву воздаю: Я похвалну песнь пою Волосам, от всех почтенным, По груди разпространенным, Что под старость наших лет Уважают наш совет. Борода предорогая! Жаль, что ты не крещена И что тела часть срамная Тем тебе предпочтена. Попечительна природа О блаженстве смертных рода Несравненной красотой Окружает бородой Путь, которым в мир приходим И наш первой взор возводим. Не явится борода, Не открыты ворота. Борода предорогая... и т. д. Борода в казне доходы Умножает[318] по вся годы. Кержинцам[319] любезной брат С радостью двойной оклад В збор за оную приносит И с поклоном ниским просит В вечный пропустить покой Безголовым с бородой[320]. Борода предорогая... и т. д. Не напрасно он дерзает, Верно свой прибыток знает: Лиш разгладит он усы, Смертной не боясь грозы, Скачут в пламень суеверы[321] (.колко с Оби и Печеры После них богатств[322] домой Достаёт он бородой. Борода предорогая... и т. д. О коль в свете ты блаженна, Борода, глазам замена! Люди обще говорят И по правде то твердят: Дураки, врали, проказы Были бы без ней безглазы, Им в глаза плевал бы всяк; Ею цел и здрав их зрак. Борода предорогая... и т. д. Естли правда, что планеты Нашему подобны светы, Конче в оных мудрецы И всех пуще там жрецы Уверяют бородою, Что нас нет здесь головою. Скажет кто: мы вправды тут, В струбе там того сожгут[323]. Борода предорогая... и т. д. Естли кто невзрачен телом Или в разуме незрелом, Естли в скудости рождён Либо чином не почтён, — Будет взрачен и разсуден, Знатен чином и не скуден Для великой бороды: Таковы ея плоды! Борода предорогая... и т. д. О прикраса золотая, О прикраса даровая, Мать дородства и умов, Мать достатков и чинов[324], Корень действий невозможны О завеса мнений ложных! Чем могу тебя почтить, Чем заслуги заплатить? Борода предорогая... и т. д. Через многие расчосы Заплету тебя я в косы, И всю хитрость покажу, По всем модам наряжу[325]. Перес разные затеи Завивать хочу тупеи[326]: Дайте ленты, кошёлки[327] И крупичатой муки[328]. Борода предорогая... и т. д. Ах, куда с добром деваться? Все уборы не вместятся: Для их многого числа Борода не доросла. Я крестьянам подражаю И как пашню удобряю. Борода, теперь прости, В жирной влажности расти! Борода предорогая! Жаль, что ты не крещена И что тела часть срамная Тем тебе предпочтена.1756-1757
* * *
Случились вместе два Астронома в пиру[329] И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит; Другой, — что Солнце все с собой планеты водит: Один Коперник был, другой слыл Птоломей[330]. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: «Ты звёзд теченье знаешь? Скажи, как ты о сём сомненье рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, Я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такова, Которой бы вертел очаг кругом жаркова?»[331]О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА[332]
Милостивый государь
Иван Иванович[333].
Разбирая свои сочинения, нашёл я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее и обстоятельнее сообщить их вашему высокопревосходительству яко истинному рачителю о всяком добре любезного отечества в уповании, может быть, найдётся в них что-нибудь, к действительному поправлению российского света служащее, что вашим проницательством и рачением разобрано, расположено и к подлинному исполнению приведено быть может. Все оные по разным временам замеченные порознь мысли подведены быть могут, как мне кажется, под следующие главы:
1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время долговременного мира.
Сии толь важные главы требуют глубокого рассуждения, долговременного в государственных делах искусства к изъяснению и предосторожной силы к произведению в действо. Итак, м. г., извините мою дерзость, что, не имея к тому надобной способности, касаюсь толь тяжкому бремени только из усердия, которое мне не позволяет ничего (хотя бы только и по-видимому) полезного обществу оставить под спудом. Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чём состоит величество, могущество и богатстве всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей. Божественное дело и милосердыя и человеколюбивый нашея монархини кроткого сердца достойное дело — избавлять подданных от смерти[334], хотя бы иные по за конам и достойны были. Сие помилование есть явное и прямо зависящее от ея материнския высочайшая воли и повеления. Но много есть человекоубивства и ещё самоубивства, народ умаляющего, коего непосредственно указами, без исправления или совершенного истребления некоторых обычаев и ещё некоторых, под именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно.
1. В обычай вошло во многих российских пределах, а особливо по деревням, что малых ребят, к супружеской должности неспособных, женят на девках взрослых, и часто жена могла бы по летам быть матерью своего мужа. Сему, с натурою спорному поведению следуют худые обстоятельства: слёзные приключения и рода человеческого приращению вредные душегубства. Первые после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое супружество — не супружество и сверх того вредно размножению народа, затем что взрослая такая женщина, будучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик, побуждаем будучи от задорной взрослой жены, усиливанием себя прежде времени портит и впредь в свою пору к детородию не будет довольно способен, а когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, в кои к детородию была способнее. Хотя ж она и в малолетство мужнее может обрюхатеть недозволенным образом, однако, боясь бесславия и от мужних родителей попрёку и побоев, легко может поступить на детоубивство ещё в своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим и, чтоб за него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает, а после изобличена предаётся казни. Итак, сими непорядками ещё нерождённые умирают и погибают повинные и неповинные. Второе неравенство в супружестве бывает, когда мужчина в престарелых летах женится на очень молодой девушке, которое хотя и не столь опасно, однако приращению народа вредно, и хотя непозволенною любовию недостаток может быть наполнен, однако сие недружелюбия, подозрения, беспокойства и тяжеб в наследстве и больших злоключений причиною бывает. Для сего вредное приумножению и сохранению народа неравенство супружества запретить и в умеренные пределы включить должно. По моему мнению, невеста жениха не должна быть старее разве только двумя годами, а жених старее может быть 15 летами. Сие для того, чтобы женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего сходнее, ежели муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж по деревням и показывают причины, что женят малых ребят для работниц, однако всё пустошь, затем что ежели кто семью малую, а много пашен или скота имеет, тот наймуй работников, прими третьщиков или половинщиков, или продай излишнее другому[335].
2. Неравному супружеству много подобно насильное, ибо где любви нет, ненадёжно и плодородие. Несогласия, споры и драки вредят плоду зачатому и нередко бывают причиною безвременному и незрелому рождению. Для того должно венчающим священникам накрепко подтвердить, что (б) они, услышав где о невольном сочетании, оного не допускали и не венчали под опасением лишения чина, жениха бы и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде.
3. Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе не позволяется, однако четвёртая после третьей смерти в наших узаконениях не заказана, кроме того, что некто Арменопул, судья солунский, заказал приватно, положась, как уповаю, на слова Назианзиновы[336]: «Первый брак закон, вторый прощение, третий пребеззаконие». Но сие никакими соборными узаконениями не утверждено, затем что он сие сказал как оратор, как проповедник, а не как законодавец, и, невзирая на слова великого сего святителя, церковь святая третий брак благословляет, а четвёртого запрещение пришло к нам из Солуня[337], а не от вселенских соборов[338] или монаршеских и общенародных узаконений. Сие обыкновение много воспрещает народному приращению. Много видал я вдовцов от третьей жены около 30-ти лет своего возраста, и отец мой овдовел в третий раз хотя 50-ти лет, однако ещё в полной своей бодрости и мог бы ещё жениться на четвёртой. Мне кажется, было б законам непротивно, если бы для размножения народа и для избежания непозволенных плотских смешений, а от того и несчастных приключений, четвёртый, а по нужде и пятый брак был позволен по примеру других христианских народов. Правда, что иногда не без сомнительства бывает, всё ли происходило натурально, когда кто в третий и притом в немногие годы овдовеет, и не было ли какого потаённого злодейства? Для сего лицо, требующее четвёртого или пятого брака, должно представить в свидетели соседей или, ещё лучше, родственников по первым супружествам, что в оных поступки его были незлобны и беззазорны, а у кого окажутся вероятные знаки неверности или свирепости, а особливо в двух или во всех трёх супружествах, тем лицам не позволять четвёртого брака.
4. Вошло в обычай, что́ натуре человеческой противно (противно ли законам, на соборах положенным, не помню), что вдовых молодых попов и дьяконов в чернцы[339] насильно постригают, чем к греху, а не ко спасенью даётся повод и приращению народа немалая отрасль пресекается. Смешная неосторожность! Не позволяется священнодействовать, женясь вторым браком законно, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелюбодею или ещё и мужеложцу литургию служить и всякие тайны совершать даётся воля. Возможно ли подумать, чтобы человек молодой, живучи в монашестве без всякой печали, довольствуясь пищами и напитками и по всему внешнему виду здоровый, сильный и тучный, не был бы плотских похотей стремлениям подвержен, кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче запрещаются. Для сих причин кажется, что молодым вдовым попам и дьяконам надобно позволить второй брак и не постригать прежде лет пятидесяти или, сняв чин священства, позволять быть мирскими чинами. Сюда ж надлежит и пострижение молодых людей прямо в монахи и монахини, которое хотя в нынешние времена и умалилось пред прежним, однако ещё много есть излишества, особливо в Малороссии и при синодальных школах. Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие поступки везде показывают, что монашество в молодости ничто иное есть, как чёрным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не упоминая о бывающих детоубийствах, когда закононреступление закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук[340] запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет.
5. Вышеписанное касалось больше до обильнейшего плодородия родящих; следующее надлежит особливо до сохранения рождённых. Хотя запрещением неравного и насильного супружества, позволением четвёртого и пятого брака, разрешением к супружеству вдовых попов и дьяконов и непозволением до указанных лет принятия монашеского чина несомненно воспоследовать может знатное приумножение народа и не столько будет беззаконнорожденных, следовательно, и меньше детского душегубства, однако по разным случаям и по слабости человеческого сложения быть тому невозможно, чтобы непозволенным сластолюбием или и насильством обременная женщина, не хотя быть обесславлена, не искала бы способов утаить своего беззакония и несчастия, отчего иногда в отчаянии матери детей своих убивают. Для избежания столь ужасного злодейства и для сохранения жизни неповинных младенцев надобно бы учредить нарочные богаделенные домы для невозбранного зазорных детей приёму[341], где богаделенные старушки могли б за ними ходить вместо матерей или бабок; но о сём особливо, в письме о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6. Следуют сему младенческие болезни, изнуряющие и в смертные челюсти повергающие начинающуюся жизнь человеческую, из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое рождение. Страждет младенец не менее матери, и тем только разнится их томление, что мать оное помнит, не помнит младенец. Коль же оно велико, изъявляет Давид пророк, ибо, хотя изобразить ужасные врагов своих скорби, говорит: «Тамо болезни яко рождающия» (сиречь женщины). Проходя болезненный путь в прискорбный и суетный свет, коль часто нежный человек претерпевает великие повреждения, а особливо в голове, тем, что в самое своё рождение лишается едва начатый жизни и впервые почерпнутый дух в последнее испускает, либо несколько часов или дней только лишь с настоящею смертию борется. Сие первое страдание, которым нередко из рождённых живых на весь век здравие повреждается. Сего иначе ничем не можно отвратить или хотя несколько облегчить, как искусством повивальных бабок и осторожностию беременных. Потом следует болезнь при выходе зубов, младенцам часто смертоносная, когда особливо падучую болезнь о собою приносит. Также грыжи, оспа, сухотка, черви в животе и другие смерти детской причины, все требуют знания, как лечить нежных тел болезни. Для умаления толь великого зла советую в действие произвести следующее: 1) Выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за основание, сочинить наставление на российском языке или, сочинив на другом, перевесть на российский, к чему необходимо должно присовокупить добрые приёмы российских повивальных искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговременным искусством дело знающих, спросить каждую особливо и всех вообще и, что за благо принято будет, внести в оную книжицу. 2) Для излечения прочих детских болезней, положив за основание великого медика Гофмана[342], который, упражнявшись чрез 60 лет в докторском звании, при конце жизни писал наставление о излечении младенческих болезной, по которым я дочь свою дважды от смерти избавил, и присовокупив из других лучшее, соединить с вышеписанною книжкою о повивальном искусстве; притом не позабыть, что наши бабки и лекари с пользою вообще употребляют. 3) В обеих совокуплённых сих искусств (ах) в одну книжку наблюдать то, чтобы способы и лекарства по большей части не трудно было сыскать везде в России, затем что у нас аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены, о чём давно бы должно было иметь попечение; но о сём особливо представлено будет. 4) Оную книжку напечатав в довольном множестве, распродать во всё государство по всем церквам, чтобы священники и грамотные люди читая могли сами знать и других наставлением пользовать. По исчислению умерших по приходам, учинённому в Париже, сравнив их лета, умирают в первые три года столько же почти младенцев, сколько в прочие, до ста считая. Итак, положим, что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года. Посему на каждый год будет рождённых полмиллиона, из коих в три года умирает половина или ещё по здешнему небрежению и больше, так что на всякий год достанется смерти в участие по сту тысяч младенцев не свыше трёх лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, чтобы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, можно было удобными способами сохранить в жизни?
7. Доселе о натуральных обстоятельствах, младенцам вредных; остаётся упомянуть о повреждениях, от суеверия и грубого упрямства происходящих. Попы, не токмо деревенские, но и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, иногда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода была натуральная без применения, и вменяют теплоту за примешанную материю, а не думают того, что летом сами же крестят тёплою водою, по их мнению смешанною. Итак, сами себе прекословят, а особливо по своему недомыслию не знают, что и в самой холодной воде ещё теплоты очень много. От замерзания в лёд принимает вода в себя стужу до 130 гр., да и тут можно почесть её горячею, затем что замерзающая ртуть[343] несравненно большее расстояние от сего градуса имеет, нежели вода от кипятка до замерзания. Однако невеждам-попам физику толковать нет нужды, довольно принудить властию, чтобы всегда крестили водою, летней в рассуждении теплоты равною, затем что холодная исшедшему недавно из тёплой матерней утробы младенцу конечно вредна, а особливо который много претерпел в рождении. Одно погружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда мокрота в глаза, в уши, в ноздри, а иногда и в рот вливается (а когда рот и ноздри запирает пои рукою, тогда пресекается дыхание, которое недавно лишь получил младенец). Когда ж холодная вода со льдом охватит члены, то часто видны бывают признаки падучей болезни, и хотя от купели жив избавится, однако в следующих болезнях, кои всякий младенец после преодолеть должен, а особливо при выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь удобнее возобновится. Таких упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю я палачами, затем что желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти. Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?
8. Бедственному младенческому началу жизни следуют приключения, нападающие на здравие человеческое в прочем оныя течении. И, во-первых, невоздержание и неосторожность с уставленными обыкновениями, особливо у нас в России вкоренившимися и имеющими вид некоторой святости. Паче других времён пожирают у нас масленица и св. неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остаётся. Мёртвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Розговенье тому ж подобно. Да и дивиться не для чего. Кроме невоздержания в заговенные дни питием и пищею, стараются многие на весь в[еликий] пост удовольствоваться плотским смешением законно и беззаконно и так себя до чистого понедельника изнуряют, что здоровья своего никоею мерою починить не могут, употребляя грубые постные пищи, которые и здоровому желудку тягостны. Сверх того вскоре следует начало весны, когда все скверности, накопленные от человеков и от других животных, бывшие во всю зиму заключёнными от морозов, вдруг освобождаются и наполняют воздух, мешаются с водою и нам с мокротными и цинготными рыбами в желудок, в лёгкое, в кровь, в нервы и во всё строение жизненных членов человеческого тела вливаются, рождают болезни в здоровых, умножают оные в больных и смерть ускоряют в тех, кои бы ещё могли пожить долее. После того приближается светлое Христово воскресение, всеобщая христианская радость: тогда хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти господни, однако мысли наши уже на св. неделе. Иной представляет себе приятные и скоромные пищи, иной думает, поспеет ли ему к празднику платье, иной представляет, как будет веселиться с родственниками и друзьями, иной ожидает, прибудут ли запасы из деревни, иной готовит живописные яйца и несомненно чает случая поцеловаться с красавицами или помилее свидаться. Наконец заутреню в полночь начали и обедню до свету отпели. Христос воскресе! только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягчённые объядением и пьянством, там валяются обнажённые и блудом утомлённые недавние строгие постники. О истинное христианское пощение и празднество! Не на таких ли бог негодует у пророка: «Праздников ваших ненавидит душа моя и кадило ваше мерзость есть предо мною!» Между тем бедный желудок, привыкнув чрез долгое время к пищам малопитательным, вдруг принуждён принимать тучные и сильные брашна в сжавшиеся и ослабевшие проходы и, не имея требуемого довольства жизненных соков, несваренные ядения по жилам посылает, они спираются, пресекается течение крови, и душа в отворенные тогда райские двери из тесноты тела прямо улетает. Для уверения о сём можно справиться по церковным запискам: около которого времени в целом году у попов больше мёду на кутью исходит? Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни и крутопеременное питание тела не токмо вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных праздниколюбцев, самоубийцами почесть можно. Правда, что ежели кто на масленице приуготовляется к посту житием умеренным, в пост не изнуряет себя излишно и говеет больше духом, нежели брюхом, на св. неделе радуется о препровождении в[еликого] поста в истинных добродетелях, в трудах обществу полезных и богу любезных, а не о том, что дожил до разрешения на вся, тот конечно меньше почувствует припадков от нездорового времени, а особливо когда трудами кровь приводит в движение и, словом, содержит себя хотя то постными, то скоромными пищами, однако равно умеренными, без крутых скачков и пригорков. Но здесь, в севере сие по концам тучное, а в серёдке сухое время есть самая праздная часть года, когда крестьяне по имеют никакой большой работы и только посеянные, пожатые, измолоченные и смолотые плоды полевые доедают; купцам, за испорченными дорогами и распутицами, почти нет проезду из города в город с товарами: нет кораблям плавания и морским людям довольного движения; военные люди стоят в походах по зимним квартирам, а дома то для морозов, то для слякоти не могут быть удобно экзерциции. Итак, большая часть народа должна остаться в праздности, которая в заговенье к розговенье даёт причину к необузданной роскоши, а в пост, с худыми прошлогодними пищами и с нездоровым воздухом соединённая, портит здоровье и жизнь коро́тит.
Многие скажут: «Да проживают же люди! отцы наши и прадеды жили долгие веки!» Правда, живут и лопари[344], питаясь почти одною только рыбою, да посмотрите ж, коль они телом велики и коль многолюдны, и сравните их с живущими в том же климате самоядами, питающимися по большей части мясом. Первые ростом мелки, малолюдны, так что на 700 вёрстах в длину, а в ширину на 300 лопарей толь мало, что и в большие солдатские поборы со всей земли по два солдата с числа душ наймают из нашего народа, затем что из них весьма редко, чтобы кто и по малой мере в солдаты годился. Самояды, напротив того, ростом немалы, широкоплечи и сильны и в таком множестве, что если бы междоусобные частые кровавые сражения между многими их князьками не случались, то бы знатная восточно-северного берега часть ими населилась многолюдно. Посмотрите, что те российские области многолюднее, где скотом изобильнее, затем что во многих местах, где скотом скудно, и в мясоед по большей части питаются рыбою или пустыми щами с хлебом. Если б паша масленица положена была в мае месяце, то великий пост был бы в полной весне и в начале лета, а св. неделя около Петрова дня[345], то бы, кроме новых плодов земных и свежих рыб и благорастворённого воздуха, 1-е) поспешествовало бы сохранению здравия движение тела в крестьянах пахотною работою, в купечестве дальнею ездою по земле и по морю, военным — экзерцициею и походами; 2-е) ради исправления таких нужных работ меньше бы было праздности, матери невоздержания, меньше гостьбы и пирушек, меньше пьянства, неравного жития и прерывного питания, надрывающего человеческое здравие, а сверх того, хотя бы кто напился, однако, возвращаясь домой, не замёрз бы на дороге, как о масленице бывает, и не провалился бы под лёд, как случается на св. неделе.
Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители постов и праздников, и со всяким благоговением вопрошаю вашу святость: что вы в то время о нас думали, когда св. великий пост поставили в сие время? Мне кажется, что вы, по своей святости, кротости, терпению и праводушию милостивый ответ дадите и не так, как андреевский протопоп[346] Яков делал, в церкви матерно не избраните или ещё, как он с морским капитаном Яньковым в светлое воскресение у креста за непоцелование руки поступил, в грудь кулаком не ударите. Вы скажете: «Располагая посты и праздники, жили мы в Греции и в земле обетованной. Святую четыредесятницу[347] тогда содержать установили, когда у нас полным сиянием вешнего солнца земное богатое недро отверзается, произращает здоровыми соками наполненную молодую зелень и воздух возобновляет ароматными духами; поспевают ранние плоды, в пищу, в прохлаждение и в лекарство купно служащие; пению нашему для славословия божия соответствовали журчащие ручьи, шумящие листы и воспевающие сладкогласные птицы. А про ваши полуночные стороны мы рассуждали, что не токмо там нет и не будет христианского закона, но ниже́ единого словесного обитателя ради великой стужи. Не жалуйтесь на нас! Как бы мы вам предписали есть финики и смоквы и пить доброго виноградного вина по красоуле[348], чего у вас не родится? Расположите, как разумные люди, по вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время или в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Есть у вас духовенство, равную нам власть от Христа имеющее вязати и решити. Для толь важного дела можно в России вселенский собор составить: сохранение жизни толь великого множества народа того стоит. А сверх того, ученьем вкорените всем в мысли, что богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу, что посты учреждены не для самоубивства вредными пищами, но для воздержания от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и другими образы ближнего повредитель прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние есть доброе житие, бога к милосердию, к щедроте и к люблению нашему преклоняющее. Сохраните] данные Христом заповеди, на коих весь закон и пророки висят: «Люби господа бога твоего воем сердцем (сирень не кишками) и ближнего как сам себя (т. е. совестию, а не языком)». Исправлению сего недостатка ужасные обстоят препятствия, однако не больше опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходительством с иноверными, заставить матрозов в летние посты есть мясо, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов и вместо их учредить Правительствующий Сенат, Святейший Синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц! Российский народ гибок!
9. Кроме сего впадает великое множество людей и в другие разные болезни, о излечении коих весьма ещё мало порядочных есть учреждений, как выше упомянуто, и только по большей мере простые, безграмотные мужики и бабы лечат наугад, соединяя часто натуральные способы, сколько смыслят, с вороженьем и шептаниями, и тем не только не придают никакой силы своим лекарствам, но и ещё в людях укрепляют суеверие, больных приводят в страх унылыми видами и умножают болезнь, приближая их скорее к смерти. Правда, много есть из них, кои действительно знают лечить некоторые болезни, а особливо внешние, как коновалы и костоправы, так что иногда и учёных хирургов в некоторых случаях превосходят, однако всё лучше учредить по правилам, медицинскую науку составляющим. К сему требуется по всем городам довольное число докторов, лекарей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя б только по нашему климату пристойными, чего не токмо нет и сотой доли, но и войско российское весьма не довольно снабжено медиками, так что лекари не успевают перевязывать и раненых, не токмо чтобы всякого осмотреть, выспросить обстоятельства, дать лекарства и тем страждущих успокоить. От такого непризрения многие, коим бы ожить, умирают. Сего недостатка ничем не можно скорее наполнить, как для изучения докторства послать довольное число российских студентов в иностранные университеты и учреждённым и впредь учреждаемым внутри государства университетам дать между прочими привилегиями власть производить достойных в доктора; 2-е. Медицинской канцелярии[349] подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так и при лекарях было довольное число учеников российских, коих бы они в определённое время своему искусству обучали и Сенату представляли. Стыдно и досадно слышать, что ученики российского народа, будучи по десяти и больше лет в аптеках, почти никаких лекарств составлять не умеют, а ради чего? Затем, что аптекари держат ещё учеников немецких, а русские при иготе[350], при решете и при уголье до старости доживают и учениками умирают, а немецкими всего государства не наполнить. Сверх того, недостаточное знание языка, разность веры, несходные нравы и дорогая им плата много препятствуют.
10. Смертям от болезни следуют насильственные, натуральные и случайные обстоятельства как причины лишения жизни человеческой, т. е. моровые язвы, пожары, потопления, морозы. Поветрия на людей хотя по большей части в южных пределах здешнего государства случаются, однако всякие способы против того употреблять должно. Оные состоят в истреблении уже начавшегося или в отвращении приходящего. К первому требуются известные употребительные против такого несчастья средства, и для того, лучшие должно выбрав из авторов, сочинить Медицинскому факультету[351] книжку и напечатав распродать по государству. Ко второму надобно с бывших примеров собрать признаки, из которых главный есть затмение солнца, причиняющее почти всегда вскоре падеж на окот, а после и на людей поветрие. В наши просвещённые веки знают о том в великом свете обращающиеся люди от астрономов и могут предостеречься, не выпуская скота из дому и не давая травы, того дня снятой: так в других государствах остерегаются два или три дни после, и сами никаких плодов в то время не снимают и не употребляют, говоря, что во время солнечного затмения падают ядовитые росы. Главная причина быть кажется, по моему мнению, что во время затмения закрывается солнце луною, таким же телом, как и земля наша, пресекается круто электрическая сила, которую солнце на все растения во весь день изливает, что видно на травах, ночью спящих и тоже страждущих в солнечное затмение. Время научит, сколько может электрическая сила действовать в рассуждении поветрия. Затмения во всём государстве не знают, и для того надобно заблаговременно публиковать и что требуется повелеть указами по примеру, как водится в других государствах. Для избавления от огненной смерти служит предосторожность о утолении частых и великих пожаров, о чём покажется пространно в письме о лучшей государственной экономии. Потопления суть двояки: от наводнения и от неосторожной дерзости, особливо в пьянстве. Первое легко отвратить можно, запретив, чтобы при великих реках на низких местах, вешней особливо воде подверженных, никаких жилищ не было. Сие делается от одной лености, чтоб вода и сено и всякая от воды удобность была близко, однако часто на высоких местах живущие видят весною, сами будучи в безопасности, как скот и люди и целые домы неприступный лёд несёт в отчаянии всякого спасения. Вторых потоплений ничем отвратить нельзя, не умалив много гощения и пьянства, для коих люди дерзают переезжать чрез реки в бурную погоду, перегрузив суда множеством, или переходить через лёд осенью и весною, когда он весьма ненадёжен и опасен. В главе о истреблении праздности предложатся способы, равно как и для избавления померзания многих зимою.
11. Немалый ущерб причиняется народу убивствами, кои бывают в драках и от разбойников. Драки происходят вредные между соседями, а особливо между помещиками, которых ничем, как межеванием, утушить не можно. На разбойников хотя посылаются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя знатно убавить нет почти никакой надежды. Основательнейшие и сильнейшие к тому требуются способы. Следующий кажется мне всех надёжнее, бережливее и монархине воемилостивейшей славнее и притом любезнее, затем что он действио своё возымеет меньшим пролитием человеческой крови. Разбойники без пристанища в городах и около деревень пробыть и злодейством своим долго пользоваться не мо гут. При деревнях держатся, а в городах обыкновенно часто бывают для продажи пограбленных пожитков. Итак, когда им сии места сделаны будут узки и тесны, то не могут долго утаиться; не занадобится далече посылать команды и делать кровопролитные сражения со многими, когда можно иметь случай перебрать по одиночке и ловить их часто. Всевожделенный и долговременный покой внутри нашего отечества чрез полтораста лет, в кое время после разорения от поляков[352] не нужно было стенами защищаться от неприятелей, подал нерадению нашему причину мало иметь попечения о градских ограждениях, и потому большая часть малых городов и посадов и многих провинциальных и губернских городов не токмо стен каменных или хотя надёжных валов и рвов, но и деревянных палисадников или тынов не имеют, что не без сожаления вижу из ответов, присылаемых на географические вопросы в Академию наук[353] изо всех городов указом Правительствующего Сената, по моему представлению. Кроме того, что проезжающие иностранные не без презрения смотрят на наши беспорядочные города или, лучше сказать, почти на развалины, разбойники употребляют их к своему прибежищу и так лее могут закрываться от достойного карания в городе или ещё лучше, нежели в деревне, затем что город больше и со всех сторон в него на всяком месте ворота днём и ночью беспрестанно отворены ворам и добрым людям. Когда ж бы всемилостивейше повелеть благоизволено было все российские города, у коих ограждение рушилось или его и не было, укрепить хотя не каменными стенами, но токмо валом и рвом и высоким палисадником и не во многих местах оставить ворота с крепкими запорами и с надёжными мещанскими караулами, где нет гарнизонов, так, чтобы ряды и лавки были внутри ограждения, то бы ворам провозить в город грабленные вещи для продажи было весьма трудно и всё для осмотру предосторожности употребить было несравненно легче, нежели в месте, со всех сторон отворенном; а разбойник может быть в воротах скорее примечен, который, не продав грабленных вещей, корысти не получит. Сверх сего, в каждом ограждённом городе назначить постоянные ночлеги для прохожих и проезжих с письменными дозволениями и с вывескою и приказать, чтобы каждый хозяин на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был на ночлеге и сколько времени, а другие бы мещане принимать к себе в дом приезжих и прохожих воли не имели, под опасением наказания, кроме своих родственников, в городе известных. По всем волостям, погостам и деревням опубликовать, что ежели крестьянин или двое и больше поймают разбойника, приведут его в город или в другое безопасное место и докажут надёжными свидетелями и опору в том не будет, то давать приводчикам за всякую голову по 10 руб. из мещанского казённого сбору, и за главных злодейских предводителей, за атамана, эсаула, также и за поимание и довод того, кто держит воровские прибежища, по 30 руб. Сие хотя довольно быть кажется, где города не в весьма дальним расстоянии, однако многие места есть в России глухие, на 500 и больше вёрст без городов, прямые убежища разбойникам и всяким беглым и беспашпортным людям; примером служить может лесистое пространство около реки Ветлуги, которая, на 700 вёрст течением от вершины до устья простираясь, не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть разбойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая пашпорта. По таким местам должно основать и поставить города, дав знатным сёлам гражданские права учредить ратуши и воеводствы и оградив надёжными укреплениями и осторожностями от разбойников, как выше показано. Сие будет служить не токмо для общей безопасности и к сбережению российского народа, но и к особливой славе воемилостивейшей нашей самодержицы яко возобновительницы старых и состроительницы многих новых городов российских.
12. Переставая говорить о потере российского народа болезнями, несчастиями и убивствами, должно упомянуть о живых покойниках. С пограничных мест уходят люди в чужие государства, а особливо в Польшу, и тем лишается подданных Российская корона. Подлинно, что расположив предосторожности на рубеже литовском, однако толь великой скважины силою совершенно запереть невозможно: лучше поступить с кротостию. Побеги бывают более от помещичьих отягощений[354] крестьянам и от солдатских наборов. Итак, мне кажется лучше пограничных с Польшей жителей облегчить податьми и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству. Для расколу много уходит российских людей на Ветку[355]: находящихся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем военном случае[356]? А впредь могут служить способы, кои представятся о исправлении нравов и о большем просвещении народа.
13. Место беглецов за границы удобно наполнить можно приёмом иностранных, ежели к тому употреблены будут пристойные меры. Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разорённые семейства оставлять своё отечество и искать мест, от военного насильства удалённых. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в своё безопасное недро целые народы и довольствовать всякими потребами, кои единого только посильного труда от человеков ожидают к своему полезному произведению. Условия, коими иностранных привлечь можно к поселению в России, не представляю, не ведая довольно союзных и враждебных обстоятельств между воюющими и мирными сторонами.
Хотел бы я сочинить примерный счёт, сколько бы из сих 13 способов (а есть ещё и больше) воспоследовало сохранения и приращения подданных ея императорского величества. Однако требуется к тому для известия многие обстоятельства и не мало времени; для того только одною догадкою досягаю несколько, что на каждый год может взойти приращение российского народа больше против прежнего до полумиллиона душ, а от ревизии до ревизии в 20 лет — до 10 миллионов. Кроме сего уповаю, что сии способы не будут ничем народу отяготительны, но будут служить к безопасности и успокоению всенародному.
Окончивая сие, надеюсь, что вашему высокопревосходительству что-нибудь понравится из моих доброжелательных к обществу мнений, и прошу о вашем беспрерывном здравии и во всём удовольствии всевышнего строителя и правителя всех народов и языков, произведшего вас в сей день и влившего вам кровь сына отечества к произведению дел полезных, а паче к покровительству наук и художеств, к которым я, равно и к вам от всей искренности усердствуя, с достодолжным высокопочитанием пребываю.
Ноября 1. 1761
1764, НЕ ПОЗДНЕЕ АВГУСТА 26. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ О ПОВЕДЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ В РАССУЖДЕНИИ УЧЁНЫХ ЛЮДЕЙ И ДЕЛ С НАЧАЛА СЕГО КОРПУСА ДО НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ[357]
Глава первая
содержит поведение от начала до нового штата
§ 1. Во время приезда в Санктпетербург самых первых профессоров: Германа[358], двух Бернуллиев, Билфингера, Беккенштейна и других был президент архиатер доктор Лавреньтей Блументрост, а у государевой библиотеки приставлен библиотекарем, что после был статским советником[359], Иван-Данил Шумахер, которому президент отдал под смотрение и денежную казну, определённую на Академию.
§ 2. Посему выдача жалованья профессорам стала зависеть от Шумахера, и всё, что им надобно, принуждены были просить от него же. Сверх сего Шумахер, будучи в науках скуден и оставив вовсе упражнение в оных, старался единственно искать себе большей поверенности у Блументроста и у других при дворе приватными прислугами[360], на что уже и надеясь, поступал с профессорами не таким образом, как бы должно было ему оказывать себя перед людьми, толь учёными и в рассуждении наук великими, от чего скоро воспоследовали неудовольствия и жалобы.
§ 3. Шумахер для укрепления себе присвоенной власти приласкал на помочь студента Миллера, что ныне профессор, и в начатой безо всякого формального учреждения и указа Канцелярии[361] посадил его с собою, ибо усмотрел, что оный Миллер, как ещё молодой студент и недалёкой в науках надежды, примется охотно за одно с ним ремесло в надежде скорейшего получения чести, в чём Шумахер и не обманулся, ибо сей студент, ходя по профессорам, переносил друг про друга оскорбительные вести и тем привёл их в немалые ссоры, которым их несогласием Шумахер весьма пользовался, представляя их у президента смешными и неугомонными.
§ 4. Сверх сего по высокомерию своему презирал оных почтенных мужей и делал многие досады, почему прозван был flagellum professorum, то есть бич на профессоров, которые между тем, жаловавшись и бив челом в Сенате на своих обидчиков, ничего не успели, затем что приобыкли быть всегда при науках и не навыкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения, и ради того требовали от академической службы абшидов[362], которые Шумахеровым ходатайством неукоснительно и выправлены.
§ 5. Но чтобы Академия не пуста осталась, или лучше, дабы Шумахер имел под рукою своею молодых профессоров, себе послушных, представил в кандидаты на профессорство пять человек: Ейлера, Гмелина, Вейтбрехта, Крафта[363] и фаворита своего Миллера, чтобы старые отъезжающие профессоры их на своё место аттестовали. О четырёх первых отнюд не обинулись дать свои одобрения, а Миллеру в том отказали, для того ли что признали его недостойным, или что он их много обидел, или и обое купно было тому причиною. Однако в рассуждении сего мнение их не уважено, затем что Шумахеровым представлением Миллер был от Блументроста произведён с прочими в профессоры.
§ 6. Однако ж Шумахер сим своим промыслом чуть ли не больше проиграл, нежели выиграл. Новый сей профессор, ведая из практики и сообщения шумахерские пронырства, везде стал ему ставить на дороге в его покушениях препятства, пристал к некоторым ещё оставшим первым профессорам, также и с новыми соединясь, немалые стал наводить Шумахеру упадки в его власти. Но он выискал новый способ, как бы с шеи сбыть сего соперника, ибо, узнав его охоту побывать в других государствах и надобность съездить в отечество для принятия наследства, присоветовал с оказанием удовольствия, с определённым ему профессорским жалованьем и с подорожными деньгами в путь отправиться под именем яко бы для нужд библиотечных и книгопродажных в Германию.
§ 7. После отъезду Миллерова имел случай Шумахер привести прочих новых профессоров к себе в дружбу и управлять их уже как старший, а его сколько можно унизить худыми об нём идеями, коих он мог сыскать довольно. Да и сам Миллер, надеясь на Шумахерово ласкание, без позволения ездил в Англию, чтобы стать тамошнего учёного собрания членом, также, проезжая Пруссию, был на славном там случившемся тогда каруселе[364] и для показания себя излишные сделал из казны издержки, коих Шумахер по возвращении его в Санктпетербург на казённый счёт не поставил, отчего произошла великая распря, и Шумахер взял верх, так что Миллер рад был тогдашнему случаю отправиться в Камчатскую экспедицию[365].
§ 8. Около сего времени взяты были из Московских Заиконоспасских школ двенадцать человек школьников в Академию Наук, между коими находился бывший после профессор натуральной истории Крашенинников (ибо в самой Академии о изучении российского юношества почти никакого не было попечения). Оных половина взяты с профессорами в Камчатскую экспедицию, из коих один удался Крашенинников, а прочие от худого присмотру все испортились. Оставшаяся в Санктпетербурге половина, быв несколько времени без призрения и учения, разопределены в подьячие и к ремесленным делам. Между тем с 1733 года по 1738 никаких лекций в Академии не преподавано российскому юношеству.
§ 9. Хотя между тем Миллер, будучи в Сибири, не мог быть Шумахеровым соперником, однако не без нужды Шумахеру было от некоторых остерегаться и ради того приводить в ссору. Делиль ещё был из самых первых профессоров и не давал собою командовать. Шумахеру, ведая, что он не имеет к тому подлинного права. Для того наустил Шумахер на Делилия молодших профессоров Крафта и Генсиуса[366], чтобы его не почитали и на Обсерватории без его спросу и согласия употребляли инструменты по своей воли, отчего произошли ссоры и драки на Обсерватории.
§ 10. Профессор Вейтбрехт умел хорошо по-латине; напротив того, Юнкер едва разумел латинских авторов, однако мастер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил и знакомство у фельдмаршала графа Минниха[367]. Шумахер, слыша, что Вейтбрехт говорит о Юнкере презренно, яко о неучёном, поднял его на досаду, отчего произошла в Конференции драка, и Вейтбрехт признан виноватым, хотя Юнкер ударил его палкою и расшиб зеркало. Примечания достойно, что прежде сего Шумахер, как и ныне наследник его — Тауберт, в таковых распрях стоит за молодших, затем чтоб ими старших унизить, а молодших поднять. Но то же и с сими делалось, когда они несколько усилились, и чрез то, кроме других, доводов, на себя доказывают, что они таковых ссор причиною, чтобы ловить в мутной воде.
§ 11. В 1735 году истребованные вновь двенадцать человек школьников и студентов в Академию из Московских Спасских школ, в коих числе был и нынешный статский советник Ломоносов и надворный советник Попов[368] и бывший потом бергмейстер[369] Виноградов, приехали в Санктпетербург все вместе генваря 1 дня 1736 года и содержаны были сперва на довольной пище, хотя и излишно дорого за то заплачено родственнику Шумахерову — Фелтингу[370]. 19 марта объявлено студентам Ломоносову и Виноградову, что они отправляются по именному указу в Германию для обучения натуральной истории. И с того времени взяты на отпуск определённые из Статс-конторы[371] на содержание их с третьим тысячу двести рублёв на год, кои тогда же и употреблены на академические другие нужды за недостатком денег в Академии. А отправляющиеся вышеписанные студенты и с ними Густав Рейзер, бывшего тогда Берг-коллегии[372] советника Рейзера сын, принуждены были ожидать своего отправления до осени, в коем пути будучи четыре педели на море, в октябре месяце едва не потонули.
§ 12. Всегдашние недостатки в деньгах происходили от худой экономии Шумахеровой, ибо, несмотря на то что, сверх положенной суммы 25 тысяч в год, печатание книг заморских и торг иностранными во всём государстве имела одна Академия, сверх того блаженный памяти государыня императрица Анна Иоанновна пережаловала на Академию во время своего владения до ста десяти тысяч, академические служители такую претерпевали нужду, что принуждены были брать жалованье книгами и продавать сами, получая вместо рубля по семидесят копеек и меньше, что продолжалось до нового штата.
§ 13. По отъезде помянутых трёх студентов за море прочие десять человек оставлены без призрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец нужда заставила их просить о своей бедности в Сенате на Шумахера, который был тогда призван к ответу, и учинён ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда возвратясь в Канцелярию, главных на себя просителей, студентов бил по щекам и высек батогами, однако ж принуждён был профессорам и учителям приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени и продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие — Лебедев, Голубцов[373] и Попов в переводчики, и прочие ж разопределены по другим местам, и лекции почти совсем пресеклись.
§ 14. Отправленные в Германию трое вышепоказанные студенты, приехав в город Марбург, обучались у славного профессора Волфа математики и физики, а химии начало положили у других. И двое российских обучались немецкому языку и во французском положили начало. Между тем для весьма неисправной пересылки денег на содержание претерпевали нужду и пришли в долги. Хотя Шумахер получал на них определённую из Статс-конторы сумму тысячу двести рублёв вперёд на целый год, отправленным им из Марбурга в Фрейберг для обучения рудных дел определил жалованья только по полтораста рублёв, обещанных наперёд тамошнему советнику Генкелю за обучение их химии тысячи двухсот рублёв не прислал же, почему Генкель присылаемые студентам на содержание деньги стал удерживать за собою, чего они не могли вытерпеть и стали просить своего пропитания, требуя справедливости. Но он с великою запальчивостию в деньгах отказал, а их вон от себя выслал. В таковых обстоятельствах Ломоносов отъехал в Марбург к Волфу как к своему благодетелю и учителю. Рейзер и Виноградов, долго скитаясь, наконец нашли покровительство у графа Кейзерлинга[374], который их и снабдевал несколько времени.
§ 15. Между тем присылка суммы на содержание студентов в Германии совсем пресеклась, и Рейзер через отца своего исходатайствовал, что деньги на содержание двоих стали присылаться из Берг-коллегии исправпо даже до их возвращения. Ломоносов писал в Академию из Марбурга о своём возвращении и через год на проезд и на платёж долгов получил только его рублёв, и выехал за Волфовым поручительством в отечество. Подал добрые свидетельства о своих успехах и сецимены в Академию, кои весьма от Собрания одобрены. Но произведён не так, как обещано ему при отъезде, в экстраординарные профессоры[375], но по прошествии полугода в адъюнкты, а профессорства ждал он здесь четыре года. Примечания и смеху достойно, что когда Ломоносов уже давно в отечество возвратился и был по штату в Академии адъюнктом физического класса на жалованье академическом по 360 рублёв, Академическая канцелярия на всякий год требовала и получала из Статс-конторы на содержание его по четыреста рублёв наперёд, и было якобы два Ломоносовых: один в России, другой в Германии. Подобно же происходило и с прочими двумя студентами, на коих до возвращения Шумахер принимал определённую из Статс-конторы сумму, ничего к ним не пересылая. Возвратившегося Рейзера хотя Шумахер и приласкивал в Академию, обещая профессорство химии, чтобы Ломоносова отвести от той профессии, однако Рейзер, ведая худое академическое состояние и непорядки, совсем отказался.
§ 16. Около 1740 года определён был в Академию Наук для своего искусства в механике советник Нартов к инструментальным делам, а особливо к махинам, взятым в Академию из токарни блаженныя памяти государя императора Петра Великого, и учреждена Механическая экспедиция, к которой помянутый Нартов требовал себе и приказных служителей, в чём ему Шумахер весьма препятствовал, опасаясь, чтобы его Канцелярия, не утверждённая указом, а следовательно и власть его не унизилась. Между тем Нартов, уведав от академических многих служителей, а паче из жалобы от профессора Делиля о великих непорядках, напрасных убытках и о пренебрежении учения российского юношества, предприял всё сие донести блаженныя памяти государыне императрице Елисавете Петровне, когда она изволила быть в Москве для коронования. Итак, за общим подписанием одиннадцати человек доносчиков, коих главные были комиссар Камер, переводчики Горлицкий[376] и Попов, что ныне надворный советник, и некоторые студенты, приказные, академические служители и мастеровые, советник Нартов отвёз в Москву и подал оное доношение е. в., по которому советник Шумахер и с ним нотариус Гофман и книгопродавец Прейсер взяты под караул, и учреждена в Академии следственная комиссия, в коей членами присутствовали адмирал Николай Фёдорович Головин, князь Борис Григорьевич Юсупов и бывший тогда здешний комендант Игнатьев.
§ 17. Доносили оные канцелярские служители на Шумахера в непорядочных по Академии поступках, в испровержении наук и в похищении многой казны, что всё состояло в 38 пунктах. Первое им было в успехах помешательство, что из них подканцелярист Худяков прежде ещё отъезда Нартова в Москву с доношением отстал и объявил тайно Шумахеру всё их намерение, почему он принял предосторожности, писал в Москву к своим приятелям, а профессоров и адъюнктов побудил всех читать лекции для виду, так что читающих было числом втрое против слушателей, и то уже по большой части к местам прежде определённых. Несмотря на то, сперва комиссия зачалась было горячо, однако вскоре вся оборотилась на доносителей, затем что в комиссию, а особливо ко князю Юсупову, писал за Шумахера сильный тогда при дворе человек иностранный[377]. Не исполнено ничего, что требовали доносители по силе именного указа и по самой справедливости, то есть не опечатаны все нужные департаменты, на кои большее было подозрение, а в запечатанные ходил самовластно унтер-библиотекарь Тауберт, сорвав печать, и выносил письма. Доносители не допущены были по силе именного указа о той комиссии к разбору писем и вещей, и словом, никакой не употреблено строгости по правосудию, а доносители без всякой причины арестованы, Шумахер выпущен из-под аресту.
§ 18. Наконец уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтобы, улуча государыню где при выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он их заставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от Канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему. Между тем комиссия хотя не могла миновать, чтобы Шумахера не признать виноватым по некоторым пунктам, по коим он изобличён был в первые заседания, однако сочинила доклад в Правительствующий Сенат, весьма доброхотный для Шумахера, а предосудительный для доносителей, кои и осуждены были к страфам[378] и наказаниям, но и прощены, якобы для замирения со шведами. Пункты, в коих Шумахер изобличён, суть следующие: что он содержал у себя под именем кунсткамерских служителей четырёх лакеев, водил в своей либерее[379], кои никакого в Кунсткамере дела не имели, на академическом жалованье по 24 рубли на год, на что издержал казённых денег с лишним 1400 р.; 2) что определённые деньги по потчивание гостей, в Кунсткамеру приходящих, по четыреста рублёв на год держал на себя и присовокупил к своему жалованью, чтобы не давать никакого отчёту, чего всего истрачено было больше семи тысяч рублёв; 3) что он держал казённую французскую водку, коя имелась всегда для кунсткамерских вещей, употреблял на свои домашние потребы. И словом, если бы комиссия допустила доносителей до счетов, надлежащих до типографской фабрики и до книжного торгу, то бы нашлись конечно великие неисправности и траты казённой суммы. Сверх сего доказал советник Нартов, что Шумахер сообщил тайно в чужие государства карту мореплавания и новообретённых мест Чириковым и Берингом, которая тогда содержалась в секрете. А оную карту вынял тогдашний унтер-библиотекарь Тауберт из Остермановых пожитков, будучи при разборе его писем, который её имел у себя как главный командир над флотом.
§ 19. К избавлению Шумахерову много также способствовали тогдашние профессоры, а особливо Крафт по сродству, Винсгейм по великой дружбе и приехавшие в самое время коммиссии из Сибири Гмелин и Миллер, которым Шумахер обещал выдавать им двойное сибирское жалованье и здесь, в Санктпетербурге, как только посажен будет по-прежнему в Канцелярии. Сии четверо разъезжали по знатным дворам случайных людей[380], привлёкши и прочих профессоров, и просили о освобождении оного, однако вскоре вспокаялись, затем что Шумахер, поманив несколько времени Гмелина и Миллера исполнением обещанного, наконец отказал им вовсе. С прочими стал поступать деспотически. С Делилем древняя вражда возобновилась, а особливо что он был при коммиссии депутатом со стороны доносителей. Какие были тогда распри или лучше позорище между Шумахером, Делилем и Миллером! Целый год почти прошёл, что в Конференции кроме шумов ничего не происходило. Наконец все профессоры единогласно подали доношение на Шумахера в Правительствующий Сенат в непорядках и обидах, почему оный Сенат рассудил и указал, чтобы до наук надлежащие дела иметь в единственном ведении Профессорскому собранию.
§ 20. Но власть их стояла весьма кратко, затем что вскоре пожалован в Академию президентом его сиятельство граф Кирило Григорьевич Разумовский, которому на рассмотрение отосланы из Сената все перед ним бывшие академические распри, которые так решены, что от всех профессоров взяты сказки порознь, стоит ли кто в своём на Шумахера доносе, на что как ответствовало от каждого, неизвестно, но то ведомо, что Шумахер остался по-прежнему в своей силе и вскоре получил большое подкрепление.
§ 21. Около сих времён многие профессоры отъехали в отечество: Крафт, Гейнсиус, Билде, Крузиус[381], Делиль и Гмелин, коих двух отъезду причины и отпуск особливо упомянуть должно. Делиль, будучи с самого начала Академии старший, по справедливости искал первенства перед Шумахером и, служа двадцать лет на одном жалованье, просил себе прибавки, и как ему отказано, хотел принудить требованием абшида, который ему и дан без изъяснения или уговаривания, ибо Шумахер рад был случаю, чтобы избыть своего старого соперника. Гмелину Шумахер чинил многие препятствия в сочинении российской флоры, на что он жаловался. Шумахер выбранил Гмелина письменно бесчестным способом, для чего Гмелин и для отказу в получении двойного, как было в Сибире, милованья стал отпрашиваться на время в отечество, на что его сиятельство г. президент и склонился, ежели он даст надёжных поручителей. Первый сыскался друг его, профессор Миллер и в товарищи склонил к себе профессора Ломоносова, который сколько ласканием Миллеровым, а больше уверился словами покойного Крашенинникова, который о Гмелинове добром сердце и склонности к российским студентам Ломоносову сказывал, что-де он давал им в Сибире лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал. Гмелин для чего не возвратился, показал причины, а вероятно, и для того что он через приятельские письма слышал о продолжении худого состояния Академии и о шумахерской большей прежнего власти.
Глава вторая
О поступках Канцелярии с учёным корпусом после нового стата
§ 22. По вступлении нового президента сочинён новый стат[382], в коем расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить в высшие чины несомненно явствует. Оный штат и регламент в Собрании профессорском по получении прочитан однажды, а после даже до напечатания содержан тайно. Все рассуждали, что он хорош, затем что думали быть автором г. Голдбаха. Однако по напечатании увидели не Голдбаховы мысли и твёрдость рассуждения, который всегда старался о преимуществах профессорских. Многие жалели, что оный регламент и на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии в других государствах. Что по оному регламенту и для него после приключилось, окажется в следующих.
§ 23. Для большего уважения Канцелярии при такой перемене надобно было и место просторнее: прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтобы не пользоваться каким-нибудь образом в утеснении своих соперников, и для того присоветовал перенести Канцелярию в Рисовальную и Грыдоровальную палату, а рисовальное дело перебрать в бывшую тогда внизу под нынешнею Канцеляриею Механическую экспедицию, где имел заседание Нартов, который для сего принуждён был очистить место, рушить своё заседание, а инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие ж было причиною академическаго пожара[383], ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты, в такие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топлены и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены или и совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое от топления загорелось. Разные были о сём пожаре рассуждения, говорено и о Герострате[384], но следствия не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорело в Академии, кроме немалого числа книг и вещей анатомических, вся галлерея с сибирскими и китайскими вещами, Астрономическая обсерватория с инструментами. Готторпский большой глобус, Оптическая камера со всеми инструментами и старая Канцелярия с оставшимися в ней архивными делами, однако повреждение двору и публике показано весьма малое и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что оного в целости ничего не осталось, кроме старой его двери, коя лежала внизу в погребе. Для лучшего уверения о малом вреде от пожару в «Ведомостях» описано хождение по Кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы[385], в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он, Загромоза, видел. Но если бы и то объявлено в тех же «Ведомостях» было, чего уже он в Кунсткамере не видел, то бы едва ли меньший реестр из того вышел.
§ 24. Таким образом, негодование у двора и молву в людях о сём пожаре утолив, начата несколько Академия в 1748 г. и большой глобус починишать новым образом, то есть всё новое делать, прилагая всякое старание. Положено великое множество казённого иждивения, и каменная палатка, где он ныне стоит, обошлась около пяти тысяч! Между тем как неудовольствие у двора охолодело, так и выстройка глобуса остановилась и в шестнадцать лет ещё совсем не окончана.
§ 25. В то же время для исполнения хотя на время по стату истребованы из синодальных семинарий, из Московской, Новогородской и Невской, около тридцати человек школьников, затем что своих при Академии воспитанных не было, кроме двух из Невской семинарии принятых, что ныне профессоры Котельников и Протасов. Начались университетские лекции и учение в Гимназии с нехудым успехом. Ректором определён в Университете по регламенту профессор Миллер. И сие продолжалось, пока истребованные из духовных школ по большой части по местам не разопределились. Между тем Миллер с Шумахером и с асессором Тепловым поохолодился и для того отставлен от ректорства, а на его место определён адъюнкт Крашенинников, как бы нарочно в презрение Миллеру, затем что Крашенинников был в Сибире студентом под его командою, отчего огорчение произошло ещё больше. Во время Крашенинникова ректорства произведены из Гимназии девять человек в студенты. Только то нехорошо сделал по совету Шумахерову, что для произведения не учинил прежде публичного экзамена, что, однако, профессор Ломоносов исправил, ибо нарекание от Крашенинникова и от студентов отвёл экзаменом, учинённым в Профессорском собрании, и новые студенты почти все явились способны к слушанию лекций, которые, однако, не продолжались порядочно, и студенты отчасти по-пустому шатались, живучи по городу в разных отдалённых местах для дешёвых квартер, отчасти разопределились по разным академическим департаментам. Четверо из старых посланы были за море. Итак, течение университетского учения вовсе пресеклось, кроме профессора Брауна[386], который читал беспрерывно философские лекции, несмотря на нелюбление за то от Шумахера и на недоброхотные выговоры и советы.
§ 26. Приведши себя Шумахер в такие обстоятельства и приготовив на свою руку в зяти, в наследники и в преемники тогдашнего асессора (что ныне статский советник) Тауберта, опасался двоих в произведении сего предприятия профессоров: старого своего соперника Миллера и Ломоносова, который тогда своими сочинениями начал приходить в знаемость. И ради того стал Шумахер на сего чинить следующие нападения. Ломоносов с самого своего приезду требовал для упражнения в своей химической науке, чтобы построена была при Академии лаборатория, но через четыре года, подавав многократные в Канцелярию о том прощения, не мог получить желаемого. И, наконец, будучи произведён по апробации всего Академического собрания и по именному указу блаженный памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны за подписанием собственный руки, получил двора повеление и сумму на лабораторию из Канцелярии от строения по представлению барона Черкасова[387]. Для отнятия сего всего умыслил советник Шумахер и асессора Теплова пригласил, чтобы мои, апробованные уже диссертации в общем Академическом собрании послать в Берлин, к профессору Ейлеру конечно с тем, чтобы их он охулил, а приехавшему тогда из Голландии доктору Бургаву-меньшему[388] было сказано, что он при том и химическую профессию примет с прибавочным жалованьем. И Бургав уже не таясь говорил, что он для печей в Химическую лабораторию выпишет глину из Голландии.
§ 27. Между тем Ломоносов, сие о Бургаве услышав, доложил барону Черкасову, и потому выдача денег на Лабораторию приостановлена. Также и Бургав, уведав, что ему химическую профессию поручают в обиду Ломоносову, от того отказался. Сверх сего асессор Теплов, Ломоносову тайно показав аттестат Ейлеров о его диссертациях, великими похвалами преисполненный, объявил, что-де Шумахер хотел его определить к переводам, а от профессорства отлучить, однако-де ему не удалось. А как Ломоносов выпросил Ейлеров аттестат, то прислана к нему тотчас от Теплова цедулька[389], чтобы аттестат отослать неукоснительно назад и никому, к особливо Шумахеру, не показывать: в таком был он у Шумахера подобострастии. После того под смотрением и по расположению Ломоносова выстроена Химическая лаборатория, в которой он, трудясь многими опытами, кроме других исследований, изобрёл фарфоровую массу, мозаичное дело и сочинил о цветах новую теорию.
§ 28. Изобретённое мозаичное художество, кое казённым произвождением развести неохотно принимались, не хотя Ломоносов вотще[390] кинуть, просил в Правительствующем Сенате о заведении себе приватно фабрики со вспомогательными заимообразно деньгами с жалованьем крестьян, что ему и определено. А для испрошения по сенатскому представлению крестьян необходимо ему надобно было ехать в Москву, куда перед тем незадолго двор отбыл. Для сего Ломоносов просил из Канцелярии отпускного письма, но Шумахер отказал, что он без президентского позволения дать не смеет. Но как зимний путь уже стал худеть[391], и Ломоносов думал, что, может, ему также от президента отказ будет и дело его весьма продлится, то испросил он позволения из Сенатской конторы, от адмирала князя Голицына, паншорт и в Москву приехал прямо к президенту, извиняясь своею законною нуждою. Его сиятельство принял ласково и во всю бытность оказывал к нему любление. Всемилостивая же государыня благоволила подать ему довольные знаки своего высочайшего благоволения и пожаловала по желанию его деревни. Возвратясь в Санктпетербург, Ломоносов увидел в Профессорском собрании от президента оному на общее лицо реприманд[392] в ослушании. А покойник адмирал князь Голицын показал Ломоносову также вежливый реприманд от президента в форме письма от советника Теплова, что он в чужую должность вступился, отпустив в Москву речённого Ломоносова: так противны были Шумахеру его успехи.
§ 29. Блаженный памяти государыня императрица Е[лисавета] П[етровна] на куртаге[393] Ломоносову через камергера Шувалова изволили объявить в бытность его в Москве, что е. в. охотно бы желала видеть российскую историю, написанную его штилем. Сие приняв он с благодарением и возвратясь в Санктпетербург, стал с рачением собирать к тому нужные материалы. (Сочинённый первый том поднесён е. в. с дедикацией[394] в 49-м году письменный.) При случае платы в награждение по задаче ста червонцев за химическую диссертацию Ломоносов сказал в Собрании профессорском, что-де он, имея работу сочинений «Российской истории», не чает так свободно упражняться в химии и ежели в таком случае химик понадобится, то он рекомендует ландмедика Дахрица[395]. Сие подхватя, Миллер записал в протокол и, согласись с Шумахером, без дальнего изъяснения с Ломоносовым, скоропостижно выписал доктора Залхова, а не того, что рекомендовал Ломоносов, который внезапно увидел, что новый химик приехал, и ему отдана Лаборатория и квартира. Помянутый Залхов был после весьма жалок. Ибо после выезду Ломоносова из квартиры, вступил асессор
Тауберт, а Залхов долго скитался по наёмным, от Лаборатории удалённым квартерам и не мог за химию приняться. Между тем Ломоносов с ним приятельски обходился и не дал себя привести на неповинного Салхова в огорчение. А Залхов не пристал к шумахерской стороне, за что он выгнан из России бесчестным образом, ибо не токмо прежде сроку дан ему абшид, но Тауберт, будучи уже в Канцелярии членом, без спросу и согласия и без подписания своих товарищей, коллежского советника Ломоносова и надворного советника Штелина, послал промеморию[396] в Адмиралтейство, чтобы оная коллегия послала указ в Кронштат и приказала у оного Залхова отнять данный ему диплом как академическому члену.
§ 30. С Миллером происходило следующее около тех же времени. После бывшей комиссии в Академии для прекращения споров между Миллером и Крекшиным[397], о государственной фамилии Романовых происшедших, в которой для рассмотрения посажены были профессоры Штруб, Тредьяковский и Ломоносов, впал Миллер в некоторое нелюбие у г. президента и у Теплова, и тогда отнято у него ректорство и отдано Крашенинникову. Сие, чаятельно, воспоследовало оттого, что он в первом томе «Сибирской истории» положил много мелочных излишеств и, читая оное, спорил и упрямился, не хотя ничего отменить, со многими профессорами и с самим асессором Тепловым. Также, вместо самого общего государственного исторического дела, больше упражнялся в сочинении родословных таблиц в угождение приватным знатным особам. Сие казалось Шумахеру во власти опасно, и ради того старался асессору Теплову всё об нём внушать и искал удобного случая.
§ 31. Между тем издана во Франции карта американских морских путешествий Чирикова и Берингова, о чём Академия немало потревожена, и Миллер должен был делать сему поправление. Около сего времени перехвачено письмо Делилево к Миллеру об академических обстоятельствах, в котором найдены презрительные речи для Академии, и для того учреждена по именному указу в Академической канцелярии следственная комиссия. Ему не велено выходить из дому, и письма его опечатаны, в коих при разборе найдено нечто непристойное. Однако по негодованиям и просьбам Миллеровых при дворе приятелей дело без дальностей оставлено.
§ 32. После того велено Миллеру для публичного акта в Академии сочинить речь или диссертацию из российской истории, к чему он избрал материю, весьма для него трудную, — о имени и начале российского народа, которая, как только без чтения перед Профессорским собранием напечатана и в Москву к президенту для апробации отослана, немедленно публичный акт отложен, и речь Миллерова отдана на рассмотрение некоторым академическим членам, которые тотчас усмотрели немало неисправностей и сверх того несколько насмешливых выражений в рассуждении российского народа, для чего оная речь и вовсе отставлена. Но Миллер, не довольствуясь тем, требовал, чтобы диссертацию его рассмотреть всем Академическим собранием, что и приказано от президента. Сии собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался в Собрании палкою и бил ею по столу конференцскому. И, наконец, у президента в доме поступил весьма грубо, а пуще всего асессора Теплова в глаза обесчестил. После сего вскоре следственные профессорские собрания кончились, и Миллер штрафован понижением чина в адъюнкты.
§ 33. При отъезде президентском на Украину[398], спустя по окончании комиссии около полугода пожалованы асессор Теплов и профессор Ломоносов в коллежские советники[399] в Москве, сей при своей профессии, а оный при гетмане[400], адъюнкт Попов произведён в профессоры и Миллер прощён и из адъюнктов произведён в профеосоры. И чтобы его из унижения поднять и укрепить против Ломоносова, который Шумахеру казался опасен, дабы не умалил его самовластия, для того Миллер вскоре определён секретарём и ободрён знатною прибавкою жалованья, и Географический департамент поручен ему же. Сверх того, посажен и в комиссию, которая по президентскому ордеру учреждена была для отрешения излишеств от Академии, в коей члены были коллежские советники Шумахер и Ломоносов, надворный советник Штелин и профессор Миллер.
§ 34. Причина была следующая сея комиссии. Слух достиг и до самых внутренностей двора об излишествах, недостатках и непорядках академических, и президент услышал неприятные там речи о своём правлении. И для того послал о поправлении сего в Академическую канцелярию ордер и к советнику Ломоносову особливый, причём и приватное письмо от советника Теплова, в коих точно и ясно изображены Шумахеровы непорядки. И потому никоею мерою отрещись невозможно, что Шумахеровы непорядки были давно ведомы. С начала сея комиссии дело зачалось было изрядно, однако можно увериться, что Шумахер, будучи членом в той комиссии, которая учреждена для разбору его же непорядков, во всём доброму успеху препятствовал. И надворный советник Штелин за художества стоял больше, нежели за науки. Бывший тогда в Канцелярии секретарь Ханин[401] искал себе асессорства и единственного смотрения над книжным печатаньем и торгом, который был всего тягостнее наукам, старался всячески угождать Шумахеру. Наконец, комиссия кончена, и подан репорт президенту, которого исполнение могло бы хотя несколько поправить академическое состояние, однако он совсем оставлен без внимания. Отрешён только за пьянство архитектор Шумахер[402], однако после опять принят и поступает по-прежнему.
§ 35. Воспоследовало высочайшее повеление блаженный памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны о исправлении статов всех правлений и судебных мест, почему и в Академию Наук указ прислан, чтобы академический стат поправить и рассмотреть по идеи асессора Тауберта. Созвано для того общее Профессорское собрание, где присутствовал и советник Теплов, который как сочинитель академического стата стал в том жестоко спорить, что оный ещё как новый не подлежит никакой перемене, и потому-де его оставить в своей силе. Советник Ломоносов, напротив того, представлял, что в оном стате есть много неисправностей, прекословных и вредных установлений, то-де доказывается тем, что по нему не чинится исполнения. Советник Теплов с презрением слов его не хотел слушать. Отчего дошло с обеих сторон до грубых слов и до шуму. И в собрании ничего не положено. По наговоркам Теплова отрешён был Ломоносов от присутствия в Профессорском собрании, однако при дворе законно оправдан и отрешение его письменно объявлено недействительным и ничтожным. Хотя же академический стат снова по указу из Правительствующего Сената недавно подан, яко не подлежащий к поправлению, к чему Ломоносов не подписался, но как он во всём сем прав, засвидетельствовал сам его сиятельство президент, приказав своим ордером новый академический стат сделать статскому советнику Тауберту и оному Ломоносову.
§ 36. При окончании сея главы для большего уверения худого состояния Академии в сей эпохе показать должно следующее: 1) что для таковых Академической канцелярии поступок никто не хотел из иностранных учёных вступать в академическую службу, и нужда была принимать на упалые[403] профессорские места людей весьма посредственных, но и те склонились нарочным увещанием. Профессор Бургав отпущен был в отечество и в другие места на академическом коште под видом академических нужд, надлежащих до книжного дела, а в инструкции его между главными пунктами было предписано, чтобы в проезде своём истреблял в чужих краях худые мнения о нашей Академии и уверял о её цветущем состоянии; 2) на письмо профессора Штруба к советнику Теплову, коим Штруб просил прибавки жалованья, ответствовал оный отказом, объявляя, что-де ныне «Академия без академиков, Канцелярия без членов, университет без студентов, правила без важности и наконец во всём замешательство, даже поныне неисцелимое».
Глава третия
О поведении Канцелярии Академической после определения новых в ней членов
§ 37. При отъезде на Украину определил г. президент в Канцелярию новых членов[404] в прибавление к статскому советнику Шумахеру: коллежского советника Ломоносова и асессора Тауберта; надворный советник Штелин сперва присутствовал по строению академических погорелых палат, а после определён и действительно канцелярским членом. Кроме известных прежде бывших непорядков, странны показались советнику Ломоносову: подряды, происходящие по выстройке погоревших палат и по заведению новой Типографии асессором Таубертом и всяких починок, в коем деле не мог везде соглашаться без нарушения законов и для того записывал свой голос особливо, чему примеры показать можно; секретарь академический протестовал о таковых подрядах после того и в Правительствующем Сенате; 2) великая раздача книг в подарки без высочайшего повеления в богатых переплётах, чему и реестр персон имеется, по которому видеть можно, сколь много истрачено казны с начала Академии доныне; 3) великое множество дел, до наук ничего не надлежащих, покупки разных вещей на Типографию, в Книжную лавку, в мастеровые палаты, а особливо что по мелочам в разбивку, которыми так время тратится, что мало досугов остаётся стараться о главном деле — о науках, что можно усмотреть из канцелярских журналов и протоколов, на что Ломоносов многократно представлял, чтоб оное прекратить, однако без успеху, затем что товарищи его тем больше могли себя показать многодельными и прилежными, чего они не могли показать по наукам.
§ 38. Подал советник Ломоносов в Профессорское собрание проект о делании трубы, коею бы яснее видеть можно было в сумерках, и представил давно у себя сделанный тому опыт. Физики профессор, что ныне коллежский советник Епинус делал на то объекции, почитая сие невозможным делом. Ломоносов немного после того спустя получил от камергера Шувалова присланную трубу того ж сродства, и он представлял в доказательство своей справедливости. Однако профессор Епинус не токмо слушать не хотел, но и против Ломоносова употреблял грубые слова; и вдруг вместо дружбы прежней стал оказывать неприятельские поступки. Всё ясно уразумели, что то есть Таубертов промысел по Шумахерскому примеру, который учёные между профессорами споры, кои бы могли дружелюбно кончиться, употреблял в свою пользу, портя их дружбу. Всё явно оказалось тем, что Епинус не токмо с Ломоносовым, но и с другими профессорами, ему приятельми, перестал дружиться, вступил в Таубертову компанию и вместо прежнего прилежания отдался в гуляние. Тауберт Епинуса везде стал выхваливать и рекомендовать и тем сделал себе два выигрыша: 1) что отвёл от наук человека, который бы стал, может быть, ими действовать против него, если бы при науках остался, 2) сыскал себе в помощь недоброжелателя Ломоносову, что следующими примерами неспоримо доказуется.
§ 39. Пожалован между тем коллежский советник Теплов в статские советники. Для того Ломоносов, как в одно время произведённый прежде, подал и о своём произвождении прошение его сиятельству Академии г. президенту, что он и принял благосклонно. Советник Тауберт, уведав о сём, употребил для помешательства сему профессора Епинуса, приговорив ещё к тому профессора Цейгера и адъюнкта Кельрейтера[405], бывшего в великой любви у Тауберта и у Миллера. Скопом пришед к президенту, просили, чтобы не воспоследовало Ломоносову произвождение, что учинили и у других некоторых особ, имея предводителем Епинуса, а речь вёл Цейгер. Почему и остановлено произвождение Ломоносова, несмотря что он уже девятый год тогда был в одном чину, служив близ тридцати лет и отправляв до четырёх профессий сверх дел канцелярских; напротив того, Епинус, быв здесь едва три года по контракту, произведён коллежским советником, не показав ни малой услуги Российскому отечеству, по Таубертовой рекомендации и ещё мимо старших его иностранных, усердно трудившихся в наставлении российского юношества в Университете, от чего Епинус неосновательными отговорками вовсе отказался.
§ 40. Чтение лекций коль неприятно Тауберту хотя из вышеописанного довольно уразуметь можно, также из следующих неоспоримо окажется, однако не можно не упомянуть и сего поведения. Катедра[406] профессорская стояла в академических палатах, где читал лекции по большей части профессор Браун, которого всегдашнее старание о научении российских студентов и притом честная совесть особливой похвалы и воздания достойны. Тогда безо всякого определения и согласия Канцелярии прочих членов и совсем без их ведома асессор Тауберт велел оную катедру вынесть вон, которая после очутилась в Гимназии. И если бы не старание Ломоносова, то бы лекции тогда вовсе пресеклись, затем что расположение тогдашнее профессорское и студентское житьё по разным квартерам требовало, чтоб катедре быть в академических палатах.
§ 41. Для сохранения российских древностей от разрушения и для удовольствия охотников представил советник Ломоносов в Академической канцелярии, чтобы списать портреты прежних государей, кои по разным столичным и удельным городам в бывших княжениях находятся в церквах при гробницах, сняв с них рисунки на бумаге, при Академии переправить чище и нагрыдоровав пустить в свет. Согласились все члены, и признан к тому довольно способным рисовальный мастер Андрей Греков[407]. Сделано определение, и от Святейшего Синода истребован позволительный указ, чтобы его допускать для сего дела везде в церкви. Однако Тауберт для пресечения сего дела, для того что не от него, но от Ломоносова получило своё течение, нашёл способ, рекомендовав сего Грекова для обучения рисованию е. и. в. Что он сие учинил с зависти и злобы, то неоспоримо потому, 1) что можно бы к сему много лучших рисовальщиков сыскать, кроме Академии, и особливо, что Тауберт знал готовое уже Грекова отправление, 2) что кроме исполнения своей на Ломоносова злости отнюд бы он Грекова не рекомендовал к тому знатному месту, затем что он был свидетелем на тестя его Шумахера во время следственной на него коммиссии, почему меньшего брата его, Алексея Грекова, и поныне утесняет чувствительно.
§ 42. Не токмо в академических делах Ломоносову чинены многие препятствия, но и по его приватным трудам оскорбления. Когда мозаичное дело привёл он до такого совершенства, что стали многие похвалять его старание, в то время издано в «Ежемесячных сочинениях» некоторое известие о муссии[408], наполненное незнания о сём деле, а паче презрения сего искусства, которое ныне в Риме и здесь производится из стеклянных составов и превосходнее древнего. Сии ругательства делу, для отечества славному, от кого произошли, видно, что при конце оного сочиненьица стоят буквы В. Т.[409] Собирает сочинения профессор Миллер, печатает Тауберт. Одному Ломоносова стихотворство, другому его «История», третьему обое, а паче всего в Канцелярии товарищество противно.
§ 43. По силе генерального регламента разделены академические департаменты президентским ордером по канцелярским членам в особливое смотрение: коллежскому советнику Ломоносову поручено Профессорское собрание, Университет, Гимназия и Географический департамент, надворному советнику Штелину — Департамент академических художеств, так же грыдорованное, резное и другие мастерства, асессору Тауберту — Типография, Книжная лавка и инструментальное дело. В сём последнем хотя Ломоносов и Штелин тогда ж и представляли, что инструментальное дело должно разделить, то есть для поделок типографских надобностей требуется только столяр, кузнец и слесарь, а прочие, как мастер геометрических, оптических, астрономических и метеорологических инструментов, надлежит к департаменту наук, который дан в смотрение Ломоносову, однако Шумахеров и Таубертов голос больше уважены, и после того инструментальных мастеров труды почти единственно употреблены в приватные угождения, ибо по Канцелярии о происхождении дел в Инструментальной лаборатории ничего почти не известно. Также Астрономическая обсерватория и физика едва ли чем от оной пользовались не токмо в деле новых, но и в починке старых инструментов.
§ 44. Ломоносов первое по своим департаментам принял в уважение Гимназию и Университет, кои были весьма в худом состоянии, а особливо, что жили гимназисты и студенты по городу порознь, не было никакого регламента, который велено уже с начала нового стата сочинить президенту, от чего происходило, 1) что помянутые молодые люди без распорядка в классах и в лекциях профессорских не были обучаемы надлежащим образом, живучи далече от Академии, не приходили в надлежащие часы к учению, а иногда и по нескольку недель отгуливали, жалованье получали многие весьма малое, и тем ещё поделясь с бедными своими родителями, претерпевали скудость в пище и ходили по большой части в рубищах, а оттого и досталь теряли охоту к учению. Для отвращения сего сочинил Ломоносов с позволения президентского обоих сих департаментов статы вновь и регламенты, кои его сиятельством и апробовавы, и дело пошло лучшим порядком.
§ 45. Однако в надлежащее течение привести невозможно было за невыдачею денег на учащихся, в чём советник Тауберт много противился, ибо, имея казну от Книжной лавки под своим ведением и печатью, с великим затруднением давал на Университет и Гимназию, когда статной казны в наличестве у Комиссарства не было, хотя всё книжное дело и доходы произошли из эндемического определённого иждивения с немалым наук ущербом, так что иногда Ломоносову до слёз доходило, ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег, видя, что не на нужные дела их употребляет. Например, дочь умершего давно пунсонщика Купия[410] принесла после отца своего оставите старые инструменты, которые тотчас для словолитной за 120 рублей наличных денег взяты, когда гимназистам почти есть было нечего. Таковые поступки понудили Ломоносова просить президента, чтобы Университет и Гимназия отданы были ему в единственное смотрение, и сумму по новому стату на оба сии учреждения отделять особливо с тем, чтобы Канцелярия (сиречь прочие члены) чинила ему в том всякое вспоможение. Сколько ж, напротив того, учинено препятствия, следует ниже. Однако, несмотря на оные, старанием Ломоносова начались в Гимназии экзамены и произвождение из класса в класс и в студенты и в Университете лекции; и в четыре года произошли уже двадцать человек, а в одно правление Шумахерово в тридцать лет не произошло ни единого человека.
§ 46. Успехи Гимназии и Университета коль тягостны были Тауберту, можно видеть из препятствий, учинённых вместо вышепомянутого вспоможения. Профессор Модрах[411], бывший тогда Гимназии инспектор, принёс к Ломоносову канцелярский ордер, им же, Ломоносовым, подписанный и к Модераху посланный для принятия денег на студентов и гимназистов, в котором выскоблено и на том месте написано: «и употреблять их по моим словесным приказаниям», что законам противно и, чаятельно, ничьим другим, как Таубертовым, приказанием для подыску впредь сделано.
§ 47. Когда Ломоносов сочинил статы и регламенты для Гимназии и Университета, то для лучшей исправности сообщил их для просмотрения и делания примечаний советнику Теплову и четырём профессорам. Теплов сделал примечания и трое из профессоров, кои были по большой части справедливы и приняты в уважение. Четвёртый, приняв Таубертовы советы, спорил против числа студентов и гимназистов, точно его слова употребляя: что «куда-де столько студентов и гимназистов? куда их девать и употреблять будет?» Сии слова твердил часто Тауберт[412] Ломоносову в Канцелярии и, хотя ответствовано, что у нас нет природных россиян ни докторов, ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других учёных и ниже своих профессоров в самой Академии и в других местах, но, не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: «куда со студентами?».
§ 48. В представлении своём к г. президенту Ломоносов о исправлении Университета и Гимназии рекомендовал в профессоры адъюнктов Козицкого и Мотониса[413], одного философии, а другого греческого языка, и приводил Тауберта, чтобы на то склонился, затем что представление одного не толь важно, однако он отговаривался отчасти недостатком суммы, отчасти полагая причиною, якобы они были не прилежны, не хотят по его приказаниям ничего делать и прочая. Но не так он поступил с угодником своим Румовским и недавно с наглым Шлёцером, которого непозволенным образом хочет довести в профессоры истории, о чём ниже.
§ 49. Для твёрдого основания Санктпетербургскаго университета и для его движения старался советник Ломоносов, чтоб исходатайствовать оному надлежащие привилегии и учинить торжественную инавгурацию[414] по примеру других университетов. Для того с позволения его сиятельства Академии президента сочинил по примеру других университетов привилегию и с его апробациею и Профессорского собрания отдал переписать на пергаменте с надлежащими украшениями и со всеми принадлежностьми подал в бывшую тогда Конференцию, где оная апробована канцлером, его сиятельством графом Михаилом Ларионовичем Воронцовым контрассигнована к подписанию е. в. блаженный памяти государыни Императрицы] Е[лисаветы] П[етровны] и между прочими делами предложено, но приключившиеся тогда болезни и скорая её кончина сие пресекла. Примечания достойны при сем деле Таубертовы поступки: 1) что он об университетской инавгурации не хотел и слушать и ради того и у проекта привилегии для подания в Придворную конференцию не подписался, которая и представлена за президентскою и Ломоносова рукою; 2) адъюнкту Протасову[415] послан был ордер в Голландию, чтобы, не ставясь там в докторы, ехал в Санктпетербург для постановления при инавгурации; к сему Тауберт не подписался, отзываясь, что «какие-де здесь поставления в докторы, не будут-де его почитать», будто бы здешняя монаршеская власть не была толь важна, как голландская. Правда, что инавгурации за вышеписанной причиною пресеклась, однако Протасов всегда мог быть здесь доктором поставлен, но Тауберт во время тяжкой Ломоносова болезни отослал снова Протасова в Голландию для получения докторства, чем потеряно время и иждивение напрасно и авторитету академическому ущерб сделан, коея президенту в регламенте позволено производить в учёные градусы. Что же Тауберт сие учинил не для пользы Протасова, да в укосиение Университету, то явствует по тому, что после возвращения Протасова доктором при произвождении его в профессоры продолжал время, и если бы Ломоносов не ускорил, отнёсши дело на дом президенту для подписания, то бы, конечно, Протасов и по сю пору был адъюнктом. Однако Тауберт и ещё притом выиграл, что угодника своего Румовского наделя старшинством пред Протасовым.
§ 50. Для учреждения Университета должно было иметь профессора юриспруденции, которое место после отрешения Штрубова, что ныне канцелярским советником, было порожже. Ломоносов по рекомендации г. Голдбаха и после одобрения в Профессорском собрании (кроме Миллера) представил обер-авдитора Фёдоровича[416], который, кроме того что юриспруденции в университетах обучался, был через много лет в статской службе при Медицинской канцелярии и в Адмиралтействе и сверх других изрядно научился российскому языку и прав, почему он и принят его сиятельством. Тауберт и Миллер его и поныне ненавидят и гонят затем, что служит к учреждению Университета. Злоба ему оказана особливо в двух случаях. Научили его недоброхоты из старых студентов переводчика Поленова[417], который у Фёдоровича юридические лекции слушал, чтобы он просился за море для науки, объявляя, что у Фёдоровича ничего понять не может (сия была причина посылки двух студентов за море, а не ради учения). Сие Поленова доношение было так уважено, что, не требуя от Фёдоровича (от профессора и учителя) никакого изъяснения и оправдания, сделано канцелярское определение мимо Ломоносова в поношение Фёдоровичу и в удовольствие Поленову. А студент Лепёхин[418] послан с ним для виду. После того представлял Фёдорович оправдание своё в Собрании профессорском, которое опровергая, Миллер не токмо ругал Фёдоровича бесчестными словами, но и взашей выбил из Конференции. Фёдорович просил о статисфакции и оправдан профессорскими свидетельствами, однако дело ещё не окончено. Инако поступил Миллер со студентом Иноходцевым[419], который, будучи поручен Румовскому для научения астрономии, потом подал в Канцелярию прошение, чтобы его от той науки уволить за недовольною способностию глаз, причём присовокупил, что от Румовского весьма редко слышит лекции. Посему призван сей студент перед Профессорское собрание, и жестокий учинён выговор, а доношение переписать ему велено.
§ 51. Университет и Гимназия почти с начала содержатся на наёмных квартирах, на что уже издержано казны многие тысячи. Для того уже после нового учреждения сих департаментов представил Ломоносов, чтобы купить близ Академии находящийся дом Строгановых под Университет и Гимназию, и торг уже в том намерении за несколько лет продолжался, а особливо, что Троицкое подворье, где ныне Университет и Гимназия, весьма обветшало и сверх того тесно. Тауберт не казался быть тому противен до нынешней весны, когда Ломоносов за слабостию ног через худую реку в распутицу не мог толь часто в Канцелярии присутствовать и притом упражнялся в делах по повелению от двора е. в. Тогда Тауберт, без ведома и согласия Ломоносова заготовя ордер, чтобы оный дом купить под типографские и другие дела, а Университет и Гимназию совсем выключил. Оный ордер в чаянии, что заготовлен с общего совета, подписан президентом, и производится уже в нём выстройка по Таубертовым намерениям и расположениям.
§ 52. Причины, как он показал при покупке Строгановскаго двора под книжное дело, суть следующие: для помещения магазейнов[420] типографских и Книжной лавки, 2) для кунсткамерских служителей, 3) для типографских факторов и наборщиков, 4) для квартиры нововыписапному грыдоровальщику, 5) для Анатомического театра и для профессора анатомии, 6) для профессора астрономии, 7) для помещения рисовальных учеников, для переносу кунсткамерских вещей из дому Демидовых, откуду-де высылают хозяева и просят в Сенате. Сии причины коль неосновательны, из сего видно: 1) что заняты под Типографию и Книжную лавку знатная часть старых академических палат и два целые каменные дома, в один выстроенные, Волкова и Лутковского, в коих многие покои под себя занял советник Тауберт и поместил людей, до Типографии ненадобных и совсем для Академии излишних; 2) кунсткамерские и библиотечные служители могут быть на наёмных квартирах, как и другие академические; 3) грыдоровальщик также может жить на наёмной квартире, как и прежде его Шмид и другие художники; 4) Анатомический театр должен быть не в жилом доме, но в одиноком месте, ибо кто будет охотно жить с мертвецами и сносить скверный запах? 5) паче же всего анатомику, а особливо с фамилиею[421], иметь при такой мерзости свою экономию[422]? 6) и астроном не больше имеет права жить на казённой квартире, как другие, притом же и мертвецы не будут ему приятны, когда занадобится идти в ночь на Обсерваторию; 7) рисовальные ученики живут в готовых, нарочно на то построенных квартирах и другой не требуют, к тому же они и заведены сверх стату; 8) для кунсткамерских вещей искать новой квартиры стыдно г. Тауберту, затем что починка погоревших палат идёт уже около двенадцати лет, и суммы изошло тридцать тысяч, а вещей ещё и по сю пору не переносит. Изо всего сего очевидно явствует, что сия покупка учинена и дом оторван от Университета и Гимназии не из важных резонов[423], но ради утеснения наук и препятствования Ломоносову в распространении оных, чтобы его фабрика была в лучшем состоянии, нежели науки. Хотя ж покупка учинена из книжных доходов, однако оные все возросли из суммы, определённой на науки, с ущербом оных и по справедливости требуют сии повороту.
§ 53. Столько препятствий учинено Ломоносову в учреждении Университета и Гимназии; но не меньше ещё в другом порученном ему Географическом департаменте. Прежде сего разделения имел профессор Миллер оное дело в своём смотрении около семи лет, где производились только копирования ландкарт оригинальных из архива и деланы карты почтовые, планы баталий и другие, сим подобные; а о главном деле, то есть о издании лучшего «Российского атласа» с поправлениями, ниже какого начала не положено. Ломоносов, вступив в оного департамента правление, неукоснительно предпринял сочинить новый «Российский атлас» несравненно полнее и исправнее. Для сего 1) по представлению его и старанием исходатайствована от Правительствующего Сената рассылка запросных географических тридцати пунктов, в Академии апробованных, на которые и ответов прислана уже большая часть; 2) оттуду ж получен указ для двух географических экспедиций, чтобы для сочинения нового исправного атласа определить знатных мест долготы и широты астрономическими наблюдениями, к чему указы с прочётом, прогоны и спомогательные деньги уже были назначены, а план путешествия оных обсерваторов и места наблюдаемые назначены Географическим департаментом и Собранием профессорским апробованы с каждого члена особливым письменным мнением; 3) из Камер-коллегии требовано перечневое число душ из каждой деревни для знания разности их величины, чтобы в атласе не пропустить больших и не поставить бы малых и тем не потерять бы пропорции; 4) от Святейшего Синода требованы сведения о монастырях и церквах во всём государстве, поелику требуется для географии. И словом всё в оном департаменте получило новое движение, и по новому сему расположению сочинено до десяти карт специальных, несравненно полнее и исправнее прежних.
§ 54. Советник Ломоносов представлял своим товарищам в Канцелярии о напечатании оных, но учинены тому великие сопротивления: 1) отговорки, что других дел много в Гридоровальной палате, и отданная уже по канцелярскому приказу Санктпетербургской губернии карта для дела без ведома оного Ломоносова взята от грыдо[ро]вальщика, и велено ему другое делать. После, во время жестокой болезни Ломоносова, отданы сочинённые карты на рассмотрение в Профессорское собрание и, хотя все похвалены, однако по мнению профессора Миллера печатания не удостоены, якобы он приметил неисправности в наименованиях чухонских деревень, кои, однако, никакой важности не заключают. После того другой раз оные карты свидетельствованы и апробованы, однако уже времени между тем немало утрачено, и сочинение далее карт не может быть исправно без астрономических наблюдений, которые остановлены также по зависти, против стараний Ломоносова. Остановлена посылка обсерваторов разными образы. По истребовании от Правительствующего Сената всех надобностей для помянутых экспедиций, Тауберт представил, что оных отправить без позволения президентского не должно, против чего и прочие члены, не хотя спорить, писали от Канцелярии о том к его сиятельству на Украину, на что, однако, не воспоследовало никакого решения. Чаятельно, что Тауберт послал приватно спорное туда ж представление, как по всем его поступкам в рассуждении сего дела заключить можно. Лучший из числа назначенных обсерваторов, Курганов[424], который был истребован от Адмиралтейской коллегии для сей экспедиции в академическую службу, скучив ожиданием, отпросился в прежнюю команду. Красильников между тем стал старее и дряхлее. Румовский письменно отказался. Кроме сего, недоставало к оным экспедициям астрономических квадрантов: такая скудость астрономических инструментов на Обсерватории! Несмотря на то, что от Сената получено после пожара на оные 6000 рублёв, на кои куплен только большой квадрант за 180 р., а прочая сумма на мелочи истрачена. Оные квадранты советник Тауберт взялся из Англии выписать, да опять и отказался, хотя то нередко и приватным в угождение делает. А после обещался надворный советник Штелин, но и тот тянул весьма долго; а особливо, что оные квадранты лежали долго в пакгаузе и в Канцелярии, наконец, появились, тогда как паче ожидания получен от его сиятельства ордер, чтобы оные экспедиции приостановить, а Тауберту и Ломоносову сочинить проекты и представить ему снова. Ломоносов оное исполнил, а от Тауберта ещё ничего не видно. И так сие дело без произвождений осталось.
§ 55. Когда Ломоносов от своей долговременной болезни несколько выздоровел и стал в 1763 году в Канцелярию для присутствия ездить, тогда объявил Тауберт ордер президентский, чтобы Географический департамент поручить Миллеру, якобы затем что в оном департаменте происходят только споры и не издаётся ничего в свет нового. Примечания достойно, что оный ордер дан в августе 1762, когда Ломоносов был болен, а объявлен в генваре 1763 года, когда он стал в Канцелярии и в Конференции присутствовать и стараться о произвождении нового атласа. Причина видна, что Тауберт выпросил у президента такой ордер в запас, что ежели Ломоносов не умрёт, то оный произвести, чтоб Миллер мог в географическом деле Ломоносову быть соперник; ежели ж умрёт, то бы оный уничтожить, дабы Миллеру не дать случая себя рекомендовать географическими делами. Оба сии тогда друзья, когда надобно нападать на Ломоносова, в прочем крайние между собою неприятели. Оный ордер не произведён в действие, ибо Ломоносов протестовал, что 1) о Географическом департаменте донесено президенту ложно, 2) что оный ордер просрочен и силы своей больше не имеет.
§ 56. В прошлом 1763 году е. и. в. всемилостивейшая государыня, приняв от Ломоносова апробованный в Собрании план географических экспедиций (§ 53) и рассмотрев оный, благоизволила послать в Академию справиться, что в таком измерении России было ли когда рассуждение. На сие ответствовано мимо оного Ломоносова, чрез статского советника Тауберта от Миллера, якобы того предприятия не бывало при Академии, а об оном апробованном плане ничего не упомянуто, который был причиною сего всемилостивейшего вопроса.
§ 57. При случае явления Венеры в Солнце[425] употребляя Тауберт Епиносово к себе усердие и зная его прихотливые и своенравные свойства, научил в обиду Красильникову и Курганову, старым обсерваторам (кои, конечно, в сей практике ему не уступают и за то почитаемы были от прежних здешних астрономов), дабы он требовал наблюдения чинить себе одному, их не допуская, на что оные просили в Правительствующем Сенате и было им приказано наблюдать вместе с Епинусом. Однако он, несмотря на то повеление, ниже на прежде бывшие таковых и потом оказавшиеся самых Венериных обсерваций явные примеры, что могут быть и другие искусные обсерваторы вместе с главным, от дела отказался и оное испортил, ибо вскоре по его требованию Тауберт приказал, чтобы часовой мастер Бартело взял лучшие инструменты с Обсерватории, чем учинено Красильникову и Курганову великое препятствие из одного только упрямства и высокоумия Епинусова для отнятия чести у таких обсерваторов, а особливо у Красильникова, коего наблюдения, учинённые для измерения России от дальних Камчатских берегов до острова Дага в Европе, известны и одобрены от двух Делилей, славных и искусных астрономов, и от профессора астрономии Гришева. А советника Епинуса тогда не было и нет ещё и поныне таких наблюдений астрономических, кои бы учёный свет удостоил отменного внимания. Сие самолюбие и от того происшедшее помешательство не токмо наукам препятственно, но и нарекательно, ибо злоба Таубертова и Епинусова до того достигла, что они, бегаючи по знатным домам и в дом государский, ложными представлениями или лучше буйными криками заглушали оправдания самой неповинности перед высочайшими особами.
§ 58. Не довольно того, что внутрь домашних пределов произвели они такое беспокойство, но и во внешние земли оное простёрли. Парижский астроном Пингре[426] напечатал о санктпетербургских наблюдениях весьма поносительно, и видно, что он наущён от здешних Красильникову и Курганову соперников, ибо, кроме других примет, в оном поношении присовокуплён к российским обсерватории и профессор Браун, который не делал нарочных наблюдений Венеры для публики, но ради своего любопытства, и не издал здесь в печать. А что на Брауна уже не первый раз они нападают за его несклонность к их коварствам, то свидетельствует их поступок, когда он ртуть заморозил, ибо Миллер писал в Лейбциг именем Академии без её ведома, якобы начало сего нового опыта произошло от профессора Цейгера и Епинуса, и Брауну якобы по случаю удалось, как петуху, сыскать жемчужное зерно.
§ 59. Напротив того, когда Румовской обещаниями и ласканиями Таубертовыми склонился к тому, чтобы помогать оному против Ломоносова и других своих одноземцев, хотя не имел удачи учинить наблюдения проходящей по Солнцу Венеры, как он в своём письме из Нерчинска к Ломоносову признается, однако по возвращении его в Санктпетербург выведено наблюдение, по другим примерам сноровленное, в чём Епинус много больше сделал, нежели сам Румовской, и сверх того требованы наставления от других астрономов вне России. Что же Румовской наущён на Ломоносова, то явствует заключение его оптических известий, читанное в публичном собрании, где некстати прилеплена теория о свете. Но Румовского в сей материи одобрение не важно и охуление не опасно, как от человека в физике не знающего.
§ 60. Выписанный ещё при Гришове большой астрономический квадрант, который около десяти лет лежит без употребления, вздумал статский советник Тауберт с общего совета с советником Епинусом поднять на Обсерваторию, что удобному употреблению, практике и самим примерам в Европе противно. И для того статский советник Ломоносов и надворный советник, астрономии профессор Попов представляли, что оный квадрант на высокой башне поставлен быть не должен для шатости, ибо мелкие его разделения больше чувствуют переменные шатания высокого строения, нежели небольших квадрантов, от коих не требуется таких точностей. На всё сие не взирая, намерение их исполнено, и поднят не токмо оный тяжёлый квадрант, но и для его укрепления камень около тысячи пуд в бесполезную излишнюю тягость башне, в излишнюю беспрочную трату казны и в напрасную трату времени, которая и поныне продолжается купно с бесперерывными перепочинками, кои казне стоят многие тысячи, а пользы никакой по наукам нет, кроме тех, коим всегдашние подряды для поделок и переделок прибыль приносят.
§ 61. Для вспоможения в сочинениях профессору Миллеру принят в Академию адъюнктом титулярным некто иноземец Шлёцер[427], который показался Тауберту весьма удобным к употреблению в своих происках. И ради того приласкал его к себе, отвратив и отманив от Миллера, везде стал выхвалять и, видя его склонность к наглым поступкам, умыслил употреблять в нападках своих на Ломоносова, а чтобы его подкрепить, рекомендовал для обучения детей президентских. Первый приём на Ломоносова был, чтобы пресечь издание Ломоносова «Грамматики» на немецком языке: дал все способы Шлёцеру, чтобы он, обучаясь российскому языку по его «Грамматике», переворотил её иным порядком и в свет издал, и для того всячески старался останавливать печатание оныя, а Шлёцерову ускорял печатать в новой Типографии скрытно, которой уже и напечатано много листов, исполненные смешными излишествами и грубыми погрешностями, как ещё от недалеко знающего язык российский ожидать должно, купно с грубыми ругательствами. Сие печатание хотя российским учёным предосудительно, казне убыточно и помешательно печатанию полезнейших книг, однако Тауберт оное производил для помешательства или по малой мере для огорчения Ломоносову.
§ 62. По указу Правительствующего Сената переведены китайские и манжурские книги о состоянии тамошних народов переводчиками Россохиным и Леонтьевым[428] на российский язык для государственной пользы, и велено их напечатать при Академии 1762 года в... Оные книги, как дорогою ценою купленные и немалым иждивением и трудом переведённые и в Европе ещё не известные, надобно было издать неукоснительно для чести Академии и чрез людей российских, однако Тауберт но обинулся отдать оному же Шлёцеру, чтобы сделал экстракт для напечатания, человеку чужестранному, быдьто бы своих столько смыслящих при Академии не было или в другой какой команде, человеку едва ли один год в России прожившему. Сие ж учинил Тауберт без общего ведома и согласия прочих членов и без позволения от Сената, самовластно. Однако ж, что сделано по сему Шлёцером, неизвестно. Может быть, сделан экстракт на немецком языке и сообщён в чужие государства.
§ 63. Мало показалось Тауберту и сего дела для Шлёцера, ибо он его выхваляет почти всемощным. Присоветовал сочинять ему и российскую историю, дал позволение брать российские манускрипты из Библиотеки, хранящиеся в особливой камере, которые бы по примерам других библиотек должно хранить особливо от иностранных. Оные книги Шлёцер не токмо употреблял на дому, но некоторые и списывал. Надеясь на все таковые подкрепления от Тауберта, подал в Профессорское собрание представление, что он хочет сочинять российскую историю и требует себе в употребление исторические сочинения Татищева и Ломоносова к крайней сего обиде, который будучи природный россиянин, зная свой язык и деяния российские достаточно, упражнявшись в собирании и в сочинении российской истории около двенадцати лет, принуждён терпеть таковые наглости от иноземца, который ещё только учится российскому языку.
§ 64. В начале нынешнего лета требовал Шлёцер отпуску в отечество на три месяца и как заподлинно уверял, что он с профессором Цейгером вместе поедет. Сверх того и в «Гёттингенских учёных ведомостях» напечатано, что Шлёцер там объявлен профессором. Наконец исканное для него здесь историческое профессорство всякими Таубертовыми мерами, не так, как о Козицком, Мотонисе и Протасове, и несмотря на то, что есть два профессора истории — Миллер и Фишер[429], также и Ломоносов действительно пишет российскую историю, — не удалось. То скорый отъезд его из России был отнюд не сумнителен. Между тем профессор Миллер неоднократно жаловался на Тауберта в Профессорском собрании, что он всё историческое дело старается отдать Шлёцеру, вверил ему всю российскую библиотеку, так что Шлёцер выписывает и переписывает что хочет, на что писцов наймует, а одного-де и нарочно держит, о чём-де он не для чего другого так старается, как чтобы, выехав из России, не возвратиться, а изданием российских исторических известий там наживать себе похвалу и деньги. Ломоносов, ведая всё прежнее и слыша Миллеровы основательные жалобы и представления и опасаясь, чтобы не воспоследовали такие ж неудовольствия, какие были прежде от иностранных из России выезжих, не мог для краткости времени, не терпящего ни малого умедления, и для отсутствия президентского и не должен был преминуть, чтобы о том для предосторожности не объявить Правительствующему Сенату, о чём ныне дело производится. Позволение от Тауберта Шлёцеру брать и переписывать российские неизданные манускрипты есть неоспоримо. Тауберт, как видно, хочет тем извиниться, что будьто бы в сём позволении в переписке не было никакой важности, однако ему противное тому доказано будет.
Глава четвёртая
Примечания и следствия
§ 65. Рассматривая всё вышеписанное, которое доказывается живыми свидетельми, письменными документами, приватными и публичными, неоспоримо и обязательно удостоверен быть должен всяк, что Канцелярия академическая основана Шумахером для его властолюбия над учёными людьми и после для того утверждена по новому стату и регламенту к великому наукам утеснению, ибо 1) имел он в ней способ принуждать профессоров удержанием жалованья или приласкать прибавкою оного; принятием и отрешением по своей воли, не рассуждая их знания и достоинств, но токмо смотря, кто ему больше благосклонен или надобен; 3) всевал между ними вражды, вооружая особливо молодших на старших и представляя их президентам беспокойными; 4) пресекал способы употреблять им в пользу своё знание всегдашною скудостию от удержки жалованья и недостатком нужных книг и инструментов, а деньги тратил по большой части по своим прихотям, стараясь завести при Академии разные фабрики и раздаривать казённые вещи в подарки, а особливо пользоваться для себя беспрестанными подрядами, покупками и выписыванием разных материалов из-за моря; 5) для того всячески старался препятствовать, чтобы не вошли в знатность учёные, а особливо природные россияне, о чём Шумахер так был старателен, что ещё при жизни своей воспитал, обучил, усыновил подобного себе коварствами, но превосходящего наглостию Тауберта и Академическую канцелярию и Библиотеку отдал ему якобы в приданое за своею дочерью.
§ 66. Сие было причиною многих приватных утеснений, кои одне довольны уже возбудить негодование на канцелярские поступки, ибо не можно без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернулиев и других, во всей Европе славных, кои только великим именем Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но, Шумахером вытеснены, отъехали, утирая слёзы. Утеснение советника Нартова и, кроме многих других, нападки на Ломоносова, который Шумахеру и Тауберту есть сугубый камень претыкания, будучи человек, наукам преданный, с успехами и притом природный россиянин, ибо кроме того, что не допускали его до химической практики, хотели потом отнять химическую профессию и определить к переводам, препятствовали в издании сочинений, отняли построенную его рачением Химическую лабораторию и готовую квартеру, наущали на него разных профессоров, а особливо Епинуса, препятствовали в произвождении его чрез посольство Епипуса с Цейгером и Кельрейтером, препятствовали в учреждении Университета, в отправлении географических экспедиций, в сочинении «Российского атласа» и в копировании государских персон по городам. Не упоминая, что Тауберт и ныне для причинения беспокойств Ломоносову употребляет Шлёцера, не обинулся он прошлого 1763 года, призвав в согласие Епинуса, Миллера и адъюнкта Географического департамента Трескота, сочинил скопом и заговором разные клеветы[430] на оного и послал в Москву для конечного его опровержения, так что Ломоносов от крайней горести, будучи притом в тяжкой болезни, едва жив остался.
§ 67. Сие всё производя, Шумахер и Тауберт не почитали ни во что нарекание, которое наносили президентам, от таких непорядков на них следующее неотменно. Правда, что Блументрост был с Шумахером одного духа, что ясно доказать можно его поступками при первом основании Академии, и Ломоносов, будучи участником при учреждении Московского университета, довольно приметил в нём нелюбия к российским учёным, когда Блументрост назначен куратором и приехал из Москвы в Санктпетербург: ибо он не хотел, чтобы Ломоносов был больше в советах о университете, который и первую причину подал к основанию помянутого корпуса. После Блументроста бывшие Кейзерлинг и Корф[431], хотя и старались о исправлении наук, однако первый был на краткое время и не мог довольно всего осмотреть, а второй действительно старался о новом стате и о заведении российских студентов, однако больше нежели надобно полагался на Шумахера, который сколько об оных радел, явствует из вышеписанного. Наконец, нынешний президент, его сиятельство граф Кирила Григорьевич Разумовский, будучи от российского народу, мог бы много успеть, когда бы хотя немного побольше вникал в дела академические, но с самого уже начала вверился тотчас в Шумахера, а особливо, что тогдашний асессор Теплов был ему предводитель, а Шумахеру приятель. Главный способ получил Шумахер к своему самовластию утверждением канцелярского повелительства регламентом, особливо последним пунктом о полномощии президентском, ибо ведал Шумахер наперёд, что когда без президента ничего нельзя будет в Академии сделать, а он будет во всём на него полагаться, то, конечно, он полномощие при себе удержит. Сей-то последний пункт главный есть повод худого академического состояния и нарекания нынешнему президенту. Сей-то пункт Шумахер, Теплов и Тауберт твердили беспрестанно, что честь президентскую наблюдать должно и против его желания и воли ничего не представлять и не делать, когда что наукам в прямую пользу делать было надобно. Но как президентская честь не в том состоит, что власть его велика, но в том, что ежели Академию содержит в цветущем состоянии, старается о новых приращениях ожидаемый от ней пользы, так бы и сим поверенным должно было представлять, что к чести его служит в рассуждении общей пользы, а великая власть, употреблённая в противное, приносит больше стыда и нарекания.
§ 68. Вышепоказанными вредными происками, утеснениями профессоров, шумами и спорами, а особливо посторонними, до наук не надлежащими делами коль много в сорок лет времени потеряно, то можно видеть из худых в науках успехов, из канцелярских журналов[432], которые наполнены типографскими, книгопродажными, грыдоровальными и другими ремесленными и торговыми делами, подрядами и покупками, а о учёных делах редко что найдётся, хотя они через Канцелярию в действие происходить должны по речённому стату. Если бы хотя Университет и Гимназия были учреждены сначала, как ныне происходят, под особливым смотрением Ломоносова, где в четыре года произведены двадцать студентов, несмотря на чувствительные ему помешательства, то бы по сие время было бы их в производстве до двухсот человек и, чаятельно, ещё бы многочисленнее, затем что за добрым смотрением дела должны происходить с приращением. А сие коль надобно в России, показывает великий недостаток природных докторов, аптекарей и лекарей, механиков, юристов, учёных, металлургов, садовников и других, коих уже много бы иметь можно в сорок лет от Академии, ежели бы она не была по большей части преобращена в фабрику, не были бы утеснены науки толь чувствительно и не токмо бы наставления не пресекались, как выше показано, но и власть бы монаршеская, которая явствует в регламентах Академическом и в Медицинском, употреблена была на поставление в градусы, чего сколько Тауберт не хотел, явствует выше из примера с Протасовым.
§ 69. Какое же из сего нарекание следует российскому народу, что по толь великому монаршескому щедролюбию, на толь великой сумме толь коснительно происходят учёные из российского народа! Иностранные, видя сие и не зная вышеобъявленного, приписывать должны его тупому и непонятному разуму или великой лености и нерадению. Каково читать и слышать истинным сынам отечества, когда иностранные в ведомостях и в сочинениях пишут о россиянах, что-де Пётр Великий напрасно для своих людей о науках старался и ныне-де дочь его Елисавета без пользы употребляет на то ж великое иждивение. Что ж таковые рассуждения иностранных происходят иногда по зависти и наущению от здешних недоброхотов российским учёным, то свидетельствует посылка с худым намерением к Ейлеру сочинений Ломоносова и после того бессовестное их ругание в «Лейпцигских учёных сочинениях»[433], несмотря что они уже Академиею апробованы и в «Комментариях» были напечатаны, чего ведомостщики никогда бы не сделали из почтения к сему корпусу, когда бы отсюда не побуждены были. Однакож Ломоносов опроверг оное публично довольными доводами. Какое же может быть усердие у россиян, учащихся в Академии, когда видят, что самый первый из них, уже через науки в отечестве и в Европе знаемость заслуживший и самим высочайшим особам не безызвестный, принуждён беспрестанно обороняться от недоброжелательных происков к претерпевать нападения почти даже до самого конечного своего опровержения и истребления?
§ 70. Наконец, по таковым пристрастным и коварным поступкам не мог инако состоять Академический корпус, как в великом непорядке и в трате казны не на то, к чему она определена, но на оные разные издержки, до наук не надлежащие. От сего произошло, что хотя Академическое собрание и прочие до наук надлежащие люди при Академии никогда в комплете не бывали и надобности к учёным департаментам почти всегда недоставали, однако претерпевать должны были в выдаче жалованья скудость, что и ныне случается. Между тем в Академическое комиссарство с начала нового стата по 1759 год в остатке должно б было иметься в казне 65 701 р., а поныне, чаятельно, ещё много больше. Но сие всё исходит на беспрестанные починки и перепочинки и на содержание излишних людей, ибо на выстройку погоревших палат, кроме двадцати трёх тысяч, истребованных на то от Сената, употреблено академических близ трёх тысяч рублёв по 1759-й год, за починку домов академических и наёмных и за наем семнадцать тысяч в 8 лет, за выстройки каменной палатки под глобус полшесты тысячи рублёв, а после того издержаны многие тысячи на разные перестройки и на покупки вещей наместо погоревших в Кунсткамеру, не считая дарения книг, при Академии печатанных, коих нередко расходится даром близ ста экземпляров, немало в дорогих переплётах, не упоминая починки или лучше нового строения глобуса. Для всех сих каковы бывают подряды, можно усмотреть из представления о том Канцелярии академической от Ломоносова и из доношения в Сенат от секретаря Гурьева. Также и о всей экономии заключить из того можно, что Тауберт на своей от президента данной квартере, на Волкова доме чинит постройки и переделки без ведома канцелярского. О состоянии Библиотеки и Кунсткамеры не подаются в Канцелярию никогда никакие репорты, и словом нет о том почти с начала никаких ведомостей. Книжная лавка, а особливо же иностранная, производится без счетов, в Канцелярии видимых, и книгопродавец Прейссер, который был за двадцать лет под арестом по Нартовской комиссии, ныне умер безо всякого следствия и счёту.
§ 71. Между тем науки претерпевают крайнее препятствие, производятся новые неудовольствия и нет к лучшему надежды, пока в науках такой человек действовать может[434], который за закон себе поставил Махиавелево учение, что всё должно употреблять к своим выгодам, как бы то ни было вредно ближнему или и целому обществу. Едино упование состоит ныне по бозе во всемилостивейшей государыне нашей, которая от истинного любления к наукам и от усердия к пользе отечества, может быть, рассмотрит и отвратит сие несчастие. Ежели ж оного не воспоследует, то верить должно, что нет божеского благоволения, чтобы науки возросли и распространились в России.
1765, ФЕВРАЛЯ 26 — МАРТА 4. ПЛАН БЕСЕДЫ С ЕКАТЕРИНОЙ II ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАБОТЕ ЛОМОНОСОВА В АКАДЕМИИ НАУК[435]
1. Видеть Г[осударыню].
2. Показывать свои труды.
3. Может быть, понадоблюсь.
4. Беречь нечего. Всё открыто Шлёцеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у коего нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев.
5. Приносил его выс[очеству] дедикации[436]. Да всё! и места нет.
6. Нет нигде места и в чужих краях.
7. Все любят, да шумахерщина.
8. Multa tacui, multa pertuli, multa concessi [Многое принял молча, многое снёс, во многом уступил][437].
9. За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого], чтобы выучились россияне, чтобы показали своё достоинство pro aris etc. [за алтари и т. д.][438].
10. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют.
11. Ежели не пресечёте, великая буря восстанет.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
7 мая 1940 года в связи со 185-летием со дня своего основания Московскому университету было присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова.
А. С. Пушкин справедливо писал о титане русской и мировой науки XVIII столетия: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и во всё проник...» В числе выдающихся заслуг первого академика из русских было создание первого русского университета.
Строго официально-юридически основание университета в Москве было осуществлено указом дочери Петра I императрицы Елизаветы на основании доклада в Сенат её фаворита, считавшегося покровителем просвещения, И. И. Шувалова. Почему же всё-таки не их, а М. В. Ломоносова называют подлинным создателем Московского университета?
Потребности страны на рубеже XVII—XVIII веков требовали распространения в России науки и просвещения. Ещё в XVII веке выдвигались предложения о создании в Москве университета. Однако дело ограничилось открытием в 1678 году Славяно-греко-латинской академии, или, как её называли, Спасских школ (по имени монастыря, где академия находилась). Образование в ней носило богословский характер.
В ходе петровских преобразований в первой четверти XVIII века была создана светская школа, сделаны значительные шаги вперёд в развитии науки. Ведущим центром новой школы и научных знаний стала открытая в 1725 году Петербургская Академия наук. С тем чтобы готовить в России кадры учёных, при академии были учреждены университет и гимназия. Однако ни гимназия, пи академический университет с поставленной задачей не справились. Немецкая академическая клика, возглавлявшаяся И.Д. Шумахером, утверждала, что в Петербурге университет «не надобен», предлагала либо выписывать студентов и профессоров из-за границы, либо готовить русских в зарубежных университетах.
В этих условиях М. В. Ломоносов и его единомышленники потратили много энергии и сил, чтобы сносно организовать работу учебных заведений при академии. Эти действия были той основой, тем трамплином, которые с учётом собственного опыта учёбы за границей приведут впоследствии к необходимости создания университета в Москве. Это случится в 1755 году. В 1764 году, спустя 9 лет после основания Московского университета, М. В. Ломоносов справедливо напишет, что он видел причину, мешавшую его открытию, в деятельности И. Д. Шумахера и его единомышленников: «И Ломоносов, будучи участником при учреждении Московского университета, довольно приметил в нём нелюбия к российским учёным, когда Блументрост назначен куратором и приехал из Москвы в Санктпетербург: ибо он не хотел, чтобы Ломоносов был в советах о университете, который и первую причину подал к основанию помянутого корпуса».
Есть и другие свидетельства об активной роли М. В. Ломоносова в создании Московского университета. В письме к И. И. Шувалову М.В. Ломоносов даёт набросок структуры университета (это письмо и указ об обосновании Московского университета публикуются в данной книге). Внимательное сопоставление двух документов даёт основание сказать, что в основу штата университета были положены предложения М. В. Ломоносова. Один из выпускников университета, И. Ф. Тимковский, хорошо знавший И. И. Шувалова в конце его жизни, писал в своих мемуарах об обсуждении М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым проекта будущего первого высшего светского учебного учреждения в Москве. «Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского, с несовместимыми вольностями» (т. е. университетской автономией. — Сост.). Ещё в одном письме к И. И. Шувалову (1760 г.) М. В. Ломоносов замечает, что он «и прежде сего советы давал о Московском университете».
Конкретное, практическое участие М. В. Ломоносова в подготовительной работе по созданию Московского университета но подлежит сомнению. Но ещё важнее роль М. В. Ломоносова как первого русского учёного с мировым значением. В его лице сфокусировалась вся мощь, красота и жизнеспособность российской науки, вышедшей на передовые рубежи мирового научного знания, успехи страны, сумевшей после петровских преобразовании значительно сократить отставание от передовых стран того времени и войти в число ведущих держав мира. Дальнейшее развитие России было невозможно без собственной университетской базы. Это лучше всего понимал и активно действовал в деле учреждения университета в Москве М. В. Ломоносов. Это достаточно ясно осознавали и И. И. Шувалов, и все разумно мыслящие политические и общественные деятели страны. Да, предложение в Сенат об открытии университета было внесено И. И. Шуваловым, да, указ о его создании был подписан императрицей Елизаветой — они в силу своего служебного и общественного положения в абсолютистском государстве формально-юридически оформили этот акт. Честь и хвала им за это. Но нельзя недооценивать решающего вклада и выдающейся роли М. В. Ломоносова в основании Московского университета. Именно как результат его научной и организационной деятельности был создан «наш первый, наш российский, наш Московский» университет. А. С. Пушкин высказал это со свойственной только гениям ясностью и точностью: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».
Проект организации Московского университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 (23 по новому стилю)[439] января 1755 года (Татьянин день) и опубликован 24 января (4 февраля) того же года. Церемония торжественного открытия (инавгурация) состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 26 апреля (7 мая) 1755 года, когда начала работать гимназия при университете (существовала до 1812 года).
Московский университет начал свою работу в здании бывшей Главной аптеки, которую построил ещё в XVII веке архитектор М. Т. Чоглоков и которая специально к этому событию была отремонтирована под руководством известного московского зодчего Д. В. Ухтомского. Здание находилось на Красной площади на месте, где сейчас расположен Государственный Исторический музей. На стене ГИМа в настоящее время имеется мемориальная доска, напоминающая об этом замечательном событии в истории русской культуры и просвещения. Лишь к концу XVIII столетия университет переехал в новое, специально для него построенное здание за рекой Неглинной неподалёку от Кремля (ныне площадь 50-летия Октября). Здание было сооружено выдающимся московским архитектором М. Ф. Казаковым. Свой нынешний вид это здание Московского университета приняло после небольших перестроек его фасадов известным зодчим Д. И. Жилярди в ходе восстановительных работ после пожара 1812 года.
В течение первого полувека своего существования университет в Москве был единственным светским высшим учебным заведением в стране. Принципы организации в нём учебной, научной и общественно-просветительной работы во многом определят характер всей системы высшей школы в нашей стране.
Московский университет с самого своего основания характеризуется целым рядом замечательных черт, совокупность которых показывает, как глубоко и далеко предвидели его создатели в деле подготовки кадров высшей квалификации.
В соответствии с планом М. В. Ломоносова и опытом Академического университета в Москве были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Своё обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. После трёх лет обучения шло, как бы мы сказали сегодня, распределение по факультетам. Образование дальше можно было продолжить, специализируясь на юридическом, медицинском или на том же философском факультетах. В отличие от университетов Европы в Московском не было богословского факультета, что объясняется наличием в России своей системы образования для подготовки кадров православного духовенства. «Попечение о богословии справедливо остаётся святейшему Синоду», — читаем в указе об учреждении университета. Более того, богословие в Московском университете стало преподаваться только с начала XIX века.
За семь лет до открытия Московского университета в Петербурге М. В. Ломоносов прочёл впервые в нашей стране лекцию студентам на русском языке. С момента своего основания лекции в Московском университете русскими преподавателями читались на русском языке, в то время как в качестве языка науки всюду в Европе господствовала латынь. Ученик М. В. Ломоносова И. Н. Поповский в лекции, открывшей занятия на философском факультете, мог с гордостью сказать об успехах в разработке русской научной терминологии: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изложить было невозможно!»
Московский университет с первых дней отличался демократическим составом своих студентов и профессоров. Это во многом определило широкое распространение среди учащихся и преподавателей передовых научных и общественно-политических идей.
Уже в преамбуле указа об учреждении университета отмечалось, что университет создан «для генерального обучения разночинцев». Среди первых студентов, принятых в 1755 году, не было ни одного дворянина. Решая проблему подготовки учащихся для обучения в университете, когда не было фактически среднего образования в стране, М. В. Ломоносов в письме к И. И. Шувалову подчёркивал, что университет без гимназии, как «пашня без семян». Университетские гимназии для дворян и разночинцев обеспечили Московский университет нужным числом студентов. По их примеру гимназии в XIX веке были открыты во многих городах России.
Отстаивая демократические взгляды на образование и просвещение, М. В. Ломоносов указывал на пример западноевропейских университетов, где было покончено с принципом сословности: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды». За вторую половину XVIII века из 26 русских профессоров, которые вели преподавание, только были выходцами из дворян. Следует заметить здесь, что в отличие от Академии наук набор преподавателей из числа иностранцев не был столь удачен, как это было в период создания Петербургской Академии наук. В XVIII веке состав студентов был в основном разночинский, хотя дворяне, особенно мелкопоместные, охотно шли в университет. Наиболее способных студентов для продолжения обучения стали посылать в зарубежные университеты, укрепляя контакты и связи с мировой наукой.
Выдающуюся роль с момента своего основания Московский университет играл в доле распространения и популяризации научных знаний. На лекциях профессоров университета и диспутах студентов могла присутствовать публика. В апреле 1756 года при Московском университете на Моховой улице (ныне проспект Маркса) были открыты типография и книжная лавка. Тогда же стала выходить дважды в неделю первая в стране неправительственная газета «Московские ведомости», а с января 1760 года первый в Москве литературный журнал — «Полезное увеселение». 3 (14) июля 1756 года «Московские ведомости» сообщали, что в только что созданной библиотеке университета открыт доступ «для любителей наук и охотников чтения каждую среду и субботу с 2 до 5 часов».
Просветительская деятельность Московского университета способствовала созданию на его базе или при участии его профессуры таких крупных центров отечественной культуры, как Казанская гимназия (с 1804 г. — Казанский университет), Академия художеств в Петербурге (до 1764 г. в ведении Московского университета), Малый театр. В XIX веке по инициативе университета возникли первые научные общества — «Испытателей природы», «Истории и древностей российских», «Любителей российской словесности», Исторический, Политехнический, Изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) музеи, Зоологический сад и другие культурные заведения.
В XVIII веке в стенах Московского университета учились и работали замечательные деятели русской науки и культуры: философы Н. Н. Поповский, Д. С. Аничков, математики и механики В.К. Аршеневский, М.И. Панкевич, медик С. Г. Зыбелин, ботаник П. Д. Вениаминов, физик П. И. Страхов, почвоведы М.И. Афонин, Н. Е. Черепанов, географ X. А. Чеботарёв, филологи и переводчики А. А. Барсов, С. Хальфин, Е. М. Костров, правоведы С.Е. Десницкий, И. А. Третьяков, издатели и писатели Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, В. А. Санковский, Н. Н. Бантыш-Каменский, архитекторы В. И. Баженов и И. Е. Старов.
Соединение в деятельности Московского университета задач образования, науки и культуры превратят в дальнейшем университет в «средоточение российского просвещения», один из крупнейших центров мировой культуры.
Документы, публикуемые в этом разделе, можно разделить на три группы: 1) учреждение и открытие университета, 2) мемуары первых университетских студентов и 3) деятели русской науки и культуры второй половины XVIII века — питомцы Московского университета.
Подборка документов об истории Московского университета в первые пятьдесят лет его работы открывается письмом М. В. Ломоносова И. И. Шувалову, которое датируется июнем—июлем 1754 года. Такая датировка объясняется тем, что М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов обсуждали структуру создаваемого университета накануне подачи меценатом представления в Сенат об учреждении Московского университета (19 июля 1754 г.). В результате в ломоносовский проект были внесены небольшие изменения как редакционного, так и смыслового характера. Последние, например, заключаются в сокращении числа профессоров на философском с 6 до 4 и объединении нескольких дисциплин в руках того или иного профессора.
Сравнение письма М. В. Ломоносова и указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Московского университета и двух гимназий, а также «проекта по сему предмету» неоднозначно показывает на огромную роль великого русского учёного в организации университета в Москве. Указ изобилует характерными для абсолютизма XVIII века ссылками на «общее благо», на «пользу и благополучие всего отечества», «пользу общего житья человеческого», «народное благополучие». Влияние века Просвещения просматривается и в преувеличенном восхищении перед наукой — «всякое добро происходит от просвещённого разума», стремлении «способом пристойных наук возрастить в пространстве империи нашей всякое полезное знание». Указ включает в себя постановляющую часть с пространным объяснением причин учреждения Московского университета и проект положения о его организационной структуре и принципах работы. Из многих положений об устройстве университета, которые отмечались выше, обратим внимание на неподсудность «университетских людей» каким-либо судам без решения на то директора; на запрещение принимать в университет «никаких крепостных и помещиковых людей», пока господа не освободят их от крепостной неволи, на отсутствие на первых порах права «производить в градусы», то есть присуждать учёные степени.
Публикуемое сообщение из единственной тогда в России газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 16(27) мая 1755 года рассказывает о торжественной церемонии открытия занятий в Московском университете. Это произошло, как уже указывалось выше, 26 апреля (7 мая) 1755 года, когда начались занятия в университетской гимназии. Церемония открытия университета была проведена по традиционным тому времени канонам. Торжественный молебен, речи, банкет, иллюминация и праздничное гуляние. Это был праздник отечественной науки и просвещения; чествовали открытие первого светского высшего учебного заведения в стране.
На церемонии открытия Московского университета выступил ученик М. В. Ломоносова по академическому университету профессор Антон Алексеевич Барсов (1730—1791). Учёный-лингвист, создавший «Краткие правила российской грамматики» (опубликованы в 1771 г.) — основной учебник по русскому языку в то время, произнёс речь на русском языке. Отдавая традиционные и обязательные для того времени почести императрице, А. А. Барсов славил просвещение, науки и человеческий разум. На церемонии открытия также с речами на латинском языке выступил профессор Н. Н. Поповский, на французском и немецком языках — гимназические учителя Ф. де Лабом и И. Ф. Литкен.
В настоящем томе публикуется другая речь профессора Н. Н. Поповского. Она была произнесена им при начале чтения лекций по философии в Московском университете в июне 1755 года. Эти лекции фактически открыли занятия студентов Московского университета. Николай Никитич Поповский (1730—1760) — «отличнейший из студентов» Академического университета был любимым учеником М. В. Ломоносова. В Московском университете занимал должность профессора красноречия и философии. Публикуемая речь является вступительной лекцией к курсу философии.
Вторая группа документов — мемуары первых университетских студентов, рассказывающие о начальном этапе деятельности Московского университета.
Автобиографические записки Ильи Фёдоровича Тимковского (1772 или 1773—1853) переносят нас в 70—90-е годы XVIII века. Особенности полученного им до поступления в университет образования связаны не столько с более поздним временем по сравнению с молодыми годами М. В. Данилова или Д. И. Фонвизина, сколько с тем, что он был выходцем с Украины. В среде украинских дворян, казаков, разночинцев традиционными формами первоначального обучения были не только занятия с детьми родителей и местных грамотеев, но и отдача их в духовные учебные заведения: семинарии, коллегиумы, Киевскую академию. При этом вовсе не преследовались цели подготовки из них священников (ими становились, как правило, только дети церковнослужителей, и то не все). По сути дела, церковные училища Украины были одновременно и средними светскими школами. Они давали вполне достаточную подготовку для продолжения учёбы в университете.
Сам Московский университет предстаёт в записках И. Ф. Тимковского как вполне сложившееся высшее учебное заведение, дававшее возможности не только для научной подготовки, но и для развития творческих способностей студентов. И. Ф. Тимковский в годы учёбы в университете не раз помещал в газетах и журналах свои оригинальные стихотворения и переводы. Интересны и его рассказы о встречах и беседах с И. И. Шуваловым. Пересказы шуваловских воспоминаний, хотя и кратки, тем не менее дают очень важные сведения о начале Московского университета. Так, весьма интересно признание Шувалова о горячих спорах с Ломоносовым о будущем университете, в которых учёный-патриот отстаивал его более демократическое устройство, нежели то, которое он получил.
Впоследствии И. Ф. Тимковский стал известен как учёный-юрист и педагог. В 1797—1802 годы он служил в Сенате, а в 1803 году приехал в Харьков, где создавался новый университет. Он стал одним из организаторов этого университета и первым профессором русского права в нём. Одновременно он был назначен визитатором (инспектором) Харьковского учебного округа, и при его участии и содействии в округе были открыты 7 гимназий и ряд уездных училищ. В 1811 году он вышел в отставку и занялся общественной деятельностью, но в 1825 году вернулся к педагогической работе, став директором Новгород-Северской гимназии. В 1838 году ушёл со службы окончательно и занялся сельским хозяйством, в частности, оставил труды по пчеловодству. Жизнь и деятельность И. Ф. Тимковского свидетельствуют о той разносторонней подготовке, которую давал Московский университет XVIII века своим выпускникам.
Фёдор Петрович Лубяновский (1777—1869) вышел из той же среды украинского дворянства, что и И. Ф. Тимковский. Отсюда многие сходные черты их биографий. И у того и у другого родители были образованные для своего времени люди (отец Ф. П. Лубяновского учился в Киевской академии). Тот и другой до университета окончили духовные учебные заведения: Лубяновский — Харьковский коллегиум, Тимковский — академию в Киеве. В университете они учились почти в одно и то же время. И всё же воспоминания Ф. П. Лубяновского не похожи на записки И. Ф. Тимковского. Их автор — высокопоставленный чиновник. Написаны они после 1834 года, когда Ф. П. Лубяновский уже прослужил на высоких должностях пензенского, а затем подольского губернатора. Закончил же он службу в должности сенатора. Не случайно Лубяновский смотрит на университет с точки зрения подготовки не учёных или педагогов, а чиновников (а это было, несомненно, одной из важных задач, которые ставились перед университетским образованием в абсолютистском государстве). И всё же свойственная университетской среде тяга к знаниям, к творчеству отразилась и на Ф. П. Лубяновском, о чём свидетельствуют и его воспоминания.
Денис Иванович Фонвизин (1744 или 1745—1792) принадлежал к числу первых студентов Московского университета, которые в самом скором времени вписали яркие страницы в историю русской культуры. И тем более ценны его воспоминания об этом раннем периоде истории университета.
Кроме того, в них даётся и описание того образования, которое получали дома отпрыски дворянских семей до поступления или сразу на службу, или в специальные сословные учебные заведения типа Кадетского корпуса, или же, начиная с 1755 года, в университет и его гимназию.
«Чистосердечное признание...» — это произведение выдающегося писателя-сатирика, а не сухие погодные записи фактов. Подлинные события и впечатления подвергнуты тщательной стилистической и художественной обработке. Всё выдержано в ироничном тоне, подчёркнуты кажущиеся смешными черты учёбы в гимназии и университете, где Д. И. Фонвизин провёл 1755—1762 годы. На самом деле всё обстояло гораздо серьёзней: и награды будущий писатель получал за настоящие успехи в учёбе, и вышел из университета, несомненно, образованным человеком. Но и в своей иронии Д. И. Фонвизин сдержан и тактичен. С глубокой теплотой и восхищением вспоминает он встречу с М. В. Ломоносовым, оставившую след в его душе на всю жизнь. (Над воспоминаниями Д. И. Фонвизин начал работать незадолго до смерти — в 1789 г.) Сквозь шутку слышится искренняя признательность университету.
Ещё в университете Д. И. Фонвизин, как и многие его товарищи, занялся литературной и театральной деятельностью. Здесь начался творческий путь создателя бессмертного «Недоросля», патриота и борца против деспотизма. Этот путь, к сожалению, был недолгим. После 1783 года Екатерина II, раздражённая свободомыслием и смелостью Д. И. Фонвизина, осмелившегося на открытую полемику с ней в сатирических журналах, лишила его возможности публиковать свои произведения.
«Чистосердечное признание...» осталось неоконченным.
Третья часть документальной подборки — рассказ о первых университетских питомцах и деятелях русской культуры, науки и просвещения XVIII века. Лучше других это сделал Н. И. Новиков.
Николай Иванович Новиков (1744—1818) являлся одним из самых ярких представителей русского Просвещения XVIII века. Выходец из дворянской семьи, он несколько лет учился в гимназии при Московском университете, с 1762 года состоял на военной службе, а в 1767 году был назначен в числе других образованных молодых офицеров к ведению протоколов комиссии по составлению нового Уложения (свода законов). Для участия в работе Уложенной комиссии были избраны депутаты почти от всех сословий: дворян, купечества, казаков, государственных (то есть не принадлежавших помещикам) крестьян и других. Но большинство крестьян, а значит, и всего населения России, доступа в эту комиссию не получили (крестьяне, принадлежавшие помещикам и лично императрице, а также бывшие монастырские крестьяне).
На заседаниях Уложенной комиссии разгорелись ожесточённые споры между представителями различных сословий, подверглись критике дворянские привилегии, судебные учреждения, неполноправие крестьян и т. д. Более того, группа прогрессивных депутатов выступила за облегчение положения крепостных и ограничение крепостного нрава. Не сумев направить работу комиссии в угодном ей русле, Екатерина II распустила депутатов в конце 1768 года.
Служба в Уложенной комиссии ввела Н. И. Новикова в самую гущу общественной борьбы, познакомила с наиболее жгучими вопросами жизни страны. Закончив свои обязанности в комиссии, Н. И. Новиков покинул военную службу и приступил к издательской деятельности. В 1769—1774 годы выходят его сатирические журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелёк». В них перед публикой поднимаются те острые вопросы, обсуждение которых пыталось прекратить правительство Екатерины II роспуском депутатов Уложенной комиссии.
Характер новиковской сатиры не мог не вызвать недовольство Екатерины II и её окружения. Один за другим журналы Н. И. Новикова были закрыты. Но в этот период он не ограничивается только изданием этих журналов. Им был начат выпуск «Древней российской вивлиофики» — собрания памятников русской старины, печатаются сочинения по истории России. В 1772 году выходит в Петербурге его «Опыт исторического словаря о российских писателях», который и публикуется в сокращении.
В своём «Словаре» Н. И. Новиков собрал краткие сведения о всех известных ему авторах различных сочинений как напечатанных, так и оставшихся в рукописях. Слово «писатель» толкуется Н. И. Новиковым очень широко по сравнению с его современным значением. Под него попадают не только авторы художественных произведений, но и учёные, инженеры, врачи, изобретатели, проповедники. «Профессиональных» писателей в России тогда ещё практически не было. В «Словаре» мы встречаем имена государственных и церковных деятелей, офицеров и чиновников, профессоров и студентов. По сути дола, Н. И. Новиков составил первый биографический справочник не только писателей, но вообще деятелей русской культуры и науки.
В публикуемую подборку включена только часть имён, вошедших в «Словарь» Новикова. Она сделана таким образом, чтобы рассказать о преподавателях и питомцах Московского университета — ярких представителях русской культуры XVIII века, о широте распространения тяги к знаниям и творчеству в век Просвещения.
При внимательном чтении статей новиковского «Опыта исторического словаря» и знакомстве с биографиями упомянутых в нём деятелей становится видно, какую громадную роль в развитии русской культуры во второй половине XVIII века стал играть молодой Московский университет. Ещё более просветительская функция университета возрастает в 1779—1789 годы, благодаря самому Н. И. Новикову. В это время он арендует университетскую типографию, в которой издаёт газеты, журналы, книги (всего около 950 названий, в том числе многотомных изданий). Значительную часть авторов, привлечённых Н. И. Новиковым, составляли преподаватели и студенты Московского университета.
Стремление Н. И. Новикова к расширению выпуска книг для широкой демократической публики, его чуждые официальной идеологии взгляды вызывали резкое недовольство со стороны Екатерины II и её окружения. В 1789 году его лишили аренды типографии университета, а в 1792 году арестовали и бросили в Шлиссельбургскую крепость. Освобождённый из неё Павлом I, Н. И. Новиков так и не получил разрешения вернуться к издательской и литературной деятельности. Таким образом, один из самых выдающихся людей России в течение более четверти пека был лишён самодержавием возможности заниматься трудом на благо обществу и как бы заживо погребён в застенке и в подмосковной деревне, где он прожил последние годы в бедности и забвении.
1754, ИЮНЯ — ИЮЛЯ. И. И. ШУВАЛОВУ[440]
Милостивый государь
Иван Иванович!
Полученным от вашего превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату к великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочинённый. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить моё мнение о учреждении Московского университета кратко вообще.
1) Главное моё основание, сообщённое вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей учёных, положить в плане профессоров и жалованных студентов[441] довольное число. Сначала можно пропяться теми, сколько найдутся. Со временем комплет наберётся. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели, сделав ныне скудный и узкий план по скудости учёных, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы.
2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати быть не может в трёх факультетах
В Юридическом три
I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконения Римской древней и новой империи.
II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права.
III. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.
В Медицинском 3 же
I. Доктор и профессор химии.
II. Доктор и профессор натуральной истории[442].
III. Доктор и профессор анатомии.
В Философском шесть
I. Профессор философии.
II. — физики.
III. — оратории.
IV. — поэзии.
V. — истории.
VI. — древностей и критики.
3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без семян. О её учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет.
Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу, непременно с глубоким высокопочитанием пребывая
вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Михайло Ломоносов
1755, ГЕНВАРЯ 24. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА И ДВУХ ГИМНАЗИИ. С ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ПРОЭКТА ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ[443]
Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш родитель и государь Пётр Первый, император великий и обновитель отечества своего, погруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истиннаго благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во всё время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды полагал, не толико Россия чувствует, но и большая часть света тому свидетель; и хотя во время жизни толь высокославнаго монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшия его предприятии к совершенству и не достигли, но мы всевышняго благоволением, со вступления нашего на всероссийский престол, всечасное имеем попечение и труд, как о исполнении всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что только к пользе и благополучию всего отечества служить может, чем уже действительно по многим материям все верноподданные матерними нашими милосердиями ныне пользуются и впредь потомки пользоваться станут, что времена и действии повсядневно доказывают. Сему, последуя, из наших истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше желание и воля состоит в произведении народнаго благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к совершенному нашему удовольствию прилежность свою и труд в общенародную пользу прилагали; но как всякое добро происходит от просвещеннаго разума, а напротив того зло изкореняется, то следовательно нужна необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук, возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание; чему подражая для общей отечеству славы, Сенат наш, и признав за весьма полезное к общенародному благополучию, всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложением проэкта и штата о учреждении в Москве одного университета и двух гимназий, следующее представлял: как наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещённые народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми, в чём свидетельство видимое нашего века от бога дарованнаго, к благополучию нашей империи родителя нашего государя императора Петра Великаго доказывает, который божественным своим предприятием исполнение имел через науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена, разум превосходящия дела, в толь краткое время перемена нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утверждённых, строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение флота, исправление необитаемых земель, установление водяных путей, всё к пользе общаго житья человеческаго, и что наконец всё блаженство жизни человеческой, в которой безчисленные плоды всякаго добра всечастно чувствам представляются; и что пространная наша империя установленною здесь дражайшим родителем нашим, государем Петром Великим, Санктпетербургскою Академиею, которую мы между многими благополучиями своих подданных милосердиями немалою суммою против прежняго к вящшей пользе и к размножению и ободрению наук и художеств, всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит, но одним оным учёным корпусом довольствоваться не может, в таком разсуждении, что за дальностию дворяне и разночинцы к приезду в Санктпетербург многия имеют препятствия, и хотя ж первые к надлежащему воспитанию и научению к службе нашей, кроме Академии, в Сухопутном и Морском кадетских корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытой путь имеют, но для учения вышним наукам желающим дворянам, или тем, которые в вышеписанныя места для каких-либо причин не записаны, и для генеральнаго обучения разночинцам, упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов, о учреждении вышеобъявленнаго в Москве университета для дворян и разночиицов, по примеру европейских университетов, где всякаго звания люди свободно наукою пользуются, и двух гимназий, одну для дворян, другую для разночинцов, кроме крепостных людей, усердствуя нам и отечеству, о вышеупомянутом изъяснял для таковых обстоятельств, что установление онаго университета в Москве тем способнее будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцов; 2) положение оной среди Российскаго государства, куда из округ лежащих мест способно приехать можно; 3) содержание всякаго не стоит многаго иждивения; 4) почти всякой у себя имеет родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею содержать может; 5) великое число в Москве у помещиков на дорогом содержании учителей, из которых большая часть не токмо учить науке не могут, но и сами к тому никакого начала не имеют, и только чрез то младыя лета учеников, и лучшее время к учению пропадает, а за учение оным безполезно великая плата даётся; всё ж почти помещики имеют старание о воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей своих достойных людей в службу нашу, а иные, не имея знания в науках или по необходимости не сыскав лучших учителей, принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремёслами всю жизнь свою препровождали; и показывая он камергер и кавалер Шувалов, что такие в учениях недостатки речённым установлением исправлены будут, и желаемая польза надёжно чрез скорое время плоды свои произведёт, паче ж когда довольно будет национальных достойных людей в науках, которых требует пространная наша империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и ко исполнению начатых предприятиев и ко учреждению впредь по знатным российским городам российскими профессорами училищ, от которых и во отдалённом простом народе суеверие, расколы и тому подобный от невежества ереси истреблятся. Того ради мы, признавая упомянутаго камергера и кавалера Шувалова представление, поданное нам чрез доклад от Сената, за весьма нужное и полезное нашей империи следующее к благополучию всего отечества, и которое впредь к немалой пользе общаго добра быть может, всемилостивейше конфирмовали[444] и надеемся несомненно, что все наши верноподданные, видя толь многия наши об них матерния попечении, как и сие весьма потребное учреждение, простираться станут детей своих пристойным образом воспитав обучить, и годными чрез то в службу нашу и в славу отечества представить; а чтоб сие вновь предприятое дело доброй и скорой успех имело с надлежащим порядком, без малейшаго потеряния времени; того для всемилостивейше мы повелели над оным университетом и гимназиями, быть двум кураторам, упомянутому изобретателю того полезнаго дела действительному нашему камергеру и кавалеру Шувалову и статскому действительному советнику Блюментросту, а под их ведением директором коллежскому советнику Алексею Аргамакову; а для содержания в оном университете достойных профессоров и в гимназиях учителей, и для прочих надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно, всемилостивейше мы определили довольную сумму денег, дабы ни в чём и никакого недостатка быть не могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание определённых кураторов, которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено, и чрез искуснейших профессоров науки в нашей империи распространялись и в цветущее состояние приходили, чего мы к совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для того всех находящихся в оном университете, высочайшею нашею протекцией) обнадёживаем; а кои особливую прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред другими с отменными авантажами в службу определены будут; и об оном для всенароднаго известия сие наше всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чём сим и публикуется. На каком же основании оному учреждённому в Москве университету и гимназиям, и в них профессорам и учителям, и во скольких классах быть надлежит, о том публиковано будет впредь регламентом, со внесением в опой всего, что потребно для лучшаго установления онаго университета и гимназии. [...]
Проект о Учреждении Московского университета
§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии довольно десяти тысяч рублей в год.
§ 2. 1) Весьма за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб е. и. в. новоучреждаемой университет в собственную свою высочайшую протекцию принять и одну или двух из знатнейших особ, как в других государствах обычай есть, кураторами университета определить соизволила, которые бы весь корпус в своём смотрении имели и о случающихся нуждах ево докладывали е. и. в.
1. Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не подчинён был никакому иному присутственному месту и ни от кого бы иного повеления принимать не был обязан.
2. Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под университетского протекциею состоящие без ведома и позволения университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме университетского.
3. Чтоб все принадлежащие к университету чины в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, тако ж и от вычетов из жалования и всяких других сборов.
§ 3. При том надлежит быть особому директору, который бы по предписуемой ему инструкции о благосостоянии университета старался и его доходами правил, с профессорами науки в университете и учение в гимназии учреждал, со всеми присутственными местами по делам, касающимся до университета, переписку имел и о всём вышеписанном кураторам представлял и их апробации требовал.
§ 4. Хотя во всяком университете кроме философских наук и юриспруденции должно такожде предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется святейшему Синоду.
§ 5. Профессоров в университете будет в трёх факультетах десять. В юридическом: 1) Профессор всей юриспруденции, который учить должен натуральные и народные права и узаконения Римской древней и новой империи.
1. Профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние государственные права.
2. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее время.
В медицинском: 1) Доктор и профессор химии должен обучать химии физической, особливо и аптекарьской.
1) Доктор и профессор натуральной истории должен на лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных.
2) Доктор и профессор анатомии обучать должен и показывать практикою строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов в медицинской практике.
В философском: 1) Профессор философии обучать должен логике, метафизике и нравоучению.
1) Профессор физики обучать должен физике экспериментальной и теоретической.
2) Профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства.
3) Профессор истории для показания истории универсальной и российской, також древности и геральдики.
§ 6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, также и субботу, в университетском доме публично и не требуя за то от слушателе!)
особливой платы о своей науке лекции давать, кроме того, вольно ему за умеренную плату кого хочет приватно обучать, только чтоб оттого в его публичных лекциях никакой остановки и препятствия не происходило.
§ 7. Всем профессорам иметь по-однажды в неделю, а имянно по субботам до полудни, в присутствии директора собирания, в которых советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, касающихся до наук и до лучшего оных произвождения, и тогда каждому профессору представлять обо всём, что он по своей профессии усмотрит за необходимо нужное и требующее поправления. В тех же общих собраниях решить все дела, касающиеся до студентов, и определять им штрафы, ежели кто приличится в каких продерзостях и непорядках.
§ 8. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен следовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут.
§ 9. Все публичные лекции должны предлагаемы быть либо на латинском, либо и на русском языке, смотря как по приличеству материи, так и по тому, иностранной ли будет профессор или природный русской.
§ 10. Всякий профессор должен курс своей науки так расположить, чтоб чрез каждые полгода, то есть от одной ваканции[445] до другой часть оныя, а чрез год весь курс окончать мог.
§ 11.0 предлагаемых в каждую половину года новых лекциях объявлять выставляемым в университетском доме листом или каталогом лекций.
§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году, а именно: зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня по 1 число июля.
§ 13. По окончании каждого месяца выбрать день субботный, в который профессорам, согласись между собою, заставлять студентов приватно диспутоваться и задавать им для того тезисы, которые за три дни наперёд прибивать к дверям большой аудитории, дабы желающие то предприять заблаговременно приготовить могли.
§ 14. Пред наступлением каждой ваканции иметь публичные диспуты, пригласи ко оным всех любителей наук. [...]
§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля, роздавать им публичные награждения, которые могут состоять в небольшой золотой или серебрёной медали. [...]
§ 22. Каждый студент должен три года учиться в университете, в которое время все предлагаемые во оном науки, или по крайней мере те, которые могут ему служить к будущим его намерениям, способно окончать может, а прежде того сроку никого против его воли и желания от наук не отлучать и к службе не принуждать. Сверх того, не соизволено ль будет содержать студентов дватцать человек записанных на жалование, чтоб из них в гимназию определять в нижние классы учителями. [...]
§ 23. Всяк желающий в университете вышним наукам учиться, должен явиться у директора, которой прикажет профессорам его экзаменовать, и ежели явится способен к слушанию профессорских лекций, то, записав его в число университетских студентов и показав ему порядок учения, приличный его склонности и будущему состоянию, отослать при письменном виде к тем профессорам, у кого какия лекции слушать имеет; и во ободрение позволено ль будет иметь шпагу, как и в прочих местах водится.
§ 24. Учащиеся в университете студенты не должны ни в каком другом суде ведомы быть, кроме университетского, и ежели приличатся в каких-либо непорядочных поступках, то не касаясь до них никаким образом, приводить их немедленно в университетский дом, и директор, который смотря по вине, учинит им надлежащий штраф или отошлёт к тому суду, до котораго такия дела принадлежат. [...]
§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между благороднейшими упражнениями человеческими справедливо счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию, не принимать никаких крепостных и помещиковых людей. Однако ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево обучить свободным наукам, оный должен наперёд того молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему увольнительное письмо за своею рукою и за приписанием свидетелей. [...]
§ 27. При допущении в университет и в гимназию такого студента или ученика, принять от него и хранить в университете данное ему от бывшаго его господина письменное увольнение, и когда он науки свои порядочно окончает и от университета с аттестатом отпущен будет для определения в службу государеву или на вольное пропитание, тогда вручить ему паки помянутое письмо прежняго его господина и дать волю, чтоб никаким образом никто его в холопство привести не мог; ежели же имев волю и пользуясь одним тем, будет в худых поступках, то такого выписать вон и отдать как его, так и увольнительное письмо его помещику.
§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских лекций, должен наперёд научиться языкам и первым основаниям наук. Но понеже в Москве таких порядочно учреждённых вольных школ не находится, где бы к вышним наукам молодые люди надлежащим образом приготовлены и способными учинены быть могли; того ради е. и. в. всемилостивейше не соизволит ли указать, чтоб при Московском университете и под его ведомством учредить две гимназии: одну для дворян, а другую для разночинцев, кроме крепостных людей. [...]
§ 39. Для различения дворян от разночинцев учиться им в разных гимназиях, а как уже выйдут из гимназии и будут студентами у вышних наук, таким быть вместе как дворянам и разночинцам, чтоб тем более дать поощрение к прилежному учению. [...]
§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность состоит в том: 1) чтоб с приданными ему сторожами содержать университетской дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2) иметь ему роспись всем студентам и где кто жительство имеет, дабы в потребном случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовать по всякое утро директора о том, что за день перед тем в университете происходило.
§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским служителям иметь жительство своё в близости от университетскаго дому и гимназии, дабы в прохаживании туда и назад напрасно время не теряли. [...]
ИЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»
Из Москвы от 1 майя
Описание инавгурации при начинании гимназии Московского
императорского университета сего 1755 года, апреля 26 дня[446]
В назначенный день в 8 часу поутру учители с учениками собраны были в Университете, куда и все знатные персоны, которые прошены были чрез печатные программы, во многом числе прибыли, также чужестранные и знатное купечество по их требованию допущены были: тогда в надлежащем порядке ученики разделены на классы, с учителями пошли в церковь Казанский богородицы[447] и в присутствии директора отправлялся молебен соборной за высочайшее здравие е. и. в. и императорской фамилии.
Родители учеников также благодарные молитвы свои богу приносили. Возвращались оттуда таким же порядком, как и в церковь шли, и вшед в большую залу говорены были речи: на российском языке магистром Антоном Барсовым, на латинском — магистром и конректором Николаем Поповским, на французском — учителем вышнего[448] французского класса — ла Бомом, на немецком — учителем вышнего немецкого класса Литкеном.
По окончании оных речей знатнейшие персоны прошены были во внутренные покои, где трактованы были разными ликёрами и винами, кофием, чаем, шоколадом и конфектами, и так все с удовольствием около второго часа пополудни разъехались.
В шестом часу после обеда множество народа приезжали смотреть в университетские покои представленную иллюминацию, которая изображала Парнасскую гору, Минерва[449] поставляет обелиск во славу е. и. в.
В низу обелиска многие младенцы упражняются в науках, между которыми один пишет имя его превосходительства господина куратора и основателя университетского[450], имя, которое в учёном свете забвенно быть не может. Там виден ещё рог изобилия и источник вод как символ будущего плода. Ещё изображается ученик с книгою, восходящий по степеням к Минерве, которая любительно его приемлет; представляется пальмовое древо, с которого один младенец ломает ветви и держит в руке венцы и медали и показывает, что награждение тем готово, которые по достоинству заслужить имеют.
Вся оная иллюминация как днём, так и ночью делала преизрядный вид к удовольствию всех знающих и всего народа.
Оная иллюминация освещена была многими тысячами ламп с такою приятностию, как бы огород с аллеями и деревьями казался. Все университетские покои и башня до самого верьха иллюминованы были внутри и снаружи. Музыка инструментальная, трубы и политавры[451] слышны были чрез весь день, как звук радостного и всем любезного торжества.
Среди конфектов поставлена была галерея с портиками, между столбов видны были фигуры младенцев, держащих разные математические инструменты, книги, карты географические, глобусы и прочее; среди оной галереи был фонтан натуральный; фронтоны оной галереи содержали имя и герб его высокопревосходительства господина куратора и основателя университета.
Вокруг университетского дому народа было несчётное число чрез весь день даже до четвёртого часа полуночи, а которые входили в университетские покои смотреть иллюминации также трактованы были как и поутру.
РЕЧЬ, ГОВОРЁННАЯ В НАЧАТИИ ФИЛОСОФИЧЕСКИХ ЛЕКЦИЙ[452]
при Московском университете гимназии
ректором Николаем Поповским
Взирая на толикое ваше собрание, почтенные слушатели, на вашу благородную ревность о просвещении учением вашего разума, чувствую я в себе некоторую особливую радость и поощрение к охотнейшему понесению подъемлемого мною труда с несомненною надеждою о успехе. Надежду мою утверждает ваша с полезнейшим намерением о учреждении сего университета согласная охота, которая чрез благосклонное ваше присутствие довольно себя оказывает. Радость производит во мне имеющая из того произойти всея пространнейшая в свете Российский империи слава. Ваше обо мне мнение и предуверенность о порядочном исправлении препорученной мне должности не только труд сей облегчает, но ещё и к понесению тягостей больших с усерднейшим желанием возбуждает; и хотя я не могу нимало сомневаться, чтобы вы пользы важности и величества философии не представляли в мыслях своих так, как она и действительно в себе находится, однако и для лучшего изъяснения и подтверждения ваших мнений как по моей должности, так и по обыкновению не премину упомянуть о том вкратце.
Представьте в мысленных ваших очах такой храм, в котором вмещена вся вселенная, где самые сокровеннейшие от простого понятия вещи в ясном виде показываются; где самые отдалённейшие от очес наших действия натуры во всей своей подробности усматриваются; где всё, что ни есть в земле, на земле и под землёю, так, как будто на высоком театре, изображается; где солнце, луна, земля, звёзды и планеты в самом точном порядке, каждая в своём круге, в своих друг от друга расстояниях, с своими определёнными скоростями обращаются; где и самое непостижимое божество, будто сквозь тонкую завесу, хотя не с довольною ясностию всего непостижимого своего существа, однако некоторым возбуждающим к благоговению понятием себя нам открывает; где совершеннейшее наше благополучие, которого от начала света ищем, но сыскать не можем и по сие время, благополучие, всех наших действий внешних и внутренних единственная причина, в самом подлинном виде лице своё показывает. Одним словом, где всё то, чего только жадность любопытного человеческого разума насыщаться желает, всё то не только пред очи представляется, но почти в руки для нашей пользы и употребления предаётся. Сего толь чудного и толь великолепного храма, который я вам в неточном, но только в простом и грубом начертании описал, изображение самое точнейшее есть философия. Нет ничего в натуре толь великого и пространного, до чего бы она своими проницательными рассуждениями не касалась. Всё, что ни есть под солнцем, её суду и рассмотрению подвержено; все внешние и нижние, явные и сокровенные созданий роды лежат перед её глазами. От неё зависят все познания; она мать всех наук и художеств. Кратко сказать, кто посредственное старание приложит к познанию философии, тот довольное понятие, по крайней мере довольную способность, приобрящет и к прочим наукам и художествам. Хотя она в частные и подробные всех вещей рассуждения не вступает, однако главнейшие и самые общие правила, правильное и необманчивое познание натуры, строгое доказательство каждой истины, разделение правды от неправды от неё одной зависят. Подобно как архитектор, не вмешиваясь в подробное сложение каждой части здания, однако каждому художнику предписывает правила, порядок, меру, сходство частей и положение всего строения, так что без одного его самые искуснейшие художники успеть не могут. Множество и различие вещей, красота, великолепие, происхождение, продолжение и перемена естества ум и сердце человеческое в восторг и приятное удивление приводит. Но я оставлю все сии преимущества философии, которые, может быть, без дальних доказательств, примеров и изъяснений не всякому могут быть вразумительны: едину необходимую в философии представлю вам нужду и потребу. Некоторые погибшие люди, называемые афеисты, заразившись или упрямства, или неудобнопонятности душевредным ядом, бытие божие с невозвратным отрицанием отвергают и начало сего света или ему ж самому приписывают, или различным причинам; и таких людей мы, христиане, будучи просвещенцы познанием веры, сожалея, если восхощем возвратить от заблуждения и погибели на путь истинный, коим-то образом учинить можем: откровенной богословии им и представлять нечего, ибо они как бога не признают, так и богословию и священное писание отвергают. Прочего не хочу упоминать, чтобы между всеми святостями священнейшие имена, о которых и вспоминать должно с благоговейнейшим почтением, от замерзения их богодосадительных слов не претерпели какого прикосновения. Таких отчаянных людей кто иной может привесть в чувство? Одна только философия. Она в своей части называемо естественная богословия[453], не ссылаясь на божественное писание и на свидетельство святых отцев, ложные безбояшиков возражает мнения и доказательства опровергает и, рассматривая только едину натуру и рассуждая, что само чрез себя ничто не может быть, принуждает их к признанию, что есть некоторое существо, от которого вся тварь бытие и пребывание своё имеет. Но, вспоминая о пользе философии, едва не позабыл я предложить вам и о её трудности. Сие имя трудность приписывают философии те, которые на неё и издали взглянуть не смеют. Напротив того, пословица гласит, что неусыпный труд всё побеждает. Но в чём состоит её трудность? Мне кажется, в одном только долговременном путешествии, то есть кто хочет научиться философии, тот должен искать старого Рима[454], или, яснее сказать, должен пять или больше лет употребить на изучение латинского языка. Какой тяжёлый доступ! Но напрасно мы думаем, будто ей столь много латинский язык понравился. Я чаю, что ей умерших и в прах обратившихся уже римлян разговор довольно наскучил. Она весьма соболезнует, что при первом свидании никто полезнейшими её советами наслаждаться не может. Дети её — арифметика, геометрия, механика, астрономия и прочие — с народами разных языков разговаривают, а мать, странствовавши чрез толикое множество лет по толь многим странам, ни одного языка не научилась![455] Наука, которая рассуждает о всём, что ни есть в свете, может ли довольствоваться одним римским языком, который, может быть, и десятой части её разумения не вмещает? Коль далеко простирается её понятие, в коль многих странах обретаются те вещи, которые её подвержены рассуждениям, толь многие языки ей приличны. В сём случае всего досаднее то, что прочим наукам, из которых иные и не всякому могут быть полезны, всякий человек за своём языке обучиться может. Напротив того, у философии, которая предписывает общие пути и средства всему человеческому благополучию, никто не может потребовать совета, когда не научится по-латыне. Итак, какое философии бесчестие, а нам вред, что всея вселенныя учительница будучи, едва малой части обретающегося в свете народа может принесть пользу! Век философии не кончился с Римом, она со всеми народами последующих веков на их языке разговаривать не отречётся; мы причиняем ей великий стыд и обиду, когда думаем, будто она своих мыслей ни на каком языке истолковать, кроме латинского, не может. Прежде она говорила с греками, из Греции переманили её римляне, она римский язык переняла весьма в короткое время, и несметною красотою рассуждала по-римски, как не задолго прежде по-гречески. Не можем ли и мы ожидать подобного успеха в философии, какой получили римляне? Почти равным образом попечение основателей сего университета, ваша, почтенные слушатели, ревность к учению и охота, присовокупив и наше, как природных россиян, трудолюбие и доброжелательство о умножении пользы своего отечества, немалую подают к сему надежду. Сверх того и пространство земель, подверженных Российской империи, нас ещё больше уверяет и утверждает в сей приятнейшей надежде, ибо римляне не реже от тех самых народов были побеждаемы, которых оружием приводили в своё послушание, и часто в покорённые собою земли ни одним глазом взглянуть не смели. Следовательно, хотя что и было в покорённых им народах достопамятного, однако для подозрительного послушания и неспокойства философии их, усмотреть того было невозможно. Но мы, довольствуясь возлюбленным покоем и надёжнейшею тишиной, объемля толь пространные различных народов области в непринуждённом послушании, но в искреннем и дружелюбном вспомоществовании, не безопаснейшее ли подадим место философии, где по мере пространства земель многообразные натуры действия любопытству нашему откроются? Что ж касается до изоблия российского языка, в том перед нами римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно. Что ж до особливых надлежащих к философии слов, называемых терминами, в тех нам нечего сумневаться. Римляне по своей силе слона греческие, у коих взяли философию, переводили по-римски, а коих не могли, те просто оставляли. По примеру их то ж и мы учинить можем. У логиков[456] есть некоторые слова, которые ничего не значат, например: Barbara, Celarent, Darii[457]. Однако силу их всякий разумеет; таким же образом поступим и мы с греческими и латинскими словами, которые перевесть будет трудно; оставя грамматическое рассмотрение, будем только толковать их знаменование и силу, чем мы знания своего не утратим ни перед самими первыми греческими философами; итак, с божиим споспешествованием начнём философию не так, чтобы разумел только один изо всей России или несколько человек, но так, чтобы каждый российский язык разумеющий мог удобно ею пользоваться. Одни ли знающие по латине толь понятны и остроумны, что могут разуметь философию? Не безвинно ли претерпевают осуждение те, которые для незнания латинского языка почитаются за неспособных к слушанию философии? Не видим ли мы примеру в простых так называемых людях, которые, не слыхавши и об имени латинского языка, одним естественным разумом толь изрядно и благоразумно о вещах рассуждают, что сами латинщики с почтением им удивляются. Самые отроки могут чрез частое повторение привыкнуть и к глубочайшим предложениям, когда они им порядочно я осторожно от учителей внушаемы бывают, только лишь бы на известном языке предлагаемы им были.
Того ради, слушатели, какое вы тщание оказываете теперь, при начале наступающего учения, такое ж и в следующем его течении продолжайте. Трудность в рассуждении благородного и рачительного воспитания есть не что иное, как только пустое имя. Если будет ваша охота и прилежание, то вы скоро можете показать, что и вам от природы даны умы такие ж, какие и тем, которыми целые народы хвалятся; уверьте свет, что Россия больше за поздным начатием учения, нежели за бессилием, в число просвещённых народов войти не успела. Что касается до трудности сего учения, то я всю тяжесть на себя принимаю; ежелиже снесть его буду я не в состоянии, то лучше желаю обессилен быть сею должностию, нежели оставить вас без удовольствия. Но ваше усердие и охота ваша, внешними знаками оказываемая острота обнадёживает меня, что я о тяжести предприемлемого мною дела никогда каяться не буду. Представьте себе, что на вас обратила очи свои Россия; от вас ожидает того плода, которого от сего университета надеется; вы те, которых успехи если будут соответствовать желанию российских добродетелей, то вся ваша надежда, которую вы воображаете в своих мыслях, уже наперёд исполнена. Прилежное о вас старание господина куратора сего университета обнадёживает вас, что вы по окончании трудов и добрых успехов во учении будете своим состоянием весьма довольны. Итак, будучи поощрены и своею ко учению склонностию и сверх того одарены несумненным чаянием чести и награждения, покажите, что вы того достойны, чтоб чрез вас Россия прославления своего во всём свете надеялась.
И. Ф. ТИМКОВСКИЙ ЗАПИСКИ[458]
Домашнее обучение моё было так многообразно, что казалось бы странным, если б не было в свойствах и способах того времени. Четыре года его составляют свой особый век.
Первому чтению церковно-славянской грамоты заучили меня в Деньгах мать и в роде моего дядьки, служивший в поручениях, из дедовских людей, Андрей Кулид. Отец его был турчин, или булгар, вывезенный в малолетстве дедом по взятии Хотина в 1739 году. Тот же Андрей носил и водил меня в церковь, забавлял меня на бузиновой дудке или громко трубя в сурму из толстаго бодяка[459] и набирал мне пучки клубники на сенокосах. Не без того, что ученье моё, утомясь на складах и титлах[460], бывало в бегах, и меня привязывали длинным ручником к столу. Главный отвлечения мои были побегать в саду с набранными погремушками, лазить на дерево или иную высоту, плескаться под дождём, откуда приводили хлющем[461] или найти любимаго Вана. Татарин Иван, выходец средних лет, верный домашний скотарь, уродливою речью, но внятно рассказывал о горах и произведениях, о быте и происшествиях Крыма, певал закатисто татарский песни и, чудо всем, как скоро и легко ходил на высоких дыбах[462] [...]
Дядя отдал Елисея учиться версты за три в Крапивну, в дом знакомых. Отец мой был разборчивее, и способствовала самая близость церкви за нашим садом. Выставив пчёл, того же дня он призвал дьяка, осанистого пана Василя, с длинною косою, и меня отвели к нему в школу на часослов[463]. Сначала водили меня туда и приходили за мною; потом и самому мне отдали короткую дорогу. В строении близ церкви две избы с большими окнами, через большия сени; были одна с перегородкою, жилая дьяку семейному, другая порожняя, светлая, собственно школа, о трёх длинных столах. Столы составляли род классов, на букварь, часослов и псалтырь; последние два с письмом. Школьники по тому были мальчики, подростки и взрослые. Писали начально разведённым мелом на опалённых с воском чёрных дощечках не слоистаго дерева, с простроченными линейками, а приученные уже писали чернилами на бумаге. Из третьяго же отделения набирались охотники в особый ирмолойный класс[464], для церковнаго пения, что производилось раза три в неделю: зимою в комнате дьяка, а по весне под навесом. Шумно было в школе от крику 30 иди 40 голов, где каждый во весь голос читает, иной и поёт своё. А для вспоможения себе дьяк старшим надавал меньших. Отцы за науку платили дьяку по условию, в мере таксы, за каждый класс натурою и деньгами. Окончание класса школьником, кто когда выспеет, было торигеством всей школы. Он приносил в неё большой горшок сдобной каши, покрытый полотняным платком. Дьяк с своим обрядом снимал платок себе, кашу разъедали школьники и разбивали горшок палками на пустыре издалека в мелкие куски. Отец угощал дьяка. Школьники в церковном обиходе составляли хор певцов, которым дьяк гордился. Они же помогали ему звонить. Летом они отпускались то купаться у мельниц в реке Крапивне и половить рыбы, то из лесу по горе за рекою приносить ему орехи, калину и груши. К праздникам он давал им поздравительный вирши[465]. Школа была всегда многолюдна, потому что ученье вело по степеням службы. Там я учил часослов. [...]
Раннею весною явились на дворе две голубыя киреи. Оне позваны в светлицы. То были переяславские семинаристы, отпущенные, как издавна велось, на испрошение пособий, с именем эпетиции. Такие ходоки выслуживались более пением по домам и церквам, проживали по монастырям и пустыням, ещё имевшим в то время свои деревни. Иным эпетентам счастилось, что одно село разом их обогащало; иные пробирались даже на Запорожье. Начав труды, они учреждали свои складки, разживались на лошадь и привозили запасы себе и братии, приносили ум и журналы, что видеть, слышать и узнать досталось. Пришельцы наши, один рослый, смуглый, острижен в кружок, другой белокурый, коренастый, с косою, поднесли отцу на расписанном листе орацию[466]. Он поговорил с ними, просмотрел у них бумаги и почерки. Задал им прочитать из книги и пропеть: блажен муж; перваго принял моим наставником, втораго наделил чем-то. Приговорили двора за два, супротив церкви, у семейного казака о двух хатах большую, чистую и светлую под квартиру учителя и ученья. Туда прибавились братья Елисей и сын Климовича из Крапивны, принятый взаимно у дяди Кириака. Мы сходились туда утром и после обеда. Учитель на обед и вечерню, что было близко, к нам приходил. Пан Никита, или, как отец мой звал его, пан-философ и просто Пиний, был лет 28; ходил в синем коротком жупане с красным каламенковым[467] поясом, с подстриженными кудрями и нависшими чёрными усами, учил нас каждого порознь часослову и псалтыри, чтению гражданскому, латинской грамоте и письму на бумаге. Мы учились за одним столом, а больше на дворе в тенях. Там Климович, с книгою в руках, заглядевшись на берёзовый оглобли в коре, «как бы желал я (сказал), чтоб у меня руки были так белы!» «Такия руки (я возразил) разве были б только у царицы». Мы долго судили о том и вывели по опытам, что такия бывают только от морозу. Для письма учитель давал нам прописи своей руки и строчил листы оттиском линеек по заготовленной картонной бумаге, прошитой тонкими струнами. В церкви он занимал с нами левый клирос и брал иногда на себя часть пения. К праздникам для своих поздравлений готовил расписные листы с особым мастерством Имея запись разных узоров, разной величины, наколотых иглою, он набивал сквозь них узоры на подложенную бумагу толчёным мягкого дерева углём, сквозь жидкое полотно, и по чёрным от того точкам, рисовал рашпилем, а по нём отделывал пером с оттушёвкою. В такия рамы он вписывал подносимый своего сочинения орации. В приёмах и поступках он имел нечто даровитое.
Отец мой был средних лет, крепких сил и горячаго, но гибкаго нрава. Он любил чтение и помнил свою латынь. В малых отъездах он часто бирал меня с собою и дорогою имел досуги разсказывать мне что-либо на мои разспросы, или натверживать латинския слова. Утешался, когда я, указывая на предметы, называл их по-латыни или связывал таких два-три слова в начальном их виде; потому и моё ученье у Никия не было для меня дико. Первый книги, с какими новая словесность появилась у нас, какия стал я видеть у отца, были Курганова «Письмовник»[468] и Флоринова «Экономия»[469] с картинами, привезенныя из Петербурга дядею Иваном. Также история о разорении Трои и анекдоты под именем «Смеющийся Демокрит»[470], вывезенные дядею по матери Платоном из Глухова, по его службе в коллегии. Прибавились, не знаю как, «Древняя Ролленова История»[471], «Золотые часы» Марка Аврелия[472] и Эпиктетов «Энхиридион»[473]. Из них я учился читать, а после много местами читал отцу и матери. Но письмовник имел у нас и другую роль. Отец мой любил пение. Сколько раз слышал я, как он, увидев новый месяц, пел вдохновенно: «Небеснаго круга верхотворче!» Сколько раз в дороге, или выходя с нами, детьми, в поле, с умилением повторял он себе, в виде арии: «Житейское море, воздвизаемое». И потому я часто внимал, как философ Никита, по призыву отца, стоя твёрдо у дверей, голосом перваго баса, свободно и весело распевал песни Курганова «Письмовника», ore rotundo[474].
Надобно было и доброму Никите по своему сроку оставить нас, месяца два не дожив года, и домашнею причиною разстроиться нашей партии. В Деньгах мы жили временно, частию потому, что в деревне на Згари собственно производились внове постройка и обзаведение дому, частию но завещанию бабки моей по матери. [...] Деревня Згарская от Денег только в 8, и от Золотоноши в 7 вёрстах. Новый дом в ней поставлен на выгнутой горе, усеянной мелкими разных цветов камешками, к западу над рекою и луговою далью, на юг примыкая к лесу с видом через пруд на другую по реке гору. Всё устройство дому совершалось попечением дяди Ивана Н. Он остался жить с нами и по частым отлучкам отца принял на себя весь хозяйственный порядок. На лето избрал себе и своему столярству, по прежней охоте, пребывание в пасеке, и пасека, по его усмотрению, перенесена в другой угол лесу, ближе к дому и полям. В ней водружён им кленовый чистой его работы крест. При ней устроен разделённый надвое просторный шалаш. Туда летом я приходил к нему учиться чтению и письму. В письме прописью моею были руки его именные и праздничные Тропари и Кондаки[475], а к ним и азбука латинская. Тогда же было довольно места и досуга развернуться моим детским забавам, играм, беганью, купанью и крикам для эхо, править конями взапуски на длинных хмелиных жилах, и вдруг по Латинской Геллертовой грамматике[476] вычитывать и пророчить бабам всякий вздор, о чём хотели; любимым было и лазить на казистые дубы или самую запутанную грушу по лесу, не за гнёздами (нет, я гонял всякого мальчика, у которого видел птичку в руках), но из одного удовольствия трудностей и высоты. [...]
По близкому разстоянию, он (отец. — Сост.) ездил в свои присутствия из дому, но для случаев занял квартиру в городе. Там Кононович, по новому стряпчий, имея свой большой дом, жил в нём с семейством и для двух сыновей имел учителя, молодаго, степеннаго семинариста. Туда же ходил из дому и мой родственник, по деду Тоцкому, Иван Леонтович. Туда поступил и я, для чего проживал на квартире отца с пим и без него; а по утрам в субботу на два дни меня брали домой. В ученье наше достали всем нам из Базилианскаго монастыря за Днепром в Каневе новые латинские буквари с польским. Мы уже учили в нём Pater Noster[477] наизусть, читали Credo[478] и далее; могли даже сами себе разобрать на последней странице букваря стишки:
Розга дух свиентый, косци но пршеломие, А розум барзо в глову выгоние[479].Мы посмеялись своей находке, а далее произошли у нас толки. Один говорил: какие то люди, что у них ум не в голове? Другой: видно есть такие за Днепром; а у меня ум в голове, я не боюсь. Третий: так мне лучше и ума того не надобно. Учитель пришёл, и шум наш утих. Впрочем он был добр и снисходителен. По вечерам он водил нас гулять за валом по берегу и купаться в реке. Потом, усевшись на валу, разсказывал нам любопытности и много чудес о магии Твардовского[480]. Там мы выслушивали его напевы по гласам; усладительно распевал он праздничные ирмосы.
Великая проблема: как многие последовали советам и внушениям графа Румянцева[481], было предложено и отцу моему, отдать меня в кадетский корпус. Он и мать, разсудив о том с дядею Иваном Н., не захотели удалять меня в таких летах от своего дому, родства и попечения; а о службе, говорили, бог судит. Но имея в виду своё намерение и не желая держать меня дома, он согласил дядю Кириака воспитывать вместе со мною сына его Елисея. Для того принят в его дом учителем из соседняго села ритор[482] семинарии, прибывший домой на вакацию, сын священника, Павел Шпаковский. Зрелых лет, он готовился только перейти в философию, чтоб заступить место престарелаго отца. Ему поручено, как говорилось, заправить нас для учения классическаго. Занятия наши стали сложнее. Утром всякий день мы читали ему из псалтыри по кафисме[483], каждый свою в ряд. Потом день было чтение и письмо русское, а день латинское. Он был лет 30-ти, ходил в длинном кафтане с широким полосатым поясом и русую длинную косу всегда носил закинутую палевом плече. Нрава был не просто сухаго и строгаго; но при том, что ни говорил или взыскивал, всё было с улыбкою на губах, и угадать было не можно, когда была она добрая и когда злая. Иногда было ему скучно с нами, а своих занятий никаких не имел. Потому он искал беседы с дядею Кириаком, который был по себе записным балагуром с картавою речью; а особливо когда заходил к нему, сам шутливый, дядя Платон, навернув шляпу на правое ухо, что у него значило — спокоен и весел. Тогда и мы имели довольно времени на роздых. Впрочем, успехи наши подвигались, и мы к декабрю начали мороковать в «Латинской грамматике» Бантыш-Каменскаго. К празднику Рождества Шпаковский написал мне и Елисею поздравительные стихи. В моих он намешал мифологии, как Плутон[484] похищал людей, похитил деву Диану[485], теперь низвержен в ад, ярится Плутон. Вытверди хорошо свои стихи, при поздравлении дяди Платона, я вдруг заключил, что имя в стихах поставлено не правильно и сказать будет не прилично; потому громко произнёс оба раза вместо Плутона — Платон. Тётка, молодая жена его, собой красавица, изумилась. Дядя догадался и только спросил меня весело: точно ли так написано? Я объяснил ему свою вежливость. Он велел мне дать лишнюю горсть орехов.
Шпаковский имел надобность по своим отношениям возвратиться в Переяславль. Положено и нас отправить туда с новаго года; в начале не надолго, для привычки к удалению. [...]
Шпаковский ходил в свой класс, мы дома твердили свои уроки, и часто большой двор наш оглашался над нами другими голосами. Шпаковский сам ходя учил наизусть свои уроки и многими днями нечто длинное латинское по тетради, что оканчивалось на purpura lanam[486] [...]
В сентябре же отвезли меня опять в Переяславль, прибрав последний раз в мундирную черкеску, поместили в нашем доме с прислугою и определили в семинарию. [...]
Монастырь, построенный в самом начале XVIII столетия, с большою колокольнею находился середь города, у рынка на пересечке главных улиц. В нём у боковых ворот на Киевскую дорогу семинария о шести классах: здание каменное, едва ли не древнее, лицеи слева к церкви и архиерейскому дому с садом, справа на келии монахов и жилья учителей. [...]
Ректор Варлаам определил ко мне домашним наставником философа[487] Ивана Яковскаго, лет 28, родом из Голтвы. Умный Яковский дал мне порядок времени и вёл меня всегда впереди класса. Начнут ли читать, заговорит учитель, — мне понятно, я знаю. Давались на дом письменный упражнения в переводах на латинский, краткий exercicium[488], больший occupatio[489], а за праздничные дни Рождества и воскресенья требовалась чистая переписка всех; чего они мне ни стоили, у меня всё было сделано, писано, подано. Чтение, уроки и ответы произносились очень громко, почти крикливо и силлабически, чем в детях пренебрегать сто раз не надобно; я и тем угождал. Получив крепкую грудь, лёгкий язык и звонкий голос, может быть я обязан тому обычаю, что и теперь имя пользуюсь: могу читать знакомую страницу одним духом далеко и внятно, читать часами неутомимо, и теперь, от кустов моего цветника на дворе, через пруд за реку, я даю мои приказы на сенокос. В классе перваго года моего давались особый одобрения, числом похвал на доске, Laudes[490], из них за вины положена такса учётов: кто не имел числа, те несли свои наказания. В зимние месяцы я выслужил 500 похвал; весною много было промотано. Не мало их пошло на большое колодезное колесо; только ступаешь в нём, оно под ногами вертится. Больше того, унесли мячи: эту игру я очень люблю. Оставалось похвал моих близ половины. Яковский нашёл приятный способ удержать и поднять меня в них. По век мой с благодарностию сохраняю память об нём. На другой год мне всё стало легче.
С учением соединилась обязанность по воскресеньям и праздникам собираться в монастырь на вечерню, заутреню и обедню. [...] Труднейшее было вставать к заутрени на колокол в три часа. Помогали тому по городу будильники. Много было пребедных учеников, живущих в бурсе[491], из которых младшие классами доставали себе и старшим пропитание, освещение и другия пособия, расходясь по вечерам на пение псалмов, а более духовных песней, под окнами и на дворах, с горшечками и мешечками. Большею и лучшею подачею, из сожаления иногда к своему одноклассному, получался в нём и верный будильник. Нашим был бедняк лет 16-ти, с приятным лицем и сладким голосом, сын дьячка, по селу мой сосед. Раза по три в неделю он приходил к нам и всегда получал добрую долю. Имя его было Харитон; имя приятное, но он жалобно разсказывал, что поп, сердясь на отца его, нарочно дал ему имя Харитона в насмешку, чтоб звали его по-народному Харько. Он был так умён и усерден, что мы его любили.
Кроме того, семинария имела ещё свои обычаи.
а) Как во всяком селе и городе сохранялась народная патриархальность, сойдясь или встретясь, старшему и старейшему поклониться снятием шапки, так и в семинарии, хотя все учащиеся равно назывались студентами, но, кроме общаго уважения к почётности, установлено было почтение к высшим через класс, перваго класса к третьему и выше, втораго к четвёртому и выше и пр. А учители были в благовении, как полубоги.
б) Праздничныя и именинныя поздравления от всех классов по одному ученику, с их учителями, приносимый архиерею и ректору, в стихах и речах латинских. В том и я имел свою долю.
в) Гулянье по имени рекреация, 1-го Мая, или в первый за тем ясный день. Для того префект[492] отбирал утром из меньших двух классов до полусотни малолетков, с старейшими для порядка, приводил их к архиерею в залу и уставлял стройно. За дакладом, при выходе владыки с важностию, все разом восклицали, как наставлены: Recreationem, pater, rogamus[493]. Он пройдёт и ласково пришутит отказом. Просьба повторяется. Он даёт благословение. Тогда все с своими запасами и играми выходят за город на гулянье по берегу Альты. Там составлялись свои общества по классам. Больше всего было дела мячам и кеглям в городках, также борьбе и беганью. Они имели своих героев, которым прочие дивились, как на Олимпийских играх; а в приюте поодаль, как всем нам быть на глазах, своим весельем пируют учители. Тем открывается начало летних забав. [...]
Пять лет я учился в Киеве. Академия Киевская на Подоле в Братском монастыре, двухэтажное, массивное здание, с широкими колонадами, в верхнем этаже с залою и церковью конгрегации. Попечением митрополита Самуила[494], кроме рядовых латинских семи классов, греческаго и европейскаго языков, она обогатилась новыми общими для средних и высших классов предметами.
а) Российской пиитике и риторике Ломоносова учил выписанный Троицкой семинарии богослов Снегирев, кажется Дмитрий. Женясь, был протоиереем[495] церкви царя Константина.
б) Французскому языку начально киевский гражданин Лапкевич, с резною латинскою надписью на воротах дому; ходил в богатой черкеске, с высокою тростию, и в праздник с дорогою саблею; учил gratis[496], за что портрет его поставлен был при входе в академическую конгрегацию[497]; а после него содержатель пансиона и частных уроков француз Брульон, который гордился искусством топографа и устроил магистрату солнечные часы на ротонде фонтана.
в) Немецкому языку иеромонах[498] из Галиции, потом прусской службы офицер, — имён их не помню.
г) Географии и истории твёрдоречивый булгар Анатолий, первой по Бишингу[499], второй по Фрейеру[500].
д) Вместо бывшей прежде арифметики учил всей чистой математике, по курсу Аничкова[501], с разделением на два класса, также практической геодезии и фортификации, муж достопамятный, родом из-под Нежина, Иван Фальковский, вероятно Хвальковский (по произношению «хв» как «ф») — при мне стал в монашестве Ириней. По изучении в Киевской академии, зашедши охотою своею, он учился в Лемберге и Песте, а возвратясь, поступил учителем в академию; имел тихий нрав и приятный дар слова. Это были мои учители, кроме классных — в латинской пиитике и риторике Афанасия Корчанова, и в философии Амвросия Келембета. Я много всем обязан; особенно же Анатолий в своих многовидных описаниях дал мне прелесть географии. Ириней любил мою привязанность к математике. После меня он прикладную математику с астрономией довёл до издания киевских календарей и присылал их ко мне. Впоследствии Амвросий, Афанасий и Ириней были эпархиальными епископами.
Прибавилось к тому новое лице, учитель по классам, годом ниже моего курса, иеромонах из Вуколы, Виктор Прокопович-Антонский, родом села Погребков из-за Нежина. Он был отлично заметен и уважаем; учения сильнаго, остроумен и сладкоречив, крепкаго здоровья и благовиден. Он и Ириней, в бытность Императрицы Екатерины в Киеве 1787 года, с января по май, говорили перед нею проповеди. Виктор имел в Москве двух братьев, перешедших университет, Михайла секретарём у генерал-губернатора Еропкина, и Антона секретарём у куратора университета Мелиссино; там же третьяго брата Ивана студентом. От них получал он издаваемый новости и завёл у себя маленькое собрание в воскресные дни по утрам для чтения, выбором четырёх подростков, куда принят и я на последние три года. Рано мы сходились к нему в братскую обитель, пили чай и поочерёдно читали то лучшия статьи периодических изданий листами при «Московских ведомостях», то переводы Фенелонова Телемака, Мармонтелевых «Инков»[502], и другое, где он вмешивал свои замечания. На первый звон к поздней обедне, он вёл нас с большими ключами в академическую библиотеку своего ведомства. Там остановились мы до конца обедни.
Библиотека, в огромности своей, накопленной от времён основателей многими взносами, помещалась прежде на монастырской трапезе; и от трапезы — важнейшею частик» погорела. Остаток ея, что спасено, разложен был по родам в большой церкви монастыря, на широких от стен до столпов хорах. Там мы имели свободу рыться в книгах, читать что могли и что позволено. Русския книги скоро перебраны. Фолианты Patres[503] были не по мне. Меня занимали в сборе древние классики разных изданий, «Physika mirabilis»[504], «Philosophus in utramque partem»[505], сокровище для диспутаций, Эразмова «Encomium Morial», похвала глупости, и подобный. Об иных сказано, что на них после будет время. Другия досадно были непонятны. Любопытство моё особенно возбуждала физико-математическая часть. Я знал простую алгебру, геометрию, синусы и тангенсы; но там, начиная от «Memoires de l’Academie» до Мушенброка[506], в линиях, фигурах и вычислениях, всё было только дивно.
Библиография наша по себе была весьма тесная. Нужный книги, словари и готовальни выписывались для нас академиею по вызову, для чего был при ней из Москвы комиссионер, который жил в монастыре и принадлежал к обществу учителей. В городских же лавках имел свою не малую торгаш, нашим прозвищем Гарбуз, который скупал и продавал битыя, старый и старинный книги. О достоинстве последних осведомлялся от учителей, которые и сами у него покупали. Но праздниками для нас были приезды итальянцев из Ломбардии, всякий год весною на месяц с большою лавкою латинских и французских книг, эстампов и учебнаго снадобья. При том, как рисованье было почти общим у всех, начиная правилами школы и восходя до фигур и ландшафтов, штрихом, тушью и красками: то нам приятно было в той же лавке получать себе образцы и материалы, а при выборе и других новостей наглядеться.
Отец мой ценил уже мою математику. Когда в летнюю вакацию дома нашли надобным сделать мне новые сюртук и голандцы[507], мать взяла меня на ближнюю, — версты три, Ильинскую ярмарку, в местечко Крапивну, с тем, чтоб и сукно мне по выбору купить; а портной уже призван был из Золотоноши. По нашим ярмаркам именитый был Нежинский краснорядец Мигрин. Он возил все товары, меха и материи, чай, сахар и вина, мёд, железо и бакалею. Сукна взяли мне, сколько Мигрин уверил, что на меня довольно будет. Но дома на другой день, по смочке[508] и размеру кройца, пана Остапа, оказалось его мало. Тогда отец, разсердясь, упрекнул меня: Какой ты дурак! Учишься математике, а не знаешь, сколько на тебя надобно сукна! Я отвечал ему из стереометрии, что я знаю только о правильных телах, цилиндрах, конусах. Отец улыбнулся, и того же дня аршин прикупили. Однако, бывая в Киеве и у Румянцева в Ташани, он столько нагляделся на планы и чертежи, на приёмы и объяснения, что несколько раз отзывался дома: чего бы хотеть больше, как если б сын мой был губернским архитектором или землемером.
Тогда не было ещё слышно той высокой истины, что благородному человеку, для себя, света и службы, не много науки надобно. Мы росли среди голов изученных не только в Киеве, но поимённо в Кёнигсберге, Лейпциге, Лейдене, Гёттингене, Оксфорде и Эдинбурге. Такие были глубоко чтимы; таких я застал ещё в 1803 году, седых голов десяток и больше, кого мне знать досталось. И так я весь был в моих уроках, и по обычаю с весны, для оживления их, часто ходил с товарищами на Крещатицкия горы, нависшия по Днепру вдоль Царского саду[...]
Между тем из академии каждый год один, два, три, кончившие курсы, выходили в Московский университет. Они списывались с товарищами, и носились об них завидный молвы. Давнейшие, посещая родину, являлись в Киеве, и мы видели славу их. Библиотека собою, о чём сказал я, подстрекала моё соревнование, в котором всё, однако, не терялась линия инженера. Я проговорил о том Виктору. Отец, бывая в Киеве, бывал у него. Советами положено: через год мне отправиться в Москву. [...]
Вступление моё в университет так произошло, что мне приятно было бы означить здесь эту часть жизни; но эта часть вся классическая, и подробности ея неуместны. Из всего сказать надобно, какое действие занимает в ней старейший профессор, статский советник Антон Алексеевич Барсов. Он грозен и суров был для меня в приёме, когда я после curriculum vitae[509] в данной теме изъявил предпочтение латинского языка греческому. Но я скоро на его курсе угодил ему в разборе и чтении речей Цицерона, в горацианских метрах[510], в тираде из «Киропедии» Ксенофонта[511] и в критике вариантов, так что он, из проходимых авторов, на Плауте[512] посадил меня близ себя. А нападая, по своему обычаю, на других за неисправности и упрекая иных получаемым жалованьем, раз он, переходом от тех, обратясь ко мне, спросил: почему я не на жалованье? На ответ же мой, что моя просьба о том далеко в очереди ваканций, он отозвался: nulla regula sine excepione — нет правила без исключения; и недели через две объявили мне из конференции, что я определён. Я принёс благодарность Барсову на дому; он занялся мною и дал позволение бывать у него на досуге. [...]
Как старший сын в семействе, которое оставалось на попечении дяди Ивана Наз., я чувствовал мой долг дать путь самому себе и четырём братьям. Кончив первый курс, я предался правам и политике, удержал только прикладную математику, по любви моей: знание побочное, но которое на веку часто было мне пригодно. [...]
До того, запасаясь на чаемую службу, я твердил себе народное право Ваттеля[513], народное положительное Мартенса[514], европейское публичное Мабли[515] с трактатами, и тешился мечтою, в какой лучше быть мне миссии. Теперь я налёг более на юридический объем от практики до антропологии, особенно на римское право, corpus juris civilis и в нём Пандекты[516]. Тогда зародилась у меня мысль составить подобно, из наших законов, сравнительное право, и действительно эту мысль я обработал после в «Опыте систематического свода законов», за который в августе 1802 года пожалован царскою наградою, и рукопись передана в Коммиссию законов, чрез начальника ея Петра Вас. Завадского, у котораго я имел но тому случаю большия объяснения о наших законах. [...]
Начальник Черноморского флота, вице-адмирал Николай Семёнович Мордвинов[517], представив на высочайшее утверждение новые проекты и штаты своего управления, чтоб иметь готовых на места людей, по обычаю тех времён, просил начальство университета дать ему трёх студентов на должности секретарей с хорошим чином, жалованьем и проездом. Требование внесено в конференцию. Я поступил в число назначенных. Но бывший из давних студентов секретарём у куратора Хераскова изъявил желание поступить в то число. Им заменили меня, как младшего. [...]
Почти вслед за весёлым сбором и отъездом Черноморской партии, профессор Пётр Ив. Страхов[518] объявил мне, что куратор Херасков желает меня видеть. Я отыскал дом его на Гороховом поле. Он, спросив меня, давно ли я в университете, предложил занять у него должность секретаря. Я объяснил ему, с круглым извинением, что без отца, как старший сын, по состоянию дому и семейства, я обязан служить в статской службе. — «А! произнёс он с трясущеюся головой; откуда вы родом?» «Я родился в Переяславле». Глаза у него прояснилось. «О! так мы земляки; и я там родился», — сказал он с видом больше удивления, нежели приятности, протянувши ко мне руки. Я низко поклонился. Мать его была Трубецких[519], что выразил он в поэме «Возрождённый Владимир». «Есть там у вас имение?» «Есть в Переяславском и Золотоношском уездах». Наконец, с важностию куратора, он сказал мне, тряся головою: «Я доволен, молодой человек, что узнал вас; желаю вам счастливой службы». Раза два случилось потом, что, завидев меня на выходе от обедни, повторял он: «Здравствуй, земляк!» [...]
Университет имел трёх попечителей с именем кураторов. Первым был основатель его в век императрицы Елисаветы, знаменитый предстатель муз, действительный обер-камергер, Иван Иванович Шувалов. Он, в четыре царствования, кроме долговременной отлучки в чужие края (о чём скажу после) как начальник и проректор университета, имел пребывание в Петербурге. Имя его в университете с благоговением произносилось. Другие два были налицо в Москве. Старейшим оставался тайный советник Иван Иванович Мелисино, и прибавлен вышеупомянутый, действительный статский советник Михайло Матвеевич Херасков; известен как поэт. Управление более относилось к Мелисино. Он был добр и любил науки. В собраниях, раздавая шпаги, дипломы, награды или когда мы приходили к нему поздравительным обществом, он своё приветствие заключал всегда латинскою сейтенциею. Как помню одну: «Quiproficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, guam proficit»[520]; и другую: «Vis consilii expers mole ruit sua». Ноr[521]. Дом его был на Петровке[522] за театром. Он умер к весне или осенью 1796 года. [...]
В последние годы курсов я обращал свободные дни и часы на особый занятия дома, вмещая в них долю на переводы книг, иногда на журнальный статьи в прозе, и подчас охоты стихами; получал доходы, не далеко вдаваясь в них, скопил библиотеку, имел в обществе почётный и приятныя знакомства, не развлекаясь на многие домы. На досугах любил беседовать у избранных профессоров, каковы для меня были начально: латинской элоквенции, упомянутый А. А. Барсов; позднее потом, прикладной математики, Михайло Ив. Панкевич[523]; римских прав и древностей Фёдор Франц. Баузе; общих прав и политики Матвей Богданович Шаден. Первый ввёл меня в филологию и критику. Он уважал формы малороссийскаго языка, завидовал употреблению в нём «бо» и многих лаконизмов. Второй был у меня упорный философ пространства. Третий, с охотою антиквария, обратил моё внимание в обширности на ingenium practicum et applicativum[524]. У четвёртаго решены многие публичные вопросы и система долговечности. У обоих последних я получил навык латинской и немецкой речи. Наконец я изготовлялся отправиться в Петербург искать места, для чего имел посредников.
В ноябре того года со вступлением на престол императора Павла произведены в лицах и вещах великия перемены и новости. [...]
Директор университета Павел Ив. Фонвизин поступил сенатором. Место его занял вызванный из жизни в деревне Иван Петров. Тургенев[525]. На место Мелисино куратором университета определён тайный советник и камергер князь Фёдор Николаевич Голицын, племянник Шувалова по сестре. В декабре новый куратор приехал в Москву и занял дом на Покровке. Недели за две до праздника Рождества, в день воскресный, мы большим числом были ему представлены, по факультетам. В день конференции он имел в ней первое присутствие, осматривал университет, обошёл по всем заведениям. А в первый день праздника мы опять, только меньшим числом, были у него с поздравлением. Обходя всех приветливо, нашёл он, что сказать каждому дельно.
Между тем, как я располагал себе, когда у кого из моих знакомых проводить дни и вечера святок, на другой день утром я получил записку от содержателя университетской типографии Клауди[526], с которым уже был знаком по заказному переводу, просить к себе в контору для надобности. Велось тогда, на новый год, первый нумер издаваемых при университете Московских Ведомостей, в заглавие, начать стихами. Тот, кто обещал ему стихи на 1797 год, занемог. Время готовить первый нумер, а стихов нет; просит у меня. Я отказался не Моим делом, коротким временем, связями на праздник, стыдом пошлости. Но убеждения и добрая цена заставили потереть лоб. Я согласился на честном условии, что моё имя останется неизвестным, и весь тот день прогулял, в ожидании, где мне встретится моя муза. [...]
Новый генерал-прокурор князь Куракин[527] отлично уважал университет. Говорили, что он и учился из него несколько. При том он почитался в родствах с племянником Шувалова. В январе он отнёсся в университет доставить ому в канцелярию двоих, знающих правоведение. Конференция избрала меня и другаго товарища [...]
В ранних годах славы Шувалова, при императрице Елисавете, лучшее место занимает Ломоносов. С ним он составлял проект и устав Московского университета. Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденскаго, с несовместными вольностями. Судили и о том, у Красных ли ворот, к концу города, поместить его, или на средине, как и принято, у Воскресенских ворот; содержать ли гимназию при нём или учредить отдельно; предпочтено первое, обое по своим причинам и проч. [...]
Ф. П. ЛУБЯНОВСКИЙ ВОСПОМИНАНИЯ[528]
...Отец учил меня русской и латинской грамоте, сам большой латинист; по десятому же году моего возраста отвёз меня в Харьков, где в Коллегиуме[529] по экзамену я поступил в 3-й класс, чем отец мой, помню, был очень доволен. Учился я, говорили, не без успеха, с учителями и товарищами болтал по-латыне, сочинял хрии[530] и речи; пристал потом к отцу, отправь он меня в Москву в университет.
Превосходное учебное заведение был Харьковский коллегиум, невзирая на все недостатки его в сравнении с нынешним образованием семинарий и вообще всех духовных училищ. В моё время управлял им префект Шванский, муж равно почтенный по жизни и по учёности. Был он особенно счастлив в выборе учителей: они имели редкий дар развивать в молодых людях здравый смысл и внушать им охоту, страсть к науке, не умирающую, когда возбудится. С таким домашним учителем, и вышедши из школы, чему не научишься! Предметов учения было не много, но преподавались ревностно и основательно. Латинский язык приучал к простому, ясному и благозвучному изложению мыслей. Все мы были поэты: без поэзии, без одушевления ума и сердца, проповедь и в храме божием будет мёртвая буква. Семинарии нынче богаты, а в моё время Харьковский коллегиум помещался в большом каменном здании с трубою: так назывался длинный и широкий во втором этаже корридор, по обеим сторонам котораго огромный аудитории без печей были не что иное, как сараи, где зимою от стужи не только руки и ноги, по и мысли замерзали. На поправки строений, на содержание до 150 студентов в бурсе и на жалованье всем учителям от инфимы до богословия[531] 60 р. был высший оклад; Коллегиум получал не более 1500 р. в год. Но ни холод, ни голод не охлаждали охоты к учению; привыкали мы, сверх того, к нужде и приучались довольствоваться малым, в каком ни были бы состоянии в последствии времени. [...]
Отец и мать не скоро решились отпустить меня в Москву одинокаго. Не имея однако ж в виду ничего для меня лучшаго, помолясь, благословили и отдали меня промыслу божиему. Не скоро потом и я доехал до Москвы, не к началу курсов, а только уже в конце декабря. Немедленно просил я начальство позволить мне с новаго, 1793 года слушать професорския лекции. По правилам, сказано мне, без предварительного экзамена это не допускается.
В назначенный впоследствии для экзамена день введён я в обширную конференц-залу с троном и портретом императрицы под балдахином. Профессоры, сидя за столом, рассуждали. Ректор, подозвав меня к себе, спросил, чему и где я учился, и благосклонно затем предоставил мне написать на латинском языке, что сам придумаю, о необходимости и пользе учения. «Изъясните нам вкратце, говорил он мне, ваши мысли об этом важном предмете». Профессор Страхов, заметив, вероятно, что я струсил, сказал мне ласковое слово и указал комнату, где я, заключась от всего мира, должен был пройти сквозь огонь испытания. Собрался я с духом, написал, что мог и сумел, и предстал перед ареопаг[532]. Ректор мне же поручил прочитать вслух и внятно написанное. Слушали со вниманием. Ректор, обратясь к собранию с довольным лицем, громко сказал optime[533], и никий же осуди. Помню, как сердце моё в тот момент уж подлинно взыграло радостию. Единогласно положено выдать мне вид на профессорские лекции. Дверь храма наук мне отверзлась. С трудом, невдалеке от университета, нашёл я себе приют весьма некрасный, не совсем и безопасный от ветхой на нём крыши, но по моим тогда средствам: что отец мог назначить мне на содержание в год, того и на полгода не доставало.
Спустя месяца три в этот обветшалый домишко зашёл неизвестный мне с вида боярин, и когда, на спрос его о студенте Лубяновском, я вышел к нему из-за угла своего: «Познакомимся», сказал он мне, благосклонно взяв меня за руку. Это был Иван Владимирович Лопухин[534]. «Пишет мне о тебе старый друг мой, Захарий Яковлевич Карнеев (родный брат моей матери, мне дядя, тогда орловский вице-губернатор, впоследствии минский гражданский губернатор, сенатор, член Государственного Совета). Я хотел видеть, где и как ты живёшь: не просторно, оттого и воздух не благорастворённый. День нынче воскресный, ученья нет, погуляем». Пришли мы в дом к профессору Чеботарёву[535]. Представив меня ему и супруге его: «Это, сказал он им, тот молодой человек, о котором я говорил вам, примите его в свою семью». Мне же сказал, что у Харитона Андреевича и Софии Ивановны я буду как дома, ни в чём не буду нуждаться, докладывал бы им о своих надобностях. Заключил, обратясь ко мне, этими словами: «Помни бога, молись не только языком, но и сердцем, старайся успевать в науках, веди себя скромно. Мы будем видеться». Удивлённый такою простотою благотворнаго великодушия и, в неожиданном изменении тогдашняго моего быта видя явный знак небесного милосердного промысла и о мне ничтожном юноше, слезами только мог я выразить волнение сердца.
На другой же день переселился я к Харитону Андреевичу, и с того же дня Иван Владимирович не только во всё время ученья моего в Московском университете, но и в начале службы моей был мне, мало скажу, другим отцом: будь я сын его, не был бы он и тогда мне лучшим отцом. Он оставил по себе «Записки», и кто не читал их, кто не видал в них, как в зеркале, мужа глубокаго разума, и возвышенной в истинном духе евангельском добродетели?
Курсы далеко ушли в последние четыре месяца истекшаго года; предлежало мне и догнать их и не отставать от них. Большое пособие оказали мне профессора и товарищи; не щадил я и сам себя; жажда во всём успеть снедала меня. К тому же русская словесность была в тот год на очереди к получению золотой и двух серебряных медалий; было до 20-ти соискателей, в том числе и я; и мне, разумеется, не хотелось ударить лицем в грязь. В срок подали мы свои диссертации профессору красноноречия, каждый за своею печатью; так они внесены и в Конференцию, где разсматривались в общем собрании профессоров. Моя по оценке заняла второе место — и первая серебряная медаль мне предназначена.
В день торжественного университетскаго акта собрание стариков в голубых и красных лентах[536], также и дам, было не малочисленно; говорены речи, одна на латинском, другая на русском языке; читана длинная ода; была и музыка. Затем куратор, знаменитый М. М. Херасков, вышел и стал у подножия императорского трона, и когда инспектор провозгласил имена новопроизведённых студентов, мы вышли на сцену. Куратор сказал нам следующее приветствие: «е. и. в., премудрая наша монархиня, в воздаяние за ваше прилежание и успехи в науках, всемилостивейше изволит жаловать вам офицерские шпаги», — и каждому из нас вручил стальную шпагу. Провозглашены затем таким же порядком имена трёх состязателей медалей, и куратор от её же и. в. вручил нам медали. Поднялись тогда голубые, красные ленты, дамы и все любители просвещения — сонмом к нам, увенчанным, с поздравлением нас с монаршею милостию; от нас все обращались к куратору, ректору и инспектору с изявлением признательности за труды, ими подъятые, в распространении просвещения в империи.
На этой, казалось, невинной выставке я в первый раз почувствовал в себе движение какого-то до той поры бездыханного червя (впоследствии с летами и он рос) целого насекомаго, преувертливаго и прелукаваго, с которым долго было мне много хлопот и работы нередко до поту, даже до слёз; а тогда щекотанье этого червяка — самолюбия так мне было по сердцу. Худое и не худое, видно, замертво спало во мне до будильника, до случая.
Во всё время, что я пробыл в университете, постоянно думал о том, не потерять бы мне времени без полезного приобретения. Грешно было бы впрочем и не занять, много ли, мало ли, от таких профессоров, каковы были Шаден, Баузе, Виганд, Мельман, Чеботарёв, Страхов. Если позволено сослаться на пословицу — из кожи лезли, чтобы всё то, что сами приобрели неутомимым трудом, передать нам с логическою ясностью, в систематическом порядке, с обдуманным суждением. Что в иностранных университетах, то и в Московском преподавалось; студенты выбирали себе предметы и профессоров по совету и по желанию; изредка переходили из одного в другой факультет. В том числе и я, изучая со тщанием и рвением предметы историко-филологического факультета, отдавал по нескольку послеобеденных часов в неделю профессорам химии и анатомии, в надежде получить хотя некоторое понятие от перваго — о превращении вещества из вида в лучший вид, по сказанному, что тварь покорилась суете неволею, в уповании освободиться от работы нетления; от второго — о чудном устроении тела человека для временной, преходящей жизни его на земле. Эти послеобеденные часы не совсем были потеряны; но не было от них и ожидаемого приобретения.
Мельман, любимый, говорили, ученик Канта[537], был нашим профессором эстетики. Мужчина лет под сорок, всегда один, словно в келье, всегда погруженный в размышления, он слыл в литературном кружке бесстрастным отшельником от мира, влюблённым по уши в безжалостную «Критику», дщерь философа Канта. Был он однако же с отличными способностями и с даром слова — Цицерон в латинской словесности. Познакомив нас с Горацием, Виргилием, Люкрецием, Цицероном, Тацитом, он удачно развивал их мысли нравственный и политический, превозносил их ум и с приятным велеречием водил нас от одного к другому из них, как по цветистому лугу от одного прекрасного к другому цветку ещё превосходнейшему, присваивая им, иногда казалось нам, и такие идеи, о которых те господа не думали и не гадали. Представлялось нам также, что он не всегда и высказывал нам всё то, что было у него на сердце. Несмотря на то, мы слушали его с удовольствием. Неожиданно он перестал являться на лекции. Через несколько дней топотом заговорили, что Мельмана велено отправить к митрополиту Платону; потом, что он выслан и по секрету отвезён за границу; наконец, что, не доезжая до Кёнигсберга, он застрелился.
Начав учиться в семинарии и окончив, как говорится, науки в университете, я нередко сравнивал себя с собою же с концев промежутка между семинариею и университетом. Из семинарии вышел я с благоговением к Евангелию и учению церкви, с покорностью начальству и не от страха, а по чувству необходимости в руководстве, с привычкою к нужде, с равною охотою к учению и к исполнению обязанности, в чём бы она ни состояла. В университете семинарское семя, не скажу, чтобы совсем засохло во мне; но по мере развития во мне круга понятий странный мечты вкрадывались в голову. Составилась во мне прежде всего забавная самонадеянность: не только я умел бы сам везде ходить без помочей, но и других водить. Семинарского учения в моё время была решительно одна цель, приготовление молодых людей к духовному званию. Меня к тому не готовили, но я шёл со всеми по одной и той же тропе; другой в том месте тогда ещё не было. В университете никто из нас, за исключением медицинского факультета, не имел определительной цели, хотя и то правда — не знаешь, куда бог поведёт. Все мы просвещались, приготовляли себя, думали и не на шутку, — к государственной службе, и чем более хвалили нас за прилежание и успехи, тем более мечтали мы о себе. Смеёшься теперь над этими юношескими мечтаниями, а они не всегда без последствий, не ветром и наносятся. Много ли молодых людей с здравым, холодным и разборчивым смыслом, способных не вдруг поддаваться первому впечатлению от того, что видят и слышат? В жар бросало не одного меня, когда, бывало, наши профессора — мастера на это немцы, — вызывая тени греков и римлян, с силою и властию, славословили их высокую мудрость, их несравненный, в бессмертный пример человечеству, доблести, сами приходили и нас приводили в восторг, от чего в воображении нашем зарождались пустыя надежды, безрассудный притязания, а сердце между тем оставалось без пищи. Так один из моих товарищей студентов уведомлял меня в декабрь 1796 г. о царской милости университету: по следовало высочайшее повеление пригласить на службу 12 из казённых студентов и немедленно прислать их в Петербург. Вызвались отличнейшие по успехам в науках и поведению, в том числе и корреспондент мой, по письму котораго приглашение на службу но высочайшему повелению обещало им горы золотыя. Приехав в столицу, я отыскал шестерых из них, — где же? в холодных, сырых и тёмных подвалах огромного здания: то была канцелярия С.-Петербургскаго тогда коменданта барона А. А. Аракчеева[538]. Унылые, бледные, в унтер-офицерских доспехах, они переписывали набело формулярные списки нижних воинских чинов, и не забыть мне отчаяния, с которым они, не смея оторваться от дела, под надзором стараго беспощадного капрала, томными глазами высказывали всё, что было у них на сердце; недолго и пожили на белом свете.
В это время, 1793—1796, Московский университет, ещё до пятидесятилетия своей жизни, был уже в славе, и справедливо; но и некоторые недостатки его не укрывались. По себе сужу, а чай не согрешил бы, сказав то же и о сотоварищах: между тем, как я, приготовляя себя ко всему, порядочно ни к чему себя не подготовил; изучал историю греков, римлян, других народов, их законы, религию, нравы, внутренние учреждения, междоусобные несогласия, раздоры, войны, увлекался рассказом, как и от чего эти колоссы и потрясались и падали; восхищался Виргилием, Горацием, Тацитом, переходил от одного к другому возрасту мудрования ума человеческого, скитался таким образом, может быть и не совсем тщетно, всё же за рубежом, в чужих краях; с родным отечественным краем, и не только с русскою историею, но с русскою землёю, с русскими реками и морями был я знаком так мало, поверхностно, что если бы велели нам тогда описать битву русских с татарами на Куликовом поле, я охотнее согласился бы описать Пуническия войны[539]. Кафедра русской истории тогда ожидала ещё профессора. Но русскому законодательству мы были на руках г. Горюшкина[540], славившагося тогда в Москве всеобъемлющим законоведением, разумом в сочинении прошений и практическим знанием применять закон к данному случаю. Под руководством его можно было выучиться писать прошения на высочайшее имя по изданной форме и по пунктам. Если дозволено назвать это недостатками, то нельзя не принять в уважение, что тогда не было ещё ни «Русской истории» Карамзина, ни «Полного собрания», ни «Свода законов»[541], ни лицеев, ни училища правоведения.
Д. И. ФОНВИ3ИН ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ[542]
Вступление
Беззакония моя аз познах
и греха моего не покрых.
Славный французский писатель Жан-Жак Руссо[543] издал в свет «Признания», в коих открывает он все дела и помышления свои от самого младенчества, — словом, написал свою исповедь и думает, что сей книги его как не было примера, так не будет и подражателей.
Я хочу, говорит Руссо, показать человека во всей истине природы, изобразив одного себя. Вот какой подвиг имел Руссо в своих признаниях.
Но я, приближаясь к пятидесяти летам жизни моей, прешед, следственно, половину жизненного поприща и одержим будучи трудною болезнию, нахожу, что едва ли остаётся мне время на покаяние, и для того да не будет в признаниях моих никакого другого подвига, кроме раскаяния христианского: чистосердечно открою тайны сердца моего и беззакония моя аз возвещу. Нет намерения моего ни оправдывать себя, ниже лукавыми словами прикрывать развращение своё: господи! не уклони сердца моего в словеси лукавствия и сохрани во мне любовь к истине, юже вселил ecu в душу мою.
Но как апостол глаголет: исповедуйте убо друг другу согрешения, разумеется ваши, а не чужие, то я почитаю за долг не открывать имени тех, кои были орудием греха и порока моего, ниже имён тех, кои приводили меня в развращение; напротив того, со слезами благодарности воспомяну имена тех, кои мне благодетельствовали, кои сохранили ко мне долговременное дружество, кои имели в болезнь мою обо мне сострадание и кои, наконец, наставлением и советом своим совращали меня с пути грешника и ставили на путь праведен.
Не утаивая ничего из содеянного мною зла, скажу без прибавки и всё то, что сделал я, следуя гласу совести. И если между множеством согрешении случилось мне в жизни сотворить нечто благое, то признаю и исповедую, что сие не от меня происходило, но от самого бога, вся благая нам дарующего: тому единому восписую благие дела мои, ему единому за них благодарю и его молю, да мя в сём благом утвердит до конца жизни.
Сие испытание моей совести разделю я на четыре книги. Первая содержать будет моё младенчество, вторая юношество, третья совершенный возраст и четвёртая приближающуюся старость.
Прежде нежели начну я моё повествование, необходимо надобно описать свойства тех моих ближних, к коим я в течение жизни моей имел более отношения. Да не причтётся мне в пристрастие, ежели я, говоря правду, скажу нечто похвальное о ближних моих, ибо я в справедливости моей ссылаюсь на тех, кои их знали.
Отец мой был человек большого здравого рассудка, но не имел случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя учением. По крайней мере читал он все русские книги, из коих любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг. Он был человек добродетельный и истинный христианин, любил правду и так не терпел лжи, что всегда краснел, когда кто лгать при нём не устыжался. В передних тогдашних знатных вельмож никто его не видывал, но он не пропускал ни одного праздника, чтоб не быть с почтением у своих начальников. Ненавидел лихоимства и, быв в таких местах, где люди наживаются, никаких никогда подарков не принимал. «Государь мой! — говаривал он приносителю. — Сахарная голова не есть резон для обвинения вашего соперника: извольте её отнести назад, а принесите законное доказательство вашего права». После сего более уже не разговаривал с приносителем.
Отец мой жил с лишком восемьдесят лет. Причиною сему было воздержное христианское житие. Он горячих напитков не пил, пищу употреблял здоровую, но не объедался. Был женат дважды и во время супружества своего никакой другой женщины, кроме жён своих, не знал. За картами ни одной ночи не просиживал, и, словом, никакой страсти, возмущающей человеческое спокойствие, он не чувствовал. О, если бы дети его были ему подобны в тех качествах, кои составляли главные души его свойства и кои в нынешнем обращении света едва ли сохранить можно!
Отец мой был характера весьма вспыльчивого, но не злопамятного; с людьми своими обходился с кротостию, но, невзирая на сие, в доме нашем дурных людей не было. Сие доказывает, что побои не есть средство к исправлению люден. Невзирая на свою вспыльчивость, я не слыхал, чтоб он с кем-нибудь поссорился; а вызов на дуэль считал он делом противу совести. «Мы живём под законами, — говаривал он, — и стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться самим на кулаках. Ибо шпаги и кулаки суть одно. И вызов на дуэль есть не что иное, как действие буйственной молодости». Наконец, должен я сказать к чести отца моего, что он, имея не более пятисот душ, живучи в обществе с хорошими дворянами, воспитывая восьмерых детей, умел жить и умереть без долга. Сие искусство в нынешнем обращении света едва ли кому известно. По крайней мере нам, детям его, кажется непостижимо. Но ничто не доказывает так великодушного чувствования отца моего, как поступок его с родным братом его. Сей последний вошёл в долги, по состоянию своему неоплатные. Не было уже никакой надежды к извлечению его из погибели. Отец мой был тогда в цветущей своей юности. Одна вдова, старуха близ семидесяти лет, влюбилася в него и обещала, ежели на ней женится, искупить имением своим брата его. Отец мой, но единому подвигу братской любви, не поколебался жертвовать ему собою: женился на той старухе, будучи сам осьмнадцати лет. Она жила с ним ещё двенадцать лет. И отец мой старался об успокоении её старости, как должно христианину. Надлежит признаться, что в наш век не встречаются уже такие примеры братолюбия, чтоб молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, благосостоянию своего брата. Вторая супруга отца моего, а моя мать, имела разум тонкий и душевными очами видела далеко. Сердце её было сострадательно и никакой злобы в себе не вмещало: жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная. Можно сказать, что дом моих родителей был тот, от которого за добродетели их благодать божия никогда не отнималась. В сём доме проведено было моё младенчество, которого подробности в следующей книге читатель найдёт.
Книга первая
Господи! даждь ми помысл
исповедания грехов моих.
Не естественно человеку помнить первое своё младенчество. Я никак не знаю себя до шести лет возраста. Но без сомнения имел и я в себе то зло, которое у других младенцев видать случается, то есть: злобу, нетерпение, любостяжание и притворство, — словом, начатки почти всех пороков, кои уже окореняются и возрастают от воспитания и от примеров. Не знаю, для чего отнимали меня от кормилицы уже поздно. На третьем году случилось со мною сие лишение, которое, как сказывал мне сам отец мой, переносил я с ужасным нетерпением и тоскою. Однажды он, подошед ко мне, спросил меня: «Грустно тебе, друг мой?» — «А так-то грустно, батюшка, — отвечал я ему, затрепетав от злобы, — что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю». Сие сильное выражение скорби показывало уже, что я чувствовал сильнее обыкновенного младенца. В четыре года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного.
Теперь пришло мне на мысль обстоятельство, случившееся во время моего младенчества, о котором я никогда никому не сказывал и которое здесь упомяну для того, что можно из него вывести некоторое правило, полезное для детского воспитания. Родителей моих нередко посещала родная сестра отца моего, женщина кроткая, и нас, племянников своих, любила искренно. Она часто езжала в дом одного славного тогдашнего карточного игрока и всегда от него привозила к нам несколько игор карт, коими нас дарила. Я не могу изъяснить, сколько я пристрастился к картам с красными задками и бывал вне себя от радости, когда такие карты мне доставались; но сие случалось редко. Сколько хитростей, обманов и лукавства употреблял мой младенческий умишка, чтоб на делу доставались мне карты с красными задками! Но как хитрости мои редко удавались, то пришёл я в уныние и для получения желаемого решился испытать другой способ и чистосердечно открыться самой тётушке о моей печали; но признаюсь, что и тут употребил я некоторую хитрость; а именно: нашедшись с ней наедине, составил я лицо такое печальное и такое простодушное, что тётушка спросила меня сама: «О чём ты тужишь, друг мой?» На сей вопрос признался я в пристрастии моём и, повинуясь, что я их всех обманывал, просил, чтоб вперёд на делу доставались мне любимые карты. «Ты хорошо сделал, друг мой, что мне искренно открылся, — сказала она, — я для тебя привозить буду всегда особливо игру с красными задками, кои в делёж входить не будут». Я в восторг пришёл от сего отзыва и тогда ж почувствовал, что идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями. Но должно признаться, что в течение жизни я не всегда держался сего правила, ибо случалися со мною такие обстоятельства, в которых должен был я или погибать, или приняться за лукавство; не скрою, однако ж, и того, что во время младенчества моего, имея отца благоразумного и справедливого, удавалось мне получать желаемое чаще, следуя чистосердечию, нежели прибегая к лукавству. И я почти внутренно уверен, что воспитатели, ободряя младенцев избирать во всём прямой путь, предуспеют тем гораздо лучше вкоренить в них привязанность к истине и приучить к чистосердечию, нежели оставляя без примечания малейшие их деяния, в коих душевные их свойства обнаруживаться могут. Поистине, не могу я словами изъяснить, сколь сильны пристрастия и самого младенчества. Я могу сказать, что на картах с красными задками голова моя повернулась. Получение их составляло некоторым образом моё блаженство. И в самом Риме едва ли делали мне такое удовольствие арабески Рафаэлевы[544], как тогда карты с красными задками. По крайней море, смотря на первое, не чувствовал я того наслаждения, какое ощущал от любимых моих карт, будучи младенцем.
Чувствительность моя была беспримерна. Однажды отец мой, собрав всех своих младенцев, стал рассказывать нам историю Иосифа Прекрасного[545]. В рассказывании его не было никакого украшения; но как повесть сама собою есть весьма трогательная, то весьма скоро навернулись слёзы на глаза мои; потом начал я рыдать неутешно. Иосиф, проданный своими братьями, растерзал моё сердце, и я, не могши остановить рыдания моего, оробел, думая, что слёзы мои почтены будут знаком моей глупости. Отец мой спросил меня, о чём я так рыдаю. «У меня разболелся зуб», — отвечал я. Итак, отвели меня в мою комнату и начали лечить здоровый мой зуб. «Батюшка, — говорил я, — я всклепал на себя зубную болезнь; а плакал я оттого, что мне жаль стало бедного Иосифа». Отец мой похвалил мою чувствительность и хотел знать, для чего я тотчас не сказал ему правду. «Я постыдился, — отвечал я, — да и побоялся, чтобы вы не перестали рассказывать истории». — «Я её, конечно, доскажу тебе», — говорил отец мой. И действительно, чрез несколько дней он сдержал своё слово и видел новый опыт моей чувствительности.
Странно, что сия повесть, тронувшая столько моё младенчество, послужила мне самому к извлечению слёз у людей чувствительных. Ибо я знаю многих, кои, читая «Иосифа», мною переведённого, проливали слёзы.
Не утаю и того, что приезжавший из Дмитриевской нашей деревни мужик Фёдор Суратов сказывал нам сказки и так настращал меня мертвецами и темнотою, что я до сих пор неохотно один остаюсь в потёмках. А к мертвецам привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезных.
Родители мои были люди набожные; но как в младенчестве нашем не будили нас к заутреням, то в каждый церковный праздник отправляемо было в доме всенощное служение, равно как на первой и последней неделях великого поста дома же моление отправлялось. Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов заставлял меня читать[546]. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно. Я должен благодарить родителя моего за то, что он весьма примечал моё чтение, и бывало, когда я стану читать бегло: «Перестань молоть, — кричал он мне, — или ты думаешь, что богу приятно твоё бормотанье?» Сего не довольно: отец мой, примечая из читанного мною те места, коих, казалось ему, читая, я не разумел, принимал на себя труд изъяснять мне оные; словом, попечения его о моём научении были безмерны. Он, не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в университет, как скоро он учреждён стал.
Остаётся мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чём оно состояло: учитель наш пришёл в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивлённый сею странностию, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударя по столу рукою, — извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот каков был экзамен наш! О вы, родители, восхищающиеся часто чтением газет, видя в них имена детей ваших, получивших за прилежность свою прейсы[547], послушайте, за что я медаль получил. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришёл на экзамен с полпым партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течёт Волга? В Чёрное море, — отвечал он; спросили о том же другого моего товарища; в Белое, — отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; не знаю, — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Я, конечно, сказать правду, заслужил бы её из класса практического нравоучения, но отнюдь не из географического.
Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нём, обучась по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нём научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нём получил я вкус к словесным наукам.
Склонность моя к писанию являлась ещё в младенчестве, и я, упражняясь в переводах на российский язык, достиг до юношеского возраста. Глас совести велит мне сказать, что до сего дня от юности моея мнози борят мя страсти.
А какие они были, то возвестит книга вторая.
Книга вторая
Господи! отврати лице твоё
от грех моих.
В университете был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Голберговы басни[548]; за труды обещал чужестранных книг на пятьдесят рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили моё воображение и возмутили душу мою. И кто знает, но от сего ли времени началась скапливаться та болезнь, которою я столько лет стражду? О вы, коих звание обязывает надзирать над поведением молодых людей, не допускайте развращаться их воображению, если не хотите их погибели! Узнав в теории всё то, что мне знать было ещё рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привесть в практику. К сему показалась мне годною одна девушка, о которой можно сказать: толста, толста! проста, проста! Она имела мать, которую ближние и дальние, — словом, целая Москва признала и огласила набитою дурою. Я привязался к ней, и сей привязанности была причиною одна разность полов: ибо в другое влюбиться было не во что. Умом была она в матушку; я начал к ней ездить, казал ей книги мои, изъяснял эстампы, и она в теории получила равное со мною просвещение. Желал бы я преподавать ей и физические эксперименты, но не было удобности: ибо двери в доме матушки её, будучи сделаны национальными художниками, ни одна не только не затворялась, но и не притворялась. Я пользовался маленькими вольностями, но как она мне уже надоела, то часто вызывали мы к нам матушку её от скуки для поговорки, которая, признаю грех мой, послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли; по крайней мере из всего моего приключения родилась роль Бригадирши. Всё сие повествование доказывает, что я тогда не имел истинного понятия ни о тяжести греха, ни об истинной чести, ни о добром поведении. Заводя порочную связь, не представлял я себе никаких следствий беззаконного моего начинания; но признаюсь, что и тогда совесть моя говорила мне, что делаю дурно. Остеречь меня было некому, и вступление моё в юношеский возраст было, так сказать, вступление в пороки.
Теперь настало время сказать нечто о моём характере и познакомить читателя с умом и сердцем. Я наследовал от отца моего как вспыльчивость, так и непамятозлобие; от матери моей головную боль, которою она во всю жизнь страдала и которая, промучив меня всё время моего младенчества, юношества и большую часть совершенных лет, лишила меня многих способов к счастию; например, в университете пропускал я многие важные лекции за головною болью; в юношестве головная боль мешала мне часто показать мою исправность в отправлении службы, чрез что и заслужил я от одного начальника имя ленивца. Но со всем тем признаюсь, что головная боль послужила мне и к доброму, а именно не допустила меня сделаться пьяницею, к чему имел я великий случай и склонность. Природа дала мне ум острый, но не дала мне здравого рассудка. Весьма рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по Москве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою; всё же те, коих острые слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезным и в обществе приятным. Видя, что везде принимают меня за умного человека, заботился я мало о том, что разум мой похваляется на счёт сердца, и я прежде нажил неприятелей, нежели друзей. Молодые люди! не думайте, чтоб острые слова ваши составили вашу истинную славу; остановите дерзость ума вашего и знайте, что похвала, вам приписываемая, есть для вас сущая отрава; а особливо, если чувствуете склонность к сатире, укрощайте её всеми силами вашими: ибо и вы, без сомнения, подвержены будете одинаковой судьбе со мною. Меня стали скоро бояться, потом ненавидеть; и я, вместо того чтоб привлечь к себе людей, отгонял их от себя и словами и пером. Сочинения мои были острые ругательства: много было в них сатирической соли, но рассудка, так сказать, ни капли.
Сердце моё, не похвалясь скажу, предоброе. Я ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость, и для того ни перед кем так не трусил, как перед теми, кои от меня зависели и кои отмстить мне были не в состоянии. Я, может быть, истребил бы и склонность мою к сатире, если б один из соучеников моих, упражнявшийся в стихах, мне в том не воспрепятствовал.
Я прослыл великим критиком, и мой соученик весьма боялся, чтобы я не стал смеяться стихам его; а дабы вернее иметь меня на своей стороне, то стал он хвалить мои стихи; каждая строка его восхищала; но как тогда рассудок во мне не действовал, то я со всею моею остротою не мог проникнуть, для чего он так меня хвалил, и думал, что я похвалу его заслуживал. Так-то вертят головы молодым писателям!
Сей мой соученик был знаком со мною, достигши уже и в совершенный возраст. Он был честный человек, благородных качеств. Заблуждение его состояло в том, что будто не льстя не можно быть учтиву. Он умер с тем, что я родился быть великим писателем; а я с тем жить остался, что ему в этом не верил и не верю.
В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу; латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо.
В сие время тогдашний наш директор[549] вздумал ехать в Петербург и везти с собою несколько учеников для показания основателю университета[550] плодов сего училища. Я не знаю, каким образом попал я и брат мой[551] в сие число избранных учеников. Директор со своею супругою и человек десять нас, малолетных, отправились в Петербург зимою. Сие путешествие было для меня первое и, следственно, трудное, так, как и для всех моих товарищей; но благодарность обязывает меня к признанию, что тягость нашу облегчало весьма милостивое внимание начальника. Он и супруга его имели смотрение за нами, как за детьми своими; и мы с братом, приехав в Петербург, стали в доме родного дяди нашего. Он имеет характер весьма кроткий, и можно с достоверностию сказать, что во всю жизнь свою с намерением никого не только делом, ниже словом не обидел.
Чрез несколько дней директор представил нас куратору. Сей добродетельный муж, которого заслуг Россия позабыть не должна, принял нас весьма милостиво и, взяв меня за руку, подвёл к человеку, которого вид обратил на себя почтительное моё внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? «По-латыни», — отвечал я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием. После обеда в тот же день были мы во дворце на куртаге; но государыня не выходила. Признаюсь искренно, что я удивлён был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах, множество дам прекрасных, наконец огромная музыка — всё сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного. Сему так и быть надлежало: ибо тогда был я не старее четырнадцати лет, ничего ещё не видывал, всё казалось мне ново и прелестно. Приехав домой, спрашивал я у дядюшки: часто ли бывают у двора куртаги? «Почти всякое воскресенье», — отвечал он. И я решился продлить пребывание моё в Петербурге сколько можно долее, дабы чаще видеть двор. Но сие желание было действие любопытства и насыщения чувств. Мне хотелось чаще видеть великолепие двора и слышать приятную музыку; но скоро сие желание исчезло. Доброе сердце моё тосковать стало о моих родителях, которых захотелось мне видеть нетерпеливо: день получения от них писем был для меня приятнейший, и я сам по нескольку раз заезжал на почту за письмами.
Но ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отроду. Играли русскую комедию, как теперь помню, «Генрих и Периилла»[552]. Тут видел я Шуйского[553], который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей силы. Действия, произведённого во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актёров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы моё благополучие. Я с ума было сошёл от радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое время познакомился я тут с покойным Фёдором Григорьевичем Волковым[554], мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актёром Иваном Афанасьевичем Дмитревским[555], человеком честным, умным, знающим и с которым дружба моя до сих пор продолжается. Стоя в партерах, свёл я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счёл меня невеждою и худо воспитанным, начал было надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски. Но тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твёрдо предпринял и начал учиться оному, а между тем, продолжал латинский, на коем слушал логику у профессора Шадена, бывшего тогда ректором. Сей учёный муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны и мы с братом скоро потом произведены были в студенты. В самое же сие время не оставлял я упражняться в переводах на российский язык с немецкого: перевёл «Сифа, царя египетского»[556], но не весьма удачно. Знание моё в латинском языке пособило мне весьма к обучению французского. Через два года я мог разуметь Волтера[557] и начал переводить стихами его «Альзиру». Сей перевод есть не что иное, как грех юности моея, но со всем тем встречаются и в нём хорошие стихи.
В 1762 году был уже я сержант гвардии[558]; но как желание моё было гораздо более учиться, нежели ходить в караулы на съезжую, то уклонялся я сколько мог от действительной службы. По счастию моему, двор прибыл в Москву, и тогдашний вице-канцлер[559] взял меня в иностранную коллегию переводчиком капитан-поручичья чина, чем я был доволен. А как переводил я хорошо, то покойный тогдашний канцлер[560] важнейшие бумаги отдавал именно для перевода мне. В тот же год послан я был с екатерининскою лептою к покойной герцогине Мекленбург-Шверинской. Мне велено было заехать в Гамбург, откуда министр наш повёз меня сам в Шверин. Тогда был я ещё сущий ребёнок и почти не имел понятия о светском обращении; но как я читал уже довольно и имел природную остроту, то у шверинского двора не показался я невеждою. И, впрочем, поведением своим приобрёл я благоволение герцогини и одобрение публики. Возвратясь в Россию с рекомендацией) нашего министра о моём поведении, имел я счастие быть весьма хорошо принятым моими начальниками; а между тем, перевод мой «Альзиры» стал делать много шума, и я сам начал иметь некоторое мнение о моём даровании; но признаюсь, что, будучи недоволен переводом, не отдал его ни в театр, ни в печать.
В 1763 году ездил я в Петербург; но в иностранной коллегии остался недолго. Один кабинет-министр[561] имел надобность взять кого-нибудь из коллегии; а как но «Альзире» моей замечен был я с хорошей стороны, то именным указом велено мне было быть при том кабинет-министре. Я ему представился и был принят от него тем милостивее, что сам он, нрославясь своим витийством на русском языке, покровительствовал молодых писателей. Я могу похвалиться, что сей новый мой начальник обходился со мною, как надобно с дворянином; но в доме его повсечасно был человек[562], давно ему знакомый и носивший его полную доверенность. Сей человек, имеющий, впрочем, разум, был беспримерного высокомерия и нравом тяжёл пренесносно. Он упражнялся в сочинениях на русском языке; физиономия ли моя или не весьма скромный мой отзыв о его пере причиною стали его ко мне ненависти. Могу сказать, что в доме самого честного и снисходительного начальника вёл я жизнь самую неприятнейшую от действия ненависти его любимца. Я был бы нечувствительный человек, если б не вспоминал с благодарностию, что сей начальник, узнавая меня короче, стал более любить меня, может быть примечая доброту моего сердца или за открывающиеся во мне некоторые дарования, кои стали делать ему приятным моё общество. Покровительство его никогда от меня не отнималось. Я уверен, что сохраню его во всю жизнь мою.
В то же самое время вступил я в тесную дружбу с одним князем, молодым писателем[563], и вошёл в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно. В сие время сочинил я послание к Шумилову[564], в коем некоторые стихи являют тогдашнее моё заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником. Но, господи! тебе известно сердце моё; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей.
Тогда сделал я «Бригадира», скоро потом перевёл «Иосифа» и всё сие окончил в Москве, в которой познакомился я с одним полковником, человеком честным, но легкомысленным, имеющим жену препочтенную; но как она любила мужа своего смертно, а он разорялся на одну девку, то жизнь жены его была самая несчастная. Однажды я, проводя у них вечер, нашёл тут сестру её родную, женщину, пленяющего разума, которая достоинствами своими тронула сердце моё и вселила в него совершенное к себе почтение. Я познакомился с нею и скоро узнал, что почтение моё превратилось в нелицемерную к ней привязанность. Я не смел ей открыться, ибо она была замужем и не подавала мне ни малейшего повода к объяснению, напротив того, всегда меня убегала. И хотя я примечал, что шутки мои, чтение моих сочинений и вообще я ей не не нравился, однако важный её вид держал меня в почтении к ней. Скоро потом полковник с женою и с нею поехали в подмосковную и меня пригласили, а особливо она уговаривала меня с ними ехать, и мы на несколько дней переселились в деревню. Тут проживши с неделю, так я в неё влюбился, что никогда оставить её не мог, и с тех пор во всё течение моей жизни по сей час сердце моё всегда было занято ею. Ибо страсть моя основана на почтении и не зависела от разности полов. Здесь должен я сказать, что частое моё посещение полковника возбудило внимание публики. Клеветники приписали оное на счёт жены его; но я долгом чести и совести поставляю признаться, что сей слух был сущая клевета, ибо ни я к ней, ни она ко мне, кроме нелицемерного дружества, другого чувства никакого не имели. Из деревни возвратясь в Москву, стал я собираться в Петербург, а сестра полковницы к мужу, стоявшему с полком недалече от Москвы. Накануне моего отъезда, увидясь с нею наедине, открылся я ей в страсти моей искренно. «Ты едешь, — отвечала она мне, — и, бог знает, увидимся ли мы ещё; я на тебя самого ссылаюсь, как я тебя убегала и как старалась скрыть от тебя истинное состояние сердца моего; но разлучение с тобою и неизвестность свидания, а паче всего сильная страсть моя к тебе не позволяет мне долее притворяться; я люблю тебя и вечно любить буду». Я так почитал сию женщину, что признанием её не смел и помыслить воспользоваться; но, условясь с нею о нашей переписке, простился, оставя её в прегорьких слезах.
Я приехал в Петербург и привёз с собою «Бригадира» и «Иосифа». Надобно приметить, что я обе сии книги читал мастерски. Чтение моё заслужило внимание покойного Александра Ильича Бибикова и графа Григория Григорьевича Орлова[565], который её преминул донести о том государыне. В самый Петров день граф прислал ко мне спросить, еду ли я в Петергоф, и если еду, то взял бы с собою мою комедию «Бригадира». Я отвечал, что исполню его повеление. В Петергофе на бале граф, подошед ко мне, сказал: «Её величество приказала после балу вам быть к себе, и вы с комедиею извольте идти в Эрмитаж». И действительно, я нашёл её величество, готовую слушать моё чтение. Никогда не быв столь близко государя, признаюсь, что я начал было несколько робеть, но взор российской благотворительницы и глас её, идущий к сердцу, ободрил меня; несколько слов, произнесённых монаршими устами, привели меня в состояние читать мою комедию пред нею с обыкновенным моим искусством. Во время же чтения похвалы её давали мне новую смелость, так что после чтения был я завлечён к некоторым шуткам и потом, облобызав её десницу, вышел, имея от неё всемилостивейшее приветствие за моё чтение.
Дни через три положил я из Петергофа возвратиться в город, а между тем встретился в саду с графом Никитою Ивановичем Паниным[566], которому я никогда представлен не был; но он сам, остановив меня: «Слуга покорный, — сказал мне, — поздравляю вас с успехом комедии вашей; я вас уверяю, что ныне во всём Петергофе ни о чём другом не говорят, как о комедии и о чтении вашем. Долго ли вы здесь останетесь?» — спросил он меня. «Через несколько часов еду в город», — отвечал я. «А мы завтра, — сказал граф. — Я ещё хочу, сударь, — продолжал он, — попросить вас: его высочество желает весьма слышать чтение ваше, и для того по приезде нашем в город не умедлите ко мне явиться с вашею комедиею, а я представлю вас великому князю, и вы можете прочитать её нам». — «Я не премину исполнить повеление ваше, — отвечал я, — и почту за верх счастия моего иметь моими слушателями его императорское высочество[567] и ваше сиятельство». — «Государыня похваляет сочинение ваше, и все вообще очень довольны», — говорил граф. «Но я тогда только совершенно доволен буду, когда ваше сиятельство удостоите меня своим покровительством», — ответствовал я. «Мне будет очень приятно, — сказал он, — если могу быть вам в чём полезен». Сие слово произнёс он с таким видом чистосердечия и честности, что сердце моё с сей минуты к нему привержено стало и как будто предчувствовало, что он будет мне первый и истинный благодетель.
По возвращении моём в город узнал я на другой день, что его высочество возвратился. Я немедленно пошёл во дворец к графу Никите Ивановичу. Мне сказали, что он в антресолях; я просил, чтобы ему обо мне доложили. В ту минуту позван был я к графу; он принял меня очень милостиво. «Я тотчас оденусь, — сказал он мне, — а ты посиди со мною». Я приметил, что он в разговорах своих со мною старался узнать не только то, какие я имею знания, но и какие мои моральные правила. Одевшись, повёл меня к великому князю и представил ему меня как молодого человека отличных качеств и редких дарований. Его высочество изъявил мне в весьма милостивых выражениях, сколько желает он слышать мою комедию. «Да вот после обеда, — сказал граф, — ваше высочество, её услышите». Потом, подошед ко мне: «Вы, — сказал, — извольте остаться при столе его высочества». Как скоро стол отошёл, то после кофе посадили меня, и его высочество с графом и с некоторыми двора своего сели около меня. Через несколько минут тоном чтения моего произвёл я во всех слушателях прегромкое хохотанье. Паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша. «Я вижу, — сказал он мне, — что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тётушку, или какую-нибудь свойственницу». По окончании чтения Никита Иванович делал своё рассуждение на мою комедию. «Это в наших нравах первая комедия, — говорил он, — и я удивляюсь вашему искусству, как вы, заставя говорить такую дурищу во все пять актов, сделали, однако, роль её столько интересною, что всё хочется её слушать; я не удивляюсь, если сия комедия столь много имеет успеха; советую вам но оставлять вашего дарования». — «Ваше сиятельство, — говорил я, — для меня ничего лестнее быть не может, как такое одобрение ваше». Его высочеству, с своей стороны, угодно было сказать мне за моё чтение многие весьма лестные приветствия. А граф, когда вошли мы в другую комнату, сказал: «Вы можете ходить к его высочеству и при столе оставаться, когда только хотите». Я благодарил за сию милость. «Одолжи же меня, — сказал граф, — и принеси свою комедию завтра ввечеру ко мне. У меня будет моё общество, и мне хочется, чтобы бы её прочли». Я с радостию обещал сие графу, и на другой день ввечеру чтение моё имело тот же успех, как и при его высочестве.
Я забыл сказать, что имел дар принимать на себя лицо и говорить голосом весьма многих людей. Тогда передражнивал я покойного Сумарокова, могу сказать, мастерски и говорил не только его голосом, но и умом, так что он бы сам не мог сказать другого, как то, что я говорил его голосом; словом сказать, вечер провели очень весело, и граф мною был чрезмерно доволен.
Первое воскресенье пошёл я к его высочеству и там должен был повторить то, что я делал у графа ввечеру. Дарование моё понравилось всем, и граф обошёлся со мною отменно милостиво.
В сей день представлен был я графом брату его, графу Петру Ивановичу, который звал меня на другой день обедать и читать комедию. «И я у тебя обедаю, — сказал граф брату своему, — я не хочу пропустить случая слушать его чтение. Редкий талант! У него, братец, в комедии есть одна Акулина Тимофеевна: когда он роль её читает, тогда я самое её и вижу и слышу».
Чтение моё у графа Петра Ивановича имело успех обыкновенный. Покойный граф Захар Григорьевич[568] был тут моим слушателем. «А завтра, — сказал он мне, — милости прошу откушать у меня и прочесть комедию вашу». Потом пригласил он обоих графов. Граф Иван Григорьевич Чернышов сделал мне ту же честь, и я вседневно зван был обедать и читать. Равное же внимание ко мне показали: граф Александр Сергеевич Строганов[569], который всю жизнь свою посвятил единой добродетели, граф Андрей Петрович Шувалов[570], покойные: графиня Мария Андреевна Румянцева, графиня Катерина Борисовна Бутурлина и графиня Анна Карловна Воронцова. И я, объездя звавших меня, с неделю отдыхал; а между тем, приехал ко мне тот князь, с коим я имел неприятное общество. Он рассказывал мне, что весь Петербург наполнен моею комедиею, из которой многие острые слова употребляются уже в беседах. «Мне поручил, — сказал князь, — звать тебя обедать граф. Поедем к нему завтра». Сей граф был человек знатный по чинам, почитаемый умным человеком, но погрязший в сладострастии. Он был уже старых лет и всё дозволял себе, потому, что ничему не верил. Сей старый грешник отвергал даже бытие вышнего существа. Я поехал к нему с князем, надеясь найти в нём по крайней мере рассуждающего человека; но поведение его иное мне показало. Ему вздумалось за обедом открыть свой образ мыслей, или, лучше сказать, своё безбожие, при молодых людях, за столом бывших, и при слугах. Рассуждения его были софистические[571] и безумие явное, но со всем тем поколебали душу мою. После обеда поехал я с князем домой. «Что, — спросил он меня, — нравится ли тебе это общество?» — «Прошу меня от него уволить, — отвечал я, — ибо не хочу слышать таких умствований, кои не просвещают, но помрачают человека». Тут казалось мне, что пришло в мою голову наитие здравого рассудка. Я в карете рассуждал о безумии неверия очень справедливо и объяснялся весьма выразительно, так что князь ничего отвечать мне не мог.
Скоро двор переехал в Царское Село; а как тот кабинет-министр, при коем я находился, должен был, по званию своему, следовать за двором, то взял и меня в Царское Село. Я, терзаем будучи мыслями, поселёнными в меня безбожническою беседою, хотел досужное время в Царском Селе употребить на дело мне полезнейшее, а именно: подумав хорошенько и призвав бога в помощь, хотел определить систему мою в рассуждении веры. С сего времени считаю я вступление моё в совершенный возраст, ибо начал чувствовать действие здравого рассудка. [...]
Н. И. НОВИКОВ ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ О РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЯХ[572]
Из разных печатных и рукописных книг, сообщённых известий
и словесных преданий собрал Николай Новиков
Не тщеславие получить название сочинителя, но желание оказать услугу моему отечеству к сочинению сея книги меня побудило. Польза, от таковых книг происходящая, всякому просвещённому читателю известна; не может также быть неведомо и то, что все европейские народы прилагали старание о сохранении памяти своих писателей, а без того погибли бы имена всех в писаниях прославившихся мужей. Однако Россия по сие время не имела такой книги, и, может быть, сие самое было погибелию многих наших писателей, о которых никакого ныне не имеем мы сведения. Ныне наступило то время, в которое неусыпным попечением премудрый нашея императрицы исправляются погрешности предков наших. Под благополучным владением Екатерины Великия Россия вступила на такий степень величества, что все иностранные народы счастию её завиствуют и удивляются. Невольница татарская приводит в трепет Мустафу и Магомеда[573]; погруженная прежде в невежество Россия о преимуществе в науках спорит с народами, целые веки учением прославлявшимися; науки и художества в ней распространяются, а писатели наши прославляются. Свидетельствуют сие многие подлинные наши на иностранные языки переведённые книги. Всякие известия, до российской истории касающиеся, иностранными народами принимаются со удовольствием. Между прочими в 1766 году некто российский путешественник сообщил в лейпцигский журнал известие о некоторых российских писателях[574], которое во оном журнале на немецком языке напечатано и принято с великим удовольствием. Но сие известие весьма кратко, а притом инде не весьма справедливо, а в других местах пристрастно написано. Сие самое было главным поощрением к составлению сея книги; но сколь сие трудно, благоразумный читатель и без моего в том объяснения рассудить может; исключая то, что первые следы во всяком деле пролагать трудно, должен я был большую часть наших писателей собирать по словесным только преданиям. Не в порицание неизвестному писателю, сообщившему в лейпцигский журнал описание наших авторов, упомянул я здесь о его известии и не в похвалу себе; но только для того, чтобы показать, сколь трудно в первый раз издавать такого рода сочинения. Мой словарь имеет свои погрешности и, может быть, столько же ещё не достигает до достоинства своего имени, как и то известие, о котором я упомянул. Есть и такие в книге моей погрешности и недостатки, которые и сам я усматривал; но они остались неисправленными потому, что я не мог никак достовернейшего получить известия. И сие-то принудило меня в заглавии сея книги написать «Опыт исторического словаря о российских писателях». Я старался собирать имена всех наших писателей; но при отпечатании моей книги получил я ещё о многих известие, а сие самое подаёт надежду, что и ещё многие откроются. В таком случае остаётся мне просить вспомоществования в моём труде от многих читателей. Всякий любитель словесных наук, имеющий сведение о ком-либо из наших писателей, в сию книгу не внесённых, или в поправление изданного написав, может сообщить в письме к сочинителю сей книги, которое будет с благодарностию и со удовольствием поместится в продолжение сего «Словаря». Я не исключаю из сего и критик, на благоразумии и справедливости основанных: они тем приятнее для меня будут, чем более способствовать станут к приведению в совершенство сея книги. Если кто соблаговолит прислать такие письма из живущих в здешнем городе, те могут оные сообщить к переплётчику, у которого книга сия продаваться будет; а из других городов могут подписывать на имя сочинителя и посылать по почте, а моё старание будет получать оные с почтового двора. Чем более будет сообщено ко мне таких известий, тем больше удостоверится я, что труд мой от просвещённого общества заслуживает внимание.[...]
А
Ададуров Василий Евдокимович[575], тайный советник, сенатор, Московского университета куратор и ордена святыя Анны кавалер, человек учёный и просвещённый, будучи адъюнктом Академии наук, сочинил «Правила российской орфографии» и перевёл на российский язык немало весьма изрядных и полезных книг.
Аничков Димитрий[576], Московского императорского университета философии и свободных наук магистр, сочинял слова 1) о том, что мир сей есть ясным доказательством премудрости божией, и что в нём ничего но бывает по случаю, напечатанные в Москве 1767 года; 2) о истинном богопознании, весьма много похваляемое за свободное и ясное сей важной материи объяснение, напечатанное в Москве ж, и ещё некоторые другие.
Афонин Матвей[577], Императорского Московского университета натуральной истории экстраординарный профессор, сочинил несколько торжественных слов, напечатанных в Москве в разных годах.
Б
Барсов Антон[578], Московского императорского университета профессор красноречия, сочинил на нредприятое с благополучным успехом окончанное прививание оспы е. и. в., весьма изрядное слово, напечатанное ноября 10 дня 1768 года, много похваляемое за чистоту российского слога, и протчия красоты в нём находящиеся; есть и ещё несколько слов его сочинения.
Башилов Семён[579], родился в Троицкой лавре от приказного служителя, а в 1757 году вступил в Московский университет и обучался латинскому и французскому языку, риторике и мафиматике, где за прилежность я успехи в науках получил медали. В 1762 году взят обратно в Троицкую лавру, и обучал в тамошней семинарии мафиматике, а оттуда взят был для отправления в Англию, при студентах инспектором; но по приезде в Петербург увидел, что за различными его припадками туда ехать не мог; и определён был в Императорскую Академию наук переводчиком. В 1769 году из Академии перешёл в Комиссию о сочинении проекта Новаго уложения, сочинителем; в 1770 году взят был в Правительствующий Сенат, и произведён секретарём; но умножившиеся его припадки чахотной болезни и другие не допустили его пользоваться милостию его благодетеля; ибо он умер того ж года июля 11 дня горячкою. Сей был человек разумный и просвещённый, упражнялся много во словесных науках; будучи при Академии издал он под своим смотрением две части «Никоновской летописи»[580], «Судебник царя Иоанна Васильевича»[581], перевёл много весьма полезных книг с великим успехом и сочинил довольно сатирических писем, напечатанных в еженедельном сочинении «Ни то, ни сё»[582], изданном 1769 года в Санктпетербурге. Вообще слог его чист и приятен.
Богданович Ипполит[583], государственной коллегии Иностранных дел переводчик, человек молодой, но искусный в словесных науках, также во французском, италиянском и российском языках. Сочинил поэму «Сугубое блаженство», довольно торжественных, духовных и анакреонтических од, эпистол, стансов, басен, сказок, сонетов, эклог, элегий, идиллий, эпиграмм, писем и других сатирических сочинений, которые все напечатаны в ежемесячных сочинениях «Полезном увеселении», 1760, 1761, 1762 гг. в Москве и других книгах. Перевёл с италиянского языка г. Мишеля Анжело жизнети песнь е. и. в. с совершенным искусством. Означенные его поэма, песнь и некоторые оды напечатаны в Санктпетербурге и похваляются много знающими людьми [...]
Булатницкий Егор[584], Московского университета студент, умер 1767 года в Москве. Он сочинил «Итальянскую грамматику», которая напечатана в Москве 1760 года.
В
Вениаминов Пётр[585], Императорского Московского университета медицины доктор и профессор. Сочинил многие изрядные слова и речи, а напечатаны из них некоторые 1766 и 1767 годов в Москве.
Верёвкин Михайло[586], коллежский советник, сочинил памянник на всякий день стихами весьма изрядно и много других стихотворных сочинений, напечатанных в ежемесячном сочинении «Полезное увеселение», изданном в Москве 1761 года, но он большую от общества заслужил похвалу и более во оном известен переводом на российский язык «Сюллиевых записок», которого издано уже две части 1771 года в Москве. Сей перевод всеми знающими людьми много похваляется.
Верещагин Иван[587], Троицкой семинарии студент философии, писал стихи, из них напечатана одна только его торжественная ода в Санктпетербурге 1771 года.
Волков Фёдор Григорьевич родился в городе Костроме от тамошнего купца Григорья Волкова 1729 года, февраля 9 дня. По смерти его отца вышла мать его за ярославского купца Фёдора Подушкина, почему и дети её переехали с нею на житьё в Ярославль, в дом своего вотчима. Сей Полушкин был заводчик селитряных и серных заводов. Он, увидя остроту старшего своего пасынка, отослав его в Москву для обучения музыке и немецкому языку, на котором он потом говорил как природный немец. Прочие дарования сего острого человека начали оказываться ещё в его юности. Он не имел нималой склонности к промыслам своего вотчима, но пристрастно прилежал к познанию наук и художеств. Живописи обучился он сам собою ещё в ребячестве, непрестанно рисуя и срисовывая всякие виды. Таким образом упражнялся он и в резном искусстве, чему осталися доказательством и поныне в приходской их церкви резные царские двери, на которых «Тайная вечеря» весьма изрядно выработана; а в рассуждении живописи оставил он множество картин своей выдумки и работы. Впрочем, главная его склонность была к театру: с самых юных лет начал он упражняться в театральных представлениях с некоторыми приказными служителями. Из первых игранных им комедий были сочинённые святым Дмитрием Ростовским. Склонность сия, так, как и к прочим наукам и художествам, возрастала в нём по мере его во оных упражнениях; а проницательный и острый его разум поспешествовал ему без всякого, можно сказать, предводителя доходить во оных до возможного совершенства.
В 1746 году отправлен он был вотчимом своим в Санктпетербург для некоторых дел по его промыслу; но он по приезде в сию резиденцию, исправя наперёд порученное ему дело, дал полную свободу стремлению и любопытству своих склонностей. Познакомясь с живописцами, музыкантами и другими художниками, бывшими тогда при императорском Итальянском театре, не упустил ни одной редкости, которую бы не осмотрел и не постарался узнать обстоятельно. Более всего прилепился он к театру и, по случаю знакомства несколько раз видя представление итальянской оперы, почувствовал желание сделать и у себя в Ярославле театр, дабы представлять на нём самому русские театральные сочинения. Сего ради ходил он несколько раз на театр, чтобы обстоятельнее рассмотреть оного архитектуру, махины и прочие украшения; и как острый его разум всё понимать был способен, то сделал он всему чертежи, рисунки и модели. Оставалось только получить ему понятие о театральной игре. В сём случае имел он прибежище к итальянским актёрам, которые хотя и сами не весьма были далеки в актёрской должности, но г. Волков дошёл наконец до познания её красот и тонкостей остротою своего разума и врождённой к театру способности.
По возвращении своём в Ярославль и давши отчёт в своей посылке, начал он помышлять о исполнении своего намерения, и напоследок, по многих в том трудах, сделал он небольшой театр в своей комнате и, приговори к себе братьев своих и других нескольких молодых людей, начал на нём играть. Вотчим его был отчасти доволен, что мог повеселить своих гостей невиданною ими редкостию, а паче потому, что мог хвалиться иметь в своём доме то, о чём в других и понятия не имели; впрочем, упражнение своего пасынка почитал он детскими игрушками; но сии игрушки скоро переменили свой вид и положили некоторое основание российскому театру.
Г. Волков умел заставить восчувствовать пользу и забавы, происходящие от театра, и самых тех, которые знания, ни вкуса во оном не имели. Вскоре маленький театр стал тесен для умножающегося числа зрителей. Надлежало его распространить или сделать совсем новый. Но как вотчим его не столь был тороват, чтобы покупать такие забавы, к которым он не весьма был страстен, толь дорогою ценою, то Фёдор Григорьевич возымел прибежище к зрителям. Они уже столько к театру им были приучены, что не захотели лишиться сей забавы. Каждый из них согласился дать по некоторому числу денег на построение нового театра, который старанием г. Волкова и построен и столь был пространен, что мог помещать в себе до 1000 человек. При строении сего театра был он сам архитектором, живописцем и машинистом; а когда приведён был оный ко окончанию, то сделался он на сём театре и главным директором и первым актёром. На сём новом театре начал он с прочими представлять оперы: «Тигово милосердие», «Евдоксию венчанную» и другие драмы, переведённые на российский язык. Сделано было приличное к тому платье и прочее, чему всему сам он был изобретатель.
Слух о сём театре дошёл наконец до императорского двора. В сие время об основании российского театра имели уже попечение, и сочинённые первым основателем российского театра г. Сумароковым трагедии были играны на комнатном придворном театре благородными особами. По причине сего-то слуха и потребован был ко двору по именному указу сей г. Волков в 1752 году.
По приезде его в Петербург в сей самый год со всеми актёрами, бывшими при его театре, был он представлен её величеству и получил повеление играть трагедии г. Сумарокова на комнатном театре. Посему и представили они «Хорева», «Синава и Трувора», «Гамлета» и драму «Грешник». Искусные и знающие люди увидели превеликие способности в сём г. Волкове и прочих его сотоварищах, хотя игра их и была только что природная и не весьма украшенная искусством. Её величество указала всех их отдать в кадетский корпус для обучения приличным знанию их наукам; почему и отосланы они были тогда все. Что же касается до самого г. Волкова, то он, будучи уже обучен, упражнялся более в чтении полезных книг для его искусства, в рисованье, музыке и в просвещении своего знания всем тем, чего ему ещё недоставало. Там же в свободное от наук время сделал он сам маленький театр, состоящий из кукол, искусно им самим сделанных; но он не имел удовольствия сего своего предприятия довесть до окончания. Одним словом, в бытность свою в кадетском корпусе употреблял он все старания выйти из оного просвещеннейшим, в чём и успел совершенно.
Наконец в 1756 году учреждён был российский театр и директором оного пожалован был г. Сумароков. Фёдор Григорьевич был во оный назначен первым актёром, а прочим его товарищам даны были роли по их способностям. Тогда г. Волков показал свои дарования в полном уже сиянии, и тогда-то увидели в нём великого актёра; и слава его подтверждена была и иностранцами, словом, он упражнялся в сей должности до конца своей жизни с превеликою о себе похвалою.
В сие время сочинил он многие мелкие стихотворения; наконец начал писать похвальную оду Петру Великому, расположи её в 40 куплетов; но сочинив оной только 15 строф, отвлечён был от окончания оной разными обстоятельствами.
В 1759 году послан был г. Волков в Москву для учреждения российского театра, который установи совершенно, возвратился он в том же году обратно в Петербург.
В 1762 году, по благополучном восшествии на всероссийский престол Екатерины Великия, пожалован он был за оказанные им отличные услуги российским дворянином и деревнями. Сие новое достоинство нимало не уменьшило склонность его к театру; однако же после сего удалось ему сыграть один только раз в трагедии «Семире» роль Оскольда в Москве, чем он окончил игру свою и жизнь. Смерти его было причиною следующее обстоятельство: он получил повеление вымыслить и расположить публичный маскерад для увеселения народного, который он и сочинил под именем «Торжествующая Минерва». По приготовлении ко оному платья и машин, по предписанию его, представлен был сей маскерад публичным шествием генваря 30, февраля 1 и 2 дня 1763 года. Г. Волков, желая, чтобы наблюдён был во оном везде порядок, ездил верхом и надсматривал над всеми его частями, отчего и получил сильную простуду, а потом вскоре горячку; наконец сделался у него в животе антонов огонь, отчего и скончался 1763 года апреля 4 дня, на 35 году от рождения, к великому и общему всех сожалению. Тело его с великолепною и богатою церемониею погребено в присутствии знатнейших придворных кавалеров и великого множества людей различного состояния в Андроньеве монастыре.
Сей муж был великого, обымчивого и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг. Театральное искусство знал он в вышем степене; при сем был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант на многих инструментах, посредственный скульптор и, одним словом, человек многих знаний в довольном степене. С первого взгляда казался он несколько суров и угрюм; но сие исчезало, когда находился он с хорошими своими приятелями, с которыми умел он обходиться и услаждать беседу разумными и острыми шутками. Жития был трезвого и строгой добродетели; друзей имел немногих, но наилучших, и сам был друг совершенный, великодушный, бескорыстный и любящий вспомоществовать. Сочинения его весьма много имеют остроты, а особливо ода Петру Первому великой достойна похвалы, и которая так же, как почти и все прочие сочинения, по смерти его утратились. Из его сочинений остались известными мне только две песни: «Ты проходишь мимо кельи, дорогая»; «Станем, братцы, петь старую песню», и одна эпиграмма. Изобретённый им маскерад напечатан в Москве 1763 года, который довольно показывает обширность его знания, искусства и учёности. Притом осталось по нём несколько картин, им написанных, грудная статуя Петра Великого, им сделанная, и другие некоторые знаки разума его и прилежания. Г. Сумароков о смерти его написал следующую элегию.
Элегия
к г. Дмитревскому на смерть г. Волкова
Пролей со мной поток, о Мельпомена, слёзный: Восплачь и возрыдай и растрепли власы! Преставился мой друг; прости, мой друг любезный! Навеки Волкова пресеклися часы! Мой весь метётся дух, тоска меня терзает, Пегасов предо мной источник замерзает. Расинов я театр явил, о россы, вам; Богиня! а тебе поставил пышный храм: В небытие теперь сей храм перенесётся. И основание его уже трясётся. Сё смысла моего и тщания плоды; Сё века целого прилежность и труды! Что, Дмитревский, зачнём мы с сей теперь судьбою? Расстался Волков наш со мною и с тобою И с музами навек; воззри на гроб его: Оплачь, оплачь со мной ты друга своего, Которого, как нас, потомство не забудет; Переломи кинжал; Котурна уж не будет; Простись с отторженным от драмы и от нас: Простися с Волковым уже в последний раз, В последнем как ты с ним игрании прощался, И молви, как тогда Оскольду извещался, Пустив днесь горькие струи из смутных глаз: Коликим горестям подвластны человеки; Прости, любезный друг, прости, мой друг, навеки.Я сообщаю моим читателям известную мне эпиграмму сочинения г. Волкова, которая хотя малое подаст понятие о его стихотворстве тем, которые его сочинения не читывали. Хотел бы я сообщить и все его стихотворения, но ни у кого не смог отыскать.
Эпиграмма
Всадника хвалят: хорош молодец! Хвалят другие: хорош жеребец! Полно, не спорьте, и конь и детина Оба красивы; да оба скотина.Д
Десницкий Семён[588], Московского императорского университета магистр свободных наук, юриспруденции доктор, римских и российских прав публичный экстраординарный профессор, сочинил изрядное слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции, которое напечатано в Москве 1768 года и ещё несколько других слов, напечатанных там же.
Домашнев Сергей[589], штаб-офицер полевых полков, писал стихи. Его последний две оды, первая на взятие Хотина, а другая на морское при Чесме сражение; весьма изрядны и заслуживают похвалу. Он сочинил краткое описание некоторых наших стихотворцев весьма не худо; также о «Пользе наук», «Сатирический сон», оду на любовь, и другия мелкия стихотворении напечатанный в ежемесячном сочинении «Полезное увеселение» 1761 и 1762 годов в Москве. Перевёл в стихи Волтерову сказку: «Что нравится женщинам»; также Мармонтелевых нравоучительных сказок 12, напечатанных 1764 в Москве в 2 частях. Есть ещё и другия его стихотворения, но они в свет не изданы.
3
Зыбелин Семён[590], Императорского Московского университета профессор и доктор медицины, писал стихи и слова торжественный, которые и напечатаны в Москве в разных годах.
Золотницкий Владимир[591], секунд-майор полевых полков, сочинил две нравоучительные книжки: 1) «Общество разновидных лиц», 2) «Басни», также «Рассуждение о бессмертии души» и много сатирических писем, од и тому подобного, которые напечатаны и похваляются довольно. Он перевёл и многие полезные книги на российский язык.
К
Каменский Бантыш Николай[592], Иностранной коллегии переводчик, человек учёный и трудолюбивый, довольно искусный в латинском, французском, польском и российском языках, также и в прочих словесных науках. Он сочинил многие письма о разных материях, также описал бытность прусского принца в Москве в 1770 и сочинил историческое известие о бывшем возмущении московской черни 1771 году[593]; впрочем трудится он в разбирании достопамятностей к российской истории, находящихся в архиве Иностранной коллегии в Москве под смотрением г. Миллера; также перевёл Российскую историю, сочинённую г. Волтером и Бранденбургскую, и хотя оне не напечатаны, однако ж переводчик за исправность и чистоту слога достойн великой похвалы.
Карин Александр[594], лейб-гвардии Конного полку поручик, умер 1769 года. Был превеликий любитель словесных наук, искусен довольно в некоторых иностранных и во своём природном языке; имел немалое просвещение и библиотеку из наилучших иностранных и российских книг. Его сочинения, оды, элегии, сонеты, сатиры, стансы, притчи, письма, эпиграммы и другие мелкие стихотворения напечатаны в ежемесячном сочинении «Полезное увеселение», изданном в 1760 и 1762 годах, в «Сводных часах», изданном 1763 года в Москве, довольно называют остроту его разума и многими знающими людьми похваляются. Словом, он превеликую подавал надежду показать в себе хорошего стихотворца. Он сочинил комедию «Россиянин, возвратившийся из Франции» и начал было писать трагедию, но, не докончив оной, умер, а комедия его хотя и довольно похваляется, но в свет ещё не издана.
Карин Николай, лейб-гвардии Конного полку поручик, средний брат, имевший все те же склонности, как и старший брат его, но написал меньше, однако же сочинённые им разные стихотворения и, напечатанные в московских ежемесячных сочинениях весьма изрядны и довольно похваляются.
Карин Фёдор, обер-офицер в отставке, младший брат их всех, но наследовавший обоих похвальные склонности к словесным наукам и просвещению своего разума. Сочинил он несколько мелких стихотворений, также книжку «Нравоучительные правила, выбранные из свойств покойной графини Марии Владимировны Салтыковой». Напечатана сия книжка в Москве 1770 года. Он перевёл несколько хороших книг с великим успехом.
Козловский князь, Фёдор Алексеевич, в юных своих летах обучался в Императорском Московском университете разным наукам; определился лейб-гвардии в Преображенской полк, где он дослужился до обер офицерскаго чина. В 1767 году взят был в Комисию о сочинении проекта Новаго уложения сочинителем; исправляя должность свою рачительно и с похвалою пробыл тут до 1769 года, в котором отправлен был курьером к его сиятельству графу Алексею Григорьевичу Орлову находившемуся тогда в Италии. В проезд свой должен был он заехать к славному европейскому писателю г. Волтеру; чем князь Фёдор Алексеевич чрезмерно восхищался: ибо по великой его склонности ко словесным наукам, ничего так не желал, как умножить то просвещение своего разума, которое приобрёл своими трудами. Прибыв Италию, оставлен он был при его сиятельстве графе Фёдоре Григорьевиче Орлове, и был при нём безотлучно до Чесмесскаго бою, в который при взорвании корабля «Святого Евстафия» поднят он был на воздух. Смерть его последовала так, как и сей бой 1770 года в июне месяце. Сей князь был человеком остраго ума и основательного разсуждения; искусен в некоторых европейских языках и имел тихий нрав: был добрый и хороший господин; имел непреодолимую врождённую склонность ко словесным наукам, и упражнялся в них с самаго ещё детства. Из сочинений его были: «Одолжавший любовник», прозою комедия в 1 действ,, несколько песен, еклог, елегий и других мелких стихотворений; так же начал было он писать трагедию «Сумбек», содержание ко оной взяв из казанской истории; но она не окончана. Слово похвальное е. и. в. Екатерине Великой, которое осталось немного также не окончено. Он перевёл много комедий для российского театра, и других разных материй. Вообще, сочинении его весьма достойны похвалы; а трагедия и похвальное слово, есгьли бы были окончаны, то сделали бы ему безсмертную славу. Смерть его оплакивали искренно не только друзья его; но знакомый, так как честнаго, разумнаго и добродетельнаго человека. В честь ему и в засвидетельствование его достоинств восплакали музы трёх российских стихотворцев следующими стихами:
Кенотафия[595]
князю Фёдору Алексеевичу Козловскому
Одно зришь имя здесь; а тело огнь и влага Пожрали в Асии вблизи Архипелага Где турский россами свирепо флот сражён, Разбит, потоплен в хлябь, и в пепел весь сожжён. Козловский! Жребий твой предтечею был рока, К избаве Греции, к паденью лжепророка.Из письма г. Майкова
Художеств и наук Козловский был любитель, А честь была ему во всём путеводитель. Не шествуяль за ней он жизнь свою скончал? И храброй смертию дела свои венчал.И ниже
Когда о храбрых кто делах вещати станет, Козловский первый к нам во ум тогда предстанет; Хвалу ли будет кто нелестным плестъ друзьям, Он должен и тогда представиться глазам; Иль с нами разделять кто будет время скучно; Он паки в памяти пребудет неотлучно. Всечасно тень его встречать наш будет взор, Наполнен будет им всегда наш разговор. И так хоть жизнь его судьбина прекратила, А тело алчная пучина поглотила; Он именем своим пребудет между нас; Мы будем вспоминать его на всякий час.Из поёмы «Чесмесский бой» г. Хераскова
О ты! питомец муз, на что тебе Беллона[596], Когда лежал твой путь ко храму Anno лона? На что война тебе, на что оружий гром? Воюй ты не мечом, но чистых муз пером; Тебя родитель твой и други ожидают, А музы над тобой летающи рыдают: Но рок положен твой, нельзя его прейти. Прости, дражайший друг, навеки ты прости!И ниже
Когда же скрылся ты навек в морских волнах, Так гроб твой у твоих друзей теперь в сердцах.Л
Лобанов Семён[597] родился в Осташковской слободе, и обучался в Тверской семинарии, а в 1756 году взят в Московский университет, где был студентом, и за успехи, оказанные им в науках, многажды получал золотыя медали. В 1762 году произведён адъюнктом, и взят в Сухопутный кадетский корпус для обучения кадетов, и там несколько спустя времени произведён в профессоры физики и мафематики. В 1769 году из корпуса уволен и определён в Правительствующий Сенат; а в 1770 году пожалован сенатским секретарём, и в том же году умер чахоткою болезнию. Сей человек был весьма разумен, учен и добраго жития; он сочинил две книги: физику и мафематику, который сколь много ни похваляются за их исправность; однако ж ещё и поныне не напечатаны, но у некоторых хранятся рукописными.
Ломоносов Михайло Васильевич (1711 — 1765)—статский советник, Императорской Санктпетербургской Академии наук профессор, Стокгольмской и Бононской член. Родился в Колмогорах в 1711 году от промышленника рыбных ловлей. Юные лета препроводил с отцом своим, ездя на рыбные промыслы; но, будучи обучен российской грамоте и писать, прилежал он более всегда по врождённой склонности к чтению книг. И как по случаю попалася ему псалтир, преложенная в стихи Симеоном Полоцким, то, читав оную многократно, так пристрастился к стихам, что получил желание обучаться стихотворству. Почему стал он наведываться, где можно обучиться сему искусству; услышав же, что в Москве есть такое училище, где преподаются правила сей науки, взял непременное намерение уйти от своего отца. К сему его побуждало и упорное желание его родителя, дабы женить его по неволе. Вскоре потом исполнил он своё намерение: оставил дом родительский, пришёл в Москву и вступил в Заиконоспасское училище, в котором с великим прилежанием обучался латинскому и греческому языкам, риторике и стихотворству.
В 1734 году взят он был из оного училища в Императорскую Академию наук и отправлен в 1736 году студентом в Германию. По приезде в Марбург, что в Гессенской земле, поручен он был с товарищами своими Райзером и Виноградовым наставлениям славного барона Вольфа. В Марбурге пробыл он четыре года, упражняясь в химии и в принадлежащих к ней науках. Потом поехал в Саксонию и там под смотрением славного химика Генкеля осмотрел все горные и рудокопные работы, в горном округе производимые. Наконец возвратился он в Санктпетербург в 1741 году студентом же.
Около сего времени оказал он первые опыты столь гремевшего не только в России, но и в чужестранных областях лирического стихотворства, сочинив торжественную оду и несколько потом других. Между тем более всего прилежал к химии и к прочим её частям и столько во оной успел что от Императорской Академии наук поручено ему было находящийся при Кунсткамере минеральный кабинет привести в порядок. Г. Ломоносов исполнил порученное ему дело с таким искусством, прилежанием и исправностию, что Академия, уважая его знание и труды, произвела его адъюнктом в 1742 году.
По произведении его продолжал упражняться он в химии; а в 1745 году, по указу из Правительствующего Сената, основанному на свидетельствах всех членов Академии наук, произведён он был профессором химии.
В 1751 году г. Ломоносов пожалован был коллежским советником. В 1752 году по данной ему привилегии учредил он бисерную фабрику и начал упражняться в мозаике; и как в России первый был он изобретатель мозаического искусства, то и поручено ему было трудиться в составлении большой мозаической картины, представляющей знаменитейшие дела Петра Великого. Г. Ломоносов окончал сей труд российскими материалами и мастерами, без всякой помощи от иностранных. К составлению сей картины изобрёл он все составы и разные махины и оную сделал такой величины, какой мозаической картины по сие время в целом свете ещё не бывало.
В 1751 году февраля 13 дня определён он был членом в Академическую канцелярию; а в 1760 году февраля 14 дня поручены в полное его смотрение академическая гимназия и университет.
1764 года в декабре месяце г. Ломоносов пожалован был статским советником, в котором чину и пробыл он до кончины своей, воспоследовавшей 1765 года апреля в 4 день, к великому сожалению всех любителей словесных наук. Тело его с богатою церемониею погребено в Александро-Невском монастыре императорским иждивением, а на гробе его поставлен мраморный столп иждивением покойного канцлера графа Михайла Ларионовича Воронцова со следующими российскою и латинскою надписями:
В память славному мужу Михайлу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах в 1711 году, бывшему статскому советнику, Императорской Санктпетербургской Академии наук профессору, Стокгольмской и Бононской члену, разумом и науками превосходному, знатным украшением отечеству служившему, красноречия, стихотворства и истории Российской учителю, муссии первому в России без руководства изобретателю. Преждевременной смертию от муз и Отечества на днях святыя пасхи 1765 года похищенному. Воздвиг сию гробницу граф Михайло Воронцов, славя Отечество с таковым гражданином и горестно соболезнуя о его кончине.* * *
Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого учения. Сколь отменна была его охота к наукам и ко всем человечеству полезным знаниям, столько мужественно и вступил он в путь к достижению желаемого им предмета. Стремление преодолевать всё случавшиеся ему в том препятствия награждено было благополучным успехом. Бодрость и твёрдость его духа оказывались во всех его предприятиях; начав учиться иностранным языкам в таких уже летах, в коих многие за невозможность почитают в них упражняться, достиг он до великого совершенства. На немецком языке писал и говорил как почти на своём природном; латинский знал очень хорошо и писал на нём; французский и греческий разумел не худо; а в знании российского языка, яко его природного и им много вычищенного и обогащённого, почитался он в своё время в числе первых. Слог его был великолепен, чист, твёрд, громок и приятен. Предприимчивость сколь часто бывает в других пороком, столь многократно ему приобретала похвалу. Он упражнялся во всех философических и словесных науках, в химии, с её разными частями; а особливо прилежал к физике экспериментальной, которую и перевёл на российский язык; в механике и в истории нашего отечества. Стихотворство и красноречие с превосходными познаниями правил и красоты российского языка столь великую принесли ему похвалу не только в России, но и в иностранных областях, что он почитается в числе наилучших лириков и ораторов. Его похвальные оды, надписи, поэма «Пётр Великий» и похвальные слова принесли ему бессмертную славу. Нрав имел он весёлый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки; к отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал упражняющихся во словесных науках и ободрял их; во обхождении был по большей части ласков, к искателям его милости щедр, но при всём том был горяч и вспыльчив. Сочинения его следующие: две части разных стихотворений, содержат в себе духовные и похвальные оды, надписи, две песни героической поэмы «Пётр Великий», похвальные слова и другие стихотворения; «Российская грамматика», «Риторика», «Краткий российский летописец», первая книга «Древней российской истории», краткое понятие о физике, «Металлургия», две трагедии «Тамира и Селим» и «Демофонт», и учёные рассуждения о разных материях. Я не могу распространиться в похвале сему великому писателю; а довольно будет, когда сообщу из эпистол г. Сумарокова следующие стихи:
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси: Он наших стран Малгерб, он Пиндеру[598] подобен...И также стихи г. Поповского к его портрету:
Московский здесь Парнас изобразил витию, Что чистый слог стихов и прозы ввёл в Россию, Что в Риме Цицерон и что Виргилий был, То он один в своём понятии вместил. Открыл натуры храм богатым словом россов; Пример их остроты в науках Ломоносов.Из сочинений его переведены на иностранные языки следующие: «Грамматика» и «Российская история» на немецкий; «Утреннее...» и «Вечернее размышления о величестве божием» на французский; похвальное слово Петру Великому перевёл он сам на латинский язык. Г. Ломоносов имел переписку со многими учёными людьми в Европе. Библиотека его и манускрипты по смерти его куплены его сиятельством графом Григорьем Григорьевичем Орловым.
М
Медведев[599], монах Чудова монастыря, ученик в стихотворстве Симеона Полоцкого, человек учёный, писал много стихов, но печатных нигде нет. Одна только осталася огромная эпитафия учителю его им сочинённая, которая вырезана при гробе его на стоячем камне. Его ж рукописный плач и утешение России; он писал стрелецкий бунт[600].
П
Перепечин Александр[601], поручик при Императорском Московском университете, писал стихи, из коих некоторые напечатаны в московском ежемесячном сочинении «Доброе намерение», изданном 1765 года, также и две торжественные оды и одна эпистола напечатаны особо в Москве в разных годах.
Пермской Михайло[602], родился в Санктпетербурге и обучался в Александро-Невской семинарии; потом послан был в Англию, где и был при домовой российского министра церкви дьячком и, обучаясь там совершенно аглинскому языку, возвратился в 1760 году в Россию и был студентом в Московском университете. В 1765 году взят он был в Морской кадетский корпус и определён учителем аглинского языка. В сие время сочинил «Аглинскую грамматику», которая и напечатана при оном корпусе 1766 года. Потом в 1769 году определён он в банковую контору для вымену государственных ассигнаций регистратором и умер 1770 года. Он много перевёл с аглинского на российский язык полезных сочинений.
Поповский Николай Никитич (1730—1760) — был при Императорском Московском университете профессором красноречия и магистром философии, умер 1760 года; был человек острый, учёный и совершенно искусный в стихотворстве. «Опыт о человеке» славного в учёном свете Попия[603] перевёл он с французского языка на российский с таким искусством, что по мнению знающих людей гораздо ближе подошёл к подлиннику и не знав аглинского языка, что доказывает как его учёность, так и проницание в мысли авторские. Содержание сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести её трудно: но он перевёл с французского, перевёл в стихи, и перевёл с совершенным искусством, как философ и стихотворец; напечатана сия книга в Москве 1757 года. Он преложил с латинского языка в российские стихи Горациеву эпистолу о стихотворстве и несколько из его од; также перевёл прозою книгу о воспитании детей, состоящую в двух частях, славного Локка: сей перевод по мнению знающих людей едва не превосходит ли и подлинник. Он сочинил несколько речей, читанных в публичных собраниях, но напечатана из них только одна в «Ежемесячных академических сочинениях» 1755 года; а также писал торжественные оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображения просты, ясны, приятны и превосходны. Умер он не старее 30 лет от рождения, к сугубому сожалению любителей российского стихотворства; ибо лишилися в нём одного из лучших стихотворца и смертию его лишилися таких сочинений и переводов, которые по достоверным известиям делали бы честь покойному. Он перевёл было большую половину Тита Ливия, много Анакреонтовых од[604] и сочинил многие собственные стихотворные пиесы; но за несколько дней до смерти своей, к великому сожалению, всех их сжёг, почитая не довольно исправными к изданию в свет и опасаяся, чтобы друзья его по смерти не напечатали их. Должно думать, что любочестие его в рассуждении сего столь было велико, что он не иначе хотел издавать свои переводы и иреложения в стихи, как только превосшедшими подлинников; а свои сочинения только тогда, когда бы сравнялися они с наилучшими европейскими писателями: ибо изданные им в свет книги напечатаны по великому только усилию таких особ, коим не мог он отказать.
Протопопов Андрей[605], Императорского Московского университета студент, преложил не худо в стихи краткую священную историю; написал несколько од, который все напечатаны в Москве в разных годах. Есть много и других его стихотворений: но они в свете ещё не изданы.
Впрочем все его стихотворения за чистоту стихов и слога заслуживают похвалу.
Р
Рожалин Козьма[606], медицыны доктор, сочинил разсуждение о болезни скорбуте[607]; коей название производит он от слова скорб, которое и напечатано на латинском языке в Лейдене 1765 года.
Рубан Василий[608], коллежский секретарь и коллегии Иностранных дел переводчик, обучался прежде в Киевской академии, а потом в Московском университете, разным наукам, из которых риторике и стихотворству у г. Поповскаго, и за успехи в науках получил медали золотые и серебрёные. Сей сочинял много разных стихотворений, которыя и заслуживают похвалу, а особливо надпись к камню, назначенному для подножия статуе Петра Великаго, заслужила от всех знающих людей похвалу; она здесь следует:
Колос Родосский[609] свой смири прегордый вид И нильских здания высоких пирамид Престаньте более щитаться чудесами! Вы смертных бренными соделаны руками; Не рукотворенная здесь Росская гора, Вняв гласу божию, из уст Екатерины Пришла во град Петров чрез невские пучины И пала под стопы Великаго Петра.Он также перевёл следующий книги: «Стихотворческий лексикон», Шевиеву «Краткую мифологию»[610], «Сосуд стихотворческих материй», Овидиевой любовной науки 1 книгу, «Ироиды древних ироинь»[611] из Овидия, «Сотолковательный словарь», турецкий сказки, эклоги Виргилиевы, Муретовы эпиграммы[612], Муретово отроческое наставление стихами, Феофрастовы характиры[613], «Указатель путей и почтовых станов в России и в других европейских областях», «Царский свиток»[614]. Также издал в свет два еженедельных сочинения: «Нито Нисьо» в 1769, и «Трудолюбивый муравей» в 1771 годах. Из переводов его напечатаны немногия; но вообще достойны похвалы.
С
Санковский Василий[615], переводчик при Камер-коллегии, писал много изрядных стихотворений, из которых оды, элегии, сатиры, эпиграммы и другие многие напечатаны особо и в ежемесячном сочинении «Доброе намерение» 1764 года, которого он был издатель, весьма не худы. Он также перевёл в стихи многие элегии из Овидия, и Вергилиевой «Энеиды» две песни, которые и напечатаны, первая 1769 года в Москве, а вторая 1772 года в Санктпетербурге. Вообще сочинении его довольно похваляются.
Т
Третьяков Иван[616], Императорского Московского университета доктор и профессор прав, сочинил изрядное слово на благополучное выздоровление е. и. в. от прививныя оспы, которое напечатано в Москве 1769 года и ещё некоторые другие.
Ф
Фёдоров Илья[617], коллежский секретарь в Московского университета бакалавр, сочинил «Математические наставления» и перевёл универсальную Гейнекциеву философию[618], напечатанную в Москве в 1767 году. Умер он в Санктпетербурге в 1770 году.
Фонвизин Денис Иванович — надворный советник при государственной коллегии Иностранных дел. Сей человек молодой, острый, довольно искусный во словесных науках, также в российском, французском, немецком и латинском языках. Он перевёл в стихи Волтерову трагедию «Алзиру»; преложил по свойству наших нравов Грессетово сочинение «Сидней» стихами ж и написал много острых и весьма хороших стихотворений. Его «Послание к людям своим Шумилову, Ваньке и Петрушке», и другое «Матюшка-разносчик» свидетельствуют остроту его разума и тонкость в сатирах. Поэму «Иосиф» перевёл прозою на российский язык с совершенным искусством. В переводе сем держался он важности славенского и чистоты российского языка. Его проза чиста, приятна и текуща, так, как и его стихи. Он сочинил комедию «Бригадир и бригадирша», в которой острые слова и замысловатые шутки рассыпаны на каждой странице. Сочинена она точно в наших нравах, характеры выдержаны очень хорошо, а завязка очень простая и естественная. Наконец, он сочинил слово на выздоровление е. и. в., которое за чистоту слога, важность и изображение мыслей весьма похваляется. В заключение о нём сказать должно, что Россия надеется увидеть в нём хорошего писателя. Он перевёл также и много других книг, как то: «Жизнь Сифа», «Кариту и Полидора», «Сиднея и Силли» и другие некоторые.
Фон Визин Павел[619], лейб-гвардии Семёновского полку обер-офицер, обучался прежде в Императорском Московском университете и писал стихи, из коих некоторые изрядные стихотворения напечатаны в ежемесячном сочинении «Доброе намерение», изданном 1764 года в Москве.
X
Харитоновский Фёдор, Императорского университета студент, сочинял стихи, а напечатана из его сочинений ода в Москве 1771 года.
Херасков Михайло Матвеевич[620], государственный Берг-коллегии вице-президент и Вольного экономического общества член. Человек острый, учёный и просвещённый и искусный как в иностранных, так и в российском языке и стихотворстве. Сочинения его следующие: трагедии «Венецианская монахиня», «Мартезия и Фалестра» и «Пламена», которая напечатана и представлена на публичном театре в Москве. Трагедия «Борислав» не напечатана, отдана на придворный театр; героическая в стихах комедия «Безбожник» в одном действии, две части «Басен», две поэмы «Плоды наук» и «Чесменский бой»; книга «Нума Помпилий, или Процветающий Рим», «Новые оды», «Песни героические»; все напечатаны в разных годах; также сочинил он много торжественных, духовных и анакреонтических од, эклог, эпистол, стансов, сонетов, идиллий, элегий, эпиграмм, мадригалов и других мелких стихотворений и одну нероиду «Ариадна к Тезею», подражая Овидию; также в стихах и прозе сатирических писем и других о разных материях, которые все напечатаны в ежемесячных сочинениях: «Полезном увеселении» 1760, 1761 и 1762 годов; «Невинном упражнении» и «Свободных часах» 1763 года в Москве, которым всем он был издатель; и также много из его сочинений напечатано в академических ежемесячных сочинениях разных годов. Есть много его торжественных од и эпистол, напечатанных особо в Санктпетербурге и Москве. Вообще сочинения его весьма много похваляются, а особливо трагедия «Борислав», оды, песни, обе поэмы, все его сатирические сочинения и «Нума Помпилий» приносят ему великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и приятно, слог текущ и твёрд, изображения сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческого огня, сатирические сочинения остроты и приятных замыслов, а «Нума Помпилий» философических рассуждений; и он по справедливости почитается в числе лучших наших стихотворцев и заслуживает великую похвалу.
Ш
Шувалов Иван Иванович[621], генерал-поручик, действительный камергер, орденов святаго Александра, Белаго орла и святыя Анны кавалер, любитель и покровитель наук и художеств. Сей сочинял многия весьма хорошия стихотворныя пиесы, заслуживающия похвалу; и между протчим перевёл из шакеспировой трагедии Гамлетов монолог с великим успехом. Он упражнялся также и в гравировальном искусстве, чему доказательством остался портрет его, гравированной им самим. К чести его, и к засвидетельствованию справедливой ему похвалы, за одобрение и покровительно упражнявшихся в науках и художествах, довольно будет упомянуть из письма г. Ломоносова, написавшего к нему, следующие стихи:
А ты, о Меценат предстателъством пред нею, Какой наукам путь стараешься открыть, Пред светом в том могу свидетель верной быть, Тебе похвальны все, приятны и любезны, Что тщатся постигать учения полезны.ниже:
Кто кажет смысл во днях ещё младых, Тот будет всем пример, дожив власов седых.* * *
И также из письма его ж г. Ломоносова, напечатанного при героической поэме «Пётр Великий»:
И если в поле сем прекрасном и широком Преторжется мой век недоброхотным роком; Цветущим младостью останется умам, Что мной проложенным последуют стопам. Довольно таковых родит сынов Россия, Лишь были б завсегда защитники такия, Каков ты промыслом в сей день произведён, Для щастия наук в Отечестве рождён и проч.Стихи к портрету г. Ломоносова хотя изданы мною под именем г. Поповскаго; но по отпечатании того листа получил я от некоторой особы достоверное известие, что они сочинены г. графом Шуваловым, что также подтверждает, сколь много любил он науки и покровительствовал учёных людей.
ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА?[622]
Во второй половине XVIII века ведущими центрами русской науки и просвещения были Академия наук и Московский университет. Вслед за ними были созданы новые научные центры. В 1765 году было основано Вольное экономическое общество — формально независимое от правительства. Оно было создано при самом активном участии сановной знати с целью «исправления земледелия и домоводства». С помощью рационализации помещичьего хозяйства Общество ставило задачу повышения доходности дворянских имений. В «Трудах ВЭО» публиковались статистико-географические описания страны, советы по агротехнике, земледелию и садоводству.
Заметным центром культуры стала Российская академия, занимавшаяся изучением русского языка и словесности. Она просуществовала с 1783 по 1841 год, когда была включена в состав Академии наук. Её первым президентом была Е. Р. Дашкова, а секретарём академии И. И. Лепёхин. Российской академией в короткий срок был подготовлен шеститомный толковый словарь русского языка. В деятельности Российской академии принимали активное участие Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, Г. Р. Державин и другие крупные учёные и писатели XVIII века. В XIX веке её членами были П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. С. Пушкин.
Продолжая традиции М. В. Ломоносова, новый шаг вперёд сделала русская наука. В области естественных наук по-прежнему, как и в первой половине XVIII века, продолжалось всестороннее изучение природно-географических условий в различных регионах страны. В 1755 году увидел свет двухтомный труд С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки». В 1768—1774 годах пять академических экспедиций обследовали берега Северного Ледовитого океана, Урал и Приуралье, Алтай, Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье, Кавказ. Их возглавляли крупные учёные И. И. Лепёхин, П. И. Рычков, П. С. Паллас, И. П. Фальк, И. Г. Гмелин. Позднее, в 80-е годы XVIII века, Н. Я. Озерецковский обследовал берега Ладожского и Онежского озёр, а В. Ф. Зуев составил «Путешественные записки... от С.-Петербурга до Херсона».
Наряду с крупными учёными академиками-иностранцами Л. Эйлером, Д. Бернулли выдвинулось значительное число способных русских исследователей, ставших в один ряд с передовыми специалистами мира. Среди них астрономы С. Я. Румовский и П. Б. Иноходцев, химик Н. П. Соколов и В. М. Севергин, математик С. К. Котельников, экономист М. Д. Чулков, врачи И. М. Максимович-Амбодик и К. И. Щепин, непосредственный преемник М. В. Ломоносова в изучении электричества физик В. В. Петров, агроном И. Т. Болотов (см. также выше имена питомцев Московского университета — крупных учёных второй половины XVIII в.).
Нельзя, говоря о русской науке XVIII века, не назвать имён русских учёных-самоучек: теплотехника И. И. Ползунова, изобретателя и конструктора И. П. Кулибина, гидротехника К. Д. Фролова, механиков Р. А. Глинкова и Т. И. Волоскова.
В области гуманитарных наук наиболее интенсивно изучается история. Как указывалось выше, В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов положили начало русской исторической науке. Труды М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, сбор и публикация документов Г. Ф. Миллером, Н. И. Новиковым внесли значительный вклад в изучение прошлого нашей страны.
В 60—70-е годы XVIII века Екатерина II и президент Академии художеств и директор Сухопутного шляхетского корпуса И. И. Бецкой сделали попытку создания системы закрытых учебных заведений, в основе преподавания в которых лежала бы мысль о приоритете воспитания над образованием. В это время в европейской педагогике получила широкое распространение идея Д. Локка и Ж.-Ж. Руссо: «Корень всему злу и добру воспитание». Екатерина II и И. И. Бецкой решили создать «новую породу людей», с тем чтобы «преодолеть суеверие веков, дать народу своему новое воспитание и... новое порождение».
В соответствии с планом И. И. Бецкого в 1764 году были открыты училище при Академии художеств, Воспитательные дома в Москве, а позднее в 1770 году в Петербурге, Смольный институт благородных девиц с отделением для девушек-мещанок, Коммерческое училище в Москве (1782 г.), преобразованы кадетские корпуса.
Детей в возрасте 5—6 лет, а в Воспитательных домах подкидышей или «несчастнорожденных» младенцев изолировали от пагубного, по мысли реформаторов, влияния семьи и общества. Путём воспитания в них «благонравия» в тепличных условиях должна быть приготовлена «новая порода людей». Взгляды И. И. Бецкого характеризуются целым рядом прогрессивных для своего времени моментов: гуманное воспитание детей, развитие в них природных дарований, запрет на телесные наказания, начало женского среднего образования. И всё-таки и теория и практика И. И. Бецкого были утопией. Отчего же так произошло?
Вторая половина XVIII века в России — время, когда начинается разложение феодализма, и складывается капиталистический уклад в экономике страны. В этих условиях в начале своего царствования Екатерина II, стремясь упрочить существующий строй, проводит политику «просвещённого абсолютизма». Используя идеи французского просветительства, идеи буржуазные в своей сути, и поставив их на службу абсолютизму, Екатерина II стремилась укрепить самодержавный, крепостнический строй. Эта особенность времени породила многие политические акции Екатерины: созыв Уложенной комиссии, журнальная деятельность императрицы, конкурс о право крестьянской собственности в Вольном экономическом обществе, флирт с французскими философами и т. п. Именно в таком контексте и следует рассматривать педагогические идеи и практику одного из видных екатерининских вельмож И. И. Бецкого. Это было время, когда ряд европейских монархов (Екатерина II, Фридрих II, Франц-Иосиф и др.) «кланялись» философам, а те возвращали им поклоны. Философам, приближавшим своими идеями Великую Французскую буржуазную революцию, казалось, что они могут управлять «мудрецами на тронах» и с их помощью преобразовать феодальное общество, но короли прекрасно осознавали свою задачу укрепить господство дворянства и понимали, что они «оплачивают» философов. Сложным, противоречивым и неоднозначным, таким образом, было екатерининское время. Понять его правильно можно лишь с классовых позиций, исходя из оценки конкретной общественной практики второй половины XVIII столетия, то есть исторически. Именно с таких позиций и следует рассматривать И. И. Бецкого и его реформы в области педагогики.
Утопический, то есть несбыточный характер преобразований И. И. Бецкого с точки зрения формирования действительно нового человека очевиден. На самом же деле формировался человек крепостнического, сословного общества, и реформа И. И. Бецкого, имея утопический характер, на деле служила конкретной задаче сохранения старых порядков. Это была дворянская утопия.
Говоря о попытке Екатерины II и И. И. Бецкого создать «новую породу людей», крупнейший русский дореволюционный историк В. О. Ключевский пишет: «Эти мысли пропали бесследно». И подчёркивает карандашом эти слова. Чуть ниже читаем: «Вольтер не поверил бы, узнав, что его свободолюбивой философии в России суждено было служить цветной повязкой, прикрывающей постыдные пятна на лбу рабовладельца».
В последнем по времени издания обобщающем труде по отечественной истории даётся следующая характеристика реформ И. И. Бецкого: «Искажение взглядов Руссо особенно ярко выразилось в педагогической теории И. И. Бецкого, выдвинутой им взамен общеобразовательной системы Ломоносова», (см.: История СССР с древнейших времён до наших дней. М., «Наука», 1967, т. 3, с. 559).
Глубоко неверными были исходные пункты теории И. И. Бецкого — превосходство воспитания над обучением, отрыв школы от жизни, преимущества «благонравия» над просвещённым разумом. Создание «новых» дворян, купцов, промышленников, ремесленников (заметим, что о крестьянах, составлявших тогда 96 процентов населения страны, пет и слова) преследовало цель сформировать людей, не склонных к «вредным умствованиям», всецело преданных самодержавию, гуманных по отношению к крепостным (дабы не вызвать их восстании), что позволило бы «просвещённому монарху» сохранить старые дворянские порядки в стране.
Генеральная линия развития русской школы шла не через утопические затеи И. И. Бецкого, а по пути создания широкой системы народного образования, отвечающей реальным потребностям страны. В этом плане важную роль сыграла школьная реформа, проведённая в 1782—1786 годах. В России была создана система общеобразовательной школы.
В 1782 году по приглашению Екатерины II в Россию переехал сербский педагог Ф. И. Янкович де Мириево (1741—1814), получивший известность своими реформами школьного дела в славянских школах австрийской монархии. Ф. И. Янкович, серб по национальности, исповедовал православие, хорошо знал русский язык. Он и составил план реформы, утверждённый Уставом народных училищ в 1786 году. Для вновь создаваемых школ Ф. И. Янкович написал также целый ряд руководств учителям и учебники.
В соответствии с планом Ф. И. Янковича в уездных городах учреждались малые народные училища, а в губернских городах главные народные училища. Училища формально объявлялись бессословными, в них разрешалось поступать любому человеку. Однако на деле сословность образования сохранялась, так как обучение не являлось всеобщим и обязательным, не давало равной возможности для продолжения учёбы.
Малые народные училища имели двухлетний срок обучения.
В них преподавали чтение, письмо, священную историю, катехизис, рисование, элементарные курсы арифметики и грамматики.
Главные народные училища были открыты в 25 губернских городах. Обучение в них велось 5 лет. Первые два класса соответствовали программе малых училищ. В 3—4-х классах (4-й класс был двухгодичным) обучение велось закону божьему, арифметике, геометрии, физике и механике, всеобщей и русской истории, естественной истории, архитектуре с чтением планов, а для желающих — латинскому и новым языкам.
Во вновь созданных школах вводились единые сроки начала и окончания занятий, классно-урочная система преподавания, создавалась методика преподавания дисциплин, единые учебные планы. По-прежнему приоритет отдавался воспитанию, под которым понимали верноподданническое служение феодально-крепостническому государству.
Малые и главные народные училища наряду с сословными школами, университетом и гимназиями при нём составляли, таким образом, структуру системы образования в России к концу XVIII столетия. По подсчётам специалистов, в стране тогда имелось 550 учебных заведений с общим числом 60—70 тысяч учащихся, не считая домашнего обучения. И всё-таки, несмотря на подъём просвещения, в среднем образование в России конца XVIII века получали два человека из тысячи.
Главной задачей обучения и воспитания молодого поколения было формирование истинного сына Отечества. Это обстоятельство и определило выбор документов, публикуемых в данном разделе. Их два — статья первого русского революционера А. Н. Радищева и учебник для малых и главных училищ.
Статья А. Н. Радищева (1749—1802) «Беседа о том, что есть сын Отечества» была опубликована в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 году, за год до выхода «Путешествия из Петербурга в Москву». Авторство А. Н. Радищева было установлено только в 1908 году, и статья не фигурировала в ходе суда над А. Н. Радищевым. Не была она и включена в состав первого собрания сочинений, опубликованного его сыновьями в 1806—1811 годах.
Отвечая на вопрос, кто достоин звания истинного сына Отечества, А. Н. Радищев даёт однозначный ответ — свободный человек. «Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества!» — восклицал А. Н. Радищев. И действительно, в его статье ни сам крепостной раб, ни его владелец не могут быть названы подлинными сынами Отечества. «Человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею». Истинный сын Отечества — честолюбив, благонравен, благороден. Честолюбие его — в уважении к себе и в стремлении к справедливости в обществе, в котором он живёт. Благонравие (нравственность) такого человека заставляет его совершенствоваться на благо Отечеству. Благородство — это благородные поступки, которые совершает человек, движимый честью в интересах людей, «воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам естества и народоправления».
Таким образом, А. Н. Радищев, руководствуясь теорией естественного права, по которой все люди от природы равны, исходя из идеи примата человеческого разума, ведёт борьбу за освобождение человека, за человеческое равенство. В тогдашних русских условиях это были революционные идеи.
Совсем по-другому, с позиций господствующего класса, даётся ответ на вопрос, кто есть истинный сын Отечества, в «Книге о должностях (долге, обязанностях. — Сост.) человека и гражданина». Книга «О должностях...» была впервые издана в 1783 году и неоднократно переиздавалась. Она служила основным учебником, который изучался в главных и малых народных училищах. Как считают составители «Сводного каталога русской книги XVIII в.», книга «О должностях...» была написана известным австрийским педагогом Иоганом Игнацем Фельбигером (1724—1788). По этой книге велось преподавание в сербских школах на территории австрийской монархии. Русский перевод с немецкого был, по всей вероятности, просмотрен и отредактирован с участием Екатерины II и Ф. И. Янковича. Часть книги И. И. Фельбигера, касающаяся крестьян, на русский язык не переводилась.
При чтении книги сразу бросается в глаза, что слова «человек» и «гражданин» сменились словом «подданный». Известный советский исследователь русской литературы XVIII века Г. П. Макогоненко назвал книгу «манифестом педагогических воззрений русского самодержавия». И действительно, уже на первых страницах книги «О должностях...» проводится мысль о том, что человеческое счастье и благополучие зависят не от занимаемого места в обществе, а от внутреннего душевного состояния. «Истинный сын Отечества должен привязан быть к государству, образу правления, к начальству и к законам». Как прямое противопоставление радищевским честолюбию, благонравию и благородству формулируются три главные черты истинного сына Отечества: 1) «не делать ничего предосудительного в рассуждении правительства»; 2) повиновение законам; 3) «упование на прозорливость и праводушие правителей». Таково было кредо крепостников, изложенное в книге «О должностях человека и гражданина». Одновременно с этим книга содержит многочисленные правила поведения, советы по ведению хозяйства и т. п., написанные с позиций здравого смысла. Это делало учебник своеобразной энциклопедией нравов и жизненных установок, характерных для того времени.
И радищевская «Беседа», и книга «О должностях...» блестяще иллюстрируют два полюса русской общественной мысли — революционный и дворянско-монархический.
А. Н. РАДИЩЕВ БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА
— Не все рождённые в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. — Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге[623].
— Вступи и виждь! Кому не известно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Всё сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлечённым от божественных и естественных гражданским, или общежительным.
— Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества?
— Он не человек, но что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено ещё в нём удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определённой работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осуждённой на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное своё состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестию своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои ничто иное, как мёртвые тела, погребённые одно против другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание заказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?
— Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть ничто иное, как движимые мучителем машины, мёртвые трупы, тяглый скот!
— Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?
— Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловожделении, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пиянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все домы для бессмысленнейшего пустоглаголания[624], для обольщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щёки коробками белил и сурика или, лучше сказать, живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своём убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, — словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощённые силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко — он щёголь.
— Не сей ли есть сын отечества? — или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми одному ему известными средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить едова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? потоки слёз, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын отечества?
— Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостию, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; всё сие не поколеблет его сердца; всё сие для него не значит ничего, — он умножает своё имение, а сего и довольно. — И так не сему ли принадлежит имя сына отечества?
— Или не тот ли, сидящий за исполненным произведениями всех четырёх стихий[625] столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? И так, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырёх? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдём). Смесь сих четырёх везде видна, но ещё не виден сын отечества, ежели он не в числе сих!
— Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплён собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.
— Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.
— Всякому врождено чувствование истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеиедений к тихому её, чести то есть, свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть честь? а другая в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.
— Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рождён с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечнаго.
— Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчинённости. О, ежели б вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчинённость. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слёзы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается.
— Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снисканию чести и похвалы у других. Сие происходит из врождённого человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувствование толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживает любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадёжным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.
— И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к чести и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надёжнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всём заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.
— Кто посеял в человеке чувствование сие искать прибежища? — Врождённое чувствование зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине ничто иное, как врождённое пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратий своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.
— Рассматривающий деяния человеческие увидит, что сё одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И сё начало того побуждения к люблению чести, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! сё причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостию при воззрения его, похвалами, восклицаниями. Сё предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное своё удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом честолюбив.
— Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбити ближних; ибо единою любовию приобретается любовь; должно исполнять звание своё так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь нимало о воздаянии почести, превозношении и славе, которая есть сопутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемою не вечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.
— Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонравия и тем отнять у отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей[626], ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подаёт благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесёт крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнию; если же она нужна для отечества, то сохраняет её для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает всё, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствования соотечественников своих. Словом, он благонравен! Вот другой верный знак сына отечества!
— Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына отечества, когда он благороден. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенён истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинуясь законам и блюстителям оных, предержащим властям, как всего себя, так и всё, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не инако чувствует при том воспоминании (которое в нём непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оного: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в её тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честию, которая не инде находится, как в беспрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по преднисуемым законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещённой древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына отечества!
— Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однако ж, не быть нечисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращённом, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.
— Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного введён богомудрыми монархами[627], и просвещённая Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!
[И. И. ФЕЛЬБИГЕР] О ДОЛЖНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА[628]
Кинга к чтению, определённая в народных городских училищах
Российской империи, изданная по высочайшему повелению
царствующей императрицы Екатерины Вторыя в Санктпетербурге, 1787 года
Вступление О БЛАГОПОЛУЧИИ ВООБЩЕ
1. Всяк человек желает себе благополучия и не довольно того, чтоб другие о нас думали, что мы благополучны; но всяк хочет быть в самом деле благополучным и сего благополучия желает не на короткое время, но навсегда и вечно.
2. Во всяком звании можно быть благополучным. Часто думают люди, что одни только цари, князья, благородныя и знатныя особы благополучную жизнь имеют; сие однако ж несправедливо: благость божия ни единаго человека не исключила от благополучия; граждане, ремесленники, поселяне, также рабы и наёмники могут быть благополучными людьми.
3. Можно также быть и во всяком звании неблагополучным; не надобно думать о людях низкаго и убогаго состояния, чтоб они были неблагополучны: ибо часто знатные и богатые бывают ещё гораздо неблагополучнее простых и неимущих людей.
4. Правда, что во всяком звании есть нечто приятное, чего другия звания не имеют, но за то и всякое звание имеет собственный свои тягости. Самое естество вещей мира сего приносит сие с собою и сам бог тако устроил.
И так, кто иное звание себе избирает, или кого бог в иное звание поставляет, тот должен и тягости звания того на себя принять и терпеливо оныя сносить.
Не должно нам никогда того желать, что званию нашему непристойно, по тому что и получить того не можно: тщетное желание мучило бы только наше сердце; а мы можем по мере состояния нашего быть благополучными, хотя и лишены того, что другие в вышших степенях имеют.
5. Не терзались бы люди толь многими суетными желаниями, когда бы знали, что благополучие не содержится в вещах, вне нас находящихся. Не состоит оно в богатстве, то есть: в землях, многоценных одеждах, великолепных украшениях или в других вещах, кои видим и округ себя имеем. Богатые удобно себе таковыя вещи могут доставить; но чрез то они ещё не суть благополучны, и сие доказывает, что благополучие не состоит в обладании таковых вещей.
6. Истинное благополучие есть в нас самих. Когда душа наша хороша, от безпорядочных желаний свободна, и тело наше здорово; тогда человек благополучен: и так те люди только на свете прямо благополучны, кои состоянием своим довольны; ибо без довольствия, спокойныя совести, благочестия и благоразумия самой богатой и знатной столько же мало может быть прямо благополучен, как и самаго низкаго состояния человек.
Для приобретения же добрыя совести, здравия и довольствия обязаны мы:
а. Напаять душу нашу добродетелию.
б. Пещись надлежащим образом о теле нашем.
в. Исполнять общественный должности, на который мы от бога определены.
г. Знать правила хозяйства.
Часть I О ОБРАЗОВАНИИ ДУШИ
Введение
1. Не одно только тело, которое видим, составляет человека. В теле сем ещё нечто обитает, чего мы не видим. Кто сему верить не хочет, того самое искуство научает, что он многия вещи памятует, кои издавна видал, слыхал, осязал, вкушал и обонял. В теле же человеческом нет ни единаго члена, которой бы памятовал прошедшее.
Чувства телесный ощущают настоящее, но не прошедшее; а как человек и прошедшее себе напоминает, следовательно, есть в нём от тела нечто различное, кое прежняя чувствования познает; и сие существо, которое в нас прочия вещи познает, называется душа.
2. Душа может прошедшее памятовать; то есть она имеет:
а. Память. Человек внимательный может много в памяти содержать; по тому что многому прилежно внимает: он совершенно памятует все вещи и их обстоятельства, кои внимательно видел или слышал. Память тем более укрепляется, чем более и долее употребляет человек внимание; напротив же того, легкомысленный и невнимательный ничего или весьма мало памятует, потому что примечает по большой части в половину или неправильно.
б. Что душа в память впечатлена, о том она далее размышляет: одна мысль рождает другую, и так душа разсуждает и заключает; а когда душа о всём том, что в память свою вместила, далее размышлять и разсуждать может, то говорится: она имеет ум или разум. Буде, кто какую вещь правильно приметил и оную правильно на память себе приводит, тот может и правильно о ней разсуждать. Легко видеть можно, что великая в том нужда, дабы душа правильно разсуждала. Почти все вещи в свете имеют в себе нечто, кое нам или полезно или вредительно быть может. Часто злое кажется весьма приятным, а доброе часто имеет в себе нечто нам неприятное, и кто всё сие в памяти своей довольно не затвердил, а токмо себе то представляет, что ему приятно или неприятно показалось, истинное же зло или добро забывает, тот неправильно разсуждает, и почитая иногда злое за доброе, а доброе за злое, причиняет себе часто несказанный вред.
в. Что нам угодно, того мы хотим и желаем, а не получая онаго, скоро предприемлем делать то, чем бы могли желаемое нами получить. Сие действие души называется воля. Желания и намерения бывают часто столь сильны, что человек ни сил своих, ни имения, ни здоровья, ни жизни не щадит, лишь бы только желаомое получить; а из сего ясно, сколь нужно ведать, в самом ли деле те вещи, коих мы желаем, хороши или вредны или только хорошими кажутся. Кто о вещах неправильно разсуждает, тот хочет и делает злое, думая при том о себе, что он хочет и делает доброе. Память, ум или разум, воля, желания и намерения называются душевными силами.
3. Когда сии душевныя силы частым упражнением не изощряются, не руководствуются, и добрым наставлением не исправляются: тогда воображения, кои человек себе о вещах света и благополучия делает, часто ложны и неправильны бывают. Не научается он тогда правильно различать добраго от злаго и почитает то за доброе, чем желания и склонности сердца своего успокоить может. И так великое для человека благодеяние, когда его научают, как правильно мыслить, а по тому и как правильно поступать.
Глава первая О ДОБРОДЕТЕЛЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
1. О праводушии.
Кто всегда по тому поступает, что за справедливое признал, тот есть праводушный человек. Праводушный при делах своих не испытывает, что склонности и желанию его сходно, но что праведно.
И так праводушие есть склонность и старание как должности звания своего, так и должности к богу и людям исполнять. Не надлежит нам думать, что свет сей ради нас токмо сотворён: подобно как мы жить и благополучны быть хотим, так и другие того же хотят и желают.
Но сии другие люди, с которыми нам жить надобно, не всегда бывают добрые и умные люди: и так научаться нам должно, как между людьми всякаго состояния, между добрыми и злыми благополучно и безопасно жить: а сего и достигнем, когда мы не токмо знания нашего должности, но и обязательства к ближним нашим исполнять стараться будем. Ибо не токмо добрые имеют благоволение к праводушным людям, но и те, кои о исполнении должностей своих мало пекутся и стараются, некоторым благоволением мало по малу к ним прилепляются. Добродетель толикую имеет в себе приятность, что и от самых ея врагов почтена.
2. О любочестии.
Любочестие есть склонность чести достойным себя учинить и старание делать то, чем истинная честь приобретается. Должность к самому себе есть всё то делать, что нас в глазах других людей достойными чести сделать, то есть что нам почтение приобресть может. И так дозволяется нам радоваться о том, когда нас другие почитают. Но не должно сердца своего к единой только славе прилеплять, и безмерно о том досадовать, когда другие не признают того, что в нас доброе есть. Может быть, что другие основательный иногда имеют причины, кои им возбраняют о делаемом нами добре, так как бы нам хотелось, разсуждать. Не надлежит нам ни беззаконными делами чести искать, ниже честь едину намерением дел наших поставлять: исполнение должностей наших да будет самое их намерение. Первое ложныя открывает правила, а второе суету. Честь не состоит во власти того, кто почитаем быть желает, но во власти почитающаго нас. Одни только разумные могут нас по истинне почитать. Подлец ничего не делает без награждения или принуждения; а любочестивый, желающий снискать похвалу от разумных, делает добро без корысти и принуждения.
3. О спокойствии духа.
Спокойствие духа есть склонность и старание, злыя обстоятельства и обиду терпеливо и без роптания сносить.
Спокойствием духа умаляем неудовольствие и печали, происходящия от бедности и злоключений в жизни. Есть нещастия, коих никакой разум и никакая власть отвратить не могут, и сии надлежит нам терпеливо сносить, тем наипаче, что нетерпение и роптание нас от таковых нещастий избавить никак не могут, но ещё несноснее нам оныя делают. Разумный человек из всех возможных средств действительнейшее всегда избирает, которым бы он состояние своё, есть ли не совсем облегчит, то по крайней мере толь сносным делать мог, поколику во власти его состоит; и для того надлежит нам непостоянство и тленность внешних благ часто вспоминать и искать небольших дозволенных забав, кои всякое людей состояние позволяет, дабы тем спокойствие духа нашего укрепить. А дабы нам спокойным быть, то помыслим, что всё, что в свете ни случается, есть добро, и когда не каждому особо, то по крайней мере к общему благосостоянию человеческаго рода служит. При сём помышлении можно быть всегда довольну и веселу, и душу от лишней скорби избавлять. Предадим себя токмо воли божией и станем уповать на промысл его.
4. О любоведении.
Любоведение есть склонность и старание, полезное себе познание приобретать, добрым наставлениям, примерам и увещаниям других охотно последовать. Надлежит нам стараться должности наши основательно разуметь; ибо чрез то побудительный причины к деланию их ясно и обстоятельно узнаем, и ко исполнению их тем более склонны бываем. По приобретении же нами основательнаго познания о должностях наших надлежит нам от заблуждений, то есть от ложных мнений, удаляться; ибо человек ложными мнениями одержимый истнннаго добра не познает и избирать не может, что ему полезно. И для того, от самых ещё младых лет наших должно нам научиться познавать самих себя и других, подражать добрым и честным людям, мудрших наставления принимать с охотою, злых же и порочных убегать тщательно, на каждой день поступки свои наперёд разумно располагать и по окончании дня испытывать, каковы дела наши были и в чём мы того дня познание наше распространили.
5. О правдивости.
Правдивость есть свойство честнаго человека, которое его заставляет никогда не говорить инако, как он мыслит и знает, и которое его от лжи удерживает, прямое от порока сего омерзение в нём насаждает, и никогда его не допускает до употребления таковых худых средств.
Глава вторая О ДОЛЖНОСТЯХ К БОГУ
Должности, кои надлежит воздавать богу, предлагаются обстоятельно в катихизисе. Здесь токмо скажем, что честному человеку надлежит быть благочестиву, и что истинное благочестие не только в радетельном хранении к службе божией касающихся обрядов и в совершенном ведении закона и онаго должностей, но наипаче в том состоит, чтоб любить и почитать бога всем сердцем, волю его исполнять, всегда по ней жить: и сие для того, что мы от бога на то сотворены.
Глава третья О ДОЛЖНОСТЯХ К БЛИЖНЕМУ
1. О дружелюбии.
Дружелюбие называется склонность и старание с другими доброхотно, без досады и отвращения обходиться. Иногда и малейшая вещи могут сделать нас у других любезными.
Единаго токмо поклона или посещения, когда кто из знакомых наших болен, а иногда и единаго благоприятная взора довольно, чтоб нам ближних наших благосклонность и дружество снискать. Людям же, имеющим всегда мрачное и досадою наполненное лице, по большой части весьма трудно друзей себе приобрести, хотя бы и многия иныя имели в себе похвальный качества, ибо к невесёлому и угрюмому не очень кто прилепляется.
2. О миролюбии.
Миролюбие в том состоит, чтоб со всяким ужиться и ни с кем не ссориться, да и тогда уступать, когда к тому и не обязаны.
3. О услужливости.
Услужливость называется склонность и старание с охотою то делать, что другим угодно, полезно и нужно.
Когда люди увидят, что мы благосклонны им помогать, где только сие без великая нашего ущерба быть может, когда увидят, что мы их от настоящаго им вреда остерегаем, или им при начинании чего-нибудь к благополучию их доброй совет подаём, или когда в обхождении нашем некое дозволенное удовольствие найдут, тогда они столько же, а часто ещё и более ради нас сделают, нежели мы ради их сделать хотим. И так не должно пренебрегать никакого случая, где мы ближним нашим услужить можем.
Весьма благополучно было бы света сего состояние, когда бы все люди в сём случаю должное исполняли. Когда бы всяк всех других людей любил, как себя самого; тогда бы ничего инаго не желал, как видеть их благополучными; и когда бы во всяком усердное доброжелание ко другому было, то бы каждый все силы свои употреблял помогать благополучию другаго. Не токмо словом и делом искренно и усердно помогали бы друг другу, но ещё и радовалися бы о том, когда бы других желания домыслом постигали и всякая угождением и услугою предваряли.
Правда, что люди не все таково услужливы, однако сего ради не надлежит нам в исполнении должностей наших леностными быть, ниже ждать, пока нас в том все прочие предуспеют.
4. О искренности.
Искренность называется склонность и старание, другим не обинуясь, то сказывать, что им полезно, и остерегать их от того, что им вредно.
Кто в обхождении с людьми не искренно поступает, того вскоре все возненавидят. Невозможно людям всех намерений и мыслей ближних своих постигнуть, также и вообще невозможно им всего ведать; а по тому и нужно им часто на то полагаться, что другие скажут. Когда же люди скажут нам не самую истинну, то мы неведением многое такое делаем, которое нам необходимый вред нанесёт. И сего ради лжецы во всякое время всеми людьми ненавидимы бывают; а искреннему, о коем известно, что истинну любит, ложь же и лесть ненавидит, в словах, обещаниях, уговорах и повестях его без божбы и клятвы верят. Всяк, кому он что обещает, толь твёрдо на слово его надеется, как бы от инаго письменное обязательство получил. Искренные люди сию вообще имеют за собою слабость (буде сие слабостию назвать можно), что о всех других по своему примеру судят, и от всех той же им свойственной искренности ожидают: а как часто принуждены они бывают с ложными людьми в то или иное дело вступать; то и случается иногда, что ложные искренность их во зло употребляют, и таковым образом обманывая их, вред им причиняют. И так великая при сем потребна осторожность, дабы мы с одной стороны от опасности себя берегли, быть обманутыми. Мы недоверчивым поступком известнаго в честности человека могли бы озлобить; напротив того безумно бы было иному, коего искренность ещё не испытана, неосмотрительно вверяться.
5. О честности.
Честность называется склонность и старание, благосостоянию других с искренностию споспешествовать, а особливо, когда мы к тому или обещанием, или каким либо образом обязаны. Честность надобно более делами и сердцем, нежели словами и лицем показывать. Лукаво тот поступает, а не честно, кто к другим людям на словах приязнен, в сердце же своём хитр и злоковарен. Кто же к другим столь добросердечен, что и о своём благосостоянии забывает, тот поступает неразсудно.
6. О почтительности
Почтительность в том состоит, дабы мы о других ничего, кроме добра, не помышляли и им почтение наше при всяком случае и словом и делом оказывали.
Глава четвёртая О ДОЛЖНОСТЯХ К САМОМУ СЕБЕ
1. О порядке.
Порядок называется склонность и старание, дела свои так порядочно располагать и совершать, как их качество само собою требует; все вещи свои на известном некоем месте иметь и оныя там сохранять, чтобы всякую в нужном случае скоро и невредиму сыскать было можно.
Человеку, которой платье своё, обувь и проч. с вечера на известное некое и обыкновенное место положит, поутру не будет нужды одного здесь, а другаго инде искать: по окончании игры надлежит также всё на прежнее место класть.
В доме, в коем нет порядка, приходит всё в замешательство; в таковом, чтобы поутру сделать надлежало, то в полдень или под вечер исполняется. Тамо не знают, кто дому господин или раб, госпожа или рабыня, кто повар или ключник.
2. О трудолюбии.
Кто всегда в деле упражняется, которое он по состоянию своему и по должностям звания своего отправлять должен, тот называется трудолюбив.
Трудолюбие есть склонность и старание делать то, чем кто себе и своим, по обстоятельствам состояния своего, потребное содержание честно приобретает, приобретённое же имение праведно сохраняет. Труд и работа служат не только к приобретению нужнаго к жизни, но и к потребному ума и телесной крепости упражнению, следовательно и к сохранению здравия.
А как первое, так и второе к произведению человеческаго совершенства способствует, то и должность наша есть трудиться.
Работаю же или трудом называем все те упражнения, которыя мы или ради себя или ради других предпринимаем.
В государстве нет ничего полезнее и нужнее трудолюбия и прилежания подданных: ничего же нет вредительнее лености и праздности. Леность лишает даже здравия. Кто долго проспал, тот не весело идёт на работу; пища же и питие никогда толь приятны не бывают, как по довольном движении. Любящий труд прилежен, а ненавидящий оный, ленив. Труд есть должность наша и твердейший щит против порока. Ленивый и праздный человек есть бесполезное бремя земли и гнилой член общества.
3. О довольствии.
Довольствие есть склонность и старание, праведно приобретённым имением довольствоваться.
Убогой человек, которой тем, что имеет, доволен, гораздо счастливее богатого, который всегда более желает и никогда не доволен.
Многие уже сему примеры в свете бывали, что люди никогда более заботы не имели, как в то время, когда имение их умножилось.
Что господом дано, то тем и наслаждайся; Чего же не дано, о том не сокрушайся. На всякой степени приятная есть часть, На всякой степени есть также и напасть. О, смертный! не дерзай ты мыслью заблуждаться. Чтоб благость божия могла тебя чуждаться, Чего достойны мы, бог больше нам даёт; А удаляет то всегда, что нам во вред.Довольный человек не много себе желает, а поелику мало желает, то часто больше получает, нежели надеется; и так часто причину к нечаянной радости имеет.
4. О хозяйстве.
Хозяйство называется склонность и старание доходы свои так располагать, чтобы всё нужное в доме нашем водилось.
В хозяйстве не довольно того, чтобы стараться о приобретении честнаго достатка; но надлежит и о том думать, чтобы приобретённое сохранить, и денег на ненужный вещи не тратить.
Сколько бы родительское наследство ни было велико, однако вскоре расточится, когда кто сохранять его не будет.
5. О бережливости.
Бережливость называется склонность и старание имение своё или нажиток так располагать, дабы за всеми нужными издержками ещё нечто оставить и будущия ради нужды отложить.
Понеже мы будущих нам приключений знать не можем, чрез который мы или мнения нашего лишиться, или к приобретению потребнаго неспособны быть можем: того ради должность наша есть и о таковых приключениях помышлять и от настоящаго имения нечто зберегать, дабы в случае оных нужды не претерпеть.
Бережливый человек как от расточения, так и от гнусныя скупости удаляется.
Расточитель более проживает, нежели надобно, и сие есть порок; а скупой всегда более хочет скопить, нежели сколько ему без ущерба содержания своего, или благопристойности зберечь можно, и сие равным образом есть порок.
Расточением сами себя у других в подозрение приводим, что мы безразсудны; за скупость же почтут нас подлыми, да и пред самим богом ответ мы дать повинны, когда дары, кои от превелики» его благости прияли, в пользу нашу разумно употреблять не станем.
Глава пятая О ТОМ, ЧЕГО УБЕГАТЬ ДОЛЖЕН ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ[629]
1. Безмернаго самолюбия.
Кто о своём токмо покое и пользе печётся, хотя бы то и со вредом другаго было, и кто так разсуждает, тот мало друзей иметь может.
Как мы отнюдь не можем сами себе полнаго благосостояния доставить, понеже определены чрез дружеской токмо с прочими людьми союз благополучными быть; то и надлежит нам в разсуждении всякаго человека иметь такое поведение, какого мы сами от него взаимно ожидаем. Люди самих себя любят, того ради и нас любить будут, когда увидят, что мы пользу их наблюдать и желаниям их способствовать станем. Когда же усмотрят, что мы не обинуемся[630] их оскорблять, тогда врагами своими нас почтут, и равное равным нам воздавать будут; и для того при всяком деле нашем весьма прилежно нам смотреть надлежит, каковое действие оно в сердцах ближних наших справедливо произвести может, дабы всякое злое последование рачительно предускорить.
2. Гордости и спеси.
От гордости и спеси воображаем мы себе, что мы лучше других, и думаем, что другие нам много, мы же им не столько, или и совсем ничем не одолжены.
Гордость ведёт нас к ложному мнению, что мы отлично премудры, богаты, прекрасны и добродетельны, или но крайней мере в таковых преимущественных обстоятельствах, что другие ради того нас предпочитать долженствуют, и что мы того по праву от них требовать можем. Гордость пред всеми людьми мерзска, желаний своих не достигает и действительному приобретению воображаемых преимуществ препятствует.
Наилучшее средство противу гордости есть познание самаго себя. Когда помыслим токмо, что совершенства наши в глазах наших всегда больше быть кажутся, нежели в глазах других, что многия гораздо больший имеют дарования, и что они гораздо большими уже опытами оныя засвидетельствовали, нежели мы; то не будет нам причины мечтать о себе, что мы лучше других.
3. Тщеславия.
Тщеславием называется безмерное к чести стремление и лшлание более почестей иметь, нежели надлежит или получить можно. Кто не по достоинству нас почитает, тот ошибается или не знает нас. Нам хотя и надлежит так поступать, дабы другие познавали добрыя наши качества; но когда люди не признают в нас оных, тогда же должно нам почитать себя обиженными и за то их ненавидеть, ниже о том досадовать; поелику всё сие не есть средство достоинство наше ведомым учинить.
Титла и похвалы суть обыкновенно суета. Разумный не взирает на то, каковый кто титул носит; но на достоинство токмо смотрит. Когда он увидит достоинства в человеке титл неимеющем, то почитает его более всякаго титла имеющаго, но недостойно оныя носящаго.
Тоже бывает и с высокими от простаго народа нам даваемыми похвалами. Один разумной может лучше похвалить, нежели тысяча глупых. Многие токмо для того жадны к деньгам, понеже видят, что простой народ тем, которые богаты, особливое некое отдаёт высокопочитание. Однако да не превозносится тот имением своим, которой онаго заслугами своими не приобрёл. Часто и самая нищета похвальна, когда кто при ней разумом и добродетелью других превосходит. Кто чести своей в многоценной одежде ищет, то по большой части от одних купцов и ремесленников высоко почитается, поелику он доставляет им большую прибыль. Никто из разумных ради одежды, отличающей нас от других, не почитает нас более, но паче осмеивает, что чести в таковых суетах ищем.
4. Подлости или небрежения чести.
Подлость бывает в людях, кои в истинной чести никакого удовольствия не находят, делают непристойный дела, или к таковым поступкам склонны, кон приводят их у разумных людей в презрение. Человек имеет подлый мысли, когда ему нравятся хулы достойный дела других, когда охотно о них говорит, и когда он сам склонен таковыя делать и о чужих погрешностях с охотою говорить, их недостатки разглашать, ссоры, смуты ииныя неприостойныя дела заводить, которыми у других в презрение приходим. Юноша, которой сие охотно делает или в товарищах своих нечто таковое похваляет и их за то любит, подл, и без сумнения в больших случаях на худыя дела согласится, и чрез то навлечёт на себя неблаговоление всех разумпых людей.
5. Распутства.
Распутным называется человек, которой порокам и неистовствам предан.
Кто распутно живёт, тот в стыд и посмеяние впадает, ослабляет тело своё, делает себя пред богом наказания достойным и пред людьми ненавистным. Критяне, когда хотели проклинать врагов своих, желали им, дабы они беззаконными страстьми преодолёны были, или что всё равно, дабы ввергнули себя в нещастие и посрамление.
6. Грубости.
Грубость называется, когда делаем то, что других оскорбляет, или им противно и неприятно. Есть некоторой род грубости, которая и самаго низкаго состояния людям непростительна; да и христианству, повелевающему друг друга честью предварять, противна, именно же ради того, что оная означает сердце всякия любви лишённое. Речи, коими явное к ближнему презрение показывается, всякие поносительныя и язвительный названия, хотя и под видом шуток даваемая, грубостью называются. Сей порок раждает в ближних наших противу нас негодование; по тому что всяк, кому грубость являем, или кому и в малых услугах отказываем, может из того усмотреть недоброхотство наше.
7. Неучтивости.
Неучтив есть тот, кто небрежёт к другим быть почтительным и вежливым, и кто не делает того, что благонравные люди равнаго с ним состояния делать обыкли.
Правда, что мы от людей в младости своей к тому непривыкших тончайших нравов требовать не можем, однако надлежит нам всегда по крайней мере столько учтивыми быть, сколько и другие люди нашего звания.
Надобно всем людям по различию их чина, старости и звания приличное почтение оказывать и ни с кем презрительным образам не обходиться. Не должно говорить о том, чего другой охотно или не слушает, или не разумеет; но должно сообразоваться другим и не требовать, чтоб все другие во всём с нами согласовались: и таковым образом, когда мы сие станем исполнять, почтут нас не токмо учтивыми, но ещё ближние наши станут нас любить и почитать.
8. Прекословия, презрения, осуждения, осмеяния, не снисходительного суждения и клеветания.
Есть такие люди, кои ни о ком добраго говорить не могут. Когда токмо о малейшей чужой погрешности узнают, то повсюду её разглашают, смеются и радуются о том, что ближний их погрешил. Они же часто лгут, и многое сами выдумывают, таковые люди действительно сами себе вредны; ибо делают, что всяк их убегает, и никто не хочет им помогать; ниже с ними обходится. Никому не приятно, чтобы кто худо о нём говорил, и всяк ненавидит того, кто его таким образом или презрительным или ещё и нещастливым сделал.
До сего надлежит и сие, что мы иногда из должнаго к другим почтения, принуждены бываем казаться, что отступаем от нашего мнения (лишь бы то правде или любви ближняго было непротивно); ибо в противном случае почтут нас безразсудными, упрямыми и надменными, и чрез то потеряем ту благосклонность, которою пользовались у людей вышших степеней. Никогда не надобно забавлять собрания разсказами погрешностей других людей. Когда кто о ком нечто вредное разсказывает, то таковыя вести или справедливы, или сомнительны. Буде они сомнительны, то надобно стараться разумным образом таковое оглашение от того человека отвратить: буде же one справедливы, то надобно показать своё сожаление, что человек сей впал в таковой проступок. При том надобно стараться погрешность его, представляя человеческую слабость, сколько можно уменьшать и о собственных своих недостатках помнить.
9. Самохвальства и хвастовства.
Понеже хвастовству редко верят, а долго никогда, и как скоро оное в нас узнают, так скоро делаемся мы смешными и презрительными; того ради надлежит сего порока убегать. Хвастовством оскорбляем мы разумных людей; поелику кажемся, что их такими глупыми почитаем, как будто они не в состоянии усмотреть в нас недостатка тех преимуществ, о которых мы их уверить хотим.
10. Лжи, проклинаний и клятв.
Когда бы все люди разумны и добры были, то худыя следствия лжи могли бы каждаго от сего порока отвратить. Однако, как много таковых, кои столь глупы, что до неистовства упиваются, хотя и знают, что они чрез то и здоровье своё повреждают, и имения лишаются; или которые столь ленивы, что ничего делать не хотят, хотя и знают, что чрез то в бедность и недостаток впадают: подобно тому много и таковых, кои неправду говорят, хотя и ведают, что чрез ложь вероятие и доверенность у других людей теряют, и по обнаружении лжи своей повсюду гонимы и ненавидимы бывают.
Проклинания и клятвы обыкновенно людьми напрасно употребляются.
Некоторые люди, а особливо извощики, думают, что скот проклинания более слушается; однако причину того не в проклинаниях, но в крепком голосе искать надобно. Проклинания ни к чему не служат, как только показать другим, сколь мы сердиты и свирепы и что в сердцах больше бы сделать хотели, нежели в самом деле можем. Заклинания душею и тому подобное суть безразсудныя и грешный слова. Закон христианский ни волосом главы нашея клясться нам не дозволяет; а тем не менее должно нам отваживаться при малейших вещах душу свою в залог отдавать.
11. Не должно говорить о вещах, коих не разумеем.
Когда разговор бывает о вещах, о коих мы или ничего, или очень мало разумеем, го лучше всего молчать; а когда об оных нас спросят, то надлежит нам в незнании нашем искренно признаться; для того, что таковое признание никогда нам не может столько вредительно быть, сколько то, когда в такие разговоры вмешаемся, коих не разумеем, и из которых часто со стыдом и посрамлением узнаем, что благоразумнее бы было, когда мы молчали.
12. Речей у других не перебивать.
Когда кто говорит, а особливо кто старее или знатнее нас, то великая неучтивость речь у него перебивать. Когда дело твоё не самой крайней важности и медление терпящее, то не должно никогда прежде начинать говорить, пока другой не перестанет.
13. Невразумительности в разговоре, крика и проч. избегать.
Надлежит нам слова ни очень скоро, ни очень протяжно выговаривать, не петь, но говорить, голос свойству вещей согласно переменять, и все слоги ясно произносить. Когда же мы для того речей не договариваем, что не хотим взять на себя труда, вразумительной и умной дать ответ, тогда таковая поступка по справедливости в грубость вмениться может.
Часть II О ПОПЕЧЕНИИ О ТЕЛЕ
Глава первая О ЗДРАВИИ
1) Здравием тела нашего называем мы то состояние, когда тело наше свободно от всех недостатков и болезней.
Здравие тела растворяет душу нашу радостию и делает обхождение наше с искренними и разумными приятелями весёлым; а отправление должностей звания приятным. Хворость же делает нас печальными, препятствует в обхождении с добрыми друзьями, лишает нас случаев веселиться и наслаждаться различными творениями природы в различный времена года, приводит нас в презрение у других, когда болезнь наша происходит от нас самих и нашей неумеренности и наконец ввергает нас и с домашними нашими в нищету, бедствие и смерть. И так следует из сего, что мы здравие тела нашего должны наблюдать.
2) Тело человеческое подвержено многим припадкам, от которых происходят недостатки телесные, слабости и болезни. С некоторыми из оных люди раждаюгся на свет, и потому оныя наследственны; другия же, напротив того, приключаются человеку в жизни, и потому оныя случайны.
3) Случайные телесные недостатки, слабости и болезни, коим мы подвержены, происходят:
а. Частию от других людей;
б. Частию от нас самих;
в. Частию также и от непредвядимых нещастных случаев.
4) Причины болезней, кои мы получаем от других, суть следующия:
а. Неосторожность и небрежение матерей, повивальных бабок, кормилиц и нянек.
б. Баловство при воспитании: когда детям дают во всём волю, потакают их желаниям и прихотям; а за непослушание их и упрямство либо совсем их не наказывают, либо наказывают, но не в пору.
в. Зараза от других: когда какая ни есть болезнь от других к нам прилипает.
г. Безразсудное лечение болезней; например: когда больному дают пить в горячке горячие напитки, от чего он может легко притти в бешенство и впасть даже в самую крайнюю опасность жизни.
д. Легкомыслие: когда пугают детей чертями, домовыми и прочими ужасающими их небылицами; ибо от сего происходят также разные и опасные припадки, как то родимцы и падучая болезнь.
е. Худые примеры и соблазны на пирах или в непозволительных местах и сходбищах.
5) Причины болезней, от нас происходящих, суть следующий:
а. Неумеренность в пище и питии.
б. Употребление незрелых овощей и плодов, також нездоровых и для желудка тяжёлых яств.
в. Небрежение от жара и стужи.
г. Сидение или стояние на сквозном ветру, а особливо когда разгорячимся.
д. Сырость и духота в жилищах.
е. Жестокия страсти, как то гнев, печаль, горесть и прочия.
ж. Всякая плотская нечистота, от коей раждаются страшныя, прилинчивыя и из рода в род простирающийся болезни.
з. Неосторожное употребление всякаго оружия и инструментов.
и. Неосторожность в лазанье, борьбе, прыгании, подымании тяжестей и проч.
й. Упущение пригодных лекарств.
к. Неосторожное употребление хороших лекарств и слепое употребление способов суеверных.
6) Непредвидимые нещастные случаи бывают также почасту причиною тяжких болезней, как то: внезапный страх, нечаянный стыд, удар, падение, заразительный воздух и проч. В таковых случаях потребна бодрость духа.
7) Правила воздержания при необычайном жаре.
Ежели кто чувствует в себе какую ни есть болезнь, а особливо необычайный жар, тот должен только остаться в покое и удаляться рачительно от всех безмерностей!, каково бы рода и имени оне ни были; наиболее же всего беречься весьма тёплых и мягких постелей и жарких изб, но тому что свежий и умеренный воздух есть в сём случае первое лекарство. Буде больной не голоден, то не должен принуждать себя к яде: ибо яствы, а особливо мясныя, бывают в то время для него ядом и пищею болезни; желудок его не в состоянии их сварить, и потому причиняют оне тошноту, и через несколько часов переходят в гниль.
8) Правила воздержания в горячках.
В болезнях, а особливо воспламенительных, как то в горячках употреблять надобно прохладительный и кровочистительныя лекарства, к которым принадлежат чистая, свежая, однако отнюдь не самая холодная вода, особливо же смешанная несколько с уксусом, или варёная с ячменём или овсом, сыворотка и самые спелые сочные плоды, как например: клюква и тому подобное. Напротив того остерегаться всячески, когда жизнь нам мила, чтобы не употреблять жёской, жирной и для желудка неудобоваримой нищи, как то мяса, а особливо копчёнаго, ветчины и проч.
9) Правила воздержания при отягчённом и испорченном желудке.
Ежели кто чувствует необыкновенную слабость, и то жар, то озноб, жажду, тошноту, головную боль, отрыжку, нечистоту во рту и на языке: то сие есть верной признак, что желудок его отягчён и испорчен, так что не может более варить пищи надлежащим образом. Тогда ищет он тщетно облегчения и помощи в жарких банях, мазях, увязывании головы и окутывапии тела; тщетно утоляет тогда жажду вином и водкою: не лучше он себе поможет.
а. Когда примет заранее пристойное рвотное или слабительное, которое желудок его очистит.
б. Когда воздержится несколько времени от веяния пищи, а особливо от жеския и неудобоваримый и вместо того станет довольствоваться малым количеством жидкой похлёбки.
в. Когда станет пить чистую и свежую воду, то она пособит скорее притти телу его в порядок, и вымоет из него нечистоту.
10) Правила об оспе.
Оспа есть болезнь, приключающаяся каждому человеку, не только в молодых летах, но и во всяком возрасте. Она всех болезней опаснее, по тому что не токмо ужасно безобразит людей, но не редко делает кривыми, а иногда и совсем слепыми. Родители сокрушаются безутешно о состоянии детей своих, видя глаза их оспою заслеплённые, уста же и язык едва голос произносящие; а дети претерпевая несносныя мучения, часто и жизни от того лишаются.
Но естьли желает кто детей своих избавить подобнаго мучения, и не допустить до них показанных ужастных следствий оспы: тот да призовёт заблаговременно врача, которой бы здоровым ещё детям оную привил, и сохранил бы чрез то красоту лица их и здравие, и отвратил опасность безвременный смерти. Великий и безсмертныя славы достойный пример на пользу человеческому роду оказать в сём соизволила всемилостивейшая наша государыня императрица Екатерина Вторая в своё царствование, употребив как над собственною своею особою, так и над своим высоким наследием спасительное средство прививания оспы, которое с того времени вошло в употребление в Российской империи.
11) Общий правила в немощи.
Когда кто болезнь какую в себе приметит; то должен избегать всего того, что недуг его умножить может, и искать помощи и совета у искуснаго врача. Бог действует при том посредством своих тварей, так как и в большей части других случаев. Он хочет, чтоб мы во время болезней наших прибегали к нему, и просили у него очищения грехов наших, и пользовалися лекарями и лекарствами. [...]
12) Правила о употреблении лекарств.
Все лекарства, кои бог нам чрез искуснаго врача посылает, употреблять надобно надлежащим образом и держаться точно предписаний врача своего, ибо
а. Врач разумеет болезнь нашу и ведает, что нам вредно и полезно.
б. Он знает травы, цветки, коренья и составы, и как и когда употреблять их, что бы они надлежащее действие имели.
Аптекарь делает лекарства только по предписанию врача: и потому не должно вдаваться в обман площадному вралю, который столь безстыдно всем тем себя называет, чем может он только обмануть дураков.
Глава вторая О БЛАГОПРИСТОЙНОСТИ
Римский консул Цицерон сыну своему, в Афинах учившемуся, следующее между прочими дал наставление о благопристойности.
Стоя, ходя, сидя и за столом, в лице, в глазах и в движениях рук должно иметь пристойный вид, а особливо такой, какому нас сама природа научает. При сем особливо двух погрешностей остерегаться надлежит: первое, весьма нежнаго и не мужественнаго вида; второе, развратнаго и грубаго.
1. О походке.
Благопристойно ходим, когда ноги несколько выворачиваем, однако не принуждённым и не чрезмерным образом.
Когда не весьма малые и не весьма большие шаги делаем.
Когда шагая ноги поднимаем только так, чтоб оне по земле не тащились, подошвы ног не очень возвышаем, а пальцы всегда несколько к земли протягиваем.
Когда прежде не на пяты, но на переднюю часть ноги ступаем, потом пяты тихо опуская становимся. Сим отвращается топание ног и стук, которой иные люди каблуками своими делают.
Непристойно ходим, когда ноги волочим, а не поднимаем, и лениво их по земле тащим.
Когда на пальцах ходим, и ногами внутрь или на крест ступаем.
Когда шатаемся со стороны в сторону, согнутыми коленами ходим, и на право, или на лево ступая, тело тона одну, то на другую сторону наклоняем, что шатанием называется.
Когда голову и тело спереди наклоняем и ходим так, как будто чего потеряннаго ищем.
Когда топаем или так крепко ступаем, что при всяком шагу большой стук делаем.
2. О стоянии.
Надлежит привыкать свободно, ни к чему не прислонясь и прямо стоять, колена вытянуть и твёрдо держать; ноги ни очень близко вместе и ни очень далеко одну от другой становить и несколько выворачивать, голову от плеч поднимать и смотреть с почтением на того, с кем говорим. Ежели о чём спросят, то надобно скромно, вразумительно, кратко и хорошо ответствовать, а пустаго болтания никогда не начинать, менее же всего при знатных людях.
3. О сидении.
Сидеть надлежит смирно, ногами не махать, ни накрест их не класть, ни подколенка одной ноги на колено другой. Сидя за столом, не надобно телом ни на стол, ни на соседа своего наклоняться, а тем меньше облокачиваться или класть локти на стол.
Можно положить иногда на стол руки, но локтей не класть никогда, разве когда пишем. Спину же и голову должно привыкать держать прямо и ненаклонно.
4. О коленопреклонении.
Когда молитву нашу с коленопреклонением совершаем, то не должно ни к чему прислоняться, но тело свободно и прямо, а не сгорбя держать. Колена становить вместе, а голеней не разделять, передней части одной ноги на подошву другой не класть; по пяты назади вместе ставить: а особливо не должно при коленопреклонении на голени садиться.
5. О поклонах.
а. К простым людям.
Учтивость требует, чтоб встречающимся с нами знакомым, а особливо знатным людям, ласково кланяться. Мущины, когда в обеих руках ничего не несут, или инако препятствованы не бывают, должны всегда отдавать поклон свой снятием с головы шляпы или шапки; а женщины наклонением только головы. Таковое учтивство весьма не трудно, и для того надлежит оказывать оное и самаго низкаго состояния людям, потому что правила вежливости того требуют и чрез то название учтиваго человека получить себе можно.
б. К знатным людям.
Когда встретимся со знатными людьми, то должно нам по состоянию и достоинству их, более или менее наклониться, голову же не прежде покрывать, пока они совсем мимо нас не пройдут. Ежели кому есть дело до таковых особ и чрез служителя им о нас не объявлено; то должно у дверей постучаться, или подождать в передней, а вошед в горницу поклониться.
6. О благопристойности в лице.
Благопристойность заключается также весьма много в наружном виде лица. Как доброе, так и злое сердце лицеи часто изображается. И так к исправлению наружнаго вида лучшей способ есть исправление сердца. Хотя разность человеческих лиц не напрасною быть кажется, и оныя некоторым образом к познанию душ зеркалом служить могут: однако никогда не должно совсем на то полагаться; ибо часто под ласковым и приятным видом лукавый льстец, а под тёмным и мрачным благороднейшая душа скрывается.
В движениях лица надлежит всякия неблагопристойности убегать. Таковыя неблагопристойности суть: когда кто часто мигает, то есть ресницы то в верх поднимает, то в низ опускает, легкомысленно и с насмешкою на все стороны смотрит, язык изо рта высовывает, или пальцы в рог кладёт, рот и глаза пялит, весьма громко кашляет, или зевает не закрывая рта рукою, когда дерзко безстыдно и забиячливо выступает, в носу ковыряет и презрительной, надменной или сердитой вид показывает.
7. О благопристойности в одежде и прочих вещах.
Хотя платье, которое тело наше покрывает, и не составляет нашего достоинства; однако и то правда, что непристойная одежда подаёт о человеке худое мнение. Обычаи в одежде сами по себе ничто; но поелику они сделались всеобщими и принятыми, то надобно им последовать, и довольно, когда будем мы в том пи первые, ни последние, ни новомодны, ни старомодны.
До сего надлежит опрятность. Лицо и руки должно умывать, ногти же обрезывать, а не кусать, голову в чистоте содержать и волосы причёсывать; а простым людям по крайней мере так подстригать, чтобы они на глаза не висели, лучше же всего волосы заплетать и завязывать.
Платье и обувь, как только время допустит, всегда чистить; одним словом, так одеваться, чтоб благонравие наше всем людям, кои нас знают, известно было. Также и во всём прочем опрятность около себя наблюдать: ибо она есть нужное свойство благосостояния, а при том и здоровью много способствует, и в самом убожестве можно быть опрятну. Всё, что тело наше гнусным делает, также и здоровье наше повреждает: от поту зачернявшееся бельё причиняет сгустение крови и гнилость, а чистое бельё как глазам приятно, так и тело освежает и укрепляет. Также холодная вода, которою умываемся, укрепляет и жилы наши и жизненный в нас силы ободряет. Запертый и загустевший воздух в горнице как обонянию гнусен, так и лёгкое повреждает и ослабляет. Старание то, от котораго бывают зубы наши белы и дыхание здорово, сохраняет рот от гнилостей и дурных мокрот. Есть великое множество болезней, кои от нечистоты тела рождаются; и для того надлежит, а особливо летом, часто мыться, часто свежий воздух в горницу впускать, и пыль обметать, чтоб дыханием в себя её не глотать. Также не всё без разбора есть и пить, но прежде посмотреть, чисто ли оно и здорово.
Часть III О ДОЛЖНОСТЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, НА КОТОРЫЙ МЫ ОТ БОГА ОПРЕДЕЛЕНЫ
Глава первая О СОЮЗЕ ОБЩЕСТВЕННОМ ВООБЩЕ
1. Всякой человек должен ближнего своего, то есть других людей любить, и им делать столько добра, сколько он по обстоятельствам своим может; для того, что всякой человек тогож самаго от других себе желает.
2. То состояние, в котором всё потребное к нужде и выгоде человеческой жизни легко получить, спокойно оным владеть и наслаждаться можно, называется внешним благополучием.
3. Люди без помощи других не могут доставить сами себе всех надобностей и выгод жизни, ради многих препятствий, следовательно, не могут они привести сами себя в состояние внешняго благополучия; но потребно им к тому содействие других людей. Сие подало причину, что многие люди соединились в одно общество, в том намерении, чтоб друг другу в потребном к их нужде и выгоде помогать.
4. Из сего следует, что мы должны тех, кои нам к сему внешняго благополучия состоянию или действительно помогают или помогать могут, любить, то есть: им по возможности нашей оказывать добро и быть полезными, следовательно, и благополучия их взаимно искать. И так человеколюбие есть основание общества.
Глава вторая О СУПРУЖЕСКОМ СОЮЗЕ
1. Первой союз есть супружеской. Сей союз есть древнейший, потому что бог сам ещё в раю оной установил намерение и конец онаго есть рода человеческаго продолжение.
2. Един токмо муж и едина токмо жена составляют сей союз. Сии должны друг друга любить, друг друга верны быть, и вместе пребывать, пока смерть их не разлучит.
3. Муж есть глава, жена же помощница мужу, она должна мужа почитать и бояться, быть ему подчинена и в домостроительстве помогать.
4. Муж с женою своею должен не строго поступать, власти своей над нею во зло не употреблять; но любовно с женою обходиться, надлежит ему о пропитании и о снискании нужнаго стараться.
Глава третья О СОЮЗЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
От перваго супружеского союза, когда дети родятся, начинается другой, а именно: союз родителей и детей.
1) Родители, вообще сказать, должны о детях своих попечение иметь. Пока дети малы и не в состоянии ещё сами себе помогать, родители должны их кормить, воспитывать и им показывать то, что им делать надобно; для того, что дети сами ещё не разумеют, что хорошо или им действительно полезно, и что без попечения и руководства родителей, ради немощи своей ко снисканию, и ради слабости телесных и душевных сил своих, были бы подвержены недостатку и многому вреду. Сие попечение родителей о детях своих должно быть в их воспитании, а воспитание в том состоит, дабы детей всякому добру наставлять, всему, что по обстоятельствам их нужно, а особливо закону божию, или самим, или чрез других обучать, добрые примеры подавать, рождающееся в них зло отвращать и когда увещания не пользуют, неупустительно наказывать; однако не причиняя им вреда, дабы безмерною строгостью не зделать их раздражёнными и ожесточёнными. Надлежит родителям и о том стараться, чтоб детям своим некое имение собрать и оставить; нерадение родителей о всём здесь упомянутом есть тяжкое преступление должностей их.
2) Но и дети имеют весьма великое обязательство к родителям своим: понеже жизнь свою от них получили, то и должно им быть весьма к ним благодарными. Они обязаны родителей своих почитать, не токмо словами, но сердцем и делом, и за то получают себе благословение божие; они должны повиноваться и повиновение своё наипаче тем показывать, чтобы увещания родителей своих принимать и наставлениям их последовать. Детям не должно сокрушать родителей своих, но стараться их радовать, не должно их огорчать, ниже раздражать, ни обижать, ни презирать или над ними насмехаться, ниже клясть, кольми паче подымать на них дерзкую руку, ни радоваться о приключающемся родителям их зле; но должно слабости их, а наипаче в старости, терпеливо сносить и ласково с ними обходиться. Они должны стараться благословение своих родителей заслуживать, клятву же их от себя отвращать.
Глава четвёртая О СОЮЗЕ ГОСПОД И СЛУГ
1. Третий союз есть союз господ и слуг. Он состоит между господином и рабами, домоначальником и служителями обоего пола. Таковые союзы были без сомнения ещё от начала мира, потому что Авраам имел во Египте рабов и рабынь.
2. Общество сие господ и слуг богу отнюдь не противно; поелику есть заповеди божии, кои как господам, так и слугам, свободным и рабам, должности их предписывают. Павел в первом послании к коринфянам гл. 7 ст. 21, 22, 24 ясно о рабах и свободных упоминает, и каждаго из сих обоих состояний увещевает и тако говорит: Раб ли призван есть кто, да не печалится: Раб вкупе и свобод во звании своём да пребывает.
3. Господа и домоначальники не должны рабов своих и домашних работами выше сил их отягощать, ниже требовать от них более того, к чему они обязаны. Они должны рабов своих и домашних от всякаго зла отвращать, и ко всякому добру, а паче ко службе божией побуждать, обходиться с ними человеколюбиво, обыкновенную или обещанную им плату и хлеб в надлежащее время и без убавки выдавать.
4. Рабы и слуги должны господ своих и домоначальников любить и почитать, и по званиям своим повиноваться, и при том не по наружному токмо виду, но искренно и от всего сердца. Должныя службы обязаны они охотно и верно, со тщанием и в надлежащее время исправлять, дабы они господам и домоначальникам действительно полезны быть могли; и сим обязаны они не токмо добрым, но и ненравящимся им. Также должны они господам и домоначальникам своим угождать, пользы их всеми силами искать, и всякой вред от них отвращать, уреченною и определённою платою довольствоваться, и ни под каким видом, будто бы более заслуживали, ничего тайно себе не присвоить, и от оставшихся за господскими расходами денег ничего не удерживать и не утаивать.
Глава пятая О СОЮЗЕ ГРАЖДАНСКОМ
ЧЛЕН I О гражданском союзе вообще
1. Четвёртый род союза есть тот, в котором многия семейства, соединившись вместе, живут под одною державою и под одинакими законами совокупно. Таковые союзы пли общества называются гражданскими, иначе же называются народами.
Сии общества произошли различными образами, уставлены же одинаким: иногда начальник многочисленнаго племени покорял себе насильно слабых, иногда превосходныя свойства какого-нибудь человека побуждали других ему подчиниться и вверить ему учреждение общаго их благосостояния, или попечение о их защите, либо на короткое время, либо по смерть его, или и потомкам его, с некоторым или без всякаго изъятия. Бывали народы, да и ныне ещё такие есть, у коих многия особы о благосостоянии сограждан своих пекутся, и ту же власть имеют, какую имеет в государстве государь. Сии общества называются республиками.
2. Хотя бы тем или иным образом правление в какой земле было установлено, однако в каждой есть либо один или многие повелевающие, коим прочие должны повиноваться.
3. Повелевающия особы, во всех учреждениях своих, общее всех подданных благополучие намерением себе поставляют. Они повелевают и запрещают то, чтобы каждой из подданных сам стал делать или не делать, когда бы мог в общий союз всех обстоятельств проникнуть, и когда бы имел при том довольно просвещения избирать то, что может утвердить его благополучие.
4. Те, кои повелениям верховных начальников подчинены, следовательно, им и повиноваться должны, то есть: подданные, должны иметь совершенную доверенность к вышшему разуму верховных своих начальников, и на благость их полагаться, и твёрдо уповать, что повелевающие ведают, что государству, подданным и вообще всему гражданскому обществу полезно, и что они ничего инаго не желают, кроме того, что обществу за полезное признают.
5. Ослушания закону должен каждый подданный, как наибольшаго зла в обществе остерегаться; ибо чрез то полагается препятствие тому общему добру, которое верховное начальство сохранить старается.
6. Все правители держав и верховные начальники не были бы то, ниже пребыли, что они теперь суть, когда бы бог, который всё в мире сём управляет, на то не соизволил. Сего ради говорит нам священное писание, что власти от бога установлены, установлены же для благосостояния тех, коими они повелевают.
ЧЛЕН II О звании и власти государей
1. Правители держав имеют долг и власть для благосостояния и безопасности подданных своих, законы и уставы давать, о наблюдении оных пещися, правду и правосудие хранить и содержать, преступников и злодеев наказывать, жизнь и имение подданных против неправедных обид защищать и неприятельским нападениям других сильно противустоять.
2. Правители держав, имея власть от бога, стараются ещё и о том, дабы подданные их научены и наставлены были в тех доляшостях, кои закон божий налагает, без исполнения которых вечнаго блаженства получить не можно; ибо не довольно быть временно благополучным; но человек, в теле котораго безсмертная душа обитает, должен помышлять и о вечном блаженстве.
3. Правители держав благополучие подданных своих различными образами производят:
Дают им законы, то есть верховною властию сочинённыя и надлежащим образом обнародованный предписания, определяющий, что делать и чего не делать. Они означают, что праведно или неправедно, определяют, чем подданный государству и каждый гражданин другому обязаны, не дозволяют, чтоб один вредил другому, и делают каждаго безопасным во владении. Жизнь, честь, имение или собственность каждаго законами защищается, случающийся обиды ими отвращаются, и обиженному правосудие и удовлетворение доставляется.
Понеже государство столь пространно и составляющих оное людей столь много, что государю не возможно одному за сохранением законов усмотреть, самому всех судить, и бываемыя жалобы разсматривать: то и нужно было многих других к правлению дел государственных определить. Великое разстояние большей части подданных от государя требовало, дабы и во многих местах таковыя власти были установлены: а сии должны быть как одна другой, так и все вообще государю подчинены, дабы подданные жалобы свои от части с меньшим трудом производить, от части же и дела их многими судьями тем безпристрастнее судимы быть могли.
4. Правители держав защищают подданных своих от неприятелей.
К тому избирают они из общества людей, кои бодрее, моложе, выше и сильнее, дабы они к защищению прочих и к сохранению всех в государстве учинённых установлений, против неприятеля служили; а во время мира во всём том упражнялись, что им во время войны делать надобно, и от сего нынешние солдаты начало своё получили.
При таковом учреждении, все прочие члены общества имеют ту пользу, что они и во время войны ремесла свои спокойно отправлять и земли пахать могут. Все сделанныя добрыя учреждения будут от того по крайней мере в тех местах, в который неприятельский войска ещё не вступили, сохранены в своём порядке и течении.
5. Попечение державствующаго простирается не токмо до того, чтоб подданных своих как от внешних неприятелей, так и от обид других сограждан защищать, и в правах и в спокойном владении имения их сохранять; но он старается ещё многими другими образами доставить им благосостояние.
Чего подданные особенно сами собою сделать не могут, то государь всего общества силами, употреблением полезных к тому средств и способных людей совершить может: на больших реках плотины поставить и тем наводнения отвратить, удобныя дороги сделать, пристанища для морскаго купечества построить, запасные дворы на случай голода и нужды наполнить, многаго иждивения требующия предприятия в действо произвести, дабы трудам подданных прибыль, а плодам земным достойную цену доставить: науки, художества и всякия ремесла в цветущее состояние привести, и бесчисленный иныя государству полезныя дела совершить, одни только государи в состоянии; и добрые государи всегда прилагали о том великое попечение.
ЧЛЕН III О обязательствах подданных вообще
1. Подданные называются все находящиеся в государстве люди, кои государю или правящим особам повинуются.
2. Подданные суть различного состояния, иные из них знатные, иные же низкие.
Между низкими есть свободные люди; есть же и такие, кои господам своим службою некоторыми податьми и иными различными образами обязаны, от части же и так присвоены, что ни они сами, ни дети их без соизволения господ с того места, где они живут, на другое переселиться не могут.
3. Знатные подданные государства суть те, кои имением своим, просвещением и способностями от других отменны; а отличаются они не токмо высокими названиями, но и тем, что к службе государства различными образами употребляются.
4. Все подданные или члены общества обязаны правителей своих за благодеяния и покровительство, от них получаемое, почитать, богу о них молиться, законам и уставам их повиноваться; подати и службы, без которых правители держав общаго благосостояния и безопасности сохранить не могут, должны подданные, так как оныя на них возложены, доброхотно и усердно давать, не от страха наказаний; но для того, что в совести пред богом к тому обязаны. Каждый подданный должен оказывать почтение, любовь, послушание и верность не токмо державствующему, но и определённым и установленным от него меньшим властям.
5. Вообще долг каждого подданного есть быть послушну, по введённым законам себя управлять и оныя высокопочитать, в обиде от другаго, или в ссоре своей с другим, не самому за себя отомщевать и по своему хотению поступать, но [лишь бы то не от злобы происходило] искать помощи от власти и жалобы свои по предписанному порядку производить; а в ожидании решения быть спокойну и по приговору судьи себя располагать.
6. Как частные люди и граждане государства могут между собою ссориться, так и целые народы или их владетели могут от различных причин впадать между собою в распри; но сия последния распри обыкновенными судьями решиться не могут, ибо нет таких людей, кои бы целые народы судили. В таковых случаях бывает война: впадшие в ссору народы друг против друга неприятельски поступают, один на другаго землю нападают, осаждают и берут города, выжигают места, отнимают жатвы у обывателей, отводят людей и скот в плен, между собою сражаются и делают друг другу столько вреда, сколько могут.
7. Таковое всех граждан постигшее зло или война требует, чтоб и все по силе своей старалися супротивлевие делать, общество защищать, и делаемым к защищению от государя приуготовлениям усердно способствовать.
8. В древния времена в таковых случаях каждый брал оружие, да и ныне ещё есть такие народы, у которых все граждане военные люди; а другие есть такие, где всё дворянство оружие принять, против неприятеля итти и на собственном иждивении в походе некоторое время выслужить обязано.
9. Когда неприятель не скоро прогнан бывал и война долго продолжалась, то государство крайне от того претерпевало, поля не были вспаханы, ремесла и прочая упражнения оставлялись и вред от того был столь велик, что часто во многие веки его чувствовали.
10. Чем более и сильнее по времени становились государства, тем многочисленнее становились и звания в обществах. Различные звания доставляли друг другу от часу более выгод, и тогда поход казался уже тем труднее, чем более привыкли к сим выгодам; а таковых надобно было лишаться, когда нужда настояла итти противу неприятеля.
11. Все сии здесь упомянутый обстоятельства вообще подали повод к учреждению особеннаго состояния людей, которые бы, при известном нужном содержании честию и награждениями будучи ободряемы, всегда вооружены были и отечество защищали.
12. Таковое людей военных, зделанное для благосостояния государства учреждение требует между тем великаго иждивения, ибо солдату надобно получать жалованье, одежду, оружие, жилище и пропитание. Сверх сего война требует ещё великаго иждивения, например; повозок, поставок, знатнаго запаса, и прочаго. По справедливости должно тем, кои от защищения пользу имеют, сие иждивение платить и иными различными образами к тому способствовать, дабы не быть принуждёнными выходить самим на защищение своё.
13. И для того как господа, так и частныя семейства земских обывателей должны тому сообразоваться, когда государь, кого из принадлежащих им людей для службы военной возмёть, а те, кои таковым образом взяты бывают, должны к новому своему состоянию привыкать и в оном верно и честно служить, не щадя своей жизни. Должны они почитать себя сочленами общества, с подданными той земли, для защищения которой они определены, безчинно не поступать и никакой обиды им не делать; также и во время войны всего против обывателя неприятельския земли за дозволенное себе не почитать, и частным людям, кои и без того довольно от войны нещастливы, личнаго, или в имении их вреда более не делать, как от установленных над ними военных начальников предписано.
От неистовств же для отмщения или сребролюбия, или от других безчинств должны себя люди военные воздерживать и определённым своим жалованьем довольствоваться. Кои не так поступают, как предписано, то согрешают тяжко против бога и ближняго, потому что ни звание их, ни война не дают им власти быть свирепыми и жестокими.
14. Для дальнейшаго благополучия подданных, которое государь основывает на разных способах и заведениях, требуется также великое иждивение и не малое содействие от подданных. По справедливости должны они способствовать к сему иждивению, и что кроме сего к содействию или к службе потребно, доброхотно давать, потому что они от того пользу имеют; и так должны они положенный дани и всякаго звания подати усердно платить. Сии подати налагаются всегда на каждого по мере государственных надобностей.
15. Те подданные, коих государь для збору податей определяет, должны с великою верностию по данному им предписанию поступать, ни от кого, кто должен платить, более положеннаго не требовать; а из собраннаго ничего себе не удерживать; но всё верно в надлежащее место отдавать.
16. Подобным же образом должны и те подданные поступать, коих государь к другим делам употребляет. Она должны исправлять то, что на них возложено, со всякою верностию, по совести, и так как от них требуется; непростительно же из корыстолюбия, из чрезмерной любви к покою или ради других причин вверенный дела пренебрегать.
17. Все сочлены гражданскаго общества должны о благосостоянии онаго усердно стараться, охотно к тому способствовать, что верховная власть повелевает; все учреждения ея почитать, хотя бы и некоторой убыток от того понесли, и хотя бы не усматривали, как оными общее благосостояние споспешествуется. О верховных властях надлежит так разсуждать, что оне по большему сведению обстоятельств всё то лучшее разумеют и что оне при уставах и учреждениях своих никакого другаго намерения не имеют, кроме пользы общества; и так против учреждений верховных властей роптать или во зло оныя толковать весьма неправедно и наказания достойно.
Буде кто из подданных имеет какое доброе изобретение или предложение, чем обществу польза зделаться или вред от онаго отвратиться может, то ему не иное что дозволяется, как объявить предложение своё верховной власти, последования от оной ожидать, а между тем быть спокойну, да и тогда не оскорбляться, когда предложение его не будет уважено. Подданные, кои по сему мыслят и поступают, о благосостоянии Отечества радуются, преимущества онаго и добрыя учреждения признают, почитают и по возможности своей оныя сохранять и исполнять стараются, называются истинными сынами Отечества.
ЧЛЕН IV О любви к Отечеству
Статья 1
О любви к Отечеству вообще
1. Между склонностями к добродетели и делами добраго гражданина щитается особливо любовь к Отечеству и действия оной. Большая часть великих действий древних греков и римлян, коим по ныне мы ещё удивляемся и который мы друг другу в пример к подражанию представляем, была следствием и действием любви их к Отечеству. В книгах исторических находятся знаменитая и почти невероятный действия добродетельных сынов Отечества. Сим именем называют людей обоего пола и всякаго состояния, кои Отечество своё почитают, о благе его пекутся, при благосостоянии его чувствуют истинное удовольствие, в нещастиях и опасностях не пребывают равнодушны; но сколько можно благополучию и спасению Отечества споспешествуют.
2. Люди сии, коим давали почтенное название сынов Отечества, показывали любовь к Отечеству разными образами: некоторые предпринимали для блага Отечества полезный, хотя и весьма трудный дела, и старалися, не взирая ни на какия препятствия, приводить оныя к окончанию; другие сносили постоянно и великодушно все злоключения и обиды для пользы общей и благосостояния своего Отечества. Не было ничего столь любезнаго и приятнаго для других, чем бы они не пожертвовали Отечеству. Многие не устрашалися ни каких опасностей, даже на смерть шествовали смело, и сносили равнодушно смерть свойственников своих, жертвовавших жизнию любезному своему Отечеству.
3. Много есть таких людей, коих в сём почти уверить не возможно потому, что в наши времена таковые примеры или не столь часто, или не столь много встречаются, как бывало в древния времена. Некоторые думают, что любовь к Отечеству есть такая гражданская добродетель, которая свойственнее вольному обществу или республике, нежели монархии, или что в республике по крайней мере более поводов и побуждений к тому находится; но всё сие весьма несправедливо, ибо естьли где в нынешнее время и окажется меньше любви к Отечеству, нежели в древности: то сему не образ государственнаго правления, но недостатки в воспитании причиною бывают, которые как скоро будут уничтожены; то и в наши времена окажется также великое число истинных сынов Отечества.
4. И для сего нужно делать тоже, что делали римляне, а особливо древние греки. Греки почитали воспитание детей государственным предметом: верховные начальники имели о них попечение и устроевали воспитание; они не оставляли онаго никогда на произвол одних родителей; не смотря на то, что многие из оных довольно ведали долг свой, чтобы воспитывать детей своих не только для самих себя и племени своего, но и для общества. Те же, коим воспитание препоручено было от государства, тщилися возбудить в юношестве внимание к выгодам отечества: они представляли им пользу государственных учреждений, приобучали юношество примечать совершенства оных, почитать и проникать все выгоды, коими каждый в Отечестве своём наслаждаться может; не забывали также повествовать им о славных делах сынов Отечества, и оных примерами возжигать в них ревность к подражанию. Всё сие делало сильное впечатление в юношестве; оно было поощряемо как добрыми и полезными, так и благородными действиями, чувствовало удовольствие и не могло удержаться, чтоб не любить и не делать того, что почитало за благородное и полезное.
5. Ежели станут в наши времена поступать с юношеством таким же образом, то возбудят в нём по примеру древних любовь к Отечеству, и тогда подданные монархического государства будут тоже делать, чему удивляемся мы в сынах Отечества древних свободных областей.
Статья 2
Что под именем Отечества и любви к
Отечеству разумеется
1. О том, что называется Отечество вообще, имеют весьма несправедливый понятия: почти никогда или по крайней мере весьма редко, представляют себе при сём слове то, что должно разуметь, когда говорится о любви к Отечеству.
2. В собственном знаменовании Отечество есть то великое общество, котораго кто сочленом, то есть: то государство, коему кто поддан или по месту своего рождения, или по преселению своему и жительству.
3. Таковое великое общество, которое иногда простирается чрез многия земли, называется потому Отечеством, что в нём благо всех жителей или сочленов, одною властию или законами так содержится и споспешествуется, как в доме благо чад попечением отеческим устроевается. И по сему все те, кои подчинены одному правительству или одной верховной власти, суть сыны одного Отечества.
4. Как члены или жители одного государства, все вообще имеют одинакия права на выгоды, доставляемый каждаго состояния людям законами и образом правления; то и они должны с своей стороны иметь одинакия честный чувствования и к Отечеству усердную привязанность.
5. Истинный сын Отечества должен привязан быть к государству, образу правления, к начальству и к законам. Любовь к Отечеству состоит в том, дабы мы почтение и благодарность являли к правительству, чтобы покорялись законам, учреждениям и добрым нравам общества, в коем мы живём, чтобы уважали выгоды Отечества, употребляли оныя к общей пользе и по возможности тщилися бы их зделать совершеннее, дабы принимали мы участие во славе того общества, коего мы сочленами, и ревностно б старались о благе онаго.
Статья 3
От чего происходит любовь к Отечеству
1. Когда любовь к Отечеству в том состоит, чтоб мы государю, начальству и законам общества, в коем мы живём, усердно покорялись, то смотреть нам должно, что любовь к Отечеству в сердцах наших производит.
2. Правда, что любовь к Отечеству основывается на любви к ближнему, предписываемой весьма сильно самим священным писанием, но как не нарушая всеобщей любви к ближнему, тоже священное писание обязывает нас помышлять о сродниках наших более, нежели о других; да и самым естественным побуждением дети любят родителей своих, а братья друг друга горячее, нежели прочих по ближайшему своему союзу, так и члены одного государства обязаны любить более государя своего и сограждан своих, с коими они соединены теснейшим союзом, нежели с чужим государем и его подданными.
3. Всяк знает, что родитель печётся отвращать все опасности от детей своих, но и государь, как общий чадолюбивый отец, доставляет безопасность всему государству от внешних врагов. Родитель содержит между детьми порядок и согласие; государь же наблюдением правосудия, защищает каждого подданнаго, обидимаго неправедным образом от сограждан своих. Родитель доставляет детям разныя надобности и выгоды; государь также распространяет повсюду порядок, изобилие и выгоды, каждому состоянию приличествующия.
4. Родитель избирает людей, дабы научить детей своих всякому добру, и не оставляя их без помощи, соделывает благополучие их, лишаяся даже своего спокойствия и своих забав: да и государь употребляет разных способных особ, для достижения великих, всему государству полезных намерений, внимает прозьбам подданных и не скучает от трудов, повелевая представлять себе оныя изустно или письменно; не оставляет никого без помощи, поколику ему можно, и лишает себя покоя, забав и выгод для доставления спокойствия и выгод подданным своим.
5. Когда же родитель для вышереченных детям оказываемых выгод, от детей своих особливо любим бывает; то поистине и государь заслуживает любовь от своих подданных тем паче, чем важнее являемый им благодеяния.
Статья 4
В чём надлежит являть любовь к Отечеству вообще
1. Общее благополучие членов государства есть цель всякаго правления. Сие благополучие теряют подданные, когда не в надлежащем порядке и почтении находится правление; из чего следует, что первая должность сына Отечества есть, не говорить и не делать ничего предосудительного в разсуждении правительства, и по тому веяния возмутительный поступки, как-то: роптание, худыя разсуждения, поносительныя и дерзския слова против государственнаго учреждения и правления, суть преступления против Отечества, и строгаго наказания достойны.
2. Законы суть учреждения, которыми определяется, что правительство почитает полезным для благосостояния государства; и так повиновение есть вторая должность сына Отечества. Каждый обязан повиноваться, и в таком случае когда повиновение кажется быть тяжко, и когда думается, что законам инаковым быть бы долженствовало.
3. Всеобщее благополучие в государстве часто инако приобрестися не может, чтобы при том некоторые люди не почувствовали какого-нибудь отягчения; но всеобщее благо должно предпочитаемо быть частному. Частные люди не могут в государстве всего видеть и довольно ведать о обстоятельствах онаго, дабы справедливо разсуждать могли, каким образом тот или другой закон споспешествует ко всеобщему или частному благу. Начальники могут и долженствуют всё сие лучше и основательнее знать, почему упование на прозорливость и праводушие правителей есть третия должность сына Отечества.
4. Повиновение сынов Отечества должно быть действующее, то есть: каждый сын Отечества долженствует ко благу государства действительно употреблять все свои способности и своё имение; а особливо когда требовать того будет начальство. Исполнение того есть четвёртая должность сына Отечества. Надобности государства суть многообразны, оне не могут всякому члену быть известны; по обстоятельствам бывают оне иногда более, иногда менее. Не всякой может разсуждать о нуждах и о важности их и о том, что для оных потребно, потому, что часто долженствуют оне сокрыты быть по законным причинам; почему долженствует сын Отечества охоту свою служить государству способностями и имением своим, не по собственному разсуждению и произволению являть, но должен поступать по тому, как правительство от него требует; требуемое же обязан он во всяких обстоятельствах охотно исполнять.
Статья 5
Чем долженствуют являть любовь к Отечеству простый народ и мещане
1. Любовь к Отечеству есть должность каждого члена государства и каждаго подданнаго. Но находятся случаи, при коих каждое состояние членов особенным, ему свойственным образом любовь сию показывать долженствует.
2. Простый народ, то есть питающиеся хлебопашеством и рукоделием, составляют самую последнюю степень граждан в государстве. Они должны оказывать любовь к Отечеству особливо повиновением и деятельностию, то есть: трудолюбием; к тому имеют они многообразные случаи, а именно: когда избираются из них солдаты, защитники Отечества против внешних врагов, когда правительство повелевает земледельцам, или для помощи государству в нужде, или для снабдения пищею войска, уделять нечто от приобретённаго земледелием, или привозить, или также держать постои.
3. Деятельность и трудолюбие должен простой человек являть не токмо охотным исправлением работы, налагаемой непосредственно для блага государства, но и тогда, когда трудится для доставления собственнаго себе пропитания: от таковаго государство всегда имеет пользу: ибо трудолюбием умножаются произведения земли и доставляются членам государства все надобности, выгоды и изобилие. Ленивые же напротиву того, неработающие и праздношатающиеся суть всегда бременем государству, причиняют ему вред и препятствуют его благосостоянию.
4. Простые люди оказывают себя тогда сынами Отечества, когда они не оставайся при старинных своих привычках, стараются перенимать полезное других стран сколько возможно, и оное употреблять для блага своего Отечества, или насаждая и разводя в своей земле иностранным произведения, или подражая, для пользы своей, образу земледелия соседей своих, или употребляя подобное соседнему прилежание к выделыванию собственных своих произведений, дабы не иметь нужды в чужих плодах и работе, и вывозимых за то из государства деньги удержать в своём Отечестве.
5. Сегоже требует любовь к Отечеству и от художников, кои собственно принадлежат ко второй степени подданных государства, то есть: к числу тех, коих справедливо с некоторым писателем, благовоспитанными гражданами назвать можно. Сюда принадлежат, кроме художников и купечества, и те, кои по способностям и знаниям своим, разными образами ко благосостоянию Отечества споспешествуют. В сей статье заключаются также мужи, научающие других должностям сограждан своих; из них государь берёт тех людей, кои в судопроизводствах и других званиях при правлении государства трудятся; сия же статья заключает ещё и тех людей, кои о направлении вкуса народного стараются.
6. Как прилежание простолюдина показывается особенно в употреблении телесных сил и в рукоделиях, подобно тому долженствует прилежание благовоспитанных граждан являемо быть добрым и охотным употреблением душевных сил. Главное правило, кое члены сей статьи пред очами иметь должны, состоит в том, дабы они почитали за должность зделаться полезными Отечеству чрез то самое, чему они себя посвящают, или к чему они определены. Они должны ведать, что те только являют истннныя заслуги отечеству, кои действительный доставляют ему выгоды, и что каждое состояние такия заслуги являть может, который хотя и не каждому представляются пред очи, и не каждым за таковыя признаются, однако государству весьма существенны.
7. Когда кто желает отвратить какое-либо зло, то должен сперва разсмотреть следствия, могущия быть от употребленнаго к тому средства, не больше ли оне принесут вреда, нежели самое то зло, которое искоренить он намеревается.
8. Предложения, коих исполнение для некоторых только особ или для некоторой только статьи граждан выгодно, не годятся ни к чему; ежели оне большей части людей, или статей гражданства вредны. В государстве должно наблюдать паче всего всеобщее благо, или по крайней мере большей части людей.
Благовоспитанные граждане обязаны повиновением не менее, как и простой народ. Они должны не только повиноваться законам вообще; но и в тех случаях поведения правительства исполнять, когда оно не почитает того полезным, что в их глазах полезным быть кажется; они должны напрягать силы душевныя к пользе Отечества по тому, как сего требует от них владетель государства.
Статья 6
Чем должны являть любовь к Отечеству духовенство, дворянство и военные люди
1. В государстве есть состояние людей духовенством называемое, как то: архиепископы, епископы, архимандриты, игумны, протопресвитеры, священники и диаконы, которых должность есть просвещать людей истинным богопознанием, исправлять сердца и волю их законом божиим и чрез утверждение их в добродетели и в добрых делах сей жизни, уготовлять им путь ко блаженству будущия.
2. Любовь их к Отечеству тем ещё более показывается, когда они должности свои так отправляют, как гражданскаго общества спасительный намерения требуют. Сие состоит в том, чтоб они наставлениями своими людей к верности и любви к государю и Отечеству побуждали, духом кротости отводили их от вредных заблуждений и суеверных мнений и душу их истинными, к благополучию служащими правилами так просвещали, чтобы она могли быть полезными и благопотребными членами гражданскаго общества, и служили Отечеству с успехом, исполненны добродетели, хорошими свойствами и добрыми мнениями.
3. Другое состояние людей в государстве благородным называется. В оном многия суть степени, но все вообще имеют следующий преимущества пред низким состоянием: им принадлежат высокий места в гражданском правлении и в войске, они суть ближайшие к особе монарха, следовательно, преимущественно ему ведомы, им употребляемы и действуют пред его очами: и так дворянство есть то состояние, которое наиболее для пользы Отечества делать может и долженствует.
4. Дворянство есть собственно награждение великих и полезных действий, произведённых или самим благородным, или родителями и предками его, который должны быть чадам и внукам примером к подражанию: тем же, кои заслужили сами собою дворянство, заслуги и полученный чрез них преимущества, должны быть побуждением к большому себя оказанию; они должны честным поведением сохранять полученное достоинство и не навлекать ни себе, ни потомству своему поношения подлыми поступками.
5. Дворяне должны вообще являть, как и другия со стояния, повиновение, усердие и любовь к Отечеству. Усердие благородных должно быть несравненно более людей другаго состояния: им предлежат труднейший должности ко исполнению; бодрость и постоянство должны в них быть несравненно больше и по мере важности возлагаемая на них службы. Деятельность дворянства должна показываема быть в труднейших обстоятельствах, в величайших опасностях, и даже там, где соединено лишение жизни. Честь и желание сохранить полученный преимущества без помрачения их, должны быть побудительными причинами всех действий дворянства.
6. Любовь к государю и непоколебимая к нему верность есть главнейший долг дворянина: он имеет больше случаев являть оныя, нежели люди других состояний, более отдалённые от особы монаршей.
Любовь к Отечеству требует однако от благородных, дабы они почитали согражданами себе и нижайшего состояния людей, не презирали бы и ни мало не обижали их. Благородные долженствуют помнить, что каждая степень подданных в государстве споспешествует ко всеобщему благу, и что каждаго состояния люди имеют право участвовать в доставляемых государством выгодах всему обществу; и как дворяне многоразличными образами пользуются от нижайших состояний, так долженствуют и они сами стараться быть взаимно им полезными.
7. Кроме помянутых трёх состояний, есть ещё четвёртое, а именно: военное. Весьма несправедливо думают те, кои почитают состояние сие, в разсуждении дворянства, прибежищем бедных людей знатного состояния, в разсуждении благовоспитанных граждан, наказанием развращённых детей, в разсуждении же простаго народа, состоянием невольничества.
8. Военное состояние есть собственно замена большей части членов других состояний, при защищении Отечества. Воины одни делают то, что все прочие люди исполнять обязаны были бы во время нападения врагов на государство.
9. Должность государя есть защищать подданных от нападений неприятельских. Он имеет право требовать и употреблять каждого подданного к защищению сему. Вред, причинённый государству с одной стороны, или некоторым только подданным, имеет всегда вредныя следствия и для всего общества; опасность может распространиться и до других. Но сему и долженствуют все члены государства споспешествовать к защищению, хотя бы неприятель нападал и на одну только часть. Не нужно, и весьма было бы вредно, ежели бы в нынешния времена, подобно как бывало часто в древности, выведены были в поле все подданные для защищения государства от нападения неприятельскаго.
10. И потому государи имеют право, по власти своей повелевать и учреждать, определять, кому и коликому числу подданных должно явиться к защищению. Сие определение тем нужнее, что без него весьма немногие явились бы добровольно. Хотя каждый и уверен, что войско нужно государству; но частные люди без определения государя и начальников, неохотно бы согласилися подумать, что им самим, или их свойственникам должно принять оружие.
11. Определённые к защищению государства подданные долженствуют повиноваться безпрекословно и исполнять верно должности звания своего. Воин долженствует любовь к Отечеству являть повиновением и храбростью, что стоит ему несравненно дороже, нежели другим людям; ибо он должен, или принесть действительно в жертву покой, здравие, свободу и самую жизнь свою, или по крайней мере готов быть жертвовать всем сим для блага общества на всякий час. За сие достойно ему воздавать честь и благодарность.
12. Правда, что повиновение и верность в исполнении должности его есть натруднейшее дело; но непослушание и неисправность как для него самаго, так и для целаго государства могут иметь самыя вреднейший следствия.
Воин долженствует слепо исполнять повеления начальников своих, не разсуждая о намерениях и пользе сих повелений. Те, кои бы могли возиметь какое-либо сомнение при повелениях, долженствуют успокоиться тою доверенностию, какую заслуживают от них но состоянию званию своему. Государь военачальников и другие чиновные. Каждый воин обязан иметь сию к начальникам доверенность, и потому долг его есть думать, что поведённое ему есть самое лучшее средство для настоящего случая, и что нужно оно для сохранения или для спасения государства. Он должен помнить, что невозможно, да и не должно, начальнику давать отчёта в действиях своих подчинённым своим.
13. Воспоминание о должности, являть любовь к Отечеству повиновением и храбростию, долженствует делать воина терпеливым во всех трудностях, бодрым и решительным в опасностях и непоколебимым во браниях.
14. Должность же воинов есть, как то уже и предтеча христов воинам своего времени изрёк: быть довольными своим жалованьем, никого (то есть: кто не враг Отечества) не обижать, да и самым врагам не должны они больше вреда делать, как поведено от начальников. Всеобщее человеколюбие обязывает нас поступать кротко и с неприятельскими подданными, а особливо когда они не подемлют оружия.
ЧЛЕН V О науках, художествах, промыслах и рукоделиях, ко взаимному благополучию сограждан служащих
Вступление
1. В государстве есть большия и меньшия общества, как то: города и сёлы.
Есть знатныя особы, коим потребна помощь других людей различных знаний и искусств для исправления их надобностей. Есть также всегда люди, кои охотно к таковым делам услуги свои предлагают и чрез то не токмо себе, но и домашним своим пропитание доставляют. Таковых должность есть верно и так служить, как качество ввереннаго им дела, и как воля и польза того требуют, кому служат.
2. Члены общества служат друг другу не будучи, как обыкновенно говорится, друг у друга в службе.
Надобности человеческия столь велики, что человеку, как бы кому ни казалось иметь мало нужды, не возможно всего самому сделать. Каждому потребна работа другага, и каждой, кто какую работу исправляет и от работы своей пропитать себя хочет, служит тем самым другому; а тот, которому потребна его работа, платит работнику и за деньги нужное для себя получает. Великая польза знать, коль различными образами люди стараются друг другу быть полезными, или что всё одно значит, друг другу служить, не состоя собственно в службе.
Статья 1
О науках
1. Некоторые прилежат к наукам и оными другим служат, или наставлением, или употреблением оных но разным надобностям человеческой жизни: сии люди составляют так называемое состояние учёных.
2. Все науки вообще, сколько их в нынешнее время ни есть, можно на четыре главный части разделить:
а. Есть некоторый, кои до души нашей только касаются, и силы оной исправляют, а особливо та наука, которая всему тому нас научает, что бог сотворил, повелел и требует для спасения человеческаго, и оная называется богословия.
б. Есть наука, которая в том состоит, дабы свойство нашего тела и всех его частей в здоровом и больном состоянии узнавать, при слабостях телесных помогать и средства к помощи приуготовлять. Сия называется врачебною наукою.
в. Есть ещё наука, которая спокойное владение имением, предметом имеет. Она называется наука прав и законов, потому что она испытывает и определяет, что в разсуждении вещей и людей, и при защищении собственности право и справедливо.
г. Четвёртой род наук содержит в себе философический, математический, историческия и словесныя знания, кои не только сами собою полезны, но и к приобретению великих успехов в каждой из вышеупомянутых главных наук споспешествуют.
Статья 2
О художествах
1. Некоторые люди прилежат к художествам, который способствуют различным образом к выгодности жизни нашей и увеселению. Художества сии суть:
а. Живопись. Она изображает чувствам представляющийся вещи на ровном месте одною или многими красками. Способы сего изображения и употребляемый к тому краски весьма различны.
б. Резьба, изображает тож самое вырезанными на меди чертами и точками, кои красками наполняются, и на бумаге, или на ином чем к тому способном, тиснением печатаются.
в. Ваяние, изображает чувствам представляющиеся вещи на многоразличных телах: на дереве, на каменьях и тому подобном, возвышенными начертаниями.
г. Архитектура, начертавает и сооружает здания, кои не токмо прочны и покойны, но и прекрасны бывают.
д. Музыка услаждает слух хорошо размеренными голосами, кои весьма различными образами производятся.
Статья 3
О рукоделиях и ремёслах
1. Некоторые люди прилежат к рукоделиям и ремёслам, который нам от части необходимы; а от части только нужны по принятому от нас образу жизни и обычаям.
Число оных превеликое и умножается почти повседневно, не токмо для того, что от времени до времени более изобретаются; но и для того, что искусство человеческое довело некоторый из них, кои прежде между рукоделиями счислялись, до совершенства художеств. Мы возмём рукоделия и художества здесь под именем ремёсл и приложим им хотя несовершенное росписание, чтоб токмо показать, коль многоразличную пользу все они приносят.
а. Некоторый из них служат к нашему пропитанию, и таковыя ремесла отправляют:
1) Земледельцы, кои пшеницу и иныя различный семена сеют, и нужной к пище нашей скот содержат.
2) Мельники, кои пшеницу либо на ветреных, либо на водяных мельницах мелют.
3) Хлебники, кои из муки хлеб нам пекут.
4) Мясники, кои мясом торгуют.
5) Огородники и садовники, кои нас всякими овощами и зеленью снабжают.
6) Повара, кои нам кушанье приуготовляют.
7) Сахарники или конфетчики, кои всякия сладкия варенья и закуски делают.
8) Виноградные садовники разводят виноградные сады.
9) Пивовары, кои варят пиво.
10) Винокуры курят крепкия напитки.
Последний три звания доставляют нам питие паше.
б. Другия ремесла служат к нашей одежде, как то: льняные, бумажные, шерстяные и шёлковые ткачи приуготовляют к тому нужныя вещи; красильщик оныя красит, портной делает нам из них платье; а к тому способствуют ещё разные другие ремесленники, как то пуговочник, а у знатных по большей части позументщик и золотошвей.
Для прикрытия рук, ног, головы работают перчаточники, сапожники, чулошники, шляпники и парукмахеры. Принадлежащий же к тому вещи доставляют опять другие. Шерсть, из которой сукно и другия шерстяныя материи, и кожа, из которой столь многое делается, суть корысти от скотоводства. Всё сие выделывают к разным употреблениям кожевники и замшеники.
в. Для созидания жилищ наших требуются кирпичники, каменоломщики, каменосечцы, обжигальщики извести, каменщики, плотники, кровельщики, кузнецы, проволочники, слесари, столяры, оконничники и многие другие.
г. Для приуготовления нужных к дому вещей, требуется множество других ремесленников — обручники, токари, горшечники, жестянники, оловянишники, медники и литейщики.
д. К разным другим надобностям часовые мастера, верёвочники, шорники и гребеньщики.
е. Для выгод наших работают также многие, например: каретники, седельники и проч.
ж. Для великолепия, алмазами торгующие, золотых дел мастера, серебреники, зеркальники, позолотчики и обойщики.
2. К сим причисляются ещё и купцы или торговые люди, коих упражнение состоит в том, чтоб вещи, произведённый или приготовленный трудами других покупать, ими торговать, в отдалённый места их развозить и за оныя или наличный деньги, или другия полезный вещи на обмен вывозить.
Статья 4
О пользе и надобности различных состояний
1. Земля произносит безчисленное множество растений и других вещей, к различным потребам служащих и людям к пользе, удовлетворительно и наслаждению удобных. Повсюду бывают люди весьма различных склонностей и способностей. Много таких, кои произведения земли весьма различными образами приуготовляют; много же ещё и таких, кои искусство сих для нужд своих охотно употребляют.
2. Почти из всех творений, даже и из малейших частей оных, умеют в нынешнее время делать употребление. Люди пользуются чрез то дарованною им от бога при сотворении властию, и поелику люди творения тако употребляют и их обделывают; то исполняют они то самое, что бог ко Адаму сказал; то есть: что люди получают пищу и пропитание своё от земли со многим трудом, хотя и не все её пашут.
3. При сем надлежит нам премудрости, благости и промыслу божию удивляться и благодарить, что бог, создав все твари, и щедрою рукою по всей земле их разделив, создал их всех ко употреблению человеческому. Мы же видя, что one чрез труды наши весьма полезными быть нам могут, не можем сомневаться, что при самом ещё создании намерение его было, дать людям многоразличный упражнения.
4. По умножении людей невозможно стало, чтобы все на подобие земледельцов землю пахали, и от того непосредственно пропитание своё имели. Многия тысячи людей не приобрели бы себе ничего и пропитания не имели, когда бы мы все в нынешнее время на подобие прародителей наших жить стали и только самым нужным довольствовались. И так, когда некоторые вельможи и богатые для выгод и спокойствия своего, великое множество людей упражняют; то получают чрез то пропитание своё многия тысячи семей, кои вельможам и богатым не токмо к их нуждам, но и к великолепию и удовольствию их способствуют. Они получают способ упражняться, а созданный ради человека творения употребляются чрез то полезно.
5. Природный дарования и раждающиеся от них склонности человеческий ко всякому званию и к различным упражнениям, суть без всякаго прекословия действие того, который создал души человеческий, в коих таковыя дарования и склонности обретаются. Многия качества принадлежат до некоторых наук и художеств, коих, как весьма справедливо говорится, приобрести не можно; но надобно им быть природным, или лучше сказать, в душе человеческой созданным.
6. Сии то природныя дарования и склонности определяют обыкновенно человека, имеющего оныя, тому или другому званию, рукоделию, художеству или науке себя посвятить. Не редко и самих повелевающих побуждают сии природныя дарования употреблять подчинённых своих по признанным в них способностям.
7. Как разум, так и откровение научают нас весьма важным до сего касающимся истиннам; а именно:
а. Что всякое звание и всякое состояние, в котором честным и позволенным образом пропитать себя можно, каждый себе избрать и в оном пребывать может.
б. Что всяк обязан так поступать, как требуют должности и качества того звания, в котором кто пребывает.
в. Чтоб единожды избранное звание легкомысленно не покидать; а из сего следует, что человеку состоянием своим, которое он или сам себе избрал, или иным каким образом в оное поставлен, должно быть довольным и в оном по возможности стараться себе и другим быть полезным.
8. Всякое звание, всякое ремесло, всякое художество и всякая наука приносит пользу человеческому обществу; и для того всякое звание и всяк, кто какому званию себя посвятил, почтения достоин. Несправедливо было бы нечто полезное презирать; всё, что истинную пользу приносит, важно и почтения достойно; и потому не должно ни какое ремесло и ни какой способ к честному себя пропитанию презирать. Невозможно всем в одном звании быть; и так одно звание, или одно ремесло, да но презирает другое; ибо все весьма полезны обществу.
9. Надлежит нам удивляться и благодарить за благость и премудрость бога, что он не только многоразличныя вещи сотворил, и земле непрестанно то произносить повелел, из чего толь многое к нужде, выгодам и наслаждению человеческому служащее, приуготовляться может; но и даровал людям склонности и способности столь различными образами упражняться, и чрез то друг другу служить.
Часть IV О ДОМОВОДСТВЕ
Глава первая ЧТО ЕСТЬ ДОМОВОДСТВО, НАМЕРЕНИЕ ОНАГО И РАЗЛИЧИЕ
1. Знание праведным образом приобретать себе имение, или приобретённое сберегать и оное в пользу дома своего разумно употреблять, называется домоводство.
Люди, кои в одном из сих трёх: то есть или в приобретении, или сбережении, или в употреблении имения своево погребают, суть худые домоводцы[631]. И так домоводцу надлежит помышлять не токмо о приобретении, но о сбережении и о полезном употреблении приобретённаго.
2. Знание домоводства всякому нужно; ибо люди всякаго звания обязаны трудиться и хозяйствовать, дабы себе и домашним своим нужное снискать.
Под нужным, о снискании котораго стараться должно, разумеется пища, питие, одежда и жилище.
Понеже всякой сочлен гражданскаго общества нуждам онаго способствовать несколько должен; а начальник дома есть сочлен таковаго общества: то не довольно ему того, чтоб снискать нужное для себя пропитание; но надобно ему и о том помышлять, что он ради благосостояния общества верховному правительству давать должен. Начальнику дома должно ещё и о том стараться, дабы привести себя в такое состояние, чтоб он мог дать нечто детям своим, приятелям и бедным.
Надлежит ему нечто и сберечь, дабы привести себя в лучшее состояние, и чтобы при непредвидимых злоключениях, при болезни и при старости кормить себя мог.
3. Хотя намерение приобретения, или доставления работою себе и домашним своим нужнаго, во всяком звании одинаково; однако способы к получению сего намерения у людей различных званий, суть различны; ибо богатой и знатной должен инако домоводствовать, нежели убогой и простой человек. Крестьянин хозяйствует инако, нежели художник и ремесленник; а купец и чиновный хозяйствуют также инако; однако есть общия некоторыя правила, по которым во всяком звании поступать должно, и кои здесь следуют.
Глава вторая ЧТО ТРЕБУЕТСЯ К ДОБРОМУ ДОМОВОДСТВУ ИЛИ ХОЗЯЙСТВУ
1. К домоводству потребно имение, добрым употреблением и разумным управлением котораго приобретается то, что к пропитанию нужно. Имение же бывает многоразлично: деревни, поля, деньги, движимыя вещи, науки, художества или рукоделия составляют оное, и суть способы к приобретению нужнаго.
2. Какого бы качества имение или средство пропитания нашего ни было; однако от всякаго домоводца требуется, чтоб он имел сведения.
Сведения сии человеку не от природы даются; но должен он стараться получать их разными образами.
Сведения можно получать иногда собственным своим разсуждением и разными опытами, однако таковыя для большой части трудны и опасны. Не все люди любят долго размышлять, а многие к тому и не очень способны; а когда опыты не удадутся, то претерпевают убыток, которой для недостаточных людей весьма чувствителен бывает.
Можно ещё таковыя сведения получать от изустнаго или письменнаго наставления искусных в том людей.
Наконец, видя, что другие умные люди делают или делали, получаем сведения чрез примеры.
Кто хочет чрез изустное или письменное наставление, или чрез примеры сведение себе получить, тому должно смотреть на искусных людей, кои в тех вещах доброй успех имели, в которых старается он получить себе сведение.
Таковых людей разсуждения или наставления, а особливо порядок домоводства, надлежит приложив замечать, и самое полезное понимать, дабы им в том последовать.
3. От добраго домоводца требуется твёрдая и добрая воля то делать, и не медля делом самим исполнять, что за доброе признал. Наилучшия сведения ни к чему неполезны, когда кто не имеет при том твёрдой воли делать то, что он за доброе признал. Люди хотя желают и делают всегда то, что действительно для них хорошо, или таковым для них быть кажется; но ежели и самое добро противно склонностям или покою их, или когда другое что более их прельщает, то часто небрегут они о вещах, кои сами признают за добрыя. Таковым людям надлежит себя уверить, что то, что им делать должно, не токмо есть истинное добро, но и достойно всему другому предпочтено быть.
4. К домоводству требуется много прилежания. Кто трудолюбив и кто непрестанно старается дозволенными и честными средствами столько себе приобрести, сколько возможно, тот прилежен; а кто труда не любит и от него удаляется, тот ленив и нерадив. Такой человек наилучшее время безполезно проводит, а когда и делает, то не имеет от того такой пользы, какую бы имел, ежели бы время и силы свои прилежнее употреблял.
5. В доме не возможно всего одному человеку делать. Жена, дети и служители должны хозяину помогать; а дабы помощь сию получишь, то хозяину, как главе дома, должно всё нужное учреждать и смотреть, исполняются ли его повеления. Каждому из подчинённых ему в доме должен он ясно сказать, что ему делать; а когда кто из них погрешит, то должно с важностию, а при том и с кротостию исправлять нужное им содержание, а наёмникам обещанную плату в надлежащее время давать, с домашними своими не жестоко и свирепо, но ласково обходиться, и их к благочестию, без котораго все труды наши тщетны и неуспешны бывают, привлекать. Паче всего должен начальник семейства о воспитании детей своих стараться и по о том только помышлять, чтоб их прокормить, и сколько силы их допустят, к трудам приучать; но должен им или сам, или чрез других такия наставления преподавать, из которых бы они научились разуметь и делать, что ко временному и вечному благополучию их потребно.
Все домашние, то есть: хозяйка, дети и служители должны главу семейства или хозяина, как благодетеля и попечителя своего любить. Они должны его как начальника своего почитать, и во всём ему повиноваться, разве если бы он что против заповедей божиих, или против уставов верховной власти повелеть захотел. Одним словом, им надлежит так поступать, чтобы пользе домоводства всеми возможными способами споспешествовать, всякой же вред отвращать.
6. При всяком домоводстве нужен порядок. Хозяин, которой порядочен быть хочет, должен таковыя токмо дела предпринимать, кои действительно могут состояние его по тем обстоятельствам, в коих он находится, толь благополучным сделать, колико возможно. К порядку домоводства надлежит и сие, чтоб всё во своё время, а не безвременно, и всякое дело надлежащим образом делать. Хозяину надобно заранее, а не тогда, когда уже время к делу настанет, приказывать, что домашним его делать. Для каждой вещи должен он назначить приличное место и прилежно за тем смотреть, чтоб всякая вещь, по употреблении своём, опять на прежнее место положена была.
7. Домоводцу должно приходы и расходы свои прилежно записывать, всё точно замечать и верную опись о принадлежащем ему иметь, оную чаще пересматривать, и имение своё по ней сличать. Не записывая и не замечая, никогда не может он верно знать, сколько получил и издержал, или сколько на лицо имеет, и лучше ли состояние его сделалось или хуже.
8. Нужное для всякаго домоводца свойство, есть бережливость. Она состоит в благоразумии при издержках к вообще при всяком употреблении приобретённаго.
Кто приобретённаго сберегать не умеет, тот и при самых больших доходах ничего иметь не будет.
Доброму хозяину должно издерживать и из приобретённаго проживать не более, как нужда, или иногда невинное какое удовольствие, а иногда и самая благопристойность того требует.
Также и для того не всё издерживать, что получает, но нечто и на время нужды сберегать, дабы чрез то или более ещё снискать, или бедным уделять, или домашним своим несколько оставить мог. Кто всё издерживает, что получает, тому на вышеупомянутый надобности ничего сберечь не можно. Кто более издерживает, нежели получает, тот расточитель и со временем должен будет или по миру ходить, или сделаться обманщиком.
Во всех почти местах есть примеры, что люди наживали себе немалой достаток, не имея с начала большаго дохода. Разумное и порядочное расположение того, что необходимо издерживать надлежало, и воздерживание себя от излишняго, для многих было способом к обогащению.
Иные нажили достаток свой рачением, с которым оберегали они вещи свои от повреждения, кои как для нужды, так и для выгод весьма потребны, и которых покупка или починка столь много иждивения требует, когда их рачительно не берегут или не сохраняют; а таковых вещей сколько в каждом доме бывает. Как бы оне маловажны ни казались; однако большое их количество, и всегдашнее употребление составляют весьма много.
Глава третья НЕДОСТАТКИ И ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ДОМОВОДСТВЕ
1. Домоводцу равно вредно, когда он очень много или очень мало размышляет о том, что ему делать надлежит: первое делает его нерешимым и никакой пользы ему не приносит; а второе лишает его и той пользы, какую бы иметь было можно. Разумный человек размышляет и разсуждает, какими бы способами удобнее имение приобрести, приобретённое яге сохранять, и что от онаго и как полезнее употребить можно; однако при одном токмо размышлении не остаётся, но приступает к исполнению того, что полезнее всего признал, располагает себя по тому, и совершить оное прилежно старается.
2. Доброму домоводцу надобно прилежно размышлять, как бы дело наилучше и полезнее расположить; надобно ему разсматривать, действительно ли то хорошо, что он делает, согласно ли с правилами добраго домоводства, не могло бы другим каким ни есть образом быть лучше сделано. Таковыя размышления полезны хозяину, когда он но оным поступает, и домоводство своё действительно так располагает.
3. Есть вещи, кои сами но себе хороши, но по некоторым обстоятельствам действительной вред наносят. Таковыя обстоятельства должно прилежно разсматривать хозяину, чтобы не причинить себе убытка и ради малой прибыли не упустить большой[632].
4. Домоводцу не долито быть нерадиву, но пребывать тверду и неутомиму в трудах своих, хотя иногда тяжко и трудно бывает; не надобно в дела других званий мешаться, ниже что предпринимать выше сил своих. Невозможно также одному человеку весьма различных дел с пользою предпринимать; ибо, упражняясь в посторонних делах, главное своё дело упускаешь, и во вред других званий упражняется. Каждый человек в собственном своём звании довольно найдёт дела, и очень часто не достаёт ещё ему сил, дело звания своего надлежащим образом исправить.
5. Надобно остерегаться, чтоб при делах своих не забывать должностей к богу, к самому себе и к ближнему.
Против бога согрешаем, когда приобретённое весьма любим, всё сердце ко временному добру прилепляем и бога забываем; и когда приобретённое на грех употребляем, и без крайней нужды работаем в те дни, в кои праздновать повелено.
Должность к самому себе проступает тот, кто для снискания временных благ, о вечныом блаженстве не радеет, и кто из скупости, только чтоб много себе скопить, мало или совсем ничего от приобретённаго не употребляет, или кто себя к работе так принуждать станет, что здоровье свои тем повредит и жизнь свою сократит.
Должность к ближнему нарушается, когда кто со вредом других обогатить себя старается. Сие бывает вообще, или действительным отниманием, или удерживанием. Действительным отниманием бывает, когда кто у ближняго что отнимает или силою, или коварством, ложною мерою или весом, ложными товарами, ложным торгом и чрезмерною лихвою, или скитаясь по миру, когда может прокормить себя работою. Удерживанием же нарушается должность к ближнему, когда кто занимает и не возвращает, когда кто домашних своих и служителей более возможнаго или обыкновеннаго делать заставляет, с ними жестоко и свирепо поступает, или обещанное им удерживает.
6. Но сколь неправедно умножать имение своё таковым образом, столь же неправедно, когда начальник семейства не прилежит и не старается всего того снискивать, что он по обстоятельствам своим праведно снискать может, или когда приобретённое худо сберегает, так что весьма легко или украдено, или попорчено быть может.
Глава четвёртая НЕКОТОРЫЙ НАПОМИНАНИЯ ДОМОВОДЦАМ
1. Хозяин может при трудах своих быть весел и спокоен, когда только подумает, что бог определил нас ко трудам, что труд и работа служат нам к пользе и здоровью, и что бог труды наши благословляет.
2. Весьма часто видим, что некоторые при всех своих трудах ни в чём не успевают: бывают разные противные случаи, и кажется без всякия их вины, как то: пожары, наводнения, град, непогоды, неверные служители и многие другие случаи, которые делают труды и самаго прилежнаго хозяина тщетными. Те, с коими сие случается, не имеют, как говорится, ни щастия, ни божияго благословения.
3. Христианский закон научает нас, что бог миром управляет, что без воли его ни волос с головы нашей не спадает и что бог добрыя начинания наши благословляет: но мы благословения его, часто в наказание за грехи наши и за непослушание заповедям его, лишаемся.
Из сего следует, что всякой хозяин должен бога о благословении молитвою просить, и о истинном благочестии стараться, то есть: он должен от грехов воздерживаться и богу повиноваться, дабы не учинить себя недостойным благословения его.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА[633]
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Майке К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 16—18.
Энгельс Ф. Заметки о Ломоносове. — В кн.: Ломоносов. Сб. статей и материалов. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, т. III, с. 11—13.
Ленин В. И. От какого наследства мы отказываемся? — Полн. собр. соч., т. 2, с. 519—520.
Ленин В. И. О национальной гордости великороссов. — Полн. собр. соч., т. 26, с. 106—110.
Ленин В. И. О значении воинствующего материализма. — Полн. собр. соч., т. 45, с. 23—33.
ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
Антология педагогической мысли России XVIII в. М.: 1985.
Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII в. /Сост. Пенчко Н. А. и др., т. 1—3. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960—1963.
Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века, т. 1—2. М.: Госполитиздат, 1952.
Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. /Сост. Ченакал В. Л. и др. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961.
Летопись Московского университета. 1755—1979. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
Ломоносов М. В. Избранные произведения. /Сост. Морозов А. А. М.—Л.: Сов. писатель, 1965.
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 1—10. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950—1959; т. 11, Л.: Наука, 1983.
Материалы для истории имп. Академии наук, т. I—X. Спб., 1885—1900.
Михайло Ломоносов. Избранная проза. /Сост. Дмитриев В. А. М.: Советская Россия, 1986.
М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. /Сост. Павлова Г. Е. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962.
Русская поэзия XVIII века. Б-ки всемирной литературы. М.: Худож. лит., 1972.
Русская проза XVIII века. Б-ка всемирной литературы. М.: Худож. лит., 1971.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. Т. I. М.: Наука, 1977.
Белявский М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского университета. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955.
Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961.
История Академии наук СССР. Т. I. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958.
История естествознания в России. Т. I. Ч. I. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957.
История Московского университета. Т. I. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955.
Коган Ю. Я. Очерки по истории русской атеистической мысли XVIII в. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962.
Конелевич Ю. X. Основание Петербургской Академии наук. М.: Наука, 1977.
Краснобаев Б. И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М.: Просвещение, 1972.
Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII — начала XIX в. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
Кулябко Е. С. Замечательные питомцы Академического университета. Л.: Наука, 1977.
Курмачева М. Д. Петербургская Академия наук и М. В. Ломоносов. М.: Наука, 1975.
Ломоносов М. В. в портретах, иллюстрациях, документах. /Сост. Ченакал В. Л. М.—Л.: Просвещение, 1965.
Ломоносов. Сб. статей и материалов, т. 1—8. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1940—1983.
Макаров В. К. Художественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950.
Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.: ГИХЛ, 1951.
Очерки русской культуры XVIII века. Ч. I. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.
Павлова Г. Е., Фёдоров А. С. М. В. Ломоносов. М.: Наука, 1980.
Петров Л. А. Общественно-политическая и философская мысль России первой половины XVIII века. Иркутск, 1974.
Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. — Соч., т. XXI—XXII. М—Пг.: Гиз, 1925.
Семёнова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века. Л.: Наука, 1982.
Тихомиров М. Н. М. В. Ломоносов и основание первого университета в России. — В кн.: Тихомиров М. Н. Русская культура X—XVIII веков. М.: Наука, 1968, с. 370—382.
Штранге М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. М.: Наука, 1965.
Щипано в И. Я. Философия русского Просвещения. Вторая половина XVIII века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Алигер М. Ломоносов. — Знамя, 1952, № 11.
Андреев-Кривич С. А. Может собственных Платонов... Юность Ломоносова. Повесть. — М.: Сов. Россия, 1968.
Голубов С. Н. Иван Ползунов. М.: Жургазобъединение, 1937.
Данилевский В. В. Нартов. М.: Мол. гвардия, 1960.
Евгеньев Б. С. Александр Николаевич Радищев. М.: Мол. гвардия, 1949.
Западов А. В. Новиков. М.: Мол. гвардия, 1968.
Ильин М. А. Матвей Фёдорович Казаков. М.: Мол. гвардия, 1944.
Кочин Н. И. Иван Петрович Кулибин. М.: Мол. гвардия, 1957.
Кузьмин А. Г. Татищев. М.: Мол. гвардия, 1981.
Лебедев Е. Огонь его родитель. М.: Современник, 1976.
Леонтьев Н. Михайло Ломоносов. Драматическая поэма. Изд. 3-е. Архангельск, 1973.
Лучанский М. С. Фёдор Волков. М.; Жургазобъединение, 1937.
Малевинский Ю. Н. Дороже всякого золота: И. П. Кулибин. М.: Мол. гвардия, 1980.
Мастера крепостной России. М.: Мол. гвардия, 1938.
Марков А. Я. Михаил Ломоносов. Поэма: М., Современник, 1973.
Меншуткин В. Н. Жизнеописание М. В. Ломоносова. Изд. 3-е. М.—Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947.
Михайлов О. Н. Державин. М.: Мол. гвардия, 1977.
Морозов А. А. Ломоносов. Изд. 5-е. М.: Мол. гвардия, 1965.
Осокин В. Н. Российскою землёй рождённый. Ломоносов. Ист. повесть. М.: Мол. гвардия, 1971.
Пигалев В. А. Баженов. М.: Мол. гвардия, 1980.
Подгородннков М. И. Восьмая муза: Н. И. Новиков. М.: Мол. гвардия, 1978.
Подгородников М. И. Нам вольность первый прорицал: А. Н. Радищев. М.: Мол. гвардия, 1984.
Ра в и ч Н. А. Повесть о великом поморе. М.: Дет. лит., 1969.
Сизова М. И. Михаил Ломоносов. Повесть. М.: Мол. гвардия, 1954.
Фиалков Ю. Я. Сделал всё, что мог. Из жизни М. В. Ломоносова. М.: Дет. лит,, 1972.
Чирков А. Г. Клятва на заре. Пьеса. Л.—М.: Искусство, 1959.
Чуковский Н. К. Беринг. М.: Мол. гвардия, 1961.
Шторм Г. П. Ломоносов. М.: Жургазобъединение, 1933,
Примечания
1
Роман Николая Михайловича Советова (род. 1926) печатается с некоторыми сокращениями по кн.: Советов Н. М. Вознося главу!..; Роман. — Саратов, Приволж. кн. изд-во, 1983.
(обратно)2
Адъюнкт физического класса — младшая научная должность (помощник профессора) в отделении физики.
(обратно)3
Асессор Теплов — Теплов Григорий Николаевич (1711—1779), адъюнкт Академии наук по ботанике, асессор — гражданский чин 8-го класса. Впоследствии в царствование Екатерины II её статс-секретарь, сенатор.
(обратно)4
Е. и. в. — здесь и далее — её императорское величество.
(обратно)5
Бакштейн (Бекенштейн) Поган Симон (ум. до 1744 г.) — профессор юриспруденции Академии наук. В романе под этой фамилией действует профессор физики. Здесь и в немногих других случаях автор использует изменение профессий, должностей, фамилий как литературный приём создания художественных образов без абсолютно точного копирования реальных персонажей.
(обратно)6
В допетровские времена и после «немцем» на Руси звали любого чужестранца. Он был нем для россиянина, не говоря по-русски, и потому имя «немец» стало нарицательным.
(обратно)7
Вернувшись в Академию полтора года назад из Германии — М. В. Ломоносов в 1736—1741 гг. обучался в университетах Марбурга и Фрейберга.
(обратно)8
Академическая канцелярия — высший административный орган управления Академии наук.
(обратно)9
Шумахер Иоганн-Даниил (1690—1761) — уроженец Эльзаса, с 1714 г. в России, где сначала был библиотекарем Петра I, а затем Академии наук. Став правителем академической канцелярии, он сосредоточил в своих руках управление всей академией.
(обратно)10
Мартов Андрей Константинович (1693—1756) — механик и скульптор, личный токарь Петра I, изобрёл первый в мире токарно-винторезный станок.
(обратно)11
Попов Никита Иванович (1720—1782) — впоследствии профессор астрономии Академии наук.
(обратно)12
Спасибо, спасибо. Иди, иди (нем.).
(обратно)13
Дочь Петра, императрица Елизавета... — Пётр I Алексеевич (1672—1725), русский царь (с 1682 г.) и император (с 1721 г.). Елизавета Петровна (1709—1761), его дочь от второго брака, взошла на престол 25 ноября 1741 г. в результате дворцового переворота, провозгласив своей целью возвращение к традициям петровского царствования.
(обратно)14
Игнатьев Степан Лукич (ум. в 1747 г.) — генерал-лейтенант, вице-президент Военной коллегии, обер-комендант Петербурга.
Юсупов Борис Григорьевич (1696—1759) — тайный советник, президент Коммерц-коллегии. Оба в 1730—1740-е гг. часто назначались в следственные комиссии и судебные заседания по важнейшим государственным делам.
(обратно)15
Сейчас иду... (нем.).
(обратно)16
Кунсткамера — первый русский музей. Основан в 1714 г. в Петербурге по инициативе Петра I. В 1719 г. открыт для всеобщего обозрения.
(обратно)17
Эйлер Леонард (1707—1783) — выдающийся математик, механик, физик. Становление его как всемирно известного учёного произошло в ходе его работы в Петербургской Академии наук в 1727—1741 гг., с членами которой, в том числе Ломоносовым, он поддерживал тесные научные контакты и после своего отъезда. В 1766 г. вернулся в Россию.
Бернулли Даниил (1700—1782) — выдающийся гидродинамик, математик и механик. Швейцарец по национальности. С момента основания приглашён в Петербургскую Академию наук, где работал в 1725—1733 гг. Впоследствии почётный член академии. Опубликовал в её изданиях 47 работ.
(обратно)18
«Социетет наук» — собрание наук, здесь Петербургская Академия наук.
(обратно)19
Гольдбах Христиан (1690—1764) — конференц-секретарь Академии наук в 1725—1740 гг., математик, сформулировал одну из известных проблем теории чисел, «проблема Гольдбаха» частично решена только в 1937 г. советским академиком II. М. Виноградовым. Занимался также составлением планов и описаний фейерверков и иллюминаций дворцовых празднеств. В 1742 г. перешёл на дипломатическую службу.
Винцгейм (Винсгейм) Христиан-Николай (1694—1751) — профессор астрономии Академии наук (с 1735 г.) и её конференц-секретарь в 1742—1746 и 1749—1751 гг. В 1749 г. выпустил «Краткую политическую географию...», которую академия признала неудовлетворительной и для подготовки нового издания привлекла более опытных учёных, в том числе Ломоносова.
Вейбрехт (Вейтбрехт) Иосия (1702—1747) — профессор астрономии Академии наук.
(обратно)20
Экзерциции (лат.) — упражнения, манёвры.
(обратно)21
Вольф Христиан (1679—1754) — профессор математики и физики Марбургского университета, известен как философ — популяризатор идей Г. Лейбница, на основе которых стремился разработать единую систему человеческого знания.
(обратно)22
Боновский дом — назван так по имени бывшего владельца генерала Г. И. Бона, в нём Ломоносов жил в 1741—1757 гг.
(обратно)23
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Ивановны, герцог Курляндский (с 1737 г.), регент при малолетнем императоре Иване VI, 9 ноября 1740 г. свергнут в результате дворцового переворота и отправлен в ссылку, из которой возвращён Петром III, а Екатериной II восстановлен на курляндском престоле.
(обратно)24
Фредрик I Гессенский (1676—1751) — шведский король (с 1720 г.), в 1721 г. был вынужден подписать Ништадтский мир с Россией, который подвёл итоги Северной войны 1700—1721 гг., добиться их пересмотра пытался в ходе новой русско-шведской войны 1741—1743 гг., но и в ней победа оказалась на стороне России.
(обратно)25
Анна Ивановна (1693—1740) — дочь царя Ивана V, племянница Петра I, в 1710 г. была выдана замуж за герцога Курляндского, но вскоре овдовела, в 1730 г. возведена на русский престол.
(обратно)26
Хватит! (нем.).
(обратно)27
Крашенинников Степан Петрович (1711—1755) — впоследствии профессор ботаники и натуральной истории. Автор «Описания земли Камчатки...».
(обратно)28
Геллер (Геллерт) Христлиб-Ереготт (1713—1795) — в 1735 г. прибыл в Россию в качестве преподавателя академической гимназии, но ни в ней, ни в академическом университете не отличался педагогическими способностями и добросовестностью. Адъюнкт по химии. В 1742 г. студенты подали на него жалобу, что его лекции «весьма замешательно продолжались, а ныне оных и совершенно не видим». В 1744 г. покинул Россию.
(обратно)29
Трускот (Трескот) Иван Фомич (1719—1786) — адъюнкт Петербургской Академии наук по географии.
(обратно)30
Пуфендорф Самуэль (1632—1694) — немецкий учёный, автор многочисленных работ по юриспруденции и истории; как политический мыслитель был сторонником абсолютной монархии, поэтому его труды широко привлекались идеологами российского самодержавия.
(обратно)31
Бургаве Герман (1668—1738) — нидерландский врач, ботаник, химик. Выпущенный им в 1732 г. учебник, систематизировавший химические знания того времени, был весьма распространён в Европе.
(обратно)32
Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания, подвергся преследованию инквизиции за изложение в своей книге гелиоцентрической системы мира.
(обратно)33
Мариотт Эдм (1620—1684) — французский физик, в 1676 г. провёл опыты, подтвердившие зависимость упругости воздуха от давления, и, как и английский учёный Роберт Бойль (1627—1691), сформулировал закон, известный как закон Бойля — Мариотта; первым применил этот закон для определения высоты местности по показаниям барометра.
Торричелли Эванджелиста (1608—1647) — итальянский математик и физик, развивал теорию атмосферного давления, изобрёл ртутный барометр, показал возможность получения вакуума («торичеллиева пустота»).
Гюйгенс Христиан (латинское имя — Гугений) (1629—1695) — нидерландский механик, физик и математик, создатель волновой теории света. Его последний по времени написания трактат «Космотеорос», в котором высказывалась идея множественности миров и их обитаемости, вышел в 1698 г., а в 1717 г. был переведён на русский язык и опубликован в России.
(обратно)34
Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.), Марк Валерий Марциал (ок. 40 — ок. 104) — римские поэты.
(обратно)35
Мольер (настоящее имя — Жан Батист Поклен) (1622—1673) — французский драматург, актёр, театральный деятель, создатель жанра «высокой комедии».
(обратно)36
Алтын — три копейки.
(обратно)37
В те годы на Красной площади был «комедиальный амбар». — Автор допускает анахронизм, так как труппа Иоганна Кунста давола свои представления в 1702—1704 гг., то есть ещё до рождения Ломоносова.
(обратно)38
Сбитень — горячий напиток из мёда с пряностями.
(обратно)39
Лейб-кумпанцы (лейб-компания) — особо привилегированная гвардейская часть, сформированная из Гренадерской роты Преображенского полка, силами которой был осуществлён переворот 1741 г. Все лейб-компанцы-недворяне (а таких среди Преображенских гренадеров было большинство) получили потомственное дворянство и крепостных крестьян. Офицерами и унтер-офицерами Лейб-компании стали особенно близкие к Елизавете Петровне придворные и самые активные участники переворота. Среди последних был и Юрий Гринштейн, бывший саксонский купец, после разорения записавшийся в солдаты гвардии. Его возвышение продолжалось недолго, после ссоры с фаворитом А. Разумовским был сослан в Сибирь.
(обратно)40
Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и учёный.
Декарт Рене (латинское имя — Картезий) (1596—1650) — французский философ и математик, в 1629 г. переселился в Нидерланды, где и создал свои главные труды.
Коперник Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Его книга «Об обращениях сфер» числилась католической церковью среди запрещённых до 1828 г. С работы Коперника, по словам Ф. Энгельса, началось «освобождение естествознания» от богословия.
(обратно)41
Свейского — шведского.
(обратно)42
Котельников Семён Кириллович (1723—1806) — впоследствии профессор высшей математики, академик Петербургской Академии наук с 1757 г. Ученик Л. Эйлера. Написал первый русский учебник по механике — «Книга, содержащая в себе учение о равновесии и движении тел». Спб., 1774.
(обратно)43
Архимед (287—212 до н. э.) — древнегреческий учёный.
(обратно)44
А ода называется «На взятие Хотина». — «Ода... на взятие Хотина 1739 года» была написана М. В. Ломоносовым во время обучения в Германии. Посвящена взятию русскими войсками 19 августа 1739 г. турецкой крепости Хотин во время русско-турецкой войны 1735—1739 гг. По выражению В. Г. Белинского, эта ода «положила начало новой русской литературе». Впервые опубликована в 1748 г., а полностью в 1751 г.
(обратно)45
Разумовский Кирилл Григорьевич (1728—1803) — после возвышения старшего брата призван ко двору из родного хутора и отправлен в 1743 г. за границу. Там за два года получил образование, которое в окружении Елизаветы сочли достаточным, чтобы сделать новоиспечённого 18-летнего вельможу президентом Академии наук. В 1750 г. «избран» гетманом Украины. Обоих этих постов лишился при Екатерине II, но взамен получил чин генерал-фельдмаршала, хотя не пробыл на военной службе и дня.
Разумовский Алексей Григорьевич (1709—1771) — сын украинского казака, фаворит цесаревны Елизаветы Петровны, после восшествия её на престол получил самые высокие чины и титулы государства, но практически стоял вне дел управления. По свидетельству современников, впрочем документально не подтверждённому, был тайно обвенчан с императрицей.
(обратно)46
Байер Готлиб (Теофил) Зигфрид (1694—1738) — немецкий востоковед, философ и историк, за 13 лет пребывания в России так и но научил русский язык, поэтому труды по истории России писал без привлечения подлинных русских источников и допустил в них серьёзные ошибки. Включение Байера в число персонажей романа — художественная вольность автора.
Миллер Герард-Фридрих (1705—1783) — историк и археограф. В ходе экспедиции 1733—1743 гг. в Сибирь обследовал и описал архивы более 20 городов. Собрал коллекцию документов по русской истории (т. н. «портфели Миллера»). Издатель трудов по русской истории, в том числе «Истории Российской» В. И. Татищева.
(обратно)47
Ле Руа Пётр-Людовик (1699—1774) — по происхождению француз, но родился и вырос в Германии, в 1735 г. стал профессором Академии наук. Однако его выступление по «вопросу» о нахождении могилы праотца Адама на острове Цейлон (1737 г.) показало его научную несостоятельность, после чего вся деятельность Ле Руа в академии ограничилась преподаванием французского языка и переводами на этот язык. В 1748 г. уволился из Академии наук и вернулся к профессии домашнего учителя.
(обратно)48
Адодуров (Ададуров) Василий Евдокимович (1709—1780) — учёный и государственный деятель. Первый адъюнкт по математике из русских. Переводчик. Куратор Московского университета с 1762 г.
(обратно)49
Протасов Алексей Протасьевич (1725—1796) — впоследствии доктор медицины и профессор анатомии Академии наук, известный переводчик, писатель и издатель; выходец из солдатских детей, образование получил в школе у Феофана Прокоповича, в Александро-Невской семинарии, академической гимназии, университетах Петербурга, Лейдена, Страсбурга, Парижа.
(обратно)50
Специмен — краткое изложение научного вопроса, реферат.
...обсуждён специмен Ломоносова «О причинах теплоты и холода». — Данная работа Ломоносова в действительности была обсуждена в 1744 г. Автор перенёс в романе этот эпизод на более ранний срок.
(обратно)51
Рескрипция — объявление начальства, указание.
(обратно)52
Нехорошо (нем.).
(обратно)53
Непорядок (нем.).
(обратно)54
Лесток Иоганн-Герман (Арман) (1692—1776) — из семьи французских протестантов, переселившихся в Германию, с 1713 г. в России в качестве доктора-хирурга, после переворота 1741 г. придворный врач, главный директор Медицинской канцелярии, но в 1748 г. обвинён в шпионаже и сослан.
(обратно)55
Гукар — промысловое и грузовое судно с двумя мачтами, широким носом и круглой кормой.
(обратно)56
Святой Нос — мыс Канин Нос, Грумант – Шпицберген.
(обратно)57
Ньютон Исаак (1643—1727) — английский физик и математик, создавший теоретические основы механики и астрономии, открывший закон всемирного тяготения, разработавший вместе с Г. Лейбницем дифференциальное и интегральное исчисления.
(обратно)58
Христиан Гюйгенс.
(обратно)59
Псалтырь — книга религиозных песнопений, содержащая 150 молитв. По традиции приписывалась царю Давиду.
(обратно)60
Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768) — писатель и учёный-филолог, переводчик. Сын священника. Начал разрабатывать и осуществлял в своих произведениях реформу русского стихосложения, завершённую М. В. Ломоносовым. В «Телемахиде» (переводе романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака») разработал новый стихотворный размер — русский гексаметр, впоследствии использованный Н. И. Гнедичем и В. А. Жуковским.
Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — писатель и общественный деятель. Первый директор постоянного Русского театра (1756—1761). Был оппонентом М. В. Ломоносова в литературной полемике, которая стала важным этапом в формировании эстетики и практики русского классицизма. В 1759 г. издал первый русский литературный журнал «Трудолюбивая пчела».
(обратно)61
Элоквенция (лат.). — красноречие, ораторское искусство.
(обратно)62
...от самого царя Петра после Нарвы слышал, что иная ретирада виктории стоит. — Речь идёт о сокрушительном поражении под Нарвой от войск шведского короля Карла XII, которое потерпел Пётр I в 1700 г. Спустя три года Пётр I овладел Нарвой. «Нарва была первым серьёзным поражением поднимающейся нации, решительный дух которой учился побеждать даже на поражениях», — писал Ф. Энгельс. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 10, с. 565.)
(обратно)63
Карл-Пётр-Ульрих, после принятия православия — Пётр Фёдорович (1728—1762) — сын герцога Гольштейн-Готторпского и дочери Петра 1 Дины, в 1742 г. объявлен наследником российского престола, в 1761—1762 гг. — император Пётр III.
(обратно)64
Штелин Якоб (1709—1785) — член Петербургской Академии наук с 1735 г., воспитатель и библиотекарь Петра III, гравёр, переводчик, сочинитель од и надписей к дворцовым праздникам, известен как собиратель воспоминаний о Петре I и автор записок о событиях 1740—1760 гг., в том числе о Ломоносове.
(обратно)65
От французского «амюзе» — забавлять, развлекать.
(обратно)66
Иван VI Антонович (1740—1764) — внучатый племянник Анны Ивановны, номинальный император России в 1740—1741 гг., после свержения с престола сослан сначала с родителями в Холмогоры, а затем заключён в крепость, убит в Шлиссельбурге стражей при попытке освободить и вернуть его на трон.
(обратно)67
В народе ползли слухи... — Для устранения ложных толкований о появлении комет Ломоносов по поручению Академии наук перевёл на русский язык «Описание в начале 1744 года явившейся кометы», первую научно-популярную работу о кометах, изданную в России.
(обратно)68
Городская кардегория (кордегардия) — караульное помещение.
(обратно)69
Святейший Синод (высший орган управления православной церкви в России XVIII — нач. XX вв.) — создан в 1721 г. вместо упразднённого патриаршества.
(обратно)70
...ночезрительную трубу... — Здесь автор имеет в виду телескоп, сам же Ломоносов так называл изобретённый им в 1756 г. новый оптический инструмент для ведения наблюдений в условиях слабой освещённости.
(обратно)71
Зыряне — коми-зыряне в отличие от коми-пермяков.
Самоеды — прежнее название ненцев.
(обратно)72
Воронцов Михаил Илларионович (1714—1767) — видный государственный деятель и дипломат. Канцлер. Один из вельмож-меценатов, к поддержке которых был вынужден прибегать Ломоносов.
(обратно)73
Луи Кейзьем — Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 г., правление которого ознаменовалось кризисом французского абсолютизма и падением авторитета королевской власти, ставшей игрушкой в руках фавориток, наиболее известной из которых была мадам Помпадур.
(обратно)74
...зал собрался полный... — в перечне присутствующих на Конференции автор допускает отступления от исторической точности: И.-Х. Буксбаум умер в 1730 г., а Х.-Ф. Гросс после дворцового переворота 1741 г. был арестован и в 1742 г. застрелился, о Байере и Гольдбахе см. выше.
(обратно)75
Делиль Иосиф-Николай (1683—1763) — профессор Петербургской Академии наук и директор её Астрономической лаборатории, тайно переправлял в распоряжение французского правительства подлинники и копии русских карт, после отъезда из России опубликовал их без ведома академии, в адрес которой обратился с письмом оскорбительного содержания.
(обратно)76
Шойбес — искажение немецкого «шойблеген», в данном случае — преодолевший робость в учении, то есть вступивший, пролезший в науку.
(обратно)77
Реформатская церковь — церковь, возникшая в Европе после Реформации XVI в.
(обратно)78
Парадиз — рай.
(обратно)79
Архимандрит Герман (в миру Георгий) Концевик (1085—1735) — русский и украинский церковный деятель, был с 1722 г. учителем Славяно-греко-латинской академии, а в 1728—1731 гг. её ректором и настоятелем Заиконоснасского монастыря, где она находилась.
(обратно)80
Виноградов Дмитрий Иванович (1720—1758) — впоследствии стал известен как создатель русского фарфора, первые вполне удовлетворительные образцы которого были получены из отечественного сырья в 1752 г.
Райзер Густав-Ульрих (род. в 1719 г.) — студент Академического университета, товарищ М. В. Ломоносова и Д. И. Виноградова во время обучения за границей.
(обратно)81
Конради Израэль — доктор медицины в Марбурге.
(обратно)82
Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мотт (1651—1715) — французский писатель, чьи книги в XVIII в. активно переводились на русский язык, из них наиболее популярным был философско-утопический роман «Приключения Телемака» (в русском переводе В. К. Тредиаковского — «Телемахида»).
Эразм Роттердамский (1469—1536) — нидерландский учёный-гуманист, писатель, филолог, один из выдающихся представителей эпохи Возрождения.
(обратно)83
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — крупный немецкий философ, математик, физик, изобретатель, юрист, историк, филолог. Встречался с Петром I, излагал ему проекты развития образования и государственного управления в России.
(обратно)84
Геррике Отто (1602—1686) — немецкий физик из Магдебурга, где был бургомистром. В ряде опытов доказал наличие у воздуха таких свойств, как давление («магдебургские полушария»), упругость, весомость, способность проводить звук и поддерживать горение. В 1680 г. изобрёл воздушный насос.
(обратно)85
Порта Джамбатиста (1538—1615) — неаполитанский физик.
(обратно)86
Шабр — шабер, то есть сосед, товарищ, собрат, пайщик.
(обратно)87
Дуйзинг Юстин-Герард (1705—1761) — профессор медицины и физики Марбургского университета.
(обратно)88
Для того чтобы дать читателю живое представление о речи XVIII века, в этом абзаце автор сознательно использовал подлинные обороты из дневника деятеля Петровской эпохи князя Куракина.
(обратно)89
Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.
(обратно)90
Отлогий склон.
(обратно)91
Генкель Иоганн-Фридрих (1679—1744) — немецкий металлург и минералог, в изучении этих наук придерживался некоторых средневековых представлений.
(обратно)92
Витынский (Китынский) Стефан — преподаватель Харьковского коллегиума, поэт — последователь В. К. Тредиаковского.
(обратно)93
Требник — книга с молитвами для совершения обрядов по просьбе верующих в случаях крестин, брака, панихид и т. п.
(обратно)94
Аввакум Петров (1620 или 1621—1682) — один из основателей старообрядчества, писатель, публицист; замечательный памятник русской литературы «Житие протопопа Аввакума» написан им между 1672 и 1675 гг.
(обратно)95
Юнкер Готлиб-Фридрих-Вильгельм (1702 или 1705—1746) — в 1731 г. из домашних учителей определён в члены Петербургской Академии наук, где занимался сочинением надписей к иллюминациям и поздравительных стихов, но в 1737—1739 гг. направлен в Германию для изучения соляного дела и после возвращения назначен в надзиратели казённых соляных заводов.
(обратно)96
Корф Иоганн-Альбрехт (1697—1766) — образованный курляндский дворянин, в 1734 г. назначен «главным командиром» Академии наук, стремился наладить её работу и улучшить финансовое положение, особое внимание уделял пополнению гимназии и университета способными учениками, набор 1735 г. дал академии Ломоносова. Неприязнь со стороны Бирона заставила Корфа покинуть Академию наук, с 1740 г. он перешёл на дипломатическую службу.
(обратно)97
Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г.
(обратно)98
...теперь занят осмысливанием опытов Бойля. — Автор прав, что уже в 40-е гг. XVIII в. Ломоносов подверг теорию флогистона последовательной критике, однако в сюжете романа к этому времени отнесена и экспериментальная проверка выводов Бойля об увеличении веса металлов при нагревании, в действительности осуществлённая в 1756 г.
(обратно)99
Дубянский Фёдор Яковлевич (1691—1772) — в действительности духовник Елизаветы Петровны (не митрополит), от которой получил дворянское звание и до 8 тысяч душ мужского пола крестьян.
(обратно)100
Софронов Михаил (1729—1760) — из учеников Славяно-греко-латинской академии взят в 1748 г. студентом Академического университета, с 1753 г. адъюнкт Академии наук, а через два года получил назначение в Московский университет.
Фёдоровский Иван Никифорович (XVIII в.) — впоследствии переводчик Академии наук, участвовал в издании газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
Клементьев Василий Иванович (1731—1759) — самый близкий Ломоносову его ученик по химическому классу, в 1756 г. стал лаборатором Химической лаборатории, будучи уже сложившимся учёным.
(обратно)101
Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — до приезда в Россию Софья-Августа-Фредерика принцесса Анхальт-Цербстская, после свержения с престола своего мужа Петра III в 1762 г. русская императрица.
(обратно)102
Фуляр — носовой платок из шёлковой ткани полотняного переплетения, отличающейся особой лёгкостью.
(обратно)103
...появился президент... — Здесь сюжет романа отходит от действительности, уже самая первая лекция М. В. Ломоносова по экспериментальной физике в июне 1746 г. состоялась в присутствии К. Г. Разумовского.
(обратно)104
«Живая сила» — энергия.
(обратно)105
...всеобщий естественный закон... — Этот закон впервые был сформулирован Ломоносовым в письме Л. Эйлеру от 5 июля 1748 г.
(обратно)106
Гнезиус (Гейнзиус, Гейнсиус, Генсиус) Готфрид (1709—1769) — профессор астрономии, с 1744 г. почётный член Академии наук.
Гемелин (Гмелин) Иоганн-Георг (1709—1755) — профессор химии и естественной истории.
(обратно)107
Братья Шуваловы... — Родным братьям Петру Ивановичу (1711—1762) и Александру Ивановичу (1710—1772), участникам переворота Елизаветы Петровны и видным государственным деятелям, Иван Иванович (1727—1797), фаворит императрицы, приходился братом двоюродным.
(обратно)108
Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681—1741), Чириков Алексей Ильич (1703—1748) — мореплаватели, офицеры русского флота, руководители Камчатских экспедиций 1725—1730 и 1733—1741 гг. В 1741 г. на пакетботе «Святой Павел» Чириков первым из европейцев достиг побережья Северо-Западной Америки.
(обратно)109
Выя — шея.
(обратно)110
Поповский Николай Никитич (1730—1760)— ученик М. В. Ломоносова, впоследствии профессор философии и красноречия Московского университета.
Барсов Антон Алексеевич (1730—1791) — впоследствии профессор математики и красноречия Московского университета.
(обратно)111
Говоря так, Ломоносов оглядывался из своего времени назад. Если мы оглянемся назад теперь уже из своего времени, например на время Ломоносова, то убедимся: нам практически всё понятно в речи тех времен. Автор надеется, что в изобилии приведенные в данной книге подлинные тексты и высказывания Ломоносова эту его мысль хорошо подтверждают.
(обратно)112
Владимирский крест — орден Владимира был учреждён позже, в 1782 г. Лента ордена была красной с широкими чёрными полосами по краям.
(обратно)113
Тайная канцелярия, или по-старому Приказ тайных дел... — создана Петром I в 1718 г. для следствия по делу царевича Алексея. Позднее стала заниматься важнейшими делами по охране трона. Контролировалась лично царём. С 1726 г. её функции были переданы Преображенскому приказу. В 1731 г. восстановлена под названием Канцелярия тайных розыскных дел. В 1762 г. ликвидирована и заменена Тайной экспедицией при Сенате.
(обратно)114
Ушаков Андрей Иванович (1672—1747) — бывший адъютант Петра I и один из руководителей Тайной канцелярии петровского времени, единолично возглавлял это учреждение при Анне Ивановне, Иване VI, Елизавете Петровне; сенатор, генерал армейских полков и подполковник гвардии, в 1744 г. пожалован титулом графа.
(обратно)115
Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь с 1645 г.
(обратно)116
Иван V Алексеевич (1666—1696) — русский царь и номинальный соправитель Петра I с 1682 г., никакой роли в государственных делах не играл.
(обратно)117
Алексей Петрович (1690—1718) — сын Петра I, за участие в заговоре против отца приговорён к смертной казни и умер при невыясненных обстоятельствах в Петропавловской крепости, возможно, был задушен.
(обратно)118
Екатерина I Алексеевна (1684—1727) — дочь литовского крестьянина Марта Скавронская, вторая жена Петра I, на престоле с 1725 г.
(обратно)119
...позабыв о Разине, по ещё не набрав ярости для пугачёвщины. — Имеются в виду крестьянские войны 1667—1671 и 1773—1775 гг. в России.
(обратно)120
Анна Леопольдовна (1718—1746) — внучка царя Ивана V, племянница императрицы Анны Ивановны, после свержения регента Бирона объявлена правительницей России при малолетнем сыне — императоре Иване VI.
(обратно)121
...до срока затмения. — Прохождение Венеры по диску Солнца наблюдалось в 1761 г. В романе это событие отнесено к более раннему времени, поэтому допущены и другие художественные вольности. Так, Красильников Андрей Дмитриевич (1705—1773), известный астроном и географ, назван «молодым учёным», а Рихман Георг-Вильгельм (1711—1753), видный исследователь в области изучения теплоты и электричества, представлен современником указанного астрономического явления.
(обратно)122
Эпинус Франц-Ульрих-Теодор (1724—1802) — физик и астроном, во время пребывания в Петербургской Академии наук (с г.) уклонялся от занятий со студентами, расстроил работу подведомственных ему физического кабинета и обсерватории, в 1765 г. назначен учителем к наследнику престола Павлу Петровичу и оставил совсем научную деятельность.
(обратно)123
...Божество сотворило нам эти досуги (лат.).
(обратно)124
Фалес (ок. 625—547 до н. э.) — древнегреческий философ, родом из г. Милета, считается родоначальником античной и вообще европейской философии и науки.
(обратно)125
Дюфей — Дюфе Шарль Франсуа (1698—1739), французский физик.
(обратно)126
Ермак Тимофеевич (ум. в 1585 г.) — казачий атаман, предводитель похода в Сибирь (1581 г.), положивший начало присоединению Сибири к России и её освоению.
(обратно)127
...Лилиенфельд со своей приятельницей княгиней Лопухиной... — В романе изложена художественно переосмысленная авторская версия так называемого «лопухинского заговора». На самом деле в оппозиционной императрице Елизавете придворной группировке ведущая роль принадлежала Н. Ф. Лопухиной (1699—1763). Лопухина отнюдь не выглядела неотразимой красавицей и к тому же была десятью годами старше императрицы, а потому никак не могла соперничать с последней. Взаимная ненависть их была порождена тем, что Лопухина была очень влиятельной особой при дворе свергнутой правительницы Анны Леопольдовны. Никакого уважения к ней как «наследнице» старинного русского рода Елизавета испытывать не могла, так как Лопухина была немкой (урождённой Балк) и, выйдя замуж за русского князя, отказалась перейти из лютеранства в православие.
(обратно)128
Приполярный Урал.
(обратно)129
Эльбы.
(обратно)130
Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк.
(обратно)131
Старые русские меры веса: золотник — 4,266 грамма, пуд — 16 килограммов.
(обратно)132
Корны — зёрна.
(обратно)133
Ушаков намекает на библейскую легенду о Христе, которого предал Иуда за тридцать сребреников.
(обратно)134
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766) — государственный деятель и дипломат, с 1744 г. — канцлер, до г. руководил внешней политикой России.
(обратно)135
Спасите нас... Прошу вас... (нем.).
(обратно)136
Мария-Терезия (1717—1780) — эрцгерцогиня австрийская, после смерти отца Карла VI вступила в наследование землями монархии австрийских Габсбургов. Её соправителями были императоры Франц I (муж) до 1765 г., а после Иосиф II (сын).
(обратно)137
Ревель — Таллин.
(обратно)138
Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, государственный деятель и учёный. Наибольшее значение в его научной деятельности имели работы по электричеству 1747—1753 гг. Почётный член многих научных обществ, в том числе Петербургской Академии наук (1789 г.).
(обратно)139
Солимена Франческо (1657—1740) — итальянский живописец.
(обратно)140
Васильев Матвей Васильевич (ок. 1732 — между 1781 и 1786), сын матроса, и Мельников Ефим Тихонович (ум. 1767), сын мастерового, были с 1749 г. «живописными академическими учениками», а затем художниками-мозаичистами, помощниками Ломоносова.
(обратно)141
Таугерт (Тауберт) Иван Иванович (1717—1771) — советник Канцелярии Академии наук.
(обратно)142
Табель о рангах — издана в 1722 г. Определяла порядок прохождения службы в абсолютистской России. Все должности были разделены на 14 рангов.
(обратно)143
Поместный приказ — упразднён в 1720 г.
(обратно)144
Мануфактур-коллегия — центральное государственное учреждение, ведавшее промышленностью, исключая горную.
(обратно)145
Петров Игнат — крепостной крестьянин, был в числе мастеровых людей Усть-Рудицкой фабрики, за счёт Ломоносова обучался в Академии наук рисованию, участвовал в работах над созданием мозаичных картин и зеркального телескопа принципиально новой конструкции, но после смерти Ломоносова отослан в деревню.
Мешков Михаил (ум. между 1781 и 1786) — подмастерье мозаичного дела.
(обратно)146
Межень — низкий уровень воды в водоёмах.
(обратно)147
Дюйм — 2,54 сантиметра.
(обратно)148
Соколов Иван Алексеевич (1717—1757) — один из лучших русских гравёров, главный мастер «градыровального департамента» Академии наук, профессиональную подготовку получил в художественных классах академии.
(обратно)149
...Воронцов-старший... — Воронцов Роман Илларионович (1707—17$3), сенатор, ярый защитник дворянских привилегий, прославился необузданным лихоимством, за что получил прозвище «Роман — большой карман», отец Е. Р. Дашковой, будущего президента Российской Академии наук.
(обратно)150
Гришов Августин-Нафанаил (1726—1760) — профессор астрономии, конференц-секретарь Академии наук 1751—1754 гг.
(обратно)151
Ордер — письменный приказ.
(обратно)152
...сообщение от Шувалова... — Мнение о том, что «Древняя Российская история» написана Ломоносовым по заказу правительства, устарело, так как работу над ней он самостоятельно начал ещё в 1751 г., о чем сообщил Шувалову. Полученное от императрицы предложение являлось лишь выражением поддержки инициативы учёного.
(обратно)153
Татищев Василий Никитич (1686—1750) — историк, крупный государственный деятель. Один из «птенцов гнезда Петрова». «Отец» русской истории.
(обратно)154
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский политический деятель, оратор, писатель.
(обратно)155
Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции.
(обратно)156
Подушный оклад — налог с души мужского пола. Был введён Петром I после переписи податного населения в 1717-1724 гг.
(обратно)157
Клейноды власти — символы власти.
(обратно)158
Зальх (Салхов) Ульрих Христофер (1722—1787), доктор медицины, в 1756 г. прибыл в Петербург в качестве профессора химии, однако вскоре стала очевидной его научная несостоятельность, в частности, он был уличён в плагиате, в 1760 г. покинул Россию. В 1768 г., будучи уже сельским врачом в Голштинии, предложил Петербургской Академии свои услуги в качестве члена-корреспондента, но его обращение осталось без ответа.
(обратно)159
Опутали змеи Лаокоона и его детей — Лаокоон — троянский герой, пытавшийся помешать троянцам втащить в город оставленного греками деревянного коня. Боги, предрешившие гибель Трои, послали двух огромных змей, удушивших Лаокоона и его двух сыновей. Популярный сюжет в античной скульптуре.
(обратно)160
Шаден Иоганн-Матиас (1731—1797) — доктор философии, профессор Московского университета, ректор университетских гимназий, содержатель известного частного пансиона.
(обратно)161
Дильтей Филипп-Г ейнрих (ум. в 1781 г.) — профессор Московского университета, автор работ по праву, истории, географии.
(обратно)162
Фессар Этьен (1714—1777) — французский художник.
(обратно)163
Печатается по кн.: Полное собрание законов Российской империй. Спб., 1830, т. III, № 1736.
(обратно)164
...настаёт новый 1700 год купно и новый столетный век... — на самом деле 1700 г. — последний год XVII столетия. Новый век начался 1 января 1701 г.
(обратно)165
На Гостине дворе — на гостином дворе.
(обратно)166
Бурмистерская ратуша — здание, где помещалось центральное учреждение в Москве по управлению городским населением. Просуществовало с 1699 по 1720 г., когда был создан Главный магистрат.
(обратно)167
Печатается по кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого. М. — Л., Изд-во АН, 1956, т. 10, с. 27.
(обратно)168
Литера — буква.
(обратно)169
Манифактурные книги — мануфактурные книги.
(обратно)170
Подчернены — зачёркнуты.
(обратно)171
Макаров Алексей Васильевич (1675—1740) — кабинет-секретарь (личный секретарь) Петра I.
(обратно)172
Указ 28 января 1724 г. печатается с сокращениями по кн.: Полное собрание законов Российской империи. Спб., 1830, т. VII, № 4443.
(обратно)173
...доходы... с городов: Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга таможенных и лицентных... — Таможенные и лицензионные сборы взимались за выдачу разрешения на ввоз или вывоз товаров; в настоящее время Дерпт — Тарту, Пернов — Пярну, Аренсбург — Кингисепп на острове Эзеле в Эстонии.
(обратно)174
...в рентереи... — в казначействе.
(обратно)175
Феология — теология, богословие.
(обратно)176
Градус — положение, степень знания наук.
(обратно)177
...три разных собрания чинят... — Речь идёт об объединении в одном учреждении академии, университета и гимназии.
(обратно)178
Авантаж — выгода, преимущество.
(обратно)179
Гуманиора — гуманитарные науки.
(обратно)180
Матезии сублимиори — математика (букв.: высшее знание).
(обратно)181
Апликация к телесам — приложение правил математики к физическим телам.
(обратно)182
Элоквенция — красноречие, ораторское искусство.
(обратно)183
Студиум антиквитатис — занятия древностью.
(обратно)184
Купно — вместе, одновременно.
(обратно)185
Экстракт — официальный документ, сжато излагающий дело.
(обратно)186
...натуральных вещей камора — кабинет минералов.
(обратно)187
Градировальный мастер — гравёр.
(обратно)188
Партикулярные коллегии — частные школы.
(обратно)189
Печатается в сокращении по кн.: Юности честное зерцало. Спб., 1717.
(обратно)190
Наипаче — особенно, тем более.
(обратно)191
Челядинцы, — слуги из челяди, домочадцы.
(обратно)192
Вдругорядь — повторно.
(обратно)193
Остроги — сапоги с острыми носками.
(обратно)194
Возгреи — сопли.
(обратно)195
Печатается в сокращении по кн.: Неплюев И. И. Записки. Спб., 1893.
(обратно)196
Гардемарины — звание, установленное Петром I для воспитанников морских школ при направлении их во флот на практику.
(обратно)197
Галеры — деревянные гребные военные суда, изобретённые венецианцами.
(обратно)198
Ефимки — иохимсталеры, талеры, серебряные немецкие монеты.
(обратно)199
Афонская гора — полуостров Афон в Греции, местонахождение целого ряда монастырей.
(обратно)200
Тулон — город и порт во Франции на Средиземном море.
(обратно)201
...рисовать мачтапов... — рисовать с учётом масштаба.
(обратно)202
Чвредной брегадир — дежурный сержант; в роте испанских гардемаринов было четыре сержанта (бригадиров-до-компания).
(обратно)203
Кварта — отделение гардемаринов.
(обратно)204
Артикул — упражнения в строевом деле, ружейных приёмах.
(обратно)205
Гишпанские — испанские.
(обратно)206
Экипажество — оснащение кораблей.
(обратно)207
Генерал-адмирал — высший чин на флоте.
(обратно)208
Флагманы — командующие соединениями военных кораблей. Адмиралтейская коллегия — высший орган управления морским делом.
(обратно)209
Ассамблея — здесь: место собраний.
(обратно)210
Печатается в сокращении но кн.: Данилов М. В. Записки. Казань, 1913.
(обратно)211
Герольдия — Герольдмейстерекая контора Сената, ведавшая определением дворян в службу, подтверждением или предоставлением дворянского звания.
(обратно)212
Штык-юнкер — один из младших офицерских чинов артиллерии, соответствующий армейскому чину унтер-лейтенанта (подпоручика).
(обратно)213
В тогдашнее время жаловали чинами по наукам, а неучёного записывали в рядовые канонеры,
(обратно)214
Явочная челобитная — прошение в судебные учреждения для оповещения их о понесённых убытках, бесчестии, телесных повреждениях и т. п. в результате чьих-либо противоправных действий.
(обратно)215
Часослов и Псалтырь — книги для обучения чтению. Содержали тексты молитв и псалмов для церковного пения.
(обратно)216
Акафист Богородице — хвалебное церковное песнопение Богоматери.
(обратно)217
Сени — холодная, неотапливаемая часть традиционного русского дома; светлица (светилище) — жилое, тёплое и светлое помещение.
(обратно)218
...Воскресения в Кадашах... — название одной из самых красивых московских церквей, построенной в XVII в. и сохранившейся до настоящего времени.
(обратно)219
Кавалеры — т. е. награждённые орденами.
(обратно)220
Из чертёжных учеников… а из пушкарских детей... — Здесь подчеркнут сословный характер военно-учебных заведений, привилегированное положение в них дворян.
(обратно)221
...на заводы в Сестребек... — на Сестрорецкий оружейный завод, основанный в 1721 г.
(обратно)222
Фурьер — унтер-офицерский чип.
(обратно)223
Фейверкор — фейерверкер, унтер-офицер в артиллерии.
(обратно)224
Печатается по кн.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., Наука, Ленинградское отделение, 1979.
(обратно)225
Паче — особенно, более всего.
(обратно)226
Приклады — примеры, образцы.
(обратно)227
Зане — настолько, потому что, оттого что.
(обратно)228
Брашна — пища, яства, кушанье.
(обратно)229
Стан — этап, состояние, положение (общественное, сословное).
(обратно)230
...первое просвещению ума подавало обретение письма... — Здесь приводится татищевская периодизация всемирной истории. Интересно то, что он рассматривает создание письменности и изобретение книгопечатания («тиснения книг») как важнейшие события, знаменующие собой целые этапы жизни всего человечества.
(обратно)231
Закон Моисеев — первые пять книг Библии, приписываемые легендарному пророку Моисею; в христианском мире долгое время считались не только древнейшими частями Священного писания, но и самыми первыми памятниками письменности, наукой же доказана несостоятельность обоих этих суждений.
(обратно)232
Ксенокраг — ученик Платона, древнегреческий философ.
Диогор — Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки».
Феодор Киренаик — древнегреческий геометр.
Анаксимандр Милетский (ок. 010—540 до н. э.) — древнегреческий философ.
(обратно)233
Книга «Камень веры» — написана Стефаном Яворским (1658—1722) — известным русским церковным деятелем и писателем, предвестником Петровских реформ, в трактате проводится мысль о неподчинении церкви светским властям.
(обратно)234
Протестанты — последователи новых церковных направлений, отколовшихся от католицизма в ходе Реформации XVI в.
(обратно)235
Остяки — прежнее название хантов.
(обратно)236
Идолослужебники — язычники.
(обратно)237
Вергилий Полидор (ок. 1470 — ок. 1555) — писатель, историк, гуманист. Написал трактат «Об изобретателях вещей», где пытался дать классификацию наук.
(обратно)238
Силлогизм — умозаключение, отвлечённое рассуждение.
(обратно)239
Инквизиция — особый церковный суд по делам о еретиках католической церкви в XIII—XIX вв.
(обратно)240
Никон (1605—1681) — патриарх русской церкви в 1652—1667 гг. Провёл церковные реформы, приведшие к расколу верующих на сторонников официальной церкви — никониан и старообрядцев — противников нововведений. Старообрядчество преследовалось государством.
(обратно)241
Крушцовые буквы — свинцовые буквы.
(обратно)242
Библиотека Птолемеева — крупнейшая в античном мире Александрийская библиотека, основанная в III в. до н. э. царями Египта из династии Птолемеев; её основная часть была уничтожена христианскими фанатиками в 391 г. н. э., а последние её остатки погибли в VII—VIII вв. при арабском завоевании.
(обратно)243
Константин Мудрый (1185—1218) — старший сын великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, известен как собиратель книг и летописец, в 1216 г. разгромил своих братьев Юрия и Ярослава на реке Липице и провозгласил себя великим князем.
(обратно)244
Виклев — Уиклиф Джон (между 1320 и 1330—1384) — один из основоположников Реформации. Английский богослов, идеолог бюргерской ереси.
Гус Ян (1371—1415) — гуманист, идеолог чешской Реформации, национальный герой чешского народа.
(обратно)245
Гроций Гуго де Гроот (1583—1645) — голландский юрист и государственный деятель, один из основателей теории естественного права.
(обратно)246
...в физике или всей филозофии... — Под философией Татищев понимал не только собственно философию, но весь комплекс естественноисторических наук.
Браго (Браге) Тихо (1546—1601) — датский астроном.
(обратно)247
Мохиовелическими плевелы... — Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и мыслитель эпохи Возрождения. Термин «макиавеллизм» означает политику, ведущуюся любыми средствами, пренебрегая моралью. Плевелы — сорняки.
(обратно)248
...после Владимира второго от неразумия князей и потом по смерти царя Фёдора Ивановича до воцарения Михаила Фёдоровича произошло, что едва имя российское вконец не погибло... — Речь идёт в первом случае о феодальной раздробленности, имевшей место после смерти Владимира Мономаха в 1113 г., во втором — о так называемом Смутном времени конца XVI — начала XVII в., когда после смерти сына Ивана Грозного Фёдора Ивановича прекратилась «законная» династия русских царей, ведшая свой отсчёт от легендарного Рюрика. В обоих случаях наблюдалось ослабление центральной власти.
(обратно)249
Болотников Иван Исаевич (ум. в 1608 г.) — руководитель крестьянской войны 1606—1607 гг.
Баловня (Баловень), Заруцкий И. — казацкие атаманы.
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — руководитель крестьянской войны 1670—1671 гг.
(обратно)250
Кромвель Оливер (1599—1658) — деятель Английской буржуазной революции. С 1653 г. лорд-протектор Англии, т. е. фактический её правитель.
(обратно)251
Генрих IV — французский король в 1589—1610 гг. Первый из династии Бурбонов. Глава гугенотов во время Религиозной войны.
Людовик XIV — французский король в 1643—1715 гг. «Король Солнце», как его называли придворные льстецы. Укрепил абсолютизм.
Генрих VIII Тюдор — английский король в 1509—1547 гг. Яркий представитель английского абсолютизма. При нём прошла английская Реформация. Король стал главой англиканской церкви.
Елизавета I Тюдор — английская королева в 1558—1601 гг. Типичная представительница абсолютизма. При ней церковь была полностью подчинена государству.
Карл I — под именем Карла V император Священной Римской империи в 1519—1556 гг., как испанский король Карл I правил в 1516—1556 гг. Противник Реформации.
Густав — Густав Адольф II, шведский король в 1611—1632 гг. Крупный полководец. Много сделал для укрепления шведского абсолютизма.
Крестина — Христина Августа, шведская королева в 1632—1654 гг. Покровительствовала учёным.
(обратно)252
Подлость — непривилегированные сословия в отличие, например, от дворянства (шляхетства).
(обратно)253
А если кто по случаю нешляхетный вотчины получит... — Подчёркивается монопольное право дворянства владеть землёй и крепостными крестьянами.
(обратно)254
Гусары — лёгкая кавалерия. Рейтары — тяжёлая кавалерия. Копейщики — кавалерия, вооружённая копьями, входила в состав гусарских полков.
(обратно)255
Крымский поход 1689 г. — неудачный поход русских войск под руководством фаворита царевны Софьи В. В. Голицына против Крымского ханства. Крымские походы 1687 и 1689 гг. были осуществлены в плане реализации Вечного мира с Польшей 1686 г., по которому Польша признавала воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией, а Россия обязывалась воевать вместе с Польшей и Австрией против Турции и Крымского ханства.
(обратно)256
Драгуны — кавалерия, сражавшаяся как в конном, так и в пешем строю.
(обратно)257
Обер- и штаб-офицеры — младшие, включая капитана, и старшие офицерские чины по табели о рангах 1722 г.
(обратно)258
Ябеда — ложная жалоба, сутяжничество.
(обратно)259
Дворецкий, конюший, стряпчий — придворные должности и звания.
(обратно)260
Елико — сколько, насколько.
(обратно)261
Пщуем — от слова «пщевати», то есть думать, воображать, мечтать.
(обратно)262
Пребывание — жизнь, существование.
(обратно)263
Библический — библейский.
(обратно)264
Поять — взять, принять.
(обратно)265
Угобжении — угождении.
(обратно)266
Безлетный — вечный, бессмертный.
(обратно)267
Услуга — служба.
(обратно)268
Росчение — растение.
(обратно)269
Доднесь — доныне.
(обратно)270
Иосиф Влавий — Иосиф Флавий (37 — после 100), древнееврейский историк.
(обратно)271
Сарматский язык — под этим названием Татищев объединяет различные языки народов европейского Севера, Поволжья, Урала, в основном относящиеся к финно-угорской языковой семье.
(обратно)272
Лапланцы — прежнее название народа саамов (лопарей), живут на севере Скандинавии и Кольского полуострова.
Черемиса — прежнее название марийцев.
(обратно)273
Тангутский язык — один из тибетских языков, на котором были написаны религиозные и прочие книги калмыков буддийского вероисповедания.
(обратно)274
...сии народы... письма не имеют. — Здесь Татищев подчёркивает, в частности, важность для изучения истории не только письменных памятников, но и фольклора и топонимики.
(обратно)275
Волочаги — бродяги.
(обратно)276
...у его величества в Летнем доме. — Татищев рассказывает о разговоре с Петром I, произошедшем во дворце в Летнем саду в Петербурге (здание сохранилось до настоящего времени).
(обратно)277
Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич (1692—1755) — придворный врач Петра I, первый президент Академии наук в 1725—1733 гг.
(обратно)278
Жито — хлеб.
(обратно)279
Незапное преставление — внезапная кончина.
(обратно)280
Епархии — епископии, церковные округа.
(обратно)281
Архиереи — высшее духовенство: епископы, архиепископы, митрополиты.
(обратно)282
Каждоседмично — еженедельно.
(обратно)283
...не нашего закона... — не православного вероисповедания.
(обратно)284
Надмерно — чрезмерно.
(обратно)285
Катехизм (катехизис) — краткое изложение основ христианской религии, составленное в виде вопросов и ответов.
(обратно)286
Рефракция — преломление лучей в земной атмосфере. В результате светила кажутся выше своего действительного положения, а Солнце и Луна — сплюснутыми у горизонта.
Паралаксис (параллакс) — видимое изменение положения предмета вследствие перемещения глаза наблюдателя.
(обратно)287
Кондуктор — в русской армии звание, которое присваивалось чертёжникам и художникам, на флоте — ближайшим помощникам офицеров.
(обратно)288
Лексикон — словарь.
(обратно)289
Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117), Флор Луций (Юлий) Анней (II в. н. э.) — древнеримские историки.
(обратно)290
Малебражнь — Мальбранш Никола (1038—1715), французский философ-идеалист, утверждал невозможность взаимодействия души и тела.
(обратно)291
Карл Великий (742—814) — с 768 г. король франков, император с 800 г. Основатель династии Каролингов.
(обратно)292
Мунгалы — монголы.
(обратно)293
Часовник — богослужебная книга с текстами молитв, употреблявшаяся для обучения чтению.
(обратно)294
Авизы седмичные — еженедельные периодические издания.
(обратно)295
Вольные друкарни — вольные типографии.
(обратно)296
...особливое собрание или коллегия учреждена была... — Идея Татищева о создании особого государственного ведомства, сосредоточившего управление делами образования, была реализована лишь в начале XIX в., когда в России было образовано первое в Европе Министерство просвещения.
(обратно)297
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 321—323.
(обратно)298
...в оклад не положен — от подушной подати освобождались дворянство и духовенство.
(обратно)299
Камор-коллегия — Камер-коллегия, действовала с перерывами с 1721 г. до 1801 г. Занималась государственными доходами.
(обратно)300
...дворцовый крестьянский сын... — то есть сын крестьянина, принадлежавшего не частному владельцу, а лично царю или членам его семьи.
(обратно)301
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 331—332.
(обратно)302
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 484—485.
(обратно)303
Норд — север.
(обратно)304
Шти — щи.
(обратно)305
...удар от привешенной линеи... — Металлическая линейка с ниткой использовалась Рихманом для измерения электрического заряда, неосторожно приблизившись к ней слишком близко во время опыта, он был поражён сильным разрядом, по описанию похожим на шаровую молнию.
(обратно)306
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1959, т. 8, с. 284—285.
(обратно)307
Рожденны к скипетру... — рождённый для царствования.
(обратно)308
Монаршу власть скрывал... — во время Великого посольства в Европу 1697—1698 гг. Пётр I путешествовал под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова.
(обратно)309
Печатается но кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1959, т. 8, с. 120—123.
(обратно)310
Там разных множество светов... — по мнению, бытовавшему в ту нору, во Вселенной имеется много населённых миров (светов). Против этой точки зрения выступала церковь.
(обратно)311
Натура — природа.
(обратно)312
О вы, которых быстрый зрак... — обращение к учёным.
(обратно)313
Иль тучных гор верхи горят... — немецкие учёные считали, что северное сияние — результат отражения огня исландского вулкана Геклы от движущихся северных льдов.
(обратно)314
Печатается но кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1959, т. 8, с. 618—626.
(обратно)315
Венера — богиня любви и красоты в Древнем Риме.
(обратно)316
Химера — в древнегреческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом змеи.
(обратно)317
Имны — гимны.
(обратно)318
Борода в казне доходы умножает... — за право ношения бороды взимался с петровских времён налог. Раскольники, в массе своей носившие бороду, платили двойной подушный оклад.
(обратно)319
Керженцы — название старообрядцев, живших на реке Керженец, левом притоке Волги.
(обратно)320
Безголовым с бородой... — по утверждению фанатиков раскола, безбородым закрыт доступ в рай, известно, что в 1705 г. они заявили ростовскому митрополиту: «Лучше нам пусть отсекутся головы, чем бороды обреются».
(обратно)321
Скачут в пламень суеверы... — раскольники прибегали к массовым самосожжениям в ответ на преследования их властями.
(обратно)322
После них богатств... — борьба с расколом нередко становилась прикрытием для злоупотреблений и вымогательств церковной и гражданской администрации.
(обратно)323
В струбе там того сожгут... — сожжение в деревянном срубе являлось видом казни, распространённым в России в отношении врагов официальной православной церкви.
(обратно)324
Мать достатков и чинов... — эти и другие близкие по смыслу слова Ломоносова со всей определённостью свидетельствуют о критике им официальной церкви, так как только православное духовенство могло получать в России того времени высокие чины, богатые пожалования землёй и крестьянами.
(обратно)325
По всем модам наряжу... — видимо, личный выпад против проповедника Гедеона Криповского, известного своим щегольством.
(обратно)326
Тупей — хохол над лбом.
(обратно)327
Кошельки — мешочки из тафты, куда франты складывали волосы, спускавшиеся с затылка.
(обратно)328
...и крупичатой муки... — эта мука употреблялась как пудра для волос.
(обратно)329
Печатается по кн.: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 4, с. 371—372.
(обратно)330
Птолемей Клавдий (II в. н. э.) — древнегреческий учёный, разработал систему мира, согласно которой все видимые небесные светила движутся (часто очень сложно) вокруг неподвижной Земли; его взгляды были использованы для борьбы с учением Коперника.
(обратно)331
Аргумент повара взят М. В. Ломоносовым из книги французского писателя Сирано де Бержерака (1620—1655) «Иной свет, или Государства и империи Луны».
(обратно)332
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1952, т. 6, с. 381—403.
(обратно)333
Милостивый государь Иван Иванович... — сочинение написано в форме письма И. И. Шувалову в день его рождения 1 ноября 1761 г.
(обратно)334
...избавлять подданных от смерти... — в царствование Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь.
(обратно)335
...наймуй работников, прими третьщиков или половинщиков, или продай излишнее другому — здесь имеется в виду государственное крестьянство Русского Севера, где широко были распространены отношения найма, а также продажа земли.
Третьщики или половинщики — работники, нанятые за треть или половину урожая (дохода).
(обратно)336
Слова Назианзиновы — Григорий Назианзин (345—407), церковный писатель, называвшийся также Григорием Богословом.
(обратно)337
Солунь — славянское название греческого города Салоники.
(обратно)338
Вселенские соборы — съезды высшего духовенства христианской церкви, разрабатывавшие основы вероучения и культа; православная церковь признает решения лишь первых семи соборов, состоявшихся в IV—VIII вв.
(обратно)339
Чернцы — чёрное духовенство, то есть монахи.
(обратно)340
Клобук — монашеский головной убор.
(обратно)341
...богаделенные домы для невозбранного зазорных детей приёму — первый воспитательный дом в России был основан в 1764 г. в Москве.
(обратно)342
Гофман Фридрих (1660—1742) — врач, чьё шеститомное Собрание медицинских сочинений (Женева, 1740) имеет в виду Ломоносов.
(обратно)343
Замерзающая ртуть — ртуть считалась незамерзающей жидкостью до 1759 г., когда И.А. Браун (вначале самостоятельно, а затем в сотрудничестве с Ломоносовым) во время опытов в Петербурге впервые получил этот металл в твёрдом состоянии.
(обратно)344
Лопари (саами) и самояды (ненцы) — народности европейского Севера, с бытом которых Ломоносов был хорошо знаком.
(обратно)345
Петров день — 12 июля (по старому стилю 29 июня).
(обратно)346
Андреевский протопоп — то есть священник Андреевской церкви на Васильевском острове в Петербурге.
(обратно)347
Четыредесятница — 40 дней после пасхи празднуется всегда в четверг (Вознесение).
(обратно)348
Красоуля — чаша для монастырской трапезы.
(обратно)349
Медицинская канцелярия — учреждена в 1721 г., в 1763 г. преобразована в Медицинскую коллегию, перед которой была поставлена задача расширения подготовки медицинских кадров.
(обратно)350
Иготь — ступка.
(обратно)351
Медицинский факультет — один из трёх факультетов первого в России Московского университета.
(обратно)352
...разорения от поляков... — Имеется в виду скрытая и прямая военная интервенция польско-литовских феодалов а Россию в 1605—1612 гг.
(обратно)353
...на географические вопросы в Академию наук... — анкета, разосланная в 1759 г. по инициативе Ломоносова Академией наук с целью сбора сведений для географического описания России.
(обратно)354
Побеги бывают более от помещичьих отягощений... — весьма красноречивое высказывание Ломоносова, раскрывающее его отношение к крепостному праву.
(обратно)355
Ветка — река в Белоруссии на территории тогдашней Речи Посполитой близ русской границы, центр старообрядчества.
(обратно)356
...не можно ли возвратить при нынешнем военном случае? — попытаться вернуть силой раскольников с реки Ветки в связи с возвращением действующей армии после Прусской кампании.
(обратно)357
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 267—310.
(обратно)358
Герман Яков (1678—1733) — профессор высшей математики, почётный член Академии наук с 1731 г.
Билфингер (Бюльфингер) Георг-Бернгард (1693—1750) — профессор физики.
(обратно)359
Статский советник — гражданский чин 5-го класса табели о рангах, соответствовал чину бригадира в армии (между генералом и полковником).
(обратно)360
...приватными прислугами — личными услугами.
(обратно)361
...начатой безо всякого формального учреждения и указа Канцелярии... — Ломоносов справедливо указывает, что учреждение Академической канцелярии и узурпация ею власти противоречат замыслам и распоряжениям Петра I.
(обратно)362
Абшид — отставка; из-за недовольства Шумахером за первые восемь лет существования Академии наук её покинули шесть из восьми первых профессоров, прибывших в Петербург в 1725 г.
(обратно)363
Крафт Георг-Вольфганг (1701—1754) — профессор математики и физики, почётный член Академии наук с 1744 г.
(обратно)364
Карусель — конное состязание.
(обратно)365
...Камчатская экспедиция — речь идёт о второй (Великой Северной) Камчатской экспедиции (1733—1743), в которой принял участие С. Крашенинников.
(обратно)366
Генсиус (Гейнзиус) Готфрид (1709—1769) — профессор астрономии, почётный член Академии наук с 1744 г.
(обратно)367
Минних (Миних) Бурхард Христофорович (1683—1747) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал с 1732 г.
(обратно)368
Надворный советник Попов Никита Иванович (1720—1782) — профессор астрономии. Надворный советник — чин 7-го класса по табели о рангах, равен воинскому — подполковник.
(обратно)369
Бергмейстер — горный судья, глава горного начальства. Соответствует рангу капитана.
(обратно)370
Фелтинг — (Фелтен) Матиас, свойственник Шумахера, отчим Тауберта, тесть профессора Крафта, эконом Академии наук.
(обратно)371
Статс-контора — Штатсконтор-коллегия, ведала государственными расходами. Существовала в 1718—1780 гг.
(обратно)372
Берг-коллегия — высшее государственное учреждение, ведавшее горнозаводским делом в России. Существовала в 1719—1731, 1742—1783, 1797—1807 гг.
(обратно)373
Лебедев Василий Иванович (1716—1771) — переводчик Академии наук.
Голубцов Иван Иванович (1715—1769) — переводчик Академии наук.
(обратно)374
Кайзерлинг (Кейзерлинг) Герман-Карл (1697—1764) — президент Академии наук в июле — декабре 1733 г.
(обратно)375
Экстраординарные профессоры — то есть профессора, не занимающие кафедры, сверхштатные.
(обратно)376
Камер Михаэль — комиссар Академии наук.
Горлицкий (Горлецкий) Иван Семёнович (1690—1770) — переводчик Академии наук.
(обратно)377
...сильный тогда при дворе человек иностранный — придворный медик и политический авантюрист Лесток.
(обратно)378
Страфам — штрафам.
(обратно)379
Либерея — ливрея.
(обратно)380
Случайные люди — попавшими «в случай» называли придворных, пользовавшихся особым расположением императрицы.
(обратно)381
Вилде (Вильде) Иоганн-Христиан — адъюнкт, позднее профессор анатомии в 1738—1741 гг.
Крузиус Христиан (1715—1767) — профессор древностей и истории.
(обратно)382
По вступлении нового президента сочинён новый стат... — новый регламент и штат Академии наук были составлены Тепловым, видимо, при участии Шумахера, учёные не были привлечены к их разработке; утверждены эти документы были 24 июля 1747 г., в них закреплялась власть канцелярии над всей академией. Новый президент Академии наук был назначен в мае 1740 г. Им стал К. Г. Разумовский.
(обратно)383
Академический пожар... — произошёл в ночь на 5 декабря 1747 г.
(обратно)384
...говорено и о Герострате... — то есть подразумевался умышленный поджог; Герострат (IV в. до н. э.) — житель города Эфеса, чтобы прославиться, сжёг храм Артемиды, одно из семи «чудес света» древнего мира.
(обратно)385
Загромоза — мальтийский рыцарь, путешественник.
(обратно)386
Браун Иосиф-Адам (1712—1768) — профессор логики, метафизики и нравоучительных наук.
(обратно)387
Барон Черкасов Иван Антонович (1692—1752) — кабинет-секретарь императрицы Елизаветы Петровны.
(обратно)388
Бургав-меньший — Каау-Бургав Авраам (1715—1758), профессор анатомии и физиологии.
(обратно)389
Цедулька — записка, короткое послание.
(обратно)390
Вотще — напрасно, попусту.
(обратно)391
Худеть — портиться, делаться плохим.
(обратно)392
Реприманд — выговор.
(обратно)393
Куртаг — приём во дворе.
(обратно)394
Дедикация — посвящение.
(обратно)395
Ланд-медик Дахриц — Дахриц Карл, немецкий химик.
(обратно)396
Промемория — название официальных бумаг, которыми обменивались равные по своему положению учреждения.
(обратно)397
...для прекращения споров между Миллером и Крекшиным... — обсуждение в Академии наук работы П. Н. Крекшина «Родословие великих князей, царей и императоров», в которой доказывалось прямое происхождение династии Романовых от Рюриковичей.
(обратно)398
При отъезде президентском на Украину... — К. Г. Разумовский выехал на Украину из Петербурга в конце мая 1751 г.
(обратно)399
Коллежский советник — гражданский тан 6-го класса табели о рангах. В армии соответствовал полковнику.
(обратно)400
...а оный при гетмане... — с 1750 г. президент Академии наук К. Г. Разумовский стал гетманом Украины.
(обратно)401
Ханин Пётр Исаевич (ум. в 1756 г.) — секретарь Канцелярии Академии наук.
(обратно)402
Шумахер Иоган Якоб (ум. в 1767 г.) — архитектор Академии наук.
(обратно)403
Упалые — выбывшие, освободившиеся, вакантные.
(обратно)404
...определил... в Канцелярию новых членов... — Ломоносов и Тауберт стали членами Академической канцелярии в начале 1757 г.
(обратно)405
Цейгер Иоганн-Эрнст (1720—1764) — профессор механики.
Кельрейтер Иосиф-Теофил Готлиб (1733—1806) — адъюнкт по ботанике, с 1781 г. почётный член Академии наук.
(обратно)406
Катедра — кафедра, место чтения лекций.
(обратно)407
Греков Андрей Ангилеевич, Греков Алексей Ангилеевич (род. в 1726 г.) — мастера графики и рисования Академии наук.
(обратно)408
...некоторое известие о мусии... — Речь идёт о статье В. К. Тредиаковского «О мозаике», содержавшей критику современного ему мозаического искусства.
(обратно)409
В. Т. — подпись В. К. Тредиаковского; правда, его статья была напечатана не в «Ежемесячных сочинениях», а в журнале «Трудолюбивая пчела» (1759 г.), издававшемся А. П. Сумароковым.
(обратно)410
Пунсонщик Купий — Купи Иоганн (ум. в 1760 г.), медальерный мастер. Пунсонщик — специалист по вырезке из металла выпуклых изображений, с помощью которых их тиражировали.
(обратно)411
Модрах (Модерах) Карл-Фридрих (1720—1772) — профессор истории и инспектор гимназии.
(обратно)412
Сии слова твердил часто Тауберт... — позицию Тауберта в вопросе о наборе русских студентов более понятной делает его циничное высказывание: «Разве де нам десять Ломоносовых надобно? И один нам в тягость» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М. — Л., 1957, т. 10, с. 46).
(обратно)413
...рекомендовал в профессорш адъюнктов Козицкого и Мотониса... — хотя Г. В. Козицкий и Н. Н. Мотонис не были произведены в профессоры, но привлекались Ломоносовым к занятиям со студентами и гимназистами. Лишь в 1767 г. после отрешения Тауберта от управления оба они, уже покинувшие к тому времени академическую службу, были избраны почётными членами Академии наук. Козицкий Григорий Васильевич (1721—1755), адъюнкт, переводчик, почётный член Академии наук с 1767 г. Мотонис (Матонис) Николай Николаевич (ум. в 1787 г.), адъюнкт, почётный член Академии наук с 1767 г.
(обратно)414
Инавгурация — торжественный акт открытия университета, в отношении Академического университета она так и не состоялась.
(обратно)415
Протасов Алексей Протасьевич (1724—1796) — академик по анатомии.
(обратно)416
Фёдорович Георг-Фридрих — профессор юриспруденции Академического университета.
(обратно)417
Поленов Алексей Яковлевич (1738—1816) — студент Академического университета, переводчик Академии наук, юрист и историк, происходил из солдатских детей; на конкурс в Вольном экономическом обществе, объявленный в 1766 г., представил работу, в которой хотя и непоследовательно, но подверг критике крепостничество и призвал улучшить положение крестьян, облегчить их повинности.
(обратно)418
Лепёхин Иван Иванович (1740—1802) — впоследствии академик, крупный натуралист.
(обратно)419
Иноходцев Пётр Борисович (1742—1806) — впоследствии видный астроном, академик.
(обратно)420
Магазейн — склад, хранилище.
(обратно)421
Фамилия — семья.
(обратно)422
Экономия — хозяйство.
(обратно)423
Резоны — причины.
(обратно)424
Курганов Николай Гаврилович (1726—1796) — подмастерье математических и навигационных наук, впоследствии профессор астрономии Морского шляхетского корпуса.
(обратно)425
При случае явления Венеры в Солнце... — прохождение Венеры по диску Солнца произошло в 1761 г.
(обратно)426
Пингре (Петре) Александр-Ги (1711—1796) — аббат, французский астроном. Его наблюдения были опубликованы в «Мемуарах» Парижской Академии наук за 1761 г. (вышли в свет в 1763 г.).
(обратно)427
Шлёцер Август-Людвиг (1735—1809) — впоследствии академик, историк и публицист, почётный член Академии наук с 1769 г.
(обратно)428
Россохин (Рассохин) Родион Калиниикович (ум. в 1761 г.) — подпоручик, переводчик Академии наук с китайского и маньчжурского языков.
Леонтьев Алексей Леонтьевич (ум. в 1786 г.) — переводчик с китайского и маньчжурского языков при Коллегии иностранных дел.
(обратно)429
Фишер Иоганн-Эбергард (1697—1771) — профессор истории и древностей.
(обратно)430
...прошлого 1763 года... сочинил скопом и заговором разные клеветы... — Ломоносов называет участников направленной против него интриги, в результате которой 2 мая 1763 г. Екатерина II подписала указ об его отставке. 13 мая указ был взят назад, но это происшествие нанесло больному Ломоносову сильную моральную травму и ухудшило состояние его здоровья.
(обратно)431
Корф Иоганн-Альбрехт (1697—1766) —главный командир (президент) Академии наук в 1734—1740 гг.
(обратно)432
Канцелярские журналы — протоколы заседаний Академической канцелярии.
(обратно)433
...бессовестное их ругание в «Лейпцигских учёных сочинениях»... — В 1752 г. была напечатана статья, содержавшая отрицательный отзыв по поводу ломоносовской теории вещества и молекулярно-кинетической теории теплоты и газов. М. В. Ломоносов ответил на критику статьёй, напечатанной в Амстердаме в 1755 г.
(обратно)434
...в науках такой человек действовать может... — имеется в виду Тауберт.
(обратно)435
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 357.
(обратно)436
Приносил его высочеству дедикации — наследнику престола Павлу Петровичу посвящения.
(обратно)437
К пункту 8 — Цитата из «Речи против Катилины» Цицерона.
(обратно)438
К пункту 9 (за алтари и т. д.) — Полностью это высказывание Цицерона выглядит так: «Борьба за алтари и домашние очаги». В данном контексте означает: «В борьбе за благо Родины».
(обратно)439
В XVIII веке разница между старым и новым стилем составляла 11 дней, в настоящее время — 13 дней.
(обратно)440
Печатается по кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., Изд-во Академии наук, 1957, т. 10, с. 508—514.
(обратно)441
Жалованных студентов — то есть студентов, находящихся на содержании государства.
(обратно)442
Натуральная история — как зафиксировано в указе об учреждении университета, включала в себя изучение минералов, трав и животных.
(обратно)443
Печатается с небольшими сокращениями по кн.: Полное собрание законов Российской империи. Спб., 1830, т. XIV, № 10346.
(обратно)444
Конфирмовали — утвердили, решили.
(обратно)445
Ваканции — каникулы.
(обратно)446
Печатается по тексту газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 1755, 16 мая.
(обратно)447
Церковь Казанской богородицы — находилась на углу нынешней ул. 25 Октября и Красной площади рядом с открывшимся университетом. Построена Д. М. Пожарским в 1626 г. Снесена в 1928 г.
(обратно)448
Вышнего — верхнего, последнего.
(обратно)449
Парнасская гора — мифологическое место обитания Аполлона и муз.
Минерва (Афина) — богиня неба, покровительница наук, богиня мудрости.
(обратно)450
...имя его превосходительства господина куратора и основателя университетского... — имеется в виду И. И. Шувалов.
(обратно)451
Политавры — литавры.
(обратно)452
Печатается по кн.: Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Госполитиздат, 1952, т. I, с. 85-92.
(обратно)453
Естественное богословие — в XVIII в. часть философской науки, основывающаяся на возможности постижения человеческим разумом религии.
(обратно)454
Искать старого Рима... — постигать латинский и другие древние языки и труды древнеримских авторов.
(обратно)455
...а мать, странствовавши чрез толикое множество лет по толь многим странам, ни одного языка не научилась! — Под словом «мать» Н. Н. Поповский понимает философию.
(обратно)456
Логики — древние и средневековые философы.
(обратно)457
Barbara, Celarent, Darii — слова первой строки стихов, составленных для запоминания правил.
(обратно)458
Печатается с сокращениями по кн.: Русский архив, 1874, кн. I, вып. 6, с. 1381—1453.
(обратно)459
...трубя в сурму из толстого бодяка... — сурма (сурна) — дудка, бодяк — чертополох.
(обратно)460
Склады — приёмы обучения чтению на церковнославянском языке, заключавшиеся в заучивании сочетаний букв.
Титлы — особые знаки в древнерусском и церковном письме, ставившиеся над сокращёнными словами и цифрами.
(обратно)461
Детская песня под дождём:
Иди, иди, дождику! Сварю тебе борщику В поливяном горшику, Цебром, ведром, дойницею, Над нашею криницею, Под нашею светлицею. (обратно)462
Дыбы — ходули.
(обратно)463
Букварь, Часослов, Псалтырь — последовательное обучение по этим трём книгам являлось обычным приёмом получения начального образования.
(обратно)464
Ирмолойный — от слова «ирмос» — напев для музыкального исполнения богослужебных текстов.
(обратно)465
Вирши — стихи на церковнославянском и народном языке духовного, а также светского содержания, особо популярные на Украине в XVI—XVIII вв.
(обратно)466
Орация — речь.
(обратно)467
Каламенковый пояс — пояс из гладкой пеньковой или льняной ткани.
(обратно)468
«Письмовник» Курганова — Курганов Н. Г. «Универсальная российская грамматика», впервые издана в Санкт-Петербурге в 1769 г.
(обратно)469
Флоринова «Экономия» — Флоринус Франциск Филипп (ум. в 1699 г.). Его «Экономика» выходила несколькими изданиями в переводе на русский язык.
(обратно)470
«Смеющийся Демокрит» — впервые опубликован Н. И. Новиковым в «Трутне», 1769, лл. 28 и 33. В XVIII в. философ-материалист Демокрит (460—370 до н. э.) изображался смеющимся и был олицетворением оптимизма.
(обратно)471
«Древняя Ролленова История» — Роллен Шарль (1661—1741), ректор Парижского университета. Написал 13-томную историю древнего мира.
(обратно)472
«Золотые часы» Марка Аврелия — Марк Аврелий (121—180) — римский император с 161 г., философ-стоик, в своих произведениях выражал стремление к нравственному совершенствованию.
(обратно)473
Эпиктетов «Энхиридион» — Эпиктет (ок. 50 — ок. 138), греческий философ-стоик, отпущенный на волю раб, проповедник аскетизма и духовной свободы.
(обратно)474
Ore rotundo — во всё горло.
(обратно)475
Тропари, кондаки — богослужебные книги.
(обратно)476
Геллертова «Грамматика» — Геллерт Христиан Фюрхтеготт (1715—1769), создатель жанра трогательной комедии в немецкой литературе.
(обратно)477
Pater Noster — отче наш.
(обратно)478
Credo — символ веры.
(обратно)479
Перевод стихотворения: «Розга, ей-богу, кости не переломает, а разум быстро в голову вгоняет».
(обратно)480
Магия Твардовского — по польской легенде Твардовский — дворянин, живший в XVI в.; продал душу дьяволу и прожил жизнь, полную приключений, «польский Фауст».
(обратно)481
Румянцев-Задунайский Пётр Александрович (1725—1796) — русский полководец, генерал-фельдмаршал с 1770 г., в 1764—1796 гг. был президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Малороссии, то есть Украины.
(обратно)482
Ритор — слушатель класса риторики (красноречия).
(обратно)483
Кафисма — кафизма, отрывок из Псалтыри.
(обратно)484
Плутон — в древнегреческой мифологии бог подземного царства.
(обратно)485
Диана — Артемида, сестра-близнец Аполлона, богиня охоты, луны.
(обратно)486
Purpura(m) lanam — пурпурная шерсть.
(обратно)487
Философ — здесь: слушатель класса философии в семинарии.
(обратно)488
Exercic(t)ium — упражнение.
(обратно)489
Occupatio — занятие.
(обратно)490
Laudes — похвалы.
(обратно)491
Бурса — духовное училище, семинария, первоначально общежитие при них.
(обратно)492
Префект — здесь: старший воспитатель (начальник).
(обратно)493
Recreationem, pater, rogamus — отче, мы просим.
(обратно)494
Митрополит Самуил Миславский — родом из Глуховского уезда, села Полошек. (Коммент. автора.).
(обратно)495
Протоиерей — старший по чину священник.
(обратно)496
Gratis — даром, безвозмездно.
(обратно)497
Академическая конгрегация — академическое собрание.
(обратно)498
Иеромонах — монах, имевший также чип священника.
(обратно)499
Бишинг (Бюшинг) А. Ф. — Антон-Фридрих (1724—1793), автор знаменитого учебника по географии XVIII в., переведённого на русский язык.
(обратно)500
Фрейер Иероним — автор «Краткой всеобщей истории», переведённой на русский язык X. А. Чеботарёвым и изданной в Москве в 1769 г. Книга в дополнении включала «Краткий российский летописец» М. В. Ломоносова.
(обратно)501
Курс Аничкова — «Курс чистой математики» профессора Московского университета Д. С. Аничкова, первый оригинальный курс математики на русском языке.
(обратно)502
Мармонгелевы «Инки» — Мармонтель Жан-Франсуа (1723—1799), французский философ-просветитель.
(обратно)503
Фолианты Patres — сочинения «отцов церкви».
(обратно)504
«Physica mirabilis» — удивительная физика.
(обратно)505
«Philosophus in utramque partem» — философия с двух сторон.
(обратно)506
...начиная от «Memoires de l’Academic» до Мушенброка... — от «Мемуаров Академии» до Мушенбрука Питера ван (1692—1761), голландского физика-экспериментатора.
(обратно)507
Голандцы — матросская блуза-голландка.
(обратно)508
Смочка — способ усадки материала перед шитьём.
(обратно)509
Curriculum vitae — течение жизни, жизнеописание.
(обратно)510
Горацианские метры — стихотворные размеры, употребляемые Горацием.
(обратно)511
«Киропедия» Ксенофонта — Ксенофонт (ок. 430—355/54 до н. э.), древнегреческий писатель, историк, полководец.
(обратно)512
Плаут (Плавт) Тит Макций (сер. III в. — ок. 184 г. до н. э.), римский комедиограф.
(обратно)513
Ваттель Эмерих (1714—1767) — один из классиков международного права, швейцарский учёный-юрист и философ.
(обратно)514
Мартенс Георг Фридрих (1756—1824) — знаменитый немецкий юрист и дипломат.
(обратно)515
Мабли Габриель Бонно де (1709—1805) — французский просветитель, политический мыслитель, выражал идеи утопического коммунизма, признавал революционную борьбу как средство уничтожения угнетения и деспотизма.
(обратно)516
Corpus juris civilis — свод гражданского права.
Пандекты — сборники выписок из римского права.
(обратно)517
Мордвинов Николай Семёнович (1754—1845) — адмирал, сенатор, министр. В 1826 г. единственный из судей, отказавшийся подписать смертный приговор декабристам.
(обратно)518
Страхов Пётр Иванович (1757—1813) — профессор Московского университета по опытной физике, ректор университета в 1805—1807 гг.
(обратно)519
Мать его была Трубецких — то есть из рода князей Друцких, но во втором браке за князем Н. Ю. Трубецким. (Прим. издателя записок П. Бартенева).
(обратно)520
Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, quam proficit. — Кто богатеет в науках и скудеет в нравственности, тот больше скудеет, чем богатеет.
(обратно)521
Vis consilii expers mole ruit sua. Hor. — Сила без разума гибнет от собственной тяжести. Гораций.
(обратно)522
Дом его был на Петровке... — на Большой Дмитровке, а не на Петровке. (Прим. П. Бартенева).
(обратно)523
Панкевич Михайло Иванович (1757—1812) — профессор прикладной математики, автор первой русской книги о паровых машинах.
(обратно)524
ingenium practicum et applicativum — врождённое, присущее.
(обратно)525
Тургенев Иван Петрович (1752—1807) — директор Московского университета, отец декабристов А. И. и Н. И. Тургеневых.
(обратно)526
Клауди — Клаудий Христофор Александрович (ум. в 1805 г.), владелец типографии.
(обратно)527
Куракин Алексей Борисович (1759—1829) — в 1796—1798 гг. генерал-прокурор, с 1807 г. по 1811 г. — министр внутренних дел.
(обратно)528
Печатается с сокращениями по кн.: Лубяновский Ф. II. Воспоминания. М., 1872, с. 9—39.
(обратно)529
Коллегиум — закрытое среднее учебное заведение.
(обратно)530
Хрия — риторическая речь по данным правилам.
(обратно)531
...От инфимы до богословия... — Инфима — низший класс в семинарии, богословие — высший.
(обратно)532
Ареопаг — верховный суд в древних Афинах.
(обратно)533
Optime — отлично, превосходно.
(обратно)534
Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) — государственный деятель, публицист, сенатор.
(обратно)535
Чеботарёв Харитон Андреевич (1746—1819) — профессор истории, нравоучения и красноречия, первый ректор Московского университета.
(обратно)536
...стариков в голубых и красных лентах... — то есть кавалеров высших орденов Российской империи, — Андрея Первозванного и Александра Невского, вручавшихся лишь высокопоставленным придворным, чиновникам, генералам.
(обратно)537
Мельман Иоган Вильгельм Людвиг (1765—1795), профессор латинского и греческого языков.
Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий учёный, родоначальник классической немецкой философии.
(обратно)538
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834)—граф, генерал от артиллерии, временщик при Павле I и Александре I.
(обратно)539
Пунические войны — войны между Древним Римом и Карфагеном в III—II вв. до н. э.
(обратно)540
Горюшкин Захар Аникеевич (1748—1821) — профессор-правовед Московского университета.
(обратно)541
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — историк, писатель, публицист; его главный труд — 12-томная «История государства Российского» — вышел в 1818—1829 гг.
Полное собрание законов Российской империи — издано в 1830 г., а Свод законов Российской империи — в 1832 г.
(обратно)542
Печатается с сокращениями по кн.: Фонвизин Д. И. Собрание сочинений. М. — Л., Изд-во худож. лит-ры, 1959, т. 2, с. 81—101.
(обратно)543
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — великий французский философ-просветитель.
(обратно)544
Арабески Рафаэлевы — Рафаэль Санти (1483—1520), великий итальянский художник эпохи Возрождения.
Арабески — мусульманский орнамент.
(обратно)545
Иосиф Прекрасный — легендарный библейский персонаж, герой переведённого Д. И. Фонвизиным произведения французского поэта П.Ш. Битобе.
(обратно)546
...отец мой у крестов заставлял меня читать — то есть вслух читать церковные книги во время домашних богослужений.
(обратно)547
Прейсы — награды (нем.).
(обратно)548
Голберговы басни — Голберг (Гольберг) Людвиг (1684—1754), датский писатель и историк.
(обратно)549
...тогдашний наш директор... — Мелиссино Иван Иванович (1718—1795), государственный и общественный деятель.
(обратно)550
...основателю университета... — в официальной традиции XVIII в. основателем Московского университета считался Иван Иванович Шувалов (1727—1797), первый куратор университета.
(обратно)551
...брат мой... — Фонвизин Павел Иванович, впоследствии директор Московского университета.
(обратно)552
«Генрих и Пернилла» — русский перевод пьесы датского драматурга Гольберга.
(обратно)553
Шумский Яков Данилович (ум. в 1812 г.) — известный актёр, сподвижник Ф. Г. Волкова.
(обратно)554
Волков Фёдор Григорьевич (1729—1763) — создатель первого русского профессионального театра.
(обратно)555
Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) — известный русский драматический актёр, друг Д. И. Фонвизина.
(обратно)556
«Сиф, царь египетский» — (перевод Д. И. Фонвизина, т. I—IV. М., 1762—1768), философско-политический роман французского писателя Ж. Террассона «Геройская добродетель, пли Жизнь Сифа, царя египетского, из таинственных свидетельств древнего Египта взятая».
(обратно)557
Волтер (Вольтер) Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — великий французский философ-просветитель.
(обратно)558
В 1762 году был уже я сержант гвардии... — Братья Фонвизины были записаны в 1754 г. в лейб-гвардии Семёновский полк и числились в нём сверх комплекта как находящиеся в отпуске для учёбы. Образование, полученное в университетской гимназии, давало право на присвоение унтер-офицерского звания в гвардии, а при выпуске из неё в армейские полки — на офицерское звание. Д. И. Фонвизин предпочёл перейти на дипломатическую службу.
(обратно)559
Тогдашний вице-канцлер — Голицын Александр Михайлович (1723—1807), впоследствии сенатор и обер-камергер.
(обратно)560
Покойный тогдашний канцлер — Воронцов Михаил Илларионович (1714—1767).
(обратно)561
Один кабинет-министр — Елагин Иван Перфильевич (1725—1794), секретарь Екатерины II.
(обратно)562
...в доме его повсечасно был человек... — Лукин Владимир Игнатьевич (1737—1794), писатель и драматург.
(обратно)563
...с одним князем, молодым писателем... — Козловский Фёдор Алексеевич (ум. в 1770 г.) — воспитанник Московского университета, поэт и переводчик.
(обратно)564
Шумилов Михаил — дядька и камердинер Д. И. Фонвизина.
(обратно)565
Бибиков Александр Ильич (1729—1774) — генерал-аншеф, крупный государственный деятель при Екатерине II. Состоял в дружеской переписке с Д. И. Фонвизиным.
Орлов Григорий Григорьевич (1734—1783) — военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II.
(обратно)566
Панин Никита Иванович (1718—1783) — государственный деятель, в 1763—1784 гг. руководил внешнеполитическим ведомством, возглавлял придворную группировку, оппозиционную Екатерине II и стремившуюся возвести на престол её сына Павла Петровича.
(обратно)567
Его высочество — наследник престола Павел Петрович (1754—1801), сын Петра III и Екатерины II, император с 1796 г.
(обратно)568
Покойный граф Захар Григорьевич — Чернышёв 3. Г. (1722—1784), русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. В 1773—1784 гг. — президент Военной коллегии, в 1782—1784 гг. — градоначальник Москвы.
(обратно)569
Строганов Александр Сергеевич (1733—1811)—зять вице-канцлера М. И. Воронцова, президент Академии художеств.
(обратно)570
Шувалов Андрей Петрович (1745—1789) — граф, литератор, был директором Ассигнационного банка.
(обратно)571
Софистические рассуждения — рассуждения с использованием софизмов — ложных по существу умозаключений, формально кажущихся правильными, основанных на преднамеренном нарушении законов логики.
(обратно)572
Печатается в извлечениях по кн.: Опыт исторического словаря о российских писателях. Спб., 1772.
(обратно)573
Невольница татарская приводит в трепет Мустафу и Магомеда — речь идёт о русско-турецкой войне 1768—1774 гг. Невольница татарская — Россия, пережившая в 1240—1480 гг. золотоордынское иго.
(обратно)574
...некто российский путешественник сообщил в лейпцигский журнал известие о некоторых российских писателях... — В 1768 г. в Лейпциге были опубликованы «Известия о некоторых русских писателях». Точное авторство этого сочинения не установлено.
(обратно)575
Ададуров Василий Евдокимович (1709—1780) — учёный и государственный деятель, учился в гимназии и университете при Академии наук, а в 1733 г. стал первым её адъюнктом из русских (по высшей математике), известен также как переводчик и преподаватель русского языка, среди его учеников была и будущая императрица Екатерина II, в царствование которой занимал высокие посты в государственном управлении.
(обратно)576
Аничков Дмитрий Сергеевич (1733—1788) — просветитель, философ и математик, сын подьячего, учился в Московском университете в 1755—1761 гг., затем преподавал в нём, с 1771 г. — профессор, в 1769 г. подготовил диссертацию «О начале и происшествии натурального богопочитания», в которой возникновение религии объяснял страхом и невежеством людей; автор учебных пособий по математике и военно-инженерному делу.
(обратно)577
Афонин Матвей Иванович (1739—1810) — естествоиспытатель и агроном, учился в Московском университете, завершил образование за границей, после возвращения первым стал преподавать в университете земледелие. Самое известное сочинение — «Слово о пользе, знании, собирании и расположении чернозёму, особенно в хлебопашестве» (1771 г.), вышел в 1777 г. в отставку и продолжал агрономические опыты.
(обратно)578
Барсов Антон Алексеевич (1730—1791) — учёный-лингвист и общественный деятель, сын учителя Славяно-греко-латинской академии, где начал своё образование, в 1748—1753 гг. — студент Академического университета, в 1755 г. прибыл в Московский университет профессором математики (с 1761 г. — красноречия). Его «Краткие правила российской грамматики» выдержали за 1771—1802 гг. 10 изданий и служили основным учебником русского языка. С 1783 г. член Российской академии.
(обратно)579
Башилов Семён (1741—1770) — один из первых издателей древнерусских памятников, переводчик произведений античных философов, французских просветителей и учёных Петербургской Академии наук.
(обратно)580
Никоновская летопись — общерусский летописный свод, составленный в XVI в. Один из его списков принадлежал позднее патриарху Никону.
(обратно)581
Судебник царя Иоанна Васильевича — утверждён в 1550 г. как сборник законов Российского централизованного государства.
(обратно)582
«Ни то ни сё» — «Ни то ни сио в прозе и стихах», ежесуботнее издание 1769 г. Вышло 20 листов (номеров) журнала тиражом в 600 экз.
(обратно)583
Богданович Ипполит Фёдорович (1743—1803) — поэт, родился в украинской дворянской семье, в 1761 г. окончил Московский университет. Лучшее произведение — поэма «Душенька» (впервые напечатана в 1778 г., а полностью в 1783 г.), в ней использован античный сюжет во французской обработке Ж. Лафонтена, но стилизован под русские народные сказки. Переводчик произведений французских просветителей и исторических сочинений.
(обратно)584
Булатницкий Егор (ум. 1767) — переводчик с итальянского языка пьесы К. Гольдони «Сердечный магнит» (поставлена и напечатана в 1759 г.) и «Новой итальянской грамматики», ставшей учебником для университетской гимназии.
(обратно)585
Вениаминов Пётр Дмитриевич (1733—1775) — врач, ботаник, химик, в 1755 г. из Славяно-греко-латинской академии поступил в Московский университет. Закончив образование за границей, был профессором университета по кафедре медицинской ботаники. Самое известное сочинение — «Слово о свойствах и пользе растений».
(обратно)586
Верёвкин Михаил Иванович (1732—1795) — писатель и государственный деятель, сын гвардейского офицера, учился в Морском шляхетском корпусе, в 1756 г. определён при И. И. Шувалове на службу в Московский университет, в 1759—1761 гг. — директор университетской гимназии в Казани, в дальнейшем — на службе в кабинете Екатерины II переводчиком и «у других дел». С 1782 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук, с 1785 г. — член Российской академии. Переводчик книг исторического и географического содержания, автор стихов, комедий, «Хозяйственного деревенского календаря».
(обратно)587
Верещагин Иван Афанасьевич — впоследствии студент Московского университета, автор ряда од, изданных в 1775—1793 гг., одной из тем которых были успехи наук в России.
(обратно)588
Десницкий Семён Ефимович (ок. 1740—1789) — русский просветитель, юрист. Учился в Московском и Глазговском (Шотландия) университетах. Первым начал научную разработку русского права и преподавание его на русском языке.
(обратно)589
Домашнев Сергей Герасимович (1743—1795) — поэт и переводчик, учился в Московском университете, затем был на военной и придворной службе, депутат Уложенной комиссии от сумского дворянства, в 1775—1783 гг. — директор Академии наук, его близость к оппозиционным Екатерине II кругам привела к отставке и высылке из Петербурга.
(обратно)590
Зыбелин Семён Герасимович (1735—1802) — первый студент Московского университета и первый его русский профессор медицины, врач-энциклопедист, ввёл на своих лекциях, которые стал читать на русском языке, демонстрацию опытов. Разрабатывал практические меры борьбы с оспой, лечения детских болезней, закаливания, что нашло отражение в его «словах», которые также способствовали созданию языка русской медицины. С 1784 г. член Российской академии. Происходил из мелкого духовенства.
(обратно)591
Золотницкий Владимир Трофимович (1741 — после 1796) — писатель и переводчик, сын священника, учился в Московском университете, работал учителем в Сухопутном шляхетском корпусе и переводчиком в Камер-коллегии, с 1771 г. на военной службе. Депутат Уложенной комиссии от украинского Киевского полка.
(обратно)592
Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737—1814) — историк, библиограф и археограф, переводчик и издатель, управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дол, составил ценные описания рукописей, его капитальный труд «Обзор внешних сношений России» был издан лишь в 1894—1902 гг. и не утратил до сих пор научного значения. Происходил из знатного молдавского рода, приходился родственником А. Д. Кантемиру, учился в Славяно-греко-латинской академии и в Московском университете.
(обратно)593
Возмущение московской черни 1771 г. — народное восстание в Москве в сентябре 1771 г., так называемый «Чумной бунт».
(обратно)594
Карины Александр Григорьевич (173(?)—1769), Николай Григорьевич (173(?)—1768), Фёдор Григорьевич (ок. 1740 — ок. 1800) — писатели, образование получили в дворянской гимназии Московского университета, наиболее интересным из их творчества является сочинение Ф. Г. Карина «Письмо к Н. П. Николаеву о преобразователях российского языка...» (1778 г.) — один из ранних опытов русской литературной критики.
(обратно)595
Кенотафия — надгробная надпись, погребальные стихи.
(обратно)596
Беллона — богиня войны в римской мифологии.
(обратно)597
Лобанов Семён (ум. в 1770 г.).
(обратно)598
Малгерб (Малерб) Франсуа де (1555—1628) — французский поэт.
Пиндар (ок. 522 — ок. 442 до н. э.) — древнегреческий поэт.
(обратно)599
Медведев Сильвестр (1641—1691) — поэт и учёный, родом из Курска, служил подьячим, по настоянию Симеона Полоцкого постригся в монахи и после смерти последнего занял его место придворного стихотворца, составил в 1685 г. проект создания в Москве университета. Казнён как сторонник царевны Софьи, его стихи были запрещены, и списки их уничтожались.
(обратно)600
Стрелецкий бунт — имеется в виду стрелецкое восстание 1682 года.
(обратно)601
Перепечин Александр Иванович (1745—1801) — поэт — сочинитель од и торжественных стихов, учился в дворянской гимназии и Московском университете, в нём же прослужил на административных постах до самой отставки.
(обратно)602
Пермской Михайло (1741—1770) — писатель и переводчик, преподавал в Московском университете и Морском шляхетском корпусе. Автор первого русского учебника по «Практической английской грамматике» (Спб., 1766).
(обратно)603
Попий — английский поэт-просветитеяь Поп Александр (1688—1744), автор книги «Опыт о человеке».
(обратно)604
Анакреонтовы оды — Анакреонт (Анакреон, (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.
(обратно)605
Протопопов Андрей — учитель латинского языка гимназии Московского университета.
(обратно)606
Рожалин Козьма Фёдорович (ум. после 1786 г.) — один из первых российских учёных-медиков, учился в Киевской академии, Петербургском адмиралтейском госпитале, университетах Лейдена и Берлина. Его сын Матвей (р. в 1776 г.) учился в Московском университете и был одним из известных врачей первой трети XIX в., а внук Николай (1805—1834) — писателем, переводчиком, другом братьев Киреевских, Д. В. Веневитинова, В. Ф. Одоевского.
(обратно)607
Скорбут — цинга.
(обратно)608
Рубан Василий Григорьевич (1742—1795) — поэт, переводчик, издатель. Наибольшей популярностью пользовались не его художественные произведения, а составленные и изданные им в 1770—1780-х гг. труды по истории и географии Украины, описания Петербурга и Москвы, книги практического содержания: «Любопытный месяцеслов», «Дорожник» и т. н. Издал также ряд исторических памятников.
(обратно)609
Родосский колосс — одно из семи чудес света, статуя бога солнца Гелиоса на острове Родосе, воздвигнутая ок. 292—280 гг. до н. э.
(обратно)610
Шевиева «Краткая мифология» — видимо, речь идёт о книге до Шевиньи (ум. в 1713 г.) «Хронология... придворным, военным и статским особам...» (М., 1782).
(обратно)611
«Ироиды древних ироинь» — ироида (героида) — стихотворение-письмо от одного литературного героя к другому.
(обратно)612
Муретовы эпиграммы — Мюре Марк Антоний, французский гуманист XVI в.
(обратно)613
Феофрастовы характеры — Теофраст (372—287 до н. э.), древнегреческий философ, один из первых ботаников в мире.
(обратно)614
«Царский свиток, посвящённый греческому императору Иустиану, Агапитом Константинопольский Софийския церкви диаконом...» Спб., 1771.
(обратно)615
Санковский Василий Демьянович (1741—180(?)) — поэт, переводчик, издатель, окончил Московский университет. С 1779 г. на службе в Ярославле, где преподавал в народной школе и стал членом кружка, создавшего первый в России провинциальный журнал «Уединенпый пошехонец».
(обратно)616
Третьяков Иван Андреевич (1735—1796) — просветитель, учёный-юрист, писатель. В 1768 г. предложил в качестве темы публичной лекции вопрос: «Происходит ли наибольшая польза в государстве от рабов или от людей свободного звания и от уничтожения рабства», но это предложение было отклонено, так как учёный посягнул на устон крепостничества.
(обратно)617
Фёдоров (Яковлев) Илья Фёдорович (1742—1770) — математик и переводчик, из разночинцев, был студентом Московского университета.
(обратно)618
Гейнекциева философия — Гейнекций Иоганн Готлиб (1681—1741), немецкий юрист, профессор университета в Галле. Автор классических для своего времени руководств.
(обратно)619
Фонвизин Павел Иванович (1745—1803) — брат Д. И. Фонвизина, поэт и переводчик, государственный деятель, директор Московского университета в 1784—1795 гг.
(обратно)620
Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, издатель, общественный деятель, сын переселившегося в Россию валашского дворянина, окончил кадетский корпус; оставив военную и гражданскую службу, в 1755 г. ушёл на административную работу в новый Московский университет, где вокруг него сложился кружок талантливой молодёжи (Богданович, Фонвизин, Карины, Домашнее, Санковский, Рубан и др.), которую он активно привлекал к сотрудничеству в своих журналах. Директор Московского университета в 1763—1770 гг., а в 1778—1802 гг. — его куратор.
(обратно)621
Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель, с 1749 г. — фаворит Елизаветы Петровны, оказывал покровительство русским учёным, писателям, художникам. Первый куратор Московского университета (с 1755 г.) и президент Академии художеств (с 1757 г.). При Екатерине II перестал играть существенную роль в политической жизни, во время пребывания за границей в 1763—1777 гг. собирал произведения искусства, которые пополнили коллекции Академии художеств и Эрмитажа. В конце очерка Новиков допускает ошибку, называя И. И. Шувалова графом, но он в отличие от двоюродных братьев этого титула не носил. Возможно, что к И. Шувалову отнесены сведения о его племяннике А. П. Шувалове (1743—1789), поэте, сотруднике журнала «Всякая всячина».
(обратно)622
Печатается по кн.: Радищев А. Н. Избранное. М., «Моск. рабочий», 1959.
(обратно)623
Праг — порог.
(обратно)624
Пустоглаголание — пустой разговор, пустая речь.
(обратно)625
Четыре стихии — земля, вода, огонь и воздух.
(обратно)626
Соотчичи — здесь: сограждане.
(обратно)627
...введён богомудрыми монархами... — В XVIII в. была популярна мысль о «мудрецах на троне» — просвещённых правителях, которые установят справедливость в обществе.
(обратно)628
Печатается по кн.: О должностях человека и гражданина... (И. И. Фельбигер — авт.) Спб., 1787.
(обратно)629
Добродетельный — здесь: человек, обладающий суммой качеств, делающих его достойным членом общества.
(обратно)630
Не обинуемся — не минуем, не пропускаем.
(обратно)631
Крестьянин, как бы он пашню свою ни обработал и как бы изобильна на поле его жатва ни казалась; но когда рожь не в надлежащее время пожнет, даст ей испортиться от ненастья, или внесет ее мокрую в житницу, и в житнице ее не развеет, даст ей затхнуться; или покинет мышам и черьвям на съедение, пропустит удобной случай к продаже избытка, есть худой хозяин, и дивиться не должен, когда не получит той пользы, какую бы иметь мог.
(обратно)632
Крестьянину, имеющему лошадей, прибыльно доставать деньги извозом; но когда подумает, что хозяйство его и обработывание его пашни, которой в надлежащее время вспаханной быть должно, потерпит от того вред, что утучняющий ее навоз пропадет, и следовательно плод земли умалится, то увидит, что надлежащее обработывание пашни тому прибытку предпочесть должно, которой получить он может от извоза.
(обратно)633
В список включены основные публикации источников и литература, связанные прежде всего с жизнью и творчеством М. В. Ломоносова, а также обобщающие работы по истории русской науки и просвещения XVIII столетия. Исключение составляют книги о деятелях русской культуры из биографических серий издательства «Молодая гвардия».
(обратно)
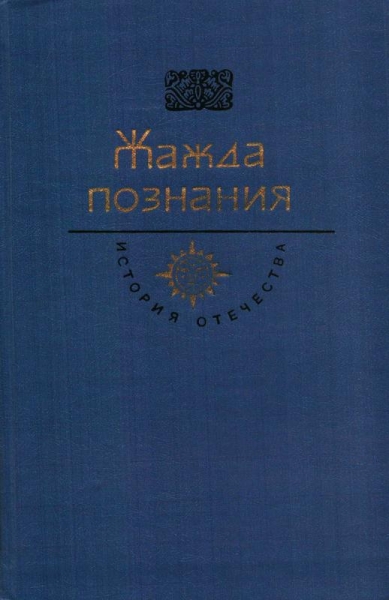




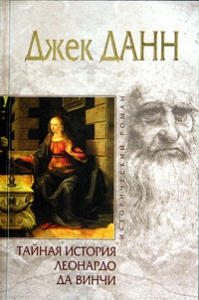

Комментарии к книге «Жажда познания. Век XVIII», Николай Михайлович Советов
Всего 0 комментариев