Анатолий Никитич Баранов — Голубые дьяволы
★ ★★
Над Тереком такое мирное голубое небо. И вдруг из спускающегося к реке городского переулка:
Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..Вместе с песней скатывается на прибрежную гальку колонна пожилых, празднично одетых людей. Они стараются дружно чеканить шаг. При этом на груди у них звенят в лучах весеннего солнца ордена и медали военных лет.
— Батальон, стой! — подает команду шагающий сбоку колонны заметно прихрамывающий мужчина с довоенной короткой прической. — Разойдись!
Нет, это не ополченцы, а ветераны 8‑й гвардейской стрелковой бригады, съехавшиеся со всех краев нашей Родины на свою встречу в Моздок, в битве за который они стояли осенью 42‑го не на жизнь, а на смерть против бронированных полчищ Клейста. Было в то время этим поседевшим мужчинам и женщинам по двадцать и меньше лет.
— Гриша! Фельдман! Комиссар мой дорогой! — слышится из сгрудившегося у терской воды «батальона» радостный возглас. — Жив, голубчик?
— Кузнецова! Гвардии Маруся! Ты ли это, роднуля?
Гул взволнованных голосов, смех, щелканье фотоаппаратов.
А чуть в сторонке два убеленных возрастом приятеля выясняют после долголетней разлуки, кто из них старше.
— Ты с какого года?
— С двадцать второго.
— Ну, в таком случае ты салажонок против меня: я—с двадцатого.
— Зато у меня два инфаркта на счету, — подмигивает другу «салажонок».
— Да… — улыбается тот, кто постарше, — перещеголял, ничего не скажешь, у меня только камни в почке. А помнишь курган Абазу? Вот жарко было.
— И хотел бы забыть, да не забудешь. Пойдем посмотрим, где переправлялись тогда…
Ветераны войны, комсомольцы сороковых годов! Как хорошо, что вы надумали встретиться на месте своей боевой славы. Как это нужно порой — вот так походить вместе по затянувшимся шрамам ходов сообщений и блиндажей, вспомнить старых друзей, живых и мертвых.
Из Ленинграда прилетел на встречу Петр Игнатьевич Шабельников, сумевший тогда в необычайно тяжелых условиях построить переправу через Терек. Из Краснодара приехал Игорь Григорьевич Иванов, отражавший огнем своих батарей танковые атаки немцев под станицей Вознесенской. Из Москвы прибыл Зинаид Низаметдинович Аймалетдинов, поразивший из пушки вражеский наблюдательный пункт на куполе моздокского собора. Из далекой Якутии вначале на оленях, потом на вертолете и, наконец, на лайнере примчался на свидание с боевыми друзьями комсомольский вожак бригады Евгений Владимирович Шарашкин. «Нас было призвано из Ростова двадцать семь парней–комсомольцев — осталось в живых шестеро, и пятеро из них приехали на встречу», — сказал на состоявшемся у Терека митинге бывший заместитель политрука роты ПТР Антон Иванович Голоколосов.
Молодцы гвардейцы!
Много утекло воды в Тереке за три десятилетия, и стерлись на его берегах следы битв, но до сих пор стоят там и сям суровыми памятниками курганы и дзоты, сохраненные людьми как священные реликвии Великой войны. Они заросли тысячелистником и полынью. Но тянутся к ним от больших дорог по высокой траве тропинки: благодарные потомки не забывают навещать места вашей боевой славы. НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.
★ ★ ★
Глава первая
Первым, кого встретил Минька Калашников в то солнечное августовское утро, был его давнишний приятель Мишка–Австралия. Он журавлем вышагивал по улице и увлеченно «цвыкал» сквозь зубы, стараясь попасть плевком в большой палец собственной ноги, черной не от одного лишь воздействия солнечных лучей. Уже во рту у него стало сухо, как в Малом Тереке поздней осенью, а заманчивая цель все еще не была поражена, отчего рыжие Мишкины брови недовольно сошлись к переносице тонкого, усеянного конопушками носа.
— Ты что расплевался, верблюд? — крикнул Минька приятелю, испытывая страстное желание помочь ему в этом нелегком деле. Слюна так и фонтанировала у него из–под языка, просясь на Мишкин оттопыренный, как у шимпанзе, палец.
— Вырабатываю силу воли, — невозмутимо ответил Мишка, останавливаясь перед дружком и глядя на него сверху вниз по причине своего высокого роста.
— Чудно, — удивился Минька. — А как это?
— Очень просто, — снисходительно усмехнулся «волевой» подросток и вынул руки из карманов обтрепанных штанов. — Нужно любой ценой осуществить задуманное. Тренировка воли, как у йогов.
— Это кто ж такие, игогоги, лошади, что ль? — округлил глаза Минька.
— Не игогоги, а йоги. Индусы, понял? В Индии живут.
— А я думал, в Австралии, — осклабился Минька, намекая на прозвище товарища, полученное им за свою давнюю мечту совершить путешествие на пятый континент и в названии которого он не выговаривал букву «р». — Неужели у них только и делов, что целыми днями плеваться?
— А я разве говорил, что они плюются? — удивился Австралия. — Они больше на голове стоят.
— Ну, на голове и я могу, — поджал губы Минька. — На голове и дурак стоять сумеет.
Неизвестно, в какие бы философские дебри завел этот разговор наших юных друзей, если бы в ту минуту не прошла мимо Танька Лукьянцева, маленькая, курносая и крайне острая на язык особа. Мишка не удержался, дернул вредную девчонку за жиденькую косичку и тотчас получил в ответ «дурака» и страшно обидную скороговорку:
Михаил коров доил, сиська оборвалася…Он метнулся за девчонкой, но та, словно мышь, шмыгнула в ближайшую калитку, и тотчас ее рожица показалась между кольями плетня.
Мужик–ежик украл ножик! —пропела она и высунула на всю длину розовый язык.
— Поймаю, все волосья повыдергиваю, — погрозил Минька кулаком обидчице, возвращаясь к приятелю. — И почему они такие зловредные? Только и умеют дразниться да в куклы играть. Хорошо, если бы их совсем не было, барахла такого, правда, Миш?
— Ага… — кивнул рыжими лохмами Австралия и почему–то покраснел. Он был на три года старше своего дружка, и ему очень нравилась одна девчонка с Гоголевской улицы. — Да ты плюнь на нее. Пойдем лучше скупаемся в Тереке.
Но едва мальчишки тронулись в путь, как сзади снова раздалось Танькино:
— Казаки–дураки! А я что–то знаю…
Мальчишки переглянулись: врет, должно быть. Ну, что может знать эта белобрысая коза?
— А я что–то знаю! — продолжала Танька. — Уйдете на Терек и не увидите чегойточка…
Мальчишки остановились,
— Что ты знаешь? — как можно равнодушнее бросил через плечо Минька.
— А драться не будешь?
— Ну, не буду.
— Побожись.
Минька чиркнул большим пальцем у себя под подбородком, затем вилкой из указательного и среднего пальцев сделал вращательное движение вокруг носа и ткнул этой вилкой в свои синие, как весеннее небо, глаза.
— Не увидеть мне мать родную, — подкрепил он жуткую пантомиму не менее жуткими словами, что, однако, не рассеяло Танькиных сомнений, ибо она продолжала оставаться за спасительной оградой.
— В ГУТАПе красноармейцы пушку поставили. А на Гоголевской улице белолистки спилили, завал сделали! — захлебываясь от счастья, что сообщает такие важные новости первая, прокричала Танька в плетневую дыру.
— Какие красноармейцы? Какую пушку? — вылупили глаза мальчишки. Они слышали от взрослых и по радио, что немцы прорвали фронт под Ростовом и теперь стремятся во что бы то ни стало захватить Сталинград и Грозный, но не очень верили в такую возможность. А тут на тебе: оказывается, в Моздоке наши уже пушки устанавливают, а они про то и слыхом не слыхали — на Терек собрались.
— А вот такие! — в голосе девчонки звучит явное превосходство над задаваками–мальчишками. — В синих пилотках и на воротниках голубые петлицы — десантники называются. А еще у них ружья длинные, как чабанская ярлыга, даже длиньше. А еще…
Но ребята уже не слышали Танькиного «а еще». Словно налетевший внезапно вихрь подхватил их и понес к Близнюковской улице — только рубашки пузырились за спинами.
Вот и ГУТАП — длинное кирпичное здание, скорчившееся буквой «г» на углу Близнюковской и Горьковской улиц. Никто не знает, как расшифровывается название обитающей в этом доме организации. Известно только, что она ведает распределением в районе автомобильных запчастей. Правду сказала Танька: в стене ГУТАПа пробита большущая дыра, и из нее торчит в сторону пустыря, что лежит между городом и станицей Луковской, серо–зеленый ствол пушки. И ружья действительно длинные. Таких ребята даже на картинках не видели.
— Ну, чего уставились, как гуси на грозу? Ай сроду пэтээра не видели? — выглянул из той же дыры молодой смуглолицый красноармеец. — Ну–ка, малец, сбегай к колодцу, принеси водички. У вас тут на Кавказе жарища, что не дай тебе бог.
— Давайте, дядя, — Минька схватил протянутый котелок и припустил к ближайшему колодцу. Внутри помещения раздался смех:
— Гляди, братцы, у командира нашего племянник сыскался в Моздоке!
— Он — такой. Нисколько не удивлюсь, если к вечеру у него здесь и сынишка объявится. Слышь, Коля: та, что к тебе в Андреевской долине приходила, случайно не из Моздока была?
— Ну, зацепились языком за угол, — рассмеялся в ответ тот, которого называли командиром и Колей. — Пацану, небось, лет тринадцать от роду. Конечно, я для него дядя. Мне–то в августе девятнадцать стукнет. А ты чего стоишь там, как столб? Залезай сюда! — крикнул он Мишке–Австралии.
Мишка протиснулся между броневым щитом пушки и разломанной стеной и едва не свалился в свежевырытую яму.
— Здгавствуйте, — сказал он сидящим вдоль ямы бойцам, от волнения грассируя сильнее обычного. Только теперь он разглядел, что яма эта не просто яма, а окопная щель, протянувшаяся вдоль стены под деревянными балками, с которых сорваны половые доски.
— Здравствуй, племя молодое, лопоухое, — ответил ему один из бойцов слегка измененными пушкинскими стихами. — А лопатой ты пользоваться умеешь?
Мишка смущенно улыбнулся.
— Давай побросаю, — потянулся за лопатой к ближайшему бойцу.
— Побросай, парень, побросай, — охотно согласился тот, затягиваясь махорочным дымом. — Глядишь, понравится — останешься с нами.
— А возьмете? — встрепенулся подросток.
— Если согласишься носить вон то ружьишко, — красноармеец тронул ладонью приклад противотанкового ружья.
Мишка поежился: тяжеловато одному, в нем, наверно, около пуда. Тем не менее упрямо тряхнул огненным чубом:
— Согласен.
Прибежал с котелком Минька. Протянул белозубому командиру, сам приник к прицелу пушки.
— Эх, как видать здорово! Хата бабки Чепиги как на ладони. Вот бы шваркнуть. Дядь, а за что дернуть надо? — обратился он к своему новому знакомому.
— Вот я тебя дерну за ухо, — нахмурился тот. — Бери–ка лучше лопату, если хочешь помочь Красной Армии.
Лопата, конечно, не пушка и даже не винтовка: из нее не выстрелишь по фашисту. Да и стрелять пока не в кого. Фронт, говорят, еще не близко. Слышно — погромыхивает где–то на северо–западе, по ночам в той стороне «фонари» горят, и снаряды летят в черное небо красными черточками — красиво! Минька поплевал на ладони и спрыгнул в щель к приятелю.
Лучше всего завязывается дружба во время работы. Не прошло и часа, как мальчишки пришли на «позицию», а уже стали незаменимыми номерами орудийной прислуги. Нужно ли за водой сбегать — пожалуйста. Письмо отправить на почту — мигом. Захотелось арбузом полакомиться — принесут и арбуз. К концу дня ребята знали всех артиллеристов по имени и фамилии, калибр их пушки и боевые возможности противотанкового ружья.
— Пилотки у вас, как у летчиков, а не летаете, — заметил Минька хозяевам пушки, слизывая с ложки кашу, которой их угостили во время обеда.
Командир орудия алмаатинец Николай прищурился.
— Подумаешь — летчики! — сказал он, скривив губы. — Воздушный шофер — вот что такое твой летчик. А мы — десантники, крылатая пехота. Ты знаешь, что такое десантник?
— Знаю, — сказал Минька, отрываясь от солдатского котелка. — Это которые прыгают…
Николай снисходительно ухмыльнулся.
— Блоха тоже прыгает, — сказал он с досадой в голосе. — Десантник — это смелость, ловкость, инициатива, концентрированная воля и разумная дерзость, понял?
Минька хоть и не совсем понял, но кивнул головой.
— А с парашютом прыгать страшно? — спросил он.
— Как тебе сказать… — наморщил лоб артиллерист. — Я, бывало, в детдоме по водосточной трубе с четвертого этажа спускался и хоть бы что, а тут на крыло вылезешь, посмотришь вниз…
— Страшно — не то слово, — вмешался в разговор наводчик орудия азербайджанец Ахмет Бейсултанов, — лучше сказать: жутко. Все равно что в пропасть сорваться. Ты тигра видел когда–нибудь?
— Видел… Когда до войны к нам зверинец приезжал.
— Ты бы зашел к тигру в клетку, чтобы ему за ухом почесать?
— Не…
— Вот так и с парашютом прыгать: страху много, удовольствия совсем нету — лучше шепталу кушать.
Все рассмеялись, и только командир недовольно поморщился не то от объяснений наводчика, не то от вкуса недоспелого яблока.
— Наговорил ты, Ахмет… Сам–то сколько прыжков имеешь? Небось штук десять?
— Ну и что? Я и наряд вне очереди имею. Думаешь, сам себе объявил, да? Куличенко приказал прыгать — я и прыгнул. Куличенко сказал: «Наряд вне очередь» — я ответил: «Есть!»
— Эк у тебя все просто: «Куличенко сказал, Куличенко приказал». А почему же ты не вышел тогда вперед, когда командир бригады предложил: «Кто желает прыгнуть первым, выйти из строя»?
— Первым лучше всего идти в столовую… А потом… я же не виноват, что раньше меня успел выскочить из строя Левицкий.
В это время во дворе ГУТАПа послышались голоса, явно принадлежащие лицам командного состава. Тотчас Николай вскочил на ноги, словно мяч, брошенный о землю, одной рукой одернул гимнастерку, другой — застегнул воротник.
— Встать! Смирно! — рыкнул он и побежал навстречу начальству.
Начальства было три человека: батальонный комиссар, майор–пехотинец и старший политрук. Принимал рапорт командира орудия батальонный комиссар в фуражке с голубым околышем и такими же голубыми петлицами на гимнастерке.
— Вольно, — сказал он низким сердитым голосом. — А ну, покажите нам, товарищи гвардейцы, как вы здесь устроились.
Батальонный комиссар и майор, сопровождаемые артиллеристами, прошли в здание ГУТАПа, а старший политрук задержался возле мальчишек, которые, как и бойцы, стояли по стойке «смирно».
— Почему здесь находятся штатские лица? — спросил он строго, хотя глаза его при этом светились добродушием и лаской.
— Мы помогаем красноармейцам рыть окопы, — ответил Минька, с должным уважением разглядывая лучистые «шпалы» на воротнике десантника–командира.
— Ну, это меняет все дело, — улыбнулся старший политрук. — В каком классе учишься?
— Я в шестой перешел, — охотно отозвался на разговор Минька, — а вот он — в восьмой. Только в этом году учиться не придется.
— Это почему же?
Минька насмешливо хмыкнул:
— Какая ж учеба, если здесь воевать будут. Вон сколько траншей накопали и пушку прямо в хате поставили.
— А я и так в школу не пойду, — подключился к разговору Мишка–Австралия.
— Куда ж ты пойдешь? — прищурился старший политрук.
— В ФЗО собирался, а теперь передумал: пойду в десантники. Возьмите меня, а, товарищ командир?
— Ты же несовершеннолетний.
— Кто, я? — Мишка вытянул вперед длинную, как у индюка, шею. — Да мне через месяц семнадцать стукнет. Я с моста в Терек головой ныряю. Вон у Миньки спросите, если мне не верите. Возьмите, а?
Военный перевел взгляд на Миньку.
— Минька это Минай, что ли? — спросил он.
— Не Минай, а Михаил, — насупился Минька. — Это меня так бабка в станице называла. Я тоже хочу в десантники…
Старший политрук притворно вздохнул:
— Не уполномочен по части мобилизации. — Это вам, братцы мои, к начальству повыше обращаться надо.
— А к кому?
— Ну, например, к начальнику штаба или самому командиру бригады.
— А где его найти можно?
— Где–нибудь за мостом, с которого вы в Терек головой ныряете, — засмеялся старший политрук и направился к помещению, откуда навстречу ему выскочил наводчик орудия Ахмет Бейсултанов.
— Комиссар вас зовет, товарищ старший политрук, — приложил он руку к пилотке.
— Иду, — сказал старший политрук и скрылся за дверью. А Ахмет подошел к ребятам.
— Ух, злой комиссар сегодня, — пожаловался он, снимая пилотку и приглаживая ладонью мокрые от пота волосы.
— Это тот, что с маузером? — догадался Минька.
— Ну да, Кириллов. Орден Красного Знамени видел у него на груди? За Халхин–Гол получил, понял? Боевой комиссар. Гвардейцам кого зря не дадут…
Минька согласно кивнул головой.
— А он может принимать в десантники? — спросил Мишка–Австралия.
Ахмет пожал плечами:
— Сейчас он может только выгонять из десантников — такой злой, как шайтан. «Почему, говорит, окопная щель не полного профиля?» Посмотрели бы вы в это время на профиль моего командира.
— А другой командир тоже ругается? — поинтересовался Минька.
— Павловский? — уточнил Ахмет. — Замкомбрига никогда не ругается. Он только показывает, как нужно делать, чтоб правильно было, — наводчик поднял палец над головой, выразительно закатил черные глаза под такие же черные брови, покачал головой из стороны в сторону. — Такой умный человек, да быть ему живым без болезней сто лет. Хороший и большой командир. Выше его только комбриг Красовский да командующий армией, да командующий фронтом, да сам аллах–бог — вот он какой большой!
— Наговорили, — недоверчиво усмехнулся Минька. — Если он такой большой командир, то почему у него на воротнике только две шпалы? Я надысь видел одного — с ромбами.
— Гм… — не нашелся сразу что ответить Ахмет. — Подумаешь, ромб. Ромб — дело наживное. К примеру, у меня сегодня на петлице треугольник, а завтра — маршальская звезда.
— За что ж вам ее дадут? — прыснул в кулак несговорчивый мальчишка..
— За умелые действия в боевой обстановке. Да не смейся, балда… Слушай: вот приползут сюда фашистские танки, я из пушки одного — хлоп, мне за это — сержанта, я второго — хлоп, мне — лейтенанта, я третьего…
— А если он первый хлопнет? — прервал перечень «подбитых» танков язвительный собеседник.
Наводчик поднял на лоб широкие брови.
— Кто? — нагнулся он к Минькиному лицу.
— Да этот… танк.
Ахмет чуть–чуть подумал, затем взялся смуглой рукой за Минькину круглую макушку.
— Типун тебе на язык, мальчик, — сказал он с грустной усмешкой на красных и полных, как у девушки, губах. — Вот я сейчас доложу Левицкому, что ты деморализуешь дух советских бойцов, так он тебе нахлопает по известному месту. А ну, давайте отсюда, — подтолкнул он ребят к воротам. — Или вы не знаете, что штатским на позиции быть не. положено. Это вам не цирк, а огневая точка. Принесите–ка лучше винограду. Для них… — мотнул Ахмет головой в сторону двери ГУТАПа.
— Левицкий, это маленький такой, да? — уточнил Минька, прежде чем выйти вслед за Мишкой в приоткрытую Ахметом калитку.
— Э-э, он хоть и маленький, но великий человек. Быть ему начальником политотдела, помяни мое слово.
— Так это он раньше вас с парашютом прыгнул?
— А ну брысь отсюда, чтобы я и вашего духу здесь не нюхал! — топнул сапогом десантник и набросил железную клямку на пробой калитки.
Глава вторая
Интересно, зачем его вызывает комбриг?
Левицкий представил себе сухощавое, с резкими волевыми чертами лицо «старика», как называли десантники тридцативосьмилетнего командира бригады Красовского. Радость от свидания с ним невелика: уж больно деловито–сух и неулыбчив подполковник.
А жарко нынче в Моздоке. Не город, а пекло. Словно кто–то из космоса сфокусировал в огромной линзе–небе солнечные лучи и, подобно мальчишке–баловнику, выжигает на своем картузе дырку. Кажется, вот–вот повалит из крыш черный дым. Улица вывела Левицкого на центральную площадь. Он улыбнулся, тоже ведь Красной называется — как в Москве. И собор стоит посредине такой же высокий и величественный, как храм Василия Блаженного. Вокруг него военные повозки с распряженными лошадьми, а наверху, в круглом окошке под самым куполом копошатся красноармейцы, по всей видимости, устанавливают стереотрубу. «Можно использовать вместо парашютной вышки», — подумал Левицкий, а перед глазами у него — недавнее прошлое: мутная, быстрая, с запахом нефти река, долина — средоточие бензо– и маслозаводов города и место базирования бригады воздушных десантников.
…Раннее весеннее утро. Над торопливой рекой белеет туман. Над летным полем стрекочет У-2, готовясь сбросить прицельного парашютиста. У линии предварительного старта, где ждут очереди на вылет еще два стареньких воздушных работяги, выстроились с парашютами десантники, не так давно призванные в армию и наспех прошедшие курс молодого бойца. Они искоса посматривают на кружащий в небе самолет и с волнением слушают предполетное напутствие своего комбрига.
— Десантник — это смелость, ловкость, инициатива, концентрированная воля. Только самые отважные и сильные духом отбираются в этот род войск. Кто хочет прыгнуть первым — сделать шаг вперед.
Строй качнулся, но обладатели «смелости и концентрированной воли» остались на месте.
Красовский насмешливо дернул щекой, насупил брови.
— Каковы орлы! — повернулся он к начальнику парашютно–десантной службы. — Так и рвутся в небо. Видать, поусердствовали вы, младший лейтенант, во время занятий на совесть.
— Старался, товарищ подполковник! — развернул плечи начальник ПДС, не уловив насмешки.
— Оно и видно, — усмехнулся комбриг: — запугали молодцов, как говорится, вусмерть. А ну, приготовьте мне парашют, я сам покажу, как надо прыгать.
Вот это командир! Личным примером!
И без того влюбленные в комбрига десантники восхищенными взглядами проводили его в кабину и мысленно пожелали ему «ни пуха ни пера». Нет, что там ни говори, а мужества у этого человека на десятерых хватит, недаром в гражданскую еще воевал.
Самолет набрал высоту. Вот он уже над аэродромом. А вот и белый пламень парашютного шелка выметнулся за его хвостом.
Молодец комбриг!
Но почему у него над головой уже не один, а два купола? Зачем ему понадобилось открывать запасной парашют? Уж не лопнул ли главный? И ноги держит не по инструкции — врастопырку. Земля уже скоро, а он еще не развернулся по ветру.
— Ноги! Ноги вместе! — побежал навстречу снижающемуся парашютисту начальник ПДС. — Развернитесь по ветру!
— Ноги! — заорал весь строй, бросаясь вперед и не чувствуя собственных ног от волнения за здоровье своего любимца.
Но все обошлось благополучно, хотя парашютист так и не соединил ног вплоть до самого приземления.
— Ноги надо было держать вместе, — упрекнул комбрига начальник ПДС, помогая ему отстегнуть подвесную систему.
— Подержи лучше губы вместе, — огрызнулся Красовский. — Ты–то сам, когда первый раз прыгал, помнил про ноги?
— Так точно, помнил, товарищ подполковник.
— Похвальная память, — поморщился Красовский, нервно закуривая папиросу. Бледность на его лице постепенно уступала место румянцу.
Комбриг, успокоившись после перенесенного волнения, снова предложил добровольцам шагнуть из строя. Тогда–то и сделал Левицкий первым этот неимоверно трудный шаг. «Прыгать все равно придется, зачем же томиться ожиданием? — думал он. — Это как при погружении в холодную воду: лучше нырком, чем постепенно…»
…Командира бригады старший политрук нашел за Тереком в бетонном доте, недавно построенном инженерными войсками и силами городского населения в полукилометре от речного моста рядом с автомобильной дорогой Моздок — Орджоникидзе.
— Видал, какой мне НП отгрохали моздокчане? — подмигнул инструктору политотдела комбриг, приняв доклад и снова выглядывая в амбразуру дота, через которую хорошо просматривалась пойма Терека и городская окраина. — Пойдешь в разведку с группой Федосеева. Они сейчас в лесу под Вознесенской. Подробности узнаешь от Самбурова и самого командира разведроты. Приходилось бывать в разведке?
— Никак нет, товарищ подполковник, — ответил инструктор политотдела.
Красовский отошел от амбразуры, взглянул на своего политотдельца колючими, насмешливыми глазами.
— Считай, что это твой первый парашютный прыжок, — сказал он с необычной для него теплой интонацией в голосе.
— Есть, товарищ подполковник, — приложил руку к фуражке старший политрук и вышел из дота.
Солнце заметно скатилось к синеющему вдали Терскому хребту. Над дорогой — желтоватая пыль от множества колес, копыт и солдатских сапог. Она тянется шлейфом через всю правобережную моздокскую равнину и теряется в складках хребта, за синим гребнем которого в казачьей станице разместился штаб бригады, а у его подножия, поросшего дубовым лесом и кустарником, укрылась от посторонних глаз рота разведчиков лейтенанта Федосеева.
Хорошая вещь — велосипед. Особенно в загородной прогулке. А если боевое задание с броском на несколько десятков километров? С тяжеленным автоматом на шее и вещмешком за плечами? Да если совершается этот бросок под жгучим кавказским солнцем по пыльной дороге солончаковой степи при угрозе появления на горизонте немецких танкеток? В таком случае велосипед уже не роскошь, а, как говаривал великий комбинатор Остап Бендер, средство передвижения.
— Ну и зарядка! — покачал рыжей, взъерошенной головой разведчик Коля Андропов, прозванный товарищами за высокий рост дядей Степой.
Коля весь мокрый от пота. Синяя, с голубыми кантами пилотка засунута под ремень. Гимнастерка расстегнута до последней пуговицы. Велосипедная цепь жалобно попискивает под его огромными сапогами. Рядом с ним крутит педали своего «средства передвижения» Петя Сычев, маленький, худенький, похожий на подростка красноармеец. Ему нелегко приходится в многокилометровом велосипедном пробеге, но нет на свете силы, которая б заставила его признаться в этом.
— Петя, сбавь обороты, а то подшипники потрешь, — советует ему сзади ефрейтор Ваня Поздняков. — Ты не гонись за дядей Степой, он же, дьявол шахтерский, двужильный.
— Ничего, — кривится в ответ Сычев, — я и на одной жиле вытяну.
— Вот и я говорю, — подхватывает Поздняков, — вытянешь ты ноги, Петя, не поживши на свете, и, как говорится, не повидавши фрица.
По колонне велосипедистов прокатывается волною смех. Едущий в голове колонны командир разведсамокатной роты лейтенант Федосеев обернулся, укоризненно покачал головой с выбившимся из–под пилотки чубом и что–то сказал своему комиссару Лычеву. Тот тоже оглянулся, пожал плечами: молодые, мол, все, черти. В таком возрасте только и поржать, как тем жеребцам стоялым.
Хорошие парни! Веселые, влюбленные в жизнь. Все — комсомольцы и все рвутся в бой с ненавистным врагом. Они крепки духом.
И они, конечно, не подозревают о том, что скоро Саша Цыганков покинет их ряды из–за тяжелого ранения. И разве хохотал бы вот так Саша Рябичев, если бы мог подсмотреть в щелку судьбы свое будущее? Гармонист и весельчак, конкурент по шуткам Вани Позднякова, подорвешься ты темной ночью на немецкой мине в разведке под городом Туапсе, и осиротеет твоя верная подруга — певучая двухрядка. Но сейчас ты весел и не думаешь о смерти. Или вот ты, чернявый помкомвзвода Сережа Ермаков. Отчаянный человек, славный товарищ. Отсвистят над тобою пули в битве на терском рубеже, не заденут они тебя и в Новороссийске, на Малой земле. Под столицей Украины древним городом Киевом сложишь ты свою удалую голову. В боях на Орловско–Курской дуге не станет отважного разведчика Гриши Колимбета. Вечно будет чтить память скромного героя Володи Чорикова благодарная Тамань. Под городом Туапсе еще цветет чабрец на том месте, где будет вырыта могила для Володи Ткаченко. Их останется в живых к концу войны только двенадцать. Всего двенадцать из роты, в которой к началу боевых действий числилось более ста человек! Остальные «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», как скажет про них поэт.
А сейчас они, живые и смешливые, едут на велосипедах под одуряюще горячим солнцем и хохочут над остротами своего любимца Вани Позднякова.
— Гарна штука лисапет — гузно едет, ноги — нет! — донесся к ним насмешливый голос из свежеотрытого окопа, и Поздняков увидел сияющие небесной синью и добродушным лукавством глаза земляка–ростовчанина Александра Рыковского, рядового 8‑й роты, занявшей оборону на северной окраине города за железнодорожной линией, между кладбищем и деревянной двухэтажной мельницей.
— Привет пехоте! — крикнул в ответ Поздняков. — Веселей шуруй лопатой, царица полей: втыкай глубже, кидай дальше.
— Куда это ты направился, отбойный молоток?
— На Кудыкину гору уголек добывать, крепильная стойка. Поехали, Саша, с нами, донскими казаками.
— В такую жарищу? Охота была…
— Отставить разговоры! — крикнул замыкающий строй велосипедистов–разведчиков лейтенант Светличный.
Левицкий, едущий чуть впереди заместителя командира роты, скосил на строгого соседа глаза: ну, к чему такая крикливость? Он поймал себя на мысли, что этот весьма строгий командир по–прежнему ему не нравится. Снова вспомнился первый парашютный прыжок, поздравление Кости Дерича и издевательский смешок Светличного: «Хотел бы я посмотреть, как вы будете первыми прыгать в немецком тылу». Какой–то он заносчивый, въедливый, до неприятного педантичный по отношению к подчиненным.
Ох и печет сегодня! Левицкий потрепал воротник гимнастерки. Дождя бы сейчас. Хотя нет, нельзя дождя. В один миг сделается дорога скользкая, словно политая маслом. И тогда не только на велосипеде, но и пешком недалеко уйдешь. Левицкий посмотрел в небо. В нем ни единой тучки, только в голубом одиночестве лениво кружит степной орел, тщетно высматривая зазевавшегося у норы суслика. Вид этой хищной птицы вновь направил мысли Степана Левицкого к той долине, где проходила боевая подготовка десантников. И опять почему–то сфокусировались эти мысли на образе едущего рядом человека. Кто доложил тогда комбригу Красовскому об истинной причине неудачного прыжка младшего лейтенанта Васильева? Ведь их было на взлетно–посадочной полосе аэродрома всего лишь несколько человек: Левицкий, Мордовин, Собянин и Светличный, когда встречали самолет У-2 с парашютистом на борту, потерявшим в воздухе самообладание и едва не погубившим себя и летчика.
Левицкий взглянул на соседа по «велогонке» и мысленно произнес: «Это, однако, твоя работа, товарищ Светличный».
Бесконечной нитью тянется по ставропольской степи дорога. Кажется, она так и будет змеиться между круглыми шапками перекати–поле день, месяц, год, пока не опишет вокруг земного шара замкнутый круг и не вернется на исходную точку — под Вознесенскую кручу в лагерь разведчиков. Когда же покажется на горизонте какой–нибудь населенный пункт?
Наконец в зыбком мареве струящихся от земли испарений заколыхались белые хатки небольшого осетинского хутора Тасо. Велосипедисты из последних сил нажали на педали — скорее к спасительной тени.
— Посадить- бы на эту штуковину того самого, кто ее придумал, и не давать ему слазить с нее с утра до самой ночи, пока он не упал бы мне в ноги и не воскликнул: «Прости меня, Ваня, ради Христа, за такое мое легкомысленное изобретение», — сказал Поздняков, снимая с себя ручной пулемет и укладывая его рядом с велосипедом на жухлую траву возле единственного во всем хуторе колодца. — Эй, папаша! — окликнул он проезжающего мимо на. подводе старика, — давай поменяемся транспортом: ты мне свою допотопную животину, а я тебе — современную технику. Ни овса ей, ни бензина не надо, только знай крути ногами.
Старик натянул вожжи.
— Тпру, родимый! Не знаю, как ногами, а языком крутить ты мастер, — проворчал он с видимым одобрением, слезая с передка телеги и беря в руки пустое ведро. — Ну–ка, крутани мне лучше, сынок, водички. Тебя как зовут–то?
— Ваня меня зовут, отец. А фамилия — Поздняков. Это я тебе на случай, если придется в газете про геройский подвиг читать, так чтоб ты, папаша, знал, о ком там речь.
Сгрудившиеся у колодца разведчики засмеялись, пропуская старика к бадейке, которую только что вытащили при помощи «журавля».
— Давай свою посудину, дедуля.
Но тут подошел лейтенант Светличный.
— Отставить! — крикнул помкомроты. — Не видишь, дед, гвардия пьет? — повернулся он к седому нарушителю очередности и выпятил грудь, на которой желтел новенький гвардейский значок.
— Хе! Гвардия… — усмехнулся дед. — Какая же ты гвардия, ежли в тебе настоящего росту нет. Вот когда я служил в конвое его императорского величества…
Слова старика потонули в общем хохоте.
— Прекратить смех! — побагровел Светличный и ненавидяще взглянул на насмешника. — Ты, дед, соображай, когда и с кем говоришь, понял? Знаешь поговорку: «Мал золотник, да дорог».
— И я про то гутарю: дюже дорого нам обходятся такие золотники, — подхватил, словно обрадовался, старик. — Восемь ден уже удираю от немца с такими вот золотниками, а он все на пятки жмет. Гвардия…
У гвардии лейтенанта от злости побелел кончик острого, как у скворца, носа.
— Сволоку я тебя, дед, сейчас в особый отдел, узнаешь тогда, почем сотня гребешков.
— Хе! Голубь мой сероплекий, — усмехнулся злоязыкий старик. — Мой особый отдел давно мне повестку шлет: на Ильин день восемьдесят стукнуло. Пора бы и честь знать, да больно охота поглядеть, чем все энто кончится. Ведь не должен же он, язви его в чешую, победить нас, русских. Э, да что с тобой толковать… — он махнул рукой и пошел прочь от колодца.
— Смерти не боишься, а от нее бежишь! — злорадно крикнул ему вслед Светличный.
— Не от смерти, а от фашиста, — обернулся старик на мгновенье и сплюнул в дорожную пыль.
К Светличному быстро подошел командир роты, процедил сквозь зубы, чтоб не слышали остальные:
— Ну зачем ты так?
Затем догнал старика, попросил вернуться к колодцу.
— Лейтенант пошутил, — сказал он, хмуря брови. — У него, видишь ли, очень развито чувство юмора.
— Дай–то бог, — вздохнул старик. — Хоть шуткой, хоть смехом, да было бы дело с успехом.
Набрав воды, он подошел к повозке, на которой сидела такая же старая, как он сам, бабка:
— Испей–ка, Мотря, водицы.
Услышав плеск воды в ведре, просительно заржал конь.
— Успеешь, — отозвался хозяин. — Охолони малость с дороги.
К нему снова подошел командир роты, поинтересовался, откуда и куда едет.
— Сказано, от фашиста, язви его в чешую, с самой Кубани, от Кропоткина. А едем в Моздок. Далече тут до него?
— Километров тридцать.
— Свояк у меня там живет, в Предмостном. Не знаю только — жив, нет ли. Годов двадцать, считай, не виделись.
— А где ж другие беженцы? Неужели только одни вы от немца уходите?
— Ого, милый человек! Ты бы поглядел, что в Степном делается. Там и беженцев и военных–страсть. На Кизляр идут денно и нощно. А ты, небось, сам с Волги?
— Почему так думаете? — улыбнулся Федосеев.
— При разговоре на «о» нажимаешь.
— Нет, не угадали — я вологодский, с северного края. А немцы, не слыхали, далеко отсюда?
— Говорят, не шибко далеко: где–то за Буденновском. На танках да автомобилях прет. А вы, я гляжу, на лисапетиках.
— Это мы для большей маневренности, — прищурился Федосеев.
— Ну да, я понимаю, — согласился старик. — Всякому свое корыто: хоть и не мыто, да бело. Только я вот что тебе скажу, хороший мой человек. Даве я проезжал станицу Курскую. Там видел, машина брошена.
— Кто ж ее бросил?
— Шут их знает. Видать, ушли пеши куда им надо. Так ты того… для маневренности, стал быть, и воспользуйся. Небось, есть среди твоих хлопцев понимающие в энтом деле? Да, вот еще чего… В дороге, говорю, поаккуратнее будьте. Немцы сегодня ночью возле станицы десант выбросили. Колхозный конюх в ночном видел, как на парашютах спускались человек пять, а может, десять. Ну, спасибо тебе, родимый, за водицу, дай бог тебе здоровья и твоим солдатикам. Вот напою свой транспорт, отдохнем маленько и поползем далей…
Федосеев вернулся к колодцу.
— Куда ушел комиссар? — спросил он у подчиненных.
— Они вон в том особняке, товарищ гвардии лейтенант, — щелкнул каблуками Поздняков, энергичным движением подбородка показывая на саманную хижину, на пороге которой стояла девочка–осетинка и с жгучим любопытством в черных, как смородина, глазах рассматривала веселых незнакомцев.
«Хороший парень», — с теплым чувством подумал о Позднякове командир роты, отходя от колодца и невольно прислушиваясь к возобновившемуся за его спиной разговору.
— Посмотришь, в других подразделениях: все люди как люди, — неслась ему в спину нескончаемая импровизация ротного любимца, — а у нас собрались сплошь одни инвалиды.
— Это кто же? — прошептал кто–то севшим от смеха голосом.
— Сухоруков, например. Слышите? С су–хи–ми руками. Безруков. Этот, выходит, инвалид первой группы. Андропов…
— А при чем тут я? — удивился Андропов.
— Да при том, что у тебя руки, как крюки: пальцами к себе загнуты: вон как краюшку зажал, словно черт грешную душу. Дай–ка кусочек, что–то и мне есть захотелось.
В небе послышался нарастающий гул. Все задрали головы. Интересно, свой или чужой? Многие из бойцов еще не видели вражеских самолетов. Над степью слева от хутора летела «рама», как повсеместно называли немецкий корректировщик «Фокке–Вульф‑189». Она шла на небольшой высоте, не опасаясь, по всей видимости, зенитного огня. На тонком туловище ее двойного фюзеляжа зловеще чернел обведенный белыми уголками крест.
— Дядя Степа, — толкнул носком ботинка растянувшегося на траве своего друга Поздняков и выразительно кивнул в небо, — поймай воробышка.
— Сам поймай, — нехотя отозвался Андропов, расположенный после долгой езды на велосипеде больше ко сну, чем к шуткам.
— А что, и поймаю…
Поздняков подхватил лежащий возле велосипеда пулемет, бросил ножками на сруб колодца и, присев перед ним на корточки, дал очередь по воздушной цели. Испугавшись пулеметного треска, девочка–осетинка стремглав бросилась в хату, а хлопотавший неподалеку в окружении своего куриного гарема золотисто–черный петух с криком полетел через плетень.
— Падает! — крикнул кто–то обрадованно.
— Сопля из–под твоего носа, — ответили ему насмешливо.
Самолет резко встал на крыло и, заложив глубокий вираж, как ни в чем не бывало направился обратным курсом. Поздняков пустил ему вдогонку еще одну очередь.
— Эх ты, мазила! — вздохнул Николай Безруков.
Поздняков почесал затылок.
— Подыхать полетел. Видишь, на одном моторе тянет, — сказал он таким серьезным тоном, что все вокруг снова засмеялись.
Не улыбнулся только командир роты. Выскочив из хаты, он быстрым шагом подошел к пулеметчику, спросил раздельно:
— Кто разрешил открывать огонь?
Поздняков посерьезнел. Вытянув руки по швам, без игривости взглянул в потемневшие от гнева глаза командира.
— Некогда было спрашивать, товарищ гвардии лейтенант, он ведь не стоял на месте.
— За самовольную стрельбу наряд вне очереди, — отчеканил командир роты и пошел снова в свою временную штаб–квартиру под лохматой соломенной крышей.
— Ну что, поймал воробушка? — позлорадствовал Андропов, разламывая большими руками хлеб на две половины и протягивая одну из них оскандалившемуся другу.
Отдых в осетинском хуторе был непродолжительным. Едва успели разведчики подкрепиться сухим пайком, как Федосеев дал команду собираться в путь.
— По коням! — скомандовал своему второму номеру пулеметчику Поздняков, поднимая с земли велосипед и ставя левую педаль в стартовое положение.
Андропов с унылым видом закинул за сутулую спину тяжелый «дегтярь», неуклюже взгромоздился на велосипедное седло и заскрипел несмазанной цепью. Но не проехал и пяти метров, впереди над горизонтом показались две гудящие точки. Они быстро росли, превращаясь на лету в одномоторные самолеты.
Андропов остановился. Упершись ногой в землю, задрал голову навстречу ревущим истребителям. Они летели так низко, что видны были в кабинах летчики. Один из них осклабился и показал Андропову кулак в черной перчатке. Скорее машинально, чем сознательно, разведчик ответил ему таким же выразительным жестом и только тогда заметил на желтых консолях истребителя фашистские опознавательные знаки. Все это произошло в течение одной–двух секунд, но Андропов рассказывал потом своим товарищам, что успел рассмотреть не только кулак немецкого пилота, но и золотой зуб у него во рту.
— Ложись! — донесся голос командира роты.
Зачем ложиться? Андропов проводил глазами самолеты. Идут крыло в крыло, словно привязанные друг к другу. Вот они одновременно взмыли вверх, развернулись и теперь со снижением направились к осетинскому хутору. За каким дьяволом? Что им здесь понадобилось? И вдруг Андропова обожгла догадка: да ведь они возвращаются для того, чтобы убить его, Колю Андропова!
— Ложись ты, верста коломенская! — крикнул ему Саша Цыганков, падая под колодезный сруб и зачем–то натягивая на уши пилотку.
Андропов едва успел улечься рядом с товарищем, как над ним с треском и грохотом пронесся истребитель и за воротник ему посыпались щепки от разбитого разрывной пулей колодезного бревнышка. Тотчас слева и справа взметнулись в небо огненные смерчи. Из окон хаты со звоном посыпались стекла.
Андропов приподнялся, потряс головой, в ней тоже стоял звон, словно внутри разбилось что–то стеклянное.
— По самолетам противника! — услышал он сквозь этот звон команду.
Где же самолеты? Снова разворачиваются для захода на цель. Ах, вот вы как! Андропов вспомнил, что за спиной у него висит пулемет. Судорожно рванул ремень через голову, звякнул затвором и, перебежав на другую сторону колодца, направил ствол пулемета в пикирующего стервятника. Пулеметные очереди Андропова и вражеского летчика слились в одном смертельном дуэте.
— Так его, Коля! — крикнул Цыганков, присоединяя к баритону ручного пулемета резкий тенорок автомата.
Стреляли по «Фокке–Вульфам» и остальные разведчики. Казалось, в хутор слетелись со всех сторон гигантские кузнечики для состязаний в оглушительной трескотне.
То ли у истребителей кончился боезапас, то ли какая–то из очередей Андропова достигла цели, но третьего захода они не стали делать, а, развернувшись далеко в степи, исчезли так же быстро, как и появились. Разведчики стали собираться на пустыре возле колодца. Отряхиваясь от пыли, они пушили на чем свет стоит немецких летчиков, заставивших их ползать на брюхе, потешались друг над другом и упрекали Позднякова за то, что он своей стрельбой привлек внимание «рамы», которая в свою очередь навела на них «Фоккеров». Для многих этот обстрел явился боевым крещением.
Подошел к колодцу Федосеев, спросил, есть ли жертвы? Нет жертв, все живы и здоровы. Пострадал лишь сруб колодца, да одной из бомб искорежило переднее колесо велосипеда, принадлежащего Андропову. Сам хозяин сидел на корточках перед изувеченной техникой и едва не плакал от огорчения.
— Рядовой Андропов! — позвал его командир роты.
Андропов распрямился, возвышаясь над командиром на целую голову и даже больше.
— За решительные и умелые действия в бою с авиацией противника объявляю вам благодарность.
Андропов перевалился с ноги на ногу, похлопал белесыми ресницами и растерянно ответил:
— Служу Советскому Союзу…
Уж чего он не ожидал сегодня, так это благодарности. С самого начала службы в Красной Армии он получал от командиров всех рангов одни лишь «дыни» да «рябчики», как называли воинские взыскания красноармейцы. Да и было за что. Кто выходил из казармы во время подъема последним? — Андропов. Кто дольше всех копался с обмундированием во время отбоя, когда все уже лежали на койках под одеялом? — Андропов. Кто растирал в кровь ноги из–за плохо намотанных портянок во время марш–броска и приходил к финишу последним? — Опять же Андропов. Он даже в столовую умудрялся опаздывать. Если бы сложить воедино квадратные метры полов, которые он в наказание за всякого рода провинности выдраил шваброй под отеческим руководством старшины Анисимова, ими можно было бы замостить всю Андреевскую долину, где жили и проводили учебную подготовку десантники.
Вот почему так растерялся гвардии рядовой Коля Андропов, когда командир роты ни с того ни с сего объявил ему благодарность. Он некоторое время стоял, не зная, куда девать глаза от неловкости, длинный, худой, весь какой–то нескладный. Потом взглянул на разбитое велосипедное колесо и сказал со вздохом:
— Вот какое дело… ехать–то мне, выходит, не на чем, шешер тебя забери.
В ответ посыпались шутки товарищей:
— Пешком дотопаешь. У тебя же ноги, как у жирафа: как шаг, так верста.
— А ты на одном колесе, как в цирке… ха–ха–ха!
Но тут к толпе десантников подошел лейтенант Светличный, ведя за руль свой велосипед.
— Возьмите, — передал он руль Андропову.
— А как же вы, товарищ гвардии лейтенант? — сконфузился тот.
— Обо мне не беспокойтесь, до Курской недалеко, догоню на чем–нибудь. А вот рота не должна оставаться в открытой степи без такого лихого пулеметчика, — подчеркнуто громко произнес помощник командира роты и отошел в сторонку, где Федосеев с комиссаром Лычевым и инструктором политотдела Левицким обсуждали план дальнейших действий.
Глава третья
Три дня ребята помогали артиллеристам устраиваться на новом месте, а на четвертый решили найти за Тереком командира бригады и попросить, чтобы принял в десантники.
Народу–то сколько нынче в городе! Куда ни посмотришь, всюду военные, военные, военные. Откуда они взялись? Ну, десантники ясно: из Грозного эшелоном ночью прибыли. А эти? Идут красноармейцы, черные от пота и усталости, многие с грязными бинтами на руках и головах. Погоняя измученных лошадей и коров, тянутся к терскому мосту беженцы. С их повозок, загруженных домашним скарбом, слышится тревожный гусиный гогот, повизгивание поросят, плач детей. Куда они едут? Кто и что ждет их за этой бурной кавказской рекой? Лица у эвакуированных мрачные. В глазах — тоска.
Обходя телеги и обгоняя раненых бойцов, ребята взбежали на мост. Широк в августе старый ворчун Терек. Несется мутной лавиной вровень с берегами, вот–вот выплеснется из них и пойдет тогда петлять по лесным зарослям, словно вырвавшийся из неволи дикий зверь.
— Мишка, переплывешь Терек? — обратился к товарищу Минька, облокотясь на перила моста и плюнув в изжелта–серую коловерть, с шумом врывающуюся между бетонными опорами.
— Запросто. Туда и обратно без передышки, — ответил Австралия. — Я поспорил раз…
Но он не успел рассказать, на каких условиях заключил пари с товарищем.
— Эй, хлопчики! — позвал их проезжающий мимо на телеге старик. — Что энто на том берегу за поселения такая?
— Предмостное, дедушка, — с готовностью отозвался Минька.
— Ишь как расстроилась, и не узнать вовсе… Слышишь, старая? — толкнул старик локтем лежащую на куче тряпья старуху. — Вот мы и приехали. Давай бросать якоря, как говорил наш внук Петя. А то занесла нас с тобою нелегкая нивесть куда.
— А ежели он и сюды доберется? — приподнялась на высохшей руке старуха.
— Шут его знает, — огладил седую бороду хозяин подводы. — Только, я гляжу, хлопцы собрались тут добрые. Гвардия, одним словом. Вон как лопатами шуруют по всему берегу. Энтот ручеек вряд ли он перепрыгнет — штаны порветь. Правду я говорю, сынки? — крикнул он идущим мимо телеги красноармейцам.
— Правда, отец! — откликнулись те бодрыми голосами. — Захлебнется фашист терской водой!
Мост кончился. Телега с престарелыми супругами свернула с главной дороги вправо, к селу, и вскоре затерялась среди хат и тополей, а юные друзья направились к толпе военных, сгрудившихся у сколоченного наспех из жердей шлагбаума. Над толпой вьются махорочные дымки и стоит неумолчный гул недовольных голосов. Из него то и дело вырываются отдельные выкрики:
— По своей охоте мы, что ли?
— Сходи сам, понюхай жижи!
— Я не дезертир! Я свою часть в бою под Ставрополем потерял раненный.
Ребята подошли поближе. Кого только в этой толпе нет: и пехотинцы, и артиллеристы, и саперы, и музыканты. Молодые и в возрасте, здоровые и раненые, угрюмые и веселые, с винтовками и без.
— Дядь, а чего это вас собрали тут? — полюбопытствовал Минька у пожилого бойца, сидящего на колесе повозки и перематывающего на ноге обмотку.
— Конфеты раздавать будут, — пробурчал тот.
— Вы по правде скажите.
— А по правде: здешнее начальство нашему брату сортировку наводит.
На дороге со стороны станицы Вознесенской показался мотоциклист. Заложив крутой вираж, он остановился у КПП. К нему тотчас поспешил молодцеватый лейтенант. Приложив к фуражке руку, о чем–то доложил.
Приезжий в ответ энергично махнул рукой в направлении скучившегося у дороги разношерстного войска.
— В одну шеренгу становись! — подал команду лейтенант.
Толпа заколыхалась из стороны в сторону и стала вытягиваться от одного телеграфного столба к другому.
— Равняйсь! Смирно! Товарищ гвардии подполковник, по вашему приказанию… — снова подошел с рапортом лейтенант к приехавшему на мотоцикле начальству.
— Вольно, — сказал подполковник и широко зашагал вдоль вытянувшегося пулеметной лентой строя. — Герои! Надежда матери-Родины! Драпают так, что от подметок дым идет. Вот ты! — остановился подполковник перед одним из «героев», высоким детиной–пехотинцем. — Где твоя винтовка?
Красноармеец угрюмо сдвинул выцветшие брови, пожевал обветренными губами.
— В Кубани утопил, под Невинномысском…
— Сидор, небось, не утопил, — ткнул подполковник пальцем в лямку вещмешка, — а боевое оружие в речку бросил.
— Сидор — он за плечами, его и рад бы сбросить, да не сбросишь, а винтовка — в руке. Поневоле кинешь, если тебя на дно волокет.
— «На дно волокет», — передразнил рядового подполковник. — Вот отволоку тебя в военный трибунал, будешь знать, как относиться к вверенному тебе оружию, вояка…
Подполковник сделал еще несколько шагов. Заметив стоящую позади строя повозку с торчащим из нее стволом миномета, спросил кому она принадлежит, и тут же предложил ее владельцу сделать шаг вперед. Из строя вышел пожилой, небольшого роста боец, и Минька с Мишкой сразу узнали в нем того самого «отступника», что завязывал на ноге обмотку.
— Твой миномет? — подошел к нему. сердитый командир.
— Так точно, мой.
— А где твоя часть?
— Если б я знал. Сам едва из–под Буденновска вырвался. А тут еще самовар этот. В нем вон сколько железа, а расчет весь побило. Хорошо, хоть лошадь нашел с повозкой, а то хоть бросай и все тут.
— Почему ж ты его все–таки не бросил, свой самовар?
Минометчик, уловив командирское настроение, ответил шуткой:
— Очень люблю чай, товарищ гвардии подполковник, покруче да понаваристей, чтоб в горле у фашиста колом застревал во время угощения.
У подполковника помягчел взгляд его колючих, недоверчивых глаз.
— Вот пример верности своему воинскому долгу! — возвысил он голос, обращаясь к строю и снова поворачиваясь к минометчику: — Как фамилия?
— Рядовой Шиш, — поднял повыше грудь минометчик.
— А ну, Шиш садись на повозку да прокати вдоль строя, пускай посмотрят на тебя и на твою совесть те, у кого этой совести не осталось ни шиша.
По строю прокатился одобрительный смешок: молодец командир, хоть и «выворачивает кишку наизнанку», но делает это без зла и с юмором. А рядовой Шиш уселся на повозку и медленно поехал вдоль строя, сопровождаемый завистливыми взглядами и незлобивыми репликами:
— Он, должно, из него не пальнул ни разу, так с начала войны и возит в повозке вместо жены.
— Что значит Шиш, и глядит фигою…
Эх, русская душа! Простая и неприхотливая. Как вот эта гимнастерка, тебя прикрывающая. Непонятная ты для недругов да и для друзей порой непонятная непоколебимой верностью и неизмеримой щедростью своею. Не от равнин ли бескрайних Отчизны своей ты такая широкая? Не от рек ли глубоких могучая? Не от шепота ли березовых рощ прямая и чуткая? И откуда в тебе эта неиссякаемая радость бытия, насмешливая дерзость и постоянная. потребность в шутке даже в тяжелый час, когда, казалось бы, впору только скрипеть зубами от бессильной ярости?
Так примерно думал командир бригады десантников Красовский, провожая взглядом повозку с минометом и вспоминая по ассоциации 1919 год и вот таких же молодых ребят–сверстников с винтовками в руках, тоже стоявших у моста и внимательно слушавших его, Пашки Красовского, приказания. К городу Балашову тогда подходили белые казаки генерала Мамонтова, и комсомольцы железнодорожного депо спешно занимали оборону на речном берегу. Тогда же выяснилось, что половина ребят не знает, как обращаться с огнестрельным оружием. Пришлось тут же, в окопах, заняться обучением личного состава комсомольской боевой дружины.
Был бой. Упорный, тяжелый. Но мост отстояли. А затем всей ячейкой отправились на фронт — добровольцами. В Первую конную армию товарища Буденного…
— Товарищи бойцы! — обратился Красовский к строю, когда повозка с минометом, обогнув фланг, остановилась на прежнем месте. — Я уверен, что большинство из вас честно выполняли свой воинский долг перед Родиной и только в силу разных, не от вас зависящих причин, попали в такое нелепое положение. Враг, обломав зубы под Москвой, устремился теперь на Северный Кавказ. Захватив Ростов, он рвется к грозненской и бакинской нефти. Здесь, на терском рубеже, мы должны остановить и обескровить фашистского зверя, а затем погнать прочь с родимой земли, как говорится, в хвост и гриву. Кто желает стать участником этого исторического события в рядах нашего соединения, выйти из строя.
Весь строй качнулся и сделал шаг вперед. Комбриг не смог сдержать на сухощавом лице довольной улыбки.
— Лейтенант Мельник, — позвал Красовский командира. — Добровольцев накормить, привести в надлежащий вид, раненых направить к Фидельману. Рядового Шиша вместе с минометом — к Резникову в минометную роту.
— Есть! — приложил руку к виску молодцеватый лейтенант.
— Да вот еще… — удержал его на месте Красовский. — А где Полтко, уполномоченный особого отдела 2‑го батальона?
— Я здесь, товарищ гвардии подполковник, — тотчас подошел к комбригу старший лейтенант среднего роста с моложавым, украинского типа лицом.
Красовский пожал руку контрразведчику и, отойдя с ним в сторонку, долго говорил ему что–то тихим голосом. Потом еще раз тряхнул руку голубоглазого украинца, сел на мотоцикл и укатил по дороге к Терскому хребту, который уже подернулся вечерней дымкой, словно плед натянул на старческие плечи, остерегаясь ночной сырости.
Минька с Мишкой, наблюдавшие за военными на почтительном от них расстоянии, переглянулись между собой: проворонили командира бригады, только синий дымок остался на дороге от. мотоцикла. Да и попробуй сунься к такому сердитому… Посоветовались, — решили поговорить с командиром, у которого добрые голубые глаза и мягкая улыбка на губах. По всему видно, важная птица, недаром с ним комбриг — за руку. Подошли сбоку. Мишка–Австралия откашлялся и сказал:
— Товарищ командир, мы вот с ним… с Минькой, тоже хотим добровольцами в десантники. Возьмите нас, а?
Старший лейтенант Полтко с удивлением воззрился на юных добровольцев.
— Откуда, молодцы? — спросил он, все так же улыбаясь.
— Мы — моздокские, с Луковской улицы пацаны, — перехватил инициативу у старшего приятеля Минька. — Мы с ним в тире из пятидесяти возможных сорок очков выбиваем и даже больше, а Мишка запросто Терек переплывает туда и обратно, не смотрите, что он такой тощий.
— А ты сам–то переплываешь Терек? — прищурился старший лейтенант.
— Я только в один конец… — неохотно признался Минька.
Уполномоченный задумался. Он порылся в кармане галифе, достал несколько конфет «Раковые шейки», протянул мальчишкам.
— Что мы, маленькие? — нахмурились мальчишки, но конфеты взяли, чтобы не обидеть хорошего человека.
— Трошки пидрасты вам трэба, хлопцы, — перешел Полтко на родную украинскую мову. — Идыть соби до хаты и не блукайте по позициям, бо туточки скоро такэ начнется, шо и бисовой маме пид рождество не снилось.
— Мы хотим помочь Красной Армии, — не унимались добровольцы.
— Святое дело, — согласился Полтко, возвращаясь к русской речи. — Только рано вам еще воевать. И не просите даже. Тоже мне вояки… — повернулся он к подошедшему лейтенанту.
О чем он с ним говорил, ребятам не удалось услышать. Со стороны станицы Терской послышался тяжелый гул. Неужели наши? Ну, так и есть! Летят в безоблачной синеве краснозвездные бомбардировщики: один, два, пять, девять штук. Натужно воя моторами, они несут свой смертельный груз к линии фронта, туда, где безумолчно гремит артиллерийская канонада и где, цепляясь за макушки терского леса, пытается удержаться над земной окружностью красное от натуги солнце. Вскоре в той стороне прогромыхали тяжелые взрывы.
— Да это же они Прохладный бомбят, не иначе! — выпучил глаза Австралия.
— А сколько до него? — спросил Минька.
— Километров пятьдесят, не больше.
Мальчики побежали домой.
Глава четвертая
Разведку решили вести «веером». Справа поведет группу комиссар Лычев, слева — помкомроты Светличный, посредине — заместитель начальника разведки бригады Зуев. Командир роты останется в станице Курской, обеспечивая тыл и общее руководство.
Левицкий присоединился к центральной группе. В ней кроме него и Зуева находилось шесть человек. Постелили соломы в кузове полуторки. Расселись вдоль бортов. Пожелали здоровья старику: исправная оказалась кем–то брошенная в станице автомашина. Не нужно крутить ногами велосипедные педали, будь они прокляты. Если хочешь, крути всю дорогу языком. Вот только жаль, что нет в кузове Вани Позднякова, он по–прежнему крутит педали своего «средства передвижения» в группе лейтенанта Светличного.
Захватили Орловку немцы или нет? Из расспросов беженцев и отступающих бойцов стало ясно, что сплошного фронта в ставропольской степи нет, и только по доносящемуся артиллерийскому громыханью можно примерно судить о передвижении немецких войск. Со стороны Орловки было тихо. Не доезжая до нее километра полтора, разведчики свернули в акациевую рощицу и, предводительствуемые Зуевым, направились к селу пешим порядком. Тревожные, азартные минуты, хорошо знакомые охотникам, скрадывающим хищного зверя. Может быть, разгуливает этот зверь по улицам, а может быть, залег вон в той поросшей кустарником балке. На дороге видны узоры от автомобильных покрышек. Эге! Да вон и сами машины. Выскочили откуда–то сзади с пушками на прицепах. И направляются, по–видимому, тоже в село.
— Всем под мост! — скомандовал Зуев. — Приготовить гранаты.
Но машины пропылили по соседней дороге километрах в двух от засады и скрылись между хатами.
Разведчики вылезли из–под моста, пригибаясь к земле, побежали к селу. У крайней хаты отдышались, озираясь во все стороны и держа пальцы на спусковых крючках автоматов, двинулись к возвышающейся среди тополей белой церкви. Где же остановились артиллеристы? Не курсанты ли это ростовского училища, которых ждали в бригаде со дня на день? Ага, вон они. Устанавливают орудия на площади.
Слева в переулке послышалось фырканье автомобильного мотора. Зуев осторожно выглянул за угол хаты.
— Кажется, свои, — шепнул он подчиненным. — Синяя форма. Без головных уборов… Фу, ты дьявол! Это же наши летчики!
Сделав такое приятное для себя открытие, старший лейтенант вышел навстречу машине и, подняв над головой автомат, крикнул грубовато–весело:
— Какого черта вы здесь мотаетесь? Мы вас чуть не обстреляли, соколики!
Машина резко тормознула. Над кабиной качнулись встрепанные ветром головы сидящих в кузове «соколиков», а в открытую дверцу кабины высунулась крайне удивленная физиономия фельдфебеля в пилотке с красно–белым кружком спереди. Тотчас прозвучала отрывистая команда на немецком языке, и вышедшие на дорогу вслед за командиром разведчики увидели, как белокурые «летчики» стали поспешно прыгать из кузова в придорожную канаву, клацая затворами автоматов.
«Стрелять надо», — опомнился Левицкий, вскинул автомат на уровень глаз и, не целясь, полоснул очередью впереди себя. Он увидел, как выскочивший из кабины фельдфебель схватился руками за ремень на мундире и сковырнулся на землю. Из пробитого пулями радиатора брызнула на песок вода.
Немцев было человек двадцать, советских бойцов только семеро. Они, отстреливаясь, стали быстро отходить огородами к сельской окраине. Им вслед неслись гортанные крики пришедших в себя фашистов, автоматные и пулеметные очереди. Жутко завыли над головами мины, разрывались с оглушительным треском и свистом разлетающихся во все стороны осколков.
Левицкий бежал рядом с Борисом Жировым, молоденьким розовощеким бойцом, и невольно завидовал его резвости и нерастраченной силе. Ну и свистопляска вокруг! Хорошо хоть судьба наделила его, Левицкого, небольшим ростом: в маленькую мишень все же труднее попасть, чем в большую. Но почему так горячо сделалось правой руке? Взмахнул ею перед глазами: мать моя родная! — вся кисть в крови. На ходу выдернул из кармана галифе носовой платок, сжал комком в руке — разглядывать рану некогда.
Вот и лесопосадка.
— Заводи мотор! — крикнул Зуев, подскакивая к грузовику.
Остальные бросились к кузову, мешая друг другу, перевалились через борт. Полуторка дернулась так, что в кузове попадали друг на друга, и, с трудом набирая скорость, запрыгала по бугристой, иссушенной солнцем земле прочь от страшного места.
* * *
Тем временем группа лейтенанта Светличного оседлала дорогу между Курской и станицей Советской и занялась проверкой отступающих красноармейцев, одних задерживая на месте, других направляя к городу Кизляру, где после тщательной комиссии они вновь вольются в русло регулярной армии.
На обочине остановился колесный трактор с пушкой на прицепе, к стволу которой в свою очередь была прицеплена за оглобли обычная крестьянская телега. В то время, как командир группы направлялся к трактору, с последнего соскочил на землю небольшого роста, узкоплечий красноармеец в замасленной форме артиллериста, с густыми черными бровями на худом скуластом лице. Он подошел к телеге, разгреб наваленную в передке солому, под которой оказался довольно приличных размеров бочонок. Налил из него в ведро не то воды, не то солярки и понес к трактору. Взобравшись на переднее колесо, стал переливать содержимое ведра в радиатор.
— Дай–ка напиться…
Хозяин трактора оглянулся через плечо. Увидя лейтенанта, с готовностью протянул ему смятую по бокам посудину:
— Пей, пожалуйста.
Светличный поднес ведро ко рту, удивленно вытаращил глаза:
— Что это?
Тракторист перекосил в доброжелательной улыбке брови.
— Кароший очин. Сам бы пил, да вот ему шибко нада.
Лейтенант потянул носом.
— Неужели вино? — изумился он еще больше.
Красноармеец закивал скуластой головой:
— Ага, вино. Цэ, цэ! Очин от ево башка веселый.
— Так почему же ты льешь его не туда, куда надо?
— Почему не туда? — возразил тракторист. — В радиатор льем. Вода нету, как поедешь без вода?
— Вместо воды такое сокровище? — вытаращил глаза Светличный. — Да ты хоть сам его пробовал?
— Так точно. От самый станица Винодельский ево пробуем — в степ вода совсем нету.
— Надо же… — завистливо покрутил головой лейтенант и приложился к пахучему виноградному напитку.
Он пил жадно и долго, время от времени переводя дыхание и облизывая губы. Наконец с видимым сожалением вернул ведро его владельцу и, даже не поблагодарив за столь щедрое угощение, приступил к расспросам.
— Моя татарин: по–русски плохо понимай, — пожал худыми плечами тракторист, выливая остатки вина в радиатор. — Ты, пожалиста, моя командир говори. Ево башка очин умный. Эй, Зинаид! — крикнул он в направлении привязанной к орудию телеги. Над нею из вороха соломы тотчас появилась встрепанная голова, и вслед за нею взметнулись кверху и перекинулись через грядку обутые в кирзовые сапоги ноги. В следующее мгновенье перед Светличным уже стоял тоже невысокого роста, но с виду более крепкий, чем его подчиненный, боец с треугольниками на черных петлицах.
— Командир орудия младший сержант Аймалетдинов, — весело и энергично представился он незнакомому командиру.
— Кто такие?
— Артиллеристы батареи противотанковых пушек лейтенанта Цаликова сорокового отдельного артполка 12‑й армии, — охотно доложил командир орудия.
— А где же ваш командир батареи?
— Батареи больше нет, — погрустнел Аймалетдинов. — А командир с другой пушкой позади едет. Ночью крепкий бой был. У нас машину разбило, а у них осколком радиатор насквозь. Вот запаяют и приедут.
— А это кто еще с вами? — ткнул пальцем Светличный в показавшегося из повозки юношу в гражданской одежде.
— Наш четвертый номер Володя Мельниченко. Под Ворошиловском к нам пристал. Очень смело ночью в бою действовал.
— «В бою, в бою», — поморщился лейтенант. — Послушать вас, так вы все герои: деретесь с немцем, как львы, а на деле: бежите от него, как… крысы с тонущего корабля. Понабрали каких–то несовершеннолетних мальчишек и пьянствуете с ними.
У командира орудия улыбка на его широком, добродушном лице сменилась недоумением.
— Товарищ лейтенант, — начал было он, — мы чудом вырвались из окружения. Всю прислугу в бою перебило…
Но Светличный не дал ему договорить:
— Байки про чудеса будешь рассказывать в другом месте, а сейчас станови свой табор вон там, где задержанные сидят.
— Товарищ лейтенант, мне нужно быстрее добраться до какой–нибудь артиллерийской части. Сзади в любую минуту могут наскочить немцы, а в боекомплекте у меня только четыре снаряда.
— Делай, как приказано, — повысил Светличный голос, который стал у него заметно заплетаться. — Мальчишка пусть идет с беженцами. Бочку сдать.
Напрасно Аймалетдинов старался доказать этому лобастому лейтенанту ошибочность его действий, тщетно пытался он рассказать ему, как вражеские танки смяли их батарею, оставшуюся к тому времени без связи, как расчет его орудия продолжал в неравной схватке стрелять по бронированным машинам, пока не израсходовал все снаряды, как номера прислуги вышли один за другим из строя за исключением заряжающего Вядута Абдрассулина и самого командира орудия, как на чужом тракторе вывезли пушку из огненного кольца и потом, раздобыв в пути снаряды, снова били из нее прямой наводкой в оголтелого врага, — лейтенант был неумолим.
— Поговори у меня, — сказал он насмешливо–угрожающе и повернулся к стоящему с пустым ведром в руке трактористу. — Ну–ка, плесни еще малость… для моего радиатора.
Абдрассулин молча сходил к телеге. «Чтоб тебя разорвало, бездонный бурдюк!» — пожелал он вредному начальнику, глядя, как энергично прыгает туда–сюда под запрокинутым кверху ведром острый лейтенантский кадык. Недаром он видел сегодня дурной сон, будто бросалась на него черная собака. ,
Утолив вторично жажду, Светличный подозвал к себе своего бойца и приказал, с трудом ворочая негнущимся языком:
— Алтир… рилиствов за…аржать! Бочку с вином конфисковомать!
— Есть, товарищ лейтенант, задержать бочку с вином! — приложил ладонь к пилотке боец, а про себя подумал: «Ну, этот, кажется, сегодня «наконфискуется» вдрызг и наломает дров, что ни в какую поленницу не сложишь. Надо срочно посылать за командиром роты.
Только не успеет Федосеев предотвратить назревающий скандал — неблизок путь до Курской и обратно, хоть будет жать «на все педали» посыльный Ваня Поздняков, все равно не подоспеет лейтенант к месту события вовремя.
Между телегами беженцев показался какой–то политрук, с трудом передвигающий тяжелые ноги по степной дороге и время от времени облизывающий черные, потресканные губы. Одна рука у него на перевязи, другой он держится за телегу. К нему и направился Светличный, с трудом сохраняя равновесие.
— Сдать оружие, — уставился он мутным взглядом в обескровленное лицо военного.
— На каком основании? Вы мне его давали, оружие? — отпустил тот тележную грядку.
— Молча–ать! — гаркнул Светличный. — Бежишь в тыл, дезертир? За мою спину хочешь спрятаться?
У политрука от незаслуженного оскорбления посерело лицо, но, он еще сдерживался, пытаясь уточнить, в чем дело. В ответ ему понеслась нецензурная брань и обещание «пристрелить, как собаку».
— Приказ Верховного не знаешь! — взвизгнул Светличный, накаляя себя псевдопатриотическим жаром. — Ни шагу назад, паникеры и трусы!
И тогда политрука захлестнула нестерпимо горячая волна гнева и смертельной обиды.
— Ты на кого кричишь, пьяная рожа? — спросил он в свою очередь звенящим от напряжения голосом. — Кто дал тебе, сволочь, право измываться над людьми?
У Светличного от бешенства исказилось лицо. Он рванул кобуру, выхватил пистолет:
— Застрелю!!!
Но политрук (откуда только взялись силы!) ухватил его здоровой рукой за запястье, резко крутнул. Бабахнул выстрел. Взвилась на дыбы в оглоблях мимо проходящая лошадь. Только где же раненому, изнуренному зноем и жаждой человеку справиться с молодым, хоть и пьяным, здоровяком. И тут на помощь политруку подскочил Абдрассулин. Вцепился сзади в локти обезумевшего от вина лейтенанта.
— Эй, Зинаид! — крикнул своему командиру, — тащи скорей веревку, спасать человека надо!
Тотчас подбежали и разведчики, помогли артиллеристам обезоружить пьяного.
— Я ему покажу где рраки… зим–ово–юют! — кричал он, пытаясь вывернуться из крепких, объятий.
Политрук, сжимая ладонью левое предплечье, провожал воинственного лейтенанта презрительным взглядом: поглядеть бы на этого крикуна во время атаки...
К нему подбежал запыхавшийся красноармеец.
— Что случилось, товарищ политрук? — спросил он, протягивая котелок с водою.
— Так, ничего, — усмехнулся политрук, с трудом удерживаясь на ослабевших после неравной схватки ногах, — еще одну атаку отбил, Петя.
Красноармеец бережно подхватил его под здоровую руку.
Вечером приехал командир роты. Ему доложили о случившемся.
— Где этот пьяный хулиган? — спросил он, направляясь к трактору с несуразным прицепом.
— Его там крепко спит, — показал рукой Абдрассулин на телегу. — Такой сильный шайтан.
— Арестовать и отправить в бригаду, — распорядился Федосеев. — А где политрук?
— У телега лежит, — снова вытянул худую руку тракторист. — Слабый очин, много крови потерял, когда ранен был. Вот он говорит, — Абдрассулин кивнул головой на понуро сидящего возле пушки красноармейца, — вчера из окружения вышли.
— Командир твой? — обратился Федосеев к красноармейцу.
— Так точно, — подхватился с земли красноармеец. — Вдвоем пробивались. Он два танка подорвал. Его к Герою представить надо, а не стрелять в него. И надо же мне было отойти в ту минуту. Спасибо, артиллеристы выручили…
— Политрука отвезешь в медсанбат, — перебил его Федосеев, досадуя в душе, что не разведчики первыми заступились за раненого политрука.
Глава пятая
Красовский проснулся чуть свет. Вышел из казачьей хаты, посмотрел вверх: небо–то какое синее, глубокое! С месяцем с краю. Как опрокинутая хрустальная чаша, на дне которой прилип бледный, срезанный на нет ломтик сыра. «Так, чего доброго, можно и в поэты угодить», — усмехнулся Красовский возникшему в голове сравнению и, сев на мотоцикл, направился к вершине Бельшен–корта, самой высокой точке Терского хребта. Далеко видать отсюда. Вся моздокская равнина — как на ладони. Она пестреет квадратами убранных полей. К ней спускается, причудливо извиваясь по крутым горным склонам, дорога.
Красовский поставил мотоцикл на подножку и, взобравшись на вершину, приложил к глазам бинокль. В окулярах замелькали стога сена, широкие кукурузные листья, повозки, лошади. Вот качнулся перед глазами купол моздокского собора. Надо бы взорвать его перед отходом наших войск за Терек, чтобы немцы не использовали его в качестве наблюдательного пункта. Только на него, дьявола, всю взрывчатку ухлопаешь, нечем будет подрывать вражеские танки. Мысль о танках выдавила из груди комбрига невеселый вздох. Шутка ли: целый танковый корпус, подкрепленный двумя пехотными дивизиями и другими вспомогательными частями, нацелен на Моздок — главные ворота на пути к грозненской нефти. А чем заперты эти ворота? Бригадой необстрелянных десантников, имеющих на вооружении финские ножи, автоматы, ротные минометы и 45‑миллиметровые пушки, в количестве двенадцати стволов. Есть еще, правда, противотанковые ружья и бутылки с зажигательной смесью. Но разве это оружие — посуда из–под водки? Как–то поведут себя в первом бою эти безусые парни? Хватит ли у них мужества и сил выстоять в неравной схватке? Вчера был у командующего 9‑й армией генерала Коротеева. Спросил, дадут ли его бригаде подкрепление? Командующий сказал, что дадут на днях. А пока надо рассчитывать лишь на курсантов Ростовского артиллерийского училища с учебными пушками, если их на пути к Моздоку не отрежут немецкие десанты. Утешительное обещание, ничего не скажешь.
— Да ты не вешай носа, комбриг, — сказал на прощанье командующий. — Ну, нет у меня танков и артиллерии кот начихал. Зато у тебя водная преграда для них с бешеным течением. Как там у Лермонтова: «Терек воет, дик и злобен». Главное — не проморгать, когда он начнет переправляться. Танки ведь железные, они хорошо идут ко дну. Одним словом, готовься к неравным боям.
Красовский опустил бинокль. Оглянулся. Над станицей вились в небо печные дымки. Словно и войны нет никакой, если бы не зеленые военные повозки на станичных улицах да не желтые зигзаги траншей, изрезавшие вдоль и поперек крутые склоны хребта. Интересно, почему станица называется Вознесенской? Уж не потому ли, что вознеслась она на самый гребень Терского хребта, отделив себя от непрошеных гостей глинистыми кручами? Помогут ли ей эти кручи от нашествия бронированных чудовищ Клейста?
Комбриг попробовал представить себе физиономию прославленного немецкого генерала, «мастера таранных ударов», как говорили о нем в штабе армии. Воображение нарисовало ему портрет сухопарого немца, очень похожего на того офицера, которого он, Пашка Красовский, взял в плен со своими взрослыми соратниками на русско–германском фронте в империалистическую войну. Комбриг улыбнулся, вспомнив себя в ловко пригнанной форме кавалериста с сигнальной трубой в руке. Очень любили солдаты сорванца–трубача, взятого в Преображенский кавалергардский полк воспитанником в восьмилетнем возрасте, и когда его однажды контузило, то каждый из них считал своим отцовским долгом навестить в полевом госпитале полкового сына. Боевое детство, огневая юность — отсвистели вы острыми саблями, отгромыхали снарядными разрывами…
Комбриг отмахнул от себя видения прошлого. Взглянув в последний раз на расстилавшуюся перед ним равнину, пошел к мотоциклу. Надо поторапливаться. В Предмостном ждет его совещание с командным составом батальонов. Потом он должен побывать на главных участках оборонительного рубежа, раскинувшегося по правому берегу Терека ни мало ни много на тридцать с лишним километров. Сегодня же назначена встреча с командованием 10‑й бригады, которая станет на стыке с его соединением за станицей Терской.
В Предмостном полным ходом шли земляные работы. По всему берегу рылись окопы, строились блиндажи, дзоты, устанавливались МЗП — малозаметные препятствия: спирали колючей проволоки, сучья держи–дерева и даже обычные крестьянские бороны, брошенные в траву зубьями вверх.
Возле сельского медпункта с красным флагом над крыльцом курили военные с портупеями через плечо и сумками–планшетами на боку. Увидев подъезжающего комбата, они втоптали окурки в землю и вытянулись по стойке «смирно».
— Здравствуйте, товарищи, — сказал Красовский и прошел в помещение.
Соблюдая субординацию, все направились за ним.
— Вы уже знаете, — по обыкновению резко и сухо заговорил Красовский, не ожидая, пока подчиненные рассядутся по своим местам, — что наша бригада переименована из 4‑й воздушно–маневренной в 8‑ю гвардейскую стрелковую бригаду. Следовательно, мы теперь уже не крылатая пехота, а просто пехота. Но это вовсе не говорит о том, что с утратой звания десантников мы утратили наш дух и традиции. Родина готовила нас для боев с врагом за его спиной, но обстановка переменилась, и нам придется сражаться с ним лицом к лицу. Это даже проще: не нужно, по крайней мере, держать ноги вместе в момент приземления с парашютом.
Участники совещания улыбнулись — шутка понравилась.
— Нашей бригаде, — продолжал Красовский, — во взаимодействии с другими бригадами и полками поставлена ответственная задача: встретить и удержать на терском рубеже превосходящего численностью и вооружением противника. Именно здесь, под Моздоком, гитлеровское командование намерено прорвать оборону наших войск и выйти через перевал в районе станицы Вознесенской и Малгобека к Алханчуртской долине. Пропустить врага в эту долину, значит отдать ему грозненскую нефть и тем самым поставить страну в еще более тяжелое положение. В связи с этим мы должны в оставшиеся дни превратить терский рубеж в неприступную крепость. Поставь, Николай Иванович, боевую задачу, — обратился комбриг к начальнику штаба Труженникову.
Стройный, подтянутый капитан, поднявшись из–за стола, подошел к стене, на которой висела начерченная разноцветной гуашью схема оборонительного рубежа бригады.
— Первый удар противника примет на себя 3‑й батальон, — ткнул начштаба указкой в схему. — Он будет оборонять Моздок до тех пор, пока все отступающие из–под Прохладного и Буденновска части не переправятся на правый берег Терека, где проходит наша главная оборонительная линия. Справа от моста с центром обороны в станице Терской — 1‑й батальон. Слева — 2‑й. Он занимает весь берег от Предмостного до Верхних Бековичей. 4‑й батальон находится во втором эшелоне вместе с артиллерией. Он же является резервом бригады. Нашими соседями по обороне будут: справа, за станицей Терской — 10‑я бригада таких же, как и мы, десантников, слева, у села Сухотского — 9‑я бригада и 151‑я стрелковая дивизия. С нами будет также взаимодействовать 926‑й истребительный авиационный полк, а также 47‑й отдельный истребительный противотанковый дивизион. Кроме того, командование армии обещает передислоцировать в наш район два полка корпусной артиллерии, а во вторую линию обороны на Терском хребте — моряков Краснознаменной 62‑й бригады и части специального назначения типа «РС». В целях успешного выполнения поставленной бригаде задачи нами решено: батальоны не вытягивать в тонкую цепочку по всему берегу, а создать узлы сопротивления на всех изгибах реки. Создание таких узлов необходимо для того, чтобы обеспечить сплошной перекрестный обстрел противоположного берега, всей наплавной части реки Терек и ее поймы. Вторая полоса обороны пройдет по склонам Терского хребта…
Красовский следил за указкой начальника штаба и одновременно наблюдал за выражением лиц участников совещания. Тяжелое испытание предстоит им в скором будущем. Хоть Кириллов и говорит, что, дескать, воевать нужно не числом, а умением, а все–таки трудно себе представить, как сможет одна бригада противостоять двум корпусам, из которых один танковый. Как–то поведет себя каждый из этих людей во время сражения? За комбата‑1 Александрова он спокоен — не дрогнет и не растеряется. Как говорится, «видно сокола по полету». И комиссар у него, Бегма, такой же бедовый. А вот капитана Коваленко он еще мало знает, недавно в бригаду пришел.
На вид мужественный, решительный, а каким он на деле окажется? Ведь задача ему ставится очень тяжелая: дать бой двум корпусам противника, танковому и пехотному, силами одного стрелкового батальона с приданными ему одной ротой 1‑го батальона и артиллерийским дивизионом 45‑миллиметровых пушек. Гм, хоть бы бровью повел. Сидит спокойно, что–то не спеша записывает в блокнот, словно собирается сразиться с немцами не батальоном, а целой дивизией.
Красовский перевел взгляд с комбата‑3 на его комиссара — старшего политрука Фельдмана. Этот уже успел заслужить авторитет у личного состава батальона. Грамотный и деловой мужик. Правда, несколько медлительный, но кто из нас без недостатков? Его коллега Житников, комиссар 2‑го батальона, тоже не отличается особой резвостью: ходит вразвалку, говорит всегда спокойно. А какой порядок в батальоне, какой высокий моральный дух!
— Вопросы есть? — вывел командира бригады из раздумья вопрос начальника штаба.
— Есть, — поднялся с места командир 2‑го батальона майор Рудик. — Танки нам дадут?
— Не обещают. Еще вопросы?
* * *
Левицкий, черный от загара, выпрыгнул из кузова грузовика и, поправив за спиной автомат, поспешил к начальнику политотдела, вышедшему на улицу из колхозного медпункта вслед за участниками совещания.
— Товарищ батальонный комиссар, старший политрук Левицкий с боевого задания прибыл! — приложил он к виску забинтованную руку.
— Здравствуйте, Степан Гаврилович, — осторожно притронулся к ней начальник политотдела. — Вы что, ранены?
— Пустяк, товарищ батальонный комиссар: немного палец повредило.
— После доклада сразу же в санроту, — нахмурился Самбуров и жестом пригласил разведчика в хату, где только что проводилось совещание. Усадив его на табурет, сам сел напротив и приготовился слушать донесение.
Однако Левицкий поднялся с табурета и, глядя в глаза непосредственному начальнику, сказал срывающимся голосом:
— Товарищ батальонный комиссар, я не полностью справился с вашим заданием…
— Что такое? — поднялся с места и Самбуров.
— В группе лейтенанта Светличного — происшествие.
И Левицкий рассказал начальнику политотдела обо всем, что произошло.
Самбуров помрачнел. Его клиновидное лицо, казалось, еще больше вытянулось книзу. На круглом, с огромными залысинами лбу собрались морщины.
— Век живи — век учись, — проговорил он сокрушенно и принялся «распекать»… самого себя: — Плох тот руководитель, который не видит дальше своего носа. Ну почему я не заострил вашего внимания на этом типе? Ведь я же догадывался о нечистоплотности Светличного. Разве его сигналы, а точнее, доносы на сослуживцев не свидетельство его мелкой и подлой душонки? Как я мог упустить эти факторы, посылая вас на боевое задание?
У Левицкого от такого самобичевания начальника струйка потекла между лопатками. Уж лучше б он кричал на него, топал ногами, чем вот так — ругает вроде бы себя, а провинившемуся от этой ругани хоть сквозь землю провалиться.
— А где Зуев? — спросил комиссар.
— Отправился прямиком в штаб бригады доложить о результатах разведки.
— Немцы далеко?
— Заняли Степное. Натолкнулись на них в Орловке.
Самбуров задумчиво пошагал по комнате. Потом снова подошел к Левицкому.
— Что ж вы стоите? Немедленно к врачу на перевязку. Впрочем, я тоже с вами… Хочу посмотреть, как обстоят дела у Фидельмана.
Медсанрота расположилась на южном склоне Терского хребта в здании, принадлежавшем местным нефтепромыслам. Во дворе санроты и вокруг нее стояло несколько повозок с имуществом, какими–то ящиками, помеченными красными крестами, брезентовыми сумками и узлами с бельем. У стены под парусиновым пологом, закрепленным на тонких жердях, вкопанных в землю, лежали на раскладушках раненые. У одного из них забинтована голова до такой степени, что она превратилась в марлевый шар, из которого едва виднеется маленький бледный нос.
Видно, кто–то успел шепнуть врачу, что в санчасть пожаловало бригадное начальство. Открылась дверь, и на пороге появился Фидельман — грузный, с типичными еврейскими чертами на полном, одутловатом лице мужчина. Военного в нем, кроме выглядывающих в вырезе халата зеленых петлиц с кубиками, ничего не было. Никакой выправки, ни малейшего понятия об уставных положениях. На пороге стоял сугубо штатский человек с неуклюже поднятой рукой к большой круглой голове с белым колпаком на макушке. Все в бригаде любили этого добродушного и знающего свое дело доктора, что, однако, не мешало некоторым подшучивать над ним. Особенно доставалось ему из–за своей ставшей притчей во языцех близорукости. Бывает, в пути какой–нибудь шутник крикнет: «Роман — яма!» Фидельман остановится, прищурит свои добрые и наивные, как у ребенка, глаза и прыгнет через воображаемую яму на совершенно ровном месте. Зато в следующий раз на такое же предостережение он хитровато улыбнется: «Посмеяться хотите? Не выйдет», — и плюхнется в яму.
— Как поживаете, Роман Николаевич? — пожал Самбуров пухлую руку зарапортовавшегося доктора.
— Вашими молитвами, многоуважаемый… простите-с, товарищ батальонный комиссар, — поправился Фидельман. — Сам Соломон Премудрый не имел таких удобств в своем дворце: колодец прямо в огороде и дрова под горкой в лесу — совсем рядом. А у товарища Левицкого, извиняюсь, что с рукой?
— Ранен ваш Левицкий. Сделайте ему, Роман Николаевич, перевязку.
— Ранен! — всплеснул руками врач. — Где же вы–таки успели, чтоб вас ранило? Пойдемте, голубчик, я посмотрю. Немец еще бог знает где, а у меня уже вон сколько раненых. Нужно отправить их в тыл сегодня же.
— Я не хочу… в тыл, — донесся с раскладушки тихий голос.
Доктор развел руками:
— Вот видите? Оно не хочет. Едва опамятавшись после такого серьезного ранения в голову, оно уже начинает протестовать.
— Кто это? — спросил Самбуров.
— Медсестра из Новороссийского госпиталя Валя.., как же ее фамилия? — Фидельман притронулся ладонью к своей лысеющей голове. — Ах да! Лысых. Валентина Лысых. Совсем девчонка — и уже ранена. Недавно пришла в сознание. Завтра же отправлю в Синий Камень, за перевал.
— Я не хочу… в Камень, — снова прошелестел прерывающийся от слабости голос.
— Так, может быть, вы, сударыня, желаете — под камень? — неожиданно для самого себя скаламбурил Роман Николаевич. — А ну, прекратить разговоры, пока я не рассвирепел окончательно.
По губам раненой скользнула улыбка, а в глазах заблестели слезы.
— Не надо плакать, — подошел к ней Самбуров.
— Вы главнее его? — раненая скосила глаза на дверь, за которой скрылись врач и его пациент.
Начальник политотдела невольно усмехнулся:
— Главнее, а что?
— Прикажите ему, чтоб он меня не отправлял. Я скоро поправлюсь… и буду ему помогать. Прикажете?
— Прикажу, — кивнул головой Самбуров, склоняясь над бледным личиком с огромными карими глазами под тонкими черточками бровей.
Глава шестая
— Далече ты, Кузя, направился?
Эти слова принадлежали той самой бабке, что согласилась на предложение своего деда «бросить якорь» в селе Предмостном. Она хлопотала у сложенной посреди двора летней печки и щедро делилась последними новостями с хозяйкой дома, давшей временный приют престарелой чете.
— Пойду закидушки проверю, — ответил старый Кузя и вышел в калитку на залитую солнцем улицу.
Собственно, улица кончалась уже через несколько дворов. Миновав последнюю хату, старик очутился на дороге, ведущей через лес к соседнему селу Нижние Бековичи. Накатанная дорога, твердая. По ней туда–сюда движутся военные повозки и красноармейцы — колоннами и поодиночке.
Пройдя лесом с полкилометра, старик свернул по протоптанной дикими свиньями тропинке вправо и вскоре вышел к Тереку. Он катился стремительным мутным валом почти вровень с берегом и глухо ворчал, грызя макушки упавших в воду тополей. Ох, и свиреп родимый! Не дай бог сорваться в его серую струю вместе с подмытым берегом–только лысиной мелькнешь: закрутит, утащит на дно, не успеешь и «мама» крикнуть. Так думал старик, глядя на бурливый поток и слыша время от времени тяжкие вздохи обваливающейся в воду земли. Где же первая закидушка? Ага, вон она. Стоит у самой воды воткнутый в землю ореховый прут, с конца которого свисает натянутый, как струна, шелковый шнур с голышом вместо грузила и зажаренной в подсолнечном масле галушкой на крючке.
Рыболов нагнулся, потянул шнур, он стал свободно выбираться. Пусто. Не засекся сазан. Разочарованный рыболов выругался, наживил крючок свежей галушкой, забросил ее в воду и побрел к следующей, такой же примитивной снасти. И тут его внимание привлекла плывущая невдалеке лодка. В ней сидели двое военных. Один из них греб не то веслом, не то доской, другой отталкивался шестом. По тому, как лодка вертела туда–сюда носом, старый кубанский житель сразу определил, что ею управляют неопытные руки. «Не дай бог, опрокинется каюк — пропадут хлопцы», — встревожился рыбак, забыв о закидушке.
— Держи носом наискосок к течению! — крикнул он, подавшись вперед и рискуя свалиться в воду. — Подгребай! Подгребай! Вот та–ак… Да не в тую сторону гребешь, язви твою в чешую. Давай сюда шест!
Ухватив рукой протянутую с лодки длинную палку, старик осторожно подтянул к берегу утлое суденышко и только теперь как следует разглядел сидящих в нем красноармейцев. Один из них был коренастый крепыш с серыми прищуренными глазами на широком улыбающемся лице и с алыми кубиками на голубых петлицах. Другой, тоже невысокого роста, но уступающий своему товарищу плотностью, имел на петлицах треугольнички.
— Ну и речечка! — покрутил круглой, стриженной под «полубокс» головой старший лейтенант, вскочив на берег и привязывая лодку к оголенному корневищу. — На что уж Нева быстра, а и то не сравнить… Здравствуйте, папаша, — протянул он руку старику. — Спасибо за помощь, а то угораздило б нас вон под ту коряжину.
— Здорово, сынки, — ответил рукопожатием рыбак. — Что ж это вы, так сказать, не знавши броду…
— Полезли в воду? — закончил мысль старика старший лейтенант. — Служба у нас, отец, такая окаянная. А вы что здесь делаете, простите за любопытство?
— Рыбку ловлю. Да что–то не дюже ловится.
— Из местных?
— Нет, беженец. С Кубани отступил вместе со своей старухою. А ты, небось, питерский?
— Да, из Ленинграда. А как вы угадали?
— Про Неву упомянул. Потом это… выговор у тебя тамошний: на «г», по–благородному гутаришь. Я сколь годков там прослужил в конвое его величества, а так и не научился «гекать» по–петербуржски.
— Неужто у самого царя служили? — удивился старший лейтенант.
— Так точно, ваше красное благородие, — старик дурашливо поднес к седому виску заскорузлую ладонь. — Младший урядник, егорьевский кавалер Козьма Шпигун. Сундук кованый с патретом царя на крышке за службу имею — царский подарок.
— Золото, наверное, храните в сундуке?
— Да нет — крючки рыбацкие.
— В гражданскую войну с белыми заодно? — продолжал любопытничать старший лейтенант.
— Вначале с белыми, а апосля с красными, — охотно отвечал Георгиевский кавалер. — С самим Кочубеем Иваном. Боевой был атаман. А вы, хлопцы, ай за грибками на энту сторону?
— Да уж такие, дедушка, грибки, что и ума не приложу, как быть.
— А что так?
— Получил приказ от своего начальства через Терек переправу построить.
— Да зачем же вам переправа, если мост имеется? — удивился старик.
— На всякий случай. Мост ведь в любое время фашисты разбомбить могут. Вот мы и перебрались с сержантом на эту сторону посмотреть, к чему тут можно трос прикрепить.
— Паром, что ль, хотите соорудить?
— Ну да.
— А где же трос?
— В том–то и беда, что троса нигде найти не можем, — вздохнул старший лейтенант. — Вы там в Предмостном случайно не видели?
Старик задумался: нет, не припомнит.
— Черт его знает, где искать, — нахмурился старший лейтенант и подошел к стоящему у самой воды дубу. Приятельски похлопал ладонью по шершавой коре — такой не только паром, целый корабль выдержит.
Сержант тоже подошел к дереву, вынул из чехла финский нож и сделал зарубку. Затем они вдвоем сходили по тропинке к дороге, прикинули на ходу, где удобнее сделать к ней просеку. Вернувшись, пожали руку старому рыбаку, пожелали ему «ни пуха ни пера» и сели в лодку.
— Поглядите, дедуня, насчет тросика в деревне, — попросил на прощанье старший лейтенант. — Чем черт не шутит, вдруг попадется на глаза. Тогда не посчитайте за труд сообщить. Мы вон там будем, — он махнул рукой на противоположный берег, где окраинные домики спускались с обрывистого яра почти к самой воде.
— Погляжу, — пообещал старик, раскуривая трубку. — А кого спросить, ежли чего?
— Шабельникова Петра Игнатьевича. Ну, пока, дедуня!
— Бывайте здоровы, хлопцы! — махнул трубкой старик и вдруг поперхнулся табачным дымом, закашлялся, засучил руками: — Погоди, не отчаливай! Совсем из ума вон. Сказано: «Не будь тороплив, будь памятлив». Я, ить, Пётра Игнатич, знаю, где есть трос.
— Где? — Шабельников едва не выскочил снова на берег.
— В эмтээсе видел, как ехал мимо. Вот на такой барабанище намотан! — старик описал трубкой круг в воздухе.
— На какой МТС?
— Шут ее знает. Нужды не было запоминать–то. Кабы вернуться — припомнил бы.
— Так поедемте с нами, у нас машина есть.
— Поехать бы можно, только слышишь, какой в той стороне свистопляс происходит? Чего доброго, попадешь немцу в лапы.
— Боитесь?
Старик насупился, выколотил трубку о ствол тополька.
— Ты, Пётра Игнатич, еще в пеленки изволил, а я уже к тому времени перестал бояться. А ну двигайся ближе к середке, я с шестом стану, а то вы такие мастера, что допреж время на тот свет спровадите.
Глава седьмая
Минька с младшим братом еще сладко спали поутру в летней хате, что по кавказскому обычаю находится между основным человеческим жильем и коровьим хлевом, когда в огороде вдруг оглушительно грохнуло. И тотчас раздался истошный крик матери:
— Минька! Пашка! Вставайте скореича, прячьтесь в яму — немцы из пушков стреляют! Ах, матерь божая! Да проснитесь же вы, лайдаки стодеревские!
Ничего не соображая спросонья, Минька, словно лунатик, спустился по шаткой лесенке в сырой и воняющий плесенью подвал и только тогда понял, что в Моздоке началась война.
В яме, под полом темно, холодно и скучно: сиди на корточках, как мышь в норе, и слушай бабьи причитанья. Там сейчас Ахмет, может быть, из пушки в танк целится, а он в яму спрятался. Минька прислушался: наверху было тихо. Нащупав руками лестницу, он полез по ней наверх.
— Ты куда? — схватила его за штанину мать.
— До ветру, — ответил Минька.
— Потерпи чуток.
— Не могу.
Мать заругалась:
— Вот же приспичит нечистая сила не ко времени! Ох, беда мне с вами, чтоб вы не выздохли. Ну, ступай, да гляди, не долго. Экие страсти, царица небесная, защити и помилуй!
Минька выскочил из ямы, прикрыл ее крышкой — ищите теперь ветра в поле. Выбежал из летника во двор, там солнца — целая прорва. И никакой нет войны. Чирикают воробьи, кокочут куры. В хлеву мыкнула корова. Третий день уже не гоняют ее в стадо. Минька направился в огород. Надо посмотреть, в каком месте разорвался снаряд. Ага, вот она воронка — словно свинья нарыла между яблоней и алычой. Не очень–то большая. На дне желтеет глина, и воняет из нее противнее, чем из соседнего сортира. «Должно быть, порохом», — отметил про себя Минька и вернулся во двор разочарованный: ничего страшного. Открыв калитку, выглянул на улицу — ни одной души в оба конца, словно вымерла.
Снова грохнуло, теперь уж где–то на Красной площади. «По собору целят», — определил Минька. Он тихонько прикрыл за собой калитку и побежал к городской окраине.
— Стой! Ты куда? — крикнули ему из открытого окна углового дома, что глухой стеной выходил на Близнюковскую улицу. Впрочем, она, эта стена, уже не была глухою. В ней над самой землей пробиты узкие щели, из которых торчат стволы противотанкового ружья и ручного пулемета. Точь–в–точь как в ГУТАПе, только пушки не хватает.
— А ну поворачивай назад, кому говорят! — в окне показалось сердитое лицо красноармейца. — Не слышишь, танки идут?
Действительно, со стороны станицы доносился моторный гул. Словно тракторы вышли на колхозное поле пахать под озимые.
— Мне в ГУТАП нужно к артиллеристам, — взмолился Минька. — Тут рядом. Пустите, а дядь…
— Я вот тебе покажу ГУТАП! — сверкнул глазами красноармеец, высовывая в окно вместе с автоматом здоровенный кулачище.
— Жалко, да? — Минька с укоризной взглянул на неумолимого бойца и повернул обратно. На душе у него было пасмурно: дома мать заставляет под полом сидеть, на улице тоже не пускают. Сами воюют, а другим не дают. Может, пробраться к ГУТАПу огородами? Постой! А зачем, собственно, через сады переться, когда проще выйти по переулку на улицу Горького и по ней — к ГУТАПу? И как он сразу не сообразил? Там и Мишка живет. Минька прибавил шагу. Вот и переулок. А вот навстречу и его закадычный дружок.
— Здорово дневали, — осклабился Австралия, радуясь не меньше Минькиного неожиданной встрече. — А я думал, ты в яме сидишь.
Минька презрительно оттопырил губы.
— Маленький я, что ли, — но не выдержал напускного тона, заговорил горячо и быстро: — А знаешь, у нас в огороде снаряд разорвался.
— Ну?
— Не увидеть мне мать родную. Еще б немножко, и в меня попал. Я как раз помидоры поливал, — соврал Минька. — А он как жахнет! Крупнокалиберный. Там такая ямища, что боже мой!
В это время со стороны станицы захлопали пушечные выстрелы: один, второй, третий. Послышался рев мотора, схожий с тем, что издает самолет, делая боевой разворот. Вот еще раз ударила пушка. И тотчас зачастили в разных местах пулеметы. Словно собаки залаяли во дворах, встревоженные проходящим по улице путником.
— Началось, — сказал Мишка, невольно приседая под кирпичный забор. Минька тоже опустился на корточки рядом с товарищем.
* * *
Артиллеристы спали тут же, возле пушки, на охапках пшеничной соломы, привезенной ездовым из станицы Луковской. Солома была свежая, недавно скошенная, от нее пахло полем и солнцем. Хорошие сны должны сниться под этот родной, домашний запах.
Все спали. Не спал лишь часовой, мерявший ногами расстояние от ствола пушки до угла ГУТАПа и обратно, да связист, сидевший в противоположном углу помещения и клевавший носом над телефонным аппаратом. Но вот и он не выдержал соблазнительного храпа артиллеристов, голова его прислонилась к стене и… в это время загнусавил зуммер. Связист дернулся и судорожно схватил телефонную трубку. Так просыпается мать от еле слышного писка своего младенца.
— «Фиалка» слушает, — проговорил связист в трубку хриплым голосом.
— «Фиалка»? Я — «Кипарис». Приготовьтесь встречать гостей. Не жалейте для них шампанского, — посоветовала трубка.
— Я — «Фиалка», вас понял. Будем накрывать стол…
Связист положил трубку, подошел к командиру орудия, бесцеремонно встряхнул за плечо.
— Ты чего? — подхватился Николай.
— Из штаба звонили: быть в боевой готовности, немцы близко. Надо срочно известить остальных.
— Расчет, подъем! — крикнул командир орудия, запахивая под ремень гимнастерку.
Артиллеристы вскочили на ноги, шурша соломой, стали быстро приводить себя в порядок. Николай подошел к пролому, протиснулся между щитом пушки и стеной.
— Соснин! — позвал часового. — Ничего не слышно?
— Ничего, товарищ командир, тихо кругом, даже собаки не гавчут, — отозвался заряжающий.
— Иди готовь боезапас.
— Есть.
Николай вышел во двор, с хрустом потянулся. Ну вот и дождались «гостей». Скоро ли пожалуют? Сквозь густые ветки яблонь розовело небо — словно марлевая повязка набухала горячей кровью. В сером сумраке нарождающегося дня над крышей соседнего дома смутно вырисовывался на том же кровавом фоне купол великана–собора с крестом на макушке. «Грустный символ, — подумал Николай, — не хватает еще только каркающего ворона».
Звякнула клямка калитки. Это пришел помощник командира дивизиона лейтенант Куличенко, как всегда подтянутый, энергичный, в летном шлеме. Выслушав доклад командира орудия, спросил:
— У тебя — порядок?
— Как в артиллерийских войсках, — улыбнулся Николай.
— Смотри в оба: сегодня фашист будет щупать нашу оборону. Разведчики видели в Черноярской много танков и бронетранспортеров. Вероятнее всего они в первую очередь попробуют на твоем участке. Не торопись, подпускай поближе, к самой горке и бей наверняка. Танки легкие: в основном. Т-3 и Т-2. Клепаные, с тонкой броней. Но все равно старайся — в днище. У тебя кто наводчик? Ах да, Бейсултанов. У него глаз острый. Помню, как по мишеням гвоздил на полигоне в Андреевской долине. Ну, ни пуха тебе ни пера. Провожать не надо, — с этими словами Куличенко растворился в предутренней синеве. «Пух–то бронированный» — пошутил про себя вслед лейтенанту командир «сорокопятки».
Невыносимо медленно карабкалось в тот день по крышам домов солнце. Еще медленнее взбиралось оно по сучьям старого тополя, что виднелся справа от собора и, казалось, тянулся изо всех сил кверху, чтобы сравняться с ним. Уже пролетела с запада на восток «рама», по появлению которой над городом можно было сверять часы. А немецкие танки все еще не показывались на пустыре, что отделяет станицу Луковскую от города Моздока.
— Вот так мы с батей, бывало, медведя в тайге караулили, — проговорил, сидя на станине пушки, ездовой Костя Савельев, он же первый и последний номер орудийной прислуги. Костя родом из Томска и поэтому при любом поводе старается подчеркнуть свою принадлежность к славному сибирскому племени. Рассказывая, он частенько пренебрегает достоверностью тех или иных событий, и когда слушатели ловят его с поличным, добродушно удивляется: «Неужто сбрехал?» и продолжает рассказ в другом варианте. Вот и сейчас Костя повествует друзьям, как охотился с отцом на медведя, а те слушают и дымят самокрутками: пусть его болтает, за разговором легче ждать немецкие танки, вроде делом заняты.
— Так вот, братцы мои, пошли мы как–то на засидку. Я — впереди с ружьями, батя сзади ковыляет, известно, старичок. Как говорится, укатали сивку крутые. горки. Плоховат старик стал, в чем душа держится. Вся надежда на меня. А я, надо сказать, был до войны не то, что сейчас — довел меня старшина перловой кашей до веселой жизни… Ну, значит, засели мы в овес. Сидим. Вот как сейчас, например. Ждем зверя. Кругом тайга и темнота первобытная. И не то чтоб страшно, а просто оторопь берет, как перед танковой атакой. Оно хоть и жаканы в стволах, а все ж не на зайца вышли, всяко может обернуться. До рассвета сидели, думали уже, что и не придет косолапый. А он на самой зорьке — здрасьте! Я ваш дядя. И давай овес сосать. Агромадный, паралик его расшиби, как моздокский собор, может, чуть меньше. Прицелился я в него, клац! — осечка. Что ты будешь делать! Шепчу бате: «Стреляй, а то уйдет!» Только какой с бати стрелок: глаз уж не тот да и руки трясутся — промазал.
— А медведь? — не выдерживает заряжающий Соснин.
— А медведь клыки ощерил и прет на меня, не то со страху, не то раненный. Ну, думаю, пропал. Делать нечего: размахнулся и прикладом ему промеж глаз. Он так и сел на задние лапы, а из глаз у него — искры. Хоть подходи и прикуривай. Тут батя подскочил, схватил его за шею, медведь и язык высунул. Батя же — сибиряк, у него ручищи — во! — рассказчик показал на разведенные в стороны орудийные станины. Глаза у него горели при этом так, что, казалось, из них вот–вот посыпятся, как у этого медведя, искры.
— Ты же говорил вначале, что отец у тебя старенький, руки от слабости дрожат, — заметил ему Ахмет.
— Разве? — удивился Костя. — Вот черт! А я и не заметил. Хотя что ж тут удивительного? Разве ты не знаешь, что в горячке у человека силы удесятеряются.
Все засмеялись.
— Тебя послушать, так на земле нет больше ничего путного, кроме Сибири, — заговорил Соснин, поглаживая затвор своего свирепого детища. — Все тайга да тайга, скучно даже. Ты бы побывал хоть раз у нас на Брянщине да закинул бы удочку в Десну–красавицу, да понюхал бы, как пахнет весной на ее берегу черемуха.
— Послушай, дорогой, — перебил Соснина Бейсултанов. — Ну что ты говоришь, сам не знаешь?! Ты в Кировобаде был? Персики видел? Инжир кушал? Ты сидел в подвальчике Юсупа Зарбалиева? Цэ, цэ! Вино у него во–от в такой бочке. Кран открыл — пей, пожалуйста, сколько хочешь. Столов там нет — все сидят за бочками. Стульев тоже нет — все сидят на бочонках. На столах вместо кружек — бочоночки. Сидишь на бочке перед бочкой и пьешь из бочки. Где ты такое найдешь в своей Брянщине? А какой шашлык жарят у Юсупа Зарбалиева — у–у–у! — прорычал он плотоядно и скрипнул зубами от полноты чувства.
— А правда, ребята, привезут нам сегодня кашу? — примкнул к разговору артиллеристов сидящий возле противотанкового ружья бронебойщик. — Может, немец до вечера наступать не будет.
— Да ведь сейчас часов пять, не больше, а ты уже о каше заговорил, — отозвался и его второй номер.
— А ну тише! — прервал разговор о каше командир орудия. — Кажется, гудит что–то.
Все умолкли, прислушались. Действительно, со стороны станицы доносился глухой рокот работающих двигателей. А вот и первый снаряд проскрежетал над головами и разорвался где–то в городе.
— Приготовиться к бою!
Неужели это на самом деле? Неужели вот сейчас покажутся из–за пригорка не фанерные мишени, а самые настоящие немецкие танки, которые будут не только двигаться, но и стрелять по ним, живым людям? Как–то не верилось этим необстрелянным парням, что час великого испытания для них наступил сегодня — 22 августа 1942 года. Совсем не по–военному светилась солнцем улица и отходящая от нее дугой дорога к станице. И совсем уж несообразно с ожидаемыми событиями ковыляли по ней гуси, направляясь с пригорка к протекающему в низине между пустырем и ГУТАПом ручью.
Между тем моторный гул нарастал. Вот уже сквозь него прорывается зловещий лязг гусениц. Хоть бы скорее! Николай почувствовал, как горячо вдруг сделалось шее. Рывком расстегнул ворот гимнастерки, неотрывным взглядом впился в лежащий перед ним пустырь с важно шествующим по нему стадом гусей. И хотя ждал с секунды на секунду появления танков, все равно вздрогнул сердцем при виде выползающей словно из–под земли грязно–серой башни с орудийным хоботом посредине.
— Зарядить бронебойным! — скомандовал он каким–то самому себе незнакомым голосом.
Соснин подхватил поданный Савельевым блестящий снаряд, точным движением послал его в казенник орудия. Сочно звякнул затвор. Наводчик, ухватившись за рукоятки подъемного и поворотного механизмов, втиснул правый глаз в резиновый обод прицела. Он увидел, как в обе стороны горизонтальной линии перекрестия шарахнулись из–под танка гуси. «Еще б чуть–чуть и задавил, паразит», — подумал Ахмет, подводя перекрестие под брюхо ползущего чудовища с черно–белым крестом на броневом панцире. Эге! Да их уже на пригорке целых три. Слева и справа от головного танка показалось еще по одной такой же камуфлированной уродине.
— По переднему танку, бронебойно–зажигательным, прямой наводкой…
Но Николай не успел договорить команду. Страшный взрыв заглушил его слова, от которого ощутимо вздрогнула земля и заметно покачнулся ведущий танк. Он словно с ходу наскочил на огромный дуб, с которым так схож оказался султан взорвавшейся противотанковой мины.
— Готов! — крикнул Соснин, с радостным изумлением глядя на клубы дыма и пыли, взвихрившиеся над покалеченным танком.
— Молодцы минеры! Угадали, куда подсунуть.
Ползущие за своим вожаком две другие машины тоже остановились с видом недоумевающих шакалов, один из которых вдруг ни с того ни с сего угодил лапой в капкан. Они угрожающе повели из стороны в сторону стволами пушек, будто вынюхивая виновника гибели своего предводителя.
— По правому танку — огонь! — скомандовал Николай.
Бейсултанов крутнул маховик, поймал в перекрестие прицела днище танка, рванул на себя рукоятку спуска. «Сорокопятка» свирепо тявкнула, и над танком закурился синий дымок.
— Ага, клепаная кастрюля! — торжествующе взмахнул кулаком Ахмет, снова приникая к наглазнице прицела и наводя орудие на очередной танк.
Из соседнего переулка залопотал ручной пулемет, там заметили выпрыгивающих из люка горящего танка членов экипажа.
— Огонь! — подавал команду Николай. — Огонь!
Пушка выстрелила раз и еще раз. Но тщетно: танк, дав задний ход, успел спрятаться за броню своего менее удачливого партнера. За нею же искали спасения от пулеметных очередей оставшиеся в живых танкисты.
— Что же ты, Ахмет? — упрекнул наводчика командир орудия.
— А что я, товарищ сержант? — развел руками Ахмет. — Ты же видишь, снаряд от него, как горох от стенки. Эх, мне бы гаубицу, я бы ему показал, на чем кишмиш растет.
— В брюхо надо бить.
— Ва! Что, я сам не знаю, да? Если б он встал на задние ноги, я б ему в брюхо стрелял. Гляди, гляди! Он из–за борта пушку высовывает, заметил нас, собака.
У Николая пробежал холодок по спине, когда он увидел черный зрачок вражеской пушки, уставившийся немигающим взглядом на их позицию. «Сейчас ударит!» — пронеслась последняя в его жизни мысль.
Мальчишки недолго сидели под кирпичным забором. Услышав ответную пушечную стрельбу, они решили, что это бьют по наступающему врагу их друзья–артиллеристы из ГУТАПа и что сидеть под чужим забором в такой исторический для Моздока час просто неразумно и даже подло. Когда же до их слуха донеслись пулеметные очереди и одиночные винтовочные хлопки, они не сговариваясь вскочили на ноги и побежали к Горьковской улице. Выглянули из–за угла — на ней ни единого живого существа. Собак и тех не видно. И люди, и животные попрятались, заслышав тяжелую поступь войны. Даже дома и времянки зажмурились от страха, чтобы не видеть этой незваной жестокой гостьи — сегодня хозяева не открыли в своих жилищах ставни.
Вот и знакомая калитка. Минька уже взялся за щеколду, когда внутри ГУТАПа так грохнуло, что зазвенело в ушах и закачалась земля под ногами.
— Ого! — только и мог выговорить Минька, невольно приседая, как тогда под забором. Австралия тоже присел, втянув голову в узкие, худые плечи. Так они сидели, пока где–то совсем рядом не взревел мотор.
— Танки, должно, — сказал Мишка, озираясь по сторонам. — А что если они сюда попрут?
— Во дворе спрячемся, — ответил Минька, выпрямляясь и снова берясь за щеколду.
Друзья на цыпочках, словно боясь кого–нибудь разбудить, прошли по двору к распахнутой настежь двери конторы, из которой валила клубами синеватая, страшно вонючая пыль, и остановились, пораженные. У самого порога лежал, скорчившись, как от колик в животе, Костя Савельев. Он не шевелился. Из–под ремня у него растекалась по грязному полу бордовая лужа.
У мальчишек перехватило дыхание. Еще не разглядев в пылевом тумане своих друзей–десантников, они уже поняли, что здесь произошло страшное и непоправимое. Пушка валяется на боку. Возле нее, запрокинув голову за станину, лежит наводчик Ахмет Бейсултанов. У него нет одного сапога, а гимнастерка вся в кровавых клочьях. Не сразу дошло до детского сознания, что сапога нет вместе с ногою, а гимнастерка искромсана осколками от снаряда.
— Они убитые! — крикнул Минька, склоняясь над растерзанным телом азербайджанца. — Дядя Ахмет! — схватил он его за плечи. Почувствовав под ладонью теплое, взглянул на нее с ужасом: ладонь была красная, словно в калиновом соку.
— Дядя Ахмет! — со слезами в голосе повторил Минька, вытирая ладонь о собственные штаны и окидывая помещение взглядом затравленного зайчонка. Кругом мертвые! Ни одного человека — живого. Да как же это так? Давно ли он ел с ними кашу, помогал рыть вон ту траншею, а сегодня… Где же командир орудия Николай? Лежит на дне траншеи у самой стены. На нем — осыпавшиеся куски глины и пустая гильза от пэтээра. Тут же сидит второй номер бронебойщик, уткнувшись каской в стенку окопа. Со стороны посмотреть — спит человек, сморенный усталостью.
Минька поднялся с корточек, обойдя убитого наводчика, заглянул в стенной пролом: на пустыре, за садами горел немецкий танк, слева от него стояло друг за другом еще два танка, между ними мелькали человеческие фигуры в сером.
— На буксир берут, — задышал Миньке в ухо Австралия. — Видишь, у него бок разворочен. Крепко ему влепили наши.
Сзади хрипло запищало. Мальчишки оглянулись — это пищал телефон. Снова обойдя убитого артиллериста, ребята наклонились над телефонным ящиком. Минька боязливо вынул трубку из ладони сраженного осколком связиста, приложил к уху.
— «Фиалка», «Фиалка», я — «Кипарис»! — кричал в ней чей–то встревоженный голос. — Почему молчишь? Что случилось?
Минька посмотрел на своего дружка, потом на лежащих вокруг орудия артиллеристов, с трудом сдерживая слезы, ответил в трубку:
— Всех поубивало.
— Что? Кого поубивало? Кто говорит? — всполошилась трубка.
— Я говорю, Минька.
— Какой еще к черту Минька?
— Калашников. Мы тут с Мишкой–Австралией, с Луковской улицы пацаны.
— Гм… Почему молчит орудие?
— Оно на боку валяется.
— А пэтээр?
— Их тоже поубивало.
— А немецкие танки где?
— Вон там, на пустыре, возле станицы. Один горит и другой с разбитыми колесами.
— Подожди, я сейчас… — голос в трубке умолкнул.
Минька еще некоторое время подержал ее, затем положил на обтянутую блестящей кожей коробку. В голове у него стоял невообразимый ералаш. Вокруг валяются трупы вчера еще улыбавшихся людей. За дорогой — фашистские танки. Это они убили его взрослых друзей. Эх, жаль, что пушка лежит на боку, а то бы он саданул из нее по проклятому фрицу. Ведь они с Мишкой знают, как из нее стрелять. Вон и снаряды лежат под полом в ровике.
Откуда–то слева зататакал наш пулемет. Мальчики выглянули в пролом. Так и есть: оставшийся невредимым танк потащил за собой на буксире своего подбитого сообщника.
— Мишка! — крикнул осененный внезапной мыслью Минька, — бей фашиста из ружья!
Тут только и Мишка заметил, что противотанковое ружье стоит на. прежнем месте, просунув в бойницу длинный с набалдашником хобот.
Спрыгнув в окопную щель так, чтобы не наступить на убитых бронебойщиков, Австралия уперся худым плечом в железный упор ружья, поймал прицелом пятнистое тело уползающего за бугор танка и нажал на спусковой крючок. Ружье оглушительно бабахнуло и швырнуло неопытного стрелка спиной о стенку окопа. Ну и отдача! Это не в тире из мелкокалиберки. Мишка потер ушибленное плечо, снова приник к бойнице: танк как ни в чем не бывало уходил за линию горизонта.
— А ну дай я! — Минька спрыгнул в окоп к товарищу. Но выстрелить по вражеской машине ему не удалось. Сзади раздался топот множества ног и, оглянувшись, Минька увидел, как в распахнутую дверь ГУТАПа вбегают десантники и вместе с ними тот самый командир, которого наводчик Ахмет называл старшим политруком Левицким.
— Добровольцы? — сказал он без удивления в голосе, подходя по изрубленному полу к окопу, в котором стояли за противотанковым ружьем наши юные друзья. — Как вы сюда попали?!
Ребята молча вылезли из окопа. Минька хотел что–то ответить, но, взглянув на запрокинутое за станину пушки тело Ахмета, судорожно всхлипнул и ткнулся круглой стриженой головой в грудь старшему политруку.
Глава восьмая
Григорий Дулаев, инструктор Моздокского райкома партии, только что вышел из дому, когда к нему подлетел на бричке сотрудник районной милиции Евстратов.
— А я тебя по всему городу ищу! — крикнул он, натягивая вожжи поводящему боками мерину. — Уже все смотались. Остался ты да Сухоруков — на кирпичном заводе застрял.
— Надо бы хоть шинель захватить, — неуверенно проговорил Дулаев, поворачиваясь к калитке.
— Да на кой она тебе сдалась в такую жарищу. Садись скорей, а то немцы того и гляди все дороги перекроют. Слышишь, гремит как?
Дулаев сел в бричку, махнул рукой: шут с ней, с шинелью, в бурунах для партизан и провиант, и одежда заготовлены. Ему пора быть на месте базирования отряда, да вот задержался, помогая левобережным колхозам организовать эвакуацию скота и имущества.
Около железнодорожного вокзала бричку остановили.
— Не в ту сторону направился, кунак, — подошел к Дулаеву высокий, стройный, огненно–рыжий осетин в летной форме и, приложив руку к фуражке, представился: — Гвардии старший лейтенант Дзусов. Прошу предъявить документы.
— Нам только на кирпичный завод заскочить, — взмолился Дулаев, выкатив на военного земляка голубые, как его петлица, глаза и протягивая ему райкомовский мандат. — Захватим нашего человека и через Колубашев — в буруны.
— Если вас самих не захватят фрицы, — давай, ма халар [1], дуй скорей отсюда через Веселый хутор, и пусть у твоего коня вырастут крылья.
— Да нам только на одну минутку, — не унимался Дулаев. — Пропусти, прошу тебя.
— Воллахи! — всплеснул руками старший лейтенант в притворном возмущении. — Этому человеку, по–видимому, надоело жить. Скажи им, — повернулся он к своему ординарцу, — о чем нам доложили разведчики десять минут назад.
— Немецкие танки приближаются к городу со стороны Русского хутора, товарищ гвардии старший лейтенант, — отчеканил тот.
— Слыхали? — нахмурился Дзусов. — Ну, прощайте, товарищи, да будет вам в пути покровителем сам Уастырджи. А мне на позицию пора, — с этими словами военный пожал руки штатским и широко зашагал через железнодорожные пути к кладбищу, где зарылись в землю десантники 9‑й роты.
— А кто такой Уастырджи? — спросил Евстратов, поворачивая коня в обратном направлении.
— Осетинский святой, наподобие вашего Георгия–Победоносца, — ответил Дулаев. — Конь у него о трех ногах.
— Надо же, — покрутил головой Евстратов. — Наш на четырех и то спотыкается. Но ты, зануда! Ходи веселей, пока тебя немцы и вовсе без ног не оставили.
В небе показались немецкие бомбардировщики. Они сделали круг над городом и стали с ревом пикировать на элеватор. Из него повалил дым. Евстратов вжал голову в плечи и энергичнее прежнего заработал кнутом над крупом и без того несущегося во весь дух мерина. Проскочив между болотом и окраиной города, бричка свернула к Ильинскому кладбищу и понеслась мимо него к Дурному переезду.
Вот и шлагбаум с будкой обходчика. Тарахтя колесами, бричка перелетела через железнодорожный путь и круто свернула по дороге вправо вдоль насыпи. В тот же миг слева, из фруктового сада злобно протявкал пулемет, и Дулаев почувствовал, как что–то горячее ударило его в правую ногу.
— Немцы! — крикнул Евстратов и, спрыгнув с брички, метнулся вихрем через спасительную насыпь. Никем не сдерживаемая, обезумевшая от страха лошадь понеслась галопом по дороге навстречу пулеметному треску.
Неужто конец? Дулаев оттолкнулся здоровой ногой от днища брички, перевалившись через борт, кувыркнулся в дорожный кювет. Лошадь помчалась дальше, а человек в горячке хотел было вскочить на ноги, но тут же снова упал, пронзенный жгучей болью и насмешливым взглядом танкиста, высунувшегося по пояс из люка танка и целящегося в него, Дулаева, из пистолета, словно он был мишенью в тире. Хлопнули один за другим выстрелы. К счастью — мимо. Неважном стрелком оказался немец. «Я бы не промахнулся с тридцати шагов», — подумал Дулаев, притворяясь убитым и замирая всем своим существом в ожидании очередных выстрелов. Но танкист не стал больше стрелять, а, спрятав пистолет в кобуру, сам спрятался под крышкой люка.
Приоткрыв глаз, раненый видел, как танк медленно повернул башню влево вдоль насыпи, откуда все явственней доносился грохот орудийной пальбы и рев крутящихся в небе самолетов. «Поезд бомбят», — определил Дулаев, делая попытку незаметно всползти на насыпь. Кажется, танкисты не видят его движений, ибо пулемет молчит. Пядь за пядью добрался до первого рельса. Обжигаясь о раскаленное солнцем железо, всполз на рельс. Одуряюще пахнет креозотом. Только бы не потерять сознание, а то приближающийся поезд разрежет надвое, как сосиску. Еще усилие, еще… Вот уже преодолен второй рельс. Слышно, как в нем отдается стук колес. Осталось перетащить через него перебитую пулей ногу. Соскальзывая с рельса, она становится торчком, и в это мгновенье пулеметная очередь пронизывает ее еще двумя пулями. Глаза застлал кровавый туман. Последним усилием крутнулся с насыпи вниз и лишился чувств.
* * *
Жара стояла в тот день в воздухе. Но куда жарче было в боевой рубке бронепоезда.
— Если бы налить в этот раскаленный бак воды, из нас бы с тобой добрая уха получилась, — пошутил второй номер пулеметчик Володя Забавин, распахивая мокрый от пота комбинезон и подставляя голую грудь встречной струе воздуха. — Сейчас бы в Терек нырнуть. Слышишь, Игорь? Я ведь родом из здешних мест, казак, одним словом. Вон видишь, хаты белеются? Это станица Стодеревская. От нее до Моздока верст двадцать, не больше. А ты не знаешь, чего нас от Ищерской на Моздок двинули?
— Массовое гуляние намечается в городе, — ухмыльнулся в ответ первый номер пулеметчик Игорь Малыгин, покачиваясь у клепаного борта в такт колесному перестуку. — Моздокские девчата нашему командиру телеграмму отбили, чтоб ребят на праздник привез. «Главное, — пишут, — не забудьте рыжего казака Володьку прихватить». Вот и торопимся…
— Да ну тебя, — засмеялся Володька, поправляя на поясе тяжелый маузер. — Видать, гулять придется с немецкими танками. Будем обмениваться с ними, так сказать, воздушными поцелуями.
Малыгин не ответил. Упомянув про командира бронепоезда, он почему–то вспомнил первую с ним встречу на станции Поныри.
— А кто ты такой? — спросил тогда его капитан Бородавко. Он — пожилой, крупный телом, с черными усами на круглом лице.
— Малыгин Игорь. Из Курска. Комсомолец. Хочу воевать на вашем бронепоезде, — поспешно ответил доброволец, с надеждой глядя круглыми карими глазами на усы командира.
— Губа у тебя, парень, не дура, — усмехнулся командир, переглянувшись со своим комиссаром.
— А что ты умеешь делать?
— Снаряды подносить.
— Гм… не очень–то много. Сколько тебе лет?
— Семнадцать. — Боясь, что ему откажут в службе на бронепоезде, Игорь стал горячо доказывать, дескать, он в два счета изучит и пулемет, и пушку, и все что угодно. Его поддержал убеленный сединами комиссар:
— Парень вроде хороший. Давай возьмем.
Капитан вздохнул и согласился. Видно, всколыхнулась в памяти собственная молодость, промчавшаяся вот в таком же бронепоезде по рельсам гражданской войны.
«Да–вай возь–мем! Да–вай возь–мем!» — выговаривают колеса под днищем платформы в унисон с мыслями юноши. Игорь потянулся, взглянул в небо. Оно сизое от жары. В нем одиноко парит не то орел, не то коршун. «Ему что война, что нет», — подумал юный пулеметчик и вдруг увидел рядом с коршуном пару желтобрюхих стервятников.
— Воздух! — крикнул он что есть силы и ухватился за ручки турельной установки спаренных «максимов». Тотчас стук колес потонул в грохоте пушечных выстрелов и трескотне зенитных пулеметов. Казалось, небо не выдержало солнечного накала и взорвалось подобно паровому котлу от избытка внутреннего давления. В этой невообразимой кутерьме, когда вражеские самолеты с методической очередностью пикировали на несущийся на всех парах бронепоезд, никто из экипажа не заметил, как замаскированный ветками в саду моздокского предместья немецкий танк поднял над плетневой оградой смертоносное жало своего орудия и плюнул огнем в зеленый панцирь паровоза.
К моздокскому вокзалу бронепоезд дотянулся по инерции.
— Ах, черт! — выругался машинист–грузин, выскакивая из люка и заглядывая в рваную дыру на броневой обшивке паровоза. — Тягу разворотило.
Окруженный подчиненными, подошел к паровозу командир бронепоезда.
— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил он у машиниста.
— Почему нельзя? До вечера сделаем, чтоб так ударило по голове его папу, — пожелал разгневанный грузин коварному немцу и плюнул в пробоину.
Командир помрачнел: что ты будешь делать! Там, под Прохладным, ждут их помощи прижатые к реке три наши пехотные дивизии, а они не могут сдвинуться с места.
— В самый раз приехали, — услышал он чей–то с кавказским акцентом радостный голос и оглянулся. Широко шагая через рельсы, к бронепоезду направлялся саженного роста молодой летчик с каской на голове.
— Теперь нам клейсты не страшны, — улыбнулся военный в летной форме и, безошибочно определив командира бронепоезда, отдал ему честь. — Командир роты гвардии старший лейтенант Дзусов, — представился он молодцевато.
Бородавко пожал руку. Продолжая хмуриться, ворчливо спросил:
— Чему радуешься, старлей?
Дзусов улыбнулся еще шире.
— Вашему приезду, дорогой. Ведь у меня в роте… — он наклонился к уху капитана, — кроме пэтээров и бутылок с КС ни шиша за душой, а на мои позиции прет целый танковый корпус. Да мы же теперь у вас, как у Христа за пазухой. Если патроны нужны, берите, пожалуйста, сколько хотите — вон они навалены у пакгауза. Только чуть–чуть продвинь свою крепость вперед к семафору, оттуда вам будет удобнее бить но фашистам.
— За патроны спасибо, — проворчал капитан отводя от радостного комроты угрюмые глаза, — но… нас в другом месте ждут.
У Дзусова погасла улыбка на его горбоносом, с раздвоенным подбородком лице.
— В каком еще месте? Тут вот и есть то самое место. Утром уже побывали у нас гости. Видишь, стоит один, подбитый?
— У меня приказ: поддержать отступающие соединения под Прохладным.
— Воллахи! Какой там Прохладный, когда здесь скоро жарко будет. Немцы заняли Павлодольскую, а он в Прохладный собирается, — удивился Дзусов. — Становись у семафора. Моздок надо защищать, а не Прохладный. С часу на час с Русского хутора попрут на нас танки. Я ведь русским языком говорю, с разведкой противника сегодня бой вел.
— Не могу, — вздохнул командир бронепоезда. — Приказ есть приказ. Малыгин! — позвал он стоящего неподалеку с группой бойцов юного пулеметчика. — Запасись патронами для своей турели и всем остальным передай. Не обессудь, старшой, — повернулся вновь к горячему осетину. — И рад бы помочь, да у самого штаны трещат по всем швам. Вот паровоз вышел из строя…
— Прощай, капитан, — ответил погрустневший комроты. — Желаю успеха. А паровоз вон там за вагонами стоит, теплый еще… Ребята мои к нему за кипятком бегают.
Это был несуразный с виду состав: спереди и сзади зеленые бронированные вагоны, а посредине — обычный черный паровоз. Но в то горячее время, когда на станции рвались подожженные авиацией противника цистерны с горючим, а за кладбищем гвардейцы 9‑й роты ожидали повторную атаку танков генерала Вестгофена, никто не обратил внимания на такой диссонанс. Натужно пыхтя, ничем не защищенный паровозик потащил бронированную громаду на выручку пехоты, заведомо зная, что назад уже пути не будет…
Бронепоезд успел отойти за черту города всего лишь на полтора километра, за полосатую будку путевого обходчика.
— Смотри, Игорь! — крикнул второй номер пулеметчик своему командиру, показывая на лощину, по которой двигалось наискосок к железнодорожному полотну множество зеленых коробок. Малыгина — словно магнитом притянуло к ручкам пулеметной установки. Он рывком бросил ее в горизонтальное положение. Но откуда–то налетели вновь самолеты, засвистели бомбы, и Игорь перенес огонь пулеметов в небо. Бой разгорался не на шутку. «Юнкерсы» пикировали один за другим, не давая ни минуты передышки. Игорь не успевал проводить очередью один, как уже нужно было встречать другой. Поезд остановился. Пробитый снарядами паровоз свистел во все стороны горячим паром. Но и танкам не поздоровилось в эти первые минуты боя. Они вспыхивали и кружились на месте, словно облитые керосином крысы.
— Ага! Это вам не у Проньки! — кричал в азарте Игорь, перенося огонь спарки с самолета на спрыгивающих с танков и бегущих по полю автоматчиков.
— Один, два… пять… десять! — считал вслух Володя Забавин горящие машины врага, подавая ленты с патронами, в то время как бронепоезд № 20 доживал свои последние минуты. Уже переломилась от прямого попадания бомбы станина одной из платформ, осев на полотно дороги. Зловещим факелом полыхает закрепленная в тендере паровоза цистерна с мазутом. На 2‑й бронеплощадке пылает живым костром облитый мазутом расчет зенитной счетверенной установки вместе с командиром своим Александром Авертьяновым, уроженцем города Тбилиси. И сам бронепоезд весь в огне и дыму, хотя продолжает еще разить наступающие танки.
Все меньше остается в вагонах целых отсеков. Перед глазами у Игоря сплошные фонтаны из песка и гравия. Над головой дикий вой самолетов. Во рту кисло от нестерпимого грохота.
— Прыгай! — донесся сквозь него истошный голос заряжающего, — а то расшибет сейчас.
Игорь перехватил горячечный взгляд товарища: к их поезду несся на всех парах тоже окутанный дымом 19‑й так называемый легкий бронепоезд, оставленный капитаном Бородавко в станице Ищерской. «Ослеп он, что ли?» — мелькнуло в сознании. Он протянул руку вверх, чтобы поправить прицел и тотчас уронил ее, пробитую пулей. В следующую секунду, выброшенный чудовищным толчком в открытую Забавиным дверь, он ткнулся головой в песок и без сознания покатился по крутой насыпи.
* * *
Они встретятся через тридцать три года в Моздокском краеведческом музее, два ветерана Великой Отечественной войны: старший инженер Белгородского витаминного комбината Игорь Алексеевич Малыгин и заведующий отделом моздокского райпромбыткомбината Григорий Николаевич Дулаев, пролившие свою кровь в один и тот же день на одной и той же насыпи. Один — на восточной окраине Моздока, другой — с западной его стороны.
* * *
Евстратов добрался в партизанский отряд к вечеру. Одурев от жажды и долгой езды на костлявой хребтине брошенной кем–то в степи лошаденки, он ввалился в кошару и первым долгом попросил у сидящих на рештаках партизан воды.
— А где Дулаев? — подошел к нему командир отряда Павел Близнюк.
— Убили Гришу… — отрываясь от ведра с водой, поданного ему Ниной Сухоруковой, ответил Евстратов. — Из пулемета… с немецкого танка.
Отряд еще не сформировался по–настоящему, а уже потери. Все столпились вокруг Евстратова. Посуровев лицами, требовали подробностей о гибели товарища.
— Почтим память нашего боевого друга минутой молчания, — снял с головы фуражку комиссар отряда Григорий Асмоловский и обвел долгим взглядом боевых соратников. Двадцать пять человек вместе с командиром Близнюком и начальником штаба Поповым Василием. Горсточка патриотов, собравшихся в овечьем хлеву на семи ветрах, чтобы отсюда начать неравную борьбу с немецкими захватчиками. В голой, как ладонь, степи. Без дров, без воды, без спасительных катакомб и лесных зарослей.
— Товарищи! — снова заговорил Асмоловский, вынимая из планшетки газету и разворачивая ее. — Я вам зачитаю сейчас Обращение участников антифашистского митинга, состоявшегося на днях в городе Орджоникидзе. Слушайте… «Пусть солнце не светит над нами, пусть света не увидеть нам, пусть позор падет на нас, если мы пустим проклятого немца на Кавказ. Вспомните слова великого сына осетинского народа Коста Хетагурова: «Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом рабами деспоту служить…»
Асмоловский потряс газетой в воздухе:
— Вот какой клятвой встречают врага горцы. Давайте же и мы, дорогие соратники, поклянемся в верности своей Отчизне, примем нашу партизанскую присягу. Повторяйте за мной: «Клянусь быть бесстрашным в борьбе с немецкими оккупантами и изменниками Родины…
Партизаны хором подхватили начало клятвы.
— …А если потребуется, не пощажу своей жизни во имя Родины, — продолжал Асмоловский.
— Не пощажу жизни… — отдалось эхом под сводами овечьего жилья.
Комиссар спрятал газету в планшетку.
— Предлагаю, — сказал он торжественным голосом, — дать название нашему отряду — «Терек». Согласны?
— Согласны!
* * *
Дулаев очнулся и сразу вспомнил все, что с ним произошло. Шевельнул раненой ногой и едва не вскрикнул от боли. «Изойду кровью», — подумал в отчаяньи. Окинул глазами пространство вокруг себя — пусто. До ближней хаты метров триста, а то и больше. Далеко, но надо доползти, в ней должны быть люди. Поволок изувеченную ногу по зарослям чертополоха. В глазах — кровавые петухи, в ушах — звон.
— Эй, хозяева! — крикнул, подползая к порогу.
Ни звука в ответ. «Попрятались», — понял раненый, холодея от страха и потери крови. Из последних сил приподнялся над порогом, ударил кулаком в дверь. Никто не отозвался на стук. Надо бы снять сапог, перевязать чем–нибудь рану. «Совсем ведь новые сапоги», — подумал он некстати, видя, как в пулевые отверстия на голенище булькает кровь. Попробуй сними, если в нормальном состоянии приходилось их снимать с помощью порога или жены. И разрезать нечем. Он снова огляделся по сторонам: хоть бы один человек показался на улице. Собравшись с силами, пополз к соседней хате. И в этот критический момент услышал сквозь звон в ушах урчание автомобильного мотора — переполненный военными грузовичок подпрыгивал на ухабистой дороге, спеша к железнодорожному переезду.
— Стойте! — крикнул Дулаев, как можно выше поднимая из бурьяна всклокоченную голову. Но грузовик пропылил мимо, не обратив на человеческий крик никакого внимания.
— Стойте! — опять крикнул Дулаев, вставая на одно колено и махая рукой. — Там — немецкие танки!
Автомашина продолжала двигаться в прежнем направлении. Тут только раненый вспомнил, что у него есть револьвер. Выхватил его из кармана галифе, выстрелил в небо несколько раз подряд. Теряя сознание, успел заметить у бегущих к нему красноармейцев голубые петлицы на воротниках гимнастерок…
* * *
— Хотите взять на память?
Дулаев повернул голову: рядом с его койкой стоит грузный дядя в белом халате и что–то протягивает ему на большой пухлой ладони. Это военврач Фидельман, который сделал ему операцию и теперь довольно улыбается, словно художник, положивший последний мазок на законченную картину.
— Вы знаете, у вас чудесный перелом голени, — сообщает он своему бледному до синевы пациенту.
Дулаев озадачен: смеется он, что ли, этот толстяк? Перелом ведь не ария из оперы, что в нем может быть чудесного?
— Нога цела? — спросил угрюмо.
— Он еще спрашивает! — вскинул к лысине черные полудужья бровей Фидельман. — Я разве затем ковырялся целых два часа в этом крошеве, чтобы мне задавали такой вопрос? Вы еще будете плясать у себя на свадьбе, молодой человек.
— Я уже женат, доктор, — повеселел Дулаев, вытягивая шею, чтобы посмотреть на забинтованную ногу, к которой через укрепленный на дужке кровати блок подвешен на веревке артиллерийский снаряд 120‑го калибра.
— Пхе! И куда только торопятся люди? Такой молодой и уже обзавелся семьей, — покачал головой с шутливой укоризной Фидельман и вложил в руку больного немецкую пулю от крупнокалиберного пулемета. — На свадьбе у своего сына будете плясать, если до той поры не словите, упаси вас бог, вот такую болванку в голову.
— А где я нахожусь, доктор?
— В станице Вознесенской. В медсанроте 8‑й отдельной гвардейской бригады. Какие еще будут вопросы?
— Что в Моздоке?
Фидельман посерьезнел.
— Не завидую я тем, кто сейчас в нем находится. Там такие бои, что хуже нет. Особенно в роте Дзусова.
— Дзусов — это рыжий такой, высокий?
— Он–таки и есть, чтоб ему живому остаться. Веселый человек и сильный, как Самсон. Пять танков уничтожила его рота. И восьмая рота пять не то больше подожгла. Там такое было, такое было… Вы комиссара Амбарцумяна знаете? Хотя, откуда же вы его должны знать… Давече привезли сюда командира батальона Коваленко — вы его тоже не знаете — так он рассказывал, какой подвиг совершили гвардейцы 8-ой роты. Вот она вам расскажет… Расскажи, Валечка, своему соседу о том, как сражаются с фашистами наши гвардейцы, — обратился врач к раненной в голову девушке, у которой из марлевой повязки виднелись только нос да глаза, — а я пойду в операционную, там еще одного привезли.
Глава девятая
Мать жестоко надрала Миньке уши после того, как атака немецких танков на луковском пустыре была отбита десантниками. Но разве женщины смыслят что–нибудь в военном деле? Хорошо Мишке–Австралии: его забрал все–таки Левицкий в бригаду. Вчера прибегал из Предмостного хвастаться синей пилоткой и кирзовыми сапогами. Фу–ты, ну–ты, я не я — гвардии рядовой! Нос задрал выше Успенского собора. Да и как не задирать? Он теперь фронтовик, защитник Родины, а не просто пацан. Ему пообещали дать настоящую боевую винтовку и гвардейский значок, если не врет, конечно.
Минька вздохнул: повезло человеку, родился на три года раньше его.
Во двор забежала соседка.
— Слыхала, Нюр, какие страсти нонче творились на станции? — набросилась с ходу на Минькину мать. — Там, говорят, весь день ихние танки на наших лезли. Они в красноармейцев — снарядами, а красноармейцы в них — бутылками. Вот уж не думала, что энтой посудиной можно от танков обороняться. Должно, с керосином они. Дед Макковей давеча сказывал, танки от них горят неначе спички.
— Не керосин, а самовоспламеняющаяся смесь, КС называется, — поправил соседку Минька, подкладывая сухое поленце в летнюю печку, на которой варился ужин.
— Молчал бы лучше, грамотей, — обернулась к нему мать. — Вот еще раз отлучись без спросу, всю шкуру спущу отцовским ремнем, так и знай.
Вот и объясняй им после этого. Минька отвернулся от разговаривающих женщин, презрительно шмыгнул носом.
— На Ярмарочной площади наши танков набили немецких — страсть! — продолжала делиться свежими новостями соседка. — А еще дед Макковей сказывал: в степе за станцией наш бронепоезд полдня сражался с танками. Танок целая тыща, а он — один. Набросились они на него, ровно волки на кабана, в клочья порвали. Никто в живых не остался, всех поубивало в том бою. Охо–хо! Грехи наши тяжкие. Что–то с нами будет? Сёдни цельный день в ямине просидела. Должно, и завтра сидеть придется…
Кому придется, а кому и нет. Там на путях разбитый бронепоезд стоит, а он тут с бабами картошку варит. Минька поднялся с деревянного обрубка, направился к калитке.
— Куда это? — насторожилась мать.
— Да к Лешке…
— Я тебе дам Лешку, — погрозила мать кулаком, — А ну сядь на место!
— Да ведь тихо на улице, — проворчал Минька, возвращаясь к печке. Снова уселся на дубовый чурбак, мучительно соображая, каким образом вырваться из–под родительской стражи. Ну конечно же только так: зайти в хату, через летнюю половину пробраться в коровий хлев, а через него в огород — и ищи ветра в поле. Как он не сообразил сразу?
Спустя немного времени он уже бежал по луковскому пустырю к дымящемуся вдали бронепоезду. Кругом было тихо. Заходящее солнце близоруко всматривалось в растерзанную снарядами кукурузу, пытаясь осмыслить, что это здесь делали люди?
Чем ближе к железной дороге, тем больше на земле воронок. Одни побольше, другие поменьше — как кратеры на поверхности луны в учебнике географии. А вот рядом с воронкой убитый красноармеец лежит. На рыжей гимнастерке целый ворох земли, и по ней муравьи бегают. Рядом валяется лошадь, тоже мертвая. Наверное, верхом ехал.
Минька в страхе отвел глаза. В груди сжалось сердце: вот так же неподвижно лежали в ГУТАПе его друзья артиллеристы. Не вернуться ли назад? Что, если немцы где–нибудь поблизости? Минька остановился, осмотрел из–под ладони окрестность: по–прежнему нигде ничего не видно. Только поднимается дым над горящим элеватором, да еще три–четыре дымка виднеются в самом городе. «Плохо все же без Австралии!» — вздохнул мальчишка и снова устремился к бронепоезду.
Он действительно стоял неподалеку от будки обходчика, чудом уцелевшей во время боя. Железнодорожная насыпь вся изрыта снарядами и бомбами. На ней, что говорится, нет живого места. Кругом чадят какие–то ящики. Чадят и сами вагоны или что–то внутри их. Под откосом валяются обломки бронеотсеков, снарядные гильзы и трупы людей в комбинезонах. Они полузасыпаны песком и гравием.
Минька с замирающим от страха сердцем подошел к крайней платформе, встав на подножку, заглянул в распахнутую дверь.
— Тебе чего здесь надо? — услышал он сбоку недовольный голос.
Минька вздрогнул и кубарем покатился с насыпи — так жутко прозвучал живой человеческий голос среди дымящихся обломков и мертвецов. Когда поднялся на ноги, увидел перед собой двоих незнакомых ребят.
— Проваливай отсюда, — сказал один из них, рослый, с темнорусыми вихрами на голове. — Это наш бронепоезд.
Минька исподлобья оглядел незнакомцев: один, примерно одного с ним возраста, другой — помоложе.
— Ты его купил, да? — спросил с вызовом и снова пожалел, что нет рядом Австралии.
— Не твое дело, — надвинулся грудью к нему тот, что постарше. — Сказано, наш — и весь разговор.
— Танки, небось, тоже ваши? — прищурился Минька, показывая рукой на подбитые немецкие танки, которые только сейчас увидел по ту сторону насыпи.
— Наши, — кивнул вихрастой головой незнакомец. — Вот осмотрим бронепоезд и за танки примемся.
— А если немцы нагрянут?
Вихрастый присвистнул и с выражением превосходства на лице взглянул на чужого мальчишку:
— Они теперь до утра дрыхнуть будут.
— Почем ты знаешь?
— Да уж знаю. Они и вчера также: время ужина подошло — шабаш войне. Тебя как зовут?
— Минькой, Мишкой, то есть. А тебя?
— Меня — Колькой, — голос у вихрастого заметно подобрел, — а это Петька. Мы с ним видели вчера, как десантник гранатой танк подбил возле кирпичного завода, понял?
Минька усмехнулся:
— Я по танку из пэтээра стрелял и то не хвастаюсь.
— Брешешь? — вылупил глаза Колька.
— Брешет кобель и кривой Максим, да ты вместе с ним. Век свободы не видать, — побожился Минька и, чиркнув большим пальцем руки у себя под подбородком, ткнул остальными себе в глаза.
Клятва подействовала. «Хозяева» бронепоезда с невольным уважением посмотрели на чужака: такого можно принять в компанию.
— Мы тут, думаешь, просто так, да? — задышал Миньке в лицо Колька. — Мы оружие собираем и носим в кукурузу. Уже три винтовки спрятали и ручной пулемет с диском. Как стемнеет, перетащим домой. Хочешь с нами?
— Хочу, — согласился Минька. — А для чего вам, пацаны, так много винтовок?
— Да разве ж это много? Ведь нас только с кирпичного завода восемь гавриков. Каждому по винтовке — восемь штук понадобится. А еще на станции сколько ребят, да в поселке…
— Что ж вы будете с ними делать? — снова спросил Минька.
— Вот чудак! — изумился Колька недогадливости нового приятеля. — Если немцы возьмут Моздок, мы все в лес уйдем, партизанить начнем. Если хочешь, возьму тебя в отряд начальником штаба. Расписываться по–взрослому умеешь?
— Плохо, — признался Минька. — У меня вообще почерк дрянь.
— Ничего, научишься, — ободрил его будущий командир отряда. — Ну, пошли искать, пока не стемнело.
Вот ведь как в жизни случается иногда: еще минуту назад был рядовым мальчишкой—и вдруг в начальники попал. Минька шел по железнодорожной насыпи, прощупывая глазами и пальцами ног взрытый бомбами песок, и думал о превратностях судьбы. Он представил себе, как вытянется у Австралии конопатый нос, когда увидит его, Миньку, с винтовкой в руке и красным бантом на груди. Теперь, когда он очутился в компании таких же сорванцов, каким был сам, ему уже не было страшно среди этого дымящегося вороха обломков? Мысль работала только в одном направлении: найти побольше боеприпасов для будущего отряда имени Гайдара, как единогласно решили его назвать юные патриоты.
— С красным пояском нашел и черной головкой! — крикнул Петька, поднимая над своей белой головой бронебойный патрон.
— А у меня целая обойма! — прокричал в ответ Колька. — Глядите, пацаны, мина торчит, не разорвалась почему–то.
— Не трогай, ну ее к черту! — схватил его за руку Минька. — Давайте лучше пошарим в танках, а то здесь уже ничего нет.
Через развороченную снарядом коробку паровоза ребята перебрались на другую сторону насыпи, но не успели отойти от нее и на десять шагов, как до их слуха донесся слабый стон. Ребята переглянулись: кто это? С колотящимися сердцами подошли к куче искореженного металла. Из–под него торчит засыпанный песком сапог. Раненый! Наш боец стонет под обломками. Втроем приподняли согнутый углом клепаный лист брони, отволокли в сторону. Под ним — серое от пыли лицо. На лице шевелятся запекшиеся губы:
— Пить…
Где ты ее возьмешь, воду? Может быть, в будке обходчика?
— А ну, Петька, смотайся, — скомандовал Колька белобрысому дружку.
Раненый открыл глаза, сморщился, словно собрался заплакать.
— Кто вы? — спросил он чуть слышно.
— Свои, дяденька, — наклонились над ним ребята. — Вы куда ранены?
— Не знаю… воды…
— Сейчас Петька принесет. Потерпите чуток, дяденька.
По лицу раненого пробежала легкая тень улыбки:
— Какой я вам дяденька? Мне самому только семнадцать… Ну–ка, помогите подняться… Ой, потише! — красноармеец ухватил себя за левую руку. — Теперь вспомнил: это ж меня шлепнуло, когда прицел поправлял. А где наши?
— Здесь никого нет, одни убитые. Пойдем скорей к нам, там моя мамка тебя перевяжет, — предложил Колька.
Раненый с помощью ребят поднялся на дрожащие от слабости ноги.
— А далеко отсюда до твоей мамки? — спросил у Кольки.
— Не дюже. Вон в этом поселке.
— А может, там немцы?
— Не. Они после боя снова в степь уехали на своих танках.
— Тогда ведите меня.
Вернулся из будки обходчика Петька, развел руками:
— Нету там воды.
Раненый облизал распухшие губы, вздохнул:
— Видно, придется тебе, Игорь Малыгин, короткими очередями с незалитым кожухом…
«Пулеметчик», — отметил про себя Минька. Каждый заливает воду, куда ему нужно: повар, например, заливает в котел, шофер — в радиатор автомашины, а пулеметчик — в кожух пулемета для охлаждения ствола во время стрельбы.
— Ты пулеметчик? — решил он уточнить.
— Ага, первый номер, — ответил пулеметчик и, поддерживаемый ребятами, словно пьяный, заковылял вдоль железнодорожной линии.
До рабочего поселка оставалось совсем немного, когда в степи послышался моторный гул. Нет, это не самолеты. Похоже, гудят танки. Ну так и есть: несутся со стороны Русского хутора прямо к поселку.
— Быстрей, братва! — крикнул Колька, увлекая за собой раненого и переходя на бег, — а то сейчас жахнет из пушки.
Самые трудные — последние сто метров. Раненый совсем выбился из сил. — У него заплетаются ноги.
— Ну еще чуток! Да не падай же! — просят его юные санитары, подволакивая обмякшее тело к огородной калитке. И вовремя: головной танк уже мнет гусеницами кукурузу, растущую на приусадебных участках. Вот же гад! Как будто ему мало чистого места.
— А говорил, что немцы на ужин отправились, — упрекнул Минька товарища, когда они все забрались в отрытую под яблоней щель.
— Видать, им ужина сегодня не дали, чтобы злее были, вот и поперли опять, — ухмыльнулся тот, размазывая ладонью на потном лице грязь.
* * *
Игорь Малыгин пробыл в Колькином доме двое суток, а на третьи стал собираться в дорогу: пока фронт рядом, нужно добраться к своим. Напрасно Колькина мать уговаривала его полежать еще немного, пока подживет рука и возвратятся силы, Игорь был непреклонен в своем решении. Поблагодарив «мать милосердия», как он назвал ее за уход и ласку, Малыгин направился к Тереку с намерением переплыть его и соединиться со своими. Но к Тереку добраться ему не удалось, всюду по берегу были немцы. С тяжелым сердцем Игорь вернулся в Колькин дом и пробыл в нем еще сутки.
— Раз уж тебе не сидится у нас, — сказала Колькина мать, — то ступай ты теперь не к Тереку, а наоборот подале от него. В степи, говорят, немца нету, а наших встретить можно. Доберешься до Агабатыря, а там добрые люди подскажут, как, тебе к городу Кизляру двигаться.
Всю ночь шагал по степной дороге Игорь, а наутро, на самой зорьке повстречался с всадниками. На папахах у них красные ленты, в руках — винтовки.
— Кто такой?
«Партизаны» — догадался Игорь и стал рассказывать встречным свою несложную биографию. Но его перебил один из них, рыжеватый, носатый, с прищуренными глазами и сиплым голосом:
— В штабе доложишь все по порядку, а здесь того и гляди немецкая танкетка из–за буруна вывернется. Давай–ка сюда твою деревяшку и садись вон к нему за, спину, тут недалече, доедете вдвоих.
Игорь было заартачился: маузер, мол, принадлежит ему, и он у него записан в красноармейской книжке, но старший партизанского разъезда (а то, что он старший, видно было по его начальственной осанке и властному голосу) сердито нахмурил брови:
— Поговори у меня, — сказал он с такой выразительной интонацией, что Игорь тотчас же выполнил приказание. Будь что будет, решил он, взбираясь с помощью всадника на круп его лошади. «С бронепоезда — в кавалерию», — усмехнулся в душе, уцепившись здоровой рукой за луку седла.
Штабом оказалась заброшенная в степи овечья кошара, на соломенной крыше которой сидел наблюдатель в серой войлочной шляпе и с огромным морским биноклем в руках. По–видимому, он малость вздремнул под горячим солнышком, ибо заметил всадников, когда они уже были метрах в ста от кошары.
— Товарищ командир! — заорал он истошным голосом в дыру на крыше. — На горизонте появились неизвестные верховые.
— Эх ты, сторож, чоп [2] тебе в ноздрю! — рассмеялся старший разъезда, подъезжая к воротам. Из них выскочило до десятка таких же не по форме одетых воинов с красными лентами на головных уборах. Кто в папахе, кто в кепке, кто с винтовкой, а кто и с охотничьим ружьем в руках. Они окружили спешившихся всадников, забросали их вопросами: как там под Моздоком? Далеко ли отсюда немцы? Кого привезли в отряд?
Старший разведки подошел к коренастому, невысокому партизану в полувоенной форме, не очень умело отдал честь:
— Товарищ командир, — доложил он сипло, — ежели верить захваченному нами пленному, то Моздок немцами взяден сегодняшним утром. И они, видать, готовятся форсировать Терек.
— Какой же я пленный? — возмутился Игорь, делая шаг к командиру отряда. — Я…
Но «пленивший» его партизан преградил ему дорогу локтем:
— Ты свое доложишь апосля, а счас не мешай, — он снова вытянулся перед командиром. — Так что, Паша…то есть, товарищ командир, в степе немцев пока не видать, а вот наши красные казаки имеются в большом количестве. В восьмом овцесовхозе сам видел. Командует ими генерал Селиванов. Во время разведки группа потерь не имела. Захвачен неизвестный, выдающий себя за бронепоездщика, и маузер отечественного производства.
— Ефимов! — обернулся командир группы к одному из своих подчиненных, — подай командиру трофейное оружие.
— Это мой маузер, — вновь подал голос Игорь, но получил в ответ все тот же жест локтем:
— Тебя пока не спрашивают, стой спокойно.
— Не буду спокойно, — взбунтовался Игорь. — Что я, фашист какой, да? Я в бою ранен. Меня вытащили из–под обломков бронепоезда, и теперь я пробираюсь к своим за линию фронта. Отдайте мне мой маузер, вы не имеете права…
Командир отряда подошел к возбужденному собственной речью юноше.
— Успокойся, — сказал он. — Никто тебя не считает фашистом, с чего ты взял. Я командир партизанского отряда Близнюк, а ты кто?
— Игорь Малыгин, пулеметчик бронепоезда номер двадцать. Мы дрались под Моздоком с танками. Меня в бою ранило. Двое суток находился в сарае у Анны Ивановны. А он говорит «пленный». Какой я пленный? Меня ребята из–под обломков без сознания вытащили…
— Какие ребята? — спросил Близнюк.
— Моздокские, какие же еще… Колька Стоян, Петька — с заводского поселка пацаны. А еще Мишка Калашников, не то с Луговской, не то с Луковской улицы.
— Калашников, говоришь? — изумился рыжеватый партизан, и его длинный нос вытянулся еще больше, так по крайней мере показалось Игорю. — Стриженный наголо и круглая макушка у него, да?
— Да… А вы откуда его знаете?
Рыжеватый крутнул головой, ударил себя ладонями по бедрам, сипло рассмеялся.
— Как же мне его не знать, охломона. Ведь мы с его батей до войны в одном дорожном участке работали. Узнаю казака стодеревского: в городе бой идет, а его нечистая сила по бронепоездам носит.
— Бой к тому времени уже закончился, — уточнил участник боя.
— Все равно — отчаянная башка.
В разговор вмешался командир отряда.
— Погоди, Жора, — сказал он недовольно, — дай парню рассказать, что произошло с ихним бронепоездом.
— Пущай рассказывает, — согласился Жора и отошел в сторону.
Игорь рассказал про бой бронепоезда с танками.
— Будешь у нас пулеметчиком, — сказал Близнюк, когда Игорь закончил свое повествование. — Вот только отобьем у фрицев пулемет. Ну как, согласный?
Игорь замялся, окинув грустным взглядом одинокую кошару и безбрежную пустынную степь вокруг нее.
— Я лучше к нашим… в действующую армию. .
Близнюк нахмурился.
— Мы тоже не бездействуем, — сказал он сухо. — А впрочем как знаешь, удерживать не буду. Но только маузер оставим у себя. Тебе там другой дадут, а у нас, сам видишь, с оружием туго. Вон даже ружья вместо винтовок.
— Я знаю, где можно достать винтовки, — угрюмо проговорил Игорь, ему было до слез жалко расставаться с маузером.
— Где?
— Там ребята с поля боя натаскали целый арсенал. Даже ручной пулемет есть и ротный миномет с минами.
— А не врешь? — командир отряда так и всверлился взглядом в черные зрачки юного красноармейца.
— Век свободы не видать, — улыбнулся Игорь, вспомнив божбу мальчишек, своих спасителей.
— Лёня! Сухоруков! — задрал голову кверху Близнюк.
— Сегодня ночью отправишься в город, найдешь этих ребят и заберешь у них оружие, — приказал он, когда дозорный весело скатился на собственных ягодицах с соломенной горки.
— Нашел кого посылать, — подскочил к разговаривающим Жора. — Ведь он же там не знает никого. Давай лучше я поеду.
— Зато тебя там все хорошо знают, — усмехнулся Близнюк. — Нет, Михнев, не будем рисковать понапрасну. Ты лучше расскажи Лёне, где живет твой знакомый пацан… Калашников. А потом отправишь к кавалеристам вот этого лихого пулеметчика. Не хочет оставаться у нас, ну и, как говорится, вольному воля, спасенному рай. Маузер отдайте.
Через час–полтора Игорь Малыгин уже ехал на коне в сопровождении Георгия Михнева к 8‑му овцесовхозу, где последний встретил вчера днем кавалеристов регулярной Красной Армии.
Глава десятая
В тот же день Левицкого срочно вызвал к себе комиссар бригады. Прибыв на командный пункт 3‑го батальона, расположенный на северной окраине города в здании Сельхозснаба, что огромным своим двором образовывал угол между Садовой и Колхозной улицами, и никого там не застав кроме адъютанта, он направился к позиции, занимаемой 8-ой ротой на пустыре, по соседству с элеватором. Он шагал по шпалам узкоколейки, связывающей хлебоприемный пункт с городом Малгобеком, раскинувшимся на хребте Терского взгорья, и размышлял над тем, какую задачу поставит перед ним комиссар бригады. По всей видимости, уже сегодня немцы предпримут решительное наступление. Город–то невелик, из конца в конец можно пройти за двадцать минут. Левицкий оглянулся: слева вздымался над саманными хатками Успенский собор. Он, словно былинный воин–богатырь, всматривался вдаль, ожидая с минуты на минуту появления вражеских ратей.
Жидковата оборона на этом участке. Короткие и не слишком глубокие траншеи. На замаскированных пожелтевшим бурьяном брустверах поблескивают затворы винтовок образца 1891 года. Долго ли можно продержаться против бронированных полчищ врага? Правда, настоящий отпор врагу готовится на той стороне Терека, но здесь нужно обязательно задержать врага для обеспечения полной эвакуации отступающих войск за линию обороны. Осторожен немец, не лезет напролом. Вчера потрогал нашу оборону со стороны станицы Луковской, сегодня в десятом часу попытался овладеть кирпичным заводом с северо–западной стороны. Куда же он направит главный удар? Не сюда ли, в стык между 8‑й и 7‑й ротами, чтобы с ходу, минуя город, прорваться к терскому мосту?
— Заходи — гостем будешь!
Левицкий повернул голову на знакомый голос: из ближнего окопа улыбался ему всеобщий любимец политрук Амбарцумян.
— А угощать есть чем? — ответно улыбнулся Левицкий и спрыгнул в окоп.
— Для хорошего человека всегда найдем, — Амбарцумян нагнулся, выхватил из земляной ниши бутылку нарзана, протянул нежданному гостю. — Угощайся, пожалуйста.
Вот это удивил! В окопе — нарзан.
— А лангустов у тебя нет случаем?
Амбарцумян пошарил рукой в другой нише:
— Лангустов — не густо, а вот насчет тушенки — ешь сколько влезет. Американская. Мои бойцы ее «вторым фронтом» называют. Метко, не правда ли?
— Правда, — согласился гость. — А где твои бронебойщики?
— На курсы усовершенствования отправили. Комиссар бригады самолично проводит с ними занятия прямо на поле боя. Слыхал, как там наш осетин отличился? Танк подбил. Счастливчик, — вздохнул политрук и лукаво взглянул на гостя. — Везет людям: один первым прыгнул с парашютом, другой первым подорвал немецкий танк…
— Да ведь не он подорвал, а рядовой Михаил Попов.
— Все равно в его роте.
— Ты тоже можешь отличиться.
— Это как же?
— Первым драпануть из окопа, когда подойдут немецкие танки.
У Амбарцумяна отвисла челюсть.
— Я? — выкатил он черные глаза. Но тут же понял шутку, притворно ухватился за сердце. — Не шути так, пожалуйста, лучше нарзан пей.
— Спасибо, Аршак. И так благодаря тебе будто в Кисловодске побывал. Ну, бывай здоров, а я побегу дальше. Батя зачем–то вызывает.
— Будешь идти назад, заходи опять в гости! — крикнул вслед Левицкому гостеприимный политрук и помахал рукой.
Левицкий недолго разыскивал «курсы». Перейдя через железнодорожные пути, он увидел невдалеке от кладбища сгоревший танк, возле которого стояло и курило много военных. Среди них он различил плотную, атлетического сложения фигуру комиссара бригады. Он энергично прохаживался вдоль танка и объяснял что–то стоящим рядом бойцам.
— …Танк перед вами ракурсом в одну четверть. Куда будете бить вот вы, ефрейтор Маломуж? — донесся к Левицкому басовитый голос Кириллова. Сам комиссар по специальности механик–танкист второго класса и прекрасно знает уязвимые места танка еще со времен Халхин–Гола.
Ефрейтор Маломуж, невысокого роста, широкоплечий крепыш с застенчивыми светлыми глазами, переступает с ноги на ногу:
— Я яго, товарыш камиссар, буду биць у борт.
Маломуж белорус.
Комиссар бригады хмурит черные широкие брови.
— В гусеницы, Маломуж, а не в борт. Ведь при таком остром угле пуля из пэтээра отрикошетит от борта, понял?
— Паняв, — согласно кивает головой девятнадцатилетний бронебойщик. — Пуля отскочит ад яго борта и пападзё у бак с горучым.
Все так и покатились со смеху. И даже неулыбчивый комиссар бригады Кириллов шевельнул в усмешке твердо сжатыми губами.
— А… это вы Левицкий? — кивнул он. подошедшему старшему политруку. — Слышите, как ржут, барбосы? Такой, я вам скажу, находчивый народ. Вот если бы и в бою так, как языком. А что произошло вчера в этом, как его… ГУТАПе?
Левицкий начал рассказывать, но Кириллов перебил его:
— Я это знаю. Вы мне скажите, что за мальчишки там оказались? И они в самом деле стреляли из ружья по танку?
— Стреляли, товарищ батальонный комиссар.
— Гм… — у комиссара бригады снова посуровело лицо, на нем еще резче обозначились крутые складки по бокам рта. — Расскажите об этом нашим бронебойщикам. Сейчас. Со всеми подробностями.
Левицкий окинул взглядом бронебойщиков. Безусые, чуть постарше того парня, что стрелял вчера по уползающему танку из чужого ружья. Вон улыбается второй номер бронебойщик Луценко, высокий, чернобровый украинец, единственный сын у матери. Незадолго до отправки на фронт она приезжала в Грозный к своей «ридной дитыне». Ее встреча с сыном и данное ему при прощании материнское благословение на ратный подвиг послужило темой бесед во всех ротах батальона.
Луценко что–то говорит на ухо комсоргу роты Данцеву. На вид комсорг и вовсе мальчишка. Круглолицый, розовощекий, он кажется моложе своих восемнадцати лет. Запомнился этот ротный весельчак и запевала Левицкому во время последнего комсомольского собрания, проведенного прямо на позиции в тени акаций, растущих по обе стороны шоссе, что тянется зеленой ниткой через пустырь от вокзала к городу.
…Принимали в комсомол рядовых Грицюка и Козлова. Батальонный комсорг прочитал вслух заявление: «Прошу принять меня в ряды ленинского комсомола, так как в тяжелый для Родины час хочу идти в бой комсомольцем». Скупые строчки, но за ними искреннее чувство.
— У кого есть вопросы к Грицюку? — обратился комсорг к комсомольцам.
— Нехай расскажет автобиографию, — предложил Маломуж. Но на него зашикали.
— А у тебя самого есть она, биография? Он до самой войны, небось, штаны за партой протирал, даже влюбиться не успел, правда, Грицюк? — подмигнул Данцев.
— Пусть лучше расскажет про обязанности, — предложил Саша Рыковский, ростовский шахтер, успевший до начала войны побывать в забое.
Грицюк встал, одернул гимнастерку, сдвинул к переносью густые брови:
— У нас у всех сейчас одна обязанность — бить проклятого фашиста так, чтобы от него дым шел и искры сыпались.
Собрание одобрительно загудело. Над стрижеными головами поднялся частокол рук:
— Молодец, Грицюк! Принимаем единогласно.
* * *
В минометной роте, куда направил Левицкого после беседы с бронебойщиками комиссар бригады, был, как говорится, полный порядок. Огневые позиции оборудованы как положено. Щели для укрытия расчетов перекрыты в два наката, блиндажи — в три наката. Запас мин в складах доведен до 300 штук на каждый миномет. Все подчищено, аккуратно сложено, замаскировано, протерто, смазано.
— А у вас тут по–настоящему, — похвалил Левицкий сопровождавшего его командира взвода Усатенко.
Двадцатилетний лейтенант горделиво улыбнулся.
— Старались, товарищ старший политрук, — сказал он, подводя Левицкого к площадке, в центре которой стоял, задрав к небу широкое горло, батальонный 82‑миллиметровый миномет.
— Командир роты у нас сами знаете какой, да и Фельдман, комиссар батальона, не оставлял нас своей милостью. Разве только не ночевал на позиции, по три раза на день проведывал — тут и не захотел бы, да сделаешь как надо.
— А где у вас наблюдательный пункт? — спросил Левицкий, отходя от миномета к плетню, отделявшему огород от болота.
— Там, — показал комвзвода рукой на один из домов, стоящих на крутоярье редкой цепочкой вперемежку с деревьями. — Один на чердаке, другой вон на том дубе.
— Позиция удобная, только болото сзади: отступать в случае необходимости затруднительно, — помыслил вслух Левицкий, находя в малиннике зрелую ягоду и отправляя ее в рот.
— А мы отступать не собираемся, — услышал он в ответ насмешливый голос. Оглянувшись, увидел чертовски веселые глаза, выглядывающие из–под блиндажного наката. В руке у бойца большой ломоть спелого арбуза.
— Не хотите покуштовать, товарищ старший политрук? — выскочил он из щели и протянул Левицкому истекающий соком ломоть. — Такый гарный, шо куда там до его цией малыне.
Левицкий не отказался от угощения. Смакуя сочное лакомство, благодарно улыбнулся красноармейцу:
— Как фамилия?
— Рядовой Голубенко, — вытянул руки по швам веселый украинец.
— Значит, отступать не собираетесь, рядовой Голубенко?
— Никак нет, товарищ гвардии старший политрук. Если, конечно, не прикажуть…
«Эх, к этим бы минометам да еще б гаубицы», — подумал Левицкий, бросая прощальный взгляд на жизнерадостного бойца и направляясь по утоптанной меже–дорожке из огородной низины вверх к подворью, у калитки которого стоял, насупившись, хозяин усадьбы, сгорбленный седобородый старик в войлочной казачьей шляпе.
— Ты, что ли, будешь тута за главного? — повернул он недовольное лицо к Левицкому.
— А в чем дело, папаша? — остановился старший политрук.
— Жалобу имею. Солдаты твои, лихоман их забери, огород мне начисто попортили. Весь сад изрыли, свеклу вытоптали, сарай разобрали.
Левицкий поморщился. С трудом подбирая вежливые слова, стал как можно спокойнее объяснять куркулястому деду, что в такой тяжелый для страны час не патриотично делать своим защитникам подобные упреки.
— Можем вам выдать справку в том, что сарай разобрали на постройку оборонительных сооружений, — предложил в заключение своих объяснений. На что старик досадливо махнул рукой:
— Я из твоей справки не построю хлев для скотины.
— Да ведь, может быть, сегодня немцы не только сарай, но и дом твой сожгут, — рассердился Левицкий. — Опомнись, отец, война на улице.
— Может, сожгуть, а может, нет, — не унимался хозяин.
— Да не слушайте вы его, товарищ старший политрук! — крикнул с площадки Голубенко. — Он нам уже все мозги высушил своей свеклой, теперь за вас принялся. Не иначе бывший белогвардеец или раскулаченный.
При этих словах старик дернулся, словно конь, которого гладили, гладили да и ожгли неожиданно плетью.
— Сам ты сукин сын! — прохрипел он молодому обидчику и, яростно плюнув, заковылял к уцелевшему закутку.
Левицкий удивленно смотрел ему вслед. Да… разные люди живут на земле. Из такого вот Сусанин не получился бы…
Он отправился вслед за Усатенко к наблюдательному пункту.
Далеко видно из чердачного окна. Левицкий поднес к глазам бинокль, и тотчас узкоколейка подскочила к самому дому. Вместе с окопом, в котором он не так давно пил нарзан. Повел биноклем вправо: закачался в окулярах разрушенный бомбежкой элеватор. Рядом с ним, за небольшой акациевой рощицей, скрывающей вкопанные в землю цистерны с горюче–смазочными материалами, виднеется мельница — небольшое двухэтажное деревянное здание под черепичною крышей. За нею хорошо видны окопы третьего взвода лейтенанта Жаброва. Еще чуть дальше — траншеи 9‑й роты. Вон и танк стоит подбитый, возле которого он час тому назад рассказывал бойцам о вчерашней схватке артиллеристов с вражеской разведкой под станицей Луковской. Сейчас вокруг него пусто — все в окопах, ждут с минуты на минуту танковой атаки.
Из–за элеватора выползла зеленая тень. Что это?
Неужели бронепоезд? Ну конечно же, он. Медленно подкатывает к вокзалу, весь утыканный орудиями и пулеметами, как еж иглами.
— Видите? — толкнул локтем своего подопечного Левицкий. — Не было ни гроша, да сразу алтын.
Но радость от прибытия в Моздок такой мощной поддержки оказалась непродолжительной. С наблюдательного пункта хорошо было видно, как к бронепоезду подошел маневровый паровоз «ОВ» и стал растаскивать его по запасным путям. Затем он снова собрал его на главном пути, оказавшись сам в середине состава.
— Что это они мудрят? — удивился Усатенко. — Похоже, что заменили бронированный паровоз простой «овечкой».
— Все ясно, — отозвался Левицкий. — У них что–то случилось с паровозом. Но куда они направляются теперь, хотел бы я знать? Вы посмотрите, поезд пошел в сторону Прохладного. Ведь это же самоубийство!
Возле печной трубы хрипло запел телефон. Связист поднес трубку к уху.
— Вызывает командир роты, — протянул он ее тут же лейтенанту. Усатенко подошел к телефону, опустился перед ним на корточки.
— «Патефон» на проводе, — сказал в трубку.
— На проводе воробей, а ты у себя на командном пункте, — пошутил в ответ командир роты Бабич. — Слушай, «патефон»: скажи всем своим граммофонам, чтоб закрутили заводную пружину до отказа, понял? «Геркулес» передал: с северо–запада в расположение рыжего балетмейстера направляется более сотни плясунов средней руки. Поставьте им пластинку с «барыней». Пускай попляшут под нашу русскую дудку.
— Что–нибудь важное? — спросил Левицкий, когда Усатенко, отдав срочные распоряжения минометным расчетам, вновь подошел к чердачному окну.
— Да, — ответил Усатенко. — С башни водокачки наблюдатели заметили в степи немецкие танки. Они идут на позиции Дзусова.
Словно в подтверждение сказанного лейтенантом, в той стороне загремели артиллерийские выстрелы и зашлись в неистовой скороговорке пулеметы.
— Недалеко ушел, — помрачнел Левицкий, болея душой за бронепоезд. — И зачем, спрашивается, подался черту на рога? Растерзают его одного в поле немецкие шакалы…
Артиллерийский огонь с каждой секундой усиливался. В небе, за станционными зданиями замелькали самолеты. К грохоту пушечной стрельбы добавился рев воздушных винтов и тяжелое уханье авиационных бомб.
Над маленьким кавказским городком нависла смертельная опасность.
Глава одиннадцатая
Рыковский сидел в окопе и, припекаемый солнцем, томился ожиданием незваных гостей. Он еще ни разу не видел живого гитлеровца, поэтому вместе с тревогой в его душе довольно большое место занимало обыкновенное человеческое любопытство: какой он из себя, этот человек, пришедший сюда, чтобы покорить его, Александра Рыковского, и сделать своим рабом?
— Федя, — позвал он бойца, сидящего в соседнем окопе. — Ты не уснул там со своим чертометом?
Сосед шевельнулся, вывернул из–под каски белки глаз.
— Не до сна, Шура. Сижу и думаю, попаду я из этой пукалки в танк на ходу? — он поправил на бруствере окопа ампуломет, гладкоствольную трубу со стеклянным, наполненным самовоспламеняющейся смесью шаром на конце и примитивным прицелом посредине. — Я ведь из него и в стоячую мишень с трудом угадывал. Уж по мне, так лучше бутылка с КС. Надежнее, а?
— Ага, — согласился Рыковский. — А всего лучше противотанковая граната.
Помолчали.
— А немца ты видел? — вновь спросил Рыковский.
— Видел. «Дойч» у нас преподавал. Дохлый такой и желтый, как лимон. Все, бывало, меня за дверь выпроваживал. Не шел мне немецкий и хоть ты что.
— Дурака, поди, валял на уроке?
— Выходит так.
— Да я не про такого немца спрашиваю, — вернулся к прежней мысли Рыковский. — Фашиста ты видел?
— В газете только. Вот сегодня, должно, увидим…
Впереди послышалась артиллерийская стрельба, словно гром загрохотал среди ясного неба. Рыковский крепче обхватил ложе полуавтоматической винтовки СВТ.
— Не иначе бронепоезд гвоздит по танкам, — сделал он предположение.
— Или танки по бронепоезду, — возразил настроенный менее оптимистично Федор Подорожкин.
— Приготовиться к бою! — раздался над окопами звонкий голос взводного командира Жаброва.
И тут только Рыковский заметил далеко в степи коробки темного цвета. За каждой из них сучилась веревочка желтоватой пыли. Да это же танки! Как быстро они увеличиваются в размере. Уже хорошо видны кресты на их лобовой броне и зеленые фигурки автоматчиков по сторонам угловатых, как гробы, башен. На переднем танке развевается флаг со свастикой в красном круге. Из люка башни торчит в надменной позе офицер. Что же молчат наши минометчики? Неужели не видят? Или ждут, когда танки подойдут поближе? Вот уже автоматчики спрыгивают с танков и, пригибаясь, бегут за ними к нашим окопам. Пора, наверное, стрелять. Рыковский поймал в прицел винтовки бегущего к нему человека в зеленом френче с закатанными до локтей рукавами, нажал на спусковой крючок, но выстрела не услышал — перед глазами взметнулись в ряд земляные смерчи и в уши ударило трескучим грохотом разорвавшихся мин. «Заметили», — подумал Рыковский, беря на мушку другого. автоматчика, а, может быть, того же самого.
Что происходило в последующие полчаса или час, он плохо запомнил. Кажется, бросал гранату в танк, но она разорвалась сбоку от него. А может быть, гранату бросил Подорожкин? Все смешалось в сознании в какой–то кошмарный ком. Помнится только, что стрелял, кричал, отходил на запасные позиции, за элеватор. Вслед ему рычали танки, хохотали пулеметы, презрительно свистели осколки. Вокруг сплошной грохот от рвущихся снарядов и мин.
Опомнился в траншее. Рядом — Подорожкин. Дышит, как загнанная лошадь. В глазах — ни выражения, ни мысли, в руках нет ампуломета.
— А где же твое грозное оружие? — спросил Рыковский, переводя дух после быстрого бега и вытирая рукавом взмокший лоб.
— Пусть из него стреляет наш начхим, — угрюмо ответил Подорожкин. Бледная синева на его лице постепенно сходила, уступая место живительному румянцу. В глазах снова появилось осмысленное выражение. — Придумали же орудию, чтоб им пусто было. Чуть не сгорел вместо танка.
— Не он ведь придумал, — заступился за начальника химической службы бригады Рыковский.
— Все равно… — безнадежно махнул рукой Подорожкин.
Только сейчас заметил Рыковский на плечах у товарища обугленные по краям дыры. Оказывается, в ампулу попал осколок, и Подорожкина обрызгало жидким фосфором.
— Руку опекло, горит — спасу нет, — пожаловался пострадавший, держась за левое предплечье.
Из–за угла траншеи показалась каска.
— Молодцы! — сказала она с армянским акцентом. — Хорошо умеете бегать.
Бойцы от такой похвалы зарделись маковым цветом.
— Приказано было, — кисло улыбнулся Рыковский, глядя мимо блестящих из–под каски глаз политрука Амбарцумяна.
— Я и говорю, — согласился политрук, — очень живо приказ выполняете. Пошли ко мне в окоп, я вам сапоги дам скороходы, еще быстрей бегать будете.
Хоть сквозь землю провалиться от такого предложения. Понурив головы, побрели приятели следом за политруком по траншее. В это время кто–то в нее спрыгнул. Амбарцумян оглянулся:
— Левицкий! Вот здорово! Пришел нарзан пить?
— Не до нарзана, политрук, — хватая ртом воздух, ответил старший инструктор политотдела. — Вон посмотри, первый взвод вашей роты голову поднять не может, без поддержки остался. Где командир роты? Пусть пошлет хорошего стрелка снять немецкого пулеметчика. На мельнице засел.
Амбарцумян взглянул на передний край. Действительно, бойцы первого взвода залегли на открытом месте и теперь мечутся по–пластунски из стороны в сторону под огнем пулемета, словно пескари на раскаленной сковородке. Спасибо хоть танков нет, а то, страшно подумать, что стало бы с ними. Кого же послать на ликвидацию пулеметной точки? У него здесь одни бронебойщики…
— Разрешите мне попробовать, — попросил Рыковский. — Я хорошо стреляю из винтовки, вот Федя знает, — кивнул он на Подорожкина.
Амбарцумян с ласковой насмешливостью посмотрел на подчиненного: уж очень не по–военному прозвучала просьба в устах этого здоровяка–шахтера.
— Попробуй, Саша, — ответил он ему в тон. — Только гляди, осторожнее действуй, в той стороне вот–вот танки показаться должны. И пулемет возьмите, в случае чего он тебя прикроет, твой Федя, — подчеркнул политрук без улыбки на лице.
— Есть! — обрадовался Рыковский и выпрыгнул из окопа.
— Обмотку завяжи! — крикнул ему Амбарцумян, — и скорей возвращайтесь, я вам сапоги дам, тут у меня лишние оказались.
Рыковский в ответ помахал винтовкой.
Вот она, мельница. Рыковский поудобнее улегся между колючими акациевыми кустами и стал выискивать глазами вражеского пулеметчика.
— Гляди, торчит из окна! — зашептал ему в ухо подползший следом Подорожкин. — Пулемет, лопни мои глаза, если это не пулемет.
Сквозь многоголосый гул боя прорвалась близкая пулеметная очередь, и Рыковский явственно увидел в подозрительном окне вместе со стволом ручного пулемета темно–зеленую каску его хозяина.
— Сейчас я тебя угощу, — прошептал Рыковский и, затаив дыхание, стал подводить мушку к бледному пятну под каской. Щелкнул выстрел, и ствол пулемета, дернувшись кверху, скрылся в оконном проеме. Но тотчас снова прозвучала очередь. Неужели промахнулся? Рыковский растерянно посмотрел на товарища.
— Еще один объявился, — шепнул тот. — Вон, гляди, в другом окне.
Ну что ж, угостим и этого. Рыковский вдавил приклад в плечо, повел мушкой к левому углу мельницы. Прозвучал второй выстрел, и на мельнице воцарилась тишина. Как, однако, просто воевать, если умеешь пользоваться оружием. Два пулеметчика в течение одной минуты! О такой удаче Рыковский и не мечтал даже. Он едва не вскочил от радости, чтобы выбить коленце казачьей пляски, но то, что он увидел в следующее мгновенье, сдержало его ребяческий порыв — из–за угла мельницы показались танки. Три штуки. Черные, огромные, они свирепо лязгали гусеницами, направляясь к залегшим на пустыре бойцам первого взвода.
— Да уходите же, братцы! — закричал Рыковский, вскакивая на ноги и сам намереваясь дать тягу в противоположном от танков направлении. Его голос потонул в грохоте боя, но бойцы первого взвода, освобожденные от опеки вражеского пулеметчика, и так уже бежали к спасительным траншеям и ячейкам бронебойщиков.
* * *
Ефрейтор Маломуж тоже заметил немецкие танки. Он лежал за насыпью узкоколейки вместе со своим вторым номером рядовым Луценко и, сжимая приклад противотанкового ружья, ждал, когда какая–нибудь из этих громадин повернется к нему под нужным ракурсом — «три четверти», как говорил на занятиях комиссар бригады.
Томительные секунды. От жары и волнения по ложбинке между лопатками сбегают струйки пота. Они бегут так же из–под каски по носу и щекам. В знойном воздухе ни малейшего ветерка. И солнце словно остановилось на месте, крайне заинтересованное развивающимися событиями в этом маленьком, насквозь пропыленном городишке.
— Стреляй, чего чекаешь? — занервничал Луценко, в волнении переходя с русского языка на родной украинский.
— Ни кажы пад руку, — бросил в ответ Маломуж по–белорусски. — Гэта ж ни бык, каб яго у лоб биць.
Справа раздалось несколько ружейных хлопков. Танки сбавили ход. Хищно поводя из стороны в сторону пушками, ударили беглым огнем по окопам бронебойщиков. Крайний при этом повернулся правым боком к расчету Маломужа. В то же мгновенье Маломуж нажал на спусковой крючок пэтээра.
— Горыть! — радостно крикнул Луценко, задирая над насыпью голову.
Маломуж дернул его за плечо:
— Здурэв ты, ци што? Або хочаш, каб табе у башце дзирку зрабили? Давай патрон!
Танк действительно загорелся. Из его моторного отсека закурился синий дымок и вдруг повалил кверху черным клубом. Остальные танки развернулись и, подгоняемые минометным огнем, скрылись за элеватором.
Целых два часа было тихо. Казалось, враг, натолкнувшись на упорное сопротивление гвардейцев, решил больше не связываться с ними. Но вот за железнодорожной станцией послышался моторный гул, и спустя несколько минут показались среди станционных построек танки. Их было пять. Развернувшись в шеренгу, они двинулись на позиции 8‑й роты. За ними шли бронетранспортеры с пехотой на борту. Окраина Моздока снова потонула в грохоте и пыли.
Но и на этот раз немцам не удалось ворваться в город. Два танка подорвалось на минах, остальные, не выдержав мощного огневого заслона, повернули вспять.
Сколько же их появится в очередной атаке?
Восемь. Потом — четырнадцать..
…Солнце, спохватившись, что из–за собственного любопытства слишком долго простояло на одном месте, покатилось к западу с удвоенной скоростью. А может быть, ефрейтор Маломуж просто не сразу заметил в пылу боя, что оно уже не накаляет до помутнения разума железную каску, а только слепит глаза, прорываясь острыми лучами сквозь листву, придорожных кленов и мешая целиться в фашистские танки. Он пониже опустил горячий козырек тяжелого головного убора и снова застыл у пэтээра, выжидая удобный момент, чтобы наверняка поразить новую цель. Уже два танка полыхали за узкоколейной линией. Теперь очередь за третьим. «Бог любит троицу», — сказал Маломуж своему товарищу по–русски, досылая патрон в казенную часть ружья, после того как вспыхнул второй танк.
— Смотри, вон еще один прет! — тоже перешел на русский язык Луценко и толкнул ефрейтора локтем. — Заметил, гад.
Маломуж не отозвался.
— Да стреляй же, стреляй! — крикнул Луценко, чувствуя, как холодеет низ живота от вида приближающегося чудовища.
Маломуж даже не шевельнулся в ответ. А танк — совсем уже рядом. Сверкает траками гусениц, словно зубами какой–нибудь доисторический ящер.
— Чего ты ждешь?! — Луценко в отчаяньи схватился за приклад ружья и с ужасом почувствовал, что первый номер не стремится его удержать. Скорее машинально, чем сознательно, Луценко оттолкнул плечом обмякшее тело соратника и, не целясь, выстрелил в упор по надвигающейся громадине.
— Бог любит троицу! — заорал он, не помня себя от радости при виде выхлестнувшего из танка пламени. — Ура!
Мельком взглянул на своего командира. Он лежал навзничь и к чему–то присматривался в остывающем от дневной жары небе. Бросился было к нему, но тут же снова вдавил приклад в плечо: справа вдоль узкоколейки шел другой танк, такой же огромный и страшный. Бронебойщик крутнулся вместе с ружьем ему навстречу, и в это мгновенье что–то ударило его со страшной силой в грудь, и белый свет навсегда померк в его карих глазах. Он не видел, как подбежал к ружью комсорг роты Данцев, не слышал, как выстрелил из него.
Но и Данцев тяжело отвалился от ружья, сраженный осколком. Тогда бросился к узкоколейке политрук роты Амбарцумян. Он успел сделать из ружья два выстрела и тоже уронил голову на горячую землю, прошитый пулеметной очередью из надвигающегося танка. Сейчас он раздавит всех четверых героев вместе с ружьем. Но навстречу ему выпорхнула из ближнего окопа противотанковая граната. Раздался взрыв.
— Это вам за Федю! — крикнул Александр Рыковский, хватая в нише вторую гранату и отправляя ее под днище другого танка.
— Это — за бронебойщиков! А вот вам на закуску! — Рыковский швырнул в подбитый танк бутылку КС. Она сочно цокнула по броневой обшивке, и сразу стало жарко в окопе от заполыхавшего наверху пламени. Александр расстегнул воротник. А автоматные очереди совсем рядом: «Трр… трр… тр…». И явственно слышны чужие голоса.
Рыковский выглянул из траншеи. В лицо ему дохнул нестерпимым жаром горящий танк. Слева и справа от него к траншее бегут немецкие автоматчики. Эх, жаль нет пулемета! Остался на поле боя вместе с дружком Федей Подорожкиным. Прижался щекой к прикладу СВТ, стараясь не горячиться, стал стрелять в бегущих солдат. Их много. И они уже близко. «Кажется, каюк», — пронеслось в голове красноармейца. Но слева вдруг заработал «Дегтярев», послышались крики «ура», и обстановка на поле боя моментально переменилась в пользу обороняющихся. Немцы вначале залегли, затем, подгоняемые воинственным кличем русских и трескучими очередями их автоматов, стали поспешно отходить вслед за уцелевшими танками.
Кто же пришел на помощь бойцам восьмой роты в самую критическую для них минуту? Рыковский вгляделся в лицо подбегающего пулеметчика.
Поздняков с ходу прыгнул в траншею, бросил ножки пулемета на бруствер, дал длинную очередь по убегающему противнику и только после этого удостоил вниманием хозяина траншеи.
— У вас тут жара, как в Марокко, — сказал он, снимая с головы каску и обмахиваясь ею наподобие веера. — Это не ты, Саша, устроил этот пионерский костер? — ткнул он каской в горящий танк и, не ожидая ответа, повернулся к своему тяжело дышащему второму номеру: — Николя, — сказал он ему с парижским прононсом, — будьте любезны, замените диск и потренируйтесь в стрельбе по движущимся целям а ля фашист, пока я побеседую с земляком. Ну, здравствуй, крепильная стойка.
— Здравствуй, отбойный молоток, — засмеялся Рыковский, пожимая руку земляка–шахтера.
— Туговато пришлось? — подмигнул Поздняков, приседая на. корточки и доставая кисет с махоркой.
— Ага, — согласился Рыковский, беря щепотью табак на закрутку. — Вовремя вы подвернулись, и откуда вас только бог послал?
— Не бог, Саша, а лейтенант Федосеев. Бога нет, я тебе совершенно серьезно говорю, об этом даже дядя Степа знает. Ты чего так долго ковыряешься? — толкнул он локтем по колену долговязого помощника.
— Да вот патрон перекосило, шешер его забери, — пробурчал в ответ Андропов, лязгая затвором.
— Вот так и вся моя военная судьба пошла наперекосяк из–за этого неловкого человека, — вздохнул Поздняков и сам стал к пулемету.
Солнце огромным красным колесом скатилось за далекий степной горизонт. И сразу стало тихо на земле, так тихо, что было слышно, как звенят в траве кузнечики. Может быть, это колесо так сильно гремело по небесной мостовой своим тяжелым ободом?
* * *
Ночь прошла спокойно. Пунктуальные немцы предпочитали ночью спать, а не ходить в атаку. Русские тоже были рады отдыху. Впрочем, слово «русские» использовано здесь в более широком смысле, нежели оно означает в словаре, ибо в батальоне «было столько же русских, сколько и украинцев, столько же армян, сколько и грузин», как напишет чуть позже в своей статье «Стойкая оборона гвардейцев» специальный корреспондент «Красной звезды» майор Милованов, находившийся в те дни среди защитников города.
Собственно, статья уже сложилась в его голове. Осталось уточнить лишь отдельные детали боя и фамилии отличившихся красноармейцев, живых и мертвых. Вот почему он поднялся сегодня намного раньше солнца и вместе с комиссаром батальона Фельдманом отправился на позиции восьмой роты, к узкоколейной линии, где вчера погибли один за другим четыре героя: белорус Маломуж, украинец Луценко, русский Данцев и армянин Амбарцумян. Три комсомольца и один коммунист.
В окопах многие уже не спали. Одни молча курили, другие тихонько переговаривались.
— С добрым утром, товарищи! — поздоровался Милованов с бойцами, спустившись в траншею. — Как тут у вас насчет настроения?
— Спасибо, хорошо, — ответил один, рослый, голубоглазый. — Вчера весь день настраивались, так что полная гармония, как в том рояле.
— А разрешите полюбопытствовать, какому пианисту принадлежит вон тот аккорд? — тоже переходя на музыкальную терминологию, спросил майор и показал рукой на стоящую в десяти метрах от траншей тройку подбитых танков.
Голубоглазый смутился, сделал вид, что заинтересовался винтовочной обоймой.
— Да он же их и приговорил, — подсказали сбоку. — Ну, чего ты, Саша, застеснялся? Расскажи товарищу корреспонденту, как сразу два танка укокошил. Товарищ корреспондент о твоем геройском поступке в газету напишет. Напишете, товарищ майор?
— Напишу, — кивнул головой Милованов.
— Он еще и двоих пулеметчиков вчера снял с мельницы…
— Вот как? — удивился корреспондент. — Два танка, два пулеметчика. Выходит по поговорке: «Всякой твари — по паре»?
На смуглых лицах бойцов засветились довольные улыбки: совсем свой мужик этот майор, хоть и говорят, что он из центральной газеты.
— Он еще вчера вечером уничтожил два… этих самых.
— Что? — представитель прессы так и подался к бойцу, могущему дополнить перечень боевых подвигов своего товарища.
— Два «наркомовских». Ему наш старшина двойную налил во время ужина за подбитые танки. Так он их одним залпом…
Над траншеей шрапнелью взорвался смех. «Что это вы ржете с самого ранья?» — донеслось из соседней ячейки бронебойщиков.
Милованов окинул глазами передний край. В розовом свете нарождающегося дня по всему пустырю между вокзалом и окопами десантников чернели подбитые танки и бронетранспортеры. Словно ископаемые звери пасутся на утренней зорьке. Столько потерять техники и живой силы за один день боев с мальчишками, которые всего несколько месяцев назад сменили рогатку на ружье. Вот оно, наглядное подтверждение морального превосходства советского человека над его врагом.
Милованов достал из кармана гимнастерки блокнот, раскрыл на заложенном расческой листке, скользнул взглядом по неровным строчкам начатой сегодня ночью статьи: «На тихий Северо–Кавказский городок шли немцы — колонна танков и до двух полков мотопехоты. Городок защищал батальон гвардейцев под командой гвардии капитана Коваленко…» Корреспондент вздохнул: недолго командовал гвардии капитан, в первые же часы боя ранило минным осколком. Теперь за него остался комиссар батальона Фельдман, вот этот сопровождающий его старший политрук с очень серьезным взглядом умных, проницательных глаз.
— Как фамилия бойца, что уничтожает противника парами? — тихо спросил Милованов у неулыбчивого гида.
— Рыковский, — ответил Фельдман. — Рядовой Александр Рыковский, шахтер из Ростовской области, доброволец. Впрочем, у нас почти все добровольцы и в основном ростовчане.
— Скажите, Рыковский, — обратился корреспондент к заинтересовавшему его бойцу. — Может быть, в пылу сражения, так сказать, вы не заметили, как вместо двух подбили три танка? Вон они как кучно стоят.
— Танк не клоп, товарищ майор, — усмехнулся Рыковский. — Да у меня и гранат–то всего две штуки было… А третий танк, вон тот, что с львиной мордой на башне, подбил гвардии лейтенант Куличенко.
— А где он? — майор записал в блокнот фамилию.
— С разведчиками ушел ночью. Тут если бы не разведчики… — Рыковский замялся, взглянув на комиссара: не сболтнул ли чего лишнего?
— Какие разведчики?
— Отдельной роты лейтенанта Федосеева, — ответил за подчиненного комиссар. — Они на левом фланге с седьмой ротой находились. Пришлось перебросить в критическую минуту. О них бы тоже написать следовало. Отчаянные парни.
— А о минометчиках Бабича?
— И о них. О командире взвода Усатенко, например.
— А о комиссаре батальона? — Милованов сощурил глаза в хитроватой усмешке.
Фельдман нахмурился.
— Комиссар ничем не отличился, — сказал он сухо.
— А принял на себя командование батальоном, — подсказал Милованов.
— Это не подвиг, а обязанность, — в голосе комиссара послышалось раздражение. — Пойдемте, товарищ майор, на КП. Скоро начнется артподготовка немцев. Я не хочу, чтобы мне за вас Кириллов «оторвал голову».
— Ну, хорошо, хорошо, — поморщился Милованов. — Можно подумать, что вы опекаете не военного корреспондента, а его величество шаха персидского, приехавшего в Советский Союз с визитом дружбы. Я только минут пять поговорю с очевидцами подвига бронебойщиков.
Очевидцев оказалось больше чем достаточно. И рассказывали они о подвиге пэтээровцев не пять минут, а целый час. Так что когда Фельдману в конце концов удалось оторвать корреспондента от его словоохотливой клиентуры, над Моздоком уже вовсю сияло солнце, а в самом Моздоке тяжело вдруг ухнул снаряд, посланный немцами из «долговязого Макса», как они называли в шутку свою дальнобойную пушку с длинным, как дышло, стволом.
— Желаю вам, товарищ Рыковский, прибавить к вашему боевому счету еще пару танков, а то и самолетов, — пожелал на прощанье удачливому бойцу Милованов и крепко пожал руку ему и его товарищам.
* * *
Их осталось в окопах четыре человека: Ваня Скориков, Коля Павлов, Саша Кондрашов и Саша Рыковский. Остальные, боясь окружения прорвавшимися в середине дня танками, спешно отходили к очередному узлу сопротивления.
Немцы бросили им вдогонку колонну мотоциклистов. Вздымая клубами пыль и гремя пулеметами, они неслись к брошенной позиции, уверенные, что на ней не осталось ни единого человека.
Первым выпрямился в окопе Иван Скориков. Он взмахнул гранатой и тут же упал на бруствер, раскинув руки, словно обнял на прощанье родную землю. Эх, Иван, Иван, земляк мой! Долго же ты размахивался — вражеский пулеметчик быстрее сумел нажать на гашетку своего пулемета. Рыковский скрипнул зубами от ненависти, выскользнул ужом из окопа за бруствер и лежа метнул гранату в приближающийся мотоцикл. Вздрогнула земля, и зеленый «цюндап» крутнулся на месте подобно волку, получившему в ребра смертельный жакан. Из–за него показался второй мотоцикл. Рыковский увидел, как сидящий в коляске пулеметчик судорожно направлял пулемет в его сторону. Но он не успел поймать в прицел советского бойца — взрывом гранаты его выбросило из коляски на потрескавшуюся от зноя землю. То, что произошло потом, осталось в памяти у Рыковского на всю жизнь не то отрывком из приключенческого фильма о ковбоях, не то жонглерским трюком из цирковой программы. В облаке пыли, поднятой мотоциклами и взрывами гранат, вдруг появилась дюжая фигура немецкого офицера. «Рус, капут!» — крикнул офицер свирепым голосом и, выхватив из–за голенища сапога похожую на толкушку гранату, запустил ею в Рыковского. Граната летела какие–нибудь две–три секунды, но Александру показалось, что она кувыркается в воздухе целую вечность. Он успел за это время рассмотреть не только ее длинную белую ручку, но и сучок на этой ручке и даже царапину на изжелта–зеленом цилиндрическом корпусе. «Долбанет по макушке!» — испугался Александр, машинально закрывая голову рукой и вдруг, не осознавая, как это получилось, поймал гранату на лету. Он дико на нее взглянул, словно на змею, случайно схваченную за хвост, и что есть силы запустил обратно ее хозяину. И такое случается на войне! Немец тоже поймал гранату и даже размахнулся для повторного броска, но… она разорвалась у него в руке.
Из–под яра ударили наши минометы, заговорили вновь пулеметы и винтовки. Наступающие мотоциклы заметались по полю, словно тараканы, на которых плеснули крутым кипятком. С них прямо на ходу соскакивали солдаты и извивались по земле в поисках спасительных укрытий от пуль и осколков.
Всё: наши благополучно отошли на новый оборонительный рубеж, теперь можно и самим убираться из этого пекла. Воспользовавшись возникшей среди немцев суматохой, Рыковский метнулся от окопа к ближайшей хате, кубарем скатился по заросшему бурьяном откосу к болоту и только тогда понял, что из всех четверых лишь он один вытащил из лотереи жизни счастливый билет.
Глава двенадцатая
Оставаться на чердаке становилось небезопасно: пули с хрустом рвали доски фронтона, стучали по железной крыше.
— Пора спускаться вниз, товарищ старший политрук, — сказал Усатенко Левицкому. — Мотоциклы в лоб бьют, и танки слева идут в обход.
Тот согласно кивнул. Подгоняемые свистом пуль, они спустились по лестнице во двор и, пригибаясь, побежали к минометной площадке. Но что это? На нее уже взгромоздился гигантским пауком немецкий танк и, разворачиваясь на одной гусенице, другой давит миномет расчета Голубенко. С разбегу бухнулись в картофельную ботву, недоуменно взглянули друг другу в глаза: откуда взялся этот незваный гость? Вместе со страхом ворохнулось в груди чувство жалости к исковерканному оружию.
— Ах, сволочь! — выдохнул с ненавистью Усатенко и разжавшейся пружиной метнулся к соседней площадке. Танк рявкнул ему вслед пулеметной очередью, но командир взвода уже скатился в окопную щель.
— Вы что попрятались в блиндаж, как мыши? — крикнул он, хватая в земляной нише бутылку с зажигательной смесью. — А ну за мной, быстро!
Забившиеся под двойной накат минометчики повыскакивали в щель к своему командиру.
— Гранаты к бою! — скомандовал лейтенант.
В это время железный паук, сползая через бруствер площадки, подставил под удар свою тыльную часть.
Усатенко отдал команду, и на танк посыпались гранаты.
Когда рассеялся дым, стало видно, как объятый пламенем танк стремительно уходит прочь, подминая под себя плетневые изгороди и фруктовые деревья.
Увидев, что произошло с их собратом, два других прорвавшихся к позициям минометчиков танка остановились на почтительном расстоянии и открыли бешеный огонь по площадкам.
— Ну и дает! — крикнул Голубенко Левицкому, который только что вскочил в окоп, не веря, что остался даже незадетым в этом сплошном свисте разрываемого в клочья железа. — А дэ наш взводный, товарищ гвардии старший политрук?
— Взводный ваш в соседнем расчете, — ответил Левицкий, отдирая с локтей гимнастерки колючки репейника. — А вот где были вы, гвардии рядовой Голубенко, когда танк давил ваше боевое оружие?
— Туточки, — ткнул пальцем в черный зев блиндажа минометчик. — Хай вин сказыться ций чортив танк, до сих пор уси поджилки трясутся.
— Что ж не угостил фрица гранатой?
Минометчик смущенно развел руками.
— Цэ ж не кавуном угощать. Вин як зареве да заскрегоче, так я забув про цю гранату. А миномета жалко… — вздохнул Голубенко. — Такый гарный був. Уж я за им ходыв, як за дитыной. Ось подывытесь, одна плита осталась…
— А где твои номера расчета? — спросил Левицкий, хмуря брови и в душе сочувствуя этому молоденькому парню.
— Так воны из окопа сиганулы, тильки я их и бачив. Должно, у Бритнюка сидять. А можа, за площадкой в другом блиндажу. Петро! — крикнул Голубенко, приподнимая голову над искромсанной танком площадкой. С противоположной ее стороны тоже приподнялась голова. Она пялила глаза из–под пыльной каски.
— Я Саша, а не Петро, — сказала голова.
— А як ты сюда попав? — спросил Голубенко.
— Да вот же… попал: из огня да в полымя: Закурить не найдется, земляк?
— Ходы до мэнэ.
Незнакомец одним махом вскочил на площадку, в три прыжка перепрыгнул ее и свалился в щель.
— Рыковский? — удивился Левицкий. — А где твоя рота?
— Там, товарищ гвардии старший политрук, — махнул Рыковский рукой туда, откуда стреляли танки, и рассказал инструктору политотдела все, что с ним произошло четверть часа тому назад.
Левицкий нахмурился: положение минометной роты было угрожающим. Если немецкие танки прорвались на дорогу, ведущую к терскому мосту, то она окажется отрезанной от батальона. Нужно срочно отходить. Но куда? Слева танки врага, справа его автоматчики, спереди мотоциклисты, сзади болото.
— Голубенко!
— Я вас слухаю, товарищ гвардии старший политрук.
— Быстро — в соседний расчет. Передай командиру взвода, чтобы выставил заслон на гребне склона. Остальным — снять минометы и отходить к мосту. Рыковский! — повернулся политотделец к другому красноармейцу, — краем болота проберитесь к дороге, посмотрите, занята она противником или нет.
— Есть, товарищ гвардии старший политрук! — Рыковский выпрямился, отдав честь черной от грязи рукой, и легко выпрыгнул из окопа. А Левицкий почувствовал, как все его существо пронизало, словно электрическим зарядом, чувство огромной ответственности за судьбы этих парней и их товарищей, оказавшихся в силу боевой неразберихи на краю неминуемой гибели. Мысль работала быстро и четко, как бывает только с волевыми людьми в минуты наивысшего нервного напряжения.
Прошло минут двадцать томительного ожидания. Вокруг продолжали рваться снаряды. Со стороны косогора все ближе и ближе раздавались автоматные очереди немцев, их крики. В ответ им неслась русская непечатная брань, подкрепляемая взрывами гранат и пулеметной скороговоркой. Но вот из камыша показался весь захлюстанный болотной тиной Рыковский в сопровождении Владимира Майстренко, семнадцатилетнего моздокского парня, вступившего добровольно в минометную роту задолго до начала боев. Тяжело дыша, Рыковский прерывисто доложил Левицкому:
— На дороге… танки… и в переулках танки. Вот встретил связного от Бабича… приказано отходить.
Легко сказать — отходить. А куда? И все же у Левицкого стало легче на душе: приказ из штаба снимал с него ответственность за только что отданные распоряжения об отходе минометной роты.
Подбежал Усатенко и с ним рядовые бойцы. У них в руках части от минометов. Следом бежали еще и еще.
— Куда будем отходить, товарищ старший политрук?
— В болото. Пройдем по камышам вдоль дороги и попробуем прорваться к южной окраине города…
— Не пройдете, — продребезжал сбоку угрюмый старческий голос. Все повернулись на него. Среди раздавленных танком кустов малины стоял, опершись на палку, хозяин усадьбы в старой казачьей шляпе.
— Почему не пройдем? — шагнул к нему Левицкий.
— В трясине загинете.
— А что же нам делать, ведь немцы кругом?
Старик пожевал сморщенными губами, насколько можно разогнул сутулую спину.
— Есть тут одна тропка, да и она не дюже надежна… Ломай сарай! — махнул он вдруг рукой в направлении своего подворья. — Ну, чего глядишь на меня, как на икону чудотворную? Прикажи своим солдатам, пущай кажный прихватит с собой бревнышко али доску — загатить одну колдобину потребуется. Да пошустрей, лихоман вас забери…
Когда в наступающих сумерках Левицкий с ящиком мин на плече хлюпал разбухшими сапогами по болотной топи вслед за старым проводником, одна и та же мысль мельтешила в его возбужденном сознании: «Вот тебе и не Иван Сусанин…»
Болото оказалось не широкое и не очень топкое. .Лишь в одном месте пришлось соорудить гать из прихваченных по совету старика бревнышек.
— Давно ли здесь моего деда байдачная мельница стояла, а нынче экая мерзкая болотища образовалась, — прохрипел проводник, раздвигая палкой камыши. — Вот так и жизня наша: суперва ручейком бежить веселым да светлым, потом — рекой полноводной, а к концу своему в такую вот болотину образуется, смрадную да топкую, никому не нужную, акромя жаб да пьявиц.
— Неужели здесь раньше Терек протекал? — поддержал разговор Левицкий, хотя мысли его в это время были далеко от предложенной темы.
— Ишо какой! — живо откликнулся старик. — Он, ить, милок, такой норовистый да своендравный, как тая баба непутящая: седни в одном месте милуется с казаком, а взавтри в другом месте к иногороднему мужику ластится. Я сам ишо помню, как Моздок между двух Тереков находился, чисто на острове.
Под ногами недовольно ворчала болотная хлюпь. Тревожно шушукались между собою стебли камыша, раздвигаемые руками обвешанных тяжелым оружием людей: куда, мол, несет их нелегкая по такой трясине на ночь глядя?
Наконец камышовые заросли остались позади. Левицкий облегченно вздохнул, ступив на сухую землю. Он огляделся вокруг, насколько позволяла это сделать быстро сгущающаяся темнота — отовсюду проступали сквозь нее серые и черные пятна крестов.
— Куда это ты нас, батя, привел? — спросил у вожатого.
— На кладбище.
— Нам бы вроде рановато сюда… — мрачно пошутил Левицкий.
— Зато мне в самый раз. Бабка моя померла, на сына надысь похоронную прислали, хозяйству война порушила — зачем мне, гнилому пеньку, мешаться на энтом свете? Но ты не боись, парень, тебя с твоими солдатами не затем сюда привел. Отседова ловчей вам будет в город пробраться.
Минут десять отдыхали, усевшись на могилы «почивших в бозе» предков. Молча курили, пряча огоньки цигарок в сложенных ковшиком ладонях и чутко прислушиваясь к затухающей на окраине Моздока перестрелке. За камышом багрово полыхал закат. К нему примешивалось светло–оранжевое пламя горящего на яру дома.
— Дубовый сруб, лихоман его забери, ишь как занялся. Из Сафоновского леса сам вывозил по бревнышку, — проговорил старик дрожащим голосом. — Типун бы тебе на язык, товарищ командир, это ты вчерась накаркал, — уставился он скорбными глазами в Левицкого.
— Да может быть, это и не ваш дом, — отвел глаза в сторону старший политрук.
— Мой, — тяжело вздохнул проводник. — У одного соседа саманная хата, а у другого — турлучная, с нее такого жару не будет — глина одна. Не видишь рази, дуб горит, — в голосе старика невольно прозвучала горделивая нотка.
* * *
Комиссар бригады разговаривал по телефону, когда в помещение штаба батальона ввалился Левицкий, весь мокрый и в болотной тине. К нему подошел комиссар батальона Фельдман. Пожимая руку, предостерегающе качнул коротко остриженной головой на Кириллова: важный, дескать разговор.
— …Держаться больше нет возможности, пора отходить на ту сторону, — басил в телефонную трубку комиссар бригады.
«С Красовским говорит», — догадался Левицкий, тяжело плюхаясь на придвинутый Фельдманом табурет и с уважением глядя на широкую спину стоящего перед столом комиссара.
— Что? Как я на совещании говорил? Ну да: «Не числом, а умением», — продолжал рокотать в трубку Кириллов. — Умением только и держимся. А вернее, нахальством… Что? Еще сутки? Павел Иванович! Побойся бога. Одним батальоном против целой армии. Ну, не армии, так целого корпуса… Есть продержаться еще одни сутки, товарищ комбриг!
Кириллов положил трубку, резко повернулся от стола. Маузер при этом глухо скроготнул деревянной коробкой по его крышке.
— Слыхал, Фельдман? — взглянул на подчиненного воспаленными от бессонницы глазами.
Левицкий поднялся с табурета, вытянулся перед начальством.
— А… Левицкий, ты? — брови комиссара округлились подковами. Левицкий невольно отметил про себя, как осунулось и почернело и без того смугловатое лицо комиссара бригады, как еще резче проступили складки по обе стороны его прямого, с маловыразительными губами рта.
— Где это ты так загваздался? — спросил Кириллов. — И где минометная рота?
Тогда Левицкий доложил о том, как стойко сражались минометчики с врагом и как они вырвались из его железных объятий, унеся с поля боя всю уцелевшую боевую технику и раненых товарищей, и какую роль сыграл при этом обыкновенный моздокский старик.
Комиссар слушал, вразвалку шагая по комнате. Орден Боевого Красного Знамени при поворотах его коренастого тела поблескивал в свете настольной керосиновой лампы.
— Вот такая–то, брат, метаморфоза, — проговорил он, выслушав политотдельца. — То за медный грош в церкви дернуть не побоимся, а то последнюю рубаху с себя отдадим, не пожалеем. Герасимов! — обернулся комиссар к сидящему у другого стола начальнику штаба батальона, — возьми на заметку моздокского патриота. А тебе, Степан Гаврилович, — вновь обратился он к Левицкому, — большое спасибо за минометную роту. Слыхал, что давеча мне передал командир бригады? Вот так–то, брат… А где она сейчас?
— На том берегу.
— На чем же ты ее переправил? На пароме Шабельникова?
— В брод перешли, между рощей и станицей Луковской.
— Кто ж вам его показал?
— Доброволец, здешний пацан. Он на Тереке все мели знает.
— Объявить благодарность, — сказал Кириллов начальнику штаба и вновь — Левицкому: — Иди приведи себя в порядок. И отоспись хорошенько. А утром жми на переправу к Шабельникову. И гляди там в оба.
* * *
Переправа была налажена в том месте, где одна из окраинных улочек спускалась к самому Тереку. Здесь же, немного правее вливался в основное русло реки ее младший брат, так называемый Малый Терек. Между двумя руслами лежал поросший кустарником и лесом огромный остров — Коска.
Состояла переправа из перекинутого с берега на берег троса и присоединенного к нему при помощи скользящей петли парома — четырех лодок–каюков, покрытых деревянным настилом. Руководил переправой–старший лейтенант интендантской службы Шабельников — Левицкий его сразу узнал. Круглоголовый, подвижный, неунывающий ни при каких обстоятельствах. Ему помогали сержант и старик в сером картузе и с трубкой в зубах.
— Да куда же ты, мил человек, прешь без очереди? — донесся до Левицкого бодрый не по возрасту голос последнего. — Ну и што, што ты ранетый. Нашел чем хвастаться, язви твою в чешую. А ну, отойди в сторону, тут потяжеле есть ранетые.
Левицкий усмехнулся: ишь, как командует, ну прямо ротный старшина да и только.
По всему берегу сидели, стояли, ходили военные, в большинстве своем раненые. Грязные, наспех наложенные бинты, серые от пота и пыли гимнастерки, черные лица с лихорадочно блестящими глазами, глядящими и с надеждой — на медленно курсирующее суденышко, и с тоской — в ту сторону, где с восходом солнца снова загремели пушки.
— Шабельников! Здравствуй! Ну, как тут у тебя? — Левицкий подошел к старшему лейтенанту, с удовольствием потряс его крепкую ладонь.
— Полный порядок в саперных войсках, — широко улыбнулся помощник командира батальона по хозяйственной части. — А ты какими судьбами?
— Кириллов к тебе откомандировал, — Левицкий понизил голос. — Он думает, что на сегодняшний день твой паром самая важная в стратегическом отношении точка. Понимаешь, если немцы прорвутся к мосту, то его придется взорвать, и тогда твой паром…
— Ясно, — улыбка на круглом лице Шабельникова расползлась еще шире. — Живой осел лучше мертвого философа.
— Переправляй только раненых и особо срочный груз, — продолжал Левицкий. — Всех здоровых направляй к мосту по дамбе. Мобилизуй у местного населения лодки. Собери по дворам также все, что может держаться — на воде: бревна, доски, двери, тюки соломы. И ни на минуту не забывай о бдительности. Одним словом, гляди в оба, — закончил Левицкий свои наставления словами, которыми проводил его ночью комиссар бригады.
Отдав необходимые распоряжения, старший инструктор политотдела подошел к группе сидящих под корявенькой вербой красноармейцев, вынул кисет с махоркой.
— Угощайтесь, служивые.
Служивые в ответ нехотя поднялись, настороженно взглянули на расточительного начальника: от природы такой щедрый или прикидывается? Может быть, метит без очереди на тот берег проскочить? На этом–то не очень спокойно, того и гляди немцы нагрянут. Сам, вишь, целехонек, даже планшетка сбоку, как у летчика. Сразу видно, не окопная вошь. А пальчик перевязан — не иначе пером натер в штабе…
Но мысли мыслями, а дела делами — какой же дурак отказывается от угощения, если оно тебе ничего не стоит? Тотчас к кисету потянулись руки, словно стадо гусей закивало головами над корытом с кормом. Послышались старые, как мир, прибаутки:
— Даровой уксус слаще меда.
— Набивай нос табаком — в голове моль не заведется.
— Покорнейше благодарю, хоть и некурящий, а вашего закурю.
— Дайте бумажки закурить вашего табачку, а то есть так хочется, что и переночевать негде.
И так далее и тому подобное.
Какой–то пожилой боец с забинтованными руками крикнул из–под вербы своему менее пострадавшему в бою товарищу.
— Володька! Заверни и мне, будь другом.
— Какую тебе: зенитную?
— Не, давай нашенскую, 107‑го калибра.
«Артиллеристы», — отметил про себя Левицкий.
Володька, рыжий, молодой парень с перевязанной головой, гребанул из кисета не щепотью, а целой горстью, шельмовато взглянул при этом на его владельца.
— Артиллерист? — спросил его Левицкий.
— Я пулеметчик, — осклабился Володька. — А вот он артиллерист. Мы с ним с бронепоезда. А у вас бумажки не найдется?
Левицкий достал из планшета армейскую газетку:
— Свежая только…
В толпе загудели:
— Свежую на раскур нельзя, ее вначале почитать нужно. Может, почитаете нам, товарищ старший политрук, чего там новенького?
Левицкий присел на корневище, развернул газету.
— «От Советского Информбюро», — прочитал он буднично–просто, не стремясь соперничать с известным всему миру диктором Левитаном. Бойцы примолкли. Обволакиваясь махорочным дымом, уставились провалившимися от усталости и перенесенных страданий глазами в чтеца в надежде услышать на этот раз что–нибудь бодрое.
— «В течение 22 августа наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго–западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийска и Моздока…» — начал читать информационную сводку Левицкий, но его перебил боец с забинтованными руками.
— Уж куда как жестоко, жесточе и не придумаешь, — проворчал он, перекосившись не то от боли в руках, не то от попавшего в глаза дыма.
— Ожесточенные, а не жестокие, — поправил пожилого своего товарища молодой Володька.
— А… не один шут, — пыхнул изо рта дымом раненный в обе руки. — Вы бы нам, товарищ старший политрук, что–нибудь поинтереснее прочитали. А за Моздок мы и сами знаем. Вот где у меня этот Моздок, — он протянул вперед два наспех забинтованных свертка, — а еще вот тут, — ткнул одним из свертков себя в область сердца. — И до какой такой поры мы будем писать «западнее» да «юго–западнее»? Когда же мы напишем «восточнее»?
Левицкий взглянул в глаза спрашивающего: они кипели слезами ярости и огромной душевной боли. Почувствовал вдруг, как переливается из его глаз эта боль к нему в душу.
— Потерпи, браток, еще чуть–чуть, — сказал дрогнувшим голосом. — Придет время — турнем фашиста отсюда — только пыль столбом. Еще будем читать в наших газетах про то, как восточнее какого–нибудь Бенкендорфа наши войска с ходу форсировали реку Одер. — Сам же подумал: «Бенкендорф — это же шеф жандармов при царском дворе, «опекавший» Пушкина».
— Вашими бы, товарищ старший политрук, устами да мед пить, — вздохнул кто–то.
— Вот послушайте, что пишет в своем дневнике немецкий солдат, — снова склонился над газетой Левицкий: «В четыре ноль–ноль началось наступление. Когда–то в прошлом году я изъявил желание стать мотоциклистом, чтобы идти впереди всех; теперь же я хотел бы находиться как можно дальше от фронта…»
— Сознательный, стало быть, сделался, — подал реплику все тот же спокойный, насмешливый голос.
— «…Заговорили русские пулеметы. Какой несносный огонь! Вот уже первые жертвы. Мы подошли к восточной окраине села и пытались его захватить. Совершенно неожиданно из домов был открыт мощный и точный огонь. Один за другим легли тридцать два человека. Пал лейтенант Баумберг. Погибли Эрле, Мюллер, Ксари и другие. Только ночь нас спасла от полного уничтожения…»
— Мы своим «мюллерам» тоже добре всыпали, — с горделивой ноткой в голосе произнес боец с забинтованными руками. — И пехоты положили за Моздоком и танков пожгли — не сосчитать. Правда, и нам перепало. Со всего бронепоезда хорошо если десять человек в живых осталось. Командира жалко, еще в гражданскую командовал бронепоездом. И комиссар Абрамов тоже был золотой человек…
К берегу причалил паром. Все бросились ему навстречу, спеша уйти от надвигающегося с севера и запада неумолчного грохота близкого боя.
— Спасибо за табачок! — крикнул раненый артиллерист, подняв кверху белый сверток.
Левицкий ответно помахал рукой:
— Скорейшего вам, товарищи, выздоровления!
— Всех угощал, а сам так и не закурил, — донеслось снова с парома.
— Я некурящий! — засмеялся Левицкий. — Кисет с табаком для хороших людей ношу-у!
— Бывает же такое… — ропот удивления прокатился по парому. С каждой секундой он удалялся все дальше и дальше к другому берегу. Под ним бурлила мутная терская вода. Над ним сияло яркое августовское солнце.
Глава тринадцатая
Немцы наседали. Разъяренные упорным сопротивлением защитников города, они решили сегодня смять их во что бы то ни стало. Ведь курам на смех: батальон скромно вооруженных десантников сдерживает в течение двух суток натиск отборных войск германской армии с их танками, пушками и самолетами! Шутка ли сказать, за один лишь первый день боев эти фанатики–комсомольцы подбили и сожгли 9 танков, не считая бронетранспортеров и автомашин.
Маленький степной городок потонул в сплошном грохоте разрывов, пулеметной и винтовочной трескотне. Еще два дня тому назад никому неизвестный, сегодня он встал на газетных полосах в один ряд с такими известными городами, как Воронеж, Новороссийск, Сталинград. Глаза всего человечества были направлены в эти тревожные дни на крохотную точку, поставленную топографом в географической карте лишь потому, что по соседству с Моздоком не оказалось более внушительного населенного пункта. Одна центральная, наполовину заасфальтированная улица, протянувшаяся наискосок к Тереку с северо–запада на юго–восток, да вокруг нее сеточка улиц–коротышек с саманными, казачьего типа домиками — вот и весь город. На одной окраине — кирпичный завод, на другой — пивной завод, в центре — винный завод, такова его промышленность ко времени описываемых событий. Кирпичный завод занят немцами в первый день боев. Пивной завод — на следующий. Остался незахваченным винный завод. К нему сейчас устремились гитлеровцы: словно намереваясь утолить хоть вином свою ненасытную жажду власти над человечеством.
Нет, конечно, не моздокское вино влекло сюда немецких захватчиков. «Моя основная цель, — заявил Гитлер на совещании командного состава группы армий «Юг», — занять область Кавказа, возможно основательнее разбив русские силы. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну».
Ему вторил доктор Геббельс: «Если к назначенному командованием времени закончатся бои на Кавказе, мы будем иметь в своих руках богатейшие нефтяные области в Европе. А кто обладает пшеницей, нефтью, железом и углем, тот выиграет войну». В немецком путеводителе по Кавказу, выпущенном соответствующей службой задолго до начала боев на Тереке, перечислялись со свойственным фашистам цинизмом кавказские богатства, «принадлежащие» фатерланду [3]: нефть — в Грозном и Баку; свинец и цинк — в Осетии; молибден — в Кабарде; рыба — в Дагестане; медь — в Армении. Моздок же стоял на пути к этим лакомым кускам.
Сдавливаемые почти со всех сторон танковыми клещами, гвардейцы отходили постепенно к центру города, все ближе к реке, огрызаясь ружьями ПТР и гранатами — из окон подвалов, с чердаков домов, из–за кирпичных заборов и саманных дувалов. Фашистские танки, заняв входы в боковые улицы, обстреливали прямой наводкой проспект, но продвигаться к нему не решались: очень уж много в этом городе каменных заборов, каждый может оказаться засадой.
Мимо одного такого забора, пригибая голову от свистящих пуль, спешил к соседнему узлу сопротивления комиссар, он же и командир батальона — Фельдман Григорий Яковлевич. Его сопровождали: связной и несколько рядовых.
— Скорее! — торопил подчиненных старший политрук. Он очень переживал за роту Дзусова, которая оказалась в самом пекле боя без поддержки и связи. Нужно немедленно вывести ее из–под удара и направить к терскому мосту на помощь переброшенному туда дивизиону сорокапятимиллиметровых пушек. Пора уходить за Терек. Батальон свою задачу выполнил: он в течение двух суток сдерживал атаки гитлеровцев, давая возможность отступающим частям Красной Армии занять оборону на том берегу. Труднее всего приходится сейчас 7‑й роте, сдерживающей врага вместе с 1‑й ротой 1‑го батальона возле городской рощи. Там же находится комиссар бригады и корреспондент «Красной Звезды». Настырный майор: до конца решил быть с батальоном на этом берегу. Чего доброго, убьют в перестрелке, и не узнает страна о подвигах героев–бронебойщиков и ростовского шахтера Саши Рыковского. «Вернусь в штаб и отправлю его к парому сразу же», — решил Фельдман, перебегая улицу у городской больницы. В это время над ним проскрежетал снаряд. Он пролетел так близко, что Фельдман почувствовал, как шибануло в лицо горячим воздухом.
— Товарищ старший политрук, — танки! — крикнул связной, хватая комиссара за рукав гимнастерки.
Фельдман взглянул в конец улицы: оттуда ползли навстречу две грязно–зеленые гигантские жабы.
— Прячься за забор! — крикнул он и сам перемахнул через кирпичную, высотой в человеческий рост стенку без видимого усилия. После удивлялся, как это ловко у него получилось. Посмотрел бы на его прыжок бригадный физрук, довольно скептически относившийся к физическим возможностям комиссара 3‑го батальона.
По забору простучали одна за другой пулеметные очереди, от него посыпались на дорогу осколки кирпича.
— Приготовить гранаты!
Бойцы крутнули рукоятки противотанковых гранат.
— Только спокойнее, не торопитесь, — подсказывал комиссар, в волнении поглаживая свою гранату, словно улегшегося на колене котенка.
Зловещее лязганье гусениц приближалось. Вот уже башня переднего танка поползла по кромке забора. Пора… Одна за другой взметнулись в воздух тяжелые зеленые цилиндры, напоминающие собой консервные банки со свиной тушенкой. Ахнул мощный взрыв, и над танком взвился огненный султан.
— Молодцы! — крикнул комиссар, поднимаясь на носки сапог и заглядывая через забор. Так близко он еще не видел вражеской техники. Танк стоял в трех метрах от него, неуклюжий, грязный, со следами машинного масла на борту. Он жарко горел. Клубы дыма вздымались выше стоящей рядом акации. За ним стоял другой танк, такой же грязный и беспомощный. Он, видимо, раздумывал: то ли дать задний ход, то ли обойти ставшего поперек дороги флагмана. Наконец решился. Подминая правой гусеницей куст сирени, двинулся в обход горящего собрата. «Не пройдешь, гад!» — Фельдман вставил левую ногу в какую–то дыру в заборе, приподнялся над ним и швырнул гранату на моторный отсек танка. Еще раз вздрогнула земля, и второй танк густо зачадил, найдя бесславную гибель на тесной моздокской улочке.
— За мной!
Фельдман бросился в глубь фруктового сада с намерением выйти на соседнюю улицу. Увидев бегущего человека, из конуры выскочила собака и едва не цапнула его за сапог.
— Тю, дура лохматая! — замахнулся на нее прикладом автомата бегущий следом за комиссаром боец. — Своих не узнаешь? Ты на немцев бросайся…
На соседней улице танков не было. По ней бежали отступающие бойцы. Фельдман узнал Копылова, командира отделения бронебойщиков. Маленький, худенький, он согнулся под тяжестью противотанкового ружья, с трудом переводя дух. За ним гуськом бежало его отделение.
— Вы куда? — вытаращился на него комиссар.
— А кто его знает, — пожал плечами Копылов. По лицу его катился пот. Тонкие губы побледнели от напряжения.
— А где все другие? — спросил комиссар.
— Отходят к реке. Только Кириллов с седьмой ротой остался для прикрытия.
— Так куда же вы претесь — к черту на рога? А ну, поворачивайте к реке. Переправитесь на пароме на тот берег и займете оборону напротив переправы. Если к ней прорвутся танки, прикроете паром, — отдал приказание комиссар и побежал дальше.
— Есть, товарищ старший политрук! — козырнул вслед ему Копылов, и отделение бронебойщиков припустило по главной улице под горячим августовским солнцем с пудовой ношей на плече и под несмолкаемый сводный оркестр русских минометов и немецких пушек.
Река встретила бронебойщиков отраженным солнцем, которое уже заметно скатилось к терским зарослям, и неописуемой неразберихой на берегу. Красноармейцы, раненые и здоровые, бегали по нему во всех направлениях, стаскивая под кручу из соседних дворов все что попадало под руку: бочки, бревна, плетни, доски и прочую плавучую дребедень. Все это связывалось в диковинной формы плоты при помощи веревок, проволоки, ремней и обмоток.
А где же паром?
Копылов сбросил на траву ПТР, вытер рукавом мокрый от пота лоб, переглянулся с бойцами своего отделения.
— Вон только трос висит над водой, а парома тютю, — вытянул руку первый номер Трегубов.
Что же делать? На чем перебраться на ту сторону с такими тяжеленными игрушками? И тут Копылов увидел помощника командира батальона по хозчасти Шабельникова. Он прибивал топором к каким–то жердям крышку от стола, не забывая при этом отдавать распоряжения. Возле него суетился старый дед с трубкой–носогрейкой в зубах.
Копылов скатился по крутому берегу вниз, обратился к Шабельникову, как того требовал строевой устав.
— Разбомбили паром. Пока не поздно, дуйте по дамбе к мосту. А мне и без вас есть кого переправлять, — одних только раненых — вагон, — деловито, без уныния в голосе ответил Шабельников.
Снова взвалили бронебойщики на свои натруженные плечи тяжелые ружья и, проклиная Гитлера с его предками по седьмое колено, устремились вдоль берега к мосту, до которого отсюда было километра полтора, а то и больше. Они уже вбегали на его широкую бетонную спину, когда сзади кто–то гневно закричал:
— Эй, пэтээровцы! Вы куда это скачете?
Копылов остановился. С противоположной стороны дороги из–за насыпи поднимался к ним политрук. Поодаль в кустах стояли две сорокапятимиллиметровые пушки с прислугой. Стволы пушек направлены наискосок к дороге, проходящей по восточной окраине Моздоку от железнодорожного вокзала к мосту.
— На подходе немецкие танки, а вы за речку шкуру спасать? — продолжал политрук звенящим от злости голосом.
— Никак нет, товарищ гвардии политрук, — вытянулся перед сердитым начальником Копылов. — Мы выполняем приказ командира батальона: идем занимать оборону на том берегу напротив пере…
— Слушай теперь мой приказ! — перебил младшего сержанта политрук: — Занять оборону на этом берегу по дамбе, она словно нарочно для вас насыпана. Танки будут идти по дороге. Бейте им в бок слева, я со своими артиллеристами буду им бить справа, понятно? Ну, давайте быстро!
Бронебойщики послушно повернули назад, с ходу бросили ножки ружей на гребень берегового укрепления, клацнули затворами.
— Кто это такой? — спросил у Копылова второй номер.
— Кто его знает, — пожал плечами командир отделения.
— Да это Жицкий, политрук артдивизиона, — подсказали слева.
— Решительный дядька, — вздохнул еще кто–то.
— Кажется, идут, — приподнялся над краем дамбы один из первых номеров. — Ну да, идут! Да вон же они… ух, сколько! Один, два, три — до черта…
— Приготовиться к бою! — крикнул Копылов, направляя четырехугольный набалдашник ружья в головной танк. Потянулись тягучие, как деготь на морозе, секунды ожидания, когда эта страшная машина подползет на расстояние верного выстрела. Первыми не выдержали искушения артиллеристы. Одна за другой рявкнули их мелкокалиберные пушчонки, и стреляющий на ходу передний танк словно споткнулся о брошенный ему под гусеницу камень. Еще раз ударила «сорокопятка», и еще один танк закрутился на дороге, охваченный цепким пламенем. Видя, что напоролись на засаду, танки свернули с дороги и продолжали путь к мосту, прикрываясь кустарником.
Вот тогда и выскочил на дорогу отчаянный житомирец политрук Василий Жицкий, чтобы легче было корректировать огонь орудий.
— Огонь! — рубил он ладонью красноватый предвечерний воздух. — Огонь!
«Геройский парень!» — с восхищением подумал Копылов, переводя взгляд с политрука на ломящегося сквозь кусты и изрыгающего огонь бронированного чудовища. Вот он, обходя большое дерево, показал свой серый, как у волка, бок.
— Огонь! — скомандовал командир отделения и мягко потянул спусковой крючок пэтээра. — Над танком рванулся вверх клуб дыма. — Готов! — Это был первый танк Ивана Копылова.
Потом за ратные подвиги он будет удостоен ордена «Славы» всех степеней и станет едва ли не единственным в стране Кавалером четырех орденов, а не трех, как положено.
— Патрон! — кричал он и так не зевавшему своему второму номеру и, клацнув затвором, снова выискивал в кустах грязно–серое страшилище. В пылу боя он забыл про отважного политрука и, когда, охотясь за очередным фашистским зверем, повел ружьем в том направлении, где политрук командовал, увидел, что Жицкий лежит на дороге вниз лицом.
— Ваня! Смотри, танки на мост лезут! — услышал Копылов. Он рывком развернул ружье. Но не успел выстрелить. В ту же секунду раздался страшный взрыв, от которого заходила ходуном земля, словно от семибалльного землетрясения. Бронебойщики уткнулись носами в землю. А когда они вновь подняли головы, то не увидели ни танков на мосту, ни самого моста — только огромное облако дыма и пыли медленно относило легким ветром к правобережной глинистой круче.
И еще одну ночь гвардейцы удерживали Моздок. Еще одну ночь они не спали, всматриваясь в зловещую темноту воспаленными от бессонницы глазами. Они должны были этой ночью оставить город и перейти по мосту на правый берег Терека. Но мост взорван вечером, паром Шабельникова разбит прямым попаданием бомбы еще утром. Пришлось остаться на левом берегу: в темноте не переправишься через такую бешеную реку да и не на чем.
— Что будем делать, комбат? — обратился комиссар бригады к Фельдману, меряя шагами штабную комнату из угла в угол мимо стола с лежащей на ней схемой города.
Фельдман, угрюмый, заросший щетиной, с провалившимися от усталости глазами, подошел к столу, ткнул в схему пальцем.
— Я думаю, — начал он тихим, но уверенным голосом, — следует позвонить командиру артдивизиона, чтобы произвел рано утром ложную артподготовку в северо–восточной окраине Моздока. Немцы, естественно, станут готовиться к отражению нашей атаки и упустят время для собственного наступления. Мы же в спешном порядке снимаем оборону и переправляемся на правый берег. Для прикрытия переправы предлагаю взвод Ильюшина. Очень выдержанный и храбрый командир.
Кириллов остановился, с одобрением взглянул на подчиненного:
— Ну, а если немцы разгадают наш маневр и атакуют сами?
— Нищему пожар не страшен. Выбирать–то нам не из чего.
Кириллов подошел к телефону, крутнул ручку.
— Выбор у нас один: нырять завтра в Терек. И чем быстрей, тем лучше.
В комнату, хромая, вошел Милованов. Сел на табурет, вытянув раненую, обутую в чью–то старую галошу, ногу.
— Что не спишь? — подошел к нему Фельдман, — Говорил ведь как человеку: плыви на ту сторону. Так нет, не послушался. Хорошо, в ногу попало, а если бы в голову?
Майор улыбнулся, постучал пальцем у виска:
— Не велика беда. В ней сейчас пусто, как в неначатом блокноте. Всю корреспонденцию отправил вечером на тот берег. Веришь, как от бремени разрешился. До того легко стало, никакими словами не выразить. Дай–ка закурить…
Фельдман протянул корреспонденту пачку «Беломора». Тот закурил, припадая на ногу, вышел в дверь. Как темно и как тихо вокруг. Ни единого звука, ни единого огонька. Только в черном, как сапожная вакса, небе горят–переливаются глазастые звезды. Да… под таким небом да у такой реки стихи бы писать, а не сухие фронтовые информации: «В ночь с 24 на 25 августа подразделение лейтенанта Куренкова решительным броском выбило противника с занятых позиций…» Майор вздохнул: как знать, может быть, спустя тридцать–сорок лет эти лаконичные шершавые строчки будут восприниматься потомками как лирические стихи?
Еще солнце не продралось кверху сквозь переплетенные диким виноградом сучья терского леса, а уже на северо–восточной окраине города загремели разрывы. Это по приказу комиссара бригады началась из–за Терека артподготовка.
Немцы всполошились: неужели эти «голубые дьяволы», как они прозвали в эти дни гвардейцев 8‑й бригады за их авиационную форму и беспримерную храбрость, пойдут сейчас в атаку? Может быть, к ним прибыло подкрепление из–за Терека? На всякий случай стали окапываться.
Тем временем прижатый с вечера к реке батальон начал спешно переправлять на ту сторону свои поредевшие за дни боев подразделения. Руководил переправой комиссар бригады. Он ходил по берегу, проверял надежность сооружаемых плотов, давал указания, устанавливал очередность отплытия.
Оттолкнулся от берега первый плот. На нем пятеро раненых, столько же здоровых бойцов, станковый пулемет, ружье ПТР. Течение подхватило неуклюжее сооружение и завертело, словно яичную скорлупу.
— Да гребите же, гребите, — крикнул Кириллов, показывая на бегу жестами рук, как нужно это делать.
Окрик подействовал. Бойцы взялись за обломки досок и благополучно подгребли к противоположному берегу. Там их встретил Шабельников. Помог причалить плот, отправил: раненых — в санроту, здоровых — на пункт сбора 1‑го батальона в Предмостное. Как же теперь возвратить плот к линии старта? Но к несчастью, быстрее разрешил эту проблему немецкий снаряд, разбив плот в щепки. Фашисты опомнились и всеми имеющимися силами пошли в наступление. Поверхность Терека покрылась фонтанами взрывающихся мин.
Вот–вот выскочат к реке немецкие автоматчики. Их сдерживает из последних сил взвод лейтенанта Ильюшина. Сам комвзвода то и дело оглядывается назад: скоро ли переправится последняя лодка с комиссаром Фельдманом и корреспондентом «Красной Звезды» Миловановым. К ней бегут со штабными документами начальник штаба Герасимов и красноармейцы. Что же вы копаетесь, братцы? Скорее! В автоматном диске уже мало патронов. Ильюшин выхватывает из–за ремня гранату, швыряет ее в подбегающих врагов. Последний раз оглядывается на реку: лодка уже приближается к тому берегу.
— Взвод! Слушай мою команду!..
Лейтенант бросает еще одну гранату и бежит следом за своими бойцами. Навстречу свистят пули — это прикрывают отход последнего взвода переправившиеся бойцы. Свои пули не тронут. Ильюшин вбегает в мутную | струю. Она холодит разгоряченное тело. И в это мгновенье что–то тяжелое бьет его между лопатками. «Чужая пуля не щадит», — пронеслось в его сознании.
Глава четырнадцатая
Левицкий записывал в полевую книжку перечень мероприятий, которые нужно провести в подразделениях бригады перед началом нового наступления немецких войск, когда в колхозный медпункт, где Самбуров проводил совещание со своими политотдельцами, вошел генерал с Золотой Звездой Героя на груди. Его сопровождали командир бригады Красовский и секретарь партбюро 2‑го батальона политрук Мордовин.
— Давайте знакомиться, — предложил генерал.
«Так вот он какой, командир II-го корпуса Рослый, — подумал Левицкий, незаметно пошевеливая слипшимися от генеральского рукопожатия пальцами. — Он и в самом деле «рослый».
Поздоровавшись, генерал присел к столу, придвинул к себе раскрытую полевую книжку начальника политотдела.
— Можно взглянуть? — поднял он глаза на стоящего рядом хозяина книжки.
Тот смущенно улыбнулся.
— Пожалуйста, товарищ генерал. Это план примерных действий политработников бригады по подготовке личного состава к оборонительным боям.
— Любопытно, — генерал прочитал вслух отдельные пункты: «Подготовка к митингу: место, выступающие… Совещание с боевым активом (десантники, орденоносцы, участники гражданской войны)». Так. Хорошо… А скажите мне, батальонный комиссар, ваши политработники сами готовы подать бойцам пример мужества и героизма?
— Так точно, товарищ генерал, готовы, — ответил Самбуров, спокойно глядя в слегка прищуренные глаза командира только что сформированного корпуса, в состав которого вошла 8‑я бригада. — Несколько дней тому назад в боях за Моздок пали смертью героев комсорг роты Данцев, политрук роты Амбарцумян, политрук артдивизиона Жицкий. Отличился в бою, приняв на себя командование батальоном и подорвав фашистский танк, комиссар Фельдман. Отличился в разведке старший инструктор политотдела Левицкий, открыв огонь из автомата по вражеской машине с солдатами.
— Хорошо, — сказал командир корпуса и повернулся к Красовскому. — А теперь, Павел Иванович, доложи мне обстановку.
Красовский подошел к висящей на стене схеме обороны, энергично заскользил по ней указкой. Командир корпуса внимательно слушал, согласно кивал головой. Выслушав, поднялся с табурета.
— Видишь, комбриг, какими усищами охватывает нас немец? — ткнул он пальцем в синие изогнутые стрелы, показывающие направление главных ударов противника. — Один ус тянется к Новороссийску, а другой — прямо на Моздок.
— Обрежем, Иван Павлович, — сказал в ответ Красовский.
— Что «обрежем»? — не сразу понял командир корпуса.
— Усы эти самые, — пояснил командир бригады.
— Ну, ну, — усмехнулся Рослый, забирая из рук подчиненного указку и снова поворачиваясь к схеме. — Построение боевых порядков бригады полностью соответствует замыслам штаба корпуса, но меня лично беспокоит дислокация второго эшелона. Слишком гладкая местность, Павел Иванович. Ведь если поднять людей в контратаку, они как на ладони видны будут. Вражеская артиллерия их накроет массированным огнем. И помешать не сможем. Сам знаешь, артиллерии для контрбатарейной борьбы у нас нет.
Красовский вздохнул:
— Позиция у 4‑го батальона действительно, как биллиардный стол. Кроме как в землю спрятаться некуда. Но где же другую взять? Сюда бы танков…
— Их тоже негде взять, — развел руками генерал и положил на стол указку. — Разве что командующий пожалует на нашу бедность. Хотя вряд ли… Слушай, комбриг, — у генерала вдохновенно сверкнули глаза, — а что если мы сосредоточим на этом участке всю нашу корпусную артиллерию?
— Да… — замялся Красовский, — оно бы конечно… если враг действительно намерен нанести главный удар в районе Предмостного.
— А ты сам как думаешь?
— Думаю, что он попрет именно здесь. А вот что думает Клейст, пока не знаю. Рискованно все–таки, товарищ генерал, стягивать всю артиллерию на таком узком участке.
— Да какая же война без риска, Павел Иванович? Может, слышал, был во времена обороны Царицина такой случай. Белые собрались прорвать наш фронт на участке Сарепта — Воропаново. Красное командование точных данных об этом не имело, но все же пошло на риск: сняло с Царицинского фронта всю артиллерию и сосредоточило на пятикилометровом участке. По пословице: «Или пан или пропал». Пропал тогда Мамонтов. Он бросил свои отборные части прямо в лоб на наши орудия и положил всех своих солдат до единого. Вот что значит обдуманный и смелый маневр. А мы ведь почти точно знаем направление главного удара гитлеровцев.
— Нам хотя бы один танковый батальон, — помечтал вслух Красовский.
Но комкор оставил его слова без ответа.
— Запишите, батальонный комиссар, в свою книжку, — повернулся он к Самбурову: «Сосредоточить внимание всех политработников на внедрении в бригаде опыта противотанковых боев третьего батальона. Разъяснить каждому бойцу и командиру, каким эффективным может быть индивидуальное средство борьбы с танками, если хорошо знать их уязвимые места и не терять при встрече с ними самообладания и находчивости». Ну, сформулируйте сами в этом роде… Не забывайте, к тому же, популяризировать имена героев. Как фамилия бойца, уничтожившего гранатами сразу два танка?
— Рыковский, — ответил Самбуров.
— Представить к ордену. Остальных тоже.
С этими словами генерал пошел к выходу. У порога остановился, спросил:
— Кто сможет мне показать позиции первого и второго батальонов?
— Разрешите, я покажу, товарищ генерал, — вызвался в проводники командир бригады.
— Нет, комбриг, ты занимайся, пожалуйста, своими делами. Только отправь мой «виллис» в Нижние Бековичи, пусть меня там дожидается. А меня проводит этот молодец, который решительно действовал в разведке.
— Старший политрук Левицкий! — щелкнул каблуками кирзовых сапог заполыхавший румянцем старший инструктор политотдела.
— Пойдем, Левицкий, погуляем по лесу, пока в нем спокойно, — усмехнулся генерал и вышел из помещения.
* * *
Тихо было в Предмостном в этот предпоследний день августа. Ни коровьего мычанья в нем, ни собачьего лая.
Сельские жители, забрав скотину и необходимые вещи, ушли за Терский перевал — переждать лихое время. На улицах села одни лишь военные. Но и они ведут себя тихо: говорят вполголоса и ходят пригнувшись, чтобы не стать мишенью для снайпера на том берегу.
Тот берег. До него каких–нибудь сто метров. Три дня назад он был еще наш, сегодня — немецкий. Там разговаривают в полный голос на чужом языке. Из громкоговорителя, установленного на крыше крайнего дома, несутся через реку победные марши и кичливые обращения фашистских ораторов, предлагающих время от времени советским бойцам сдаться в плен.
— Нахально ведут себя фрицы, — проговорил Рослый, пробираясь вместе с Левицким по траншее к самому берегу.
Бойцы при виде генерала прижимались спинами к глинистым стенкам траншеи и удивлялись про себя: «Чего его носит нелегкая по передовой линии?»
— Дайте–ка бинокль, — сказал генерал командиру взвода в ответ на его взволнованный рапорт о том, что немцы, по всей видимости, к «чему–то» готовятся.
То, что немцы готовятся к наступлению, было видно и без рапорта и даже без бинокля. С того берега доносились крики солдат, гудение автомашин и лязг гусеничных траков. Когда же немцы начнут форсировать Терек? Завтра? Послезавтра? Через неделю? И в каком месте: здесь, у Предмостного, или же слева, между Моздоком и станицей Луковской?
— Навались, родимые! — услышал позади себя генерал стариковский, с хрипотцой голос. Он оглянулся: на краю траншеи сидел на корточках седой старик и, черпая кружкой из ведра, поил водой красноармейцев.
— Копейку — за бадейку, пятачок за черпачок! — приговаривал он ласково. — Пейте, родимые, всласть да хорошенько защищайте Советскую власть.
— Это еще что за маркитант выискался? — нахмурился генерал. — Почему не эвакуирован? Кто такой? — Старик поднялся на ноги, приложил сморщенную коричневую руку к серой кепке:
— Здравия желаю, ваше красное превосходительство.
Все, кто был в траншее, не удержались, прыснули от смеха. Улыбнулся и генерал.
— Здравствуй, солдат, — сказал он, отзываясь на шутку.
— Никак нет, ваше превосходительство, не солдат, — возразил старик, продолжая стоять во «фрунт» перед генералом.
— А кто же ты?
— Бывший унтер–офицер, егорьевский кавалер Козьма Шпигун. А ты, я гляжу, тоже успел отличиться, — показал старый шутник пальцем на Золотую Звезду Героя. — За что получил?
— За прорыв линии Маннергейма в финскую кампанию, слыхал про такую? — охотно вступил в разговор со стариком Рослый.
— Как не слыхать, — ответил бывалый солдат. — Мы энтого Маннергейма еще в первую германскую колошматили.
— Почему не эвакуировался, Георгиевский кавалер?
— От самого Дону вакуируюсь, язви ее в чешую. Дальше вакуироваться некуда да и не имею охоты.
Над траншеей свистнули пули, и следом протрещала с того берега автоматная очередь. Бойцы схватили «унтер–офицера» за штанины, стащили в окоп: «Ведь это он по тебе, деда. Выставился, как мухомор на поляне».
— Разрешите доложить, товарищ генерал, — выдвинулся из–за плеча командира корпуса Левицкий. — Я Кузьму Егоровича хорошо знаю, он помогал Шабельникову строить паром и до последнего дня обороны Моздока помогал нам переправлять через Терек раненых бойцов и имущество.
У генерала что–то дрогнуло в лице. Он шагнул к старику, крепко пожал его узловатую руку и сказал четко, без игривости:
— Благодарю за службу.
Старик выпятил насколько мог худую грудь, набрал в нее побольше воздуха и гаркнул:
— Рад стараться! — но осекся и поправился: — Служу Советскому Союзу!
— Вот дед дает! — произнес кто–то из бойцов полушепотом.
Потом генерал поинтересовался у своего внештатного бойца откуда он родом, где семья, не приходится ли ему родней полковник Шпигун, командир стрелковой дивизии? Прежде чем с ним проститься, спросил, где, по его мнению, немец будет строить переправу.
— Да там же, где мы ее строили с Петром Игнатичем, вон тама, возле острова, — не раздумывая ответил тот. — Сам посуди, милый человек, ну где он найдет место лучше этого? Здесь и берега низкие и дорога на Вознесеновку. Опять же удобно дюже: с острова на остров прыг–прыг — и тута. Кусты кругом и лес — вот он. Я сам давече видел, как немец на Коске сгружал каюки железные, вот такие широченные да длиннющие.
— А вы, отец, не ошиблись? — прищурился генерал.
— Да нет, сынок, не ошибся. Глаза–то у меня хотя и старые, а видють пока, благодарение господу, что твоя бинокля.
— Ну, прощайте, отец, — протянул руку генерал. — Все же лучше вам со своей хозяйкой уйти на время в тыл.
— Прощай, голубь, — вздохнул старый казак. — Дай бог тебе удачи в твоих делах. А обо мне не сумлевайся. У меня во дворе погреб что твой блиндаж, пересидим со старухой, ежли что, язви ее в чешую. Зато, когда нашим ребяткам переправа понадобится, чтоб, значит, на тую сторону, я тут как тут. Глядишь, и пособлю снова паром наладить. Трос–то я в кустах спрятал, понял?
— Ну, спасибо тебе, батя, — снова пожал руку старому патриоту генерал и выпрыгнул из траншеи. — Пошли, Левицкий, дальше, а здесь и без нас полный порядок.
Скрытые от неприятеля прибрежными кустами, генерал со своим проводником направились по дороге вдоль русла реки, на пути осматривая блиндажи, дзоты, ходы сообщения, пулеметные гнезда и прочие оборонные сооружения. Вовсю светило солнце. В листве деревьев безумолчно щебетали птицы. В густом от испарений воздухе мелькали бабочки, шуршали слюдяными крыльями стрекозы. «Тишь и гладь, и божья благодать», — подумал Левицкий, вступая вслед за генералом под сень терского леса и вдыхая тяжелый аромат буйно растущих под горячим кавказским солнцем трав.
— Пышно чересчур, как наряд у купчихи, — проговорил Рослый, срывая на ходу с тернового куста черную с сизым налетом ягоду, — и душно, как в бане. Наши леса скромнее, но куда приятнее здешних.
— А где это, товарищ генерал? — спросил Левицкий.
— На Брянщине. Посмотрели бы вы, Левицкий, какие березовые рощи в моей Петровской Буде — мечта. А какие там растут подосиновики — стройные, один к одному красавцы: прямо гусары в киверах, а не грибы. Вы сами откуда родом?
— Из Ростовской области.
— Ну, тогда вы не знаете, какая это прелесть — сосновый бор или покрытая ромашками лесная поляна. Тсс! — генерал вдруг поднял кверху палец, останавливаясь и прислушиваясь к доносящимся из зарослей калины голосам.
Разговаривали в окопе, из которого то и дело вылетали комья земли. Генерал осторожно заглянул за куст: в окопе орудовали лопатами двое раздетых до пояса бойцов.
— Чтоб ты сделал перво–наперво, если бы отпустили тебя домой? — спрашивал один, чернобровый крепыш с блестящими черными глазами на широком чернобровом лице.
— В первый день сидел бы с родственниками и пил водку, — отвечал другой, светлорусый и синеглазый. А на другой день поднялся бы пораньше, рогатку в карман — и в вербы. Ох, и чудное же у нас место — вербы!
У Левицкого дрогнуло сердце, на глаза наползла ту. манная дымка. Взглянул на генерала: у того дернулись на виске морщинки, по горлу перекатился за воротник гимнастерки ком. Генерал вышел из–за куста, вонзил в размечтавшегося красноармейца взгляд прищуренных острых глаз:
— Как фамилия?
Красноармейцы вздрогнули от. неожиданности, вытянули руки по швам.
— Рядовой 4‑й роты 2‑го* батальона Донченко, — представился сердитому генералу синеглазый, побледнев при виде Золотых Звезд на его груди и петлицах.
— Метко стрелял из рогатки, рядовой Донченко? — без тени улыбки спросил командир корпуса.
Бледность на лице Донченко сменилась румянцем.
— Воробья на лету сбивал, товарищ генерал, — улыбнулся он.
— А из винтовки собьешь?
— Не пробовал, товарищ генерал.
— И не надо пробовать, береги патроны для фашиста. Отличишься в бою, отпущу тебя на три дня в твои вербы.
— Спасибо, товарищ генерал, — Донченко вздохнул. — Только мои вербы сейчас под немцем находятся.
— Тьфу ты черт! — выругался командир корпуса. — А где это?
— В Зимовниках под Ростовом.
— Ну, это не так уж далеко, мои вербы, однако, подальше, — вздохнул в свою очередь комкор, направляясь дальше. Но не прошел и сотни шагов, как вновь остановился, привлеченный веселым смехом.
— Это что… — звенел сквозь смех задорный голос с кавказским акцентом. — Вот у нас под Харьковом был случай: румын целую неделю ходил к нам на кухню обедать.
— Ври больше, — перебил его другой голос, басовитый, как у церковного дьяка. — Как это он умудрялся переходить линию фронта?
— Ей–богу, правда, — первый голос зазвенел еще звонче. — Он какую–то заброшенную траншею нашел и повадился каждый день к нашему повару в гости. Повар не глядя плеснет ему черпаком в котелок и давай кто там следующий. Румын отойдет за развалины, перевернет пилотку кокардой вперед и по траншее к себе нах хауз.
— Да неужто никто из вас не видел, что он не в нашей форме?
— Никто. Обмундирование на нем грязное да рваное, у нас тоже не очень чтобы… А главное, он весь черный, горбоносый — вылитый армянин, а у нас во взводе одни армяне — попробуй разберись.
Калиновый куст взорвался хохотом, а генерал, сделав знак своему проводнику, пошел дальше по лесной дороге.
— Хороший дух у наших бойцов? — спросил он, ни к кому не обращаясь, и сам ответил себе: — Просто замечательный дух. За рекой немец готовится к наступлению, а они языками чешут, словно сами наступать собираются.
В лесу стояли повозки, фыркали распряженные кони, желтела глина недавно отрытых окопов. Бойцы, готовясь к сражению, чистили оружие, приводили в порядок обмундирование, писали письма. Заметив высокое начальство, вскакивали, словно подброшенные пружинами — все молодые, здоровые, бодрые. «Каковы?» — спрашивал генерал взглядом у спутника и шел дальше, делая на ходу замечания докладывающим ему командирам и политработникам.
Он был доволен увиденным и услышанным. Оборона в батальонах построена грамотно, с учетом рельефа местности и — самое главное — речных изгибов. Она не растягивается по всему берегу резинкой, а вяжется узлами и петлями, беря под перекрестный прицел имеющихся в батальонах огневых средств все подходящие для переправы участки, реки. Одно только не совсем нравилось генералу: очень уж молоды бойцы, составляющие эти узлы и петли — мальчишки, одетые в военную форму. Им завтра в бой, а они об оставленных дома рогатках мечтают. Не растеряются ли в трудный час, не дрогнут ли перед натиском гитлеровских головорезов? Хотя нет, не должны. Не дрогнули же на том берегу их сверстники из 3‑го батальона.
«Виллис» ждал своего хозяина на краю села. Возле него прохаживался Красовский.
— А ты зачем приехал? — нахмурился командир корпуса. — Я же тебе сказал, чтоб занимался своими делами.
Красовский пожал плечами.
— Самое важное дело оказалось именно здесь, товарищ генерал, — ответил он, распахивая дверцу перед своим непосредственным начальником. — А еще — в Кизлярском. Хочу посмотреть, как устроились минометчики. Да вот теперь и думаю, как туда добраться. Свою–то машину я оставил в Предмостном.
— Ох, и хитрый же ты, комбриг, — погрозил пальцем Рослый: — Все рассчитал. Садись, поедем в Кизлярское. Вы тоже садитесь, — кивнул он Левицкому.
Машина, попетляв по сельским улочкам, выскочила на проселочную дорогу и стала с трудом карабкаться на глинистый яр, опоясывающий село Нижние Бековичи огромным полукругом и служивший некогда берегом Тереку. Чем выше поднимался «виллис» по его крутому склону, тем шире и дальше разворачивалась за рекою панорама захваченного немцами города, посредине которого отсвечивал золочеными крестами великан–собор. На нем, под самым куполом, сидит, конечно, немецкий наблюдатель. Он, наверное, дремлет, если не видит ползущую вверх по извилистой дороге военную машину.
Нет, не спит дисциплинированный наводчик. Впереди, метрах в ста на отвесной стене обрыва с треском развернулся огненно–желтый бутон взрыва, и тотчас из–за реки донесся хлопок пушечного выстрела.
— Прибавь, Петя, — сказал генерал. — Незачем испытывать судьбу дважды.
Шофер надавил ногой на акселератор. «Виллис» взревел и запрыгал по дождевым промоинам.
Неприятно быть чьей–то мишенью. Всего несколько часов назад их обстрелял на Вознесенской дороге «мессершмитт», и только благодаря виртуозу–шоферу машина и ее экипаж остались целы. Четыре раза заходил на беззащитную цель желтоносый стервятник, но каждый раз очереди его пушек проходили мимо нее. Расстреляв боезапас, истребитель улетел, а генерал долго потом отряхивал пыль с рукавов гимнастерки.
Утром — самолет, сейчас — артиллерийская батарея. Не на шутку принялись долбить снарядами терскую крутоярь немецкие артиллеристы, того и гляди попадут в генеральскую легковушку. Но она уже одолела подъем. Последний раз вильнула на повороте и выкатилась на равнину. Слева — сельское кладбище, справа — кумыцкое селение Кизлярское, в котором расположен штаб и вспомогательные подразделения 2‑го батальона, а впереди, на кукурузном поле — невысокий холм.
— Что за точка? — спросил командир корпуса у Красовского.
— НП батальона.
— Скифский могильник или природная возвышенность?
Красовский пожал плечами:
— Местные жители этот холм называют «Абазу». В переводе с кумыцкого обозначает курган. Говорят, под ним какой–то древний князь похоронен.
— Давай к кургану, — распорядился комкор, обращаясь к шоферу.
По проложенной в кукурузе дороге «виллис» подкатил к кургану. Он весь изрыт круговыми траншеями и пулеметными гнездами. На самой макушке недобро ухмыляется черной прорезью амбразуры двухнакатный дзот. На нем стоит в актерской позе красноармеец и распевает во все свое молодое могучее горло:
Когда я на почте служил ямщиком…Внизу, у подножия кургана стоит девчонка в длинной, до колен гимнастерке и с выражением восторга на лице внимает сильному и довольно приятному баритону самодеятельного певца.
— Эгей! Товарищ Карузо! — окликнул увлекшегося песней бойца командир корпуса, покидая сидение и подходя к кургану. — Спуститесь на минутку с небес на землю.
Красноармеец оглянулся, оборвал песню, машинально одернул гимнастерку и кубарем скатился по крутому склону высотки под грозные очи так неожиданно нагрянувшего начальства.
— Рядовой Парамонов! — доложил он, переводя дух.
— На почте, говоришь, служил в молодости? — усмехнулся генерал, с удовольствием разглядывая статного белокурого юношу с веселыми карими глазами. — А где сейчас служишь?
— В линейном взводе связи лейтенанта Васильева, товарищ генерал, — отрапортовал Парамонов.
— Это не ты случайно пел по телефону связистке Дусе? — прищурился генерал.
Парамонов так и вспыхнул от прилившей к щекам крови: — был такой грех. Неужели Васильев не удовольствовался взысканием, а доложил о его проступке по инстанции?
— Нехорошо, — сделал заключение генерал, — вчера одной пел, сегодня другой поешь. А это что за воинское чудо? — шагнул он к стоящей чуть живой от страха девушке в длинной гимнастерке и огромных кирзовых сапогах.
— Фельдшер Вера… Вера Колодей, — произнесла чуть слышно девушка.
Генерал повернулся к Левицкому:
— Возьмите на заметку, старший политрук: сегодня же привести форму. военфельдшера Колодей в надлежащий вид. Подобрать гимнастерку по росту или перешить. Соответственно — сапоги. Разве сможет она в таких бахилах оказывать помощь раненым бойцам? Останьтесь внизу, — добавил он и вдвоем с Красовским стал подниматься по ходу сообщения на вершину кургана.
Хороший обзор с древнего могильника. Во все стороны расстилаются колхозные поля с полосами неубранной кукурузы и подсолнечника. Хоть бы тебе деревцо на всем пространстве. Только торчат стога сена да белеют кое–где саманные домики полевых станов. Генерал, пригнувшись, вошел в дзот, выглянул в амбразуру.
— Нелегко будет сдержать здесь немца, если он форсирует реку, — проговорил озабоченно. — Как ты думаешь, Павел Иванович, когда он начнет наступление?
— Думаю, дня через два–три, — ответил командир бригады.
— Довольно конкретно,.. — усмехнулся комкор. — Нужно знать точно: когда и где. Приложи все усилия, но добудь «языка».
— Постараюсь, Иван Павлович. Сегодня ночью группа разведчиков под командованием Федосеева снова отправится по тылам противника.
— Где они у тебя находятся? В Кизлярском?
— Нет. В лесу под Вознесенским перевалом.
— Ни пуха им ни пера, — сказал Рослый и вдруг подтолкнул подчиненного плечом. — А что, Павел Иванович, пострелял бы ты сейчас из рогатки?
Тот дико взглянул на старшего командира.
— В каком смысле? — спросил озадаченно.
— Да в прямом, — снова усмехнулся комкор. — Взял бы рогатку в руки, — и куда–нибудь в вербы.
— Ты же знаешь, Иван Павлович, — понял настроение собеседника Красовский, — мне и в детстве не пришлось пострелять из рогатки — сразу из винтовки начал.
— Наслышан, комбриг, о твоем героическом детстве, — потушил усмешку на губах командир корпуса и направился к выходу. На пороге резко обернулся. — «Языка» в любое время суток — в штаб корпуса.
— Есть, товарищ генерал! — перешел на официальный тон командир бригады.
Глава пятнадцатая
Хорошая палатка у разведчиков: брезентовая, с окнами и просторная, хоть танцы устраивай. Впрочем, в ней действительно кто–то отбивает чечетку под заливчатые переборы гармошки и поощрительные выкрики обитателей походного жилья. Так и есть: посредине палатки бойко вытаптывает остатки травы Саша Цыганков.
— Цыганок! Давай с картинками! — азартно кричит один из разведчиков, самый маленький в разведроте, прозванный товарищами за остроконечную макушку «конусом», и сам не выдерживает, запевает частушку:
Ты пляши, пляши, пляши, на макушке две плеши, на затылке пятая, пляши, конопатая.— Смотря на чьей макушке, а на твоей и одной плеши разгуляться негде, — подает реплику Ваня Поздняков, и взрыв смеха на мгновенье заглушает звуки гармошки. Сам же Поздняков не улыбается при этом, только черные глаза его сверкают антрацитовыми блестками. Он — душа роты, неиссякаемый источник ее бодрости и хорошего настроения. Он, как магнето на двигателе, подает искру в человеческие сердца, воспламеняя в них жажду жизни и веру в торжество ее добрых начал. В жару и холод, в слякоть и засуху он найдет повод развеселить приунывших от бесконечных лишений товарищей и тем самым заставить их найти в себе дополнительные силы для борьбы с врагом.
Великая, чудодейственная эта сила — смех на войне. Человек годами помнит добрую шутку. Когда спустя тридцать лет Поздняков приедет в Моздок на встречу с боевыми друзьями, к нему подойдет местная жительница и скажет:
— А я вас помню.
— Каким образом? — удивится Поздняков.
— Вы из окна нашего дома по немцам из пулемета строчили.
— Глаза, небось, запомнила? — приосанится старый воин.
— Нет, ваши шутки.
— Да неужели же я шутил в такой серьезный момент? Что же я говорил тогда?
— «Бунжур, мармазель. Соблаговолите с вашим падре сойти в погреб, а то мы здесь сейчас немного шуметь начнем», — сказал и каску приподнял.
— Узнаю Ваню Позднякова, — осклабится бывший пулеметчик и крепко пожмет руку заметно постаревшей с тех пор моздокской «мадемуазели».
Весело в палатке разведчиков. Словно и не было два дня назад боя с врагом, прорвавшимся на танках и мотоциклах к позициям бронебойщиков на северо–западной окраине города.
Танцуй, бегай, полушубок белый, рукава козиные, ох, мамушки родимые!— Встать! Смирно!
Это в палатку вошел командир роты Федосеев.
Разведчики похватали автоматы, мешая друг другу, выскочили из палатки. Что случилось? Может быть, немцы прорвались на эту сторону? Непохоже. Вокруг тихо и покойно. Только птицы свистят в кустах, да над головой, на самой круче Терского перевала постукивает колесами военная повозка.
— Поступил приказ из бригады, — командир прошелся вдоль строя, — сегодня ночью провести разведку. Группу поручено возглавить мне. С нами пойдет также замначальника разведотдела старший лейтенант Зуев. Нам придаются два сапера–минера, ребята хорошие — не подведут. На операцию требуется от вашего взвода семь человек. Остальные из других взводов. С конкретной задачей группа будет ознакомлена дополнительно. Кто желает пойти в разведку — два шага вперед.
Весь взвод сделал два шага, а Петя Сычев, заторопившись, сделал три.
— Отставить, — сказал командир. — Задание серьезное и опасное. Даю две минуты на размышление…
Поразмыслив, весь строй снова шагнул вперед.
— Так у нас ничего не получится, — нахмурил брови Федосеев, хотя в душе был несказанно рад единодушию подчиненных. — Поздняков!
— Я!
— Выйти из строя.
— Есть!
— Андропов!
— Я!
— Сычев…
Он назвал семь фамилий.
Распустив взвод, Федосеев стал ставить группе боевую задачу:
— Пойдем за Терек на трое–четверо суток. Всем приготовить маскировочные халаты и еще раз проверить оружие. Взять с собой побольше патронов и гранат, а сейчас — на отдых до шести часов вечера. Разойдись!
* * *
До чего же вкусный обед приготовил сегодня ротный повар. На первое суп с бараниной, на второе каша рисовая со сливочным маслом, на третье компот из свежих фруктов и пирожки с повидлом.
— У меня от сладкого зубы болят, — сказал Поздняков, подкладывая Андропову свой пирожок. — А у тебя не болят?
— Не… — мотнул головой Андропов, в один закус разделываясь с подношением товарища.
— А мясные пирожки все же лучше…
Андропов насторожился, словно лошадь, на которую возница замахнулся кнутом: ударит или не ударит?
— Погорячей чтобы и побольше, — продолжал Поздняков, искоса поглядывая на жующего приятеля.
У того при последних словах вытянулось и без того длинное лицо.
— Слушай, Иван, — сказал он просительно, — ведь ты, морда, проел мне все печенки этими пирожками. Дай хоть раз в жизни пожрать без твоей галды.
Но где там! Вокруг Позднякова уже собралась пообедавшая братва и, скручивая цигарки, с нетерпением ждет от него очередной истории о подвигах «дяди Степы».
— Ели ли вы пирожки с мясом, как Коля Андропов? — начал свою импровизацию Поздняков гоголевским приемом. — Нет, вы не ели пирожков с мясом так, как едал их до войны Коля Андропов.
— Да ведь неинтересно, — сморщился герой поздняковских рассказов.
— Зато вкусно, — подмигнул ему рассказчик, и глаза его вдохновенно заблестели. — Так вот, значит… идем мы с Колей по нашим Шахтам. Видим, стоит на углу лотошница. Молодая, красивая, кругленькая, как пирожок. Коля говорит: «Хочу с ней познакомиться». «Валяй» — соглашаюсь я. Вот он подходит к лотошнице и предлагает: «Хочешь, я у тебя пирожков поем?» Это он так в любви объяснился. Девушка засмеялась и говорит: «Ешь на здоровье». «А сколько ты с меня возьмешь, чтобы я ими наелся?» Продавщица и задумываться не стала. «Плати десятку и ешь сколько влезет», — разрешила она. И Коля стал есть. Ест и на нее смотрит, смотрит на нее и ест. Вначале продавщица улыбалась, потом перестала улыбаться. А когда Коля стал есть на тринадцатый рубль, она нахмурилась и отняла корзину. «Прорва какая–то…» — пробормотала она в сердцах — и дай бог ноги. Коля потом всю дорогу ворчал, что, дескать, не успел войти во вкус и что никогда больше не будет ухаживать за лотошницами, раз они не понимают настоящего обращения. Он даже выколол у себя на груди корзину с пирожками, пронзенную стрелой презренья. Покажи, Коля, ребятам.
— Отстань, шешер тебя забери…
— Стесняется, — резюмировал Поздняков, окидывая толпу хохочущих товарищей горящим от вдохновения взглядом. — Ростом с телеграфный столб, а скромен, как карликовая березка. Ему бы при такой комплекции в генералах ходить, а он у меня до сих пор в рядовых. Вот бы надеть на него генеральскую форму, какой бы военачальник получился: высокий, стройный, плечи — сажень, голос — иерихонская труба, взгляд, как у Суворова.
Андропов невольно приосанился, польщенный словами первого номера. Но Поздняков уже набрасывал кистью своего неистощимого воображения другую картину:
— А представьте себе моего друга в шинели фрица: длинный, худой, конопатый, уши торчат, под носом — слякоть. Фу! Какой гадкий вид…
Андропов осуждающе взглянул на насмешника–друга, хотел что–то сказать, но лишь махнул рукой и, не допив компот, неуклюже зашагал в расположение взвода.
До чего же нудно тянется время до вечера. Все давно уже переделано, проверено, смазано, а солнце висит и висит над Терским хребтом, словно воздушный шарик, привязанный за нитку. Даже Поздняков под конец приумолк, устав от собственных острот. Но вот неподалеку в кустах зафыркал грузовичок, и тотчас раздалась команда: «Выходи строиться!»
Спустя несколько минут разведчики погрузились в старенький ЗИС‑5, и он бойко запылил к передовой линии.
На развилке дорог у крохотного кладбища, там, где узкоколейка круто сворачивает в сторону села Кизлярского, огибая обрывистую терскую пойму, машину остановили бойцы из 4‑го батальона: дальше ехать нельзя — участок дороги пристрелян вражеской артиллерией. Нельзя так нельзя: разведчики спешились и в наступающих сумерках стали спускаться гуськом по дождевой промоине в долину. Из нее так и пахло речной сыростью. Вскоре они вошли в лес. В нем уже было довольно темно.
— Товарищи, — сказал командир роты, сделав знак остановиться на полянке, окруженной барбарисовыми кустами, — можно присесть и перекурить. Сейчас мы выйдем к Тереку. Переправляться будем на резиновых лодках, попарно, страхуя друг друга. Соблюдать полнейшую тишину. Наша главная задача: оседлать дорогу Прохладный — Моздок и захватить «языка». Звездин, Чориков, Сычев пойдут в головном дозоре. В правом дозоре пойдут Чалых и Камбаров, в левом—Мазаев и Жиров. Другие составят ядро. Связь зрительная. Сигналы условные.
Разведчики поднялись, крадучись направились к реке, о близости которой свидетельствовали лягушки. «Сырро! Сырро!» — предупреждали они.
Уже брезжил рассвет, когда разведчики вышли к намеченному участку дороги, соединяющей Моздок с Прохладным. В неглубокой балочке расположились на дневку. Выставили дозорных, наскоро позавтракали и улеглись спать на выгоревший от солнца чабрец. Маскировочные халаты надежно скрывали их от враждебного глаза.
Вечером, после заката солнца, минеры, сопровождаемые двумя разведчиками, поползли к дороге. Поздняков лег за пулемет, готовый в случае чего прикрыть товарищей. Остальные разведчики так же приготовили оружие к бою. Но все обошлось благополучно. Заложив мины, подрывники вернулись в балку и вместе со всеми стали ждать появления неприятельского транспорта.
Первым показался бронетранспортер с отделением автоматчиков на борту. Один из них лихо наяривал на губной гармонике популярную в немецкой армии песенку «Лили Марлен». За бронетранспортером, на некотором отдалении двигался кортеж легковых машин. Гул моторов все ближе, ближе. Сейчас броневик наскочит на мину и… Но он пропылил мимо, словно на дороге лежали не мины, а абрикосовые косточки. Следом так же невредимо прошли машины: одна, вторая, третья… Что за дьявольщина? Неужели минеры второпях забыли вложить в тол детонаторы? И в это мгновенье на дороге грохнуло. Третья машина вздыбилась в облаке огня и дыма. От нее во все стороны полетели куски обшивки и какие–то листы бумаги. Молодцы минеры! Угадали в самую середку. Машина марки «хорх», комфортабельная, в таких только крупное начальство ездит. Идущие следом «оппель–капитаны» остановились, из машин выскочили офицеры и, размахивая руками, с криками бросились к пострадавшему «хорху». Передние машины тоже затормозили и, развернувшись, направились по обочине к месту происшествия.
— Гершафтен! [4] — кричал офицер в черной эсэсовской форме, вытаскивая в оторванную взрывом дверцу пострадавшей машины безжизненное тело какого–то военного и призывая, по всей видимости, на помощь.
Лейтенант Федосеев тронул за плечо Позднякова:
— Давай, Ваня…
Длинная пулеметная очередь заглушила крики немцев. К ней присоединились отрывистые очереди автоматов разведчиков. Над двумя «оппелями» заплясали языки пламени. Из них вываливались обезумевшие от страха офицеры и на бегу вскакивали в уцелевшие машины.
— Вперед! — крикнул Федосеев и побежал к дороге, по которой, дико воя моторами, машины уходили на предельной скорости. Нужно захватить какого–нибудь раненого офицера.
Но впереди послышался мотоциклетный треск, и из клуба пыли выскочила целая колонна вооруженных пулеметами «цюндапов». С этими шутки плохи. Федосеев дал команду отходить к кукурузному полю. И вовремя: сбоку заурчали две танкетки, стремясь отрезать бегущих разведчиков от спасительных зарослей. В сгущающейся темноте замелькали красноватые строчки трассирующих пуль.
Ни мотоциклисты, ни танкетки в кукурузу идти не решились. Построчив по ней из пулеметов, они вернулись к дороге. Разведчики же наоборот не решились из нее выйти. Они бежали по хрустящим «джунглям», пока старшему группы не пришло наконец в голову остановиться и пересчитать подчиненных.
— А где остальные? — спросил Федосеев, переводя дух после вынужденного марш–броска и не видя перед собой большинства разведчиков.
Стоявший ближе всех к командиру роты Борис Жиров пожал плечами:
— Наверно, к Тереку рванули.
— Вот черт! Где же их теперь искать? — ругнулся Федосеев. И вынул из кармана кисет.
Пока курили, думал, как быть дальше, в какую податься сторону. Решил идти в сторону кирпичного завода, до него недалеко отсюда и стоит он на отшибе от города. Нужно поговорить с местными жителями.
К заводскому поселку добрались без происшествий. В нем — ни огонька. Ставни домов закрыты, за ними не слышно человеческих голосов. Только брешут во дворах собаки: не научились еще отличать своих от незваных пришельцев.
Федосеев постучал в ставню саманного домика, из него очень скоро вышла хозяйка, спросила, кого это в такое лихое время по ночам носит.
— Своих, мамаша, — ответил шепотом Федосеев, подходя к калитке. — Немцы в поселке есть?
— Мать моя родная! — ахнула женщина, выходя из калитки к ночным гостям. — Да откуда же вы взялись? Ай от своих отбились? Наши–то за Тереком.
— Немцы, спрашиваю, есть? — повторил вопрос Федосеев.
— Нет, родненькие вы мои, нет, они все в Моздоке больше, — перешла на шепот и женщина. — Днем, правда, приезжали, поросят, гусей постреляли и снова в город укатили. Да что же вы стоите на улице? Заходите в хату, я вам хоть молочка дам.
Разведчики зашли во двор. Только Жиров остался у открытой калитки. На всякий случай.
— Много немцев в городе? — спросил Федосеев, садясь на порожек и отхлебывая молоко из кружки.
— А чума его знает, — вздохнула гостеприимная хозяйка. — Каждый день едут и едут на машинах да на танках с Русского хутора и с Прохладного тож. Это вы у моего Кольки спросите, он, чертенок, там сегодня с самого утра пропадал. Верите, до того изболелась его дожидаючи, что даже за вихры не оттаскала, когда вернулся вечером. Сейчас я его разбужу.
Колька оказался мальчишкой лет двенадцати. Он не удивился приходу советских бойцов, только обрадовался страшно.
— Вот бы им с тыла ударить! — помечтал он вслух, но, пересчитав мысленно силы «своих», понял, что для такой операции шестерых красноармейцев маловато. — Вы разведчики? — сообразил он сразу.
— Разведчики, — не посчитал нужным скрывать Федосеев и взял мальчика за плечо. — Расскажи–ка Коля, что ты видел в городе.
Коля понимающе кивнул лохматой головой. Глаза его блестели в ночной темноте от крайнего возбуждения. Подумать только, вчера он передавал оружие партизанам, а сегодня дает нашим разведчикам сведения о силах и расположении врага. Минька Калашников при встрече умрет от зависти. Да и остальные пацаны тоже.
— Так вот, значит… — зашептал он, усаживаясь на порог рядом с командиром разведчиков. — Вы рощу нашу знаете? Справа от города, возле Терека? Так вот в ней танков и броневиков считать не пересчитать. И на Коске тоже в кустах стоят замаскированные.
— Ну, сколько хоть приблизительно? — спросил Федосеев.
— Да сто или двести. Эх, если б я знал такое дело, да я бы все их пересчитал. Вы завтра приходите, я вам/ точно скажу.
— А еще что видел?
— Еще в сквере возле второй школы, ну что недалеко от базара, танков целая куча и машин всяких. А в самой школе, видать, штаб ихний. Какие–то в блестящих плащах и охрана — будь спок: кругом с автоматами часовые и собаки–овчарки.
— Завтра с утра на цепь посажу, как тую собаку, попробуй тогда убеги из дому, — проворчала стоящая у двери мать.
— Коля–геройский парень, и я ему от имени нашего командования выношу благодарность за ценные сведения, — обернулся к ней Федосеев. — Ну, что еще видел, юный разведчик? — вновь обратился он к Кольке.
— Партизан.
— Чего? — удивился Федосеев. — Какие тут партизаны?
— Век свободы не видать, — побожился Колька, чиркнув у себя под бородой большим пальцем руки. — В бурунах отряд организован, «Терек» называется. Я им винтовки поотдавал, что с пацанами насобирал возле бронепоезда. Вчера приезжали на подводе, забрали. И пулемет ручной с дисками. Товарищ командир, — голос у Кольки дрогнул, — а мне можно с вами?
— Нельзя, — отрезал, не раздумывая, командир, словно с минуты на минуту ждал такой просьбы, и затем спросил более мягким голосом: — Чего ж с партизанами не ушел?
— Они тоже сказали «нельзя», — вздохнул мальчишка.
— Сиди уж, вояка, — шлепнула мать ладонью по затылку. — Хватит мне того, что от батьки нет никаких вестей.
— Спасибо, хозяюшка, — поднялся с порожка старший группы и закинул за плечо автомат. — Как звать–то хоть вас, добрая душа?
— Анной Ивановной величают.
— До свидания, Анна Ивановна. Вернемся — рассчитаемся за молочко–то.
— Вы лучше с немцами рассчитайтесь поскорее. Налетели, как саранча, все под метлу гребут. И людей, — как в старину, на столбах да на деревьях вешают ни за что ни про что. Вон у Ксении Городецкой шестеро раненых лежат в сарае. Ну, как нагрянут немцы…
— Какие раненые?
— Известно какие: наши, советские. Такие же, как у вас, синие косячки на воротниках. Спасибо Марусе–фельдшерице, раны им перевязывает. Охо–хо–хо… Ну, идите, сыночки. Помоги вам бог собраться с силой да турнуть его отсель, проклятого.
Убедившись, что группа в суматохе боя разделилась надвое, старший лейтенант Зуев взял на себя командование оставшейся половиной.
— Вот что, товарищи, — сказал он запыхавшимся спутникам, очутившись после продолжительного бега в чаще терского леса, — главная наша задача — захватить «языка». Но если мы будем бегать, высунув собственные языки, от каждой пулеметной очереди, то вряд ли нам удастся выполнить задание командования.
— Мы сейчас находимся, по всей видимости, между Моздоком и станицей Павлодольской. Слышите, петухи поют? — продолжал Зуев. — На рассвете пойдем туда, а сейчас всем спать, кроме часового.
Едва начало сереть между деревьями, разведчики были на ногах. Наскоро закусили консервированной тушенкой, покурили.
— Идем по двое, с интервалом пятьдесят метров, — начал было Зуев, беря автомат в руки, но в это время в кустах со стороны опушки послышались чьи–то шаги и тяжелые вздохи. Разведчики оттянули затворы автоматов, приготовились к любой неожиданности. Вскоре между кустами показалась корова, которую погоняла веткой босоногая казачка.
— Ой! — вскрикнула казачка, увидев направленные на нее автоматы. Корова, вылупив глаза на пятнистые, зеленые чудовища, дико всхрапнула и шарахнулась в сторону.
— Тихо! — поднял палец Зуев. — Ты что, сроду военных не видела?
Казачка облегченно вздохнула, с радостным изумлением заскользила глазами по ухмыляющимся лицам красноармейцев.
— Вы,должно, с той стороны? — сказала задрожавшим от волнения голосом.
На вид ей было лет двадцать. Стройная, сероглазая, из–под платка так и рвутся на волю темные кудри.
— Вот бы у такой пирожков покушать, — шепнул своему второму номеру Поздняков.
— Хороша, шешер ее забери, — отозвался Андропов.
Девушка сообщила разведчикам о том, что около их станицы немцы навезли в лес много железных лодок и что уже два дня подряд ездит на берег на мотоцикле какой–то важный немецкий начальник, не то полковник, не то генерал. Всегда в одно и то же время. Его сопровождают офицеры. Они ходят по берегу и проверяют дно.
— Полковник, говоришь? — у Зуева от чрезвычайного возбуждения загорелись глаза.
— А шут его знает, — пожала плечами казачка. — Толстый, лысый, важный такой — сразу видно, не из простых.
— В какое время он приезжает на берег?
— Часов в десять утра. Всегда как по расписанию.
— Ну, спасибо тебе, дорогуша, — Зуев пожал узкую, смуглую руку. — Освободим Моздок, приглашаю в клуб на танцы. А сейчас давай договоримся на прощанье: нас не видела, ладно?
Девушка утвердительно кивнула головой:
— Не маленькая, понимаю… Я вот что хотела еще сказать: возьмите меня с собой на ту сторону, товарищ лейтенант. Я буду раненых перевязывать. Я умею, честное слово…
Зуев посерьезнел.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Маруся… Мария Кузнецова, — поправилась казачка. — Я ГТО на «отлично» в школе сдавала.
— Вот что, гвардии Маруся, — вздохнул командир группы, — взял бы я тебя за милую душу, да не могу сейчас, неспроста мы сюда пришли. Ну, иди к своей корове, а то ее в лесу волки сожрут.
— Волков тутока отродясь не было, — возразила Маруся. — Вот ежли немцы поймают, то сожрут. Эти почище волков будут.
Казачка ушла, а разведчики, выдвинувшись к дороге, притаились в засаде. Не зря говорят, что догонять и ждать — самые худшие из всех времяпрепровождений. Солнце печет тебе в затылок, в горле пересохло от жажды, по шее муравьи бегают, а ты лежи в траве за кустами, как бревно какое–нибудь, и не смей шевелиться.
Наконец со стороны станицы показался на дороге мотоцикл с коляской.
— Приготовиться, — шепнул Зуев, и команда прошелестела по губам лежащих в ряд разведчиков порывом ветра.
Мотоцикл все ближе, ближе. Уже ясно видно, что за рулем сидит офицер, на заднем сидении — тоже. У Зуева захватило дыхание: в коляске находится солидный чин! Он вгляделся — точно: сидит, откинув на спинку сидения грузные плечи, подполковник. В левой руке держит фуражку, которой обмахивает, словно веером, потное заплывшее жиром лицо.
Вот он уже совсем рядом.
Подал знак. Выстрелили.
Водитель–офицер приподнялся над сидением, словно рассматривая что–то впереди, и повалился мешком на своего пассажира. Мотоцикл вильнул рулем и ткнулся в дорожную канаву. Сидящий сзади офицер в мгновенье ока спрыгнул с мотоцикла и спрятался за его люлькой. Он что–то пролаял обалдевшему от выстрелов толстяку–подполковнику, и тот неуклюже стал вываливаться через борт коляски.
— За мной! — крикнул Зуев, но раздавшаяся из–за него автоматная очередь заставила его снова прижаться к земле. Зуев выругался: повезло фашисту, остался цел благодаря подполковнику. Впрочем, повезло ненадолго. Справа рявкнул пулемет Позднякова; и «шмайсер» в руках офицера умолк.
Между тем пришедший в себя подполковник втянул лысую голову в плечи, бросился к растущей неподалеку кукурузе. Спотыкаясь, падая и беспрестанно оборачиваясь, он палил из пистолета в бегущих за ним разведчиков и верещал перепуганной насмерть собачонкой.
— Стой, шешер тебя забери! — кричал ему Андропов, делая саженные прыжки и стараясь обогнать вырвавшегося вперед одного из своих товарищей. Но тот уже уперся автоматом в жирную спину беглеца:
— Хенде хох!
Подполковник упал, перевернувшись на спину, судорожно рванул в последний раз спусковой крючок парабеллума. Андропов увидел, как дернулся кверху подбородок у разведчика, словно ударили в него снизу боксерской перчаткой, и смелый разведчик опрокинулся на спину.
— Проклятый боров! — Андропов выбил прикладом пистолет из руки подполковника и навалился на него своим двухметровым телом. Но не тут–то было. В ту же секунду он отлетел в сторону, словно котенок, отброшенный разъяренным быком: подполковник был не только толст, но и необычайно силен.
Подбежали остальные разведчики, но и те не сразу смогли справиться с обезумевшим от страха и ярости пленным.
'Теперь — скорее отходить к месту переправы, ибо в любую минуту могут нагрянуть немцы. Разведчики положили в коляску мотоцикла убитого товарища.
Поздняков крутнул ногой кик–стартер, но двигатель, взревев, тотчас заглох. Оказалось, пуля попала в бензобак, и из него вытекло горючее. Пришлось толкать мотоцикл собственным «паром», как определил подобный способ передвижения Ваня. Не слишком удобно, но не бросать же, в самом деле, такой ценный трофей.
Терек появился как–то сразу. Он равнодушно катил изжелта–серые воды, тускло отражая в них склоненные деревья и запутавшееся в листве солнце. «Мне–то какое дело, — казалось, ворчал он, перекатываясь через макушки упавших в воду дубов, — как вы будете переправляться без плавсредств».
Действительно, задача сложная. Мотоцикл можно пока спрятать в лесной чаще; а вот как быть с подполковником? Его нужно переправить на тот берег во что бы то ни стало. Но на чем?
Зуев распорядился просмотреть берег слева и справа, не найдется ли какая–нибудь лодка местного жителя.
Названные командиром разведчики пошли на задание, каждая пара в свою сторону. Но прошло минут пять, и Андропов вернулся, запыхавшийся и весь мокрый от пота. Худое, веснушчатое лицо его светилось радостной улыбкой.
— Нашли лодку? — шагнул ему навстречу Зуев.
— Нет, товарищ гвардии лейтенант, нашел комроты Федосеева с ребятами. Они вон там за поворотом плот сооружают.
Глава шестнадцатая
К удивлению командира корпуса, плененный разведчиками командир саперного батальона Вильгельм Шульц оказался довольно откровенным собеседником.
— Почему ваши войска не стали форсировать Терек? — спросил Рослый.
— У нас не было в достатке горючего, господин генерал. Тылы отстали, ждали сосредоточения.
Командир корпуса, выслушав переводчика, едва удержался от усмешки: однако, не все гитлеровцы встают в позу преданных фюреру фанатиков, презирающих врага и смерть.
— Когда начнете форсировать Терек?
Подполковник в замешательстве вытер ладонью взмокшую плешь, но, вспомнив, что стоит перед генералом, тотчас вытянул руки по швам:
— Сегодня ночью, господин генерал.
— Вы в этом вполне уверены?
Пленный еще больше выпятил круглый живот. Уверен ли он, когда командующий 1‑й танковой армии генерал–полковник фон Клейст самолично приказал ему на военном совете обеспечить переправу войск в районе станицы Павлодольской и получить за это «железный крест»? «Господа! — сказал в тот день командующий, пользующийся благосклонностью самого Гитлера за энергию и верность национал–социалистской идее, — поезд войны движется строго по расписанию. Второго сентября наши доблестные войска форсируют Терек и овладеют Вознесенской. Предупреждаю, господа, что нарушение графика наступления я буду расценивать как тяжкое военное преступление. Баку должен быть взят не позднее двадцать пятого сентября. Этого требуют от нас нация и фюрер. Хайль Гитлер!»
— Наши солдаты знают, что если мы возьмем нефть, русские проиграют войну, — продолжал говорить пленный. — До конца войны осталось триста километров.
— Вы так думаете? — посмотрел в глаза пленному командир корпуса.
— Так думает наш командующий, господин генерал, — отвел глаза в сторону толстяк–подполковник.
Задав еще несколько вопросов о численности и расположении главных ударных сил противника, командир корпуса приказал адъютанту увести пленного и обратился к сидящему рядом начальнику штаба, который что–то записывал в блокнот.
— Давай немцу немного попортим настроение.
— Каким образом?
— Звякнем Красовскому, пусть пройдет артиллерией по городской роще и острову.
— Давай, — согласился начальник штаба.
* * *
Командир орудия младший сержант Аймалетдинов пришивал к гимнастерке свежий подворотничок. Его подчиненный рядовой Абдрассулин сушил на станине орудия портянки. Командир батареи лейтенант Цаликов, уроженец города Орджоникидзе, сидел на зарядном ящике и читал армейскую газету. От него по выгоревшей от солнца траве протянулась длинная, тощая тень — дело идет к вечеру.
— Что–то давно из дому письма нету, — подумал вслух Аймалетдинов и, вздохнув, затянул на родном татарском языке песню:
Ак иделнян артларында калдырдыц минегеня…Голос певца без претензии на мировую славу, но в черных глазах его земляка. Абдрассулина отразилось такое сильное чувство, словно услышал он самого Утесова. Он поспешно прокашлялся и подхватил песню.
Командир батареи отложил газету, с усмешкой взглянул на подчиненных.
— Что это вы бормочете? — спросил он.
— Очин кароший песня поем, — ответил Абдрассулин, — про любов.
— Вот бы не подумал, — удивился лейтенант.
— Э, товарищ гвардии лейтенант, — весело прищурился Аймалетдинов. — Я когда не знал русский язык, тоже над ним смеялся: почак — ножиком называется, башка — головой. Дедушка мой очень серчал на меня за это. «Каждый язык по–своему хорош», — говорил он. А еще говорил: «Сколько знаешь ты языков, столько раз ты человек». Очень мудрый был.
— О чем же ты пел, Зинаид? — спросил Цаликов.
— Это не я — девушка поет о своем любимом. Примерно будет так:
За морями–океанами оставил одну меня, на правый локоть склоняюсь, все думаю про тебя.— А ты о чем пел, Вядут? — повернул Цаликов горбоносое лицо к Абдрассулину.
Тот поднял еще выше и без того несимметричную, широкую бровь и охотно перевел свой куплет:
Я, как алый цветок, росла в мой родной край. Еще бы шибко–шибко расцвел, если б вернуться домой.— Правда, хорошая песня, — похвалил командир батареи, — перевод только не очень чтобы… теперь мою песню послушайте.
— «Мæ иунæг уарзон, германы хæсты», — затянул лейтенант–осетин заунывным голосом, и оба татарина засмеялись.
— Ну, чего заржали, как лошади? — прервал пение солист.
— Где же в ней про любовь, товарищ гвардии лейтенант? — спросил, вытирая выступившие на глазах слезы, Аймалетдинов. — Одни германские хвосты какие–то…
— Ничего вы, братцы мои, не смыслите в искусстве, — сморщился в притворном отчаяньи командир батареи, — «Мой любимый, единственный на германской войне», — поет осетинка о своем женихе, поняли? Это вам не «жирлярдя». Эй, Мельниченко! — крикнул он улыбающемуся в сторонке воспитаннику.
— Слушаю, товарищ гвардии лейтенант, — встал по стойке «смирно» Мельниченко.
— Какая твоя любимая песня?
— «Катюша», товарищ гвардии лейтенант, — широко улыбнулся юный артиллерист.
— Вот это песня, — вскочил с зарядного ящика Цаликов и, поправив ремень на гимнастерке, запел сильным и красивым голосом:
…Выходила, песню заводила про степного, сизого орла…Он взмахнул по–дирижерски руками, и весь орудийный расчет подхватил:
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.Но допеть песню артиллеристы не успели. Прозуммерил полевой телефон, и подскочивший к нему запевала услышал в трубке чеканный голос «самого».
— …Выкатите батарею поближе к берегу, поставьте на прямую наводку и угостите как следует фрицев на сон грядущий. По острову и городской роще особенно. Снарядов не жалеть, — приказал в конце телефонного разговора комбриг Красовский.
Это было зрелище, отрадное сердцу каждого советского бойца, стоящего в обороне на терском рубеже: вдруг из зарослей боярышника и облепихи на противолежащем острове взметнулись к небу огненные смерчи, и грохот множества разрывов всколыхнул воздух над седым Тереком.
— Смотри, Данило, как наши немцу духу дают! — радостно крикнул Вася Донченко своему напарнику по окопу Даниилу Рогачеву.
— Вижу, — степенно ответил Рогачев. В отличие от темпераментного друга он уравновешен и рассудителен. Его черные, несколько угрюмоватые глаза смотрят из–под таких же черных бровей изучающе и спокойно. Весь он олицетворение нерастраченной силы, доброты и мужского достоинства.
— Ты не очень высовывайся, — потянул он товарища за гимнастерку с бруствера, — сейчас он начнет нам духу накачивать.
Пророчество Рогачева не замедлило сбыться. В ответ на стрельбу нашей батареи противотанковых пушек немцы ударили по правому берегу изо всех видов своей артиллерии. Воздух над головами у бойцов в один миг наполнился беспрерывным грохотом разрывов, свистом осколков и жутким воем летящих мин.
— Верно говорят: «Не тронь г…, оно вонять не будет», — крикнул в ухо лежащему рядом Рогачеву Донченко и еще теснее прижался к прохладному окопному дну. Сверху на них сыпались комья земли, сучья деревьев.
Вскоре к грохоту снарядов и мин прибавился свист и грохот авиационных бомб. Откуда–то налетели «лаптежники» и стали остервенело пикировать на терский лес. Огонь и дым, и оглушительный треск разрываемого металла, и удушливая вонь сгоревшего тротила. И так, пока не зашло солнце.
Только с приходом сумерек прекратился этот кромешный ад, и в наступившей тишине явственно прозвучал из–за реки насмешливый картавый голос немецкого громкоговорителя:
— Эй, Иван! Как ест твой здоровье?
Вася Донченко поднялся на ноги, отряхнул с плеч землю, погрозил кулаком невидимому насмешнику:
— Тебе, Фриц, тоже не поздоровилось: вон как в кустах полыхает. Должно быть, танки да машины горят.
Сзади в кустах послышались шаги. Бойцы оглянулись: к их окопу, пригнувшись, спешили двое.
— Здравствуйте, гвардейцы, — гости спрыгнули в окоп. Это были командир 4‑й роты лейтенант Мельник и секретарь партбюро 2‑го батальона политрук Мордовин. Первый как всегда чисто выбрит, аккуратно одет, подтянут. Второй — тоже одет аккуратно, но без щеголеватости, не блещет строевой выправкой, и в синих добрых глазах его светится скорее отеческая заботливость, нежели воинская лихость.
— Ну как вы тут? — спросил командир роты, поправляя ремень на тщательно отутюженной гимнастерке.
— Хорошо, товарищ гвардии лейтенант, — ответил Рогачев, выпячивая перед командиром широкую грудь.
— Немец не делает попытки перебраться на эту сторону?
— Пока нет.
— Дразнится только, — добавил из–за спины своего рослого товарища Донченко. Сам он крепкого телосложения, у него широкие плечи и сильные жилистые руки, но вот ростом не вышел. «Мал, да удал», — говорил он сам про себя.
— Пускай дразнится, — усмехнулся Мельник. — Как говорят на моей родине: «Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь — и сам лопнешь». Вот искупаем немца в терской воде, тогда послушаем, как он запоет. Не спускайте глаз с реки. Передайте соседям, что, по всей видимости, сегодня ночью противник попытается форсировать Терек. Так что не спать, понятно?
— Так точно, товарищ гвардии лейтенант.
— Ну, в таком случае, спокойной вам бессонницы, — сказал на прощанье лейтенант, намереваясь выпрыгнуть из окопа. Но тут вперед выступил Донченко.
— Товарищ гвардии политрук, — обратился он к Мордовину, — разрешите обратиться?
Мордовин поощрительно смежил веки: давай, мол.
— Мы вот с Данилом… Рогачёвым, то есть, хотели бы перед боем… — Донченко замялся и затем выпалил одним духом, — в партию вступить.
Секретарь партбюро нисколько не удивился такому желанию: сегодня за день это уже десятая просьба.
— Пишите заявления, — сказал он, и в голосе его слышались теплые нотки. — Только помните, что коммунисты всегда впереди других в атаку идут.
— А мы и хотим быть впереди, а не сзади, правда, Данило? То есть, Рогачев, — толкнул локтем товарища быстрый в движениях Донченко.
— Правда, — переступил с ноги на ногу черноглазый здоровяк. — Вот только кто нам напишет рекомендации?
— Разве у вас во взводе нет коммунистов?
— Есть один, Третьяков, остальные все комсомольцы.
— Вот он и напишет, — подмигнул снова секретарь партбюро батальона. — Я тоже напишу, — добавил он весело и первым выпрыгнул из окопа.
Всю ночь Рогачев с Донченко не смыкали глаз, пяля их до боли в кромешную тьму и не видя в ней ничего, кроме контуров кустов на фоне звездного неба. Иногда в воде под берегом шумно плескала крупная рыба, и тогда взвинченные долгим ожиданием бойцы хватали лежащие на бруствере окопа автоматы, нацеливая их в сторону всплеска и думая, что это ударило по воде весло с вражеской лодки. Но проходила минута–другая, они успокаивались и продолжали шепотом прерванный разговор.
— Должно быть, сом ударил, — сделал предположение Рогачев.
— Или сазан, — возразил Донченко. — Здесь, наверно, сазаны килограмм по двадцать, а то и больше. Вот бы нам в Зимовники такую речечку.
— Нам бы в Миллерове тоже такая не помешала — летом выкупаться негде. Разве за тридцать километров наездишься на Калитву?
— Что, ай совсем нет в городе?
Рогачев вздохнул.
— А у вас есть? — ответил он контрвопросом.
— Паршивенькая, но есть. Малая Куберлейка называется. Воробью по колено, летом местами пересыхает начисто, а все же река, даже на карте обозначена. У нас ведь иной раз как поднимется пыльная буря — солнца весь день не видать.
— А говорил, в вербы побежишь, если домой отпустят, — хмыкнул Рогачев. — Какие же в пустыне вербы?
Донченко вздохнул:
— Это мой дед так акациевую рощицу назвал в память о своей «Вкраине». Насажали как–то всем миром в одной балочке. Мы туда с Наташкой гулять ходили. Как–то она там без меня…
— Давно уже и думать про тебя забыла, — подзадорил друга Рогачев.
— Ну, уж это ты брось, — нервно хохотнул Донченко, — она не такая.
— Что ж в ней особенного?'
— Не знаю. Только она серьезная очень и такая красивая, что страшно делается, когда на нее глядишь.
— Я когда на Бабу–Ягу смотрел в «Василисе Прекрасной», мне тоже страшно делалось, — съязвил Рогачев.
— Думаешь, очень смешно? — вздохнул Донченко. — Нет, брат Данило, такую девушку, как Наташа, днем с огнем не сыщешь, нету таких больше. Интересно, из–под чего эта посудина? — вынул он из окопной ниши бутылку КС.
— Из–под водки, небось, — ответил Рогачев, зевая. — Ты любишь водку?
— Нет, я ситро больше любил. Бывало с Наташей…
В реке снова всплеснуло. Потом еще и еще. Впереди слева рявкнул вражеский пулемет. Трассирующие пули мелькнули в темноте красными светляками.
— И чего зря патроны тратит? — проговорил Донченко. .
— Для отвода глаз, — отозвался Рогачев. — Делает вид, что остерегается нашего десанта. Думает, тут дураки, не понимают его хитрости. То все ракеты пускал, а сегодня — хоть бы одну.
— Тсс! Слышишь? По–моему, это уже не рыба, — прошептал Донченко.
Бойцы прислушались: в промежутках между пулеметными очередями и одиночными минометными выстрелами доносились с реки мерные,, едва слышные удары весел.
— Десант! — горячо дохнул Рогачев в ухо товарищу. — Давай передай по цепи.
Однако Донченко не успел выскочить из окопа. Справа взвилась в воздух белая ракета и, описав дугу, рассыпалась над водой искрами. И тотчас ударил пулемет, теперь уже с нашего берега. Рогачев увидел, как при угасающем свете ракеты повалились друг на друга сидящие в передовой лодке немцы. Один из них закричал не своим голосом.
— Стреляй, чего ждешь! — крикнул Рогачев товарищу и застрочил из автомата в темноту, на крик раненого врага.
Снова взвилась в небо ракета, осветив поверхность Терека и плывущие по нему многочисленные лодки противника. Некоторые из них уже приближались к правому берегу.
— Шнелль! — хрипел за кустами, совсем уже рядом с окопом ненавистный картавый голос. Слышно было, как забултыхались в воде, выбираясь на берег, немецкие автоматчики. Короткие очереди из их автоматов замелькали перед глазами обороняющихся.
— Ах, черт! Опять потухло, не видать гадов, — сокрушался Донченко, поливая свинцом из автомата незваных гостей. Стрелял наудачу — авось зацепит. И тут его осенило: бутылка с горючей жидкостью! Он нащупал в нише окопа огнеопасную поллитровку, размахнулся и запустил ею в стоящее неподалеку дерево. Звякнуло стекло, — и тотчас вспыхнуло над берегом яркое пламя, выхватив из непроглядной тьмы прибрежные кусты и вражеских солдат, бегущих между ними.
— Бей их, Данило!
Бой разгорался. К автоматной и пулеметной трескотне примешалась минометная стрельба, а вслед за ней обрушилась на передний край ночной схватки артиллерия: немецкая — на обороняющийся берег, советская — на русло реки. Освещаемые вспышками разрывов и ракетами, крутились в водоворотах Терека обломки разбитых снарядами лодок и понтонов. Попытка врага высадиться на южный берег незамеченным не увенчалась успехом. Но плацдарм он все же захватил — одновременно в двух местах: в районе Предмостного и Кизлярского, в стыке между 8‑й бригадой и 151‑й стрелковой дивизией. Тщетно старались сбросить в воду переправившихся автоматчиков бойцы 1‑го и 2‑го батальонов. Поддерживаемые артиллерией и авиацией, фашисты всякий раз отбивали их контратаки. А из–за реки прибывали все новые и новые подразделения ударной 370‑й пехотной дивизии генерал–майора Клеппа. «Поезд войны», по образному выражению командующего армией
Клейста, направился к Терскому хребту в соответствии с утвержденным в ставке расписанием.
Все так же сияло над миром солнце, по–прежнему безмятежно и неторопливо плыли в голубоватой выси облака, а на земле грязные от пота и пыли люди остервенело бросались друг на друга, и убивали, убивали, убивали.
— Гляди, Данило, танк ползет! — толкнул Донченко локтем товарища.
Но Рогачев и сам смотрел во все глаза на приближающуюся со стороны Предмостного рычащую громадину. Остановившись поодаль, она прямой наводкой стала расстреливать из своей, длинной, с набалдашником пушки передний край.
— Данило, давай заткнем ему глотку.
— А как?
— Подползем и ахнем гранатами.
— Давай, — согласился Рогачев.
Взяв в руки по противотанковой гранате и по бутылке КС, друзья выбрались из окопа и, прикрываясь высоким бурьяном, поползли к танку. А вокруг все рвалось, горело, свистело и стонало. Вот уже сквозь заросли бурьяна хорошо видны черно–белый крест. на броне танка и пышногривый лев с оскаленной мордой на желтом фоне.
— На–ка тебе, немецкий лев, нашего русского медведя! — прошептал Донченко и первый швырнул гранату. Она испуганной куропаткой взвилась над бурьяном. Вслед за нею полетела граната Рогачева. Вздрогнула от страшного взрыва земля, и танк, словно подавившись очередным снарядом, замолчал. Над ним заклубился дым.
Теперь скорей назад, в окоп. И вот тут–то отказала выдержка у отчаюги–ростовчанина со станции Зимовники: стремясь побыстрее достичь безопасного места, он приподнялся и сделал короткую перебежку. Этого оказалось достаточно для другого танка. Раздался пушечный выстрел, и Вася Донченко ткнулся лицом в развороченную снарядом землю. Эх, Вася, Вася! Не сходить тебе с рогаткой в твои вербы, не обнять там Наташу, красивей которой нет во всем белом свете. Рогачев втащил мертвого друга в окоп и заплакал над ним зло, по–мужски неумело и страшно.
Глава семнадцатая
У немецкого повара, что расположился со своей походной кухней у Калашниковых, совсем не поварское обличие. Он худ и бледен. Его костлявое лицо с длинным острым носом и маленьким, словно стесанным к шее подбородком часто морщится от приступов изжоги.
— Вэг! [5] — сказал он хозяевам вместо приветствия, когда впервые перешагнул порог их жилища и жестом руки показал, как это надо понимать в переводе на русский язык.
— Рус тшеловек ист никс тшеловек, дойч тшеловек — ист господин, — объяснил он свое поведение Миньке, повстречав его во дворе на следующее утро и вложив в эту русско–немецкую фразу всю свою убогую философию, почерпнутую из человеконенавистнических проповедей доктора Геббельса.
— Сам ты Кукуш, — улыбнулся в ответ Минька, поражаясь удивительному сходству этого спесивого Немца с удодом, которого местные жители называют кукушкой.
— Я, я [6], — согласился немец, далекий от мысли, что его обозвали в глаза, и поощрительно похлопал мальчишку по плечу.
Так состоялось знакомство поработителя с порабощенным. В последующие дни Минька только и знал, что таскал воду для полевой кухни, расположившейся тут же, во дворе, рубил дрова, крутил мясорубку, чистил тяжелые кованые сапоги с широкими голенищами и мыл котлы.
— Гут, — говорил господин, давая рабу в награду за работу кусок черствого консервированного хлеба, внутри которого обычно находилась зеленая плесень. А Минька в ответ хмурил брови и мысленно желал своему «благодетелю» подавиться этим хлебом.
Но однажды раб взбунтовался.
— Мой ты его сам, — сказал Минька повару и бросил мокрую тряпку на край котла.
Повар не понял слов, но уловил интонацию.
— Руссиш швайн! [7] — крикнул он визгливо и бросился с кулаками на строптивого мальчишку.
Так Миньку еще никогда не били ни отец с матерью, ни казачата из станицы Луковской в уличной драке. Повар хоть и выглядел невзрачно, но обладал в достаточной мере физической силой. Он избивал свою беззащитную жертву с методической последовательностью. Вначале бил руками по голове, затем — ногами в грудь, бока, спину и куда придется. Минька извивался в пыли, глотая слезы и кровь из разбитого рта. В голове шумело так, что он едва не терял сознание.
Спасла его мать. Услыхав разъяренные крики чужеземца, она выскочила из нежилой половины дома и, руководствуясь больше материнским инстинктом, нежели рассудком, вцепилась в озверевшего истязателя.
— Вэг! — заорал тот, отбрасывая от себя хозяйку и снова бросаясь к ее непокорному сыну. Но тот уже хлопнул уличной калиткой.
— Цурюк! [8] — взвыл не своим голосом повар, выскакивая на улицу следом за мальчишкой и… ткнулся головой в бок проходящего мимо офицера.
— У вас что, глаз нет? — вытаращился офицер. — Почему без головного убора?
— Прошу прощения, — господин капитан, — пролепетал Кукуш, вытягиваясь во «фрунт» и тяжело дыша. — Я увлекся погоней вон за тем русским негодяем, — он двинул подбородком в сторону убегающего Миньки.
— Молчать! — гаркнул капитан и наотмашь смазал блестящей перчаткой по бледной физиономии подчиненного.
— Яволь, [9] — кротко сказал солдат, еще больше вытягиваясь перед сердитым офицером.
— Прежде всего, мой милый, вы должны помнить, что представляете собой великую германскую армию, — процедил капитан сквозь зубы с брезгливым выражением на тонких губах. — Вы должны стрелять при необходимости, а не гоняться за этими тупыми животными, словно базарная торговка.
— Да, господин капитан, — щелкнул каблуками оскандалившийся представитель «великой армии».
— За появление перед офицером в таком виде, — капитан взглянул на наручные часы, — десять минут парадно–строевым до угла и обратно ша–агом марш!
Оглянувшийся Минька увидел, как ненавистный Кукуш крутнулся вокруг своей оси и зашагал вдоль плетня, тщательно оттягивая носки сапог и что есть силы чеканя ими пыльную дорогу.
Минька остановился. Вытирая рукавом рубахи разбитые губы, с удивлением воззрился на занимающегося строевой подготовкой Кукуша. Последний, казалось, совершенно не замечал своего маленького врага, невольно поставившего его, исполнительного и дисциплинированного солдата, в нелепое положение перед начальством. Прошагав до угла переулка, он сделал поворот «Кругом» и тем же манером направился в обратную сторону.
— Что, проклятый Кукуш, схватил горячего до слез? — крикнул ему вслед Минька, вытирая на щеках слезы.
Кукуш даже бровью не повел, продолжая печатать шаг.
— Гад ты ползучий, фриц вшивый! — пошел следом за ним Минька, готовый в любую секунду дать стрекача.
Кукуш — словно оглох.
— И отец твой гад, и мать твоя гада, и вся твоя родня сплошное гадье!
Млея от восторга за свою безнаказанность, Минька пересек улицу и пристроился сзади к марширующему повару.
— Сволочь ты фашистская, васисдас вонючий. Вот вернутся наши, я тебе кишки выпущу и на провода повешу.
Ну и терпенье у этого немца! Шагает знай и ноль внимания на все Минькины ругательства.
Из калитки напротив выскочила на улицу Танька Лукьянцева. Моментально оценив обстановку, она завела речитативом:
Немец–перец–колбаса слопал кошку без хвоста,— и сделала немцу рожу.
Вскоре вокруг марширующего завоевателя скакали и кривлялись уже несколько ребятишек с Луковской улицы.
— Бе-е! — блеял один козлом, забегая немцу наперед и прикладывая к своей лохматой голове указательные пальцы — рожками, словно пытаясь забодать его.
— Гав! — имитировал другой голос собаки, намеревающейся ухватить прохожего за штаны.
Между тем установленные офицером десять минут истекали. Кукуш в последний раз отмерил шагами расстояние до угла улицы, мельком взглянул на наручные часы и, внезапно остановившись, выхватил из кобуры парабеллум.
— Доннерветтер [10],— взвизгнул он не своим голосом и выстрелил в сопровождавшую его ватагу.
Дети воробьями шарахнулись во все стороны, с криками понеслись каждый к своему дому.
— Мама! Мамочка! — кричала Танька Лукьянцева, перескакивая к себе во двор через плетень, ибо в горячке забыла про существование калитки.
Минька, подгоняемый выстрелами, бежал по улице так, как не бегал даже с колхозной бахчи при виде сторожа. Опомнился он в зарослях бузины на берегу ручья, что протекал между городом и станицей и в котором он недавно еще ловил с Мишкой–Австралией пескарей.
Домой он в тот день не вернулся. Опасаясь расправы, решил заночевать у нового дружка Кольки Стояна.
— Здорово он тебя разделал! — посочувствовал нежданному гостю Колька. А Колькина мать, добрейшая. Анна Ивановна, поспешила усадить его за обеденный стол.
— Зверье двуногое, — ворчала она, отрезая пострадавшему ломоть от ковриги хлеба. — До такой степени избить мальчишку.
— Я думал, он мне мозги отшибет, — вздохнул Минька, хлебая вчерашние пустые щи.
Спать ребята легли вместе. Но прежде чем уснуть, долго придумывали всевозможные варианты мести истязателю–повару.
— Бросить бы ему в окно гранату, — предложил Колька.
— Тоже мне придумал, — отверг с ходу эту мысль Минька. — Граната хату разворотит, а где мы потом жить будем? Да и гранаты у нас нету, все наши боеприпасы Сухоруков в отряд забрал. Давай уйдем к партизанам?
— Давай, — согласился Колька. — Хотя они все равно нас не возьмут, отошлют обратно домой, я уже пробовал.
— Не отошлют, не имеют права. Совести у них нет, что ли? Винтовки и пулемет забрали за милую душу, а нас, значит, по боку? Не выйдет. Завтра по утрянке в буруны двинем.
— Ладно.
С тем и уснули. А когда проснулись, за окном моросил дождь, и ребятам сразу расхотелось идти не только в буруны, но даже на улицу.
— Подождем, когда покажется солнце, — решили они и снова улеглись на койку.
Но дождались они в тот день не солнца, а немецких солдат хозяйственной команды. Грохоча по полу тяжелыми от подков и грязи сапогами, они ворвались в дом Кольки Стояна и, указывая пальцами на сидящих на койке ребят, радостно «загыргыкали» между собой. «Цвай киндер, цвай киндер», прорывались чаще других два знакомых ребятам со школьной скамьи слова. Старший команды подошел к мальчикам и выразительно качнул стволом автомата к двери.
— Геен зи хинтер мих [11], — сказал он не терпящим возражения тоном и добавил на смешанном языке: — Шнелль, шнелль! Бистро. Пошель.
— Боже мой! — вскричала бедная Анна Ивановна, бросаясь между детьми и солдатами. — Куда же вы их? Зачем они вам понадобились? Пан солдат, они же еще дети! Пан солдат!..
Но «пан солдат» отстранил ее от себя автоматом:
— Матка, вэг, вэг! Пошелъ к чертов матка! Ире киндер зинд щен гроссе меннер. Вир немен зи ан дем криг. Зи верден шизен: бух, бух! [12] — показал он губами и пальцами, как будут стрелять на войне «большие мужчины» Анны Ивановны и, довольно захохотав, хлопнул перед ее носом дверью.
Анна Ивановна охнула, с ужасом взглянула на висящий в углу образ:
— Господи, не оставь детей твоих своей милостью!
* * *
На грузовой, крытой брезентом автомашине, на которую посадили Миньку с Колькой, уже сидело несколько ребятишек разного возраста. Они испуганно жались друг к другу и шепотом делились предположениями о своей дальнейшей судьбе:
— А ну как, братцы, попрут нас в Германию?
Но «поперли» их не в Германию, а через железнодорожный переезд к городу. Вскоре справа проплыл задернутый дождевой кисеей Успенский собор. Потом промелькнул кинотеатр имени Кирова. Еще два квартала, и машина спустилась к Тереку. Из–за него безумолчно гремела артиллерийская канонада.
— Бистро! — старший команды жестом руки предложил малолетним пассажирам спрыгнуть на землю. Шлепая по грязи босыми ногами, мальчишки понуро побрели следом за конвоиром. Вот и Терек. Он сегодня не мутный, а грязный. По нему несутся желтые губчатые куски пены и всякий плавучий мусор. На месте старого дореволюционного моста там, где до сих пор торчат из воды ослизлые сваи, перекинут через реку понтонный мост. Толпы солдат бредут по его деревянному настилу на ту сторону. Головы опущены, с тяжелых касок стекает ручьями вода. Должно быть, не очень–то хочется помирать в такую дрянную погоду. Впрочем, в хорошую — тоже не хочется.
То, что наши крепко бьют немцев на той стороне, для Миньки давно уже не секрет. Дед Макковей вчера рассказывал и божился при этом, что за два дня боев на южном берегу Терека немцам только и удалось, что захватить Предмостное да черепичный завод. Очень отчаянно и геройски дерутся советские войска.
Интересно, для чего привезли сюда немцы пацанов? Минька повел глазами влево, и озноб холодной ящеркой пробежал по его мокрым плечам: под растущими на берегу раскидистыми дубами стояли там и сям немецкие походные кухни, а возле одной из них орудовал с черпаком в руках ненавистный и страшный Кукуш.
* * *
Немцы наседали. Впереди шли танки, за танками — пехота.
— Рус, рука верх! — кричали немецкие солдаты, лежа в грязи перед окопами 4‑й роты. — Сдавайс, комиссар!
— Комиссары не сдаются! — приподнялся над окопом политрук Мордовин и швырнул гранату. На черном от усталости и грязи лице у него белеют лишь глаза да зубы. Шутка ли: рота в течение одного часа отбила одна за другой шесть атак! Смертельно–нудно сыплет за воротник холодная изморось. В окопе под ногами хлюпает размокшая глина. На сапогах грязи — по целому пуду.
Мордовин слизнул с губ дождинки, вытер рукавом мокрый от пота лоб, проговорил нараспев:
И на каске вода, и под каской вода.Стоящий рядом командир роты Мельник посмотрел на парторга и добавил угрюмо–насмешливо:
И от этой от воды нам не деться никуды.— Что будем делать, комиссар? — перешел он тут же со стихов на прозу. — Филоненко просит гранат и патронов, а у нас их у самих кот наплакал; Федоров тревожится за стык с нашей ротой, а кого я туда пошлю?
— Доложи комбату, пусть пришлет в помощь взвод связи Васильева, — посоветовал Мордовин, закуривая папиросу и пряча ее в ладонях от дождя.
— Нашел мне вояку, — поморщился командир роты. — Ты что, забыл, как он на самолетных тросах завис от страху?
— Что ж теперь, Федя, по одному проступку будем судить о человеке? Ну, растерялся парень, в горячке схватился за трос… Потом–то он прыгал хорошо.
— А если он мне в горячке из траншеи выпрыгнет во время немецкой атаки? — продолжал ворчать командир роты.
— То его убьют. Но я лично верю в Васильева.
Мельник с уважением взглянул на парторга и, бросив окурок, направился в окоп к телефонисту.
— Черта лысого вам, а не связь, — ругался он, спустя минуту возвращаясь к Мордовину. — Опять телефон не работает. Ух, я бы этому Васильеву…
Но он не успел досказать, что бы такое сделал командиру взвода связи, — из кустов барбариса, шурша мокрой плащпалаткой, вышел сам Васильев в сопровождении своего немногочисленного взвода.
— Товарищ лейтенант, — вытянулся он перед Мельником, — взвод связи прибыл к вам на подмогу.
— Прямо по щучьему велению, — покрутил головой Мельник и повернулся к Мордовину: — Ну, комиссар, твоя молитва — твоя и свечка к ней: поставь пополнение во взвод Чернышева и чтоб стоять там насмерть.
Сам подошел к Васильеву, спросил сурово:
— Почему связь не работает?
У Васильева — глубоко провалившиеся глаза под каской, на худощавом, сером лице две резкие складки по сторонам прямого хрящеватого носа.
— Наверно, провод осколком перебило, — ответил он, пожав плечами.
Это неуставное обращение, движение плечами обозлило Мельника.
Не скрывая неприязни к собеседнику, он выкатил на него взгляд воспаленных от бессонницы глаз.
— Немедленно, слышите? — проговорил он раздельно сквозь зубы, но не повышая голоса. — Восстановите связь. И если через полчаса…
— Есть, — глухо ответил Васильев и, неловко повернувшись на скользкой листве, снова исчез в кустарнике.
С укоризной взглянул на командира роты политрук. Но тот лишь махнул рукой.
Тяжело было на душе у Васильева, когда он, держа в руке скользкий телефонный провод, пробирался вслед за ним по терской чащобе: до сих пор не могут забыть его неудачного прыжка с парашютом. И почему он вцепился тогда в этот проклятый трос? Перед глазами снова возникли взлетная полоса учебного аэродрома, самолет У-2 и нахмуренный взгляд Мордовина: «Почему не выполнили задание?» Если б он сам знал, почему. Ведь потом прыгал и с У-2 и с ТБ‑3. Значит, он все же не трус. Может быть, все случилось из–за того, что летчик подтолкнул его в спину рукой, и сработала защитная реакция? Нет, он не трус и он докажет это в бою, вот только отыщет обрыв телефонного провода.
Справа ухнул снаряд. Сзади прорычала пулеметная очередь. И вдруг вся терская пойма потонула в грохоте артиллерийской стрельбы. «Снова немцы пошли в атаку». Прибавил шагу. Дико завывали мины, с ужасным треском разрываясь среди деревьев, хищно «цвыкали» шальные пули.
— Куда тебя несет? — крикнул кто–то истошным голосом. — Хоронись скорей в окоп, счас «юнкерсы» долбить начнут!
Но Васильев пробежал мимо спасительного окопа, по–прежнему не выпуская из руки провод. Вот и кизлярские кручи с водокачкой на самом краю обрыва. Здесь, под ними, на свободной от деревьев равнине еще страшнее, чем в лесу. Слева, справа, впереди, сзади–всюду из земли вырываются огненно–черные султаны взрывов. Впору бы забиться в какую–нибудь промоину или воронку и лежать не двигаясь, закрыв голову, пока не утихнет эта железная буря. Но сзади осталась истекающая кровью рота. Она бьется с врагом из последних сил, не зная, что делается вокруг. Ей нужна связь. И Васильев, превозмогая страх, бежит короткими перебежками в направлении водокачки, недалеко от которой под кручей борются два красноармейца.
— Вы что, очумели? — крикнул он, подбегая к бойцам и падая рядом с ними от разорвавшегося на круче снаряда. Тут только разглядел лейтенант, что бойцы не борются, — а перекатываются друг через друга к бомбовой воронке, с края которой свисают внутрь обрывки проводов. Они оба ранены в ноги и потому передвигаются таким странным способом. «Добираются к воронке, чтобы лежа в ней срастить оборванные провода» — уяснил Васильев. Он втащил раненых поочередно в пахнущую тротилом яму, кое–как перевязал их лоскутами от своей нижней» рубашки и, соединив перебитые провода, уже намеревался возвращаться назад, когда один из бойцов показал рукой на глиняную кручу:
— Вон, товарищ лейтенант, еще один провод висит.
Ах, черт! До него метров десять не меньше. Значит, в 6‑й роте тоже нет связи. Васильев вылез из воронки, осклизаясь и падая, стал взбираться на кручу, а вокруг гремела, свистела и трещала смерть, вот–вот угодит в отчаянного связиста раскаленным куском металла. Шаг за шагом, все выше и выше, на виду у неприятельских артиллеристов. До свисающего провода остается полметра. Протянул руку, потерял равновесие — и свалился вниз. «Тросов нет, ухватить не за что», — зло поиронизировал над собой, потирая ушибленный при падении бок, и снова полез кверху. Повезло. Срастил концы и кубарем скатился вниз. Пообещав раненым прислать за ними санитара, заспешил в штаб 6‑й роты.
— «Осина»! — прокричал в трубку телефона Васильев срывающимся голосом, — говорит «Десятый». Дайте трубку «Первому». «Первый»? Я — «Десятый». Связь восстановлена!
— Спасибо, Гриша, — донесся из трубки усталый голос командира батальона Рудика.
Васильев положил трубку, отер пот со лба, расслабленно опустился на чурбан, заменяющий табуретку, облегченно вздохнул. Но тут же вскочил, заторопился к выходу.
— Отдохни, куда же ты? — крикнули ему вслед. Но Васильев уже бежал к позиции 4‑й роты.
Снова непролазная чаща и свист осколков. И вдруг ничего этого не стало. Пробегая лесную поляну, Васильев споткнулся и повалился лицом в мокрую траву–на этот раз снаряд разорвался слишком близко от него.
* * *
Первым движением Миньки при виде Кукуша было спрятаться за спину товарища, но повар уже заметил его. Спрыгнув с подножки походной кухни и что–то каркая себе под нос, он подскочил к Миньке и замахнулся блестящим черпаком. Но вмешался конвоир, и Кукуш не осуществил намерения. Брызгая слюной и тыча в Миньку пальцем, он залопотал что–то солдату. Из потока непонятных слов Минька уловил только одно знакомое — «маршиерен» и догадался, что повар рассказывает однополчанину о вчерашнем случае. Закончив повествование, он еще раз замахнулся на виновника своего конфуза, но не ударил, а лишь презрительно бросил сквозь зубы: «Руссиш сволотшь». Затем схватил его свободной рукой за воротник рубашки и рванул по направлению к своей кухне.
А за Тереком гудело и рвалось — там шел бой, и туда шли все новые и новые толпы немецких солдат, ползли, грохоча по настилу понтонного моста гусеницами, черные, с львиными мордами на бортах танки. Где–то там сидит сейчас в окопе Мишка–Австралия и стреляет из винтовки по тем, кому он будет варить вместе с этим ненавистным Кукушем суп. И Левицкий тоже там. Вот бы посмотрел старший политрук, как его моздокский знакомец подкладывает дрова в топку немецкой кухни…
— Шнелль! Руссиш швайн! — раздался у него над ухом резкий голос повара, который одной рукой открывал крышку котла, а другой показывал на стоящий у колеса кухни объемистый термос в войлочном чехле с широкими ременными лямками. — Ком герр [13] бистро.
Наполнив термос супом, повар помог Миньке надеть тяжелую ношу за спину и повел на передний край. Жуткое это место — передний край, совсем не похожее на то, где он в прошлом году ломал с Мишкой–Австралией калину для его больного деда. Весь лес, от Предмостного до Нижних Бековичей и дальше, гремит беспрерывной стрельбой и воняет пороховой гарью, и на каждом шагу трупы, воронки, окопы и опять трупы. Немецкие — в темно–зеленых френчах и русские — в светло–зеленых гимнастерках.
— Бистро! — шипит сзади повар, подталкивая палкой носильщика.
Минька перешагнул через груду окровавленных тел, стараясь не смотреть на обезображенные насильственной смертью человеческие останки. Но разве удержишься, чтоб не взглянуть на человека, у которого осталось от туловища только верхняя его часть — грудь и голова с оскаленными, словно от смеха, зубами? Ох, жутко!
Над головой, квохча рассерженной наседкой, пролетел снаряд.
Мальчишка весь сжался в ожидании взрыва — сейчас рванет, и от него, Миньки, останется, как у того немца, полтуловища. К горлу вдруг подступила тошнота, и мальчик, обхватив ствол дерева, скорчился в приступе мучительной рвоты.
— Руссиш швайн! — заругался Кукуш, но не ударил палкой, подождал, пока носильщику станет легче.
Потом они еще долго пробирались по лесной чаще, перешагивая через мертвых и уступая дорогу живым, пока грохот боя не приблизился настолько, что Кукуш решил остаток пути к линии боевого соприкосновения доверить своему подневольному спутнику. Сидя в бомбовой воронке, в которую заставила его залечь пулеметная очередь, он жестами показал Миньке, как он должен ползти к окопам, и… вдруг ни с того ни с сего начал задирать вверх руки. Минька проследил за взглядом его расширенных от ужаса глаз и едва не вскрикнул от радости: из тернового куста выглядывало вместе с дулом автомата лицо нашего бойца с красной звездой на пилотке.
— Тихо надо, ферштейн? — сказал шепотом боец, обращаясь к Кукушу, и поманил его к себе пальцем. — Иди сюда.
— Я, я, — согласно закивал головой бледный, как полотно, повар, поднимаясь на ноги. Но Минька опередил немца.
— Дяденька! — проговорил он сдавленно и бросился к красноармейцу, заплакав от избытка чувств.
— Ну–ну, — погладил тот его по стриженой макушке. — Шуметь–то не нужно, а то немцы услышат — капут нам сделают. Забери–ка лучше у него пистолет из кобуры. А теперь давай его сюда. Вот так…
И снова Минька шел по лесу, удивляясь превратностям судьбы и помахивая трофейной палкой. Только тяжелый термос с супом нес теперь не он, а Кукуш. По–прежнему гремело со всех сторон, и в горле перехватывало от пороховой гари, но у Миньки уже было другое настроение.
— Шнелль! — шипел он время от времени на спотыкающегося Кукуша и норовил ткнуть палкой пониже термоса.
Но боец каждый раз хватал его за руку:
— Нельзя пленных трогать.
— Ему можно, а мне нельзя? — поднимал Минька на красноармейца наполненные злыми слезами глаза. — Вы не знаете, как он меня бил вчера?
— Все равно нельзя, — хмурился боец. — Мы ведь не фашисты. И вообще, перестань шуметь, не на своей стороне находимся. А ну стой, — приказал он, поровнявшись с корневищем поваленного через неширокую терскую протоку дерева, и, приложив ладонь ко рту, дважды крикнул удодом. Тотчас из–за протоки последовало ответное кукование, и на вершине дерева показались еще два советских бойца в пятнистых плащпалатках. Балансируя руками и автоматами, они перебежали по скользкому стволу на правый берег протоки.
— Кого это ты, Зайчик, зацапал? — спросил один из них, рослый, голубоглазый, с летным шлемом на белокурой голове.
— Да вот, на позицию жратву несли, — качнул стволом автомата на задержанных. — Ихний повар, это — моздокский пацан.
— Тебя как зовут, моздокский пацан? — обратился военный в шлеме к мальчишке.
— Минькой. То есть Мишкой, — поправился Минька.
— Значит, подкармливаешь врага, Миша? А ты, наверно, пионер…
Но Минька не обиделся на насмешку.
— Вы меня не узнали, товарищ лейтенант? — спросил он, не в силах сдержать улыбки на измазанном грязью круглом лице. — А я вас сразу узнал. Помните, в ГУТАПе?
Лейтенант широко раскрыл глаза:
— Какой гутап?
— Ну, этот… дом кирпичный на Близнюковской улице, в нем пушка стояла. Командир орудия Николай из Алма–Аты, а наводчик — Ахмет Бейсултанов.
— Ага, кажется, припоминаю. С тобой еще был пацан, рыжий такой, конопатый.
— Ну да, Мишка–Австралия. А Вас Куличенко зовут, вы командир артдивизиона, нам об этом Ахмет говорил.
Куличенко улыбнулся:
— Был артиллеристом, да весь вышел. А как ты попал к этому? — кивнул он на немца, который со страхом и удивлением смотрел на улыбающихся русских.
Минька рассказал.
— Ну что ж, как говорится, нет худа без добра, — подытожил разговор с мальчишкой командир разведгруппы. — За линией фронта договорим остальное. А сейчас нужно двигать домой. Будем переходить там же, в стыке между 5‑й и 4‑й ротами. Прикрываем: я — спереди, Колесников — сзади. Вперед, ферштейн, — сказал он пленному и первым зашагал по лесной тропинке, шурша блестящими от дождя листьями.
— Гитлер капут, — послушно кивнул птичьей головой Кукуш.
К переднему краю двигались по–пластунски. Где–то здесь, за этой поляной, перепаханной снарядами и танками, должна находиться рота Мельника. Но почему не видно немцев? Валяются лишь трупы, да стоят там и сям обгорелые танки. «Отступил, должно быть, Федя», — догадался командир разведчиков и махнул рукой подчиненным, направляясь ползком к болотистой низинке, густо поросшей терновником и облепихой. И тут он наткнулся на лежащего возле срубленного снарядом дерева советского бойца. По тому, как шевелилась на его спине время от времени изорванная, грязная плащпалатка, Куличенко понял, что боец жив. Он перевернул его на спину и сразу же узнал в нем командира взвода связи Васильева.
— Связь восстановлена… товарищ лейтенант, — пробормотал он, открывая мутные, словно с похмелья, глаза.
— Восстановлена, Гриша, восстановлена, — согласился Куличенко и шепнул подползшему со своими подопечными Зайцеву: — Сними с немца термос и отдай мальчишке.
Затем обратился к пленному:
— Видишь, фриц, как плохо человеку? А ну, бери его на спину, послужи санитарному делу.
— Гитлер капут, — согласился немец.
* * *
В блиндаже, куда привели разведчики Миньку с Кукушем, было шумно и накурено — хоть топор вешай. В него и из него постоянно входили и выходили военные. Они что–то кричали друг другу, а также в трубку полевого телефона, стоящего на столе в углу блиндажа. Только и слышалось: «Алло»! «Первый»! «Первый»! Я — «Второй». Передай «Четвертому»… и так далее. Сидя на нарах с поджатыми под себя ногами, Минька разглядывал внутреннее убранство этого фронтового помещения. Просторное, не меньше, чем у них летняя кухня. Стены сделаны из досок, потолок — из бревен. «В два наката» — почему–то подумалось Миньке. На стене, над головой сидящего перед аппаратом телефониста приклеена хлебным мякишем улыбающаяся девичья головка из журнала, рядом с нею висит на гвозде автомат, прикрытый каской. На подоконнике широкой, чуть ли не во всю стену амбразуры вызывающе раскорячился ручной пулемет.
— Здоровеньки булы!
Минька повернул голову к брезентовому пологу, заменяющему дверь: на пороге стоял тот самый старший лейтенант–украинец, которого они с Мишкой–Австралией просили взять их в десантники. Он подошел к командиру разведчиков, поздоровался с ним за руку, кивнул головой на сидящего в углу на пустом ящике немца:
— Шо ты, Мыкола, такого хлюпыка нимца притяг? Нэвжэ ни знайшов покрашче?
— Самого красивого Миша Зуев перехватил, — улыбнулся в ответ Куличенко. — Там такой боров, пудов на восемь, не меньше. Говорят, так брыкался, что даже Андропов Коля не устоял на ногах, а он–то крепкий парняга.
— А правда, что они самого фон Клейста миной подорвали?
Куличенко пожал плечами:
— Я на ферме вчера доярку встретил, подтверждает, что очень важной птицей был убитый генерал. В войсках траур носят [14].
— Молодцы федосеевцы! — с чувством произнес вошедший и притронулся к плечу телефониста: — Вызови «самого».
— «Розалия»! «Розалия»! Соедини меня с «Кипарисом», — закричал тот в трубку. — Что? Срочно, понимаешь? Ну, кому говорю! То–то же… Держите, товарищ гвардии старший лейтенант, — протянул он трубку Минькиному «знакомцу».
Тот взял трубку, наклонился над аппаратом:
— «Кипарис»? Я — «Осина». Наши привели «гостя». Есть — срочно доставить «Кедру». Кто говорит? Это я, старший лейтенант Полтко. «Второго» нет на КП, он в хозяйстве Мельника. Житников тоже там. Он лично пять танков подорвал. Так точно, очень трудный был день, товарищ подпол… то есть, — «Кипарис».
— Сам ты дуб, — донеслось из трубки, и старший лейтенант не удержался от улыбки.
— Никак нет, я — «Осина», — возразил он, и лицо его снова приняло озабоченное выражение. — Все дрались геройски. Но особенно отличилась рота Мельника. Хорошо, передам… Есть — стоять насмерть!
С этими словами Полтко вернул трубку телефонисту и вновь заговорил с Куличенко:
— Красовский приказал доставить «языка» в штаб корпуса.
— Ты знаешь, как ни странно, но я и сам догадался об этом, — усмехнулся Куличенко. — Вот только не знаю, куда девать этого…
Тут только старший лейтенант Полтко заметил сидящего на нарах мальчишку.
— Ова! — воскликнул он на украинский лад. — Як туточки втрапылась ця дитына.
— Эта дитына попала к нам в плен, — насмешливо покосился на мальчика Колесников. — Он помогал ихнему повару кормить немцев супом.
Краска стыда залила круглое Минькино лицо.
— Неправда! — крикнул он, задрожав от обиды, — Я не кормил их… Я нес. Я не сам… Они заставили.
Слезы вот–вот готовы были брызнуть из его синих глаз.
— Ну–ну, успокойся, — положил ему на макушку ладонь старший лейтенант. — Он ведь пошутковал. Хочешь конфетку? — Полтко вынул из кармана галифе карамель «Раковые шейки».
— Я не маленький, — насупился Минька. А Полтко добродушно усмехнулся и всунул конфету в Минькину руку:
— А я, дружок, признал тебя, — присел он к Миньке на нары. — Помнишь, у моста познакомились? С тобой еще длинный такой хлопец был, «р» не выговаривал. Он что, тоже немцев кашей угощает на передовой линии? Ну, ну, не хмурься. Шуток не понимаешь? А еще в десантники просился.
— Я и сейчас прошусь, — оживился Минька. — Возьмите меня, дядя… то есть, товарищ гвардии старший лейтенант.
Полтко взглянул на улыбающегося Куличенко.
— Слышь, Микола? Может, возьмешь к себе в разведку? Этот парень запросто переплывает Терек туда и обратно без передышки.
— С передышкой, — заскромничал Минька, опуская глаза. — Туда и обратно может только Мишка–Австралия да еще Андрей Федоров. А вы не видели Мишку? — поднял он снова глаза на собеседника. — Он уже больше недели как служит у вас.
— Нет, не встречал. А кто ж его взял, несовершеннолетнего?
— Левицкий взял. То есть, не сам взял, а упросил комиссара бригады.
— Так ты и Левицкого знаешь? — удивился Полтко. — В рубашке родился твой Левицкий. Его сегодня чуть немецкий танк не раздавил. Не попадись ему под руку граната… Может, ты и Кириллова знаешь?
— Знаю, — кивнул головой Минька. — Сердитый такой, с маузером в деревянной кобуре.
— Ишь ты, — усмехнулся Полтко. — А фон Клейста ты случайно не знаешь?
— Нет, не знаю, — вновь нахмурился Минька, уловив в голосе взрослого насмешку. — Зато я знаю, где у немцев склад с бомбами.
— Интересно…
— В лесу, сразу же за огородами. Там их — боже мой сколько! С овчарками охраняют.
— А еще что знаешь? — спросил Полтко и переглянулся с Куличенко.
— За Армянским кладбищем зарыта в землю большая цистерна. Туда немцы на грузовиках что–то в бочках возят, наверно, бензин. А на куполе собора ихний солдат сидит с трубой–раскорякой. Вот бы шваркнуть по нем из пушки. Я говорил Михневу, да что толку: у них ведь пушки нет.
— У кого это «у них»?
— У партизан. У них бы и пулемета не было, если бы мы им свой не отдали.
— Вот дает пацан! — воскликнул Колесников. — Врет, что твой барон Мюнхаузен. Партизан приплел каких–то…
— А вот и не вру, — вывернул глаза на своего обидчика Минька и провел большим пальцем руки у себя под подбородком: — Век свободы не видать. Мы с Колькой Стояном собирались сегодня утром к ним в буруны уйти, да дождь помешал. А тут немцы наскочили и нас зацапали. Сухоруков еще говорил, что в бурунах за Агабатыром наши кавалеристы…
— Ну, хорошо, хорошо, — перебил его уполномоченный особого отдела и снова многозначительно взглянул на Куличенко. — Мы тебе верим. На, держи еще конфету. Бери, не ломайся, я вон взрослый, а все равно люблю сладкое. Сейчас в штаб бригады поедете.
В Вознесенскую приехали перед закатом солнца. Оно наконец–то прожгло дыру в толстом сером войлоке туч и теперь глядело горячим глазом и не могло наглядеться на охолодавшую без него землю. «Каково–то без меня?» — казалось, спрашивало оно с сочувственной улыбкой.
В станице полным–полно военного люду. Особенно много моряков. Куда ни поверни голову, всюду мелькают черные круги бескозырок. «Какой же здесь может быть корабль?» — изумился Минька, услышав, как пробегающий мимо матрос крикнул другому, что, дескать, спешит на крейсер. Чудно: в горах — и вдруг крейсер. Как он сюда попал? На колеса его, что ли, поставили или притащили волоком? Минька некоторое время размышлял, пытаясь самостоятельно разгадать эту загадку, потом не выдержал, обратился к разведчику:
— Про какой это они крейсер толкуют?
Куличенко понимающе рассмеялся:
— А ты и вправду подумал? Это же морская пехота, из 62‑й бригады. Они привыкли все называть морскими именами. Кухня по–ихнему — «камбуз», часы — «склянки», а позиция — «крейсер». Вон видишь ту вершину? Это — «грот–мачта». А справа овражек — «гальюн».
Ну и дорога на перевале! Вниз–вверх, вниз–вверх — как на волнах. От тряски по булыжникам мостовой все внутри переворачивается. Скорей бы уже доехать. Наконец тачанка остановилась возле одноэтажного здания, на вывеске которого красовалась грубо намалеванная нефтяная вышка.
— Штейтауф! [15] — хлопнул Куличенко по плечу согнувшегося на дне повозки пленного немца. — Коммен зи к нашему начальству! Форштейн?
— Яволь, — поспешно соскочил, на землю Кукуш.
Минька тоже спрыгнул с тачанки, поправив сползшие на сторону штаны, пошел следом за разведчиками. Ого, сколько здесь понапихано в проулки и сады повозок, машин и пушек! А говорили, нашим воевать нечем. Ничего себе — нечем. Вон и танки стоят, прикрытые снопами и сеном, чтобы с воздуха незаметно было. Может быть, и «катюши» где–нибудь поблизости, тоже замаскированные? Дед Макковей говорил, что страшней «катюши» ничего еще не успели выдумать. Немцы ее боятся, как огня. Да она и есть сплошной огонь, все начисто сжигает. Взглянуть бы на нее хоть одним глазком, какая она?
— Постойте здесь, — сказал Куличенко, останавливаясь перед бывшей конторой. Он снял плащпалатку, поправил ремень на гимнастерке, гмыкнул и решительно шагнул через порог. У Миньки сильнее застучало сердце: если так волнуется этот бесстрашный разведчик, то значит в конторе действительно находится очень важное и сердитое начальство.
Куличенко пробыл там недолго. Вскоре послышались шаги. Идет! Минька взглянул на выходящего из конторы, и сердце у него едва не выпрыгнуло из груди от огромной радости: на пороге стоял тот самый командир со шпалами на петлицах, с которым он познакомился во дворе ГУТАПа.
— Дядя Левицкий! — бросился он навстречу старшему политруку.
— Ты? — лицо Левицкого озарилось улыбкой. Он схватил Миньку за плечи, дружески встряхнул. — Так вот кто гуляет с немецкими поварами по передовой линии! — воскликнул он.
— Я не сам… — начал было Минька, но Левицкий уже отбросил шутливый тон.
— Знаю, знаю, — провел он ладонью по Минькиной макушке.
В дверях показался Куличенко.
— Комм герр [16], — поманил согнутым пальцем Кукуша, козыряя перед посторонними знанием немецкого языка. — Ты тоже пойдем, — подмигнул Миньке.
Минька встревоженно посмотрел на Левицкого.
— Иди, иди, не бойся, — улыбнулся он.
— А вы моего дружка Мишку–Австралию не видели? — спросил у него Минька, направляясь вслед за Кукушем. — Его ведь приняли в десантники.
— Видел, — смежил веки Левицкий, подталкивая своего юного друга в спину и с трудом удерживая на лице спокойное выражение.
— Как он, а?
— Потом, потом, — махнул рукой Левицкий, словно отгоняя от себя образ веснушчатого, с большими облупленными ушами подростка, лежащего с пробитой головой в кювете узкоколейной дороги.
* * *
Ночь. Тишина, тревожная, гнетущая. Лишь уныло прокричит в лесной чаще удод, да под размытым берегом Терека хлюпнет волна, и снова тихо. Ни огонька вокруг, только звезды в черном небе да сизый глазок горящей папиросы в сложенной ковшиком ладони лейтенанта Куличенко. Прикрываясь плащпалаткой, он затягивается табачным дымом раз–другой, затем плюет на окурок и старательно втоптывает его в непросохшую после дождя землю.
— Вроде на душе легче стало, — шепчет он Миньке, словно оправдываясь перед ним в своей дурной привычке. — Не забыл сигналы?
— Не, — шепчет в ответ Минька, поеживаясь от речной сырости. — Два длинных — один короткий, мы же азбуку Морзе в школе учили. Я только быстро не могу.
— Как сможешь, так и ладно, не перепутай только. Держи фонарик.
Минька сжал в руке четырехугольную коробку электрического фонаря и стал спускаться вслед за разведчиком по обрывистому берегу к хлюпающей в древесных корнях воде. На ней тихонько покачивался каюк. На корме кто–то сидел.
— Егорыч! — позвал шепотом Куличенко. — Принимай пассажира. Да не утопи смотри.
— Тут как бы самому не утопнуть, — отозвался тоже шепотом названный Егорычем. — Темно, хоть глаз выколи…
— Ничего, Егорыч, ты только поосторожней.
— Не впервые, чать.
Куличенко притянул к себе мальчишку, крепко стиснул сильными руками:
— Ну, давай прощаться, казак.
Затем передал его своим товарищам.
— Если что, ныряй сразу в воду, — пробурчал ему в ухо Зайцев.
— Ну, а если придется снова обслуживать немцев по кулинарной части, постарайся захватить термосок с украинским борщом или с галушками, — потряс ему руку Колесников.
На этот раз Минька не обиделся. Он осторожно ступил в лодку и, присев, вытаращился на бородатое лицо кормчего.
— Держись за борта и не шебуршись, — приказал бородач и оттолкнулся шестом от берега. За бортом лодки зажурчала вода. Взмах–толчок, взмах — толчок. Все дальше уходит черное кружево правобережных дубов, все ближе надвигается серое пятно левобережной отмели. Хоть бы не заметили немецкие сторожевые посты. «Фр–р–р–р!» — из кустов недалекого отсюда острова Коска с фазаньим шумом взлетела в небо ракета. И сразу стало светло, как в полнолуние, и даже светлее.
— Ах ты, язви твою в чешую! — вздохнул кормчий, пригибаясь к Минькиному лицу, в мертвенном свете ракеты хорошо видна его седая борода и торчащая из нее короткая трубка. — Господи! Пронеси и помилуй…
Нет, не пронесло. В том месте, откуда выпорхнул ярко–желтый «фазан», взлаял пулемет, словно собака, упустившая из–под носа скрадываемую птицу. «Цвынь!» — свистнула синицей у Минькиного уха пуля.
— Сигай! — прохрипел старик, упираясь шестом в речное дно. — Да шустрее, язви твою…
Минька послушно перевалился через борт. «Если что, ныряй сразу в воду», — припомнил напутствие Зайцева, пытаясь достать ногами дно. Здесь был перекат, он знал это. Когда в легких кончился воздух и он вынырнул на поверхность, над рекой по–прежнему висела кромешная тьма.
— Дедуш! — вполголоса позвал Минька, выбираясь на отмель.
Ни звука в ответ.
— Дедуш! — снова позвал Минька.
Словно в ответ, донеслись с Коски немецкие голоса, и тотчас прошуршала в воздухе еще одна ракета. Минька прижался к мокрой гальке, вглядываясь в бледно–зеленую речную даль: каюка на воде не было.
Глава восемнадцатая
Вопреки опасениям Миньки мать встретила его на этот раз без брани и тумаков, даже полотенцем не хлестнула по мокрой спине.
— Уж думала и не увижу тебя больше, — проговорила она дрожащим голосом и, обняв своего «непутевого», залилась горючими слезами.
У Миньки перехватило горло: уж лучше бы ругалась, чем вот так.
— Не надо, мам, — попросил он хрипло и ткнулся лбом в материнское плечо. — Я же не виноват, что меня немцы на тот берег угнали, — и он вкратце рассказал, как снова повстречался с проклятым поваром и что из этого вышло.
— Господи, боже мой! — ахнула родительница. — Чего ж ты доси стоишь мокрый?
Она бросилась к сундуку, выхватила из–под тяжелой крышки отцовы штаны и рубаху. Затем метнулась к печке, привычно ткнула в черный зев обгорелым ухватом, нащупывая там чугунок со щами.
— Голодный, небось, садись за стол.
Сама уселась напротив и не сводила с почерневшего от усталости лица сына сострадательных глаз.
— Невжли в самой Вознесеновке был? — удивлялась она, слушая сбивчивый рассказ сына, и предупреждающе поднимала палец: — Гляди, не говори про то никому.
— Я скажу, что в станице у тетки Антонеи жил.
— Вот–вот, — согласно кивала головой мать. — Мол, боялся повара, потому так долго домой не приходил. А немцы чисто крысы голодные, тащут все подряд. Не дай бог, кукурузу выгребут из кладовки, что тогда есть будем? У деда Макковея последнюю курицу седни забрали. Охо–хо! Грехи наши тяжкие. Недаром сказано в библии: «Придет с востока нечистое племя…»
— С запада, мам, — поправил ее старший сын.
— Что — с запада? — не поняла мать.
— Нечистое племя, говорю, с запада прет, — усмехнулся Минька, — фашисты, то есть.
— Тьфу ты! — тоже усмехнулась мать. — А я думаю, об чем энто он? И когда их только вытурят отсюда?
— Скоро, мам, — пообещал Минька, набивая хлебом рот и не забывая орудовать ложкой. — А ко мне никто не приходил?
— Приходил какой–то пацан с заводского поселка. Да ты ешь, ешь, еще подолью, щей много.
До чего же хорошо дома!
Поблагодарив мать за ужин, Минька подкатился к горячему боку разомлевшего во сне младшего брата и сразу уснул крепким сном на совесть поработавшего человека.
* * *
Колька Стоян оказался дома. Он точил на камне обгорелый немецкий штык и был так увлечен этим занятием, что не сразу заметил вошедшего в калитку приятеля.
— Минька? — обрадовался он и, с размаху вогнав трофейный штык в землю, бросился к долгожданному гостю. — Живой? Вот здорово! Я тоже живой.
Приятели обнялись, похлопали друг друга по спине от избытка чувств и стали взахлеб делиться своими переживаниями. Из этого сбивчивого разговора вскоре выяснилось, что они оба геройские парни и, что если бы не их решительные действия, неизвестно, как развернулись бы события на том берегу.
— Он на меня: «Шнелль!», а я пеньком его по голове — рраз! — махал кулаком перед Колькиным носом Минька, и глаза его горели бесстрашием и решимостью. — Потом из кобуры у него наган хвать: «Руки вверх, проклятый Кукуш!» А тут и наши разведчики подоспели. «Молодец, говорят, Минька, так их и надо…»
— А я вижу, дело — труба, ведет чертов фриц на позицию, — горячился в свою очередь Колька, и глаза его тоже метали молнии. — Хочешь–не хочешь, придется кормить сволочей кашей. Я сделал вид, что поскользнулся и — бултых с понтона в Терек — и бежать. Термос тяжелый, я с ним сразу на дно… А вокруг пули — чмок, чмок! Это по мне мой повар из пистолета…
Самую малость приврал Колька в своем рассказе. Не по терскому дну, а по терскому лесу бежал он с тяжелым термосом за плечами после того, как его конвоир–повар был убит осколком мины. И на речное дно термос отправился не с понтона, а с берега, на который Колька выбежал, подгоняемый свистом шальных пуль и осколков.
Вволю насладившись импровизацией, ребята без особого труда вернулись из поэтического прошлого в прозаическое настоящее и стали обсуждать предстоящие дела. Первое: надо пересчитать в роще танки и бронетранспортеры противника. Второе: узнать, почему, так много собралось в сквере имени Кирова легковых автомашин. Ведь не для забавы же разглядывал Минька на «той стороне» альбом с фотографиями немецких машин? «Запомни, — говорил ему полковник из разведки, переворачивая страницы альбома. — Вот эта, похожая на каплю, называется «штейер», в ней только крупное начальство ездит. Вот эта — «оппель–адмирал», эта — «хорх», тоже очень комфортабельная машина». Третье, самое ответственное и опасное: определить как можно точнее расположение немецкого склада с боеприпасами и навести на него ночных бомбардировщиков.
— Минька, а ты не брешешь? — усомнился Колька, трепеща от восторга перед обилием таких интересных заданий.
— Век свободы не видать, — провел Минька большим пальцем руки под своим заострившимся подбородком. — Насчет Кукуша давче, правда, сбрехнул малость: не бил я его пеньком по голове и пистолет отобрал уже после того, как нас захватили разведчики; а все остальное — без понта. Честное пионерское, — добавил он поспешно.
— Я тоже не нырял с моста, — признался и Колька.
Мальчишки взглянули друг на друга и расхохотались. Потом Минька снова заговорил:
— Они еще просили связать их с партизанами.
— А для чего они им?
— Вот чудак! Связь наладить.
— А как?
— Заберемся на Успенский собор и помигаем фонариком: два длинных — один короткий.
— Придумал! — ухмыльнулся Колька. — Там же фриц с биноклем сидит.
— А мы его скоро: «Прицел ноль–ноль пять, по наблюдателю противника, фугасным — огонь!» и от твоего фрица только лохмотья во все стороны. Насчет этого будь спок, все уже давно обговорено в штабе, — последнее слово Минька произнес с особой интонацией.
* * *
После непродолжительного ненастья снова наступила жара. С утра до самого вечера палило солнце, накаляя каски артиллеристов и стволы их пушек, и без того раскаленные беспрерывной стрельбой по атакующим немцам. С утра до вечера накатывались они волной за волной на позиции бригады под прикрытием бронетранспортеров и танков. Над полем боя зловеще клубился дым горящей техники и висел туман из пыли, поднятой гусеницами танков и огнем артиллерии. Зной и грохот и песок на зубах. Скорее бы спасительная ночь!
Наконец багровое от стыда за человеческое безумие солнце спряталось за Терским хребтом, и на пропахшей порохом земле мало–помалу воцарилась напряженная тишина.
— Бисмилля рахмонир рахим! [17] — воздел руки к небу заряжающий орудия Вядут Абдрассулин. — Неужели тебе повылазило, алла, на старости лет и ты не видишь, что творится на этом свете?
Он носком ботинка отшвырнул в кукурузу стреляную гильзу и уселся на пустой снарядный ящик, злой и уставший до последней степени.
— Темный ты человек, Вядут: заявление в партию подал, а сам до сих пор в аллаха веришь, — заметил на это командир орудия Аймалетдинов. — Услыхал бы Самбуров, как ты молитву говоришь, он бы твое заявление и читать не стал.
— А он разве понимает по–татарски? — прищурился Вядут.
— Я б ему перевел твои слова на русский.
Абдрассулин горестно покачал стриженой головой.
Широкие его брови перекосились от притворного огорчения.
— И это называется кунак, близкий человек. Свою родную сестру ему в жены обещал. Цэ, цэ, — поцокал языком Вядут. — Такой девушки, как моя сестра, во всей Горьковской области не найдешь да и в Уфимской тоже. Красивая Зяйнаб, словно мак в цвету.
— Да она же еще маленькая, — возразил Зинаид.
— Пока тебе жениться, она вырастет, клянусь аллахом. Девки, знаешь, как быстро растут, что твои лопухи под забором.
К пушке подошел Володя Мельниченко, протянул своим приемным отцам котелок с водой.
— У пэтээровцев достал, — сообщил с улыбкой. Он уже одет в военную форму и поэтому кажется старше своих лет.
— Сходи теперь в соседний расчет, узнай, не привезли кашу, — сказал командир орудия, с трудом отрываясь от котелка и передавая его заряжающему.
— А я уже принес ее, — засмеялся юный артиллерист. — Гляжу, на дороге лежит. Вот, смотрите, какая жирная… — и он вынул из кармана бумажный листок.
Аймалетдинов взял листок, повернул его так, чтобы освещало закатом, и стал читать вслух:
«Голубые дьяволы, бандиты Красовского!
Прекратите бессмысленное сопротивление. Не дожидайтесь, пока наши доблестные войска выжгут огнем своих орудий все до единой ваши большевистские голубые петлицы. Бейте своих комиссаров и сдавайтесь в плен. Германское командование обязуется вас хорошо одевать и вкусно кормить. Вы будете есть кашу с маслом, молоко и сало. Бросайте оружие и переходите к нам. Эта листовка будет служить вам пропуском.
Германское командование».— А что я говорил! — подмигнул Володя. — Тут вам и каша, и молоко, и сало.
— Нам с Зинаидом сало есть нельзя, коран мал–мало запрещает, — проворчал Вядут и вдруг сорвался с ящика, завращал горящими от возбуждения глазами. — Какой глупый этот немец! Тьфу! Какой дурак! Бандитом нас зовет, а сам обещает кашу давать! Сам ты бандит! — погрозил он кулаком в темнеющую даль, туда, где в сгущающихся сумерках блестели в догорающих лучах заката купола моздокского собора. — Пришел в чужой дом, грабишь его хозяина и «бандит» на него говоришь. Дали мы тебе сегодня железной каши, проклятый фашист? Нажрался ты шрапнелью по самые ноздри. Завтра еще дадим!
— Бандитами он нас обзывает, конечно, зря, — согласился с заряжающим командир орудия. — А вот насчет «голубых дьяволов» я не возражаю. Даже приятно, что тебя шайтаном зовут, боятся, значит.
В кукурузе послышался шелест, и вскоре к орудию подошел командир батареи лейтенант Цаликов. Он был в приподнятом настроении, его горбоносое лицо светилось улыбкой. А может быть, оно отражало догорающую в небе зарю?
— Ну, как вы тут живы–здоровы, голубчики? — спросил он, приняв рапорт командира орудия.
— Слава аллаху, — ответил Абдрассулин. — Сегодня мал–мало жив остался, а завтра, однако, помирать придется.
— Что–то мрачно ты настроен? — командир батареи привык всегда видеть Абдрассулина бодрым и жизнерадостным.
— Так я почему–то думал, — пошевелил бровями Абдрассулин. — Сегодня он нас весь день гонял, как зайца: мы — туда, он бьет снарядом, мы — сюда, тоже бьет. За горой спрятались — видит, в кукурузу залезли — тоже видит. Очень хороший глаз у немца.
— Вот–вот, — подхватил командир батареи. — Надо выбить немцу глаз, так мне и Красовский сказал. Поэтому приказываю: с наступлением темноты выдвинуться с пушкой как можно ближе к переднему краю, на рассвете поразить прямой наводкой вражеского наблюдателя, засевшего на куполе городского собора, и, не мешкая, убраться на прежнюю позицию. Приказ ясен?
— Так точно, — вскинул руку к пилотке командир орудия.
* * *
До чего же длинная ночь! Давно уже артиллеристы, пользуясь темнотой, сменили позицию, а ночь все тянется и тянется. Аймалетдинов поплотнее запахнулся в шинель, прижался спиной к спине похрапывающего во сне земляка. На редкость беспечный мужик этот Вядут.
За дорогой, в развалинах черепичного завода, немцы на гармошке играют, а он спит и в ус не дует, словно находится в глубоком тылу. Терпко пахнет полынью. В небе сияют звезды. От них так светло на земле, что отчетливо виден силуэт подбитого немецкого танка, за которым укрылась пушка. Родимая. Безотказная. Противотанковая. Сколько пройдено с нею фронтовых дорог. Сколько уничтожено техники и живой силы врага! Перед глазами командира орудия поплыли изжелта–серые ставропольские степи, по которым пришлось отступать в жаркие июльские дни без воды и боеприпасов. Потом их сменили родные волжские раздолья, чередующиеся с дремучими лесами. Вот блеснула голубой лентой деревенская речка. На ее поросшем ромашками берегу сидит девчонка. Да это же Зяйнаб, сестра Абдрассулина! Но почему она такая взрослая? Когда успела вырасти? Нет, это не Зяйнаб, а Зина, продавщица из Ворошиловска, из–за которой они поссорились с Вядутом, находясь в увольнении. Вот уж не думал, что из–за какой–то незнакомой девчонки можно дуться на товарища несколько дней. Ишь, как он передернул свои и без того перекошенные брови. Прямо не Вядут, а настоящий Отелло.
— Однако хватит, — говорит Вядут недовольным голосом.
— Что хватит? — спрашивает Зинаид и просыпается.
В воздухе предутренняя сырость. Над темнеющей справа в сером сумраке станицей Терской зеленеет полоска занимающейся зари. Над ней, чуть выше сверкает–переливается в небе голубая звездочка.
— Спать хватит, — поясняет Абдрассулин, сворачивая тонкими, узловатыми пальцами цигарку. Вид у него недовольный. Узкий лоб прорезали морщины. По сторонам заросшего щетиной рта пролегли глубокие складки. Казалось, что он постарел за одну ночь лет на двадцать.
— Ты чего злой такой? — Аймалетдинов вскочил на ноги, с хрустом потянулся, аппетитно зевнул в сторону спящего за рекой города.
Абдрассулин не ответил. Прикрываясь броневым щитом пушки, торопливо выкурил цигарку, затем открыл орудийный замок, заглянул внутрь ствола и вновь закрыл. Он был явно чем–то недоволен.
— Да что с тобой? — подошел к нему Зинаид. — Плохой сон тебе приснился?
— Ага, плохой, — кивнул головой Вядут, — хуже некуда. Дедушку своего мертвого видел. Пришел за мной. «Пойдем, говорит, Вядут, очень по тебе соскучился, и бабушка тоже скучает». Ночью проснулся, до самого утра курил, думал. В горле от табака першит…
Аймалетдинов натужно рассмеялся, хлопнул друга по плечу:
— Нашел из–за чего расстраиваться. Мало ли чего приплетется за ночь. Я вон твою сестренку видел во сне, будто она уже взрослая и косы у нее черные–черные. И платок на голове тоже черный.
— Худой сон, — сказал Вядут. — Убьют меня сегодня, Зинаид…
— Ну, это ты брось, — рассердился командир орудия. — Ты мне оставь такие настроения. Мы с тобой еще по дому Гитлера должны прямой наводкой, как договорились.
— Убьют меня, — повторил Вядут таким голосом, что у Зинаида пробежали между лопатками мурашки.
— А ну, готовь осколочный, — крикнул он сердито и резко открыл замок орудия.
Абдрассулин взял из рук Володи Мельниченко снаряд, приготовился послать его в казенник.
— Еще мал–мало пускай рассветет, — сказал он.
— Пускай рассветает, — согласился командир, приникая глазом к дульному отверстию и маховиком поворотного устройства подводя его к круглому окошку, находящемуся под самым куполом собора. — Сейчас я угощу этого глазастого фрица.
Воздух быстро светлел. Еще несколько минут, и каменный великан вдруг зарделся розовым светом, словно заулыбался от радости, что первым увидел выбирающееся из–за далекого. горизонта солнце. Пора!
— Прости, русский бог, за такой подарок, — сказал командир орудия и махнул рукой: — Огонь!
Пушка рявкнула, но собор как ни в чем не бывало продолжал улыбаться дневному светилу.
— Мимо, — сказал Абдрассулин, как всегда на лету отбрасывая в сторону ногой стреляную гильзу.
— Чуть–чуть мимо, — уточнил командир орудия и вновь приник к дымящемуся стволу. — А ну, давай еще осколочным.
Заряжающий цокнул затвором.
— Огонь!
Снова рявкнула пушка. Под куполом в окошке сверкнула красная молния, из него вырвался наружу белый клуб дыма.
— Вот здорово! — ахнул Володя Мельниченко.
— Прицел прежний. Три снаряда беглым–огонь! — продолжал командовать Аймалетдинов звенящим от восторга голосом.
Еще раз за разом выстрелила пушка. После чего, подхваченная множеством рук, покатилась прочь от переднего края к небольшой лощинке, где, трясясь от нетерпения, уже поджидал боевую подругу тягач, чтобы умчать как можно быстрее на прежнюю позицию.
— Скорей, скорей, братцы! — покрикивал на бойцов Аймалетдинов, упираясь руками в щит пушки. А вокруг уже с отвратительным воем рвали рассветную тишину мины, и красноватые строчки пулеметов поспешно прошивали нежно–голубую ткань неба. Сегодня «поезд войны» начал движение не по расписанию генерал–полковника фон Клейста.
Это был самый тяжелый день битвы на терском рубеже. Германское командование бросило все свои резервы, чтобы смять глубокоэшелонированную оборону советских войск и, овладев горным хребтом на линии Вознесенская — Малгобек, вырваться на просторы Алханчуртской долины, ведущей к городу нефтяников — Грозному. Вражеские танки в тот день оставили рубчатые следы своих гусениц не только на кукурузных полях в долине, но и на склонах Терского хребта. Казалось, вот–вот вскарабкаются на него бронированные фаланги, и тогда их уже ничто и никто не удержит. Но раздавался бешено–задорный крик: «Братва, полундра!», и с вершины хребта летели в наползающие чудовища противотанковые гранаты — то давали отпор оголтелому врагу пришедшие на помощь «дьяволы» 62-ой морской бригады.
— Гляди, гляди! — крикнул Абдрассулин командиру орудия, показывая пальцем на склон горы, на котором дымился немецкий танк. — В одних тельняшках бегут в атаку. Гляди, как от них немцы удирают!
Сами артиллеристы стоят со своей пушкой в балочке между двумя возвышенностями за дорогой, что поднимается зигзагами на Терский хребет.
— По автоматчикам врага шрапнелью, пять снарядов, бегло — огонь! — скомандовал Аймалетдинов.
Над цепью вражеского десанта вспыхнул белый шар разрыва.
— Ага! Не шибко нравится! — торжествующе закричал Абдрассулин. От уныния на его скуластом потном лице не осталось и следа. Он ловко бросает в прожорливую пасть своего грозного детища снаряд за снарядом и каждый из них сопровождает шутливой прибауткой; «Это — Гитлеру! А это — его старшему брату! А это — среднему брату!.. Младшему…» и так далее. Он был прекрасен в эти горячие минуты боя, некрасивый лицом и нескладный телом татарин из деревни Ново–Мочалей Горьковской области.
— Справа! — раздался вдруг полный ужаса голос Володи Мельниченко.
Артиллеристы повернули головы: сбоку, из–за пологой горки один за другим выскакивают на ее гребень немецкие танки и, не раздумывая, несутся вниз к одинокой советской пушке. Все! Крышка! На этот раз спасенья не будет.
— Разворачивай! Чего стоите? — заорал не своим голосом командир орудия и первым схватился за орудийную станину. Рядом взорвался снаряд. Комья земли ударили в плечо и каску.
— Бронебойно–зажигательным. Живо! — выкатил Аймалетдинов налитые кровью глаза на заряжающего, а в мыслях у него лишь одно: «Сейчас раздавит!»
Но неисповедимы пути и судьбы фронтовые! «Жвыкнули» одна за другой из–за перевала огненные кометы, стеганули по глазам серией ослепительных взрывов, от которых так и грохнуло по всему склону пологой горки, словно обвалилось на нее само небо, и черный густой дым скрыл ее надолго вместе с танками от глаз изумленных артиллеристов. Упали они дружно на мать сыру–землю, а когда поднялись, на месте атакующих танков гудели лишь столбы жаркого пламени.
— Да это же «катюша» сыграла, братцы вы мои! — воскликнул Аймалетдинов, веря и не веря тому, что остался цел.
Потом, когда в перерыве между боями хлебал суп из котелка, подтолкнул плечом рядом сидящего на траве Абдрассулина:
— Из–за твоего сна и мы чуть было не отправились к аллаху.
Абдрассулин не улыбнулся на шутку и продолжал быстро орудовать ложкой.
— Куда ты так торопишься? Не пушку ведь заряжаешь, — снова обратился Аймалетдинов к приятелю. — После такого угощения немец не скоро очухается, можно есть спокойно.
— Надо скорей, — ответил Абдрассулин, — а то убьют — суп останется, такой вкусный….
— Э… — скривился Аймалетдинов, — заладил, как попугай: «Убьют да убьют». Придется доложить комиссару, чтоб он тебе… — он не успел договорить, что может сделать комиссар комсомольцу Абдрассулину за его суеверие, как рядом раздался оглушительный треск, и тугая струя горячего воздуха вырвала из его рук котелок.
— Чтоб тебе самому остаться голодным, шайтан! — пожелал Зинаид вражескому артиллеристу и взглянул на друга. Он лежал скорчившись, судорожно сжимая пробитый осколком котелок.
— Вядут! — бросился Зинаид к другу. Тот ничего не ответил. На спине у него пузырилась кровь из рваных клочьев серой от пота и пыли гимнастерки.
* * *
Хорошо в лесу: тихо, не жарко. В городе на пустырях еще в июле выгорела трава от зноя, а здесь, под густыми кронами дубов и тополей она бушует вовсю, сочная, зеленая, одуряюще пахнущая. Особенно приятна для глаза и для босых ног нежная, густая «гулинка», которую так часто приходилось рвать на корм гусям. С некоторых пор отпала нужда в этой питательной травке, потому что некому стало ее есть: перевели гусей на калашниковом базу фашисты.
«Синь–синь!» — донеслось из куста лупоглазого бересклета.
Минька остановился, ища глазами крохотную певунью.
— Интересно, а птицы понимают, что здесь — война? — шепнул Минька своему попутчику.
— А то нет, — убежденно ответил Колька так же шепотом. — Вон у нас петух: как увидит немцев, так что есть духу через забор — и в сад. Такой ушлый, что не дай тебе бог.
Ребята некоторое время стоят, озираясь и прислушиваясь, затем идут дальше. Справа донеслось урчание автомобильного мотора. Минька многозначительно поднял палец кверху, подмигнул приятелю: мол, идем правильно. Вскоре они вышли на небольшую полянку. Над нею порхали бабочки, гудели пчелы, отыскивая последние осенние цветы. В траве тускло отсвечивало коричневое горло пивной бутылки — в мирное время сюда сходились по праздникам городские жители погулять на лоне природы.
— Здесь, — тише прежнего шепнул Минька. — Отсюда до склада метров триста. Дальше идти нельзя, там часовых целая прорва, своими глазами видел, и собаки злющие. Давай собирать хворост.
Ну, это несложно: вокруг по кустам сколько угодно сухих сучьев. Вскоре посреди поляны уже высилась огромная куча хвороста.
— Давай бензин, — сказал Минька, отирая рукой катящийся со лба пот.
Колька достал из кармана штанов большой аптекарский пузырек.
— Полдесятка яиц содрал чертов ганс, — проворчал он, — чтоб он ими подавился.
Минька сунул пузырек под хворост, прикрыл дубовой веткой, разогнувшись, посмотрел на солнце: сегодня оно опускается особенно медленно.
— Значит так, — приблизил он синие глаза к таким же синим глазам сообщника. — Как услышим–загудел самолет, ты сразу на хворост — плесь! А я спичкой — чвырк! И драла отсюда, понял?
— Чего ж тут не понять, — усмехнулся Колька.
* * *
Ночь темна. Нигде ни огонька. Только искрятся звезды вверху да на западе лимонно светится краешек неба — там догорает вечерняя заря.
Рокочет мотор. Посвистывает встречная струя воздуха в расчалках самолета. Под крылом у него — бомбы, в кабинах — летчицы авиационного женского полка Бершанской. Они должны сбросить эти бомбы на склад боеприпасов, который находится в лесу на левом берегу Терека.
— Товарищ командир, подлетаем к реке! — кричит в переговорное устройство штурман.
— Хорошо, Катя, — отвечает ей летчица, вглядываясь в черноту ночи: почему–то немцы сегодня запаздывают с прожекторами. Или не хотят демаскировать себя в надежде, что «кофе мюлле» [18], как называют они в шутку русский самолет У-2, пролетит мимо.
Справа по курсу вспыхивает яркое пламя.
— Костер, Катя, — говорит летчица боевой подруге.
— Вижу, Нина, — отвечает та, в волнении забывая про субординацию. — Доверни на три градуса. Вот так… Теперь влево. Хорошо…
Огонь костра все ярче и все ближе. Пальцы штурмана до боли в суставах сжали рычаг сбрасывателя. Пора! Самолет качнуло — то отделилась от него тяжелая «сотка». И тотчас внизу полыхнуло с такой ослепительной силой, что на мгновенье стала видна дорога, ведущая от вокзала к разрушенному терскому мосту и сам Терек, и громадина–собор на северо–западной окраине города.
— Молодец, Катя! — крикнула Нина, кладя машину в глубокий вираж, чтобы как можно скорее уйти от цепких лучей прожекторов. Вот один из них скользнул по хвостовому оперению. Тотчас со всех сторон понеслись к нему красноватые тире зенитных снарядов. Снизу, сбоку, вверху засверкали молнии. В кабинах запахло горелым тротилом. Нина отжала от себя ручку управления, бросая старенький «кукурузник» в пике. Грозя рассыпаться от предельных нагрузок, самолет послушно понесся в черную пропасть. В ушах — свист, в глазах — один лишь прибор — высотомер. Большая стрелка стремительно бежит по циферблату. Когда она наконец остановилась и самолет снова выровнялся в линию горизонтального полета, голубые щупальца фашистского осьминога метались в бессильной ярости далеко в стороне от курса безнаказанно ускользнувшей из его смертельных объятий краснозвездной птицы.
Глава девятнадцатая
Мордовин спешил в 4‑ю роту, куда его послал комбат, отчаявшись связаться с подразделением по телефону. Широкий рубчатый след от гусеницы «валентайна», одного из пяти английских танков, посланных командованием армии в помощь 8‑й бригаде, вел его по гладкой, без единого кустика равнине прямиком к кургану Абазу, в районе которого закрепилась 4‑я рота, сдав под натиском врага Кизлярское. Скорей бы добраться до спасительных зарослей кукурузы, окружающих курган, словно озеро одиночный остров, пока до самого не добрались снующие над землей подобно осам желтобрюхие «мессершмитты».
А вон, кажется, и сам танк. Стоит в неглубокой балочке, а вокруг него суетятся танкисты.
— Что случилось, орлы? — спросил политрук, подбегая к ним.
— Мы не орлы, — огрызнулся один из танкистов с ключом в руке.
— А кто же вы? — удивился Мордовин.
— Должно, лягушки или тритоны, — пожал плечами танкист. А орлы вон в небе носятся, — ткнул он ключом в пикирующие на переднем крае немецкие самолеты.
— То ж стервятники, а не орлы, — поправил его Мордовин.
— Один черт… Давече налетел, трыкнул из пушки — и наших нет. Отвоевались… — у танкиста задрожали губы. — Это же не машина, а ходячий гроб! В нее штрафников сажать только за измену Родине! — перешел он на крик, и у Мордовина от этого крика побежали по спине холодные точки. Вот так же кипели на глазах злые слезы у сбитых над лесом летчиков, когда они говорили о своих «летающих гробах» — «бостонах».
— Где же остальные?
— Два сгорели, а два поддерживают морской батальон Цалласова. Эх, правда, говорится: нет танков и эти не танки…
— А где КВ? Он ведь с вами был.
— Ну и что, что был, товарищ политрук. Хороший танк КВ, настоящий, да ведь он один, понимаете? Оди–ин. А один разве в поле воин?
— Ну, прощайте, товарищи…
Командира 4‑й роты Мордовин нашел на кургане Абазу в блиндаже. Он сидел перед амбразурой и брился, глядясь в осколок зеркала, прислоненный к прикладу ручного пулемета. На нем, как всегда, чистая, с белым подворотничком гимнастерка, начищенные сапоги. В углу блиндажа сидел на чурбаке, склонясь над телефонным аппаратом, Парамонов.
— А, это ты, политрук! — улыбнулся командир роты в зеркало, не отнимая бритвы от намыленного лица. Оно у него худое — кожа да кости. И глаза провалились, как у тяжелобольного, хотя и блестят по–прежнему жизнерадостно и даже озорно.
— Здравствуй, Федя, — дотронулся до его плеча Мордовин и уселся на нары, распахнув ворот гимнастерки. — Как у тебя дела? Видать, не очень донимают немцы, раз находишь время для туалета.
— Не очень, — согласился Федя. — С утра лишь три атаки отбили. А ты опять ко мне политруком? Моего–то убило вчера.
— К тебе. Только не политруком, а вроде связного, что ли. В штабе волнуются, не знают обстановки, ни с одним подразделением нет связи. Я бы этому Васильеву…
— Ты Васильева не трогай, он мужик что надо. Этой ночью за водой ходил к Тереку. Между немцами туда и обратно невредимым пробрался. А ты говоришь… Сами забрались со своим штабом чуть ли не к Терскому хребту и хотят знать обстановку…
Неподалеку разорвался снаряд. В щели с потолка блиндажа заструился песок.
— Иди сюда, — взмахнул бритвой Мельник.
Мордовин подошел к амбразуре.
— Смотри, какая обстановка, — сунул в нее бритвой Мельник.
Внизу, у подножия кургана и дальше по всему истерзанному боями кукурузному полю до самого края обрыва, спускающегося в терскую пойму, лежали убитые.
— Еще сутки такой обстановки — и у меня в роте не останется бойцов. А как в бригаде?
— Тоже не очень весело, — вздохнул Мордовин. — 1‑й батальон не выдержал, сдал станицу Терскую, а через 4‑й и З‑й батальоны танки прорвались к самому хребту. Правда, к Вознесенке они не прошли, моряки не пустили. Так ни с чем и вернулись в Предмостное, когда кончилось горючее. Представляешь, они ползут назад через наши позиции, а им из окопов — гранаты на моторные отсеки. Много пожгли. Хорошее это дело — круглые одиночные ячейки!
— Я тоже, заставил всех обзавестись одиночными ячейками — на случай прорыва танков, — оказал Мельник.
Снова ухнуло, теперь уже с другой стороны блиндажа. Потом еще и еще. И вдруг загрохотало со всех сторон. В дверь землянки вскочил боец.
— В атаку идут! — крикнул он командиру роты.
Мельник приподнялся над табуреткой, заглядывая в амбразуру.
— Правда, идут, — сказал он без волнения, словно к рубежу, занимаемому его ротой, шли не немцы с автоматами в оголенных до локтей руках, а сельские женщины, несущие кувшины с молоком, чтобы напоить своих измученных жаждой защитников. — Опять не дали добриться, черт бы их побрал. — Он схватил одной рукой лежащий на нарах автомат, другой — полотенце, смахнул с лица пену и пошел к выходу.
Мордовин торопливо застегнул на гимнастерке пуговицы.
— Оставайся здесь, — бросил ему на ходу Мельник. — Будешь вторым номером у Парамонова, он у меня вместо пулеметчика.
— Нет, Федя, я с тобой, — возразил Мордовин.
— Хозяин — барин, — сверкнул зубами Федя и побежал по траншее с кургана вниз.
Немцы решили овладеть курганом любой ценой. Единственная. высота, с которой просматривается во все стороны моздокская долина, мозолила им глаза, словно песчинка, попавшая под веко. Казалось, на этом древнем холме сосредоточилось все внимание немецкого командования и от того, будет он взят или нет, зависит исход если не войны, то, по крайней мере, летней наступательной кампании 1942 года. Особенно бесило атакующих гитлеровцев то обстоятельство, что курган защищает всего–навсего одна рота гвардейцев, впервые понюхавших пороха неделю назад. Они не только сдерживают натиск отборных подразделений прославленной в предыдущих боях 370‑й пехотной дивизий, но и время от времени переходят в контратаки и обращают их в бегство. Не люди, а дьяволы. Die blauen Teufel [19], подрывающие гранатой вместе с танком и самих себя.
Это о них напишет впоследствии в своих мемуарах командующий 1‑й танковой армии генерал–полковник Клейст, что он встретил части, где стойкость солдат в сражении с танками выше всякой оценки, что он считал бы себя счастливым, если бы имел таких солдат [20].
В тот жаркий сентябрьский день командующий группой армии «А» генерал–фельдмаршал Лист был приглашен в ставку группы армий «Юг», располагавшуюся в Донецке, и начальник генерального штаба главнокомандования вооруженных сил Германии генерал–фельдмаршал Кейтель после соответствующей беседы дал ему отставку, а гвардейцы 8‑й бригады вместе с другими защитниками Кавказа, из–за упорства которых произошло это печальное для Листа событие, даже не подозревали о том, какую свинью они подложили старому немецкому вояке. И еще не знали гвардейцы 8‑й бригады, отражая бесконечные атаки на своем кургане, что в этот же день в Сталинграде гвардейцы дивизии Родимцева удерживают с таким же успехом Мамаев курган, слава о котором разнесется потом по всей земле.
Курган Абазу… Нельзя измерить и выразить словами героизм советских воинов, выдержавших на его склонах многодневные яростные атаки хорошо вооруженного врага. Без воды, без пищи, без связи с батальоном, с бригадой, с корпусом, со всем миром. Под раскаленным солнцем и беспрерывными налетами бомбардировщиков.
— Политрук!
Это кричит стоящему рядом в траншее Мордовину командир роты.
— Что, Федя? — оторвался Мордовин от тяжелых мыслей. У него потрескавшиеся от жары губы, на осунувшемся, грязном лице еще заметнее выперли скулы — калмык да и только.
— Еще одну атаку отбили, Валя! — кричит командир роты, хотя грохот боя заметно поутих.
— Отбили, Федя, — соглашается Мордовин, размазывая на лбу грязь и окидывая взглядом заваленное трупами пространство перед окопами. Целый вал из окровавленных тел, своих и чужих. Лежат вперемешку атакующие и контратакующие, будто и после смерти продолжая душить друг друга.
— Давай закурим.
— Давай…
Хоть табачным дымом заглушить на время мучительную жажду и мысль об очередной атаке. С кем ее отражать? И сколько еще раз? С командованием батальона до сих пор нет связи. Где остальные роты? Может быть, противник обошел роту с флангов и прорвался к Терскому хребту, а они сидят на этом кургане, словно мыши на острове во время половодья?
— Разрешите обратиться, товарищ гвардии лейтенант?
Командир роты оглянулся; перед ним стоял запыхавшийся боец.
— Ну? — сказал он нетерпеливо.
— Командир 5‑й роты прислал спросить, что делать нам дальше, отходить или как? А еще просил подсобить патронами и гранатами.
— А где сейчас находится ваша рота?
— Слева между Кизлярским и Раздольным.
У Мельника сама собой развернулась грудь, в глазах сверкнули огоньки.
— Видал? — подмигнул он облокотившемуся на бруствер траншеи секретарю партбюро батальона. — К Мельнику обращаются, будто он сам Красовский. Говоришь, 5‑я держится? — повернулся снова к бойцу.
— Так точно, товарищ гвардии лейтенант, держится, хотя и тяжело… Это хорошо еще, что нам танк помог.
— Какой танк?
— А бог его знает. Громадный такой. Немцы по нем из орудий бьют, а от него снаряды, как от стенки горох. Вы бы посмотрели, как он гонял фрицев по Кизлярскому, бежали от него аж пыль столбом. И моряки лихо бьются.
— А 6‑я не слыхал как?
— В 6‑й плохо. Через нее из Раздольного танки прорвались,, штаб батальона и тылы подавили. Из Чеченской балки подводчик прискакал, говорит, что командир и комиссар погибли. Один только начальник в живых остался.
— Ах, черт! — заругался Мельник. — А ты не врешь?
— Зачем бы я стал врать? — насупился связной. — Потому и к вам прибежал.
Мельник посуровел взглядом.
— Передай своему командиру, что боеприпасов я ему подброшу с наступлением темноты, теперь уж недолго ждать, — взглянул он мельком на солнце. — И еще передай, чтоб держался до последнего, скоро помощь придет с Малгобека.
— Есть, товарищ гвардии лейтенант! — козырнул связной и побежал по траншее.
— Ну как, политрук? — повернулся Мельник к Мордовину.
— Молодцом, комбат!
Мордовин заглянул в глаза командиру роты, словно хотел рассмотреть что–то в глубине его души, и продолжил взволнованно: — Федя! Я рекомендовал тебя при поступлении в партию. А сейчас рекомендую и приказываю как старший по службе взять на себя командование батальоном. На себя беру обязанности комиссара, — он немного подумал и добавил: — Другого выхода у нас нет.
Федя как–то часто–часто заморгал густыми ресницами, крепко сжал руку Мордовина выше локтя и крикнул звенящим голосом:
— Ну, комиссар! Дуй в таком случае во взвод связистов Васильева, им сейчас тяжелее всех приходится, а здесь я и сам управлюсь.
* * *
Несмотря на смертельную усталость от продолжавшихся весь день боев, Мордовин плохо спал в ту ночь. Ему все снился один и тот же эпизод из боя: огромный немец с перекошенным от страха и ярости лицом замахивается на него штыком, а он сам жмет что есть силы на спусковой крючок пистолета и слышит лишь пустые щелчки. Он просыпался с гулко бьющимся сердцем, скручивал цигарку, выкуривал ее под монотонное турчание забравшегося в блиндаж сверчка и разноголосый храп боевых друзей и снова забывался тревожным сном. Проклятый немец! До самого рассвета он продолжал наскакивать на безоружного политрука, держа наперевес блестящий, с широким лезвием штык.
Проснулся чуть свет с головной болью и с тоской в сердце. Удастся ли сегодня устоять перед врагом? Придет ли, наконец, подкрепление из тыла?
Снаружи послышались шаги. Мордовин потянулся к пологу, заменяющему в блиндаже дверь, чтобы посмотреть, кто поднимается по ходу сообщения, и в следующее мгновенье вытянулся по стойке «смирно»: на пороге стоял начальник штаба бригады в сопровождении двух бойцов.
— Бригада жива! — были первые его слова, и они прозвучали в предутренней тишине как приветствие.
Все, кто еще оставался на нарах, вскочили на ноги и окружили доброго вестника. Хотя вести оказались и не такими уж добрыми. Вчера немецкие танки «проутюжили» командный пункт 2‑го батальона. Но потерь больших нет. Начальник штаба батальона и его писарь собирают людей в Чеченской балке. Туда же перебрался из Вознесенской и штаб бригады. Красовский отдал приказ: всем подразделениям передислоцироваться во второй эшелон обороны, то есть на гребень Терского хребта.
— В связи с тем, что командир 2‑го батальона ранен и отправлен в госпиталь, временно командиром батальона назначаю лейтенанта Мельника, — подытожил свою информацию начальник штаба.
— Выходит, ты теперь у нас дважды комбат, — усмехнулся присутствующий при разговоре командир минометной роты.
— Почему дважды? — удивился начальник штаба.
— А его вчера комбатом Мордовин назначил. Вот только обмыть повышение не успели…
Начальник штаба улыбнулся, с одобрением взглянул на покрасневшего от неловкости политрука. Он редко улыбался, этот суховатый, не терпящий панибратства и легкомысленного отношения к службе капитан.
Глава двадцатая
Военфельдшер Вера Колодей в изнеможении опустилась в густую, нагретую солнцем люцерну, с отчаяньем взглянула на отроги Терского хребта — до него еще далеко, а сзади все ближе подступает ружейная и минометная пальба.
— Не могу больше, дядя Саша, — жалко улыбнулась она своему подчиненному, пожилому, с пушистыми рыжими усами санитару.
— Отдохни, дочка, — великодушно разрешил дядя Саша, тоже присаживаясь на корточки возле носилок с тяжелораненым бойцом, которого они вдвоем несли к узкоколейной железной дороге, соединяющей Моздок с Малгобеком. — У меня самого руки ломит. Они сели да уехали, а мы теперя рви пупок…
«Они» — это медицинский персонал санитарного взвода, отступивший в тыл с частью раненых. «Вас с остальными заберем вторым рейсом», — пообещал фельдшеру командир взвода на прощанье.
— Пить… — простонал раненый, облизывая почерневшие от страданий губы.
— Потерпи, миленький, потерпи, — склонилась над лицом раненого Вера. — Сейчас мы тебя привезем в санроту, там будешь пить, сколько тебе захочется.
— Пить, — повторял раненый, вращая бессмысленно вытаращенными глазами. По–видимому, он не слышал ласковых слов фельдшера.
Мамочка родная! Он же совсем еще мальчишка, с облупленным носом и светлым пушком на щеках. Да и другие… Лежат в ряд возле железнодорожной насыпи среди кустиков чахлой полыни и мучаются под горячим кавказским солнцем. И некуда их деть пока, и нечем укрыть от палящих лучей. Скорей бы возвращались повозки… Кажется, одна уже тарахтит. Вера повернула голову: по пыльной дороге, протянувшейся рядом с узкоколейкой, мчалась к ним запряженная тройкой лошадей повозка. Ну, слава богу, недолго пришлось ждать.
— Давай, дядя Саша! — крикнула Вера, вскакивая на ноги и хватаясь за ручки носилок. Откуда взялись силы! Путаясь сшитыми по распоряжению самого командира корпуса брезентовыми сапогами в высокой, до колен траве, потащила носилки к дороге.
— Тпру–у!
Лошади вскинули морды, затоптались на месте. Над передком повозки приподнялся красноармеец. Да это же Митька Хрукало! Писарь батальона. Верин воздыхатель и покровитель. В тот памятный для Веры день, когда она прибыла в распоряжение минометной роты 2‑го батальона, он самый первый проявил к ней внимание, принеся из кухни котелок с супом. «Ешь», — сказал сердито и покраснел до корней своих светлых с рыжинкой волос. Потом он еще не раз заходил в санитарный взвод, куда определили Веру на службу, записывал в ведомость какие–то данные со слов главврача и по–прежнему сердито взглядывал на новенькую медсестру. Увидев однажды у нее в руках маленький трофейный «вальтер» и узнав, что подарил ей этот пистолетик лейтенант Куличенко, писарь еще сердитее насупил белесые брови и пообещал подарить при случае настоящий пистолет, а не какую–то игрушку.
— Вы чего здесь торчите?! — крикнул Хрукало. — Не видите, танки идут.
Вера обернулась назад и обмерла: слева по полю, наискосок от позиций 6‑й роты мчались прямо на нее немецкие танки.
— Садись скорее в повозку! — снова донесся к ней отчаянный крик писаря.
Вера было бросилась на этот спасительный призыв, но тут же опомнилась, вернулась, подхватила с земли ручки носилок.
— Дядя Саша, — прошептала она севшим от страха голосом, — быстрей в кукурузу!
Ноги заплетаются в предательской гущине люцерны, сердце бешено стучит в груди, отдаваясь толчками крови в висках, во рту — сухо, как в пересохшем колодце. Опустила носилки между стеблями кукурузы (хорошо, что она недалеко от дороги) и побежала назад к узкоколейке. А танки совсем уже близко. Задыхаясь от бега, подхватила под мышки первого попавшегося раненого, поволокла по люцерне, краем глаза увидела, что Митька Хрукало тоже тащит на себе сплошь забинтованного бойца. Нет, не успеть перетащить остальных. Из последних сил доволокла Вера беспомощного человека до спасительных зарослей и упала рядом с ним, вся сжавшись от ужаса перед надвигающейся громадиной. Дико заржали лошади, поднимаясь на дыбы и пятясь вместе с бричкой к железнодорожному полотну. «Стой, черт!» — раздался отчаянный Митькин голос. Его заглушила пулеметная очередь. «Все!» — зажмурилась Вера, каждой частицей тела ожидая, как вот сейчас, через мгновение навалится на нее эта лязгающая стальными челюстями смерть. Не помня что делает, она выхватила из кобуры «вальтер» и выстрелила в танк. Он проскрежетал в двух шагах от кукурузного поля, и Вера осталась жива. Не веря своему счастью, она из–под руки взглянула на уползающее чудовище, и в глазах у нее потемнело от жуткого зрелища: танк, круто развернувшись на одной гусенице, направился к узкоколейке, под насыпью которой лежали тяжелораненые бойцы. Некоторые из них, судорожно дергаясь, пытались переползти через насыпь. Но поздно: фашистский зверь уже вычерчивал на земле ребристые восьмерки. Вера вскрикнула и, вскочив на ноги, бросилась прочь от этого кошмара.
* * *
Хрукало и сам не мог потом объяснить товарищам по службе, как ему удалось вскочить в повозку, уносимую тройкой обезумевших лошадей, как удержался в ней во время бешеной скачки по кукурузному полю. Скорость была так велика, что повозка порой зависала на стеблях кукурузы и, не касаясь колесами земли, плыла по ней, как по воде. О попытке остановить лошадей нечего было и думать. Они буквально озверели и со стороны, наверное, напоминали собой летящих драконов. Хрупало ухватился за стяжные болты и, лежа ничком на дне повозки, отдался во власть судьбы и рока. Тогда–то и налетел на него сзади вражеский истребитель. Первой же пулеметной очередью он прошил ящики со штабными документами и сбил с ног среднюю лошадь. Последовал страшный удар в голову, и Хрукало на какое–то время перестал ощущать себя в этом мире. Когда он открыл глаза, то увидел нелепую картину: оставшиеся в живых пристяжные лошади, застряв головами в хомутах, лежали хвостами вперед по направлению к Терскому хребту, а повозка, изогнутая под углом в сто двадцать градусов, стояла одним колесом на голове убитого коренника, а другим — в передних его ногах. «Будет мне чертей за повозку», — потряс контуженой головой писарь, окончательно приходя в себя после чудовищного сальто–мортале. Он подошел к дрожащим, словно в малярийном ознобе, лошадям, освободил их от хомутов. Сзади совсем близко раздался орудийный выстрел. Хрукало обернулся и… на четвереньках пополз под изуродованную повозку: метрах в пятидесяти от места катастрофы торчала среди кукурузных метелок башня танка. Она водила туда–сюда длинным хоботом орудия, вынюхивая очередную жертву и не подозревая о том, что через минуту сама станет жертвой.
Со стороны Терского хребта показался самолет. Он — все ближе, ближе. Вот он уже над головой у Хрукало. Да это же У-2, «кукурузник»! Он не спеша протарахтел над танком, что–то бросил на него, и танк задымил. Молодец, летчик! Сжег танк с первого захода и отправился к следующему. Геройский парень, видно, сидит в кабине этого матерчатого самолетика. И оружие у него какое–то невиданное. Хрукало, позабыв об опасности, высунулся из–под повозки, восторженным взглядом проводил удаляющийся самолет. Но что это? Четырехкрылый истребитель танков сам вдруг заметался из стороны в сторону и, прижимаясь к земле, понесся во все свои сто лошадиных сил к Терскому хребту. И тут Хрукало увидел другой самолет с тонким туловищем и черным крестом на нем. Он свалился с неба на тихоходный У-2, словно коршун на жаворонка, и в мгновенье ока разделался с ним. «Сбил, сволочь!» — огорчился Хрукало и бросился к тому месту, где, по его мнению, упал самолет. Он действительно лежал в кукурузе. Крылья исковерканы, колеса валяются в стороне, от пропеллера осталось два куцых, расщепленных пенечка. Возле него стояла девчонка в синем комбинезоне и кулаком размазывала по щекам слезы.
— А где летчик? — спросил Хрукало, подбегая к останкам самолета.
Девчонка взглянула на незнакомого бойца и еще пуще залилась слезами.
— Ну, чего тебя расхватывает? — подошел к ней Хрукало. — Летчик, спрашиваю, где?
— Я и есть летчик… Не видишь, что ль? — ответила, всхлипывая, девчонка.
— Ври больше, — вылупил глаза Хрукало.
Незнакомка не ответила, лишь продолжала судорожно подергивать худыми плечиками.
Рядом из кукурузы с ужасным грохотом взметнулась кверху земля. Хрукало схватил за плечи плачущего летчика, бросил на землю, сам упал рядом, закрыл ему голову согнутой в локте рукой. Но больше взрывов не последовало.
— Гм… — он встал на колени, стряхнул с воротника гимнастерки землю, окинул взглядом искореженный самолет. «Как моя бричка», — подумал про себя, а вслух сказал: — Чего ревешь, если живая осталась?
Летчица сверкнула на своего утешителя покрасневшими от слез глазами.
— Самоле–ет… разби–ила… — протянула она с новым приступом рыданий и была похожа в этот миг на девчушку–дошкольницу, нечаянно уронившую на пол чайную чашку.
— Ну и что, что разбила, не сама ведь. Я же видел, как он тебя очередью секанул.
— Он не попал… а я — со страху в кукурузу врезалась. Что я теперь Евдокии Давыдовне скажу-у…
— А кто она такая?
— Командир полка Бершанская.
— Вот чудеса! — покрутил головой Хрукало. — У вас что, в полку одни бабы… то есть, женщины? — поправился он тотчас.
— Ага, одни женщины, — судорожно вздохнула летчица.
— И не страшно вам вот так летать над линией фронта?
— Еще как страшно. Особенно ночью, когда кругом тьма, а тебя прожекторы хватают, будто лапами, и все снаряды к тебе тянутся.
— Так ты, выходит, со страху два танка уничтожила? — усмехнулся Хрукало, показывая рукой на столб изжелта–черного дыма. — А я думал, в кабине какой–нибудь Чкалов сидит, до того у тебя ловко получалось: кок! — есть, кок! — есть. Чем это ты их? Наверно, секретное оружие?
— Куда уж секретней… Бутылки с самовоспламеняющейся смесью, — девушка шевельнула в слабой усмешке распухшими от слез губами. Но тут же вновь помрачнела: — На чем я теперь летать буду?
— Новый дадут, — подбодрил ее Хрукало, вставая на ноли и оглядывая окрестности. — Тебя хоть как зовут?
— Верой.
Хрукало даже рот разинул от такой неожиданности: тоже — Вера и тоже совсем еще девчонка, хоть и без косичек на голове. Никогда б не подумал, что девчата бывают такие смелые.
* * *
Парамонов прикрепил к пулемету последний диск. «Успеют или не успеют отойти минометчики?» — думал он, ловя в прицел изгибающуюся на ходу цепь фашистских автоматчиков.
— Нате, жрите! — надавил со злостью на спусковой крючок «Дегтярева», испытывая необъяснимое торжество при виде опрокидываемых пулеметными очередями бегущих людей. И откуда у него такое? Ведь до войны он не мог даже курице отрубить голову. И из пулемета раньше не стрелял, и не знал его устройства. Впервые он встал к пулемету в одну из особенно яростных атак врага лишь сутки назад, когда был убит пулеметчик. «Молодец!» — похвалил его командир роты в перерыве между боями и показал ему, как меняется на пулемете диск с патронами.
— …Когда я на почте служил ямщиком, — яростно запел Парамонов под аккомпанемент пулемета, нисколько не заботясь о том, что его самого могут убить. В промежутки между очередями он слышал картавые немецкие голоса не только перед амбразурой, но и за пологом, закрывающим вход в блиндаж. Ясно: немцы окружили курган и вот–вот ворвутся сюда. А патронов в диске все меньше. Еще одна очередь — и пулемет умолк. Все. Остается одна граната. Для тех, кто первыми ворвется в блиндаж, и для себя…
Парамонов крутнул ручку гранаты, устанавливая ее на боевой взвод. Это движение напомнило ему по ассоциации о ручке на телефонном аппарате. Ни на что не надеясь, он — склонился над ним и левой рукой крутнул ручку.
— «Кипарис» слушает, — донесся из трубки знакомый девичий голос.
Парамонова даже в жар бросило от такой удачи. Больше суток не было связи и вдруг — вот она, в самый критический момент.
— Дуся! — закричал он в трубку, не отрывая взгляда от занавешенной одеялом двери в блиндаже. — Слышишь меня? Я — Парамонов. Передай артиллеристам, пусть немедленно накроют курган Абазу всеми орудиями! Слышишь? Немедленно! Что? Некогда объяснять, немцы лезут! Прощай!
Парамонов бросил трубку, подскочил к одеялу, отдернул его:
— Нет, мы еще повоюем с вами, фашистские крысы!
Он метнул в бегущих по ходу сообщения немцев гранату и выхватил из ножен десантный нож, не зря же его учили в Андреевской долине, как им при случае пользоваться.
Глава двадцать первая
Левицкий вышел из политотдела, который вместе со штабом бригады перебазировался из Вознесенской в район Малгобека, и направился к Чеченской балке, где должно сегодня состояться партийное собрание.
— Гляди–ка, братцы, повезло парню! — услышал он удивленный возглас.
Левицкий остановился, посмотрел на сгрудившихся возле повозки бойцов. Один из них держал в руках газету. «Красная Звезда», — прочитал Левицкий знакомое название. Он подошел поближе, прислушался.
— Надо же, из винтовки самолет сшиб! — с нескрываемой завистью продолжал владелец газеты, тыча в нее пальцем. — Не иначе, орден отхватит, а то и отпуск. Вишь, стоит гоголем и самолет рядом, должно, «юнкерс».
— Кому какое счастье! — вздохнул кто–то из бойцов. — А я давече стрелял, стрелял по «лаптежнику», только зря патроны потратил — он летит и летит, стерва. Сказано: «Не родись красивым…»
— А в Вознесенке, помните, наш «як» разбился, так одному бойцу ноли оторвало лопастью…
У Левицкого невольно закололо вдоль позвоночника от этого воспоминания. Он сам видел, как оторвавшейся лопастью воздушного винта ударило бойца, который в это время сидел под навесиком и писал письмо. «Здравствуйте, дорогие мои, сообщаю, что я жив и здоров…» — было написано в тетрадном листке.
— Хороший истребитель «як», — оказал владелец газеты, пробегая ее глазами сверху донизу. — Вот и здесь про него написано: «як» в воздушных боях с немцами». А кто лее автор? Ага: Герой Советского Союза майор Клещев.
— Гарна машина, да тильки дэ вона? Шось я цих «якыв» не дюже бачу, — усмехнулся, заглядывая в газету, пожилой украинец с рукой на перевязи. — Ты лучше почитай мени, хлопец, вот туточки, пид цим героем, шо самолет из ружжа сбыв, шо там за гвардейцы такы?
— Пожалуйста, папаша, с превеликим удовольствием, — усмехнулся владелец газеты, от которой уже успел пустить изрядный кусок на раскур, и стал читать вслух: — «Стойкая оборона гвардейцев» (От специального корреспондента «Красной Звезды»), «На тихий северокавказский городок шли немцы — колонна танков и до двух полков мотопехоты…» Постой, — прервал он сам себя и оглядел товарищей расширенными глазами. — Да это, похоже, в Моздоке.
— А ты читай дальше, — прикрикнули на него.
— «…Городок защищал батальон гвардейцев».
— Наш, 3‑й… — неуверенно, словно боясь ошибиться, выдохнули из толпы слушателей.
— Помолчи, — опять прикрикнули.
— «…под командованием гвардии капитана Коваленко», — продолжал чтец.
— Ну, конечно же, это про нас! — загудели восторженно бойцы.
— А про Рыковского есть?
Чтец пробежал глазами по статье:
— Есть. И про Фельдмана, и про бронебойщиков. Вот слушайте: — «В городке разгорался бой с прорвавшимися танками. Вот вспыхнули подожженные бронебойщиками две головные машины, третью подбил гранатой из–за забора комиссар Фельдман».
— Трошки не так, як було, но все равно добре написано, — разгладил усы боец–украинец. — Тильки дуже жалко, шо Фельдмана немае тут, увезлы его ще вчера в Синий Камень.
— Ну и что? В госпитале почитает.
— Гарно будэ, колы тамочки не найдется ось такого дурня, — ткнул украинец рукой во владельца газеты, — шо сперва газету на закрутки рвет, а потом вже читае.
Все рассмеялись.
«Без шутки и на войне ни шагу», — подумал Левицкий, намереваясь идти дальше, но его удержал на месте очень уж знакомый голос:
— Можно подумать, что в Моздоке только и воевала ваша рота. Да попади этот корреспондент к нам на бронепоезд, он бы о вас и упомянуть постеснялся. Ведь мы уничтожали немецкие танки пачками, а не по одному, как вы.
Левицкий вгляделся в лицо говорящего: перед ним стоял тот самый веснушчатый крепыш в синем комбинезоне с маузером на боку, что закуривал у него на том берегу Терека у переправы. Голова у него по–прежнему забинтована, только бинт на ней чистый.
— Живой? — улыбнулся старший политрук.
Он подошел к нему, тряхнул здоровую руку.
— Живой, — весело согласился тот. — Вот только еще разок зацепило уже на этой стороне. Пришлось в санчасти поваляться.
— «Беломор» вы уничтожали пачками, а не танки, — съязвил кто–то запоздало. Но боец с бронепоезда не удостоил его даже взглядом.
— Ну и куда теперь направляешься? — спросил Левицкий. Боец пожал плечами:
— Хотел остаться в вашей бригаде, а меня — на переформирование. Говорят, здесь теперь и без меня обойдутся, а в Грозном на бронепоезд пулеметчики требуются.
— В таком случае, счастливого пути, товарищ…
— Забавин, — подсказал боец.
— Да, да, Забавин… теперь вспомнил, — улыбнулся Левицкий.
— И вам тоже счастливо оставаться, — ответил улыбкой Забавин. — Увидите медсестру Веру, передайте ей от меня привет.
— Охотно, — пообещал Левицкий и зашагал дальше навстречу рокочущему, как морокой прибой, переднему краю войны.
* * *
Бронебойщика Рогачева принимали в партию. В душном от множества людей блиндаже под «музыку» недалекого боя. Речи были коротки, как автоматные очереди.
— Мужественный боец… Отличился в боях…
— Кто за то, чтобы принять Рогачева кандидатом в члены партии, прошу голосовать, — предложил секретарь партбюро Мордовин и первым поднял руку.
У Рогачева защипало в глазах. «Накурили, однако, — подумал он, оправдывая свою минутную слабость. — И как жаль, что не дожил до такого волнующего события Вася Донченко».
Снаружи послышались шаги и голоса. В блиндаж втиснулся командир корпуса генерал Рослый. За ним — Красовский, Кириллов и комроты Дзусов. У последнего перевязана марлей огненно–рыжая голова.
— А ну покажись, сынку, — подошел генерал к смущенному кандидату в члены партии. — Сдается мне, что где–то я тебя бачил.
Все, находящиеся в блиндаже, заулыбались: в хорошем настроении командир корпуса, значит, дела наши не так уж плохи, как порою кажутся.
— Так точно, товарищ гвардии генерал! — развернул плечи бронебойщик. — На берегу Терека возле Предмостного.
— С тобой еще один герой был, что мог воробья из рогатки на лету сбить.
— Рядовой Донченко, — подсказал Рогачев.
— Ну и как: попал он из винтовки в фашистского воробья?
— Он фашистский танк подорвал, товарищ генерал, — ответил Рогачев, гася улыбку на губах.
— Где же он сейчас?
— Погиб… от другого танка.
У генерала посуровели глаза. Он снял фуражку.
— Вечная память герою, — сказал тихо и выразительно посмотрел на стоящего неподалеку Левицкого: — Не пришлось парню побывать в своих вербах… А жаль, ведь я ему трое суток отпуска обещал. — Генерал обвел всех взглядом. — Мы еще побываем в наших вербах. Порукой тому беспримерное мужество и героизм наших воинов, не давших прорваться танкам Клейста здесь, на терском рубеже. Зверь пока еще рычит, слышите? Но зубы у него обломаны. И то, что немцы бросились искать лазейку в обороне наших войск, в частности через Эльхотовские ворота, красноречиво свидетельствует о том, что сражение на Тереке выиграно не ими. Вы, товарищи гвардейцы, оказались победителями в этой кровопролитной схватке. Теперь, когда враг разбил свой бронированный лоб о ваше мужество и стойкость, командование направляет вас на новый участок фронта. Оно уверено, что вы и там окажетесь достойными вашего гвардейского звания и что фашисты по–прежнему будут в страхе вас называть если не голубыми, то какими–нибудь полосатыми или оранжевыми дьяволами.
Прокуренный до последней щели блиндаж задохнулся от дружных хлопков.
* * *
Солнечное золото уже расплавилось без остатка в тигле вечернего заката, когда Левицкий вновь поднялся на гребень терского взгорья. По нему, грохоча о мостовую колесами, катились военные повозки, шли колоннами красноармейцы.
— Эгей! Ты куда это направился, отбойный молоток? — раздался сбоку знакомый голос.
Левицкий повернул голову: да это же Рыковский! Живой, невредимый, веселый, как всегда.
— На Берлин направляюсь, крепильная стойка! — откликнулся «отбойный молоток» в лихо сдвинутой на ухо пилотке. — Потопали, Саша, с нами, донскими казаками.
— Да не в ту же сторону, — рассмеялся Рыковский.
— А мы — в обход! — махнул рукой Поздняков и толкнул локтем сгорбившегося под пулеметом своего второго номера:
— Поднимай ноги, верблюд, а то пылишь.
«Вот же черти! О Берлине говорят, как будто он за соседней горкой», — усмехнулся Левицкий.
— Товарищ гвардии старший политрук!
Левицкий оглянулся: на дороге стоит полуторка. Над бортом кузова сияет улыбкой круглое лицо Бориса Жирова.
— Почему не со своими? — спросил у разведчика.
Жиров одним махом спрыгнул с полуторки, вытянулся перед старшим по званию:
— Да… задержался во втором батальоне, товарищ гвардии старший политрук. — Он отвел в сторону смущенный взгляд. — Можно у вас спросить про одно дело?
— Спрашивай.
— Вы в санвзводе 2‑го батальона бываете?
— Бываю.
— Передайте, пожалуйста, — разведчик вынул из кармана галифе миниатюрную обойму с патронами.
— Хасабову? — прищурился Левицкий.
— Да нет, — сильнее прежнего засмущался лихой разведчик. — Военфельдшеру Вере. Она просила для своего «вальтера». Ну я и достал в разведке.
Левицкий рассмеялся: молодость, она и на войне молодость. И любовь тоже. Только на войне дарят любимым не цветы, а гранаты и пистолетные обоймы.
— Ну что ж, подарок в самый раз, а то она свои патроны в немецкий танк расстреляла. Только Вера сейчас в санроте бригады.
— Все равно передайте, — попросил Жиров и, по–мальчишески утерев нос согнутым пальцем, откозырял начальству: — Разрешите следовать дальше, товарищ гвардии старший политрук?
— Следуйте, — пожал Левицкий руку подчиненному и проводил взглядом дребезжавшую всеми своими изношенными частями старую развалину. Она делалась все меньше и меньше и вскоре скрылась в наплывающей с востока ночной сини. До чего же резко сменяется на Кавказе день ночью! Левицкий посмотрел в небо: только что оно было зеленовато–палевое, а сейчас уже темно–синее, а на востоке даже черное. И звезды в нем — словно жар прогоревшего костра, по которому прошелся вдруг порыв ветра. Они приветливо подмигивают ему, как бы спрашивая: «Ну что, дружище, на сегодня остался цел?» Похоже, остался. В «Долине смерти», как окрестили моздокскую правобережную долину захватчики, уже смолкла ружейная пальба, а здесь, на Терском хребте, перестали рваться снаряды. Так что до утра живем, если за ночь не разбомбит вражеская авиация. А утром уйдем отсюда, чтобы как можно скорее прийти туда, где и ночью, говорят, не смолкают бои. Левицкий вгляделся в сгущающуюся тьму: в ней не видно ни зги. Даже пожаров не видно. Все, что могло гореть на местах боев, давно уже сгорело. Но что это? Как будто мелькнуло вдали неясное пятнышко света… Раз, другой, третий. Похоже на азбуку Морзе: два длинных — один короткий. А может, ему померещилось? Левицкий протер глаза, снова уставился в мглу наступившей ночи: ну, мигни еще раз… Он представил себе, как под куполом городского собора сидит его маленький друг Минька Калашников и подает фонариком условные сигналы нашей разведывательной службе. Все может быть. Ведь не пряниками же его угощал несколько часов кряду в своем кабинете начальник разведки корпуса? Ну так и есть! Опять ночную тьму пробуравило световое острие. У Левицкого сильнее забилось сердце.
— Прощай, Минька! — прошептал он одними губами. — Мы еще встретимся с тобой, терский казак. Обязательно!
И как бы услышав его, темнота тотчас отозвалась серией коротких и длинных вспышек: «Я бу–ду ждать вас, то–ва–рищ гвар–дии стар–ший по–лит–рук!» Так, по крайней мере, показалось Левицкому.
Сноски
1
Мой друг (осет).
(обратно)2
Затычка в бочке (каз.).
(обратно)3
Отечество (нем.).
(обратно)4
Господа! (нем.).
(обратно)5
Вон! (нем.)
(обратно)6
Да, да (нем.)
(обратно)7
Русская свинья (нем.)
(обратно)8
Назад (нем.)
(обратно)9
Так точно (нем.)
(обратно)10
Черт побери (нем.)
(обратно)11
Идите за мной (нем.)
(обратно)12
Ваши дети уже большие мужчины. Мы заберем их на войну. Они будут стрелять (нем.)
(обратно)13
Иди сюда (нем.)
(обратно)14
На самом деле разведчиками был подорван генерал Макк, а не фон Клейст, как они считали и как о том писали в своих газетах сами немцы.
(обратно)15
Встать! (нем.)
(обратно)16
Иди сюда (нем.)
(обратно)17
Во имя бога милостивого, милосердного! (араб.)
(обратно)18
Кофейная мельница (нем.)
(обратно)19
Голубые дьяволы (нем.)
(обратно)20
«Признания битых», «Красная Звезда» от 10 мая 1972 г.
(обратно)
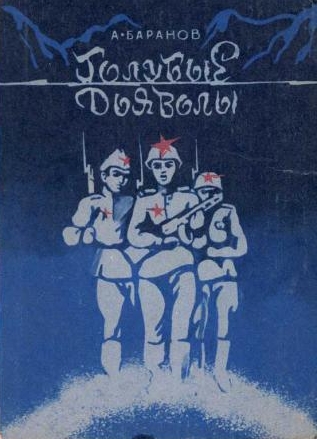


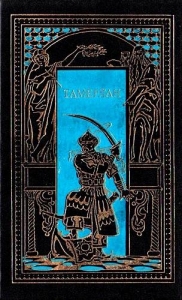
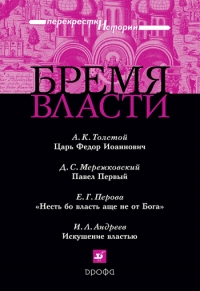
Комментарии к книге «Голубые дьяволы», Анатолий Никитич Баранов
Всего 0 комментариев