«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаниям же яко одушевленнии…»
(Из рукописи XVIII века)
1. УКСУС
Нет, дядюшка! Нет! Деньги, конечно, способствуют облегчению судьбы. Да ведь ни одной морской баталии за деньги не купишь!
Лейтенант Казарский, уязвленный, ходил по комнате. Квартиру он снимал в доме купца Нефедова, - две комнаты на первом этаже. Дядюшка, Мацкевич, Алексей Ильич, приехал к племяннику в Севастополь из Николаева. Племянник был командиром корабля, моряком, единственным в семье моряком. Каким кораблем командовал племянник, уточнять не хотелось. Но - командовал. Море любил. Алексей Ильич любил его за его удачливость. Он привез племяннику свое решение: в «Завещании» все свое состояние, 70 000 золотых рублей, отпишет (после смерти, конечно!!!) одному ему, Александру.
Имей лейтенант эти деньги сейчас, решил бы многие свои жизненные затруднения. Но он их не имел. Дядя предлагал выход надежный. Истлевшие глазки дядюшки смотрели умно и памятливо. Густая седая бровь над левым глазом вздернулась. В молодые годы дядюшка знавал главного шкипера севастопольского адмиралтейства капитана II ранга Артамонова. У Артамонова есть дочь. Дядюшка готов шкиперу напомнить о старине, поехать к нему, посвататься.
Имя шкипера Артамонова, вора и почетного члена адмиралтейства, уязвило племянника. Известно, воровство и почет в нашем мире рука об руку ходят. Пылкие слова лейтенанта были для Алексея Ильича - пыль. Лейтенанты всегда говорят так. А как взойдет человек к третьему, а еще лучше ко второму классу по «Табели о рангах»[1], - так и слова другие. Сам дядюшка, давно отставленный от дел и обветшавший чиновник, сколько ни корпел в канцелярии, выше девятого класса не поднялся. Золотые рубли свои от отчима унаследовал. И, Бог сподобил, не растратил!
Молодое лицо племянника, почерневшее от солнца и морских ветров, легко воспламенялось. А при имени шкипера - пятна пробили загар. За ласковость и любовь, дядюшка, спасибо. А вот от родства со шкипером, - увольте!
- Живите, дядюшка, долго! Наследством родовым я уже жалован. За него благодарю Бога. И другого от Господа не прошу.
Крепко!
И для молодых лет - крепко.
Дядюшка с осуждением полез в карман за тавлинкой [2] . Вынул тремя пальцами понюх желтоватого табаку и неряшливо, по-старчески, затолкал в обе ноздри. Табак просыпался на истертый, выношенный черный жилет, на стол. Свою жизнь он жизнью не считал; не жил, смотрел, как другие живут. Племяннику такой жизни не желал. Всю жизнь для того и скаредничал, чтоб деньги (когда придет срок) подперли племянника, дали свободу движений, твердую поступь по жизни.
Они, дядя и племянник, были одной крови. Дядя родился Казарским, не Мацкевичем. Оба знали о том «наследстве родовом», которым был уже «жалован» лейтенант.
… Лицом, ростом, статурой 3 Александр в деда, в Кузьму Ивановича
Казарского. Побереги Бог, чтобы и судьбой в деда-моряка не угодил. Подростком дед сбежал к морю, определился в волонтеры. Говорят, слава смелых любит.
Врут!
Вот что произошло в одна тысяча семьсот семьдесят третьем году.
Царствовала тогда Екатерина Великая.
Черноморского флота не было. Была флотилия, - Азовская (Донская). Но в Крыму уже тогда стояли русские отряды. Османы норовили сбросить их в море или выбросить за перешеек. Русские норовили сталкивать в море турецкие десанты. Спор шел не на жизнь - на смерть. Отряд кораблей Донской флотилии под командованием капитана II ранга Кинсбергена стоял в дозоре вблизи Суджук-Кале [3] тогда укрепленной турецкой крепости. Ждали, не появятся ли турецкие десантные корабли. И дождались…
Однажды марсовый прокричал:
- Вижу корабли. Справа 90 . Дистанция 50 кабельтов.
Кинсберген поднял к глазам зрительную трубу. В окуляре появились зыбкие верхушки мачт. Кинсберген силился сосчитать их, но сбивался; их становилось все больше и больше.
- Восемнадцать вымпелов! Три линейных «султана», четыре фрегана, три шебеке. Остальные десанты, - доложил марсовый.
Это был тот самый десант, о котором Кинсберген уже получил донесение личного адъютанта адмирала Сенявина: идет эскадра. На борту - крупные силы турок. Шесть тысяч солдат. Кинсбергену было приказано в случае обнаружения эскадры срочно отходить на Керчь. Там стоял адмирал.
Вокруг Кинсбергена все офицеры его корабля, «Таганрога». И среди них двадцатишестилетний лейтенант Кузьма, сын Ивана, Казарский. Он тоже держал трубу у глаз, тоже считал и пересчитывал вымпела неприятеля. Сказал капитану [4] :
- Жадный «султан». Дурной!
- Почему - дурной? - переспросил Кинберген.
- Как есть - дурак, - загораясь, запламенев лицом, проговорил тот Казарский, времен царицы Екатерины. - Видите, ваше превосходительство, как ползет тяжело? Вместо того, чтобы десант в два рейса переправить, в один решил. Надеется на ласковость Аллаха. Да война не ласковостями живет, а предусмотрительностью.
Кинсберген понял лейтенанта: не надо отходить на Керчь. Еще неизвестно, куда возьмут турки курс после Суджук-Кале, - то ли на Керчь, то ли на Кафу. Высадятся, ударят русскому войску, всего в три тысячи штыков, в тыл и… живи Россия за Перекопом. Лейтенант с пламенеющим лицом сделал рукой несколько молниеобразных зигзагов. И тем окончательно убедил Кинсбергена: не надо ему отходить на Керчь, нападать надо. У Кинсбергена было три 16-пушечных фрегата, бот и брандер. И команда, о которой Кинсберген уже доносил императрице: «С такими молодцами я мог бы выгнать черта из ада!»
И погнал турок. Атаковал головной отряд противника. Верткие фрегаты ворвались внутрь чужого строя. Ловко галсируя, палили картечью в гущу пехоты на палубах. На «султанах» больше суматошились, чем стреляли. Матросам мешали и солдаты, и кони, которые с берущим за душу ржанием рвались с коновязи, бросались в воду, сшибая людей. Корабли турок сначала сбились в бестолковую кучу. Потом развернулись и быстро побежали под защиту Суджук-Кале.
Кинсберген, справедливая душа, себе присвоил ровно столько славы, сколько стоил. С «Рапортом» в Петербург послал лейтенанта Казарского. А там лейтенанта не в Адмиралтейство пригласили, а к самой императрице. Хитрая, императрица любила хитрых. Смелая, любила смелых. Захотела увидеть моряка, которому победой обязана. Да, может, самого его произвести в капитаны?
Адмиралтейские дрожки подвезли лейтенанта из заштатной Донской флотилии, и города-то большого до прибытия в Петербург не видевшего, к роскошному подъезду Зимнего дворца. Рядом - сопровождающий, чин адмиралтейский. Мундир белый. Один хруст от него. Подбородок подперт жестким воротом. Золота на фуражке, на обшлагах - что росписи на дворцовых стенах.
Едва сошли с дрожек-дверь дворцовая, как по Божьему повелению, сама собой распахнулась. Перед моряком предстал Скороход, - огромный детина, тоже весь в золоте и лентах. Такое у него звание было, - придворный скороход. Караульные солдаты вытянулись в струнку. Караульный офицер отдал салют. Придворный скороход поклонился прибывшим, и два диковинных страусовых пера закачались у носа моряка.
А дальше пошло наваждение, пострашнее боя, пушечной пальбы и горящих парусов.
Наверху, на лестничной площадке, опять же сами собой растворились двустворчатые двери.
Рядом со Скороходом встал Гоф-Фурьер.
Двери распахивались, помутневшему взору моряка открывалась зала за залой. Упитанные, увешанные лентами люди в париках присоединились к Скороходу, Гоф-Фурьеру. Какой-то Чиновник Церемониальных Дел. Потом второй Чиновник Церемониальных дел. Потом сам Церемониймейстер, потом Обер-Церемониймейстер. Громовые голоса что-то провозглашали. У растерявшегося моряка грохотало в ушах, как на палубе в шторм. Он ничего толком не видел, ничего толком не слышал. И когда наконец распахнулась последняя дверь Залы Аудиенции, Обер-Церемониймейстер отступил по всем правилам в сторону. Моряка подтолкнули к трону. В глазах его все дрожало, словно пелена подернула их… Он понимал, что видит царицу, ее корону, ее украшения. Ему что-то говорили… Но он сползал на руки адмиралтейского чина…
Кто- то из ревнивого, охочего до наград окружения Екатерины шепнул ей на ухо: «Пьян, ваше величество… Эти моряки… пьют…»
Императрица брезгливо сморщилась. Махнула ручкой… Выволокли лейтенанта Казарского из царских аппартаментов, вышвырнули вон из дворцовых палат.
На том карьера моряка Кузьмы Казарского кончилась.
Отставку дед принял там же, в Петербурге.
Запил.
До конца жизни грубиянствовал, никого не чтя. Да поздно… Через двенадцать лет умер. А сын его, после второго бракосочетания вдовы, стал Мацкевичем.
С тех пор прошло пятьдесят лет.
Лейтенант Казарский, моряк совсем другой эпохи, николаевской, в мыслях много раз проходил страшный, гильотинный путь своего предка. Все вызнал: всех этих придворных сановников, - скорохода, гоф-фурьера, церемониймейстера… Обида кривила тонкие губы. Лицо бледнело. Молодой Казарский смелость в баталиях ставил превыше дворцовых ласковостей.
Он положил себе, никогда ни у кого этих самых ласковостей не искать. Мужчины-Казарские ничего так не хотели, как еще раз суметь подняться на палубу, еще раз поискать судьбы в море. Александру единственному - после деда - повезло.
Шла очередная русско-турецкая война.
Суджук- Кале, за который сражался дед, уже русская крепость. Под огнем русских батарей последняя крепость на северном берегу Черного моря, Анапа.
Флот воевал храбро.
Флот жил под неусыпным вниманием царя. Каждое утро царь принимал военного министра по делам Адмиралтейства Моллера и выслушивал его. Знал всех командиров всех кораблей. Ни один перевод с Черного моря на Балтику не проходил без его ведома. Ни одного недоросля-волонтера, даже храброго, не определяли в гардемарины без высочайшего соизволения.
После темных столичных событий 14 декабря 1825-го года Николай уповал на дисциплину. Сам работал с 6 утра до полуночи и неусыпно следил, чтобы все все положенное выполняли.
Флот выполнял.
Казарский, обдумывая злосчастную судьбу деда, говорил себе: гра-ницы есть у государства, но есть они и у человека. Каждый человек - сам себе империя. И должно ему оберегать свои человеческие границы так же любовно, как оберегаются государственные. Он не питал никакой личной вражды к туркам, с которыми воевал. Но твердо считал, что северный берег Черного моря не должен быть турецким. Как пришли османы сюда с кровью и огнем в XIV вехе - так пусть с кровью и огнем будут отсюда вытеснены. Им - южный берег Черного моря, славянам - северный.
Тут отступать нельзя.
А раз дело божеское, святое, то и исполняй свой долг.
Он не хотел, как его дядюшка, тупить всю жизнь перья в канцеляриях. Он не хотел, как отец, вконец обнищавший дворянин, быть управляющим у графа.
Ему повезло.
Он моряк.
Он офицер.
Вот эти границы своей личной «империи» и нужно оберегать.
Пора уходить на корабль.
Казарский поднялся, ласково и жалеючи улыбаясь дяде. Старик истлевал на глазах. Слеп, глох, ветшал. Сюртук, бывший «присутственный» - ветошь. И даже глазки, некогда карие, какие-то ветошные. Спина - скобой. Ноги семенящие.
Недолго, нет, недолго ждать наследства.
- Живите, дядюшка, - сказал искренно, прося. - Я вас живого люблю.
Дядюшка обмяк лицом. Было все же приятно, что со смертью не торопят.
Лейтенант вынул из кармана часы. Подошел к зеркалу на беленой стене. Застегиваясь, взглянул и удивился тому, как похудел и почернел всего за месяц войны. Цыган! Даже волосы на баках кучерявятся. Война - труд тягловый. Не вспыхни война с Турцией, быть бы его транспортному судну «Соперник» списанным на дрова, а самому лейтенанту пришлось бы заполнить вакансию на каком-нибудь корабле, где в командирах капитан-лейтенант или капитан II ранга. Но война прожорлива. Транспорты возросли в цене. На «Соперник» поставили единорог [5] . И даже перевели в класс бомбардирских судов.
Казарский надеялся под Анапой и с одним единорогом на борту быть полезным отечеству. Жалование задерживали. Денег не было. Но весь месяц войны, возбужденный событиями, лейтенант и при безденежьи чувствовал себя неуязвимо богатым. Так был полон честолюбивых и чистых надежд, так был полон доверия к своей судьбе, не такой горемычной, как у деда.
Проводив племянника, Алексей Ильич прошел по квартирешке, оглядывая ее, хотя его уже звали на хозяйские этажи, наверх, чай пить. Квартирка была тесненькая, без претензий на шик. Мебель хозяйская. Это Алексею Ильичу понравилось. Сначала дом приобрети - потом всю эту нынешнюю чахлую мебель. Все эти глупые трельяжи [6] , обвитые плющом, горки [7] фанцузские, карсели [8] . Своими у племянника были книги по морским наукам и военные журналы. Их было много. В платяном шкафу Алексей Ильич увидел на дне чемодан. Человек без затей и предрассудков, открыл его. Там были рубашки голландского полотна, а под ними… целая стопа османских флагов. Алексея Ильича еще раз позвали к хозяевам, а он все разворачивал пробитые пулями чужие знамена. Читал, шевеля губами, чужие слова на них, тоже местами в подпалинах пороха: «Султан - сын Султана - царь царей, могущий государь - тень аллаха, Кибле-и-алем - сосредоточение вселенной - обещает победу…», «Шестой полк победоносен…», «Аллах даст вам блага, которых вы жаждете, могучую свою защиту и близкую победу. Возвести это правоверным…», «Мы обещали Магомету победу блистательную…», «Во имя Аллаха, милости, сострадания…»
Всю жизнь Алексей Ильич прослужил в морских канцеляриях.
Склонный к языкам, у пленных драгоманов (переводчиков) оттоманскому научился.
Этого добра, пробитых знамен, на южных просторах немало. Алексей Ильич видел охотников до них и среди своих, русских, и среди драгоманов. Только драгоманы - охотники до пробитых пулями русских знамен, простреленных хоругвей. У этих собирателей темечко с вмятинкой. Ничейный брильянт на поле боя увидят, перешагнут. А за тряпкой пробитой, за чужим знаменем под пулю полезут. А то ведь, после боев, и деньги из кармана выложит, купит такое знамя.
Собирателей Алексей Ильич решительно не понимал.
Море - не земля. Там такие тряпки, как в чемодане, не подберешь. Значит, куплены…
Совсем- совсем другой моряк пошел ныне на флот. Их боги -математика и ушаковская лихость. Все бы хорошо, пусть их. Но с деньгами-то зачем так?
Алексей Ильич стоял над дырявыми знаменами, как над уже похороненными деньгами своими. Душа его служила тризну по ним. Вот и не мот племянник. А и не отчим, по золотому собиравший домашнюю казну. Не он. Алексей Ильич, чин девятого класса, прокормившийся жалованьем. Трепета перед золотым рублем не находил у племянника Алексей Ильич.
Ветошные глазки старика смотрели зорко; смотрели в будущие годы.
Что- то видели.
«Соперник» готовился к походу на Анапу. Бриг и три катера будут сопровождать караван «купцов» - гражданских судов, зафрахтованных военным ведомством. На «купцах» порох и вооружение.
Бриг деятельно готовился к выходу в район боевых действий. На борту кончали ремонтные работы. Пополнили боезапас. Вели покраску бортов. Сохнуть бортам двое суток. Если покраска будет ныне окончена, как раз к подходу «купцов» - те шли из Одессы - краска возьмется.
Лейтенант, выйдя из дома, положил себе никуда не заходить.
Но вот вышел на главные улицы.
Вечер. Легкий норд-вест. Теплынь. Темнота. Огни. А за рейдом, на горизонте, еще догорают сиреневые сумерки.
Казарский не заметил, как свернул на Малую офицерскую.
Вот стоит у металлической ограды, за которой знакомый дом в два этажа. Знает, времени совсем нет. Вынимает часы, прячет в карман. Опять вынимает. В душе сумятица. Звонить? Или - поздно уже? Заговорился с дядюшкой. Раньше надо было уйти. Ладонь обхватила холодный прут ограды. Глаза заглядывали внутрь небольшого дворика.
В лунном свете мерцают стволы деревьев. Прямой полосой льется дорожка к парадному крыльцу. В комнате с балконом второго этажа зажжены свечи. Дверь приоткрыта в прохладу весны. Дважды на шторы легла женская тень. Сердце Казарского зачастило: может позвать? Ощутил утрату, когда тень соскользнула со шторы.
Жила в доме прелестнейшая женщина, Татьяна Герасимовна Воздвиженская. Несмотря на молодость, уже который год вдова.
Ей двадцать шесть.
Вышла замуж она очень рано, а овдовела так быстро, что, потрясенная случившимся, свое вдовство восприняла так, как будто ее вдруг, толчком, разбудили после сна. Ее муж, капитан-лейтенант Воздвиженский, старший офицер фрегата «Евстафий», погиб семь лет назад. Воздвиженская выходила замуж по любви. Темпераментная, полная энергетической внутренней силы, она иначе не могла выйти.
Смерть Воздвиженского - обыкновенная для моряка. Мокрая морская смерть. Но женщины думают иначе. То, что могилы мужа нет ни на кладбище Севастополя, ни на кладбище Николаева, ни на земле Батума, вблизи которой он погиб, Татьяна Герасимовна приняла как знак Бога, - уйти в постриг. Отец, главный шкипер николаевской верфи капитан II ранга Лазутин (везет же на знакомство со шкиперами!) отговорить не мог, но сумел добиться согласия, что дочь все сделает по-своему, но спустя два года.
Время притупило боль.
Татьяну Герасимовну никто ни с чем не торопил.
Так прошло два года.
Потом еще два…
Только вот с год она и выезжает, и принимает у себя.
Снизу, с Николаевской батареи [9] , доносились звуки полковой музыки. Там, у земляных валов, вытоптана площадка для оркестра. Городской голова выписал из Петербурга новинку, лампионы. С высоты столбов они льют желтоватый свет на площадку, на которой желающие танцуют. Подойдешь, и вроде ты в городском саду, в Петербурге или в Москве.
Духовая музыка провожала лейтенанта во всю дорожку по подъему на Малую офицерскую. Была она проникновенной. То певуче-томной; то грохотала по-военному печально и торжественно.
Музыка, звезды, праздная публика у батареи, смеющаяся, громко разговаривающая, фланирующая, сбили с толку. Нет, звонить в дом уже никак нельзя. Упустил время. Его не звали, - но его бы приняли. Его не ждали, - но ему бы обрадовались. А теперь вот нельзя. Почти ночь.
Во всех домах по обе стороны улицы зажжены свечи. Окна низко. Видно, люди сидят за чайным столом целыми семьями. Или каждый себе, - что-то делает. За окнами шла чужая, мирная, манящая какой-то несбыточной грезой жизнь. А Анапа - вся в грохоте пороховых разрывов. Лейтенанту не хотелось, чтобы падение крепости произошло без участия «Соперника». Но вот и жизнь такая, что за окнами, у чайных столиков, манила уже, тревожила душу.
Тридцать один год.
Пора бы жениться.
Но он не свободен. На его жалованьи маменька-вдова, две сестры, младший брат. Входить в дом к жене с состоянием, да не одному, с четырьмя ртами впридачу… Запрет в душе…
Лучше подождать.
Мерещились какие-то неожиданные удачи. Какие-то перемены к лучшему.
Пусть пока все будет, как есть.
Хорошо, что живет в Севастополе милая женщина. Она дарит его своей бесценной дружбой. Жаль, что не его одного. Такой же дружбой, равной и ровной, дарит Татьяна Герасимовна и командира брига «Меркурий» капитан-лейтенанта Стройникова.
Так стоял он у ограды и вдруг почувствовал, что не один на темной улице. Резко повернулся. Две черные фигуры, скрытые тенью дома напротив, наблюдали за ним с недалекого расстояния. Казарский готов был поклясться, что оба наблюдателя ухмылялись. Гуляки-приятели. Возвращаются, поди, с площади у батареи.
- А у вдовы на панталончиках столько кружев, что и на кружевные манжеты господину офицеру хватит! Ха-ха-ха! - В тишине, в весеннем обновлении, голос смрадно-пьяный.
Кровь в голову!
- Негодяй! - вскричал Казарский.
- Ба! Да это Казарский!
(Его узнали).
- Впрямь Казарский! - с заводом, с радостью хохотнул другой. -
Слышал, на его дырявую лохань поставили единорог? Аванс есть. Значит, и вполне рогатым будет. Ха-ха-ха-ха!
- Стойте! Негодяи!
Где там!
Казарский едва пересек тротуар, а уже сверху, с голого холма:
- Ха-ха-ха!
- Ха-ха-ха!
Весь Севастополь пока - Корабельная слободка да несколько улиц вблизи Графской пристани. Дома идут неплотной цепочкой вдоль Южной бухты. На холме застроек мало. Теперь темень. Туда и полиция глаз не кажет. Недаром его так и зовут: Холм Беззакония.
Несмотря на поздний час, на причале людно. В полночь уходят в Анапу бриги «Орфей», «Ганнимед», «Меркурий». Основные силы флота под командованием адмирала Грейга уже много дней там. Держат осаду.
На «Сопернике» паруса свернуты. Темнота не помешала молодым глазам Казарского разглядеть свой бриг еще на подходе и удивиться. Оставляя борт на старшего офицера лейтенанта Шиянова, он записал в лагбухе, вахтенном журнале:
«Продолжать отделывать вновь вырубленный такелаж и исправлять на потребное ко началу кампании, а малярам вести работы и при фонарях».
Где фонари?
Где три узкие рабочие беседки, которые свисали с правого борта, когда он уходил? Маляры тогда вели покраску.
Казарский ускорил шаг. Подошел ближе и увидел срамоту недокрашенного борта. Часовые у трапа взяли на караул, но встретили командира приметно настороженным взглядом. И проводили поворотом головы. Шиянов ждал его. Отошли к леерам. С убитым и расстроенным видом лейтенант доложил, что запас краски на корабле кончился, а шкипер Артамонов новой не выдал. Бриг-де старый. Вся краска ушла на «Пармен», «Штандарт», «Евстафий», «Флору», «Поспешный».
- Так нам, что же, с одним левым покрашенным бортом выходить? - спросил Казарский вдруг осевшим голосом и сам не веря своим словам.
- Нам не воевать. Оба борта противнику не показывать. А начальство при выходе один левый борт видеть будет.
Шиянов пересказывал слова главного шкипера.
Артамонов был еще на причале. В шкиперской светились окна. Он уедет в поджидающей его карете только после того, как снимутся с якорей «Ганнимед», «Орфей», «Меркурий».
Глаза Казарского забегали. Взглядывали беспомощно. Он вдруг схватил старшего офицера за плечо. Тот сквозь сукно почувствовал клещистую хватку тонких, длинных пальцев лейтенанта. Хватку коваля. Уперся взглядом в лицо офицера. Сказал:
- Шиянов! Идите к шкиперу. Скажите: «Командир учтивейше просит его превосходительство на борт «Соперника» для разговора с глазу на глаз. В шкиперской многолюдно».
Казарский сбежал по трапу в свою каюту, в корме.
За что такие издевки? «Соперник» плохо несет транспортную службу?
«Соперник» ветх? Старость - еще не позор. Вот корабль, выступающий в кампанию с одним покрашенным бортом, опозоренный корабль!
Он - что оскопленный евнух.
Все у евнуха есть. Малости не хватает. И нет в мире существа, опозоренного больше, чем он.
Казарский метался по каюте, меряя малое пространство меж иллюминаторами и дверью. Что за судьба у Казарских? Рок, что ли, злой над ними? Деда Кузьму Ивановича, храбреца, достойного моряка, осмеяла царская свита, вышвырнула в придворцовую лужу. Теперь кому быть в луже? Ему? Но за что? За какое отступление от службы?
Шкипер не ведает, что творит?
Командир брига с одним выкрашенным бортом станет посмешищем всех кают-компаний. И что тогда делать? Сносить позор? Подавать «Рапорт» и проситься на другое море? Или совсем уходить в кабаки и, как дед, Кузьма Иванович, задираться там по пьяному делу с каждым встречным?
Нет, такое не прощают.
Но что делать-то?
Слухи о петербургских дуэлях постоянно доходили до заштатного Севастополя. Поэт Пушкин уже раз десять стрелялся со своими противниками. Поэт Грибоедов, посланник царя в Персии, был вызван на дуэль офицером Якубовичем в Петербурге, а сошлись друг с другом под дулами пистолетов уже на Кавказе. Грибоедов ранен в руку… Да хоть в голову! Лучше пробитая пулей голова, чем опозоренная.
Будь бы Казарский в равном звании со шкипером, он бы метнул тому в лицо перчатку… Хотя, в общем, Казарский против всех этих лейб-гвардейских глупостей. Но кто позволит лейтенанту вызвать главного шкипера адмиралтейства, капитана II ранга? И гадать не надо, чем все кончится. Кандалами. Сибирью.
Опыт по части кандалов у шкипера есть.
Флот мало причастен к событиям 14 декабря 1825 года. Флот воюет. Флот предан царю и отчеству. Но в какой-то мере и флот причастен к тем событиям. Как и в армии, на флоте вдруг, в одночасье, сменилось командование. Ушли из армии генералы двенадцатого года, ушли из флота адмиралы, ровесники тех генералов.
Пришли новые хозяева жизни.
Сменились адмиралы - сменились и хозяева помельче.
Вспух, вырос, шагнул на главную шкиперскую должность Артамонов. Весь Севастополь знал - как шагнул. Запутал в дело о бунте в столице своего двоюродного брата, моряка Балтийского флота. Тот был замешан больше на словах, чем в действиях. Шкипер поехал в Петербург, сам явился в здание Главного Штаба с показаниями. Упек кузена на каторгу. Завладел большим родовым имением под Орлом. Но имение оказалось наполовину заложенным. Старший шкипер ничем не брезгует, отламывая, оттягивая от флота все, что удается. По бумагам получится, что «Соперник» получил краску сполна. То, что недодано, пойдет вместе с другим флотским добром перекупщикам.
Но что делать-то?
Сказать Артамонову в лицо, что он его судьбой, Казарского, залатывает дыры в своем имении? Заплаты-то кровавые. Не боитесь, ваше превосходительство, укоров совести?
Решение наконец пришло.
Нет, ваше превосходительство, может, вы меня и швырнете в при- дворцовую лужу мордой в грязь, но если и расквашу нос, то упаду не мешком безвольным. Упаду - так и вас утяну в придворцовую лужу. И у вас, ваше превосходительство, нос будет расквашен. Что, кровь в рот попала? Солоновата кровавая юшка?
Послышались шаги на трапе. Первым показался лейтенант Шиянов. Неуклюже от волнения козырнул и исчез. Старший шкипер вошел. Был он человеком простого и крепкого сложения. Лицо красное, баки густые. Как шерсть у бобра. Треуголка. Форменный сюртук. Белая рубашка с воротником, подбирающим шею. Вошел деловой человек, грубый и прямой, ни при каких обстоятельствах не теряющийся, и прямо взглянул в глаза лейтенанту: «Будет высказано недовольство?… «Соперник» не стоит той краски, которую требуют два его борта».
Лейтенант - бледный - поневоле горько усмехнулся. Видел, шкипер и не собирался чинить ему зла. До последней минуты, до этого нахального приглашения старшего к младшему, он и не очень-то помнил Казарского. Кто он, командир дряхлой лохани? Командир «Пармена» что ли? Или хотя бы «Штандарта», чтобы его помнить? Что это за дерзость, звать «превосходительство» всего к «благородию»? Да, шкипер не дал краски, хоть и просили. Так по здравому рассуждению, умно сделал. Бриг ветхий. Командирская каюта - один смех. Конура. Зачем добро переводить, когда можно не переводить?
Горькая усмешка на лице Казарского погасла. Сменилась бегучей улыбкой. Сколько в мире зла делается без всякого злого умысла! Сколько судеб калечится, - так, походя, за какую-то малость в выигрыше…
Этот человек в каюте, шкипер, - его Судьба.
Иногда можно разглядеть лицо Судьбы.
Если ты еще молод, то имено в такую минуту покидает тебя твое легкое и веселое детское сердце, полное прекрасного беспокойства, торопившее тебя к твоей славе и высокому служению. В следующую минуту в груди твоей будет биться уже совсем другое сердце, взрослое. Постаревшее, оно распрощается с мечтами и будет вместе со своим хозяином тянуть тягло флотской жизни. Мир погаснет. Будни станут серыми. Судьба взирала на Казарского. У нее было крутоскулое, красное, как обваренное, лицо. И бакенбарды гладкие, как из меха. Шкипер - не злой и не добрый. Он даже по простоте своей не надменный. Он ждет объяснений.
Казарский, в полном параде, застегнутый на все пуговицы, с подбородком, подпираемым высоким воротом, со всей учтивостью подчиненного мотнул головой сверху вниз, показал на кресло.
- Не соблаговолите ли, ваше превосходительство?
Артамонов усмехнулся. Прошел к креслу со всею свободою высокого чина. Шкипер умел устанавливать дистанцию между собой и флотской мелкотой. Чего от него хотят? Разжалобить просьбой? Ублажить подарком?
- Имейте ввиду, лейтенант, я служу царю и отечеству. Мне по службе положено сберегать имущество фло…
Шкипер не договорил.
Под рукой Казарского в двери каюты дважды повернулся ключ.
Провисла пауза.
Но не долгая.
Артамонов был человек тертый, к обстоятельствам, заворачивающимся в штопор, привыкший. Он даже не поднялся, продолжал сидеть. Смотрел снизу на лейтенанта у двери. Выжидающе. Снисходительно. Голова осела в плечи, грудь подалась вперед.
Квадратность и медвежеватость резче обозначились. В лесах, в имении под Орлом, шкипер, верно, и на медведя ходил.
А лейтенант вдруг занервничал. Был он хоть и высок ростом, но по молодому узок. По возрасту давно пора войти в полную мужскую силу. Но есть такая порода людей, которые фигурой и статурой до конца жизни юнцы.
- Вы, конечно, знаете, ваше превосходительство, - проговорил лейтенант, подойдя к столу, - никакого вреда учинить я вам не могу. Жалоба по командованию ничего не даст.
Шкипер это знал.
- У вас власть надо мной есть, у меня над вами нет.
Шкипер и это знал.
Движением узкой руки лейтенант отшвырнул газету, «Северную пчелу». Под газетой лежали два пистолета. Лейтенант взял один и навел на главного шкипера. Было видно, стрелок он отменный. Да и мудрено промахнуться с двух шагов.
Глаза у шкипера прыгнули под надбровья. Как у хмельного, которого ушат воды заставил протрезветь. Артамонов задвигался в кресле. Хотел подняться. Но остался сидеть. Только теперь в позе не было свободы. Какая свобода под наведенным дулом?
- У вас руки дрожат, Казарский! - проговорил наконец. - Опустите пистолет!
Зубы у лейтенанта, в самом деле, были стиснуты. Скулы обозначились плитами. А руки дрожали.
- Ваше превосходительство! Вы не позволите флоту смеяться над собой. Я не позволю над собой. Оба пистолета заряжены. Или пишите распоряжение под мою диктовку, или я буду стрелять. Одним выстрелом уложу вас. Другим себя.
Бледность проступила и в лице шкипера. Рука сумасшедшего лей-тенанта дрожала мелко, но приметно. Палец сведен напряжением. Этот палец может нажать на курок и непроизвольно.
Шкипер не любил игр в пятнашки со случаем. На столе, с его края, лежала бумага, гусиное перо, чернила. Под диктовку он написал распоря-жение: выдать командиру «Соперника» краски по требованию; брандскугелей по требованию; ядер по требованию. Уксуса по требованию.
Только когда услышал про уксус, поднял глаза.
- Уксуса-а?…
Уксус требовался только кораблям, собиравшимся вступать в бой с неприятелем. А уксус в больших количествах тем, кто настраивался на бой жаркий.
- Уксуса, - подтвердил лейтенант.
- По требованию? - съязвил шкипер.
- По требованию, - подтвердил лейтенант.
- А если требование будет, как на «Пармен»?
- По требованию!
- На «Пармене» сорок четыре ствола, на «Сопернике» один ствол.
- Уксуса - по требованию!
Артамонов презрительно пожал плечами. Написал: «По требованию».
Скрепя сердце, под диктовку, шкипер заполнил и второй лист:
«Приношу извинение господину Казарскому за гнусное отношение к команде брига «Соперник».
Все еще с пистолетом в руке лейтенант открыл дверь. На пороге хмурый Артамонов оглянулся. В руке лейтенанта дрожи не было. Рука спокойно лежала на позорных листах. И было понятно, что молодые нервы Казарского крепче нервов матерого, но уже перевалившего за пик жизни Артамонова. Наглец? Актер? Скоморох? Глаза командира лохани смеялись. Это было обидно и недопустимо. Обида застряла комом и горле. С легкой прогибостью Артамонов упал на стол, тянясь к позорным листам.
- Руки прочь, - отрезвил его хозяин ветхого брига, вскинув пистолет. Сказал сквозь зубы. С тем особенным спокойствием, которое приходило к нему всегда, когда вся жизнь на кону, или пан или пропал, терять нечего. Это спокойствие на матросов действовало безотказно, заставляя подчиняться. Подействовало и на шкипера.
Шкипер выпрямился. Взглянул на него искоса. Сгреб в кулак упавшую на стол сановную треуголку. Пообещал:
- Сгною! Мелкота! Гнусь!
Развернулся спиной. Нахлобучил треуголку. Под ней толстый, как бревно, багровый от полнокровья затылок.
По трапу забацали его сапоги.
И только тогда, когда шаги шкипера слились с шумами на палубе, Казарский позволил себе расслабиться. Сердце бешено забилось, заскакало в его груди. Но голова оставалась холодной и трезвой. «Гнусь»? Пусть гнусь. Ласковостей от его превосходительства Казарский не домогался и домогаться не будет. А предусмотрительностями его Бог не обошел. Пусть главный шкипер попробует вредить, листок можно и по кают-компаниям пустить.
* * *
«Соперник» успел подойти к Анапе тогда, когда она еще была вся в пороховом дыму. Уксус стал самой Судьбой. Комендоры палили из единорога картечью и ядрами со всею возможной быстротой. Имей «Соперник» на борту уксуса всего по норме, а не по требованию командира, такой пальбы не учинить бы. Ствол единорога раскалился. Его ополаскивали уксусом из ведра. Вонища стояла страшная. Но осиянный залпами корабль, пристрелявшись, рушил каменную стену Анапы. Пробил брешь. Такие же бреши были пробиты и ядрами других кораблей. В них устремилась пехота.
Последняя турецкая крепость на северном берегу Черного моря, Анапа, пала.
2. МОНАРХ
Николай I как никто другой понимал значение происшедшего: любая победа - это не конец, а всего начало нового противостояния. Ослабевший султан Махмуд, пожалуй, смирился бы с потерей Анапы. Да Англии, Франции зачем нужна Россия, вышедшая к морю? Англии мало Вест-Индии и Персии. Франции мало Африки и островов Океании. Подавай Черное море. Будут союзнички занозить сердце султану. Будут совать оружие. Будут в спину толкать: воюй.
С Анапой у них не пройдет.
Двухвековой спор за север Черного моря кончен. Давний узел раз-рублен. В Анапе его больше никому не завязать.
Как всегда, рабочий день царь начал рано. Прием вел в своем кабинете, в Зимнем дворце, на первом этаже, со Столыпинского подъезда.
В кабинете - рабочая простота. Ничего отвлекающего. Разве что кровать в дальнем углу. Походная. Жесткая. С тонким тюфяком, в котором проредь сена. Да шинель поверху. Россия начинает войны и кончает их - а у государя жизнь всегда, как на привале.
Время шло к обеду, главная же приятность дня впереди: вызванный с театра действий в приемной ждал аудиенции Главный командир Черного моря и портов вице-адмирал Грейг. По случаю победы Николай был в мундире кавалергарда, - в самом любимом из всех своих военных костюмов.
Он уже выслушал Моллера, морского министра. Вице-адмирал порадовал рассказами.
Корабли под командованием Грейга подошли к Анапе 27 апреля в 2 часа пополудни. Грейг послал в крепость трех парламентеров, требовал сдачи без кровопролития. Через полтора часа посланные возвратились со словесным ответом коменданта двухбунчужного паши Шатыра Осман-оглы, что-де «крепость, ему вверенную, он будет защищать до последней капли крови». Дозащищался! Капитан-лейтенант Стройников, командир брига «Меркурий», уже доставил двухбунчужного и других пленных в Керчь. Стройников - молодец! Стройникова - к Анне второй степени!
Награждать Николай любил. Светлел лицом, когда награждал.
Нечего и говорить, войну начали славно.
Едва султан двинул войска на расправу с восставшими греками и те запросили помощь, Николай отдал приказ князю Меншикову о поддержке флотом армии Дибича. Меншиков доложил: Черноморский флот может перевезти на берега Босфора две дивизии в два рейса без лошадей и обоза; необходимо немедля ассигновать черноморскому ведомству до полутора миллионов рублей для обеспечения провизии.
«Все очень хорошо, - написал тогда на докладе князя Николай. - Провизию вели готовить. Об деньгах я уже приказал, и ты можешь сейчас их требовать. Действия наши должны быть скоры и решительны. Разумеется, с флотом дома сидеть не будем, и ежели вдруг неприятель сам к нам пожалует, то при равных силах будем мериться; при превосходных сидеть у моря и ждать п о г о д ы. Погода же будет та, что я направлю сухопутные силы прямо на Царьград. Отобьем у Махмуда II охоту задевать христиан не только в Греции, а и в Сербии, а и в Болгарии, а и в Валахии».
Вот погода и выдалась, Анапу взяли!
Вечерами, после трудов и забот, Николай, случалось, засиживался над архивами своей бабки, Екатерины Великой. Тридцать два года назад бабка, покровительствовавшая искусствам, отписала одному из тьмы тьмущей своих корреспондентов-литераторов Фридриху Гримму: «Сегодня мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно. Длиною он аршин без двух вершков, а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья его окажутся карликами перед этим колоссом!»
И, наверно, подумала: «Вот в ком кровь Петра I. Вот кто рост да стать пращура унаследовал!»
И, наверное, пожалела: «Не быть рыцарю на престоле…»
Оказалось - быть.
Затейница история! Дала младенцу пращуров рост, пращурову стать, и когда тот вымахал в двухметрового великана, толкнула на трон, от которого в ужасе отшатнулась вся родня.
А Николай не отшатнулся - не тот характер.
Переступил через 14 декабря, как через черный день династии, и теперь ведет дело, начатое пращуром, войну с ненавистной Турцией. Если флот побеждает, то потому побеждает, что он, государь, неустанен. На ногах с зари до зари.
Победы флота и армии нужны не одной России, юг которой только- только сбрасывает иго янычар. На Балканах поддержка - полная. В обществе - полная. Греки сражаются, как герои Эллады. Приближающиеся русские корабли встречают трехцветными флагами: «Да здравствует Россия!» Горами пробираются навстречу Дибичу, волонтерами вливаются в русскую армию. И Дибич шлет депешу за депешей, отмечая их пылкую храбрость, стойкую преданность.
В сочувствии единоверным грекам все едины, - и генерал, и мещанин. Вон даже Пушкин, поэт, по которому «во глубине сибирских руд» кандалы плачут, здесь с царем заодно: «Нет дела более святого, чем свобода греков!»
Проводив взглядом Моллера, Николай задумался.
Мир - кисель. Сколько веков разные люди пытаются из него слепить что-то прочное. Ан, нет! Течет меж пальцев. Гладишь, сегодня он уже не тот, что был вчера. Давно ли Турция устрашала мир? Расползалась по территории, едва не России равной? Греция, Сербия, Болгария, Валахия, Молдавия, Бессарабия - все владения Блистательной Порты [10] . Грузия, Черкесия, Крым - все владения Порты. Египет, весь север Африки - все Порта. И что сегодня? Турция - как тяжело больной человек. Россия, Англия, Франция озабочены наследством. Каждый тянет на себя, что может. Османская империя ужимается до Анатолии, до земли предков.
Неужели с империями всегда так?
Вчера была - сегодня осыпалась.
А вечные империи?
Где они, вечные?…
Нет, не то. Мир не кисель. Мир - грозовая туча. Все внутри нее
клубится, движется, перемещается. Меняется. Остановить это движение не дано никому.
Утверждаться в Анапе придется с боями на Кавказе и на Балканах.
Понатешился, понапился султан кровушки христианской. Пришло молодцу к концу. Греки в крови с головы до пят. Собственной кровью захлебываются. У всех государей помощи просят - не у султана милости. Сочувствуют Греции все - воюет одна Россия.
Отменно воюет.
Николай прислушался к себе: что-то точило душу. В светлый день подписания приказов о награждении героев Анапы смуты не должно быть. А была…
Принять сразу после Моллера Грейга, как намечалось, Николай не смог. Просил срочную аудиенцию министр финансов Канкрин. Настаивал через адъютанта, чтоб-де быть ему принятым перед Грейгом. Николай не любил, когда ему ломали расписание. Но министр финансов есть министр финансов. Вовремя не сбережешь рубль, и годом потом ущерба казне не возместишь. Николай поднял глаза на адъютанта: приглашай.
- Генерал-адъютант граф Канкрин.
Едва генерал-адъютант переступил черту двери, у Николая свело лицо, как от зубной боли. И министр финансов Канкрин, и министр иностранных дел канцлер Нессельроде достались Николаю в наследство. Если бы брат Александр оставил в наследство еще пару ботфорт, которые так и именовались уже «ботфортами Александровской эпохи», Николай мог бы в правый опустить министра финансов, в левый - министра иностранных дел. И лучше, чтоб ботфорты оказались зимними, на меху. Министры были маленькими, с годами принялись наперегонки расти вниз, мерзли по десять месяцев в году из двенадцати! Канкрин, не смея нарушать жесткого правила быть при дворе в военной форме - соответственно званию и занимаемому посту - предстал перед государем во всем великолепии генеральской амуниции. Однако что за вид был у него! Канкрин разбух от теплых одежек под мундиром. Горло обмотал толстенным шарфом. Ноги отеплил, - обувка так-таки была на меху. Усы Канкрина свисали к уголкам бледного рта, как знамена поверженного противника.
Даже усы!…
Усы для Николая - не деталь обличия.
Усы - привилегия единственно военных!
«Рябчикам» - люду штатскому - усов не полагалось. Их забота стыдиться или не стыдиться голого, как пятка, пространства между носом и губами.
В громадной империи не надо было гадать, встретив на улице незнакомого или незнакомую, кто есть кто. Военный - усы. Священнослужитель - борода. Дворянка - шляпа с лентами. А уж если ты купчиха или мещанка - довольствуйся платочком.
В кабинете Николая летом всегда было прохладно, зимой холодно. Печка топила плохо. Печников, золотых дел мастеров своего дела, полон Петербург. Но царь и в лютые зимы не позволял перекладывать печь, сложенную век назад и давно требовавшую ремонта. Он любил ледяной морозный воздух столицы, любил бодрящую температуру тронного зала, любил сон в холоде. От всего этого его лицо только наливалось румянцем цвета каленого кирпича.
Канкрин, помня о зимней стылости царского кабинета, едва войдя, поднял плечи к ушам, съежился, сберегая тепло под мундиром.
- Егор Францевич! - воскликнул Николай, с укором глядя на генерал-адъютанта. - Такой день! В приемной Грейг. Наградные листы подписывать будем!
Канкрин, немец, преданный России, но так и не научившийся до конца жизни чистому русскому выговору, тронул шарф. Сказал уныло.
О горле:
- Вчера болело… - Взмолился, помолчав: - Ваше величество, батушка, разве вам лутше будет, когда софсем слягу и умру? Кто будет тогда держать в порядке русские финансы?
Русского министра финансов Европа знала так же хорошо, как хитрого австрийского канцлера Меттерниха, и не менее изворотливого главу английского кабинета лорда Пальмерстона. Россия вывозила в Европу хлеб. Много хлеба. Рубль шел по курсу выше al pari , - то есть выше означенного на нем номинала. На иностранных биржах за русскую ассигнацию доплачивали изрядный лаж, - опять-таки куш сверх номинала.
Николай посмотрел-посмотрел на генерала и махнул рукой. Показал головой на кресло, - садись, Егор Францевич.
Канкрин сел все с тем же унылым видом. Выложил папки с бумагами. Цифры, цифры, цифры, биржевые сводки. Это ж только в начале войны, батушка, доставка провианта к румелийским и абхазским берегам полтора миллиона стоила! Деньги - вода, открой шлюз - текут. А таких денег не бывает, каких нельзя спустить. Франк толстеет. Фунты тяжелеют. За два последних месяца лаж на русские ассигнации и в Париже, и в Лондоне меньше стал. Думать, батушка, пора, думать!
Николай улыбнулся.
- Стареешь, Егор Францевич. Жадный становишься. Государство богатеет не тем, что не тратит, а тем, что обретает. Погоди, свернем в бараний рог Махмудку, все потраченное возместим.
Канкрин посмотрел на Николая снизу, - сухонькое личико едва не на столешнице. Чем меньше с годами становился Канкрин, тем огромнее водружал себе на нос очки. Глаза теряли зоркость. Болели часто.
Николай понял его молчание: а ну как не свернем? Первая разве война с турками?
Нет, война была не первой.
- Свернем! - с настроением уверил Николай Канкрина. - Чего убоимся? Расходов, говоришь? Не убоимся. Вон как хорошо с Анапой получилось! - Осенил себя крестом, поднял глаза к потолку. - Господь наш! Избавитель наш! Да воскреснешь в воинах своих и да расточатся врази твои!
С Анапы больше разбоев и набегов на русские города, на русские села не будет.
Канкрин все смотрел снизу и молчал.
- Да ты с чем пришел, Егор Францевич? - перебил сам себя
Николай.
- Новость тебе, батушка, одну принес. Не услышишь вовремя, -
Грейгу малую награду дашь. А он большой стоит.
- Н-ну? - забеспокоился Николай.
- Ваше величество, - проговорил Канкрин, - есть сведения, что англичане становятся совсем ненадежными. Готовят фрегат, собираются без всякого спросу зайти в Черное море. Нас спрашивать не хотят, а с Махмудом столковываются.
- Так…
Политические союзы - браки… Те же браки по расчету, что браки между царствующими династиями. Брак России и Англии распадается…
- Лейтенант Слэд, человек лорда Стрэтфорда, в Стамбуле. Его видели переодетым. Он брит, как турок. И в феске. Торчит в кофейнях, курит самсунский табак, пьет из пиалы. Столковывается, с кем надо. Говорит: Анапу русские взяли - Анапу оставят. По условиям мирного договора. С России куруров хватит.
Николай побледнел.
Стрэтфорд… Стрэтфорд-Каннинг - двоюродный брат умершего год назад премьера Британии Джоржа Каннинга. Дипломат, со страстью отдающийся шпионажу во имя национальных интересов Англии. И его
любимец лейтенант Слэд…
Спасибо, Егор Францевич! Да, это так. Чтобы выиграть морское сражение, надобны видные адмиралы; а для того, чтобы проиграть, достаточно невидимых шпионов.
Николай оставил стол и прошел по кабинету от стены до своей солдатской койки, от койки до стены, - что всегда служило признаком сильного раздражения. Канкрин, не поворачивая шеи, водил глазами вслед.
- Вовремя, Егор Францевич! Вовремя… «Куруров хватит…» Они с Россией - как с дурочкой, с собой - как с умниками.
Курур - откуп.
Откупы, дань, брали некогда татары с русских городов.
Шли века. В разных странах дань называлась по-разному. Суть ее не менялась, - откуп.
Англия с земель Вест-Индии берет свою дань, «самсари».
Эта дань и поныне в британской казне, в ее хранилищах. Знаменитые алмазы. Библиотеки. Картины.
Брала «куруры» с побежденных и Россия. С Персии. С Турции. Взяв, выводила войска.
Таковы были нравы.
Позже все стало проще. Завоеватель грабил завоеванную территорию, увозил, что мог. Так в Великую Отечественную войну исчезла янтарная комната. Затерялись следы многих сокровищ.
Николай проницательнейше взглянул на Канкрина.
- Ты, Егор Францевич, вот что. Саму мысль, что куруром за Анапу казну пополнишь, выбрось! - Рассердился. Походил еще. - Вот возьму Царьград. А вместе с ним их помойку, Умрани [11] . Я им их свалку сам швырну в курур… Анапу - нет! Без Анапы спокойной торговли на Черном море не иметь. Покоя нашим городам не будет.
Николай наконец понял причину недовольства, мутившего с утра. Победа над Анапой - это хорошо. Но нужна победа такого грому, чтобы вразумить англичан: Черное море мы делим с турками. Третий - уйди. Третий - лишний.
Нужна победа такого грому, какую учинил Лазарев при Наварине.
Способен ли на такую Грейг?
Подошел к столу. Позвонил. Адъютанту:
- Просить Грейга.
Канкрину:
- Оставайся, Егор Францевич, отобедаешь с нами. Ты мне нужен при разговоре.
Столовая - в соседней зале. Через боковую дверь видно было, челядь накрывала стол. Вносили ведерки со льдом. Из них стволами тяжелых мортир выглядывали горлышки винных бутылок. (Бедный Егор Францевич! Его ангина - особа такого темперамента, что может вспыхнуть от одного взгляда министра на лед!)
Николай пил редко. При гостях. И пищу в будни предпочитал простую, походную: щи, кашу, мясо вареное. Курительных столиков в кабинетах не бывало, - ни для него, ни для гостей. Он не курил и дыма табачного рядом с собой не терпел. Исключений не делалось, какого бы ранга гость ни прибывал в Петербург, из каких бы ни было стран. Николай сделал знак, чтобы дверь закрыли.
Вошел Грейг, - в сияющем белом мундире, моложавый, сильный и самоуверенный. Щелкнул каблуками и остановился в дверях. Николай взглянул на него и понял: Грейг, в отличие от генерала Канкрина, вполне соответствует его представлению, каким должен быть адмирал флота Российского. Сухой и жилистый, выносливый и нетребовательный к комфорту, привыкший к аскетизму морских походов, Грейг и бакенбарды имел именно такие, какие должны быть у адмирала, намеренного побеждать. Морякам не положены усы - морякам положены бакенбарды. И уж, конечно, они у Грейга не обвисают, как паруса, покинутые ветром! По всему было видно, что своего последнего слова вице-адмирал не сказал и своего последнего звания не получил. Николай с улыбкой пошел к нему, обнял, поцеловал, сказал с чувством:
- За все тебе спасибо, Алексей Самуилович.
Взяв за локоть, повел Грейга к столу с военными и топографическими картами.
- Ну, доложи, как брал крепость.
Оба еще не знают, что пройдет немного времени, и Главный командир Черного моря и портов в день рождения своего последнего сына обратится к царю «…со всеподданейшей просьбой», которая в делах Канцелярии пройдет под пометкой: «Письмо адмирала Грейга с всеподданейшей просьбой о восприятии от купели новорожденного сына его».
Флот царь любил.
Родства с моряками не чурался.
На письме останется роспись Николая: «Душевно радуюсь, поздравляю и подряжаюсь и впредь всех крестить. Объявить, что всех сыновей жалую в мичманы, о чем уведомить кн. Меншикова».
Но это еще впереди.
А пока Грейг, приглашенный к картам, при всей своей внутренней свободе, с какой смотрел на государя, ощутил мгновенное облегчение. Разговор у карт привычен.
Грейг подробно докладывал о штурме, испытывая удовольствие от того внимания, с каким его слушали. Канкрин молчал. А Николай останавливал вице-адмирала вопросами:
- Командир «Меркурия» капитан-лейтенант Стройников, говоришь? Орел! Анну ему, как просишь. И в капитаны второго ранга [12] . За Анапу - можно!
Грейг поднял голову от карты, взглянул на царя: «Я того же мнения, ваше величество». Вслух сказал:
- Так вот, 5 мая в 1040 пополудни отправил я бриг «Меркурий», яхту «Утеха» и катер «Сокол» на усиление крейсерства вдоль берегов абхазских… Но Стройников до Кавказа не дошел. Вступил в сражение с отрядом турецких кораблей. Команда «Меркурия» - 110 человек. Стройников одолел в бою отряд и взял в плен транспорт «Босфор», на борту которого только одного пополнения для Анапы было более, чем триста…
- Сколько Стройникову сейчас? - перебил Николай. Подсказать не дал. - Тридцать шесть?… Он, что, в свои тридцать шесть все еще не женат?
- Не женат, ваше величество, - ответил Грейг. И хотя знал о редкостной памяти Николая, запоминавшего на всю жизнь фамилии, имена офицеров, которых ему, без устали скакавшему по просторам России в заботах о проведении смотров войск, представляли, удивился. Государь помнил и то, кто женат, кто не женат. Другое дело он, Грейг. Севастополь жил, как барская вотчина. Отцу-командиру все докладывали: кто на ком женился, кто собирается жениться и даже кто на кого пока только глаз положил.
- Что ж не женится-то в тридцать шесть? - настаивал на ответе царь,
- Много среди морских офицеров засидевшихся. Флоту смена нужна!
Грейг кольнул напоминанием:
- Походов много, ваше величество. Палуба не паркеты бальных зал. Невест в море нет.
- Плохо, что не женится, - повторил царь. - Погибнет орел, роду конец…
Грейгу докладывали, что два командира, - командир «Меркурия» и командир «Соперника», - желанные гости в доме Воздвиженской, у которой собственный дом на Малой офицерской.
Больше Николай Грейга не перебивал. Оба склонились над столом с картами.
А потом, не взглянув на безмолвно сидевшего в кресле Канкрина -
сведения были от него, - царь, вдруг перестав слушать, повернул лицевой, исписанной стороной один из листов на столе, придвинул его ближе к Грейгу.
- Плохи у нас дела, Алексей Самуилович, с союзниками. Вот погляди, что докладывает лорд Стрэтфорд-Каннинг своему правительству: «Если разразится война с Россией, то с помощью нашего флота мы можем уничтожить ее торговлю на Черном море, опустошить там ее берега, проникнуть через Днепр к самому Киеву». Слышишь, что у союзников в головах? - Помрачнел. Взглянул в глаза Грейгу тяжелым взглядом серо-свинцовых глаз. Тем пронзительным взглядом, от которого цепенели и впадали в робость видавшие виды адмиралы. Холодно, словно была вина именно Грейга в том, что союзники ненадежны, проговорил:
- Чтоб берега Черного моря опустошены не были, твоя забота, Алексей Самуилович!
Монарша милость дорога, а истина дороже.
Турецкие кочермы без конца идут на Кавказ. Они полны английского оружия. Да какого! Новейшего. Нарезными ружьями с невиданными прицелами. Кавказ для Англии - стрельбище, где она на русских солдатах опробывает новые ружья. Почему нет таких ружей у русской армии? Наконец, что делают наши дипломаты?
- Кавказ, ваше величество, кишит вражеской… - Под взглядом Николая даже бывалый Грейг сбился… - Кишит дружеской агентурой. Нет никакой возможности ни в Батуме, ни в Поти уберечься от шпионажа и тех критических моментов, которыми умеют так искусно пользоваться англичане.
- Дела-то, батушка, значит хуже, чем я думал! - в горестном прозрении воскликнул в своем углу Канкрин.
Испугался: вон к чему Грейг клонит! Сейчас будет требовать ассиг-нований на новые ружья. (А то без них не воевали!) Сейчас будет доказывать, что железная дорога нужна. С этой железной дорогой Сева-стополь подступал к царю, как с ножом к горлу. (А то без нее не жили!). Оставаясь с царем наедине, Канкрин негодовал: «И к чему, батушка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батушка мой!…»
Николай еще раз прислушался к себе.
Грейг, конечно, молодец!
За Анапу Грейга - в адмиралы.
Но Грейг не Лазарев… Нет, не Лазарев… Лазарев при Наварине не считал, на сколько у него кораблей меньше, чем у противника. Жег, крушил, уничтожал, - потом уже сосчитал, сколько.
Николай перешел ко второму столу. Взглянул в наградной рапорт.
- Этот кто? - спросил, хмурый. Ткнул пальцем в незнакомую фамилию.
Грейг подошел. И опять колкая улыбка сдвинула уголки губ.
- Еще один холостяк тридцати одного года. Лейтенант Казарский, командир брига «Соперник». Очень искусно стрелял по крепостным стенам, ваше величество. Палил в одну точку, пока брешь не пробил в рост солдата.
- «Соперник»?!. Так «Соперник» же - ветошь? Помню, подписывал списание. Сами твердили: «Отходил. На дрова одни годен».
- На дрова и годен, - подтвердил Грейг. - Но Казарский пока держит его на плаву. И вот даже воюет.
Канкрин заволновался, заерзал:
- А я что говорю? Я всегда говорю: «Одна глюпая фарса - все эти списания!». Бриг ходит, бриг стреляет, бриг на дрова! Что будет, батушка, когда я умру? Россией печки топить будете! Вся Россия дымом уйдет!
Черт дери, а ведь и Канкрин прав! Не считать деньги никак нельзя!
Лицо крохотного генерал-адъютанта пошло пятнами. Он покрутил шеей. Ворот мундира под теплым шарфом жал глотку. Николай и Грейг расхохотались.
- Алексей Самуилович! - горячая страсть желания расплавила свинец в глазах Николая. - Баталия нужна громкая. Подвиг такого грому нужен, чтоб Европа охнула и оглохла. Они с нами - как с дурачками.
Уже за Анапу курур подсовывают. Ты помни, Алексей Самуилович, из Анапы не уйду. Ни за какие куруры не уйду. Видал, какие умники?
- Уж так! - мрачно подтвердил и Канкрин. - Кровь льет Россия, бифштексы ест Европа.
- Ваше величество, мы делаем все, чтобы выманить турецкий флот из проливов и сойтись с ним в море.
- Я в свой флот верю, - сказал Николай, - и надеюсь, Алексей Самуилович, что сойдешься ты борт к борту с капудан-пашой. Будут ли рядом союзники, не будут ли, а чтоб поступлено с неприятелем было по-русски!
Грейг стоял, выпрямившись.
- Не закрепимся здесь мы, - Николай ткнул пальцем в Анапу, - закрепятся англичане, спрятавшись за рыхлые спины турок.
И вдруг, опять без старания быть последовательным, наклонился над наградным листом:
- Так как, говоришь, фамилия лейтенанта? Казарский?
- Казарский, ваше величество.
- Сколько, говоришь, лет холостяку?
- Тридцать один год, ваше величество.
- Стоп!… Казарский… Казарский?…
Грейг знал, невероятная память - предмет гордости Николая. Верно, эта память уравнивала его с величайшими полководцами былых времен. Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат, - до 30 тысяч человек. Никто из историков не дал себе труда подсчитать, сколько тысяч подданных помнил Петр I. Но помнил, верно, и поболее 30 тысяч. Помнил военных, помнил подрядчиков, работавших на военных. Хотя бы памятью Николай уж точно был в пращура.
- Казарский… Казарский…
Николай вернулся к первому столу.
- Как же ты говоришь, Алексей Самуилович, что «Соперник» стрелял по крепостным стенам, когда «Соперник» - судно транспортное? - поднял недоуменно бровь.
- Один единорог, ваше величество, поставлен на борт с началом военных действий. А вообще с начала века на борту «Соперника»…
- С начала века? - повысил голос царь.
- С начала века, - упрямо, с внутренним едким сарказмом
повторил Грейг, - на борту были только карронады [13] . Казарский их число увеличил.
- И что? Научил этот Казарский своих «амбалов», своих «бурла-ков» стрелять?
- С отменной меткостью стреляют транспортники.
Николай открыл папку с докладами Моллера.
Вот оно, письмо главного шкипера Севастополя капитана II ранга Артамонова о необходимости незамедлительности в решении судьбы ветхого брига «Соперник». Если нельзя выполнить высочайшее повеление о немедленном списании брига, то надобно приписать транспорт со всей командой к Дунайской флотилии. Плавание по реке не грозит такими трудностями и непредсказуемостями, как плавание по морю.
Вспомнил!
Купец Камелев под видом корабельного леса доставил тонкомер-ный лиственный лес. А шкипер Артамонов вопреки всем правилам готов был тот лес принять. Командование тогда докладывало, что злого умысла у Артамонова не было. Все шкиперу сошло с рук. Николай перечитал резолюцию: «Шкиперу Артамонову сделать строгий выговор за неисправное исполнение возложенного на него поручения. Велеть ему немедленно самому выехать на место заготовки лесов, и если в будущую операцию не доставит лесов тех размеров, которые надобны, то объявить вперед, что отдан будет под суд».
Шкипер, которому мешает офицер, славно воюющий, подозрителен.
Николай в присутствии Грейга подписал сразу два распоряжения:
- Лейтенанта - в капитан-лейтенанты. И - Владимира второй степени.
И второе. Резолюция Моллеру:
«Письмо шкипера меня не убеждает, ибо всем известно, что раз отданный под суд, может во многих злоупотреблениях замешан быть. Призвать сведущих людей и узнать у них истину».
Грейг был вполне доволен аудиенцией.
Вполне был доволен и граф Канкрин. Не приди он вовремя, эти молодые моты, Главные командиры морей и портов, всенеприменно бы выпросили ассигнования на какие-нибудь нофшества, их глюпым фан-тазиям конца нет. Умрет граф Канкрин - Россия дымом уйдет. Россией печки топить будут.
Казарский же пока не знал, что его имя было произнесено во время
высочайшей аудиенции.
Всех выдающихся русских адмиралов: Лазарева, Нахимова, Истомина, - Николай приметил еще в их лейтенантские годы. И, приметив, не спускал с них глаз.
Лейтенанту же пока было достаточно невзгод, сыпавшихся на него в Севастополе.
Шкипер Артамонов его в упор не видел.
Жаловаться на него было решительно не за что. Но лейтенант угадывал его тяжелую руку, занесенную над ним. Вдруг его призвал к себе командир отряда транспортных кораблей и сказал, что «Соперник» идет и последний поход к Анапе. Потом будет отписан к Дунайской флотилии. Лейтенант, если хочет, может подать «Рапорт» на зачисление в команду фрегата «Евстафий». Там есть вакансия.
Казарский десять лет отзвонил в лейтенантах и все под чьим-то началом. «Соперник» - его первый опыт командования кораблем. Если не шкиперу, то кому еще мог помешать «Соперник» в составе Черноморского флота?
Было обидно.
3. АНАПА
Из «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА» [14]
(«Морской сборник».
Царствование Александра I Часть VII
Санкть- Петербург, 1893).
КАЗАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1811 г. Поступил на службу в Черноморский флот волонтером [15] .
1813 г. Пожалован в гардемарины.
1814 г. Произведен в мичманы.
1816- 1819 гг. Командуя военными лодками в составе Дунайской флотилии, плавал между Измаилом и Килией.
1819г. Произведен в лейтенанты.
1822 г. На транспорте «Ингул» плавал между Севастополем и Глубокой Пристанью.
1823 и 1824 гг. На корабле «Император Франц» крейсировал в Черном море.
1826 г. Командуя бригом «Соперник», плавал у крымских берегов.
1827 г. Командуя тем же бригом, доставил из Одессы и Очакова мостовые понтоны к Килийским гирлам Дуная.
1828 г…
Турки упорствовали. Война продолжалась.
«Соперник» и три катера сопровождали караван «купцов». Шли из Одессы в Суджук-Кале. На «купцах», гражданских судах, зафрахтованных военным ведомством, порох и вооружение для Анапы, уже взятой, но вновь и вновь подвергающейся нападениям.
Зело мешала Анапа, пока была под турками, военному флоту России.
Зело мешала купцам российским и малоросским. А Одессе, быстро богатевшей, более всех. Опасность встретить «султана» в море и оказаться на всю жизнь гребцом, прикованным цепью к галере, была ежечасной. Но купец на то и купец - не рискнет, не продаст.
Боялись турок одесские купцы.
Боялись, и от боязни смелели.
Хаживали под охраной военных и к берегам Румелии, и к Батуму, и к Поти. А при сшибке с турками в море лезли в рукопашную, дрались не хуже матросов из абордажных команд.
Пока турки имели крепость так близко - завтрашнего дня не угадаешь.
Четыре века - начиная с XIV - Османская империя называла Черное море «Геркели-гей», «Внутренним озером». Оно и было для турок таковым. Швартовались турецкие корабли в любой точке побережья, как у причалов Стамбула, или Бабалы, или Пендераклии. Падет Анапа - конец Внутреннему озеру. Здравствуй совсем другое водное пространство: ЧЕРНОЕ МОРЕ, столько же принадлежащее Порте, сколько и России.
Султан Махмуд II - политик хитрый и правитель с умом аналитического склада - имел несчастье встать во главе Османской империи не в ее Золотой век, а в период распада, развала. Под ударами бунтующих алжирцев, греков, хорватов, черногорцев, сербов империя распадалась. Время членило ее, словно это была не империя, а апельсин, который так легко разделить на дольки.
Россия поддерживала христиан.
Султан Махмуд понимал: запоздала Порта с реформами. У России был Петр I, создавший регулярную армию и регулярный флот. Турция 1828 года что Россия времен Ивана III или даже царя Алексея Михайловича. Нет, даже брат Селим понимал, в чем причина горьких поражений Порты: мир переменился. Янычары - Европа брезгливо называла их полчища бандами - хороши были для грабежей былых веков. Их время прошло. Брат Селим попытался разогнать янычар. Но брат Селим - не Петр. Был убит в своих же дворцовых покоях.
С заговорщиков полетели головы.
Махмуд продолжал дело брата, реформы.
… Ветер дул ровный, свежий. Лето никак не входило в свои права.
«Соперник», радуясь хорошему ветру, шел на Суджук-Кале под марселями в один риф, под фоком и гротом. Казарский стоял на шканцах. Думал и о Турции, теряющей силу, но все еще очень опасной. И о делах своих, куда более остро ранящих.
Ну кто еще, если не главный шкипер за этим переводом брига в Дунайскую флотилию?
Он! Конечно, он!
Хитрый человек. Настырный. Медведь-шатун. Обозлится - все берегись.
Да и поведение шкипера вдруг переменилось. Сколько времени в упор не видел лейтенанта. А намедни вдруг прозрел. Нет, не подобрел, нет. Даже напротив. Встречая в порту, смотрит с ненавистью. Увидит, - и ему аж сведет губы. Словно шкипер лимон надкусил.
С чего такое?
Казарского поеживало от взглядов шкипера.
Еще резче обозначилась дистанция между капитаном II ранга и «мелкотой», «гнусью», лейтенантом.
Но вот стар «Соперник», а оба борта его покрашены. Никто над командой не смеется.
Особенно растревожила Казарского последняя встреча. Шкипер взглянул на него с видом озлобленного ястреба, готового броситься на добычу.
Казарский положил себе твердо, что ни при каких обстоятельствах той бумаги-извинения, вырванной под дулом пистолета, он шкиперу не отдаст. Пусть все кончится не Дунайской флотилией, а хоть Сибирью.
Не знал Александр Иванович, действительно, пребывавший на очень невысокой ступени флотской иерархии, того, что уже знали в верхах. Кто мог ждать после победы в Анапе царской ревизии в Севастопольском адмиралтействе?
Царские ревизии на флоте были делом привычным. Их ждали всегда. Но обрушивались они на головы заподозренных в корысти или небрежении к службе, тем не менее, нежданно. Струхнувший Артамонов потому и смотрел ястребом на Казарского, что готов был дорого заплатить за ту злосчастную бумагу. Да тоже не знал, как подойти к лейтенанту.
Походы следовали за походами. Ремонта на берегу не давали довести до конца. Обидно! Бриг нужен. А вроде - и не нужен.
День стоял солнечный, блестящий. Над головой небо в перистых подвижных облаках, нежно разрисованное. Бриг жил привычной походной жизнью. Вахтенные стояли у своих снастей. Часть подвахтенных развели по работам - кто чистил медь, кто подскабливал шлюпку, кто вязал маты. Один из вязавших, бомбардир Фома Тимофев, низкорослый крепыш с лицом, порепанным оспой, был хорошим песельником. Голос у него был высокий, чувствительный. Слушать его любили. Он завел песню, согнув спину над матом:
Матросская душечка-а-а…
От его проникновенного голоса защекотало тоской по берегу. Песню подхватило несколько голосов. Петь на «Сопернике» умели.
Задушевный дру-у-уг,
Смотришь в море сине-е-е,
Пусто все окру-у-уг…
Казарский прислушался к себе. Тоска толчком отозвалась в сердце. Переведут на Дунай - к Татьяне Герасимовне, в дом на Малой офицерской, зван не будешь.
На поход крестишь меня-а,
Разлукою ко-а-ришь.
Ты рыдаешь голосом,
У меня душа боли-ит.
Караван, который сопровождали, состоял из семи судов. «Соперник» и катера бежали к Суджук-Кале, прикрывая его с зюйда, - со стороны наиболее вероятного появления противника.
Вот и прошли высоту Анапы.
Казарский держал трубу у глаз. Хотя увидеть павшую крепость невозможно, но все же хочется хоть что-то рассмотреть. За далекой волной расплывалась полоса горизонта. Казарский прислушался, недонесет ли ветер рокота пальбы. Когда ухает тяжелая артиллерия, слышно за много миль.
- Корабль! Прямо по носу! - раздалось сверху, с марса.
Песню оборвало.
Лейтенант резко повернулся. Труба у глаз. Взгляд на ост.
Вдали, словно белая пирамида облаков, проступили чьи-то паруса.
Свои?
Вражеские?
- Два корабля!!
Десятки глаз устремились навстречу парусам. Прошло четверть часа напряженного ожидания. Корабли, двигавшиеся навстречу, словно бы не спешили, словно бы продвигались, одолевая тягость. Наконец в далеких парусах проступил успокоительный сероватый оттенок, - паруса турецких кораблей белокипенные, они из египетского хлопка; паруса наших светлосерые, из хлопка отечественных сортов, они под стать утренней туманной дымке. В окуляре трубы затрепетал андреевский флаг на первом корабле и еще флаг на мачте второго, - оба не столько видимые, что андреевские, сколько угадываемые, что андреевские. Первый корабль с поднятыми парусами. Второй с убранными, - только мачты, тощие, как фонарные столбы, царапают клотиками синь небесную.
- Бриг «Ганнимед», вышбродь, с призом! - радостно вскричал марсовый. - Здоровенного «султана» в Анапу тащит!
Приз - плененное судно. За него положено вознаграждение. Во время средиземноморских кампаний, случалось, командам разрешалось призы даже продавать другим государствам и тем выплачивать жалованье.
Казарский уже и сам видел, что идет «Ганнимед», бриг быстроходный и маневренный. «Ганнимед» оттого так натужно режет волну - словно не волну, а ледяную шугу, лед пробивает форштевнем - что на буксире у него другой корабль.
С победой, «Ганнимед»!
Совсем другое ожидание пошло на борту «Соперника». Все подвахтенные высыпали наверх. Галдели оживленно. Ждали.
Но сблизились только через час с четвертью.
Флейтист то и дело поглядывал на командира. Заждался матрос. Стоит на шканцах, чубастый, красиво-озорной, с блестящими глазами, и губы подрагивают от вожделения поднести флейту к губам. Но по уставу разрешается играть «захождение» - приветствие собрату -
только когда штевни двух кораблей окажутся на одной мысленно представляемой прямой. Тут глазомер нужен!
До встречи осталось полтора кабельтова, не больше.
- По правому борту встать к борту! - крикнул лейтенант.
Палуба, возбужденная чужой победой, заждалась команды. Выстроились мгновенно. Офицеры заняли места с левого фланга. Вахтенный, мичман Соколовский, озабоченный и веселый, метнул строгими глазами по безукоризненной линии строя.
- Сигнальщик! - звенящим голосом отдал команду Казарский, - Поднять сигнал:
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОБЕДОЙ
Свернутые комочки флагов побежали по фалам. На реях выстрелило разноцветьем.
Без слов, взглядом, лейтенант разрешил флейтисту сигнал захождения. И флейта запела, сладострастно-упоенно, славя победу сотоварищей по оружию. Офицеры вскинули ладони к козырькам.
С «Ганнимедом» и его призом расходились бортами на расстоянии кабельтова. Там командир брига капитан-лейтенант Кутаков тоже выстроил вдоль борта людей. Казарский, поневоле улыбаясь, вглядывался в плотную фигуру Кутакова с крутой осанкой. И ему казалось, что он видит загорелое лицо командира «Ганнимеда», кустистые брови и даже выражение отчаянных и смело-наглых глаз. «Ганнимед» сигналил:
ПРИНЯЛ БОЙ ШИРОТА 44°15' ДОЛГОТА 38°05'
ПЛЕННЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОПАСНОСТЬ НОРДА
Корабли расходились. Флейтист играл «исполнительный». То же возбуждение, полное живости и радости, на бортах катеров и на бортах «купцов». Флейтист с сожалением отвел флейту от губ. Хороша минута встречи, да жаль, коротка.
Норд опасен?
Спасибо, Кутаков!
Значит, турки сумели выбросить десант где-то между Анапой и Суджук-Кале. Туда, в крейсерство, за сутки до выхода «Соперника», ушел отряд кораблей. Главный группы - капитан-лейтенант Стройников. Видно, ведут сейчас поиск высадившегося десанта.
На охрану «купцов» и с юга, и с севера сил у лейтенанта маловато. А «купцы» требовали надежного охранения. Гружены порохом до клотиков.
Казарский приказал:
- Сигнал: «Резвому» и «Бесстрашному» занять места слева на траверзе каравана. Дистанция - пять кабельтовых.
Матросы сгрудились на корме, провожая взглядом Кутакова с его порыскивающим на волне призом. Все возбуждены, всем хорошо. Ветер бьет в лицо, колышет палубу. Море несет с волной свою синюю, блистающую веселость. Самое время преподать урок ведения боя. Лейтенант сошел к матросам. Приз «Ганнимеда» еще совсем близко. Бомбардир Семенов с холодком восторга, сдавившим грудь, выдыхает похвалу Кутакову:
- О, голова! Штормяга, не моряк! Разделал «султана» - чистая ужасть!
На «султана», в самом деле, смотреть страшно.
Лихого командира «Ганнимеда» флот знает. У Кутакова закон: круши врага так, как душа просит. Вот все и видят, чего душа Кутакова возжелала! Считают пробоины, ахают, мотают головами. Транспорт огромный. Пленных у Кутакова, надо полагать, не менее трехсот. Они загнаны в трюм. Палуба почти безлюдна.
Коней много.
- «Штормяга»! - с презрением передразнил Семенова боцман, Игнат Конивченко.
Боцману приз не нравился.
Трофим Корнеев, бомбардир из старослужащих, возразил, не соглашаясь:
- А што ты хошь, Петрович? Штоб «султан» целехонький был? Из пожару не обгоревши не выходють.
- Хочу! - брыкливо, с вызовом ответил боцман, легко серчавший. Передразнил: - «Не выходють…» У кого «не выходють», а у кого и «выходють…»
- Ай, шайтан! - придавленно, приглушенно взвизгнул вдруг матрос Файзуил Зябирев. Выломился из скопления парусиновых рубах, высокий и тонкий. Пробился к командиру, перед которым расступались, пропуская к самому борту. Зябирев протянул смуглую руку с вытянутым пальцем, показывал на лошадей на палубе. На «султане» их было десятка два. Быстрее всего, до начала боя и еще больше было. Часть побита. Часть, обезумев от огня и крови, сорвалась с привязи, оказалась за бортом. Казарский перевел взгляд, следуя за пальцем матроса. Между бизань-мачтой и бортом пристроился матрос с «Ганнимеда» и пеленал
чем- то -верно, разодранным тряпьем - припавшего на подломленные передние ноги коня. Высокую холку трепал ветер. У Казарского екнуло в груди. Через сколько боев прошел. А сердце так и не ожесточилось, не привыкло к войне. Жалость к животным жалила подчас даже горячее, чем жалость к людям.
- Вай, вай, вай! - жалеючи, мотал головой Зябирев. - Хорошши конь! Шибко хорошши конь!
Он был единственным татарином на борту «Соперника». Молодой, совсем мальчишка, тоненький и гибкий, как девушка, он выделялся тюрской смуглотой кожи и характерным обрисом красивых черных, бараньих глаз. Казарский взглянул на матроса. Жалость к коню высветила особенно сильно эту не-славянскую, родовую отличительность в татарине. Впрочем, очень симпатичную «инакость».
Кого- кого только не стал собирать ныне на русские корабли андреевский флаг! Греки, хорваты, далматы. У всех одно убеждение: южный берег Черного моря -туркам. Там они жили, живут и жить будут. А вот северный берег, Турция, отдай. И западный - отдай. Как пришла с пожарами и кровью - так и уходи. Хватит грабить. Хватит невольничьих рынков, шумевших и в Евпатории, и в Кафе. Время ли для невольников?
А вот как сбросят последнего турка в море, так иди, христианин, на замирение. Не задирай больше ни Россия Турцию, ни Турция Россию.
Так матросы в разговорах устраивали будущий мир. Верили и не верили, что так быть может…
Татары на кораблях пока в новинку. У каждого позади какая-нибудь ссора, страх потерять голову. У Файзуила тоже. Не исчезни он однажды ночью из аула, украшала бы уже его лохматая башка с такими красивыми беспокойными глазами пику Мухтара-эфенди, какого-то самодура из-под Бахчисарая.
Страшен плен турецкий.
Любой русский моряк предпочтет плену смерть. Скованных по рукам и ногам цепями людей, раздетых догола, ведут по стамбульским улицам. Блажат дервиши, у ртов бешеная пена. Кричат о врагах аллаха, врагах пророка Магомета! В пленных летят из толпы камни, железные крючья, а то и меткие, посланные умелой рукой, ятаганы. Но стократ страшнее попасть в плен к туркам татарину. Единоверцу толпа ста шагов пройти не даст. Разорвет на части, растопчет, размажет плоть по земле. В крови несчастного стамбульцы вымочат босые ноги. Как в крови барана,
зарезанного на рамадан [16] . Тому, у кого ноги омочены такой кровью, благословение аллаха!
Перед каждым походом Зябирев, уединившись в каком-нибудь темном уголке - в глубинных недрах трюма мало ли таких! - отрешенно и сосредоточенно творит намаз. Больше боя, больше жесточайшего шторма боится плена. Казарский настрого наказал, не трогать татарина во время молитвы. Чего бы ни было в прошлом - всем жить на одной земле. Жить на одной земле можно только в уважении друг к другу.
- Ой, Файзуилка, - строго осудил и татарина Конивченко, еще больше суровя серо-седые, полынные брови, - у тя чи очи косые? Люди дырки в борту «султана» щитают. А твои глаза на коняку косят! Вот хропнет тебя турка, такого разяву, на ятахан, выпустит требуху, шо из пса!
- Моя мал-мала шибко коней любит. Моя коней любит, как корабли любит, - с лаской в голосе возразил татарин.
Что- то и Казарскому -так же, как и боцману - не нравилось в призовом судне Кутакова. Да судна и не было. Была громадная, черная после пожара посудина с одной-единственной уцелевшей бизань-мачтой. Посудина оседала в воду, притягиваемая донными духами. Помоги Бог Кутакову дотянуть ее до Анапы! Кутаков, самоуверенно храбрый, в бою «слеп». Если уж ему завязалась пальба - то крой и круши. В бою глаза заливает кровью. Казарский подумал, что встреться с турецким отрядом в море не Кутаков, а капитан-лейтенант Стройников, командир «Меркурия», плененный «султан» выглядел бы, пожалуй, не так жалко.
- Семенов, - проговорил Казарский, - вот перед тобой «султан». Положим, он целый. Положим даже, что это не транспорт, набитый войском, а боевой бриг, маневренный, готовый к сражению, - что, конечно, пострашнее. Куда, Семенов, ты стреляешь? И чем стреляешь?
Бомбардир прищурился раздумчиво, метясь в «бриз».
- Потопить, вашскородь, добрый бриг скоро не потопишь… Я б, вашскородь, в грот-мачту метил. Чтоб повалило ее. И еще б хорошо пожар учинить!
- Ай, да Семенов! Ай, да умная голова! - засмеялся одобрительно лейтенант.
В самом деле, ветхому «Сопернику» надеяться на то, что, продырявив корпус добротному кораблю, он одолеет его, не приходится. Тут игра должна быть, - как в жмурки. И учинить такую можно! Попади в мачту, повали ее. Паруса упадут на палубу, всех накроют. Вот корабль и потерял управление. Противник барахтается под тяжелыми полотнищами. Когда-то он еще из-под них повыползает! А случается, попадет бомбардир в какой-нибудь тоненький фал (трос), - и вот она победа! Перебит фал - ослабело натяжение в других снастях. В фалах потолще, в шкотах, в толстенных брасах. Паруса провисли, ветер не надувает их. И корабль уже не корабль, а корыто, которым играют волны. Только ведь в этот фал надо еще суметь попасть!
Еще адмирал Ушаков учил: стреляя, думай. Не хитро попасть в корпус. А ты меться в наиболее уязвимые места. Конечно, нет места на корабле более опасного, чем крюйт-камера (пороховой погреб). Попади туда искра - от корабля только взбрызг на воде, - и всему конец. Да ведь крюйт-камера глубоко, в чреве корабля, продуманно, изощренно защищенном. А мачты, снасти, натягивающие паруса, на виду. Вот ими и умей довольствоваться! Ушаков первым начал метить в них, осознав, какую они несут в себе уязвимость!
- Я б, вашскородь, - горячо заговорил молодой канонир Иван Лисенко, - брандскугелями [17] «султана» так забросал бы, так забросал, шоб у пожари уси три мачты сгорели. Хвилинка, - был «султан», стали дрова для тетки Христинки.
Матросы засмеялись.
- То-то ты палишь - море шипит. То не долетел твой шар, то перелетел. Лисенко палит, море горит, за бортом уха варится! - зубоскалил Трофим Корнеев. Лучший бомбардир «Соперника», он был неправ. Ревновал молодого Лисенко, набиравшегося все большей и большей меткости. - Я б, вашскородь, в грот-руслень [18] целил! И не брандскугелем, а книпелем, книпелем [19] . Чирк по фалу! Паруса и накрыли турка.
Лисенко зарозовел с досады.
- А попал бы в руслень, Корнеев?
- Да уж не оконфузил бы «Соперник», - улыбнулся Корнеев.
- Хиба «султан» в бою вот так ровненько ползет, как этот за «Ганнимедом»? - съехидничал Лисенко. В его мягком голосе тоже прозвучала притаенная ревность, - Вертится ж, як чертяка на сковородке!
«Султан» уползал все дальше. Вот уже сомкнулись вдалеке два судна в одно, длинное. Вот паруса «Ганнимеда» опять стали похожими на накрененную пирамидку. Впереди «Соперника» до самого горизонта пустынная синь. Солнце подымается к зениту. Тишина вокруг, обман-ная, невидимо напитанная тревогой. Сменялись вахтенные. Казарский почти не уходил со шканцев, - у командира на корабле во время похода вахта длится столько, сколько длится поход. Разговоры о «Ганнимеде» не утихали. Вспыхивали то там, то там. Кутакова хвалили: больше трехсот человек в плен взял. А на бриге всего - сто два человека.
- Сто голов и две плешины! - не соглашается боцман видеть в Кутакове такую уж несравненно умную голову, как все говорят.
Хазарский хмыкнул. Игнат Петрович всегда выражался, так сказать, не без меткости. На «Ганнимеде», в самом деле, плешин было две: у второго лейтенанта Бирилева и у приятеля Хонивченко, тоже боцмана, Алферова. Сам Игнат Петрович весьма гордился тем, что и дожив до пожилого возраста, до «третьей пятки на маховке» не дожил.
Трудные времена настали для старых боцманов! На всех кораблях флота российского уже была читана, много раз перечитана памятная записка адмирала Сенявина:
«Весьма важным считаю обратить внимание гг. командиров и офицеров на их обхождение с нижними чинами и служителями. Нет сомнения, что строгость необходима в службе, но прежде всего должно научить людей, что им делать, а потом взыскивать с них и наказывать за упущенное. Посему должно требовать с гг. офицеров, чтобы они чаще обращались с своими подчиненными; знали бы каждого из них и знали бы, что служба их состоит не только в том, чтобы командовать людьми. Они должны знать дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего…».
Офицеры, особенно из молодых, стали стесняться пороть матросов. Это прежде с бака корабля в иные минуты несся такой истошный вой, что вся эскадра, стоящая в порту, замирала, слушая. Теперь на одних пороли, на других нет; на одних часто, на других изредка. Но порядка-то требовал каждый командир. И тот, который сам себя «живодером» не стеснялся называть; и тот, который брезговал быть «грубой скотиной». А с кого требовали порядка? - С боцманов!
Зюйд опасен. Норд опасен. За ночь Казарский не сомкнул глаз. Утро встретил на шканцах, - свежее, сияющее, открытое с трех сторон в просторы моря, а с четвертой подпертое высокими горами Суджук-Кале. Мрачноватые, величественно-торжественные, они сжимали бухту. Утесы, спадающие едва ли не с неба, покрытые густой хвойной зеленью, чередовались с голыми кряжами, похожими на жилистых исполинов. Вроде великаны обступили стеной справа и слева бухту. Стоят, охраняют ураганный ветер, запертый в теснины гор. Тот самый дикой страсти ветер, имя которого носит уже два десятка лет «Игнат-бора», боцман Игнат Петрович Конивченко.
«Соперник» пропустил в бухту «купцов». Сам, уже никого не опасающийся, все продолжал оберегать их со стороны моря. И только потом кильватерной колонной, маленькой лебединой стайкой бриг и катера втянулись в горло бухты. Чувствуя облегчение - проводка каравана закончена - Казарский оглядывал рейд. Стояло десятка два судов, большей частью военных. Вдруг - радостно перехватило дыхание - у дальнего причала увидел бриг «Меркурий». Угадал его по широкому корпусу, по мачтам с малозаметными, но давно запомнившимися подробностями-отличиями. Лейтенант поднял зрительную трубу. Борт о борт с «Меркурием» «султан»! Такой же здоровенный, как «султан» «Ганнимеда»! - трехмачтовик! На якорях вблизи катер «Сокол», яхта «Утеха». Подальше - три турецкие шебеке [20] с обгоревшими мачтами и чернотой в бортах.
И Стройников - с призами!
Четыре флага взял!
Сон разогнало. Не будет же Стройников стоять до вечера, дожидаясь, когда командир «Соперника» выспится.
Оставив старшим на корабле Шиянова, Казарский поспешил к коменданту Суджук-Кале доложиться, а потом на «Меркурий». Комендант поставил все нужные печати, рассказал:
- Знаете, Казарский, какой турки шкентель завязали капитан- лейтенанту Стройникову? Ведь на взятом «Босфоре» - турчанка! - И комендант обметнул Казарского смеющимися, возбужденными глазами. - Вот такой вот коленкор!
Казарский узнал, что турки прошли ночью незамеченными и наполовину уже разгрузились, когда отряд Стройникова обнаружил их в Круглой бухте. Стройников атаковал и с моря, и с берега, высадив часть матросов. Турчанка, сама по себе смирненькая, стояла на берегу, у коня. Однако с десяток сипахов (конников) положили за нее головы, прежде чем наши матросы схватили ее коня за уздцы. Суджук-Кале теперь с лошадьми!
Причал «Меркурия» был самым дальним. Добираться до него пришлось, прыгая по камням, по шатким доскам над непросохшими после дождя лужами. Казарский подходил, с расстояния разглядывая корабль. После обгорелых останков приза «Ганнимеда» хоть глазам не верь! «Султан» Стройникова оказался даже целее, чем предполагал Казарский. На шебеке, да, подпортило мачты. Борта пробиты. Но пробоины не страшные. На транспорте от бизань-мачты - обгоревший остов. Ют черен, пожар там был изрядный. Однако грот и фок целы. И «Босфор» мог бы до Анапы своим ходом дойти, окажись в Суджук-Кале матросы, умеющие работать с парусами. Но в гарнизоне Суджук-Кале и лишних-то солдат никогда не бывало, не то что моряков.
Вот кто усвоил уроки адмирала Ушакова, учившего бить в рангоут, в снасти корабля противника, - Стройников.
Рассказывают, и в морском корпусе Стройников был лихим гардемарином. Буйную головушку его не раз охлаждал, да так и не охладил холодный карцер. Кончив корпус, он по своей охоте вышел на Черноморский флот, куда выходили самые отчаянные из воспитанников, не боявшиеся строгой службы. Дерзкое крейсерство вблизи турецких берегов, боевые кампании, следовавшие одна за другой, завершили основательное морское воспитание Стройникова. Казарский, давно приятельствовавший со Стройниковым, знал «молитву» командира «Меркурия», с которой тот вступал в бой: «Господи! Да помоги мне, грешному, учинить гром во всю поднебесную!» Знал «заповедь» Семена Михайловича, которую тот частенько повторял с усмешечкой: «Нет орудия страшнее… страха! Пуля в одного попадет, десятерых минет. Брандскугель может сотворить пожар, может на сотворить. Страх добьет и того, кого пуля минула, и кого снаряд пожалел». И как старший, советовал младшему, Казарскому:
- Ошеломи! Оглуши! Нагони страху такого, чтоб противник с мозгов свихнулся!
Видно, это ему и теперь удалось. Турки явно сдались прежде времени. На их кораблях еще воюй и воюй.
Старший офицер «Меркурия» Скарятин деловито распоряжался плотниками, укреплявшими поврежденные в бою реи на гроте и бизани брига.
Что- то рвануло в сердце Казарского, с берега глядевшего на «Меркурий». Севастопольское адмиралтейство, судостроительная верфь, уже наметило спуск на воду нового тридцатишестипушечного фрегата «Рафаил». Два капитана -командир «Ганнимеда» и командир «Меркурия» - равно претендовали на командование фрегатом. Казарский видел, теперь шансы капитан-лейтенанта Стройникова увеличились. За кормой «Ганнимеда» не приз, - головни недогоревшего костра. Борт о борт с «Меркурием» стоит «Босфор», которому после ремонта предстоит стать хорошим транспортным судном флота российского.
Новейший «Рафаил», фрегат, о котором можно только мечтать, - вот истинный приз отважного Стройникова.
Лейтенант почувствовал, как смертельно ему надоел скрипевший и постанывающий при каждом наскоке ветра «Соперник», - словно гроб, изъеденный древоточцем, сам готовый от усталости уйти в пучину. Как надоело, выходя в очередной рейс, каждый раз сознавать, что отходивший свое бриг изнемогает в затянувшейся борьбе с волнами и ветрами. Как надоело каждый переход спать «собачьим сном» и настороженно вслушиваться в скрипы рангоута, в скрипы дряхлого корпуса, в скрипы всех сочленений. Везет Стройникову! Уйдет Семен Михайлович, уйдет на «Рафаил». Кому «Меркурий» достанется?
Построенный тоже на севастопольской верфи, «Меркурий» не был ни лучшим кораблем Черноморского флота, о котором можно было бы мечтать, как о даре судьбы, с таким пылом, с каким мечтал лейтенант, ни даже лучшим из кораблей своего класса, бригов. Двухмачтовик, предназначенный для крейсерства, разведки и посыльных нужд, «Меркурий» тяжеловат в ходу, так как сработан из прочного, но тяжеловесного крымского дуба. Южным верфям постоянно не хватало сухого корабельного леса, доставляемого из-под Архангельска. И потому мастера корабельных дел вынуждены были искать породы заменяющие. Бриг вынужденно широковат. Мастер Осьминин, строя его, обезопасил себя, дав бригу больше прочности за счет ширины. И толстяка Осьминина, и «Меркурий» офицеры, посмеиваясь, называют «толстозадыми». Но бриг и не так уж плох, когда идет в галфинд, когда ветер под прямым углом к диаметральной плоскости судна. «Меркурию» всего-ничего восемь лет. Ему плавать и плавать!
А Стройников, не видя Казарского, вел сортировку пленных.
Был он в люстриновом сюртуке, со сбитой на затылок фуражкой, взмокший, весь еще в запале отгремевшего, но не до конца пережитого боя. Не видя Казарского, - голосом звучным, красивым, «налитым», кричал с борта:
- Орлы!… Молодцы, ребята!… Что я вам говорил? Разве мы четырех «султанов» взяли? Мы четыре щепки взяли… Такие ли призы, братцы, брать еще будем! - И перегнувшись через борт: - Тихонов! Тихонов! Ты что трясешь басурмана? Он что тебе, анкерок с водкой? Не тряси ты его, а то он, турка черный, со страху белее бинта на твоей голове будет!
Тихонов, матрос с перевязанной головой, Отвечал снизу:
- Никак нет, вашскородь, турка не пужливый. Вон каким волком зыркает. Он, вашскородь, ага [21] . Голый, а все равно видно, ага! Я ви-ижу! Говорю ему: «Туда вон подавайся! К командиру!» С резоном говорю…
- С каким резоном? С каким резоном, Тихонов! Что ж ты ему, офицеру, резон в лоб вколачиваешь, башибузук ты этакий! - орал Стройников, радуясь своей луженой глотке. Большой, плечистый, с лицом румяно-смуглым от загара и соленых ветров, он был в центре всего. Его облепили со всех сторон офицеры и матросы. Наблюдали с любопытством за командиром и дюжим Тихоновым. Турок, совсем молодой, голый по пояс, под взглядами соотечественников сердито-злобно и вместе с тем беспомощно ощеривался, бросал на матроса взгляды, которые можно было бы понять так: «Только тронь меня! Только посмей!» Сколько раз Казарский наблюдал у пленных эти беспомощные взгляды попранного самолюбия!
- Они, вашбродь, ножками не можут! Я их сейчас на руки и к вам!
И матрос уже пригнулся, чтобы взять тонкого в стане, с втянутым
животом, стройного агу на руки.
Вот когда от хохота заколебало палубу «Меркурия»!
- Только ты его нежненько, Тихонов! - посоветовал старший офицер.
- Ты, Тихонов, его, как княжну персидскую! У сердца голубь!
- В гарем, в гарем его, Тихонов! Вон глазины какие черные, красивые. И впрямь княжна!
Советы, команды, подсказки летели со всех сторон.
Юный турок догадался, какое унижение ему предстоит пережить. Лицо пошло красными, нервными, гневными и беспомощными пятнами.
- Оставь его, Тихонов! - поняв состояние турка, остановил матроса Стройников. - Веди к фельдшеру. Раненый он. Перевязать надо.
- И вовсе не раненый, вашбродь! Так, царапина…
- Раненый, я сказал! - оборвал Стройников. - К фельдшеру! Перевязать! И держать, пока я приду!
На плече у турка была побуревшая полоска давно запекшейся крови. Не царапина беспокоила Стройникова. Командир «Меркурия» угадал в молодом офицере ту нервическую натуру, которая на глазах у соплеменников будет молчать на допросе, хоть режь его на части, хоть в огонь бросай. Но, оставаясь один на один с собой, не выдерживает тревоги и подавленности, напряжения нервов, скачки беспокойных мыслей, отвечает на все вопросы. В каюте фельдшера с глазу на глаз с допрашивающим турок заговорит.
- А, это ты, Казарский! - удивился и обрадовался Казарскому Стройников.
Снизу, с берега, лейтенант поднял в приветствии сжатый кулак:
- С призом, Семен Михайлович!
- Как ты кстати-то, брат! - воскликнул Стройников. - Мне допрос учинить надо. Хочу знать, какие суда на подходе, мой толмач не столько переводит, сколько врет, поди. В первый поход он с нами, нет у меня ему веры. Подымайся!
К Стройникову подскакивали матросы. Докладывали:
- Вашскородь! Пленных - уже триста набрал в голову и сбился! Еще с полета, а, может, и более будет!
- Щитай заново, Березин! Щитай!
Подскочил старшина:
- Бим-баша один! Билим-башей два! Байрактаров четыре! Чауш один… [22]
- Хорошо, Скворцов! Эх, хорошо! Кончим кампанию, будет на кого наших пленных менять!
- Эх, жаль, не видел я твоего боя, Семен Михайлович! - с горячностью одобрения в голосе проговорил Казарский. - Лихо ты «султанов» взял! Целехонькие ведь!
- Ошеломи! Оглуши! Ослепи! Вгони душу в пятки, и - с призом!
- густым голосом, с напором, говорил Стройников, идя по кораблю впереди Казарского.
- Как же ты смог-то?
- Эге-ге-э… как? А вот ты сумей с первыми залпами все решить. Первые - в самую боль, в самую середку жизни. Мы как повалили бизань, так я приказал своим: «Палить, чтобы дыму и огню побольше было, но поверх мачт!» А капитан транспорта, дура сырая, думал, что я все по нему палю. Сейчас ты его увидишь.
Устоявшуюся вонь еще не развеяло ветрами. Пахло остывшим чугуном и кисло - уксусом. Палил Стройников из пушек, не жалея пороху. Стволы поначалу оплескивали водой из ведер, чтобы не раскалялись, накрывали мокрыми брезентами. Потом и уксус плескали, когда стало мало помогать. Под ногами мокро. Матросы машут швабрами. В двух местах у карронад Казарский заметил следы кровавых пятен, - не без потерь и на «Меркурии». Матросы, видно, уже не по первому заходу, затирали их. Песок, щепа, мусор уже были смыты. Казарский нагнулся к мешку, наполовину наполненному песком. Он был крупным, зернистым. Песок сыпят на палубы, чтобы в горячке боя на ней, мокрой, вздрагивающей, сотрясающейся, пляшущей под ногами, не поскользнуться.
- Какой у тебя хороший песок. Прямо - пшеница! Где набирал?
- спросил Казарский.
- У меня все хорошее! - с вызовом возразил Стройников. - В Севастополе набирал. В Килен-балке.
Что правда, то правда! У Стройникова все было всегда отменно хорошим! Вот и песок он знал, где набирать! Казарский смотрел на капитан-лейтенанта, и любя его, и любуясь им, и завидуя ему. Стройникову было тридцать шесть лет. Половину из них он воевал, - в Адриатике, у берегов Румелии, у кавказских берегов. За его плечами более двадцати морских кампаний. И за них орден, - одна из самых высоких наград России, - орден Святого Георгия 4 класса, Георгия Победоносца. Бой уже позади, а капитан-лейтенант все еще никак не может разжать себя. Напряжение души обозначается напряжением скул, напряжением стиснутых зубов. Был он темноволос, темнобров, широколиц. Чем больше Казарский, идя рядом с капитан-лейтенантом, поглядывал на него, тем большее восхищение тот возбуждал в нем. Ах, Стройников, Стройников, холостяк, желанный гость в каждом николаевском и севастопольском доме, надежда маменек, у коих дочки на выданьи. Главная опасность, - его, Казарского. Его соперник.
Воздвиженская дарит равной дружбой обоих. У Семена Михайловича много преимуществ. Не транспортом командует, боевым бригом. Нет на его руках ни матери-вдовы, ни сестер, ни младшего брата.
Хорошо, Воздвиженская не спешит замуж…
- А ну, сюда! - позвал Стройников Казарского.
Казарский думал, что Стройников повел его в каюты. Или в трюм. Пленных, как правило, запирают. Но Стройников провел на бак. Девять пленных турецких офицеров-моряков и пехотинцев - сидели, поджав под себя ноги. Вдоль бортов - матросы с ружьями. Увидел Казарский и еще одного человека… Женщину!… Турчанку с лицом, прикрытым кисейным яхмаком… И только теперь вспомнил, что ему уже говорил о ней, «смирненькой», комендант Суджук-Кале. Видно, из-за нее, из-за турчанки, Стройников и отступил от правила, держал целую группу офицеров, которые могли и в сговор войти друг с другом, на баке. Офицеры сидели сумрачные, смотрели, кто куда, отворачивали лица от русских.
Рискованно поступал Семен Михайлович. Рискованно! Но и Казарский, окажись у него в руках турчанка, поступил бы точно так же.
Турчанка сидела отделенно от всех. Ее знобило. Она то прислонялась к фок-мачте, то вздрагивала вдруг, минуту-другую сидела с прямой спиной, потом опять искала опоры телу в мачте. Ветерок полоскал яхмак, отгибая уголок. И тоща видна была смуглая юная кожа, черные блестящие глаза, обведенные сурьмой. На русских она не смотрела. Но видно было, что чувствовала, как никто другой из турок, их присутствие, что в испуганной душе ее каждый их шаг, каждое передвижение отзывается напряженной вибрацией. По лбу идет подвеска с жемчугами. Грудь, как кольчугой, закрыта занавеской из золотых и серебряных монет. На запястьях, на щиколотках золотые браслеты.
На баке - и двое русских. Добрый знакомый Казарского командир катера «Сокол» лейтенант Вукотич, полусерб по отцу. И коренастый, приземистый переводчик, в самом деле, видно, туго знавший турецкий. Вукотич не мог добиться от пленных того, чего хотел знать. Турки угрюмо молчали, то ли не понимая, то ли делая вид, что не понимают. Во времена Казарского Николаевское училище, в которое он стараниями дядюшки Мицкевича был определен в свои четырнадцать лет, возглавлял генерал-майор Иван Григорьевич Бардаки, любимец Потемкина, немало повоевавший, немало поплававший на своем веку. В училище готовили офицеров из дворян. А штурманов «более из низких классов», - проще говоря, из обнищавших дворян. Казарские к тому времени такими и были. Отец, Иван Кузьмич, так обнищал, что вынужден был стать управляющим в имении князя Любомирского, в Дубровно, под Витебском. Генерал-майор Бардаки - светлая память ему! - не делал для себя различий между дворянами, за которых родители вносили кошт покрупнее, и штурманами, с более худым коштом. Всех их называл «господами офицерами», за проказы угощал линьками и гардемаринов, и штурманских учеников без разбору и без оглядки на родительский кошт, но в общем-то драли воспитанников в училище без особого усердия, привычного в те годы. Бардаки одинаково требовал и с тех, и с других, чтобы койки в дортуарах закатывали гладко, чтобы делали им «красивые головки», - эти головки у многих стали предметом особого чванства. А когда с весной занятия в классах кончались, и воспитанники в офицерской и в штурманской половинах с одинаковым настроением принимались «пускать каникулы», то есть рвать свои записи, делать из них «голубей» - Иван Григорьевич раздавал подзатыльники собственноручно, опять-таки блюдя равенство и справедливость. Словом, воспитывал по-родительски, как родной отец, право! Теперь, вспоминая былые годы, николаевские выпускники только посмеивались и понимали, что незабвенный Иван Григорьевич мог, мог быть любимцем легендарного Потемкина-Таврического!
Один из заветов генерал-майора был таков:
- Знай язык противника, как свой знаешь. Толмач тебя и переведет, а не сумеет довести до пленного, что тебе, моряку, знать надобно. Толмач тебе и переведет, а не все поймет, что бы ты сам понял.
Во времена Бардаки турецкий в училище изучали основательно.
- Казарский! Как кстати-то! - обрадовался и Вукотич, отводя гневные глаза от турка, капитана «Босфора», очевидно, упрямо молчавшего. Капитан - кряжистый, крутоплечий турок лет пятидесяти. Русскому морскому офицеру дисциплина и малейшего отступления от формы не разрешает. Сам государь-император, где бы ни встретил военного человека, к форме строг, пощады не знает. Вдали от его глаза в форме моряка всегда тот же порядок, как и перед государевым смотром. Турки допускают много вольностей в ношении формы. Что ни офицер, то свой дорогой кушак, шитый серебром, золотом. И у капитана «Босфора» поверх шелкового оранжевого антари (жилета, поддевки) кушак. Но за ним ни пистолета, ни ятагана, - разоружен. Под феской, тоже оранжевой, крутолобая, с бычьей крутизной в височных долях, голова. Попробуй, выжми из такого хоть слово!
И совсем он не «сырая дура», думал Казарский. Стройников и сам
знал, что капитан - не «сырая дура». Оброненные слова были скрытым хвастовством, бравадой. Видно же, такой пленный - честь для победителя!
Уже и Вукотич понял, что допрашивать капитана - время терять.
- Спроси ты янычарку, Казарский, - с раздражением проговорил Вукотич, переводя глаза на женщину, - что она, жена коменданта Анапы, паши Шатыра Осман-оглы? Вон какая богатая. Вся золотом увешана. Если жена паши Шатыра Осман-оглы, жди нового нападения на Анапу. Не собираются они нам оставлять крепости, коли жен вызывают. Турка пока на штык не подденешь, нипочем не уговоришь!
В обороне турки всегда упорные. И Вукотич, проницательный, въедливый, прав, - жен не вызывают, когда хотя бы в затаенном уголке мозга есть мысль о сдаче.
Переводчик приосанился, напустил на лоб думу. Даже склады-морщины над бровями углубились.
- Анапская жена у Шатыра состарилась. Вся седая, лицо печеным яблоком сморщилось. Паша молоденькую возжелал, - проговорил переводчик, отпуская от себя слова неторопливо, степенно.
- Молчать! - побагровел Стройников. Не терпел вранья. Вранье в военном деле - гибель!
Вукотич тоже возмутился:
- Имени янычарки узнать не смог. А тут всю жизнь по канве вышил!
Переводчик струсил, смолк.
Турчанка вжалась спиной в фок-мачту. В черных глазах - даже за кисеей яхмака - нарастающая жуть.
Казарский глянул на нее, и кольнуло его воспоминание. Сестру, покойницу, увидел. Та была еще моложе, когда погибла. В двенадцатом году Наполеон взял Витебск, а днем позже вошел в Дубровно. Какую свободу Франция принесла в Дубровно, семья Казарских узнала сполна.
Солдатня разграбила барскую усадьбу.
Матренушку приметили, - рослая была, как все Казарские, лицом белая, коса за плечом до половины спины. Матренушка от солдат к мельнице, к реке. До обрыва доотступалась. Видит - некуда больше. С обрыва - в водоворот у мельницы. Сетями ее вынули потом. Всю о камни избившуюся.
Отец в один час обезножил. А через год, в 1813-ом, умер. Казарскому предстояло еще год учиться. А кошта-то нет! Все шло к отчислению из училища. Дальше - жизнь без средств. Но опять же - светлая память генерал-майору Бардаки! - со скудных штурманских курсов Казарского он отчислил в… класс гардемаринов. Год беды стал годом крутого поворота в судьбе Казарского. Штурмана - черная кость флота. На них армейская форма, у них армейские звания: подпоручик, поручик. У офицера флота совсем иное положение. Офицер - хозяин корабля; штурман - обслуга. Казарский, единственный из поступавших в штурманские классы, выпущен был мичманом.
Казарский присел перед турчанкой на корточки. С приветливостью заглядывая в глаза, смягчая голос, спросил:
- Сэнин адын нздир?
- Улдуз… - Едва шевельнулись обведенные кармином губы.
- Уддуздур? [23] - засмеялся Казарский и с гримасой шутливого замешательства взглянул на небо, в то же время кося глазами на турчанку. Словно собирался сравнить звезду на небе и звезду на баке «Меркурия»,
Турчанке было не до смеха. Последняя краска стекла с лица.
Казарский поймал себя на мысли, что за пятнадцать лет, прошедших со дня гибели сестры, поистерлось в памяти лицо Матренушки. И вот только теперь, глядя на турчанку, совсем на Матренушку не похожую, вдруг, вспышкой в мозгу, увидел глаза сестры, зеленовато-карие, за светлыми пушистыми ресницами, и славянскую россыпь веснушек в межбровье, по носу и по щекам. В последнюю минуту у сестры вот такие же, наверное, полные ужаса глаза были…
- Сэнин коджан - паша Шатырдыр? [24]
- Оставь ты ее Христа ради! - поморщился Стройников. - Оглянись.
Казарский оглянулся. Пленные турки вштопорились в него и турчанку глазами. Смотрели так, что от одних взглядов их, как пропоротый жгучей пикой, умрешь. Слушали, что он спрашивает, что она отвечает. Женщина, боясь русских, еще больше боялась их, соотечественников. Рассказывали, после окончания предыдущей кампании произошел обмен пленными. В нем участвовал флаг-офицер вице-адмирала Грейга капитан-лейтенант Клюев. Среди пленных был двухбунчужный паша, толстый немолодой турок. Пока плыли от русских берегов до турецких Клюев как-то даже сдружился с пашой.
В Стамбуле он сутки был. Обмен произвел. Бригу «Орфею» скоро отходить. Захотел флаг-офицер заглянуть в гости к двухбунчужному. Дом в Буюк-даре, паша приглашал. Вошел во двор, а на воротах кожа! С живой жены, чем-то провинившейся, снята вместе с волосами! На земле в конвульсиях дергается что-то, живое, что совсем недавно человеком было. Глаза с полным сознанием в выражении смотрят, о смерти молят. Тут же собаки юлят, крутят хвостами, обнюхивают плоть без кожи. Клюев не выдержал, пристрелил бедолагу.
Верно, помня эту историю, Семен Михайлович и держит турчанку на глазах у турок. Попробуй-ка уведи в каюту. Уцелеет в плену - все равно равно после войны живой не останется.
- Тут, Казарский, есть совсем немой, - сердито кивнул Стройников на капитана. - Задай-ка еще ты ему вопрос-другой.
Казарский отошел от турчанки. Остановился перед капитаном «Босфора». Капитана, единственного из всех пленных, не интересовал разговор русского с женщиной. По его щеке шел рубец. Кровь уже запеклась. Рубец капитана тоже не интересовал. Турок повернул голову вправо, смотрел на свой покачивающийся на зыбкой воде «Босфор». Русские матросы подталкивали выводимых из трюмов пленных к трапу брига. Смирных пленных. Смирных, как бараны, на которых покрикивают пастухи.
- Ага, сиз капудансиз? [25]
Капитан пересиливая себя, поднял голову в феске. Взглянул на русского без всякого чувства, - без страха; даже без ненависти. Этот взгляд ознобом прошелся по телу Казарского. Турок уже ничего не боялся. Даже того дня, когда война кончится, когда настанет день обмена пленными, и он предстанет перед султаном Махмудом и судьями. Ему не простят того, что он опустил флаг перед противником, силы которого были меньше. Он знал, какая казнь его ждет. Казни он тоже не боялся! Знал, его, сошедшего с трапа на Стамбульскую набережную, два янычара, заранее выбранные султаном, собьют с ног, бросят на землю, наступят ногой на спину, с двух ударов отсекут голову. Алая кровь хлынет из артерий его шеи; черная кровь из головы. Туда ее, покатившуюся шаром голову, голодным собакам!
Капитан видел свой корабль, свой мало поврежденный корабль. Видел: и «Босфор», и шебеке на плаву. Они могли продолжать бой, они могли бы победить.
Но все четыре корабля - призы русского капитана. Турок, видимо, вопрошал себя, как получилось, что он, потрясенный бедой: горит бизань-мачта, - оглушенный пальбой, ослепленный выстрелами, прозевал миг абордажного сближения русских и позволил спустить флаг? Как получилось, что этот красный флаг с полумесяцем и еще три таких же флага с шебеке привязаны к фок-мачте русского брига с таким небрежением, словно русские готовы намотать их на швабры?
Дрогнула душа Казарского. Суд, который молча вершил над собой капитан, отозвался в ней сильнее, чем прежде панический ужас Улдуз.
Казарский был большим любителем интересных книг, особенно исторических. Его давно занимала загадка поведения человека на войне. Почему вдруг турки, прекрасные мореходы, бойцы свирепые и безбоязненные, стали терпеть поражение за поражением? Почему четыре века страх сковывал Грецию, Словению, Фракию, - все Балканы. Сковывал весь малоросский и российский берег Черного моря. И вдруг перестал сковывать?
Государства, как и люди, дряхлеют, - отвечал сам себе Казарский. И несчастливы храбрецы, которым выпадают горькие сражения времен упадка своего государства!
- Ага! Сиз капудансиз? - повторил Казарский, голосом подчеркивая, что он уважает в пленном его боевые качества.
Капитан провел по его лицу невидящим взглядом. Отворотился к «Босфору».
Командир «Сокола» Вукотич вознегодовал:
- Башибузук! Сатрап! Он еще артачится! Сидит на своем заду, как у себя в гареме, и штилюет, видите-ли! Молчит и никакой ряби!
Черноволосый, с нервным бойким лицом, сухой и невысокий, Вукотич, полусерб, по внешности сербом был куда более, чем только наполовину. Прямые брови его дерзко расходились от переносицы и придавали его лицу несколько надменное, вызывающее выражение. Но этот дерзкий взлет бровей не был пренебрежением к другим, a словно бы страдальческим удивлением: за что родине его предков, Сербии, такая злосчастная судьба!
Вукотич подскочил к капитану.
- Послушай, ты! Ты на военном корабле, а не в кофейне Стамбула Ты - пленный. Пленного спрашивают - пленный отвечает!
«Соколу» Вукотича предстояло остаться в разведке, когда «Ганнимед» и «Меркурий» уйдут.
- Гляди, как он отчесывает капитана! - добродушно усмехнулся Стройников. - Оставьте его, Вукотич! Не будет он говорить.
- Он должен говорить!
- Что ж с него, с живого, шкуру сдирать?…
- Вот так! Вот так нам и надо, славянам! С нас сдирают - а мы рассиропливаемся! Наполеон - европеец, а и он так не сиропил с пленными, как мы.
- Но вы же не Наполеон, Вукотич…
- А почему я не Наполеон! Почему я не Наполеон! - с неожиданной силой вновь взорвался Вукотич. - Нет, господа! Если б я был на месте французов, на месте англичан, я бы и не в такие лисьи игры, в какие они играют с нами, играл бы! Я бы совсем славян за простаков брал и предавал их еще больше, чем они предают, без стеснения!
- Что так? - не без иронии спросил Стройников.
- А то! Твердим вслед за Европой: «Наполеон - первый полководец мира». «Первый полководец» бит Кутузовым. Но кто-нибудь Кутузова называет «первым полководцем»? Битый - «первый», а тот, кто его побил, - не первый! И всегда с нами, словянами, так! Коли сами себя не уважаем, кто уважать нас будет?
Стройников махнул рукой и впереди Казарского пошел в каюту фельдшера. Вукотич, упрямый вблизи упрямых, остался, намереваясь с помощью переводчика заставить турка заговорить.
- Я тебя, Семен Михайлович, - понизив голос, проговорил Казарский, - еще раз с призом поздравляю. Шепнул: - С «Рафаилом»! Попомни мое слово, фрегат твой.
Стройников оборотил лицо. Глаза блестели. С видом старшего товарища, с полуслова понимающего младшего, ответил:
- В твои руки, Казарский, отдал бы «Меркурий» с дорогой душой. У тебя, черт самолюбивый, всегда перец под хвостом. Ты лапоть дырявый, «Соперник», в исправный корабль превратил. В твоих руках «Меркурий» был бы не хуже, чем он в моих!
Вукотич справился со своим норовом. Оставил капитана, догнал офицеров; фельдшер запеленал бинтами молодого турка с садиной на плече так, что тот сам поди уже поверил в серьезность своего ранения. Оказалось, что он в чине байрактара, - прапорщика. Он показал: за ними следует третье судно десанта, транспорт «Измир».
Турки не сдавались.
Спор за Анапу не кончен.
Команда «Меркурия» готовилась ставить паруса. Молодец Семен
Михайлович!
Люди сытые, крепкие, загорелые. Делают все летом! Покидая корабль, Казарский ревнивым взглядом оглядывал палубу брига. Что ж, что корпус широковат. Строительный материал не может не диктовать обводы. И все равно все в «Меркурии» - гармония и разумность, стройность и подчиненность законам красоты.
Подошли к борту. Переменив голос, гортанно, как говорят турки, Казарский, смеясь глазами, пожелал Стройникову:
- Да получишь ты радость жизни и десять сыновей! И ты, и сыновья твои чтобы удачливыми были!
Стройникову стоило пожелать десяти сыновей. (Только б не в браке с Воздвиженской!) Наверняка Семен Михайлович вспомнил Татьяну Герасимовну. Но на укол пикой ответил уколом. Как правовернейший из мусульман, поднял руки ладонями кверху, возвел нахальные глаза к аллаху, огладил лицо, соединив руки у клинышка несуществующей бороды:
- Да будет так, как ты сказал, паша! Да получишь и ты радость жизни и десять дочерей, чтобы моим сыновьям было кого брать в жены!
Вукотича передернуло! Нет, надо быть хотя бы наполовину сербом, чтобы понимать, что пока в Черном море есть хоть один «султан», истинному православному не до зубоскальства…
А турчанку довелось Казарскому увидеть еще раз. Уже в Анапе. Она оказалась женой не коменданта Анапы Шатыра-паши, а женой помощника коменданта, билим-паши Теймураз-бея. Однако Теймураз-бей приходился племянником самому везирю Порты, потому они с Шатром делили на двоих один дом, - лучший дом Анапы. Передача турчанки единоверцам прошла статьей в подписанных обоими сторонами условиях сдачи. Ее в сопровождении двух турок отпустили еще тогда, когда никто не знал, чем кончится война.
Анапа полнилась стоном и плачем.
Рыдали казачки над трупами казаков.
Рвали на себе волосы в домах турчанки.
Казарский был не на борту брига, а в крепости, когда из дома Шатыр-паши выносили турка средних лет, раненого в ноги. Ранение было тяжелым. Возле раненого, племянника везиря, хлопотал русский фельдшер. Из дома выбежала тоненькая женщина с распущенными волосами, со сбившимся косо яхмаком на лице, в разорванной на груди рубахе. Казарский узнал в ней юную Улдуз. Турчанка кричала, что аллах покарает неверных, если они не дадут ей умереть рядом с мужем.
Собака умирает рядом с хозяином, конь умирает рядом с хозяином, жена должна умереть рядом с хозяином. Она цеплялась за носилки, за рубахи казаков, за их сапоги. Казаки ее отталкивали. Она вставала, падала, бежала, цепляясь, падала, размазывала кровь по разбитому лицу. Кричала: если ее не возьмут вместе с мужем на корабль, муж умрет. Разве ей надо много места? Ей нужно не больше места, чем веслу от шлюпки. Грузите весла, бросьте же и ее туда, куда бросаете весла.
Ее не понимали, у трапа оттолкнули резко. Она упала у камня. Обняла его и забилась о него головой.
Казарский с тяжелой душой вернулся на «Соперник».
Тяжело видеть кровь. К ней не привыкнешь.
Тяжело видеть слезы женщин. К ним не привыкнешь.
В Севастополе Казарсксго ждало нежданное, негаданное: главный шкипер с должности снят. Пока неизвестно, совсем или до конца работы царской ревизии?
В понедельник говорили: отдали под суд.
Во вторник: не отдали.
В среду: отдали.
В четверг: не отдали.
В пятницу Казарский вернулся домой после службы. Хозяйка на пороге показала ему, что его ждет гость. Дверь в его половину была полуоткрыта. Яростное хождение с каким-то жестким стуком чего-то обо что-то исходило из его комнаты. Распахнув дверь, Казарский увидел лейтенанта, ровесника, с фрегата «Пармен». Лейтенант метался по комнате, как пойманный в капкан. Сабля билась то о ножки стульев, то о ножки стола. Лейтенант не замечал этого. Увидя входящего, лейтенант круто остановился.
- Господин Казарский! Вы мало знаете меня, я мало знаю вас. Лейтенант Артамонов.
- Чем могу… - спросил Казарский.
У лейтенанта было нервное узкое лицо и быстрые черные глаза. Все черты отца. Только все более тонкое, молодое.
- Казарский, мы ведь можем без церемоний, - проговорил младший Артамонов и рухнул в кресло.
Казарский сел в угол дивана. Смотрел, ожидая.
- Казарский, я наслышан о вас, как о человеке чести. Как о порядочном человеке. Потому я у вас.
«Нужна бумага. Отцом послан»
- Я слушаю вас.
Лейтенант успокоился.
- Вы знаете, конечно, что мы с отцом живем не в большом согласии?
Казарский слышал об этом. Говорили, после того, как Артамонов-
старший вернулся из Петербурга хозяином имения своего двоюродного брата, сын выехал из большого двухэтажного родительского дома. Жил, как и Казарский, на квартире.
В легких сумерках комнаты за спиной лейтенанта примерещилась Казарскому жуткая виселица 1826 года. Это было летом. Все происходило на кронверке Петропавловской крепости. Повешением распоряжался генерал Голенищев-Кутузов, ныне военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Трое из пятерых приговоренных сорвались с веревок, как доносил генерал-губернатор «по неопытности наших палачей». Голенищев-Кутузов, человек простой и крепкий, с густыми, вьющимися бакенбардами, любитель анекдотов, не растерялся. Увидев сорвавшихся, расквасивших себе носы, крикнул, не потерявшись:
- Вешать снова!…
Говорили, лейтенант Артамонов очень любил своего дядю. Даже раз плакал в кают-компании «Пармена», представляя дядю, закованного в кандалы.
Флот политикой не занимался.
Флот воевал.
Но политика сама доставала моряков. На палубах появились разжалованные в матросы бывшие лейтенанты и капитан-лейтенанты.
- Господин Казарский, я в последней крайности…
- Позвольте, однако, узнать…
- Сейчас узнаете. Прошу вас только об одном: все должно остаться между нами.
Неохотно:
- Извольте…
Лейтенант быстро поднялся, метнулся к двери, крепко закрыл ее. Вернулся в кресло. Зашептал с усилием:
- Я все знаю про бумагу, которую вы вырвали у отца под наведенным на него дулом. Нет, нет, я даже рад, что вы все сделали так, как сделали! Я уважаю вас за этот поступок.
Он замолчал и стал тереть лбом о палец полусжатой в кулак правой руки. Молчал так долго и был таким отрешенным, что Казарскому показалось, что он забыт гостем.
Гость встрепенулся.
- Я могу показаться вам сумасшедшим, простите!… Так вот, у отца недостача. Отец продал дом в Севастополе. Перезаложил все векселя. Я знаю, его не посадят. Такие, как он, не сидят. Его беспокоите только вы и та бумага. - Он захрипел. - Меня она тоже беспокоит. Я хочу знать, что вы собираетесь предпринять?
Казарский подумал с минуту.
- Зачем вам? - спросил он.
- Если по флоту вдруг пойдут разговоры - а они пойдут, я знаю - от меня отвернутся все. Отречется даже мой командир господин Скаловский, которого я тоже уважаю как человека чести и долга. Мне не останется ничего, как подать в отставку… Уйти с флота, когда флот воюет… - Кадык его заплясал, прыгая над воротничком.
- Я слушаю… - повторил Казарский и опустил глаза, разглядывая свои колени.
- Я вас ни о чем не прошу, - хрипло продолжал Артамонов- младший. - Только, Бога ради, откройте мне свои намерения.
Судьба человека непредсказуема. Так недавно все в жизни Казарского могло поломаться всего от того, что главному шкиперу было жаль какой-то краски на борт старого транспорта. А теперь он сам стал хозяином судьбы лейтенанта с «Пармена». Дай он ход той бумаге… Старый Артамонов уцелеет. Тот, как генерал Голенищев-Кутузов, прикажет себе:
- Начинай сначала.
На любых дрожжах в рост пойдет.
А сын его, ни к чему не причастный, сломается. Тонок. Нервен… Такие свой суд в себе носят.
Казарский посидел, молча, раздумывая… Поднялся… Подошел к шкафу с секретом. Нажал на кнопку с боку. Крышка бюро собралась в гармошку, утонула в пазу. Вынул синюю бумагу, рифленую рисунком. Сгущались сумерки. Казарский подошел к столу, зажег две свечи в подсвечнике. Показал лейтенанту:
- Узнаете руку вашего батюшки?
- Узнаю.
Казарский поднес бумагу к огню. Плотная, она загорелась не сразу. Почернел угол. Бумага занялась пламенем. Осыпалась пеплом на металлический поднос.
«На похоронах - не пляшу».
Лейтенант долго и сердечно тряс ему руку. Потом выскочил из комнаты. Пробежал по хозяйской половине, словно за ним гнались.
Сабля застучала опять о стулья, о косяки дверей.
Его лицо внезапно забелело уже в полных сумерках в раскрытом в вечер низком окне.
- Простите! - вскричал он нервно.
«Что еще?»
- Простите! Я вас не поздравил!
- С чем?
- Как - с чем? Вы не знаете?… Вы - капитан-лейтенант. И вы - командир брига «Меркурий»…
- Откуда у вас такие сведения? - обессиливая, тоже теряя голос, спросил Казарский.
Оказалось, эскадра уже знала об этом. Стройников - командир «Рафаила». Казарский - командир «Меркурия». Он, Казарский, с «Владимиром». Стройников - с «Анной»!
Командир эскадры капитан I ранга Скаловский принес новость, вернувшись с совещания у адмирала Грейга.
….
Шкипер Артамонов на долгие годы исчез из жизни Казарского.
Но не навсегда.
4. ЛИЧНОЕ
Из «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
КАЗАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1828 г. Произведен в капитан-лейтенанты за отличие, оказанное при взятии Анапы; и награжден золотою саблею «За храбрость» за отличие, оказанное при взятии Варны.
Из «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
СТРОЙНИКОВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ
1828 г. Командуя бригом «Меркурий», плавал у румелийских берегов до Константинопольского пролива; за взятие в плен у Суджук-Кале турецкого транспортного судна с десантом до 300 человек с тремя знаменами награжден орденом Св. Анны 2 степ. Произведен в капитаны II ранга.
Лето, осень, зима 1828-го года прошли в походах. Пришел год 1829-ый. Русско-турецкая война продолжалась.
Рано, в середине февраля, обманутый ненадежным теплом, зацвел дурашка-миндаль. Холода приходят в Крым не по календарю, не в декабре или январе, а тогда, когда ледоход сдвинет глыбы льда в реках, погонит их колючим сквозным норд-остом к югу. Но пока север еще укутан снегами, там на гребешках сугробов жесткий наст. И Крым живет сам по себе. Снег, обрадовав глаз, выпадет, мягкий, пушистый. Полежит день-два. И обессилит. Скомкается в ноздреватые, грязные кучки. Из-под него островками проступит сырая земля, на ней слежавшиеся настилы прошлогодней листвы. И местами проглянет, засмеется зеленая, изумрудная травка, пробившаяся еще осенью, ожившая.
«Меркурий» стоял на ремонте в доке Севастопольской верфи. Команда жила на берегу, в казармах. Деятельно готовилась к выходу в район боевых действий, - к Румелийским берегам. Жили сосредоточенной, полной тяжелого труда жизнью.
В последний февральский вечер прислал к Казарскому своего вестового Стройников. Настоятельно звал к Татьяне Герасимовне Воздвиженской. Казарский прочитал записку. Такого еще не было, чтобы в дом Воздвиженской приглашала его не Воздвиженская, а Стройников.
Дел на корабле было невпроворот. Но вдруг все отодвинулось. Все стало не таким важным, не таким срочным, каким представлялось до прихода вестового. Казарский отослал вестового, сказал, что сам будет на «Рафаиле».
Командирская каюта фрегата вдвое больше командирской каюты брига. Каждая ступенька трапа возвещала о корабле другого класса. Стройников был без сюртука, в тонкой батистовой рубашке с незастегнутым воротом. Казарского поразила перемена в товарище. В каждом движении, во всем облике нервная решимость. На что решился Семен Михайлович? Лицо у Стройникова и в феврале загорелое, каменно-крепкое. Шея крутая, молодая. В распахе ворота курчавится густота. Несмотря на зимнюю стылость каюты, весь он жарко пахнет морем, ветрами, невыветриваемым корабельным духом. Приметил Казарский и совсем новый блеск в глазах.
Опоздал он, Казарский…
Проворонил Воздвиженскую…
С чего он взял, что траур у молодых вдов бессрочен?
Да, сестры, Параша и Катенька, все еще не пристроены. И брат не на своем коште. Да зачем же было ждать всех? По месяцу, по два в дом Воздвиженской не заглядывать? Вон как красив, как полон молодой силы Стройников. Пошел в лобовую атаку и…
Казарский выпрямился и очень примой, закаменевший, прошел к иллюминатору. Только повернув лицо к морю, позволил себе расслабление. Губы его дрожали. В сердце битой, поджавшей хвост собакой скулила тоска.
Воздвиженская оказалась дома не одна. Из Губернаторского [26] Николаева в заштатный Севастополь к ней приехала погостить мать. В гостиной сидели еще два офицера, незнакомые Казарскому. Майор артиллерии и, сразу остановивший на себе внимание, рослый, с закрученными, как у Николая I, пышными усами капитан-лейтенант с флигель-адъютантскими вензелями на эполетах - буквой «Н» («Николай»).
Это еще кто? Казарский ревниво взглянул на залетного красавца.
Было ясно, что они с Семеном Михайловичем припоздали. Но Татьяна Герасимовна - что за прелесть! - не умела сердиться по пустякам. Увидев их, радостно воскликнула: «Ах, как хорошо-то!» В последний год эти слова: «Ах, как хорошо-то!» - стали ее любимым присловьем. Быстро и легко поднялась с дивана, пошла навстречу со своей сияющей улыбкой счастливой женщины. Протянула Казарскому узкую прекрасную руку, и он после запахов верфи: смолы, пеньки, стесываемого дуба, каленого железа, - ощутив запах ее духов, едва уловимое тепло, излучаемое ею, - почувствовал едва не дурноту в себе.
- Отшельник! - засмеялась Воздвиженская. - Вам так не нравится мой дом? Вам так неприятно видеть меня? Почему, вы от меня прячетесь, Казарский?
Он продержал ее руку у губ дольше, чем это было бы прилично. Но она не отняла ее. Смотрела на него, улыбаясь глубокими, бездонными глазами.
- Ах, как хорошо-то… - повторила.
Капитан- лейтенант так и не понял, что «хорошо-то»? То ли то, что «отшельник» заглянул в дом? Или то, что пришел Стройников, которого, видно, больше ждали, чем его? Или, может, то, что в доме этот усатый красавец?
Промельками пронеслись в памяти картинки встреч с Воздвиженской в Дворянском собрании. В этих картинках открылся смысл, которого раньше не улавливал. Вот это сияющее выражение счастливой женщины установилось в лице Татьяны Герасимовны именно после знакомства с Семеном Михайловичем. Да они же сразу стали приглядываться друг к другу. Как можно было этого не заметить? Что обманывало-то его? Обманывало их уверенное спокойствие, которое он принял за равнодушие дружбы. Когда в собрании Стройников танцевал с хорошенькой, похожей на белокурую куклу юной Мекензи, Татьяна Герасимовна не провожала его ревнивым взглядом. Танцевала сама, теряясь, кого выбрать. Очень часто с Казарским. Оглядывала зал в огнях, повторяла полюбившиеся слова: «Ах, как хорошо-то!» Хорошо танцевать в Собрании. Хорошо быть радостно-спокойной, не чувствуя ровным счетом никакой неприязни к куколке с льняными кудряшками Мекензи. Хорошо, что есть в душе непоколебимое ощущение своей власти над этим упрямым в своем затянувшемся холостятстве капитан-лейтенантом.
Вот ведь все как было…
Мать Татьяны Герасимовны звали Марией Дмитриевной. Это была немолодая, сухонькая женщина. Но глаза у обеих были одинаковые. У матери тоже такие же темные и большие, но не такие быстрые и блестящие. Тем не менее и они приятно освещали привядшее лицо пожилой женщины.
- Мой добрый сосед, майор Николай Васильевич Дедюхин, - представила Татьяна Герасимовна майора артиллерии.
Казарский поклонился. Майор был не интересен.
- Мой брат, Дмитрий Герасимович Лазутин, - улыбаясь, лаская глазами флигель-адъютанта, гордясь им, представила Татьяна Герасимовна. Приказала строго: - Прошу любить!
«А ведь Стройников женится!» Понял Казарский.
Сердце билось отчаянно, кровь прилила к лицу.
Он сделал вид, что страшно обрадовался, что этот рослый красавец - брат, всего брат, именно брат. Воскликнул громко:
- Как я сразу не догадался? Вы же все трое так похожи!
И объединил взглядом сухонькую женщину и брата с сестрой, на самом деле очень похожих.
В сердце - ножевое ранение.
С этой раной теперь и служить, и жить.
Ну а, положим, жизнь бы вернулась назад? Положим, на календаре год 1826-ой. И что? Разве бы все по-другому кончилось?
Если бы дядя наследство отписал, свои 70 000 золотых рублей, тогда б можно было все по-другому решить. А входить в дом жены и вводить за
собой целый сиротский приют, маменьку, двух сестер, брата? Каково?
Ничего бы не переменилось. Так бы и прожил вновь три года, как уже прожил их.
Пригласили к столу.
Казарский с грустью оглядел стол. Копченая лососина, красная икра, зеленый горошек и маседуан, пирожки с мясом, - все это предлагалось всего как закуска. На столе стояли охлажденные, запотевшие бутылки померанцевой. И отдельно веселой темной стайкой вина, хорошая марсала и золотистый херес. Казарский нашел в себе силы даже улыбнуться и боковым зрением взглянуть на Семена Михайловича: понимаю, мол, брат, ради кого все это. Утром «Рафаил» уходил в крейсерство. Такой стол всего для прощального ужина?… Девчонка Дуняшка знала, видимо, поболее его. Такая же румяная и такая же «чистенькая», как хозяйка - с той свежей белизной кожи, которую дает безупречное здоровье - носилась, как на крыльях, между кухней и гостиной. Услуживала гостям с радостной, сияющей, «хозяйкиной» улыбкой.
Смотрины.
Вот что тут происходило.
Вот почему тут и мать из Николаева, и брат из Петербурга.
Воздвиженская, встретив Казарского, уже не отпускала его от себя. Села за стол рядом с ним. Протягивая руку, убирая ее, двигаясь, задевала то руку, то плечо Казарского. Край ее юбки из черного, жесткого шелка касался его ног. Он, беззаботно улыбаясь, с печалью сознавал, что место рядом с ним Татьяна Герасимовна выбрала для того только, чтобы быть лицом к Стройникову, с которым она визави. Выбрала, чтобы иметь возможность поднимать от тарелки глаза на него и улыбаться ему прелестной, много значащей для обоих улыбкой.
Разговор за столом вспыхнул едва не сразу. Как костер, который и раздувать не понадобилось. В этом умении брат Воздвиженской Дмитрий оказался большим мастером. Ход войны, события на западном берегу Черного моря, - это занимало всех. Война подымалась к самому-самому своему пику, - как армия Дибича на Балканах в тяжких ратных борениях подвигалась к трудным перевалам Балканских гор.
В сентябре 1828-го года после упорной осады с суши и моря пала Варна.
А две недели назад - Сизополь!
Сизополь - это уже 42-я широта. Это западный берег Черного моря. Это уже ближе собственно к Турции, к Анатолии, чем к России.
Вот куда забралась война.
Сизополь - глубинная территория Османской империи, со всех сторон окруженная горами, на которых турецкие гарнизоны.
Сизополь - его коренные жители болгары и греки-фракийцы - под самым носом у султана взвил голубые знамена Свободы с птицей феникс, возродившейся из пепла.
И он взят.
В сущности, штурм Сизополя был чистой воды военной авантюрой. Осуществить такое мог только человек отчаянной храбрости, авантюрист по самой природе своей. Контр-адмирал Кумани, командир эскадры (3 линейных корабля, 2 фрегата, 3 канонерские лодки, десант 1162 человека) смерчем ворвался в залив у крепости. Обрушил на нее лавины огня, выбросил десант и через двое суток захватил городок. Кумани - грек. В юности - подданный Османской империи. Человек жаркой крови, когда-то в уличной потасовке он убил вооруженного байрактара. Бежал. За глаза был объявлен государственным преступником и приговорен к смертной казни. В русском флоте начинал с матроса. Взяв Сизополь, контр-адмирал имел тайный разговор с двумя сизоцольцами-греками. Послал их с письмом на окраину Афин к больному отцу: дождись меня, скоро увидимся…
Только в самые-самые первые минуты за столом что-то неуловимое, но, тем не менее, реальное, ощутимое, каким-то пространством пролегло между флигель-адъютантом, - офицером, выполняющим личные поручения царя, - и офицерами глубинки, окраины, серой тягловой силой войны. Лазутин и не хотел, да отличался от остальных. Привычно держал торс очень прямым. Холодное, «петербургское» выражение лица было для него обыденным, он не замечал его. Но под материнским взглядом доброй Марии Дмитриевны, под любящим взглядом сестры, которую и сам любил не меньше, Лазутин оттаял от дворцовой чопорности. Спохватился. Ощутил это расстояние между собой и боевыми, отмеченными наградами офицерами, заслуг у которых перед отечеством было не меньше, чем у него самого перед царем. И переменился, сам переступил линию раздела. Говорил, с улыбкой встречал реплики собеседников, отвечал, слушал, рассказывал. Осведомленность его была такова, что он и о Севастополе знал больше, чем офицеры, служившие в Севастополе. В конце концов все замолчали и стали слушать его.
Кумани взбесил турок!
Сераскер [27] Румелии Гуссейн-паша поклялся султану Махмуду, что, если дерзкий грек не уберется из Сизополя так же внезапно, как появился, он будет или живым доставлен во дворец Долма-бахче, или, с мертвого, с него снимут шкуру, а Махмуд II, как о подстилку, оботрет о нее ноги.
Стройников и Казарский переглянулись. Утром в составе эскадры капитана I ранга Скаловского «Рафаил» уходил в Сизополь. Туда же через три недели уйдет «Меркурий». Если султан Махмуд воспринял падение Сизополя как личный вызов себе, нет сомнения, турки будут пытаться отбить крепость. Не удастся снять «шкуру» с Кумани, - найдут с кого снять и бросить под ноги султану. В любую ночь малочисленный отряд русских моряков может в Сизополе оказаться, как в ловушке.
Дуняшку послали на кухню. Понизив голос, Лазутин пересказывал офицерам содержание своей беседы с Грейгом. Вот что поручил государь передать адмиралу:
- Удержать Сизополь н е л ь з я, а сдать - н е в о з м о ж н о.
Уж это точно! Сдать Сизополь было невозможно хотя бы уже потому, что турки не оставят в живых ни одного сизопольца. За флаги свободы, реющие над крепостью, над вершинами близлежащих скал, сизопольцы так поплатятся, мир содрогнется от ужаса. Феникс сгорит, один пепел останется!
Невозможно было сдавать Сизополь и по соображениям тактики. Имея такую базу на западом берегу, можно высылать корабли в дозоры к самым проливам. И, значит, всегда знать о намерениях Осман-паши. Если турецкий флот выйдет из проливов - дозорные увидят выход.
Рассчитывать России не на кого - только на себя.
Союзники не помогают. Ждут, когда Россия споткнется. Или истечет кровью. Тогда они сами будут кроить Балканы так, как им выгодно.
Победы русского оружия им поперек горла.
- Как там страшно-то, в Сизополе! - проговорила Татьяна Герасимовна. - Турки в горах, турки с трех сторон. И с четвертой стороны, с моря, в любой час появиться могут!
Бросила на Стройникова взгляд быстрый, нервный.
- Но вы ведь уходите к Анапе? Вы мне говорили к Анапе?
- Мы - к Анапе, - не моргнув глазом, солгал Стройников.
Флигель- адъютант подержал на нем взгляд. Он знал, куда утром
пойдет эскадра Скаловского. Перевел взгляд на сестру. Та и верила
Стройникову, но не до конца верила. Беспокойство оставалось на ее лице.
- Что это мы все о войне да о войне? Штабное заседание, что ли? - встрепенулся Лазутин. Крикнул громко и требующе: - Дуняшка! Что там у нас дальше? Кажется, индейку готовили?
- Иду-с! - тотчас отозвалось из дальних помещений.
Лазутин подмигнул сестре.
- А шельмоватая-с будет девка, эта твоя Дуняшка! Ты понаблюдай, понаблюдай за ее глазами! Стреляет ими не хуже, чем Кумани под Сизополем!
Дуняшка влетела, встреченная общим хохотом и пристальными взглядами. Индейка на подносе огромная, - белая гора, присыпанная зеленью. Дуняшка - прехорошенькая, румяная, волосы встрепались, рот полуоткрыт, застеснялась от общего внимания к себе. Вспыхнула. Тугие щеки до свекловичной яркости краской налились. И в этом румянце, во всей ее крепкой, ладной фигурке - стихийная сила жизни, избыток энергии, неосознанная радость бытия.
Между двумя бокалами доброго вина Казарский, наблюдавший за лицами всех, окончательно утвердился в догадке: сегодняшний вечер - смотрины. Татьяна Герасимовна показывает матери и брату своего будущего мужа. Взволнована: одобрят ли родные ее выбор или нет? Решительна: чего бы мать с братом ни сказали, выбор сделан! Все трое ждут, когда Стройников объявит всем присутствующим об их с Татьяной Герасимовной решении соединить судьбу.
На лице Казарского заблудилась улыбка, он не замечал ее. Он смирил себя. Что ж делать-то? Умная, красивая женщина сидела рядом. Шуршал жесткий шелк ее юбки. Она советовала Казарскому взять золотистый бочок индейки, так славно прижарившийся. Ее рука в движении задевала его руку. Она была к нему так внимательна, так внимательна, что ему в пору было завидовать самому себе. Но он знал, Татьяна Герасимовна никогда не улыбнется ему так, как улыбается Семену Михайловичу Стройникову. Нет у нее для него, Казарского, такой улыбки.
Майор- артиллерист тоже понял: смотрины. Опустил голову к бокалу, аппетит потерял. Все не по нему, водит с надсадой шеей в тугом воротнике, -ворот мешает.
Было только не понятно, чего Семен Михайлович тянет? Видит, все ждут…
- Поди, султану Махмуду плохо ныне, - проговорил задумчиво Стройников. - И гарем не радует.
- Вы удивительно точно угадали! - кивнул Лазутин. - В Петербурге ходят разговоры, что молодой султан на глазах стареет! Сведения, поверьте, из очень-очень-с точных источников. У Махмуда обозначилась даже каменная болезнь, ровно у старика. Камни в почках…
- Н-ну, - возразил Стройников, усмехнувшись, - камни в почках это у нас, простых смертных, быть могут. У государей, поди, так не камни, а алмазы.
- Знаете, какой алмаз у Махмуда на чалме? - расхохотался Лабутин. - Во-о!…
И взглянул на Стройникова так же недоуменно, как Казарский: «Что же ты, брат, тянешь-то?» Майор ожил. Пытался врезаться в разговор. Запоздало пытался все что-то рассказать из своей жизни. Казарский понял, что в доме Воздвиженской майор гость частый. Что дом тепел не без его стараний. Что, небось, Дуняшка и забот с дровами не знает. Что майор давно уже примерил себя и к молодой хозяйке, и к этому дому. Что Стройникова, появлявшегося редко, по какой-то слепоте, по наваждению какому-то всерьез не принимал. И что теперь, осознав промах, изо всех сил пытался вернуть себе козыри в своих видах на Татьяну Герасимовну. У майора была привычка начинать каждую фразу с присловья: «Я говорю». Не заикавшийся в начале вечера, майор, хмурый, упрямый, стал заикаться. И от того сердился еще больше. Рассказывал еще что-то, верно, и в самом деле любопытное. Сбивался, багровел, начинал опять и опять с упорством батареи, наладившей обстрел: «Я го-о-рю…» «Вот я го-о-рю…» Получалось: «Я горю…» «я горю…» Все за столом переглядывались. Это его «я горю» смешило. Становилось все более шумно, весело. Одну деликатную Марию Дмитриевну беспокоило, не обидят ли слишком веселые взгляды майора? Казарский заспорил с Лазутиным о сроках окончания войны. Лазутину казалось, что хотя взятие Сизополя и авантюра Кумани, а победа - если, конечно, удастся удержать Сизополь - недалека! А Казарский доказывал, что турки еще сильны, что одним Сизополем их с ног не собъешь. Мария Дмитриевна, лицо в лицо со Стройниковым, тихим голосом рассказывала ему про свое житье-бытье с мужем в Николаеве. Татьяна Герасимовна, сияя, через стол смотрела на них, вслушивалась: «Видишь, мама, я тебе говорила, Семен Михайлович тебе понравится!» И все вклинивался в разговор то Казарского с Лазутиным, то Марии Дмитриевны со Стройниковым майор: «Я что-о го-о-рю…» «Вот я и го-о-рю». Все косились на него весело и перемигивались. Наконец ему удалось заставить всех слушать себя:
- Я вот го-о-рю, победы на море только тогда победы-с, когда войска на берегу в образцовом порядке. А если, я го-о-рю, господа, на берегу не батарея, а кабак-с, победа на море всего фейерверк-с, я го-о-рю. Постреляли, огня-дыму напустили, а где потом укрыться, если берег ненадежный? Вот всю победу моряки, я го-о-рю, и профукают, если батарея на берегу не защитит их. - Майор перевел дух, и после спада в голосе продолжил с новым подъемом: - Я и го-о-рю, господа, где кому служить, в море у карронад, или на берегу у батареи, на то, господа, есть высочайшая его величества воля-с! Потому государь-император, я го-о-рю, награждая флот, никогда не обходит щедротами артиллерию. Я го-о-рю…
Он вытягивал пошедшую пятнами шею, которую теперь уж совсем невыносимо жал тугой ворот. Словно весь вылезти вознамерился из своего жесткого нового мундира. Закончить свою речь он имел несчастье такой фразой:
- Я го-рю, что я всю жизнь на службе горю.
Татьяна Герасимовна не выдержала. Рванулась со стула:
- Пойду, скажу Дуняшке, чтоб самовар ставила!
Юбка ее дохнула, шуршащей волной шелка пройдя по ноге Казарского.
- И я пойду, скажу Дуняшке, чтоб сладкий пирог несла, - сказала мать, и, несмотря на годы, такая же легкая, как дочь, с той же летящей походкой, скрылась в дверях.
Офицеры успешнее, чем женщины, справились с собой. Со скованными лицами дослушали майора до конца. Лазутин остался в гостиной, а Стройников и Казарский вышли на балкон покурить.
В соседних домах уже спали. Издали, с бухты, доносились оклики часовых: «Слу-у-шай…» «Кто гребет?…» Южная бухта отсвечивала темной, льющейся маслом гладью. По-другому, темной плотной лентой отсвечивала дамба, отделяющая оконечность бухты от топкого, никогда не просыхающего болота [28] . Хватал морозец. Но Казарский и Стройников, выйдя, расстегнули кители, не чувствовали холода. Трубка Стройникова пыхнула огоньком.
- Все, Саня. Кампании конец - и я под венец.
- Что же ты это мне говоришь, Семен Михайлович, а не им, женщинам? Скажи им, они ждут.
- И не скажу, - помолчав, проговорил Стройников.
- Что же так! - обиделся за Татьяну Герасимовну Казарский. И устыдился горячности своей обиды.
Стройников сделал еще затяжку, продолжая молчать.
- Не понимаю тебя, Семен Михайлович! - все с той же обидой за Татьяну Герасимовну проговорил Казарский. - Ты завтра уйдешь, а майор артиллерии тут. Он не глуп, майор. Он просто раздражен, он в состоянии войны с тобой.
Стройников молчал.
- Ей, Семен Михайлович, не все равно, скажешь ты или не скажешь. Она храбрится, а ей надо, ей очень надо, чтоб ты сказал при матери и при брате: «Под венец зову тебя». Не захочет тебя Татьяна Герасимовна ждать - пожалеешь, Семен Михайлович!
Не понимая Стройникова, Казарский еще меньше понимал самого себя. Себя человеку, видно, никогда не понять. Он и не хотел скорого брака Татьяны Герасимовны со Стройниковым. Но уж совсем не желал бы ее брака с этим смешно заикающимся майором.
- Пожалеешь, Семен Михайлович, - горячился Казарский. - Что-то мне подсказывает, ох, пожалеешь! Слепой ты, что ли!
- Нет, Саня, - разомкнул губы Стройников. - Не слепой я. Я все-о вижу… Я ведь, брат, и то вижу, что не только майору, а и тебе, Санечка, о-очень приятно ручки Татьяне Герасимовне целовать. Я, Санечка, и то вижу, что не дружбой своей она тебя дарит, отличая от всех. В ней женщина ликует. Рада, что есть власть и над тобой.
- Да я… Да она… - Из сердца в лицо как киноварью плеснуло.
Стройников отвел глаза, равнодушный к его замешательству.
- Знаю, Саня, - продолжал он задумчиво, - пожалею, если ждать не станет… А нет, ничего я им сегодня не скажу…
В мозгу Казарского мысль, которая все время была где-то далеко-далеко, в глубинах извилин, вдруг прояснилась.
На флагманском корабле контр-адмирала Кумани старшим офицером плавал однокашник Стройникова по Морскому корпусу капитан-лейтенант Федор Юшков. Юшков погиб во время штурма Сизополя. С самого выпуска из корпуса Стройников и Юшков служили бок о бок. Стройников на фрегате «Африка» мичманом, Юшков на фрегате «Евстафий» мичманом. Стройников лейтенантом на транспорте «Прут», Юшков лейтенантом на транспорте «Кахетия». Лишь однажды Стройникову удалось вырваться вперед друга: после Анапы произвели его
в капитаны II ранга. Стройников сам когда-то рассказывал Казарскому, как «замачивали» производство. Феденька, обнимая друга - весь вечер рядом сидел - клялся, смеясь: «Я - везучий. Мне еще повезет больше, чем тебе с «Босфором». Вот увидишь, обгоню…»
Повезло везучему Юшкову.
О б о г н а л.
Сердце Казарского дрогнуло. Он схватил Стройникова за борт кителя, рванул к себе. Хотел, как на шканцах, громовым голосом вскричать, рвя голосовые связки: «Да ты что!…», но вышло хрипом: «Ты что… Ты, Семен Михалыч, брось… Ты в себя не закапывайся, слышишь?»
На войне никто себе не хозяин. Одно Казарский знал точно: живи пока жив, гони от себя глухие мысли прочь. Ты - военный. Ты с четырнадцати лет выбрал себе судьбу. Сам решил, что жить будешь по соседству со смертью. Ну и терпи соседство!
Стройников высвободил борт сюртука из его рук. Засмеялся. Так, оскал влажных, фосфорящих в ночи белых здоровых зубов, а не улыбка. Повторил:
- Так решил, Саня: кампании конец - тогда под венец.
О Юшкове - ни вздохом.
- Слу-у-шай… - заглушенно неслось с бухты. Часовые усердствовали. Доказывали начальству: не спят!
В небе под месяцем плыли маленькие облака. Одно словно просыпалось вниз. И было под ногами, под балконом: там цвел миндаль. Расцвел не вовремя. Обманутые теплом, рванули в нем от корней вверх живые соки.
Девятнадцатого марта, ближе к вечеру, Казарский сбежал с трапа «Меркурия», на Екатерининской остановил извозчика, поехал к Воздвиженской. Дверь открыла Дуняшка. Руки - в тесте. На лбу - мучная полоса. Тонкие вьющиеся волосы пахнут ванилью, цикорием, жареным миндалем. Выпалила:
- А барин Семен Михайлович барыне с оказией письмо передал. - И без перерыва, на едином вздохе: - Была Антонина Ефимовна Клепикова, карты раскладывала, обещала барыне столько детей, что щитала-щитала, щитала-щитала, десять нащитала, со щету сбилась, так пощитать и не смогла, во-о сколько у барыни детей будет!
- Дуняшка! - донеслось сердитое из глубины квартиры. - Вот я тебе сейчас рот зашью! Чего болтаешь, не спрося!
Дуняшка прыснула, прикрыла ладошкой с засыхающими пятнами теста рот, защищая. Вылетела из прихожей пулей. Уже со стороны кухни проговорила звонко, искупая вину:
- Мы Антонину Ефимовну и не звали вовсе! И гадать не просили новее. Сама приезжала, к заутренней звала!
Клепикова была женой помощника коменданта крепости. Темная, с суховатым лицом, похожая на цыганку - верно, в ее крови и было что-то цыганское - она иногда гадала знакомым. Можно было верить картам, можно было не верить, но весь Севастополь знал: ее предсказания удивительным образом сбывались! Из комнат навстречу гостю шла Татьяна Герасимовна, смеющаяся, сознающая свою красоту. Блузка с высоким воротом и широкими рукавами, юбка из кашемира подчеркивают совершенство форм. Ее совсем не трудно было представить в окружении толстощеких, проказливых малышей, с которыми она управляется легко и весело.
- Эта болтуха Клепикова, - смеясь, проговорила она, ведя гостя к креслу, - как принялась считать моих будущих детей, как принялась, так у нас с Дуняшкой и веры не хватило. Представляете, Казарский, по головкам крестей считала! И не сосчитала. Принялась по линии моей руки считать, так тоже со счету сбилась! Потом по точкам в глазу, на свету…
- Берите в крестные! - запросился Казарский.
- Ах, Казарский! - проговорила Воздвиженская в привычном улыбчивом и, вместе с тем, не терпящим возражений, приказывающем тоне. - Я вот все смотрю на вас и думаю: «Не дам такому добру пропасть!» Погодите, дайте срок, сосватаю я вас сестре своей! Она у нас прехорошенькая-с!
И от чая, и от Дуняшкиных бисквитов Казарский отказался.
Сказал, что торопится назад на корабль. Что если Татьяна Герасимовна хочет передать письмо Семену Михайловичу - он готов.
Воздвиженская написала,
Она была все еще сердита на Стройникова. Но догадывалась, где он крейсирует. Догадывалась, куда пойдет утром «Меркурий». В Анапу уже совсем не верила, - ни Стройникову не верила, ни Казарскому. Прощаясь, перекрестила его. Сказала тихо:
- Побереги вас обоих Бог!
На корабле, в своей довольно просторной каюте, расположенной под ютом, он отомкнул бюро, положил письмо, закрыл ящичек. И в одно мгновение все отодвинул от себя, кроме одной мысли: завтра выходить. Словно и не живет совсем близко, на Малой офицерской, прелестная женщина, которая ему нравится;
словно нет Дворянского собрания, где можно вистнуть - сыграть в вист - при желании; словно нет теплого южного города, по улицам которого можно погулять. Никого и ничего нет. Есть одна мысль, серьезная, тревожащая, побуждающая к действиям быстрым и решительным: с рассветом выходим.
В музее Черноморского флота Севастополя хранится редкостнейший документ, - вахтенный журнал брига «Меркурий», заполненный почти полностью рукой Казарского. Обложка - серый тонкий картон. Листы - серая бумага. Но не грубая, оберточная. А рифленая, с выжатым рисунком. Вероятно, отбеливание бумаги полтора века назад стоило дорого. Но и тогда, когда не отбеливали, делали ее с усердием, ныне забытым. Почерк Казарского витиеват. Его сверстников начинали учить письму с уроков каллиграфии. Сегодня без помощи лупы все это и не прочтешь. В те времена вахтенный журнал именовался лагбухом.
Вернувшись от Воздвиженской, Казарский записал.
На 20 число марта.
Поутру найпервее спустить гребные суда, а потом выходить на рейд. Естьли можно будет, итить буксиром.
А. Козарский.
Предыдущие записи были такими:
На 10 число марта.
Спустить четверку и на гребных судах перевезти из адмиралтейства наши вещи. Брызгасу [29] наварку произвести еще в казарме.
А. Козарский.
Оскоблить на марсах получше пятна от смолы и сала на топах и юте.
(Да- да, в документах «Козарский», а не «Казарский»).
На 14 число марта.
При ясном утре - отдать для просушки паруса и привязать бизань. Барказ красить внутри и весла для него нарочно натертою черленью, а снаружи сажею. Над барказом сделать палатку. Об остальных баталерах я не имею никакого донесения, почему приказать новому унтер-баталеру ускорить прием содержания. Остальные работы зависят от усмотрения господ вахтенных офицеров.
А. Козарский.
На 15 число марта.
Рекомендую г. вахтенному офицеру лейтенанту Скарятину пораньше поднять положенный с кормы якорь, ошвартовать бриг кормою к берегу, поднятый якорь положить на борт. Для успешнейшей работы выслать всю команду на бриг [30] , и естьли недостанет адмиралтейского барказа, то попросить на флоте или на «Штандарте» [31] . Малярам красить под марсами. Смоленые снасти и шнур для бизани приказать выварить в доке.
А. Козарский.
На 16 число марта.
Когда канаты и перлини совершенно высохнут, убрать их на место. Протчие работы от распоряжения г. вахтенного офицера.
А. Козарский.
Естьли будет хорошее утро, то прежде крашенья отдать паруса для просушки.
А. Козарский.
На 19 число марта.
Брамсел [32] выстирать. Чехлы свезти на Аполлонову [33] и там разославши выкрасить до обеда Чтобы оне не могли при сем разтеряться, раздать их поровну каждому уряднику с осмотром, чтобы были чисты.
А. Козарский.
А вот еще одна любопытная запись, более ранняя.
На 1 число марта.
В некоторые дни прописано в лагбухе не ясно и ошибочно; а притом столь дурным почерком, что невозможно разобрать и многое пропущено. Какже лагбух есть документ остающийся навсегда в команде для показания как портовых исправлений, так и хода судовых работ, то на будущее время господа вахтенные офицеры озаботятся в верности того, что по закону должны утверждать своим подписом и будут привыкать держать лагбух в исправности с подтверждением взыскания с вахтенных.
Да, крутоват был характером он, капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский.
Война - это всегда кровь и смерть.
Требовательность - праматерь успеха.
5. ИЗМЕНЧИВОЕ СЧАСТЬЕ ИЗ «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
КАЗАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1829 г. Командуя бригом «Меркурий», крейсировал в Черном море и участвовал под Пендераклией в истреблении 60-ти- пушечного турецкого корабля.
Штурм Сизополя турки предприняли в конце марта. Сизопольцы, стар и млад, все встали на защиту крепости, дрались бок о бок с малочисленным русским гарнизоном. Весенние ветры теребили голубые знамена, простреленные пулями. И птица феникс, возродившаяся из пепла, вызывающе хлопала крыльями над крепостными башнями, словно в небе, потемневшем от пороховых дымов.
Командир эскадры капитан I ранга Скаловский ждал второго штурма в последние дни марта.
Ждал в начале апреля.
Ждал весь апрель.
И не дождался.
Скаловский сообразил: турки разрабатывают какую-то другую, новую тактику ведения войны.
В Сизополь пришла еще одна эскадра, - под командованием Грейга.
Самое бы время столкнуться с турецким флотом и учинить повторение Наварина! Однако ни Осман-паша, верховный адмирал Порты, ни Ахмет-паша, адмирал, командовавший Черноморским флотом турок, не спешили на встречу с русскими эскадрами. Скаловский ломал голову, раздумывая, что они задумали? Почему не принимают вызова русских моряков? Почему терпят оскорбительные дозоры русских кораблей вблизи Босфора? В конце концов он разгадал планы турецких адмиралов. Потеря Сизополя и неудачный мартовский штурм охладили их горячие головы. После Наварина впервые за два века уравновесились морские силы Порты и России. Осман-паша, несмотря на то, что война продолжается, решил взяться за реформу флота. Хочет вернуть и былой перевес в количестве кораблей. Разведка докладывала, что он с энергией, которая не могла не восхитить, строил новые суда. И Скаловский, горячий, щедро награжденный природой тем, что называют морской лихостью, не смог не отдать должное мудрости и выдержке верховного адмирала Порты!
Турки - судостроители отменные и опасные. Корабли создают быстрые, маневренные, легкокрылые.
Непрочно, ах, как непрочно нынешнее равновесие сил на море!
С Осман- пашой держи ухо востро!
Один из уже достроенных кораблей стоит в Пендераклии.
Пендераклия - крепость на южной кромке Черного моря, подобная Севастополю. Расположена на скалистом берегу. Два мощных форта прикрывают вход в гавань. Природа и фортификационное искусство строителей сделали крепость неприступной.
Разведка донесла: спущено на воду еще одно судно - шестидесятипушечный линейный корабль. Полным ходом идут работы по его вооружению. Мачты пока сухие (без рей). По слухам, линейный корабль должен будет носить имя «Султан Махмуд».
Услышав последнее, Скаловский словно толчок получил в самое сердце.
В 1806- ом году, во времена царствования императора Александра I, Скаловский был всего лейтенантом и командовал тогда бригом «Александр». Тогда тоже шла война с турками.
Эскадра Сенявина - в Средиземном море.
Помогает грекам отстаивать первое греческое свободное государство - Республику Семи соединенных островов.
Франция - на стороне турок.
Восходит звезда Наполеона.
И, разумеется, во французском флоте один из кораблей тоже носит имя «Наполеон», - большая, хорошо вооруженная тартана.
Случилось так, что бриг «Александр» находился в дозоре у берегов Браццо. А французы близко, в Спалетро. Там штаб генерала Мармона.
Француз любил воевать с комфортом. И под итальянским небом устраивал балы с фейерверками. Мармон послал к Браццо отряд из пяти судов именно в ту ночь, когда давал бал в Спалетро.
Черное небо освещают цветные россыпи огней фейерверка. Мармон обещает гостям сюрприз: не успеет заняться рассвет, как «Наполеон» приведет к причалу «Александра». Его острота чрезвычайно насмешила гостей.
К рассвету «Наполеон» оказался потопленным «Александром». То бишь командиром «Александра» лейтенантом Скаловским.
Туда же, на дно, пошла французская канонерка.
Остальные суда бежали.
И вот теперь, в 1829-ом, горячая голова, Скаловский, получает сведения, что у причала Пендераклии стоит линейный корабль, который будет носить имя «Султан Махмуд». Кровь взыграла в Скаловском! Да уж не перст ли тут судьбы? Когда-то командовал бригом «Александр» - утопил тартану «Наполеон». Может, и тут Всевышний приказывает: братайся, брат Скаловский, с султаном Махмудом!
Но - как?
Не объявлять же, имея всего эскадру, осаду Пендераклии?
«Чушь собачья!» - остановил Скаловский сам себя.
Прошли сутки.
«Махмуд» не шел из головы. Тянул к себе, зазывал, - ну прямо «по-братски».
А зачем, собственно, осаждать Пендераклию? Разумеется, оба форта, возведенные на мысе Баба, сооружения грозные. В амбразурах стволы орудий такого калибра, что один рев их заставит слабонервного сыграть в ящик. Но рев корабельных орудий - будь здоров! Корабли имеют преимущество перед фортами: корабли подвижны. И нужна-то малость: ветер в паруса, да удача! Прорваться сквозь огонь батарей, увести «Махмуда» как приз…
«Чушь собачья!» - остановил Скаловский сам себя во второй раз. Батареи форта спалят корабли еще на подходе!
Несерьезную мысль следовало выбросить из головы.
Но мысль не гасла.
Скаловский - богатырь с крутыми плечами, объемистой грудью,
мощным голосом, - сам был весьма похож на турка. И обладал темпераментом, каким обладает не всякий южанин с горячей, прогретой палящим солнцем, кровью. Нос у Скаловского с горбинкой. Баки черные, густые, загибаются к носо-губным складкам наподобие ятаганов. В маленьких глазках под мшистыми бровями постоянно мерцает скрытый пламень, который уж никак не спутаешь со свечением безобидных светлячков.
Флот Скаловского любил.
Ошвартуется «Пармен», флагманский корабль эскадры, у причала Сизополя, Скаловский сойдет на берег. Идет, занятый своими мыслями. Навстречу мичманок, которому еще предстоит бриться. У Скаловского форменная фуражка блином - и мичманок свою новехонькую мнет до вида ношеной-переношеной и на правую бровь ее, как у него. Скаловский толст, ноги - колонны. Мичманок - хворостина. А ногами по пирсу так же медвежит, как он, Скаловский.
Казарский и себя помнил таким же зеленым мичманом, плававшим на канонерской лодке. Жаловался тогда в письме матери: «Служба на лодке слишком безопасна и спокойна, чтобы прославить Отечество». Было такое, было в жизни Александра Ивановича. «Медвежил», под Скаловского, широко расставляя ноги, по чужим пирсам западного Причерноморья, по крутым улочкам болгарских селений. Вскидывал веки к бровям в намерении сверкнуть огнистыми щелями глаз. И обминал ненавистно новые края фуражки. Увы, фуражку Скаловского мяли не руки, а морские ветры. И сколько ни ставь широко ноги, так, как Скаловский, не пройдешь. Его походка от того, что покачали и покачали его на палубе волны.
….
Эскадра Скаловского вышла из Сизополя, намереваясь вступить в крейсерство у Анатолии.
«Нет, - думал Скаловский, - не выйдет эта лиса, Осман-паша, из проливов! Только провиант команды зря переведешь!»
Ночь вблизи берегов противника. Эскадра погрузилась в чуткий, тревожный сон. Вахтенный офицер шагал по шканцам, в напряжении вглядывался в темень, покрикивал часовым: «Впередсмотрящий! Усилить внимание!…», «Хорошенько смотреть!» Чуть-чуть посерело небо; все еще должно было спать. Но вахтенный «Пармена» вдруг, внезапно увидел открывающуюся дверь командирской каюты и фигуру командира в проеме. Шарахнулся со всех ног к командиру эскадры.
- Ваше превосходительство! Вахтенный офицер лейтенант Воскобойников! - И собирался доложить: - Курс… Сила ветра… Местонахождение…
- Отставить! - прервал Скаловский. - Сам знаю, что я - превосходительство. Барабанщика наверх.
- Есть!
Через минуту барабанщик был перед Скаловским.
- Боевую!
Раздалась призывная дробь, не умолкавшая до тех пор, пока с остальных судов эскадры не послышалась ответная. Тотчас «Пармен» наполнился топотом сотен ног. Слышались окрики, свистки боцманов. У фок-мачты, у грота, у бизани - офицеры, матросы, - каждый на своем месте по расписанию. Через минуту на «Пармене» уже ставили убранные на время дрейфа паруса. И еще лиселя с правой, и топселя.
Эскадра двинулась на Пендераклию.
На подходе Скаловский не покидал шканцев. Напряженный и страшно серьезный, время от времени отдавал скупые команды по эскадре. Открылась гавань Пендераклии, В просвете между двумя фортами - широкий и высокий корпус спущенного со стапеля корабля. Мачты все еще сухие. До этой самой минуты Скаловский побаивался, что «Махмуд» мог быть уже под парусами и тогда достать его будет невозможно. Станет маневрировать, менять позиции. «Махмуд» был гол и беспомощен, как новорожденный. Вся опасность - батареи фортов. Скаловский хмыкнул, развеселившись. Хриповатым басом, всему флоту знакомым, проговорил:
- Я думал, «Махмуд» в самом деле на Махмуда похож. А он, ребята, на меня похож! Я - бочка, и он - бочка. Ребята, корабли брали, а бочку-то не возьмем?
Воскобойников засмеялся нервно и возбужденно. Потом, когда все кончится, лейтенант в Сизополе сто раз перескажет эти слова. И они станут очередной легендой о Скаловском, флотским фольклором, притчей. Прозвучат в офицерских кают-компаниях, в матросских кубриках, на баках и ютах. И будут вызывать уже не нервный и возбужденный смех, в котором ожидание боя, а хохот, гогот, восторг:
- Я - бочка, и он - бочка. Ребята, побратаемся с Махмудкой?
Двое суток Пендераклия была в сизом дыму, пропарываемом оранжевыми всполохами сотен выстрелов. Грохотали батареи фортов. Грохотали батареи кораблей. Турки защищались яростно и изобретательно. К концу первых суток Скаловский понял: не иметь ему «Махмуда» в качестве призового судна. Но это только распалило его желания. К исходу первых суток почти все батареи фортов были подавлены.
Оставалось подавить всего два орудия левого форта. И тогда «Махмуд» будет прикрыт всего линией мелких кораблей, - как султан во дворце хлипкой дворцовой стражей. В десятом часу утра линейный корабль «Норд-Адлер» устремился в устье бухты между двумя фортами, батареи которых молчали. Но вдруг поросший кустарником берег, вчера совершенно безопасный, окутался дымом и грохнул залпами скрытых, молчавших до поры до времени батарей. «Норд-Адлер» за один залп получил столько ядер в правый борт, сколько не получил за весь вчерашний день. На корме вспыхнули пожары. Убило рулевых. Корабль повело, и слышен был болезненный скрип во всем его корпусе и рангоуте. А с берега все обрушивались на него смерчи огня. Скаловский еще раз убедился в том, что турки умеют защищаться не хуже, чем нападать. И тогда решил: спустить на воду две шлюпки. Пусть вызовутся охотники, - нужны самые отчаянные смельчаки, те, у кого морская лихость в крови. Такие нашлись. Одну шлюпку, как брандер, загрузили горючей смесью, пропитанными смолой и нефтью кранцами, ветошью. Вторая шлюпка - шлюпка-спасатель. Неприметные в дыму, обе скользнули в устье бухты. До «Махмуда» оставалось метров пять-семь. Охотники подожгли смесь, попрыгали за борта. Шлюпка - пылающий факел - продолжая движение, устремилась к кораблю. «Султан» занялся оранжево-дымным пламенем. Ветер колыхал пламя, разбрасывал искры во все стороны. Словно вся бухта горела.
Русская эскадра отошла и с внешнего рейда долго наблюдала за пожаром, в яростном огне которого «Махмуд» сгорел весь, - от верхней палубы до киля.
На обратном пути отряд Скаловсхого зашел в Акчесар, - городок вблизи Пендераклии, славившийся своей судостроительной верфью. Разведка доносила, что на стапеле верфи стоит уже готовый к спуску фрегат.
Фрегат был расстрелян с близкого расстояния, забросан брандскугелями. Сгорел. И вместе с ним сгорел стапель.
ИЗ «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
СКАЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
1829 г. Командуя отрядом из 3 кораблей, 2 фрегатов и 1 брига, сжег под крепостью Пендераклия стоявшие на рейде 1 корабль, 1 транспорт и до 15 мелких судов.
Этим бригом с составе эскадры Скаловского был бриг «Меркурий». Так команда «Меркурия» тоже «побраталась» с султаном.
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ЦАРЯ НИКОЛАЯ I
«Скаловского - в контр-адмиралы. И дать 40 крестьян».
Не каждый день русские корабли топят такого «султана», как в Пендераклии. Тут и крестьян надо пожаловать.
Но так и не стал Иван Семенович Скаловский добропорядочным усердным помещиком. Вскоре после Пендераклии был переведен на Балтийский флот, где командовал I-ой бригадой 3-ей флотской дивизии.
Двадцатого августа тридцать шестого года он скончался.
Гнев султана опаснее извержения вулкана.
Осман- паша, верховный адмирал Порты, и Ахмет-паша, командующий Черноморским флотом, стояли перед Махмудом II, опустив головы. Кожей чувствовали презрительные взгляды везиря и реиса-эфенди [34] . Рядом с ними у стены стоял длинный англичанин, рыжеволосый, с лицом в веснушках, -лейтенант Слэд. Считалось, что лейтенант бросил службу в Англии и теперь просит защиты и службы у Махмуда. Осман-паше было особенно неприятно, что в свидетелях его позора европеец.
- Собаки! - кричал Махмуд на адмиралов. - Я давно говорил о вас: сколько собаку не перекрашивай, она не станет львом!
Ахмет- паша был уже пожилым человеком, жизнь отдавшим флоту. Известие о Пендераклии уложило его в постель. И только приказ Махмуда явиться поднял.
Осман- паше вспоминать не хотелось, как они, два адмирала, пересекали дворцовую площадь. Пробирались, как по просеке в лесу, охваченном пожаром. Шутовской визг, свирепые голоса дервишей, взывающих к расправе, рев толпы, готовой здесь же осуществить суд, -раскаленный ненавистью воздух, которым и здоровому дышать невозможно.
Толпа поносила адмиралов, Осман-паше кричали в спину, что он трусливый пес с поджатым хвостом. А Ахмет-паше даже в лицо: «Ахмет попуджи», «Ахмет-попуджи». «Попуджи» - сапожник. Память людская - скверна незаживающая, язва незатягивающаяся. Стамбул, оказывается, помнил, что адмирал в шестнадцать мальчишеских лет был учеником у сапожника. А какой храбрости можно ждать от сапожника?
От резкого голоса султана Ахмет-паша опять ощутил стеснение в груди. Осман-паша почувствовал на мгновение на своем плече его навалившееся плечо. Он переступил с ноги на ногу так, чтобы понадежнее поддержать Ахмет-пашу. Слабость дряхлеющего адмирала не укрылась от зорких глаз Махмуда. «A-а, беззубая гиена! Командир Черноморского флота хватается за сердце и трясется, едва услышав мой голос. И такой смеет командовать флотом!» Словно земля, подымаемая могучими глубинными силами, послала новый толчок, вулкан грохнул, выбросив на адмиралов лаву огня. Смуглое лицо Махмуда побагровело. Он кричал, что он знает, что надо сделать с такими трусливыми собаками, как два его адмирала. Он прикажет зашить обоих в мешки и бросить в Босфор. Но прежде оба увидят, как он раздаст их жен дервишам. А сыновьям их выколят глаза на их глазах!
До той минуты Осман-паша не чувствовал никаких неудобств со своим собственным сердцем. Но тут и у него сердце зашлось, пропустило удар. Он-то знал, сколько бы Махмуд не привечал европейцев, в гневе он не европеец, он мусульманин. И глаза сыновьям выколет. И жен раздаст грязным, нищим дервишам. Те, получив нежданный дар, в тот же день уйдут из Стамбула. Никому их потом не найти.
Понимая, как плохи дела, Ахмет-паша собрался с силами.
- Повелитель! - проговорил он. - Повелитель! Если ты допустил меня, низкого, до света очей твоих, пронзающих небосвод, разреши, чтобы слово мое дошло до слуха твоего!
Махмуд, гневный, лицо в пятнах, - остановился, полуобернулся.
- Повелитель! Можно вырвать тысячу языков у жителей Пендераклии, но остальные все равно скажут: топчи-баша [35] Алескер защищал форты мужественно. В бортах русских кораблей застряло много ядер…
- Попуджи! Попуджи!! Попуджи!!! [36] - затопал ногами султан Махмуд.
На бледно-желтом лице Ахмет-паши мука: разве его слова не стоят того, чтобы быть услышанными? Осман-паша глянул на него, жалея старика: помолчи, Ахмет-паша, иначе твоему лекарю не надо будет лечить тебя. И выступил вперед сам.
- Повелитель! - Осман-паша взглянул на султана с мольбой выслушать. - Клянусь аллахом, победы еще будут у нас. Кораблей у нас не меньше, чем у русских. Наши мастера - хорошие мастера. Наши корабли - хорошие корабли. Наши моряки - хорошие моряки. Аллах послал испытание, аллах пошлет и радость. Русский генерал Кутузов уклонялся от сражений, а потом победил. Молю небо об одном: пусть аллах пошлет нам терпение!
Верховный адмирал взглянул на везиря и реис-эфенди, прося поддержки. Но увидел: не поддержат. Везирь был подавлен. Позор Пендераклии - его позор. Реис-эфенди молчал и злорадствовал.
- Повелитель! - продолжал адмирал. И взглянул на последнего из присутствующих, на рыжего англичанина. Англия - союзница России. Но лейтенант Слэд не союзник ей. Англичанин хочет поступить на службу в турецкий флот. Ему быть в подчинении у капудан-паши. Англичанин должен поддержать. - Повелитель! Я приму смерть, раз я не стою жизни. Нельзя прекращать дело, которое мы начали. Или наш флот станет другим флотом, таким, как в Европе, или мы потеряем все наши корабли. Ни в одной стране реформы не проходили гладко. У адмирала Нельсона несчастий было не меньше, чем у меня. Но он стал главным адмиралом Нельсоном потому, что никакие несчастья не заставили его отказаться от реформ в королевском флоте. Нам нужно терпение!…
Султан не перебивал его, слушал. И у верховного адмирала затрепетала в сердце надежда, крохотная и робкая, как пойманный воробей.
- Повелитель, не отдавай приказа флоту выходить в море! Грейг только этого и ждет. Выйдем - много потеряем. Сохраним корабли - завтра ты, повелитель, зашьешь Грейга в мешок и пустишь с борта «Селимие» в Босфор.
Султан слушал.
Осман- паша настойчивее взглянул на англичанина: крохотную бы поддержку со стороны, и Махмуд II, верно, согласится!
- Здесь стоит лейтенант Слэд, - проговорил он, убеждая, - спросим его, повелитель, был ли терпелив Нельсон, когда судьба обрушивала на него удары?
Взглянул на англичанина, выжидая, Махмуд.
- Балахум! [37] - проговорил Махмуд, разрешая говорить постороннему.
Лицо у англичанина отсутствующее, стороннее.
- У Великой Порты, - проговорил англичанин с таким видом, словно один из всех владел тайной до конца, - ты, повелитель, считаешь, имеется два врага: владычица морей, Британия, и могущественный северный лев, Россия. Но у Порты - три врага!
- Аллах керим! - замахал на него руками султан Махмуд. - Что ты говоришь? Какой еще третий враг? Разве двух мало?
- Третий враг, повелитель, самый страшный. Третий враг - нерешительность адмиралов Порты. Где можно атаковать - твои адмиралы выжидают. Где можно войти в сражение - уклоняются. В результате где можно победить - терпят поражение.
Уязвленный, Осман-паша смотрел на англичанина, глазам своим не веря. Он, что, этот лейтенант, собирается в турецком флоте командовать адмиралами? Почему так уверен и дерзок? Враг России, будет ли он другом Порте?
Но Махмуд принял, как должное, дерзость англичанина. Из дальнего угла кабинета он пошел на адмиралов, грузный от гнева:
- Ни одна собака не забежит во дворец Долма-бахче, даже если ворота открыты. Знает, мои псы разорвут ее…
И оборвал себя на полуслове: прием окончен.
Итак, адмиралы - псы.
Псам приказ - догнать русских и разорвать.
Приказ - гибельный. Гнев залил глаза Махмуда. Махмуд слеп от гнева.
Но почему англичанин, поступающий на службу к султану, с самого начала предпочитает предательство поддержке? В то, что он будет вредить России, верить можно. Но не будет ли он заодно вредить и Турции?
… То было первое предательство Слэда, тяжело пережитое Осман- пашой. Впереди были еще более тяжелые. Два десятилетия спустя Слэд, капитан I ранга, станет командиром фрегата-парохода «Таиф». Его будут звать Мушавер-пашой. Но и сменив имя, Слэд не станет турком. В Синопском бою, самом трагическом для Осман-паши, в разгар сражения «Таиф» бросит строй турецких кораблей и на всех парах, под всеми парусами помчится в Константинополь, чтобы отправить в Лондон чрезвычайное сообщение: адмирал Нахимов разбил Осман-пашу, Турция без флота! Лукаво вступив на службу к султану, англичанин совсем не собирался гибнуть в день гибели турецкого флота.
Но пока до погибели флота Порты было далековато.
Равновеликие флоты - в борении друг с другом. Кто кого?
… С тяжелым сердцем Осман-паша ступил на набережную и, услышав знакомый голос, нехотя повернул голову. Его шут Пезавенг скандалил с лодочниками. Как султан грозил адмиралам всеми земными и небесными карами, так Пезавенг грозил лодочникам всеми карами, которые обрушит на них верховный адмирал Порты Осман-паша, если они его, любимого шута, не доставят на «Селимие». Пезавенг мог бы не скандалить, а заплатить лодочникам. Но в его карманах не было ни пиастра.
Осман- паша ступил на борт адмиральского катера, оставив Пезавенга скандалить.
«Селимие» - на рейде. Прекрасный корабль, творение искуссных турецких мастеров. На гафеле огромный флаг, - красный с тремя полумесяцами, на грот-брам-стеньге его, адмиральский флаг, тоже красный, тоже с полумесяцами. На борту «Селимие» пушки, искусно отлитые. На каждой - орнамент арабских букв, слагающихся в устрашающие фразы: «Врагу - лишь смерть», «Гром низвергающая», «Гнев аллаха».
Собственная участь мало волновала адмирала.
Его сердце оплакивало флот Турции.
Не могло быть ничего бессмысленнее приказа выходить сейчас в море и искать встречи с крупными силами русских.
Угрюмые думы, как воры, пробирались в сумрачные тайники мозга. Ни один палач мира не мог бы сделать ничего, чтобы заставить адмирала высказать свои мысли вслух.
Беда Порты родом из дворца, из Долма-бахче.
Мастеру, умеющему создавать такие прекрасные корабли, как «Селимие» и «Реал-бей», надо говорить: «Ты -Мастер! В твоем умении - воля аллаха!» Когда же в Долма-бахче Мастеру говорят: «Ты - собака!», - корабли Мастера гибнут. Когда в Долма-бахче цена адмиралу меньше, чем дворцовой собаке, адмиралы проигрывают сражения.
Осман- паша поднялся на борт «Селимие». Толпа офицеров -богато одетых прихлебал! - бросилась к адмиралу. Кто с фарфоровым кальяном, уже раскуренным, кто с пустыми руками, но с тем выражением готовности на лице, которого даже у Пезавенга, любимого шута, никогда не бывало! Сдуть пылинку - пожалуйста. Почесать за ухом - пожалуйста. А пожелает капудан-паша, его подымут на руки и понесут, куда прикажет, - в его ли каюту с резными балконами на юте, на кушетку ли посреди палубы.
Осман- паша осмотрел офицеров. Каких только одежд тут не было! Расписные куртки из выделанной бараньей кожи, шальвары всех цветов, антери (вид поддевки) еще более яркие, кушаки, богато вышитые, с сапфировыми, а то и алмазными вкраплениями. Не было только того, что было необходимо: единообразия формы, как на русских кораблях, как на кораблях англичан, как на кораблях французов.
Шут Пезавенг перескандалил лодочников. Его подвезли к борту «Селимие», и он поднялся вслед за адмиралом.
Осман- паша бросил взгляд на корму. За бизань-мачтой множество матросов. Одни спят, другие играют в нарды, третьи обедают, четвертые уединились с четками. Эфенди Чингиз, топчи-баша (главный артиллерийский офицер), сидел на запасном рангоуте с опущенной рубашкой на коленях и прилежно искал кровожадных нарушителей своего послеобеденного отдыха. Осман-паша сказал с горечью:
- Я вижу, наши храбрецы пали при Наварине. Теперь у нас на корабле чабаны, а не моряки. Они могут бить блох и не могут бить русских!
Кто- то в свите несмело засмеялся, кто-то счел за лучшее состроить мину постного почтения.
Шут Пезавенг, самый большой храбрец, единственный, кто на борту «Селимие» не боялся адмирала, взбросил лохматую голову, искоса стрельнул глазом: если хочешь, я щелкну эфенди Чингиза в лоб так же, как он щелкает блох?
Осман- паша не захотел. Эфенди Чингиз был хорошим артиллеристом. Не его вина, что он сейчас щелкает блох, а не сидит в своей каюте, подобно лейтенанту Слэду, над книгами по баллистике. Глаз у эфенди Чингиза точный, руки такой силы, что он и без помощи матроса может управляться с пушкой. Он лучше офицер, чем рыжий Слэд. Судьба у него хуже.
- Готовиться к выходу в море! - приказал Осман-паша.
Вся свита выразила шумное удовлетворение решением адмирала. А шут бросился ему под ноги. Перекувыркнулся. Сказал, заглядывая в лицо снизу, преданно и плутовски вместе:
- Вот так перевернется русский адмирал под победоносным громом твоих пушек! - Вскочил. - И вот чем я буду его приветствовать!
Пезавенг дал пинок русскому адмиралу. Пока в воздухе.
Офицеры засмеялись.
- Пезавенг! - улыбнулся адмирал. И пребольно потянул шута за ухо. Он в самом деле любил своего шута, давно уже немолодого. Кряжистого, нестройного и очень ловкого. Любил выражение его лица, в котором была не глупость, а хитрость. - А ведь мой приказ не для твоего длинного уха. Я велю пригвоздить твое ухо у двери моей каюты!
Пезавенгу было больно. Но ему положено было смешить людей своей болью.
- Тогда дурак будет слышать тайны мудреца!
- Не страшно! Я велю зашить дураку рот!
Пезавенг бесстрашно осклабился.
- Но что же ты будешь делать тогда без моего языка?
Молодец Пезавенг! Нашелся!
Осман- паша засмеялся и отпустил ухо.
Шут тотчас воспользовался доброй минутой, заклянчил, показывая на лодочников за бортом «Селимие».
- Накажи, накажи вот этих гребцов! Они сначала не хотели Пезавенга везти на своей шлюпке, а теперь не принимают шуток Пезавенга за пиастры! Чем мне платить, если я сам ничего не получаю?
Это было почти правдой: жалованье у шута было малое. Как и у всех. Моряку полагалось жить не жалованьем, а победами и добычами.
Осман- паша бросил горсть пиастров гребцам. Подумал с горечью: «Пезавенг понимает: «Морякам надо платить жалованье, а в Долма-бахче, где каждый мнит себя мудрецом, не понимают того, что понимает шут!»
На широте мыса Инабас, где разведка видела русские корабли, их не было. Не было и у Пендераклии той эскадры, которая спалила линейный корабль. Печальное зрелище представляла собой Пендераклия. Обугленные остовы зданий в военной гавани, в черной копоти стены разбитых фортов. Печальную картину представлял собой Акчесар. С моря видно было, по останкам стапеля ползали люди, как черные муравьи. Люди есть люди. Люди разрушают построенное. Люди восстанавливают разрушенное.
Осман- паша не знал, на что решиться.
Ему не хотелось идти на Сизополь, - хотя, если он ищет русских, он там их найдет.
Может быть, гнев отпустил султана Махмуда и аллах вернул ему разум, холодный и расчетливый?
Войти в Босфор?
Но как же войти, если никто не скажет, в каком настроении Махмуд?
Султан - правитель с вулканом в груди. А служба капудан-паши - служба зависимая, служба терпеливая.
Если султану нужен адмирал-герой - Осман-паша погибнет. Но бедная Турция! Она-то знает, как ей нужен живой Осман-паша! Кто лучше его проведет реформы на флоте, сделает его таким же сильным и грозным, каким он был четыре века?
У неверных бывают светлые мысли. Русские говорят: «Беда одна не ходит».
Осман- паша, за время похода почти не сходивший со шканцев, шел на «Селимие» в предчувствии поражения. Шестнадцать кораблей было в его эскадре. И он, стравленный гарью сумрачных сомнений, скованный тяжкими предчувствиями, видел уже их в дыму и зареве неутолимого огня. Корабли -деревянные. Перед тем, как вспыхнуть, они вдруг начинают источать острый, первородный запах смолы, от которого, сколько ни служи, сердце переворачивается, как переворачивается оно от предсмертной молитвы близких. Невозможно привыкнуть к тому, как падают на палубы громады мачт. Поначалу они разогреваются в огне. Шипят, разгораясь. И лишь потом, как дерево, подсеченное лесным пожаром, рушатся, увлекая за собой все части рангоута, погребая под вспыхнувшими парусами людей.
Словно сам сатана щелкал бичом в душе Осман-паши. Он сомневался, принимал одно решение, отказывался от него, и принимался обдумывать новое.
В ночь на двенадцатое апреля на море пал туман. Корабли шли в полной боевой готовности. Эфенди Чингиз уже не ловец блох, а настоящий топчи-баша, артиллерийский офицер, изготовивший все орудия к бою. Матросы, тревожные и готовые к любому повороту событий, стояли у своих снастей, быстро и умело исполняли приказы мачтовых офицеров, - потравливали или выбирали шкоты, не выпускали из парусов и малого ветерка. Но ни Ахмет-паша на борту «Реал-бея», ни командиры остальных четырнадцати кораблей не могли понять курса, выбираемого главным флагманом. То им казалось, что эскадра идет на Сизополь. То, казалось, возвращается в Босфор. Флагман опять и опять менял курс. Эскадра утюжила море между Пендераклией и Акчесаром. И командиры не понимали: неужели капудан-паша думает, что русские корабли вернутся туда, где они уже спалили все, что могло гореть, разрушили все, что могло разрушиться?
Чтобы в тумане суда не столкнулись со своими же судами, Осман- паша приказал эскадре разделиться на две колонны. Одна следовала за «Селимие», вторая за «Реал-беем».
Проходили часы за часами, туман густел. Серо-молочные замки возникали по носу корабля, за бортом. Верховой ветерок все же еще был. И ловя его верхними парусами, эскадра понемногу продвигалась. Молчаливые, замки опадали в одном месте и возникали в другом. Из полосы сплошного тумана корабли выходили вдруг на чистую воду. Проходили пространство и опять входили в полосу высоких и мягко пробиваемых бушпритами замков.
За всю ночь Осман-паша не проспал и двух часов. Хотя на «Селимие», как на любом флагманском корабле, был командир, - Курбан-бей, опытный капитан.
В шестом часу утра Осман-паша уже был на палубе. Ветерок начинал трепать туманные крепости. Пробивал в них бреши. Наскакивал на вершины башен и развеивал их.
- Вижу корабль! - вскричал сигнальщик с высоты марса.
Десяток труб направились туда, куда показывал матрос. Взбросил трубу к глазам и Осман-паша. В фантастической близости - как раз в просвете между двумя колоннами турецких кораблей - возник русский корабль. Осман-паша разглядел андреевский флаг и опустил трубу. Русский корабль был так близко, что его не надо было разглядывать через трубу. Можно было не только сосчитать его мачты - их было три - но даже пушки на его борту. И этот русский корабль был один-одинешенек. За ним не просматривалось ни двух-трех кораблей, которые обычно составляют дозорный отряд. Ни, тем более, кораблей эскадры, вышедшей в полном составе. Хочешь верь своим глазам, хочешь, не верь, но вот он, корабль врага в коридоре, образованном двумя линиями кораблей эскадры!
- Пезавенг… - прохрипел Осман-паша.
Все- таки он не мог до конца поверить своим глазам. И ему хотелось проверить свои глаза острыми глазами шута. А ну как все эти серовато-белые паруса -всего туманное наваждение? И этот беззвучно ползущий по тусклой глади моря корабль можно так же проколоть бушпритом, пройти сквозь него, как проходили через туманные замки и через туманные рощи.
- Барабанщиков! - во весь голос зыкнул Осман-паша. И сам удивился своему зычному басу, которого, как грозы, боялся весь флот. В последнее время он отдавал команды сиплым хриплым голосом, который сам ненавидел.
Первые барабаны ударили на «Селимие». Мгновение спустя их бой удвоили барабаны «Реал-бея». А через минуту умножили барабаны на бортах всего флота. О, Осман-паша знал, как подавляюще действует на нервы врага монотонный, заунывный бой огромных турецких барабанов, которые обтягивают шкурой волов только одной-единственной породы - сарыузунской. Знал, как действует, когда в такой близости черные глазницы орудийных стволов, в три яруса заполнивших порты «Селимие», в два «Реал-бея», и когда на всех шестнадцати судах эскадры орудий более восьмисот.
Русский корабль был добротен и прочен. Осман-паша ощупывал его взглядом и видел, это не дряхлая фелюга, отжившая срок. Очевидно, корабль бежал на Кавказ. На Кавказе воюют две армии. Видно, корабль спешил. Подняты все, решительно все паруса, и основные, и дополнительные. Но попробуй-ка, побеги, когда туман клочьями повисает на парусах, покинутых ветром.
- Пезавенга ко мне!
Но Пезавенг уже стоял за спиной Осман-паши. У Пезавенга было, кроме всех прочих достоинств, еще одно: он сносно знал русский.
- Пезавенг! Кричи, чтобы опускали паруса!
Кто- то сунул в руки Пезавенга рупор. И тот крикнул:
- Эй, сдавайся! Убирай паруса!
Барабаны всей эскадры били: на шести линейных кораблях, на трех фрегатах, на пяти корветах и двух бригах.
Сотни черных стволов глазами-глазницами примеривались к цели.
Осман- паша опять вскинул трубу. На борту русского корабля, вызванный вахтенным офицером, показался командир. Его стоило рассмотреть получше.
Капитан русских - большеголовый, быковатый мужчина. Эполеты на широких плечах привычны. Грудь крутая, пропитанная не пылью адмиралтейских канцелярий, а солью морских ветров. Командиры кораблей всех флотов - под чьими бы флагами ни плавали - в походах почти не спят. Разве дремлют. Корабль - что государство с замкнутыми границами. Командир в этом государстве за все в ответе. Быстрее всего, этот капитан в люстриновом сюртуке с золотыми эполетами не спал часов до трех, до четырех ночи. И вот теперь, когда его вызвали из его каюты, ему хочется крикнуть своему Пезавенгу: «Ущипни меня, Пезавенг! Ведь это наваждение тумана, все эти корабли с обоих бортов?» Впрочем, у русских командиров шутов нет. Даже у адмиралов.
Как сладко входить в думы, входить в чувства человека, который, пораженный бедой, обмер, стоит недвижно под наведенными орудиями! Осман-паше казалось, что он видит мозг этого русского до последней извилины, видит его душу, словно сам ее рисовал. Если корабль бежал на Кавказ, чтобы войти в крейсерские отряды, он мог иметь путь и прямее, держа курс на Батум. Но он спустился к Пендераклии. Капитан, быстрее всего, человек с самолюбием. И, честолюбивый, возбужденный победой своих товарищей, уязвленный неучастием в сражении, сам искал, не попадется ли ему по пути на Кавказ какое-то недобитое судно. Хотел схватиться с ним и победить. Одного не ждал смельчак - встретить не одинокое судно, а эскадру.
Что теперь он предпримет?
Пезавенг, войдя в азарт, орал оглушающе в рупор:
- Сдавайся!… Убирай паруса!…
Осман- паша вспомнил, какие тяжкие мысли отравляли его. Вспомнил, как, не приходя ни к какому решению, он и сам не знал, зачем утюжит море между Акчесаром и Пендераклией. Но теперь мозг его был так же светел, как зорки глаза. О, низкий смертный, не смей роптать на аллаха! Ибо где же тебе, червю земному, знать помыслы всемогущего? Не он, Осман-паша, держал эскадру между Пендераклией и Акчесаром, аллах держал его, Осман-пашу, здесь.
Так что же предпримет русский капитан? Палуба русского корабля полнилась офицерами и матросами.
Осман- паша в великом волнении наблюдал за своим главным врагом, капитаном.
Уйти русский не может.
Уйти ему не дадут.
Войти в бой и победить не может. Прежде чем на борту русского вспыхнет хоть один фитиль у карронады, корабль будет затоплен лавиной огня.
Или взят в абордажном бою.
- Сдавайся!… Сдавайся!… Убирай паруса! - орет Пезавенг таким голосом, что одному аллаху ведомо, как выдерживают его голосовые связки.
Победить русский корабль не может. Но погибнуть может.
Что же ты предпримешь, русский капитан?
Эфенди Чингиз глаза не сводит с капудан-паши. Один взмах руки - и левый борт «Селимие» изрыгнет огненный вал.
Осман- паша смотрит в трубу.
Крупноголовый, русский склоняет шею. Могучий и стройный, опускает плечи, на которых все еще мерцает золото эполет. Бравый, становится мешковатым.
О, аллах! Стоило жить не земле, чтобы увидеть эту минуту превращения!
Русский подымает руку.
Для чего подымает?
А ну как все-таки для того, чтобы отдать приказ бомбардирам: «Огонь!».
Рука двигается медленно… немотно… через силу…
Засуетились мачтовые матросы.
Дрогнул, как хохолок у нарядной птицы, верхний парусок. Как перышки у подбитой, подобрались нижние косые лиселя. Дрогнул брамсель. Дрогнул марсель. Андреевский флаг пополз вниз.
Не первый десяток лет ведет Осман-паша войны на море.
Было, - русские брали в плен турецкие корабли и называли их «призами».
Было, - турки брали в плен русские корабли. Но брали обгорелые останки. Брали после кровавых боев.
Но двенадцатого апреля 1829 года на траверзе Пендераклии произошло то, чего никогда не бывало. Русский корабль спустил флаг, не дав ни одного залпа.
В радостном просветлении Осман-паша сказал - и голос его опять был его голосом, зычным молодым басом - что знает, как надо переименовать этот корабль русских.
- Он будет называться «Фазли Аллах»!
«Фазли Аллах» - «Дарованный Богом».
Аллах взял в Пендераклии недостроенный корабль.
Аллах дал корабль достроенный, под всеми парусами, со всем артиллерийским вооружением.
- Милость аллаха с нами! - вскричал Осман-паша.
И все те, кто тесной толпой стоял у него за спиной, на разные голоса закричали:
- Милость аллаха с нами!
- Аллах с нами!
- Аллах-бисмаллах-алаллах!
Все кончается. Кончится со временем и русско-турецкая война 1828-1829 гг. Используя неофициальные связи - через людей графа Канкрина, министра финансов - турки предложат России произвести обмен пленными: командира русского корабля, взятого в плен, поменять на помощника коменданта Анапы Теймураз-бея, племянника везиря Порты. Вместе с ними обменять семьдесят человек команды бывшего русского корабля на семьдесят турок, попавших в плен при сдаче Анапы. Адмирал Моллер положит на стол Николая рапорт: из команды фрегата в 210 человек, взятых в плен, осталось в живых всего-ничего. Страшен турецкий плен. Командир, тоже выживший, может быть доставлен в Севастополь. Корабль, переименованный в «Фазли Аллах»
(«Дарованный Богом»), в строю турецких кораблей.
Гневный, Николай написал на рапорте, думая о командире:
- Разжаловать… В рядовые…
И все более гневаясь, распаляя себя, уточнил:
- Без срока службы!… Без права женитьбы!… Дабы не плодить в русском флоте трусов!…
Так рассказывают…
6. ВЕТРЫ БОСФОРА
Три военных корабля: фрегат и два брига, - слегка накренившись, похожие на чаек на ветру, - шли под всеми парусами с боковым ровным зюйд-вестом к Босфору, в район крейсерства. Утро просыпалось чудесное. Солнце всходило, окрашивая западную, темноватую еще часть неба волшебно-нежными полутонами. Море, тихо рокоча, с ровным гулом несло фиолетовые, непроснувшиеся зыби, покачивало ласково. Алмазная пыль брызг доставала бушприты. До Босфора оставалось восемнадцать миль.
Как всегда в походе, Казарский едва спал. Так, дремал по два-три часа в каюте. И опять поднимался на палубу, напряженный, зорко наблюдающий за всем на корабле и в море, хладнокровный и решительный.
Занималось утро 14 мая 1829-го года. На вахте стоял второй лейтенант Новосильский Федор Михайлович, молодой офицер двадцати шести лет, шутник, рассказчик бесчисленного числа анекдотов и при всем этом моряк с истинной «морской жилкой». Хотя мягкостью он не отличался, матросы любили его за нрав открытый, незлобивый. И когда лейтенант перед выходом из Сизополя потребовал от матросов: «Чтоб на постановку парусов - три минуты! Не больше! Чтоб паруса горели!» - мачтовые поняли лейтенанта и сердцем приняли его требование:
- Не оконфузим «Меркурий», вашскородь, - заверили они, улыбаясь. - Нешто мы подлецы какие, да совесть зазрит, естьли воронами окажем себя перед «Штандартом».
Между собой матросы звали лейтенанта «гардемарином». Прозвища матросские не лишены меткости. За вахту лицо лейтенанта чуть осунулось, но так и не потеряло мальчишеского норова и ровного румянца.
Казарский вышел из своей каюты и не без удовольствия взглянул на занимающееся утро, на светлеющее море, на молодое лицо второго лейтенанта. Поднял голову, оглядел паруса и такелаж. Марселя, брамсели
стоят отлично, шкоты выбраны. Молодец «гардемарин»! Казарский взял у вахтенного трубу и ревнивым взглядом впился в «Штандарт» сначала, потом в «Орфей». Фрегатом «Штандарт» командовал капитан-лейтенант Сахновский, бригом «Орфей» - капитан-лейтенант Колтовский. Общее командование отрядом - у Сахновского. Колтовский и Казарский ровесники, каждому по тридцать два. Сахновский, ученик самого адмирала Ушакова, был много старше. Дока в морских делах, знаток парусов, Сахновский слыл лихим моряком. Трехмачтовый фрегат, стройный, изящный и красивый, бесшумно скользил по воде, устремленный к чужому проливу. Казарский вглядывался, надеясь увидеть какую-нибудь неисправность в постановке парусов, в том, как на фрегате обрасоплены реи. Но глазу его не к чему было придраться. Полюбовавшись несколько минут «Штандартом», скользнул глазом по «Орфею», сказал, улыбаясь:
- Хорошо идут!
Лейтенант, ревнивый к достоинствам чужих кораблей, возразил уверенно:
- И мы не хуже!
Быть «не хуже» «Меркурию» трудно. «Штандарт» и «Орфей» сделаны из легких и прочных пород северных сосен, «Меркурий» из тяжеловесного крымского дуба. Когда вышли из Сизополя, «Штандарт» с «Орфеем» с легкостью оторвались от «Меркурия». Видя это, Сахновский убрал часть парусов, уменьшил бег. Оба корабля пошли без брамселей. Деликатность командира отряда вызывала признательность в душе, и, вместе, задевала за живое. И Казарский записывал в лагбухе:
«В продолжении ночи следовать движениям «Штандарта» и стараться держаться на ветре вперед его траверза. Равно дать мне знать, естьли он («Штандарт») уйдет вперед на 6 румбов от нашего траверза, а мы под теперешними такселями не будем в силах держаться за фрегатом».
Маневрируя парусами, прибавили ход сначала на четверть узла, а потом больше. От «срама» избавились. «Штандарт» и «Орфей» подняли брамсели. И командир «Штандарта» просигналил флагами, что ходом «Меркурия» доволен.
На шканцы вышел первый лейтенант Сергей Иосифович Скарятин. Скарятин, такой же постоянно недосыпающий в походах, как и командир, был постарше Новосильского. Ему тридцать. Статный и привлекательный красавец, он был родом из известной флотской семьи Скарятиных. Кончая морской корпус, вполне мог остаться на Балтийском флоте среди «теткиных детей». Так кадеты Петербурга называли всякого рода «протеже». Но оказался по своей воле на воюющем Черноморском. Скарятин стоял, поеживался от утренней свежести, подавляя зевки. Пока еще не совсем расстался со своей жесткой подушкой, на которой бы еще спалось и спалось. Но вот пробьют шесть склянок. На палубе начнется обычная усердная утренняя чистка корабля. И старший офицер, как шенкелей от кого получит. Встрепенется. Будет возникать то на корме, то на носу, то на нижних палубах. Принимать доклады усердствующих унтер-офицеров, надрывающего хриплую глотку боцмана Конивченко. Ничего не принимая на веру, проверять, хорошо ли проведена приборка. Покрикивать по ходу на матросов:
- А ну, шевелись! Шевелись! На военном корабле бегают, а не ползают!
И на лице будет привычное вызывающе-веселое выражение.
- Ветерок-то славный, - пожелав доброго утра командиру и вахтенному, не без удовлетворения проговорил Скарятин. Засмеялся: - А хорошую мы набрали скорость. Шли бы в кильватер «Орфею», отдавили бы ему пятки!
- Не люблю я эти майские ветры! - поморщился Новосильский. - Ненадежны. С утра дует-дует ровный, только ты в него поверил, а он взял да скис.
- Уже близко, - не обеспокоился Скарятин. - Тут и в дрейф ляжем, так не беда.
Казарский держал трубу у глаз, вглядываясь в горизонт.
Зюйд чист. Солнце поднялось еще. Море из фиолетово-темного превращалось в синее, а полосами - в зеленоватое, малахитовое. Волнистое безбрежье дышало прохладою. Казарский повел трубу левее. И увидел облачко. Словно в дали-дальней кто-то, невидимый и неслышимый, выстрелил. Шли минуты. На линии горизонта, где небо сходится с морем, на равном расстоянии один от другого вспухали белые облака «разрывов». Но даль так и не донесла ни единого звука.
И когда Казарский внутренне дрогнул, догадавшись, что это за «облака» на горизонте, марсовый матрос, с высоты тоже через трубу смотревший на горизонт, крикнул:
- Вижу корабли!
- Сигнальщик! - окликнул Казарский. - Флаги: «Вижу корабли».
На «Штандарте» и «Орфее» тоже увидели. Выстрелили сигнальные
флаги.
- Барабанщиков! - приказал Казарский.
Вахтенный бегом бросился вниз, в кубрик.
Через минуту барабанщики Данилов и Майоров, флейтист Филиппов стояли перед ним.
- Тревогу!
Утренняя тишина - вдребезги. Топот десятков ног по трапам и на палубе. Свистки боцманской дудки, поторапливающие окрики унтер- офицеров, грохот ног бомбардиров, с разбега останавливающихся у карронад. И вновь тишина под парусами. Но уже совсем другая тишина, в ней тяжеловесная немота грозовой тучи. Недвижно застыли у снастей матросы, - по расписанию одни у фок-мачты, другие у грот-мачты. Застыли в ожидании команды те из них, кому предстоит взлететь по вантам на реи, чтобы поднять дополнительные паруса.
«Штандарт», не меняя курса, продолжал осторожное сближение. Турки были усмотрены в направлении зюйд-зюйд-ост и шли контр-галсом к крейсерскому отряду русских. Хотя почти не было сомнения в том, что впереди по носу вражеские корабли, а не свои, возвращающиеся после крейсерства у кавказских берегов, надо было вполне увероваться в этом. И только тогда, сделав разворот «все вдруг», лететь в Сизополь с донесением: «Турецкий флот в море».
- Из Пендераклии идут, - усмехнулся Казарский. - Нас там искали!
Скарятин улыбнулся.
- Долгонько в путь собирались! Ищи теперь ветра в поле.
На шканцах в полном сборе были все офицеры «Меркурия». Пять человек: капитан-лейтенант Казарский, лейтенанты Скарятин и Новосильский, мичман Притупов, поручик корпуса флотских штурманов Прокофьев. Вблизи шканцев, у бортов, боцман, унтер-офицеры, подшкипер, фельдшер, кое-кто из матросов. Все вперились глазами в горизонт.
- Вижу четырнадцать вымпелов! - доложил марсовый, матрос Орехов.
Солидный флот бросили турки на Пендераклию. Опоздали! Расторопнее надо быть. Поторопились бы, когда еще чадили головешки сожженного «султана».
Скарятин мгновенно проснулся. На его красивом, мужественном лице задор: вот славненько-то сейчас будет. Вдруг, нежданные, незванные, возникли перед глазами турок, уже обозленных Пендераклией; и исчезли так же внезапно, как возникли. У Притупова, быстрого в счете, губы в улыбке.
Еще и не разглядев, какого класса корабли, стараясь угадать, прибрасывает в уме, сколько может быть стволов на борту.
Штурман Иван Петрович Прокофьев, самый старший по возрасту из офицеров «Меркурия» - ему тридцать шесть - обеспокоился первым. Иван Петрович - человек без юмора. Храбрый и хладнокровный в бою, он, как все штурмана, всегда слишком озабочен. Признает лихие улыбки только тогда, когда опасность позади. Суеверный, преждевременные считает дурной приметой. В лейтенанте Новосильском Прокофьев нашел единомышленника. Новосильский морщился от майских ветров, считая их ненадежными. Прокофьева майские ветры сердили. Высокий, носатый, костистый, с сероватыми, начинающими седеть волосами, он с сердцем поправил лейтенанта:
- Думаете-с, Федор Михайлович, они озорники-с, эти майские ветры? Они преподлейшую шутку могут состроить-с, доложу вам! Вот какие это озорники-с!
И с беспокойством закрутил головой, поглядывая на небо. Подставил ветру бритую щеку с каменно-твердой плитой скулы, пытаясь определить, насколько они будут сегодня надежными. Он знал все течения Черного моря. Они были изучены, их можно принимать в расчет при прокладке курса. Серьезному человеку можно с ними вступать в дело. А вот ветры не то! Обезнадежат в одну минуту!
Казарский слушал разговоры рядом с собой и неотрывно смотрел вдаль. В круглом поле зрительной трубы качались вдали на малой волне белые пирамидки.
Мгновение, и словно кто дохнул на них.
- Мы замечены! - прокричал с салинга марсовый.
- Погоня! - выговорил Казарский.
Его слова прозвучали в полной тишине.
Но крейсерский отряд продолжал курс на сближение. В круге трубы быстро увеличивались корабли неприятеля. Вот уже стало видно, что первыми идут два линейных корабля, - один самого высокого класса, стодесятипушечный, второй классом ниже, семидесятичетырехпушечный.
- Линейных - шесть, - докладывал сигнальщик. - Один из них трехдечный, остальные двухдечные. Фрегата два. Корветов пять. Бриг один.
Казарский уже и сам видел, под адмиральскими флагами шли флагманы Черноморского флота турок: «Селимие» и «Реал-бей». Вон кого подняла Пендераклия! Матерых медведей разбудили среди зимней спячки!
Как только прояснилась обстановка и определились размеры опасности - странное дело! - Казарский почувствовал, как погасло в его душе волнение, которое он ощутил, увидев вражеский флот. Он знал, теперь будет многое зависеть от того, каким его, командира, будет видеть команда. Он на виду. Он обязан быть таким, чтобы его видели спокойным, ровным и простым. Голосом обыденным, обычным - у него был красивый, «литой» баритон - проговорил:
- Сейчас «Штандарт» даст команду «разворот все вдруг». Всем по местам.
Сказано было негромко и отчетливо. Так, словно на севастопольском рейде вот-вот начнутся шлюпочные гонки. И все, что нужно «Меркурию», это не осрамиться перед другими кораблями, чисто выполнить разворот. Казарский знал, как толковый капитан одним спокойны тоном голоса своего может свести понимание опасности до восприятия ее в качестве обычного происшествия на море. Шканцы опустели. Скарятин встал мачтовым офицером у грот-мачты. Пригулов - мачтовым у фок-мачты. И Казарский впервые за многие недели плавания - словно вот только теперь увидел - разглядел мичмана. Нет, на «Меркурии» не пять офицеров, а четыре. Этот шупленький, не набравший взрослой силы мальчик еще не офицер. Притупову семнадцать. Офицерам положены вестовые. Но родители Притупова - очевидно, еще никак не привыкшие к мысли, что сын их уже обожжен огнем Пендераклии, - прислали ему своего крепостного человека, вятского мужика Петра Данилова. Казенному вестовому полагается окладного жалованья в год четырнадцать рублей. Адмиралтейство, вечно безденежное, любит экономить. Такого рода бесплатные замены поощряет. «Этот даже не «гардемарин», - подумал Казарский, глядя в настороженное, с выражением опасливого зверька, большеглазое лицо сильно взволновавшегося мичмана. - Этому б еще в своем вятском поместье по отцовым крышам сизарей гонять!»
И тотчас отвернулся.
На мачте «Штандарта» взвились флаги - «поворот все вдруг».
И следом: «Идти в Сизополь».
- Поворот через фордевинд! - скомандовал Казарский.
Прошли считанные минуты. И «Штандарт», держась на ветре, сравнялся с «Меркурием». Под всеми парусами пролетел мимо, показал бригу корму. Еще через три минуты с «Меркурием» сравнялся «Орфей».
Пролетел под всеми парусами. Показал корму. Вот когда команда «Меркурия» в полную меру поняла, какие ходоки «Штандарт«и «Орфей»! Команда делала все, чтобы не отставать. Но тяжелый крымский дуб корпуса, что колодки на ногах колодника, осаживал лет парусов. Сахновский, правя на Сизополь, привел «Штандарт» круто к ветру, лег бейдевинд, - пошел курсом, самым близким к ветру. Но для «Меркурия» курс, близкий к ветру, никогда не был самым лучшим! Уж так он был хитро построен, этот бриг, первая проба мастера Осьминина. То, что для всех хорошо, для него непригодно. Самый выгодный курс для «Меркурия» - галфинд, когда направление ветра составляет с курсом корабля прямой угол. Моряки говорят: «Судно идет вполветра».
Прошли полчаса. Расстояние между «Штандартом» с «Орфеем» и «Меркурием» увеличивалось чувствительно для глаза. А между тем с зюйд-зюйд-оста нарастала грозная эскадра турок под адмиральским флагом. Казарский, взволнованный, чувствовал себя виноватым за то, что «Меркурий» сдерживал бег товарищей. Представлял, какой силы шквалы обрушивала погоня, становившаяся ощутимо опасной, на душу Сосновского.
«Штандарт» просигналил:
- Курс норд.
Командир отряда сделал еще попытку, переменив курс, увеличить скорость «Меркурия».
Курс выправили.
Прошли еще полчаса.
«Орфей» и «Штандарт» уходили. Расстояние между «Меркурием», поспешавшим изо всех сил, и ними, нарастало.
А флагманы противника уже так угрожающе приблизились, что их паруса в круге трубы перестали восприниматься глазом, как сплошное высокое облако. Стали отчетливо видны линии разделения марселей, брамселей, верхних парусов. За ними - чуть отстающие - как стая волков, легла в гон вся остальная эскадра турок.
Поняв окончательно, что соединенно ретироваться возможности не представится, Сахновский просигналил: «Каждому избрать такой курс, каким судно имеет ход преимущественнейший». Казарский, приняв приказ, вздохнул с облегчением.
Распорядился:
- Курс норд-норд-вест.
Бриг лег в галфинд.
Курс русского отряда раздвоился. «Штандарт» и «Орфей» шли на Сизополь. «Меркурий» словно бы вознамерился бросить якорь в Одессе. «Меркурий» сразу получил преимущество в ходе. Накренившись на правый борт, неся все паруса, вплоть до лиселей, бриг бодро вспенивал воду, и надежда запела в шорохах, хлопаньи, ровном гудении его парусов. Не такой уж он был плохой ходок, «Меркурий», когда имел свободу выбора курса.
Было десять часов утра. Солнце поднялось. Прохлада восхода сменилась теплотой ясного народившегося дня. Солнце яркое. С небосвода на море обрушивается сияющий лучепад. И вдали, все еще на расстоянии, обнадеживающе далеком, противник.
Что- то предпримут турки, когда вот-вот увидят, что русский отряд разделился? Турецкая армада тоже разделится надвое? Сколько кораблей пустится в погоню за «Штандартом«и «Орфеем»? Сколько -за «Меркурием»? Быстрее всего, погоню продолжит не вся армада. Скорость парусного корабля, помимо всего прочего, зависит от высоты мачт.
У таких кораблей, как «Селимие», «Реал-бей», мачты выше, чем на фрегатах и бригах. Все ветры - их. Стелется ли ветер, прижимаясь к поверхности моря, их нижние паруса и марселя полны ветра. Есть ветер и повыше, - гудят тугие брамсели, паруса над марселями. Над морем тихо, и только облаками гуляют верховые ветры, - они надуют верхние паруса линейных кораблей, и те будут упорно и неотвратимо приближаться к цели, тогда как бриги, шебеке, фрегаты, скованные безветрием, замрут на роковой широте. Быстрее всего адмирал Осман-паша оставит низкомачтовые суда своей эскадры дрейфовать, а погоню осуществит силами высокомачтовых быстроходных судов.
Казарский наблюдал за неприятелем, все еще имея его на хорошем расстоянии на зюйд-зюйд-осте.
- Два «адмирала» отделились от флота! - доложил сигнальщик.
«Селимие» и«Реал-бей» оставляли за кормой армаду.
Вот когда начинается погоня всерьез!
Осман- паше не надо гадать, какие намерения у командира дозорного отряда русских. Командир фрегата, полетевший в Сизополь впереди брига, имеет намерение предупредить своих: «Противник в море!» Значит, намерение адмирала должно быть таким: устремиться за фрегатом и бригом, не дать им дойти до Сизополя. Навязать бой. Повезет -пленить. Не повезет - сжечь. Ночью, неслышный, Осман-паша подойдет к Сизополю. Удобная гавань Сизополя станет для двух русских эскадр: Грейга и Скаловского, - ловушкой, западней, мышеловкой.
Осман- паша нападет врасплох. И будет Сизополь для русских тем же, чем Пендераклия для турок.
Казарский, следя то за «Штандартом» и «Орфеем», то за противником, подошел к Скарятину, выполнявшему обязанности мачтового офицера. Они перебросились несколькими словами о ветре и парусах. Матросы, напряженно работая, приблизились, насколько позволяли снасти, стараясь не пропустить ни слова из разговоров офицеров. Но главное Казарский и Скарятин сказали друг другу глазами. Они служили вместе недолго, считанные месяцы. Но быстро поняли, что будут отменно дополнять один другого, как и должно командиру и старшему офицеру, ибо корабль в одну вахту в распоряжении одного, в другую в распоряжении другого. «Подло-то как получается! - сказал глазами Казарский Скарятину. - «Адмиралы» ложатся в погоню за «Штандартом» и «Орфеем». Будет сражение, а мы в стороне. Вроде на морскую прогулку сходили!» Смеющиеся глаза Скарятина не согласились. Старший офицер, большой охотник до шлюпочных гонок, до состязательных артиллерийских стрельб, когда можно потягаться силами с командами других кораблей, рзглянул с лихой и вызывающей беззаботностью. Засмеялся без слов: «Ну, «Штандарт» и «Орфей» еще попробуй, догони! Тоже ходоки не из худших!» И Казарский без слов засмеялся: «Как думаешь, Сергей Иосифович, уйдем?» - «Уйдем, Александр Иванович. Все трое уйдем. Пусть «адмиралы» ветры ловят».
Оба остались вполне довольны разговором друг с другом. В самом деле, сумей, догони Сахновского. Только-только на норд-весте были две высокие пирамиды парусов, а вот уже поуменьшились, поуменышились. Еще полчаса-час, две точки западут за горизонт. Только и останется Осман-паше, что память об острой забаве, опасной гонке.
Солнце поднялось еще выше. Склянки пробили одиннадцать.
- Курс «адмиралов» норд-норд-вест.
Казарский ушам не поверил. Курс норд-норд-вест - курс «Меркурия». Исполины, хозяева всех ветров, легли в погоню за маленьким бригом?
Зачем им бриг?
Казарский взбросил трубу к глазам.
Сигнальщик не ошибся.
Две парусные громады, пока еще далекие, шли вслед «Меркурию».
«Селимие» - сто десять стволов артиллерии. «Реал-бей» - семьдесят четыре. На «Меркурии» - восемнадцать карронад и две пушки.
Сто восемьдесят четыре ствола против двадцати! Даже с лица Скарятина, любителя опасных забав, сошла улыбка. В лице ни дерзости, ни обычного выражения вызова судьбе. Взгляд посерьезневший и ястребиный: меряет расстояние между бригом и «адмиралами». Высчитывает, на сколько «адмиралы» сократят его за час?
Офицеры, мачтовые матросы, бомбардиры, - в сто пар глаз «Меркурий» наблюдал за противником. Основная часть кораблей турецкого флота дрейфовала уже на изрядном расстоянии от флагманов. Там, на горизонте, из их череды парусов получилось бесконечно длинное облако. «Адмиралы» шли ходко. Легли в волчий, наглый, безбоязненный гон за маленьким бригом.
То, что делали «адмиралы», было «противу правил». Командиры русских кораблей за честь почитали столкнуться с противником вдвое, втрое более сильным. Ты сумей угадать слабое место врага! Сумей воспользоваться минутой оплошности! Сумей вести огонь так, чтобы враг, крылатый, под парусами, - обескрылил в один момент. И все потому, что ты, умелый и зоркий, перебиваешь самые важные из снастей, метишь в реи, в саму мачту. Паруса врага упадут на палубу, накроют бомбардиров. Победа над более сильным - вот победа!
А что чести двум «адмиралам» в победе над бригом?
Штурман Прокофьев оставил карты прокладки, подошел к командиру. В глубоких морщинах, разрезавших лоб параллельно полынно-серым бровям, тревога.
- Как, Иван Петрович, - спросил озабоченно Казарский, - уйдем?
День шел к полудню. Прекрасный майский день, ясный и теплый. Солнце пригревало уже по-летнему. Но Иван Петрович без всякого удовольствия взглянул на солнце, разулыбавшееся во всю синь небесную. Без удовольствия взглянул на белокипенные облака, разнежившиеся в тепле. С утра облака были бегучими, а теперь едва ползли над головами.
- Эти ж майские ветры, Александр Иванович, не озорники, - | сердито проговорил штурман. - Они ж иногда просто форменные позорники! Они иногда могут такую свинью подложить, какую и не ждешь. С утра дуют-дуют, а к полудню разморило их, устали они. Штиль на море!
Не хотелось верить, что майские ветры так скверно сыграют с «Меркурием». Но Казарский и сам видел: ветер скисал. «Адмиралам» не страшно, у них высокие мачты. Бригу - худо. Чем ближе к полудню - тем хуже. Благодаря испарению ветер поднимается вверх. Мачты «Селимие» и «Реал-бея» достанут и его. Мачты «Меркурия» - нет.
Прокофьев побагровел, вознегодовал:
- Позор, позор двум таким большим гнаться за бригом!
Подошел Новосильский. Встал за их спинами. Согласился со штурманом:
- Шакалы!
- На форштевнях «Селимие» и «Реал-бея», - возразил Казарский, - разинутые львиные пасти. Между прочим, и устрашающие, и красивые! Мне доводилось видеть вблизи!
- Какие львы, - возроптал Новосильский, - шакалы!
- Вашбродь! - вступил в разговор Семенов, бомбардир из прислуги крайней кормовой карронады. - Они, что, нас за клопов принимают? Думают, приварили клопов кипяточком, и мы, маленькие, уже не кусаемся?
Казарский отвел трубу от глаз, оглянулся на Семенова. И увидел за спиной Прокофьева штурманского ученика Федю Спиридонова. Мальчишке - четырнадцать лет. В «дальнюю» пошел в первый раз в жизни. И сразу - в огонь Пендераклии! Когда оглушительно загрохотали тяжелые орудия двух фортов и орудия шести кораблей эскадры Скаловского, мальчишку с непривычки разобрало так, что у него зуб на зуб не попадал. Казарский вспомнил, как подошел тогда к нему, шепнул участливо:
- Что, Федя, лихорадка у тебя?… Беги, брат, на камбуз, попроси у Филиппыча семь зернышек черного перцу. И проглоти! Да смотри, чтобы было семь, а не шесть и не восемь! Это наше морское средство. От лихорадки - лучше всякого хинина!
И услал мальчишку.
Штурманский ученик сбегал, проглотил ровно семь зерен. К тому времени уши его пообтерпелись, глаза поосмотрелись. Куда ни взгляни, везде матросы, потные от усердия, знающие, что делать, безбоязненные. Страх как рукой сняло. На палубу Федя вернулся уже без лихорадки. И во время всего боя таскал бомбардирам из крюйт-камеры картузы [38] с порохом.
После боя бомбардиры от души хохотали, рассказывая, как командир штурманского ученика от лихорадки «морским средством» лечил. И всех веселее смеялся сам Федя.
Сегодня мальчишка владел собой лучше, чем в Пендераклии. Но глубоко-глубоко в серых глазах дрожал страх. А лицо юное, пригожее, и в овале еще девичья нежность!
- Что, Федя, - пригнулся к нему Казарский, - поди опять лихорадка начинается?… Сбегай к Филиппьгчу, возьми семь зерен черного перца, да гляди, чтоб было семь, а не шесть и не восемь.
Федя вспыхнул, как маков цвет. Уши - и те зоревые. Прислуга карронады грохнула в хохоте, словно «Селимие» первый залп дала. Весело рассмеялся Федя.
- Да я, вашбродь, - проговорил он, лукавя, - подошел, не чтобы послушать. Я Семенову помогать буду. Я ему и в Пендераклии хорошо помогал!
Рябой Семенов, все повидавший за двадцать лет службы, с лицом загорелым, энергическим, благодушно закивал:
- Помогай, Федька! Ты - башка! Все с одного слова понимаешь!
У Казарского и самого, внешне спокойного, нехорошо было на сердце. Неспокойно. Дурнотно. Это пройдет, он знал себя. Но с этой дурнотой в сердце перед каждым боем надо справляться заново. Словно бой, который предстоит, первый в твоей жизни.
Казарский подумал, плохо, что команда брига так молода. На «Штандарте» и «Орфее» команды более опытные. А на «Меркурии» новый командир - и потому новая команда. Из ста восьми человек - сорок четыре старшие юнги. Два года назад, в двадцать шестом, Адмиралтейство открыло в Севастополе школу юнг, в которую принимают детей унтер-офицеров и отслуживших свое матросов. Каждому командиру, принимающему корабль, надлежит самому озаботиться тем, чтобы команда его стала опытной. Но пока на «Меркурии» половина команды - мальчишки. Хорошо, хоть удалось взять с «Соперника» боцмана Конивченко, нескольких хороших мачтовых матросов, бомбардиров и канониров. Да спасибо Семену Михайловичу Стройникову, - хоть и с сожалением, а оставил Казарскому своего старшего офицера, Скарятина.
Под Пендераклией в школе Скаловского юнги доучили то, чего не успели пройти в классах школы юнг.
- Игнат Петрович, - позвал Казарский боцмана, - беги к шхиперу, готовьте брезенты.
Конивченко, уже немолодой, на кривоватых резвых ногах, бросился в подшкиперскую кладовую, заваленную парусами, тросами, блоками и разными принадлежностями судового запаса. Он не хуже, чем ее хозяин, шкиперский помощник унтер-офицер Иван Холодов, на память знал, где что лежит. Ему не надо было светить фонарем, чтобы отыскать брезентовые куски. Если пора мочить брезенты - бой скоро. Мокрым брезентом накрывают раскаленные стволы пушек, остужая.
На бриге кипела деятельная работа. Как и предсказывал штурман, к полудню ветер ослабел еще более. Солнце смеялось, море бликовало, мириады алмазных осколков лучились, блистали, били в глаза. За кормой кувыркались дельфины, и, хитрые, как дети, прыгнув в кильватерную струю, прокатывались на ней, пока она не теряла тугость под ними. А матросам и офицерам «Меркурия» было не до солнца, не до дельфинов. Мачтовые офицеры: Скарятин у грота и Притупов у фока, - делали все, чтобы держать слабеющий ветер в парусах. Матросы на палубе слаженно работали со снастями. Бомбардиры носили из крюйт-камеры картузы с порохом, складывали у орудий брандскугели, ядра, книпели.
Две погонные пушки - стреляющие во время погони вслед врагу - стояли на носу брига. Пушки - на полозьях. Их можно перетянуть на корму и тогда воспользоваться ими как ретирадными - ведущими ответный огонь по врагу преследующему.
- Пушки на корму! - распорядился Казарский.
Через насколько минут увидел, как командиры орудий: Петр Ефимов, Яков Ковалев, - и старшие юнги: Вахленко, Безбабков, Выснохин, другие - подняв тяжеленные пушки, на плечах понесли их на корму, вызывая общее веселое изумление и смех на палубе. Тянуть орудия на полозьях - стать помехой другим. На корабле закон: занял проходы - освобождай быстрей. Вот и не захотели Ефимов и Ковалев тянуть орудия, решили, что перенести быстрее. Такое нельзя было оставлять незамеченным! Казарский при всей занятости, оборотился к ним:
- Лихо, - одобрил он тем вызывающим, веселым голосом, которым отдавал команды в самые опасные часы. - Много, братцы, я богатырей видал на кораблях. А таких, как вы, еще не видел!
Мальчишки-юнги благодарно взглянули на командира. Ободряющие, вовремя сказанные слова прибавили им сил. И они оглядывались, ища глазами, чего б еще поднять, перенести, подтащить, пока бой не начался.
Склянки на «Меркурии» пробили час пополудни.
Казарский с кормы в трубу взглянул на корабли врага. С рассвета длится многочасовая погоня. С каждым часом расстояние между кораблями-преследователями и бригом сокращается. Но пока все еще остается безопасным, и в душе Казарского трепещет надежда, что боя можно будет избежать. Он и сам не знает, на какое чудо надеется, но надеется. На шквал? Эти майские ветры, «озорники», могут и расхулиганиться.
Нанесут смерч, ураган с дождем. Разбросают противников так, что врага и в трубу не увидишь. Шквал потреплет и потреплет, но спасет!… А еще на то надеялся Казарский, что «Штандарт» и «Орфей» встретили в море эскадру Грейга или Скаловского. И вот-вот свои корабли, вожделенно ожидаемые, покажутся на горизонте.
Но облака на небе были светлые, а не черные, штормовые. Норд- вест чист, ясен. И с кормы открывался такой вид, словно «Меркурий» был не вблизи Босфора, а подходил к кавказским берегам.
Два вражеских корабля, похожие на исполинские горы Кавказа, вершины которых покрыты вечными снегами, были всего на расстоянии полутора пушечных выстрела. Еще час и, - сверкнут столбы красноватого пламени, «горы» окутаются дымовыми облаками, гром орудий разнесет вдребезги тишину дня.
Ветер скис, как и предсказывал штурман. Не хватало великолепного умения лихого Скарятина управляться с парусами, чтобы удержать его. Бриг - в плену безветрия. Скарятин, потный, с сорванным голосом, подошел к командиру: «Все кончено! Стоим!»
Но Казарский даже не взглянул на своего расстроенного старшего офицера. С живым любопытством он наблюдал за вражескими кораблями. Ай-да майские ветры! Ай-да озорники-позорники! Никогда не угадаешь их лукавых замыслов. Ветры покинули не только паруса брига, но и паруса «адмиралов». Паруса и там болтались на реях, как громаднейшие полотнища-простыни, вывешенные на просушку. Душа удивлялась и ликовала. Исполинские корабли теперь уже обрели полное сходство с кавказским горами, покрытыми снегом, - были недвижны, как горы.
- Весла! - вскричал Казарский.
Бомбардиры, с одного слова разгадавшие замысел командира, бросились к рострам, принялись вытягивать огромные весла, больше похожие на здоровенные лесины с лопастями.
Бриг - 400 тонн водоизмещения - и строится как парусно-гребное судно. Линейные корабли слишком велики, гребцов на них не бывает. Только ветры да течения в состоянии передвигать их.
На обоих бортах «Меркурия» появились унтер-офицеры. Звучными, сильными, радостными голосами принялись отсчитывать:
- Два-а-а - раз! Два-а-а - раз! Два-а-а - раз!
Бомбардиры, они же, здоровые, как на подбор, гребцы, наваливались изо всех сил, откидывались совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки. Сигнальщики первыми увидели, как понемногу начало нарастать расстояние между «адмиралами» и бригом.
Приметили это рулевые. Приметили мачтовые матросы. Мощное и ликующее «ур-ра» обрушилось на гребцов, утроило их усердие.
Казарский совсем возликовал. «Меркурий», сменяя гребцов, будет уходить от «адмиралов» и уйдет, насколько сможет. А там темнота. И уж с ноченькой темной «Меркурий» поладит. Придет рассвет, только майское солнышко улыбнется туркам, посмеется над ними.
С этой надеждой в душе Казарский бросился к Прокофьеву. Штурман работал в своей выгородке с картами, сосредоточенный и строгий. Почувствовав за спиной командира, вышел на палубу. Ни лихое «ура», ни усердие могучих гребцов не прибавило ему настроения. Молча, одними глазами, он показал на небо. Этот человек, один на «Меркурии», знал о ветрах и облаках все. В бездонной сини белело множество облаков. Словно там был архипелаг, состоящий из бесчисленных островов, больших и малых. Нижние облака были недвижны, но те, что шли вторым, третьим ярусом, неспешно двигались, истаивали паром и нарождались новыми скоплениями. В сумрачной серьезности штурмана было: «Нет, это, Александр Иванович, не озорники и не позорники. Это форменные подлецы! Снесут они нам, головорезы, головы!»
В высях вышних ветер не умер.
Еще четверть часа, полчаса, ну, час, и он отяжелеет. Спустится ниже. Тронет облака первого яруса. Солнце продвинется к горизонту. Ветер наберет силу. Надует верхние паруса «адмиралов». Паруса «Меркурия» все еще будут шелестеть провисшими простынями. И что усердие гребцов в сравнении с мощью попутного ветра?
А зычные, сильные, веселые голоса унтеров все отсчитывали:
- Два-а-а - раз! Два-а-а - раз! Два-а-а - раз!
У борта «Селимие», спокойный и радостно-выжидающий, стоял адмирал Осман-паша. Превосходный метеоролог, автор нескольких печатных трудов, он знал, что последует за робким движением по голубой глади тающих, нежных облаков, то вытягивающихся в долгие полосы, то истончающихся и расплывающихся на части. Шут Пезавенг дурачился, смешил бомбардиров и мачтовых матросов. Он научил их трем русским словам: «Сдавайся! Опускай паруса!» Бомбардиры и мачтовые горланили. И, даже не зная хорошо русского, можно было догадываться, как они коверкали их. Орлиный клекот выдавливало горло каждого бомбардира, каждого мачтового. Шут, услышав грозное: «Сдавайся!» - валился в ужасе на палубу, катался по ней, переваливаясь с боку на бок. Подымался на колени и жалобно, как побитая собака, скулил, вымаливая у них пощады.
Палуба содрогалась от хохота, как от артиллерийских залпов. Осман-паша благодушествовал, разрешая веселье. Чем же заниматься бомбардирам, заждавшимся работы?
Бриг не казался Осман-паше ничтожным трофеем, как в сердцах думал капитан-лейтенант Казарский. Ни Казарский, никто на «Меркурии», никто на Черноморском флоте пока не знал, что двумя днями раньше на долготе Пендераклии Осман-паша взял в плен русский корабль. Теперь пленный корабль в сопровождении фрегата и брига с турецким рулевыми на корме и русскими моряками в трюмах - они там, как бараны, битком - идет к Босфору. Утром он встанет на стамбульском рейде. Проснувшись, Махмуд II, не веря глазам, протрет их и раз, и два, всматриваясь в новый корабль, пополнивший флот Порты, как в наваждение. Если удастся взять в плен еще и этот бриг, погоня за которым идет с рассвета, флот Порты пополнится двумя единицами. С избытком довольно, чтобы погасить гнев султана!
- Пезавенг! - благодушно проговорил Осман-паша. - Как там русские говорят про беду?
- Беда одна не ходит, господин. Так они говорят.
- Удача, Пезавенг, удача одна не ходит! - поправил Осман-паша.
Пусть не только уши шута, но и уши матросов услышат слова мудреца.
Опытный стратег, адмирал благодарил аллаха за то, что тот дал возможность поберечь турецкие корабли. Он не чувствовал себя ни «шакалом», как в гневе назвал его лейтенант Новосильский, ни «позорником», как, презирая и негодуя, поручик Прокофьев. Он был просто верным слугой султана и сыном своей страны. Он, не колеблясь, выбрал для погони слабую цель, - бриг. Адмирал не намерен был вести сражение, хотя и на борту «Селимие» уже высились пирамиды ядер у пушек и, уже намоченные, лежали мокрые брезентовые полотнища. Он не хотел терять ни одного матроса, ни одной реи, ни одной стеньги, ни одного каната. Он хотел, как и два дня назад, взять корабль без боя. Прийти в Стамбул и продолжать начатые реформы. Пусть верфи строят новые суда. Пусть английские и французские наемники обучают турецких офицеров и матросов, пусть на корабли Порты придет единообразие формы и подчинение дисциплине. Тогда горячая кровь турка, его острый, уверенный взгляд, его страсть, его вера, что именно он избранник аллаха, превратит янычара в лучшего в мире моряка. Время, когда флот Османской империи сойдется в сражении с русским флотом и за все отомстит, - за Наварин, за Анапу, за Варну, за Пендераклию, - впереди. Воины Магомета умеют ждать.
Капудан- паша поднял трубу к глазам. Как торопится удрать этот клопик, бриг! Словно надеется улепетнуть, выскользнуть из-под огромного и страшного для него ногтя! Как забавен он в этой своей надежде!
Слаженно выстреливают с обоих бортов брига перья весел.
На бриге гребут.
Гребцы там отменные!
Гребите, гребите, султану Махмуду нужны гребцы, закованные в цепи.
Осман- паша представлял, как русских поведут по улицам Стамбула. В памяти встало прозрачное утро, словно созданное для намаза, неспешности и погружения в себя. А он и Ахмет-паша -желто-зеленый, едва передвигающий ноги после сердечного приступа - пробивают себе коридор в толпе. Толпа воспалена ненавистью. Готова закидать обоих камнями. Живых, разорвать на части. Воспоминание ужалило. «О, подлая чернь, ты на мою голову выпрашивала гнев аллаха? А аллах вон на кого обрушил гнев! Собаки! Пусть в ваших глотках застрянет эта кость, которую я вам бросаю, - русские!»
Казарский собрал военный совет. Пять офицеров стояли на шканцах.
- Я собрал вас, - проговорил Казарский, - чтобы выслушать ваше мнение, господа!
По давней флотской традиции на военных советах в критических обстоятельствах первым получал слово младший по званию. Смерть уравнивает всех, не разбираясь в чинах. Перед лицом смерти флот был традиционно демократичным.
На «Меркурии» младшим по званию считался штурман Прокофьев.
«Вот судьба!» - вознегодовал про себя Казарский, взглянув на Ивана Петровича, человека зрелого возраста, самого старшего из всех пятерых. Прокофьев плавал на Черном море с самого 1807-го года, когда поступил в штурманское училище. К нынешнему званию шел трудно, - как все штурмана. Был помощником штурмана унтер-офицерского чина. Потом штурманским помощником 14-го класса. В двадцать седьмом году отличился при снятии с мели транспорта «Ревнитель», стал штурманом 12-го класса и получил звание поручика. Он моряк, настоящий моряк, знающий море, его повадки, его характер. Но он - поручик.
У него армейское звание и армейские серебряные эполеты. И потому семнадцатилетний мичман Притупов, которому еще предстоит стать моряком, - по званию старше. «Как государь терпит такую несправедливость!» - подумал Казарский. Вслух сказал:
- Вам слово, Иван Петрович!
Костистое, грубое, сильной вырубки лицо штурмана пошло пятнами гнева.
- Чего говорить-то? Выбор у нас, господа, невелик: либо гибель - либо плен. По мне так лучше гибель, чем плен.
Штурман повернул голову, взглянул за корму, вдаль. Туда, где утесами высились два вражеских корабля. В них рок, от которого не уйти. Штурман профессиональным взглядом все же скользнул по облакам. Приметил, ветер уже просыпается, шевелит верхние паруса «адмиралов». Ощущение бессилия, сковавшее душу Ивана Петровича, мгновенно сменилось всплеском ярости.
- Я вам, господа, - воскликнул штурман, - вот что скажу. Этот капудан-паша - подлец! И не махонький такой озорничок, а полный и форменный подлец! И мы ему - легкая добыча. Он хочет взять нас непотрошенными. А уж раз так, надо драться до последнего! А как невозможно станет, свалиться с тем кораблем, с которым сподручнее будет свалиться, и взорваться! Нам в живых не быть, а и капудан-пашу, подлого, в живых не оставим!
Злой свет горел в его гневных глазах. И огонек этот подпалил изнутри лица остальных офицеров. Люди чести и долга, они сердцем приняли предложение штурмана. Казарский представил мгновение, - «Меркурий» в дыму и огне сражения - подходит к «Селимие». Маленький, «сваливается» бортом с исполином. Верховный адмирал Порты в последний момент разгадывает замысел. Поздно! Бриг взорвался - летят к небу обломки бортов. Вспыхивают паруса «Селимие». Огонь лижет мачты, палубу. Быстро добегает до люка крюйт-камеры. Оглушающий взрыв, способный заглушить гром небесный, и - конец турецкому флагману. Не сладко будет верховному адмиралу Порты в его последнюю минуту! Наводивший ужас - да ужаснется. Оставленный своим аллахом, проклянет себя, с легкой душой начавшего преследование. У команды «Меркурия» нет выбора. Выжить - Богом не суждено. Но господь оставляет человеку несравненное право иного выбора: смерть человек всегда может выбрать сам! Прав штурман! Надо драться до последнего!
Кивнул Скарятин, душой согласившись со штурманом.
Кивнул Новосильский, душой согласившись со штурманом.
Кивнул юный Притупов, в минуту последнего выбора переступив через себя, через такое сильное желание молодой плоти - жить. Невольные, горячие слезы проступили у него на глазах. И он устыдился того, что один из всех не справился с ними.
- Так тому и быть! - голосом, полным холодной решимости, проговорил Казарский. Вынул из-за пояса свой пистолет; тяжелый пистолет работы хорошего оружейника. - Я кладу заряженный пистолет на люк крюйт-камеры. Тот, кто останется живым последним, стреляет в порох.
Офицеры разошлись по местам. Казарский пошел по палубе, останавливаясь возле каждой карронады. Он мог бы переговорить сразу со всеми бомбардирами правого борта, а потом со всеми бомбардирами левого борта. Но он не хотел говорить с толпой. Он хотел взглянуть в глаза каждому матросу и дать каждому из них посмотреть в свои глаза.
Турки забили в барабаны. Звуки пришли не дробью, а ровным, монотонным, заунывным звуком. Ага, значит ветер тронул их верхние паруса, «Селимие» и «Реал-бей» сдвинулись с места. Пока будет идти погоня - турки будут бить в барабаны. Если дать плясать нервам, барабаны с ума сведут. На то и расчет, вселить страх еще до первого залпа. Чтобы обмер враг, чтоб занемел, как овца перед удавом.
Бомбардиры «Меркурия», сменяя друг друга, все еще гребли. Вполне можно было дать команду: «Весла по борту!» Но Казарский такой команды не отдавал. Весла нужны были уже не столько для пособия ходу, сколько для занятия людей. Нет ничего хуже томления духа в бездействии, в ожидании сражения! Какие-какие только мысли не заползают в голову!
Казарский шел по палубе, разговаривая с теми матросами из артиллерийских расчетов, кто не греб.
- Как, братцы, - советовался он, - решать будем? Плен или бой до последнего?
Плен - ад на земле. Та же смерть, только в муке мученической, растянутой на годы.
Бомбардиры горячо принимали к сердцу решение военного совета: «свалиться» с одним из «адмиралов» и взорваться.
Положение было скверным, хуже некуда.
Казарскому, человеку самолюбивому, с понятием офицерской чести и достоинства, и теперь была не понятна малость желаний капудан-паши. К радости своей, он обнаружил сходство своих мыслей с мыслями подчиненных. Бомбардир Семенов проговорил:
- Да он, ихний главный турка, вашбродь, видать, молодец против овец, а против молодца - сам овца!
Балагур бомбардир Фома Тимофеев «разгадал» натуру «главного турки»:
- Он, вашбродь, на старости подслеповат стал, кривоват и глуховат. Ему, вашбродь, один наш бриг всем русским флотом кажется. Он за нами гонится, а думает, гонится за всем русским флотом!
Расчет Тимофеева грохнул хохотом. Вместе с бомбардирами, радуясь настрою на бой матросов, хохотал командир «Меркурия». Но чувствовал себя так, словно раздвоился. Вот один Казарский, - темнорусый, тридцатидвухлетний, в люстриновом форменном сюртуке, с золотыми эполетами капитан-лейтенанта, обходит группы матросов, у орудий хохочет с ними, зная, что это единит его с ними. А другой Казарский, бесплотный, и, вместе, вполне реальный, со стороны наблюдает за ним, за матросами, и удивляется умению человека смеяться тогда, когда ему не до смеха, когда плоть, еще не изжившая себя, даже не состарившаяся, вопиет о своем нежелании погибать.
Казарский шел, и вся палуба гудела повтором:
- Драться до последнего! Потом взорваться!
Командир подошел к расчету Трофима Корнеева.
- Что, братцы, жарко, видать, будет?
- Уже жарко, вашбродь! - серьезный, внутренне уже настроившийся на бой, ответил Корнеев. Он, в самом деле, только что отдал весла Пигошину, и еще не восстановил дыхания. Могучая грудь его высоко подымалась и опускалась.
- Корнеев, - просил Казарский, - у тебя ведь глаз, что у коршуна! Я таких метких, как ты, мало видывал. Ты, Корнеев, не в борт «адмиралам» цель. Ну попадешь в борт, ну сделаешь пробоину. Утонет он, что ли, от твоей дырки? Ты, Корнеев, покажи, как можешь по снастям бить. Упадут у турка паруса - и «адмирал» нам не страшен.
- Вашбродь! Вы правьте к большому «адмиралу», - с готовностью постараться попасть в снасти, показать умение соглашался Корнеев.
А турецкие барабаны все били и били. Гул их раздвоился. Ибо раздвоился курс «адмиралов». «Селимие» возымела намерение зайти с правого борта брига, «Реал-бей» с левого.
Какая- то мысль все возникала в мозгу командира «Меркурия» и, подавляемая тысячью забот и множеством неотложных распоряжений, гасла, не родившись. К кому-то из команды надо подойти всенепременно! Любого пропустить можно, а этого нельзя.
«Зябирев!» - вспыхнуло в мозгу. Как же это он до сих пор не вспомнил. Любому на «Меркурии» что в плен, что в ад. А уж татарину лучше в ад, чем в плен!
- Файзуил! - окликнул Казарский матроса в группе мачтовых мичмана Притупова у фок-мачты. Мичман подхватил из рук Зябирева толстый марса-фал (канат). Татарин подскочил к командиру. На молодом лице деятельная старательность, а в глубине блестящих, темных, бараньих глаз страх, который Файзуил хочет убить в себе и не может убить. Любой из мачтовых то слышит непрерывный, нарастающий гул барабанов в ушах, то забывает о нем, уже попривыкнув. Татарин слышит барабаны, - в любую секунду слышит!
- Файзуил! - проговорил Казарский, вынимая из-за пояса пистолет и проходя впереди татарина к люку крюйт-камеры: - Вот смотри, кладу пистолет на шпиль [39] . Тебе его все время видно. Смотри, чтоб не упал со шпиля, чтоб не столкнули его ненароком с палубы. И уж… если ни один из господ офицеров не останется в живых, ты, Файзуил, стреляй в порох.
- Слушаю, - не вскричал, взвизгнул на радостях молодой татарин. - Файзуил будет стрелять! Файзуил все сделает!
Болотный огонек страха погас в его горячих глазах. Теперь он был «хозяином» крюйт-камеры, набитой порохом. Теперь он отвечает за пистолет, положенный на шпиль. Когда у тебя столько пороха - пусть адмирал тебя боится, а тебе бояться нечего!
Да и командиру «Меркурия» стало спокойнее. Под надежной охраной Файзуила пистолет не затеряется, не пропадет. В нужную минуту будет на месте.
Барабаны били уже с близкого расстояния. Казарский живо представил, какие они огромные. Дробь учащалась и учащалась, наваливаясь с двух сторон, сея тревогу. Все на «Меркурии» знали, что значит этот бой барабанов, когда турецкие барабанщики стараются спорить с громами небесными: сейчас прогремит первый залп. Гул барабанов утонет в грохоте разрывов.
Резво, как старший юнга, подскочил к командиру Прокофьев.
- Ветер и в наших парусах!
И правда, среди бликующего, словно политого маслом, моря зарябило за кормой «Меркурия». Ветер, отяжелев, спустился в нижние слои атмосферы. Зашуршали, захлопали паруса брига, вот-вот наберутся силы.
- Поздно, Иван Петрович, - с решимостью и невольной скорбью в голосе, проговорил Казарский. - «Адмиралы» на расстоянии выстрела. Сейчас начнется…
Он едва договорил, грохнул залп с «Селимие». С интервалом в секунду грохнул залп с «Реал-бея». Стена воды взмыла к небу перед носом «Меркурия». Стена воды, вспененная, поднялась за кормой и опала, рассыпавшись на брызги. Перелет - рассчитанный. Недолет - рассчитанный. Топчи-баша (главный артиллерийский офицер) «Селимие» и топчи-баша «Реал-бея» послали пока только грозные предупреждения бригу: у команды русского корабля есть минута на то, чтобы одуматься и спустить флаг.
Не сдастся - бриг будет испепелен.
Со вторым залпом «адмиралы» не торопились.
Уверенная наглость была в этой неспешности…
Командир «Меркурия» знал, почему нет второго залпа. Сейчас будут кричать в рупор, предлагать сдаться: «Сдавайся, Иван! Лодка был твоя - лодка тэпер моя. Лодка йох - башка вар, жизнь вар!» [40]
В самом деле, в звенящей, напряженной тишине, какая бывает только на море после грохота пушек (да еще в мертвецкой), громкий голос произнес:
- Сдавайся! Убирай паруса!
Казарский был поражен почти чистым произношением. Лишь легкая гортанная протяжка конечных гласных выдавала в том, кто кричал, сына Востока. «А почему я удивляюсь? - подумал он. - У адмирала должен быть хороший драгоман [41] ».
Только теперь он, капитан-лейтенант, вполне осознал, с кем вступает в единоборство.
В его противниках бывали байрактары, бывали командиры малых судов. Случалось, в составе эскадры «Меркурий» противостоял какому-то кораблю противника примерно своего ранга.
Адмиралам он, капитан-лейтенант, противостоял впервые в жизни.
- А ну-ка, братцы, ответим турку на нашем морском языке, которому и переводчика не надобно! Федор Михайлович, - обратился он к Новосильскому, - с Богом!
Бомбардиры Петр Ефимов, Яков Ковалев уже навели перенесенные на корму пушки. Прислуга - старшие юнги - стояла с подожженными фитилями. Лейтенант сделал взмах рукой:
- Огонь!
Дым, пронизанный огненными струями, окутал корму. Рванув, пушки откатились назад. Выстрелив, матросы быстро и молча принялись за новое заряжение. Стрельбу начали без суеты. Пушки перекатывали, словно они были игрушечными, легкими.
Дым рассеялся. Еще минуту назад реи «Селимие» и «Реал-бея» были усыпаны матросами, как во время парадов и смотров на земле зеваки усыпают заборы, чердаки строений, крепкие ветви деревьев. Все хотели видеть, как русский бриг спустит флаг. Но вот дым рассеялся, и на реях «Селимие» никаких зевак. Быстро пустеют реи «Реал-бея». Казарский, наблюдавший все через трубу, видел, как опасно близко к носу «Селимие» упали оба ядра, посланные с «Меркурия».
- Ефимов, молодец! Ковалев, ай-да глаз! - закричал Казарский тем сильным, вызывающим к возбужденным голосом, который, знал, побуждает к лихости и усердию. - Для пристрелки выстрел лучше некуда. Не посрами, ребята, ни себя, ни Россию!
На «адмиралах» вспухли белые дымки, затем послышались залпы, и засвистели ядра. В какие-нибудь три минуты канонада до того усилилась, что от сотрясения воздуха задрожали мачты брига. Заряжали пушки и били по «адмиралам» расчеты Ефимова и Ковалева. Грохот стоял такой, что было невозможно отличить по слуху, где выстрелы свои, где «адмиралов». Густой дым окутал бриг, застлал солнце. Казарский, отдавая распоряжения мачтовым офицерам, командуя рулевыми, сместил «Меркурий» не только на норд, но и на вест, убираясь с места, к которому пристрелялись турки. Через некоторое время густые дымы, пронизываемые высокими столбами взлетающей вверх воды, оказались значительно левее брига. Турки стреляли по той точке, где «Меркурия» уже не было. И Новосильский получил добрую минуту возможности видеть «Селимие» и «Реал-бей», в то время, как бомбардиры «адмиралов» у орудий, окутанных дымами от собственных выстрелов, ничего не видели. Залп был очень хорош, первое попадание! В носу «Селимие» смолкло одно орудие.
Взвились сигнальные флаги на фалах «Селимие». Верховный адмирал отдал какое-то распоряжение младшему флагману. Вскоре Казарский разгадал, какой. Оскорбленный, уязвленный дерзким бригом, капудан-паша решил в одиночку расправиться с ним. «Реал-бей» остался
за кормой, выдерживая дистанцию. А «Селимие», идя под всеми парусами, быстро одолевала остатки расстояния, выходила на боевую позицию. Намерение - бортовым залпом накрыть противника. До сих пор «Селимие» вела огонь только с носовых орудий, их было шесть. Огневая мощь «адмиралов» - в их бортовых батареях. На трехдечной (трехпалубной) «Селимие» - батареи в три яруса. Самые тяжелые орудия - на нижней, наименее уязвимой палубе. Общее число стволов на борту - более пятидесяти. Достаточно одного попадания в цель - от «Меркурия» одна мелкая щепа останется на замусоренной поверхности моря. «Реал-бею» верховный адмирал Порты отвел роль зрителя.
Все, что было до сих пор, поняли на «Меркурии», было только запевочкой…
Казарский в запале боя вроде бы не имел возможности и думать ни о чем, кроме распоряжений самых срочных. Командовал рулевыми и мачтовыми группами, посылал то своего вестового Степана Шаронова, то штурманского ученика Федю Спиридонова в низы, где уже были две пробоины, одна из которых очень беспокоила его. Там работали унтер- офицер Есипов, плотник Самойло Пальчиков, купор Иван Баев и юнги. Секунды дух перевести не было. Но мозг его, удивляя его самого, с яркостью поразительной представлял ему главного флагмана Порты Осман-пашу. Никогда в жизни Казарский его не видел. А теперь ему представлялся крепкий, с морской посадкой сильной фигуры мужчина лет сорока пяти-сорока семи, - в таком возрасте был его превосходительство адмирал Грейг. Он видел смуглое восточное лицо Осман-паши, яркие, не угасающие и с возрастом глаза фанатика, - их так много на Востоке! - человека с горячей кровью, с взрывным темпераментом, который в минуты обиды доводит до помутнения рассудка. Чем, если не настроением минуты, можно было иначе объяснить то, что капудан-паша отказался от первоначального плана боя и принял другой: добить русский бриг в одиночку, оставив младшего флагмана в наблюдателях? Первый план был безупречен. На полчаса терпения, и «адмиралы» взяли бы «Меркурий» в «два огня». Казарский представлял: «Селимие» палит с левого борта, грозно развернутая батареями к «Меркурию». «Реал-бей», двухдечный (двухпалубный), тоже грозно развернут правым бортом к бригу. Как бы ни крутился, ни юлил, ни разворачивался «Меркурий», уклоняясь, он неизбежно подставлял один из бортов то «Селимие», то «Реал-бею». А теперь, имея одного противника - «Селимие» - «Меркурий» выигрывал право маневра. Дав залп, он мог, тотчас развернувшись, стать кормой к «адмиралу». Корпус «Меркурия» в самом широком сечении - девять метров, длина по диаметральной плоскости - тридцать. В дыму огня на расстоянии полумили попасть в бриг, когда он развернут узкой кормой, - все равно что попасть в иголку. Попробуй, попади!
И опять же удивляясь себе, капитан-лейтенант ощутил нежданную свободу. Он не воспринимал более главного флагмана Порты как противника, которому невозможно противостоять. В минуту боя грядущее непредсказуемо. Капудан-паша не имел права поддаваться капризам горячей крови; но он поддался. И потому совершил ошибку, правда, для него, при его превосходстве в артиллерии, - не смертельную. Но ошибка адмирала затянет бой и будет стоить нескольким турецким морякам жизни.
Командир «Меркурия», не мешкая, упорно правил на норд-норд- вест, к своим берегам. И бриг, имеющий в галфинде наискорейший ход, при засвежевшем ветре заметно продвигался, отрываясь от «Реал-бея».
- Весла по борту! - крикнул Казарский. - К орудиям!
В усилиях гребцов больше не было никакого смысла. Пока люди на веслах, открывать огонь из карронад, которые стоят под ногами у гребцов, невозможно.
Нет худа без добра! Теперь и «Меркурий» будет стрелять не двумя ретирадными пушечками с кормы, а палить сразу из девяти орудий. Еще в Сизополе бомбардиры пристроили к карронадам ружейные прицелы. Это позволяло делать наводку более точной.
Первый бортовой залп «Селимие» был таков, что раскат грома показался бы приглушенным шепотом. Отдай командир брига команду на брасы - чтобы переменить положение реев и парусов - на десяток секунд позже, «Меркурий» бы всем бортом схватил чудовищную порцию чугунных ядер. Но только стена хлынувшего к небу потока да клубов дыма выросла за бортом. Бриг успел развернуться кормой к «Селимие».
Пока обвал воды ниспадал с неба и дымы рассеивались, бриг развернулся бортом к «султану», дал сам первый бортовой залп.
Казарский потерял представление о времени. За дымами день стал пасмурным. Солнце проглядывало сквозь них, утратив яркость, похожее на блеклую луну. Тридцатифунтовое ядро с «Селимие», пробив борт, уложило двух матросов. Первая кровь брызнула на палубу. Там, где всего минуту назад высились ростры [42] , пылал огонь, валил дым, и вся палуба была в мусоре разбитой щепы.
- Песок на палубу!… - распорядился Казарский.
Расчет Трофима Корнеева вел огонь скупее других. После каждого залпа Корнеев припадал глазом к ружейному прицелу, прикрепленному к стволу, неспешно прицеливался заново. Его лицо, всегда, и зимой, и летом, загорелое, покрылось потом, копотью. Русый волос прикоптило, и местами, полосами, круглая стриженая голова стала похожей на черную стерню. Бомбардир поднял руку: «К залпу готов». Карронада рявкнула, выбросив дым, просвеченный огнем, и откатилась. Казарский, вросший глазом в трубу, увидел: на палубе «Селимие» сверкнул столб красноватого пламени, возникла стена клубящегося дыма. Раздался грохот. Он был глуше выстрела батареи, но пересилил все звуки пальбы. И Казарский, и бомбардиры мигом сообразили, что произошло. Ядро Корнеева угодило в горку картузов с порохом у одного из орудий «Селимие». Подожгло порох. Ствол орудия разогрело. И оно, уже заряженное, взорвалось.
- Урра-а-а! - закричали бомбардиры.
- Молодец, Корнеев! - запально крикнул и Казарский. Слухом отметил неровность ответного залпа с «Селимие»: нет, взрыв, видимо, вывел из боя не одно, а два, а то и три орудия.
И тотчас свистнуло ядро над самой головой Казарского, прошило парус. Раздался сильный треск у ног, завертелся, забрызгал огнем брандскугель. А вблизи карронад, как и на «Селимие», картузы с порохом, горки ядер. И мельком в глазах Казарского юнга Гаврила Титов с песком бросается на брандскугель, засыпает огонь. Хладнокровно, словно распоряжаясь утренней приборкой, перебегает от орудия к орудию Конивченко, покрикивает на юнг с парусиновыми ведрами в руках. Юнги обдают разгооряченные стволы забортной водой. От стволов - пар. И резкой картинкой, оставившей глубокую зарубину в памяти, раненый, с головой и лицом залитыми кровью, матрос Файзуил Зябирев. Сидит на палубе, возле шпиля у люка крюйт-камеры. За кровью, брызжущей из раны, глаза красные.
- К фельдшеру! К фельдшеру! - кричит ему Казарский.
- Йох! Моя йох! - едва водит тяжелой головой Файзуил и показывает на пистолет на шпиле, не желая отходить от него.
К раненому подскакивает старший фельдшер Михайло Кочетков, пытается силой поднять Зябирева, увести в низы. Раненый - откуда только сила такая - отталкивает Кочеткова:
- Йох! Моя йох! Моя здесь будет!
И фельдшер, у которого дел выше головы, перевязывает Зябирева,
оставляя того на палубе.
Еще ядро падает рядом с ним. За спиной у фельдшера воспламеняется картуз с порохом. Юнга, совсем мальчишка, Платон Серегин, по-мальчишечьи тонко визжит, все забыв от ужаса:
- Пороховой погреб горит!
Фельдшер бьет паникера по голове чем-то тяжелым, и тот падает на спину на палубу, успокоенный и безопасный до того времени, пока придет в себя.
Новосильский, переходя от орудия к орудию, натыкается на раненого бомбардира Карпа Пишогина. Тот бледен. Морщится, баюкает поврежденную руку. Новосильский кричит ему:
- Сам сможешь сойти вниз?
Пишогин через силу качает головой:
- У меня, вашскородь, не рана. У меня, вашскородь, контузия. Очухаюсь и к орудию.
Не успел лейтенант и на пять шагов отойти, еще попадание, и нет ни Пишогина, ни всего его расчета.
«Селимие» обрушивала смерчи огня. На палубе - ад. Рев орудий такой, уши не выдерживают. «Меркурий», паля бортовыми, вертится юлой. Казарский, с рупором у рта, бросает бриг то вправо, то влево, все время перемещается, уходя от выстрелов «Селимие».
- На брасы… кливер-шкоты и гика шкоты… - командует он. - Право руля!… Пошел брасы… Кливер-шкоты и гика-шкоты травить… Одерживай… Так держать, брасы и шкоты при-и-хватить!…
И бриг, только-только дав залп, разворачивается кормой к «Селимие». Ядра роют воду там, где только-только был борт «Меркурия». Бурлящая стена взмывает к небу и опадает грохочущим водопадом.
Казарский снова и снова подскакивает к расчетам Трофима Корнеева и его соседа Ивана Лисенко. Бой спаял соперников, таких ревнивых к славе друг друга! Расчеты стреляют кителями, - снарядами из двух ядер, скрепленных цепью. В каждое из орудий одновременно закладывают по ядру. Залп - и тяжеловесная, полная ломовой силы конструкция летит на корабль противника. При попадании рушит оснастку, рвет паруса, сбивает части рангоута, перерезает снасти. Корнеев и Лисенко метят в грот-мачту. Помоги Бог бомбардирам! Бывают повреждения, после которых кораблю не воевать. Даже если он линейный исполин. Хочешь не хочешь, а ложись в дрейф, устраняй повреждении
- Ну что, Иваныч? - спрашивает Казарский, наклоняясь. над Корнеевым, старшим из бомбардиров, прилипшим к рамке ружейного наведения. - Прицелился?
- Правьте, вашбродь, чтоб поближе было, - напряженно, едва размыкая скованные губы, говорит Корнеев. - Больно дымно на «султане».
Так! Поможет Бог или не поможет, не предугадаешь. А вот ты командир, так и помогай бомбардирам.
- Конивченко! Ко мне! - распоряжается Казарский.
Он все время помнит, что Файзуил Зябирев ранен. Сейчас Казарский в первый раз развернет «Меркурий» носом к «Селимие». Бриг подойдет к «адмиралу» на расстояние меньше полукабельтова. Развернется бортом. Даст возможность расчетам Корнеева и Лисенко выстрелить. Но нечего думать, что Осман-паша так и подставит себя под залп бомбардиров!
Близится критическая минута боя. Если Корнеев и Лисенко промахнутся, останется одно: свалиться бортами и взорваться. В крюйт-камере и теперь пороху довольно. Командир «Меркурия» хотел, чтобы пистолет был под надежным глазом. Объяснил боцману, что от того требуется. Поднял трубу к глазам.
Турецкий флагман - в клубах дыма. Его опоясывают три огненных пояса - огонь батарей всех трех ярусов. Острый взгляд Казарского уверенно выбирал тот сектор моря, ту точку, с какой расчетам сподручнее будет дать залп.
- Н-н-на бр-ра-ссы… - скомандовал Казарский.
И - бросил бриг на «Селимие».
«Меркурий» стремительно сокращал расстояние между собой и линейным кораблем. Ощупывая в трубу метр за метром борт «Селимие», Казарский искал капудан-пашу. И вдруг увидел его, своего противника. Узнал его не по чалме, не по богатой одежде. Узнал, словно уже множество раз с близкого расстояния видел верховного адмирала Порты. Узнал его высокую и сильную фигуру, сухощавость сложения, - людей, просоленых морем, и возраст не располагает к полноте. Узнал длинное, с жесткими плитами скул лицо. Расстояние и дым не позволяли разглядеть глаза. Но Казарский угадывал их острый и уверенный взгляд, крутые надбровья под густыми бровями, крючковатый орлиный нос. А бороду видел и догадывался, что она окрашена хной в кирпично-красноватый цвет. Казарский узнал адмирала по всевластному движению его руки, поднявшей зрительную трубу к глазу.
Мгновение противники смотрели друг на друга. Флагман турецкой эскадры, капудан-паша, должность которого на флоте единственная, разглядывал своего врага, командира брига. Командир двадцатипушечного брига, капитан-лейтенант, офицер в той должности, каких на флоте считать не пересчитать, разглядывал своего сановного противника.
Капудан- паша отвернулся первым. Отдал какое-то распоряжение.
Казарский все держал капудан-пашу в круге трубы. Близилась минута, которая решит - кто кого? Какой приказ отдал адмирал? Если он разгадал замысел - бригу конец.
Бриг летел на «Селимие».
Казарский считал минуты.
Артиллеристы «Селимие», произведя выстрел, сейчас готовят орудия к очередному заряжению. Чистят мокрыми банниками стволы и охлаждают их, закладывают в пушки картузы с порохом, плотно забивают пробойники и вкатывают ядра. Сильными руками с напруженными мышцами возвращают откатившиеся при выстреле пушки в порты, целятся. Готовятся поднести к запальному отверстию камышинку с порохом, а потом к ней фитиль… Пока идет перезаряжение, «Селимие» безопасна для «Меркурия».
Бриг вылетел из полосы задымления.
Расстояние - меньше полкабельтова.
- На брасы… Лево руля… - Скомандовал Казарский к развороту.
Сейчас бриг развернется бортом к «Селимие» и станет для него удобной мишенью. Если капудан-паша разгадал замысел, он должен поторопить своих бомбардиров, должен отдать приказ, понуждающий их ускорить залп… Какой приказ отдал капудан-паша?… Сейчас все в том, кто выстрелит первым.
… Инстинкт, весь нажитый опыт морских сражений подсказывал Осман-паше, что близятся последние минуты боя. Ни на одно мгновение он не усомнился в его исходе. Упрямый бриг вызывал досаду, затянувшееся сопротивление уязвляло. Но судьба брига предрешена. Нарядный, под добротными парусами предстал он глазам моряков «Селимие» перед началом боя. Теперь паруса стали черными от копоти, пробитыми во многих местах. На борту мусор разбитой щепы от сбитых рей, разбросанных ростров, следы множества пожаров. Командиром брига, как и предполагал Осман-паша, оказался человек молодой. Как противник в эти минуты, уже на исходе боя, он не интересовал больше адмирала. Только в незрелые, в молодые головы залетают шальные ветры, толкающие к бессмысленному сопротивлению. Капудан-паша не понял, почему дерзкий бриг вдруг развернулся носом и пошел на сближение с «Селимие». Но ему и недосуг было разгадывать загадки шалого молодого офицера. Три мысли одновременно мелькнули в голове Осман-паши.
Первая, позабавившая его: что намерен сделать бриг, идя на сближение? Своим жалким бушпритом и узким осиным корпусом пропороть линейный корабль, чтобы пустить его на дно? Вторая мысль, показавшаяся ему здравой: бриг вышел из порохового дыма на чистую воду с тем, чтобы сдаться. Хочет, чтобы на флагмане видели спускающийся флаг и прекратили огонь. Третья мысль, удержавшая Осман-пашу в состоянии боевой напряженности: он подумал, что нет у него доверия к капитану брига. От этого упрямца можно ожидать всего.
Капудан- паша отдал приказ выстроить на борту «Селимие» стрелков. Он решительно был настроен на то, чтобы обезопасить «Селимие» от любых случайностей. Надо метким выстрелом снять капитана, снять мачтовых офицеров, снять артиллерийского офицера.
Пули запели, прожигая паруса «Меркурия».
А командир брига с сердцем, бьющимся бешено и победно, осознал, что его противник совершил еще одну ошибку. Капудан-паша должен был поторопить бомбардиров с залпом; но потратил секунды на то, что выстроил на борту стрелков.
Взмахнул рукой Новосильский. Расчеты Корнеева и Лисенко дали единовременный залп книпелями. Вслед рявкнули семь остальных, заряженных ядрами и брандскугелями, орудий. Бриг прикрыло дымом.
Осветилась тремя огненными поясами «Селимие». Рев орудий линейного исполина оглушил. Холодная испарина покрыла лоб Казарского. Бомбардиры «Селимие» просто не могли не попасть в бриг, так удобно подставивший им борт.
Звуковая волна качнула бриг. Словно порывом шторма накренила на левый борт.
Командир «Меркурия» стоял, выжидая. Ощущал ту немоту в сердце и теле, когда плоть не знает, жива ли еще она, или душа уже покидает ее. Если турки попали в «Меркурий», должно было бы стать совсем темно, ибо все моментально окутается дымом. Но Казарский видел, у бортов «Меркурия» рассеивается только тот дым, который возник после залпа собственных карронад. А густые клубы дыма - целый черно-серый дымящийся город - возникли далеко-далеко за носом «Меркурия», на расстоянии в полкабельтова, но гораздо-гораздо правее. Словно бомбардиры «Селимие» метили не в «Меркурий», а в какую-то совсем-совсем иную цель. Все это было ни с чем несообразно. Ибо бомбардиры «Селимие» не столь беспомощны, чтобы целить в бриг, а палить в белый свет. Так командир «Меркурия» и увидел все одновременно: черно-серый дым над морем; «Селимие», беспомощную, как исполинскую бочку;
разбитую грот-мачту; повисшие, срезанные ватер-штанги и перлини (снасти). Борта турецких кораблей окрашены в красный цвет. И на них, на красные борта «Селимие», белыми снегами падали паруса.
Бортовой залп артиллеристы «Селимие» произвели. И быстрее всего он был бы последним для «Меркурия». Но к тому времени, когда они уже поднесли тлеющие фитили к запальникам, мачта «адмирала» была разбита, паруса падали. Ветер повернул нос «Селимие», сразу переставшую слушать руль. И залп пришелся в белый свет, в никуда, в пустое морское пространство. Майские ветры, - «озорники» и «позорники» - как называет их, сердясь, штурман Иван Петрович Прокофьев, с утра словно издевавшиеся над русским бригом, теперь хорошо и славно поработали.
Мощное «ур-р-ра-а-а!» сотрясло борт «Меркурия». Кричали бомбардиры, повскакав и прыгая, как бесноватые, у своих орудий. Орали мачтовые. Орали рулевые и сигнальщики. И Казарский орал вместе со всеми, и обнимал Корнеева и Лисенко, забыв о разнице в звании, в положении, чувствуя родство с бомбардирами. Сердце дрожало в груди восторженно и радостно. И ощущение братства с бомбардирами было столь прочным, как если бы он и они были единокровными братьями. Впервые за два часа боя и у командира, и у матросов появилась надежда выжить. Доброе дело - погибнуть за родину, сжечь и себя, и противника. А еще более доброе - уцелеть, послужить России верно и преданно. Человек рожден не для гибели, а для жизни; и их молодые тела радовались возможности выжить. Радовались просвету, промельку, затеплившемуся, как огонек далекого маяка.
Ахмет- паша не верил глазам своим. Он наблюдал за сражением с некоторого расстояния. Ему не было разрешено вступать в бой. И тогда, когда флагман поднял сигнал, отдавая приказ младшему держаться на дистанции, Ахмет-паша понял и сердцем принял правоту капудан-паши: бриг не стоил того, чтобы его почтили огнем два адмирала.
Два с половиной часа грохотала такая канонада, как будто сражались не два корабля, а два флота. Ежеминутно сверкали вспышки залпов с той и с другой стороны. Огненные стрелы молниями пронизывали клубы дыма. Грохот пушек перерос в громоподобные раскаты. С каждым выстрелом на «Селимие» Ахмет-паша думал: все, дерзкому бригу конец. Но теряли плотность клубы дыма. И непотопляемый бриг прорастал из рассеивающейся мглы своими двумя мачтами, низкими бортами и изрыгал новый залп своих немногочисленных орудий. Командир брига, очевидно, ни на минуту не забывал о молчавшем «Реал- бее». При всем том, что никакому штурману не удалось бы вычертить его курс, - так он крутился на воде, увертываясь от продольных залпов, - Ахмет-паша видел по своему компасу, что русский капитан упрямо правит на норд-норд-вест.
И вот теперь «Селимие», лучший корабль флота Порты, беспомощно дрейфовал, не в силах преследовать бриг! Ахмет-паша видел в трубу, как барахтались на палубе, выбираясь из-под опавших парусов, матросы. Как беспомощен старший офицер «Селимие» - отличный моряк! - сзывая артиллеристов. И как, спеша, ненавистный бриг с простреленными серо-черными от копоти и дыма парусами уходит по выбранному курсу.
Невероятно, но он - уходил!
Ахмет- паше и думать не хотелось о том, что будет с ним, если и он упустит ничтожный бриг. Султан Махмуд не четвертует адмиралов, он их просто бросит толпе, как бросают еще живую жертву львам. И султан будет прав! Бриг должен быть уничтожен, и он, Ахмет-паша, сделает это!
- К орудиям - скомандовал Ахмет-паша.
Отдал команду на брасы. Теперь, не опасаясь попасть под шальные ядра «Селимие», Ахмет-паша чувствовал свои руки развязанными. Капудан-паша, очевидно, не мог смириться с тем, что бриг, верная жертва, уходит. Едва бомбардиры повыползали из-под парусов и освободили часть орудий, «Селимие» возобновила огонь. Однако скоро умолкла, - дрейфующий, не слушающийся руля корабль не лучшая площадка для стрельбы.
На борту «Меркурия» крепла надежда. Разум подсказывал людям, почерневшим от пороха, отиравшим с лиц пот тяжелой военной страды, что дважды судьба не дарит удачу. Видели, уже лег в гон второй корабль врага. «Реал-бей» следовал неотступно за ними, сокращая расстояние. Так крупный и сильный зверь с неистраченными силами настигает уже измученную, израненную жертву. Но молодая кровь моряков «Меркурия» спорила с разумом, не соглашаясь с его доводами. Надежда выжить крепла.
Кок Филиппыч, штурманский ученик Федя Спиридонов, юнги Леонов, Антонов, Серегин разносили в ведрах воду и в медных бачках водку, - пей чарку водки и сколько хочешь воды. Запаленные, тяжело дышащие, люди пили воду жадно, - как лошади. Юнги Вахленко, Безбабков оттягивали от карронады тело убитого Пишогина. Скарятин, истинный старший офицер, хозяин корабля, без передыху взялся за неотложные работы, - матросы крепили фор-брамселя, меняли кое-что из поврежденного, мало надежного такелажа. Фельдшер Михайло Прокофьев управлялся с ранеными. И на быстрых ногах - словно и не было двух часов боя - бегал по палубе боцман Конивченко, кричал привычно зычно и сердито. С утра приборкой не занимались! И вот теперь не корабль, кабак, - грязь и срамота! Дока в своем деле и «чистодел», он душой страдал от того, что утром не было уборки. Что там бой, когда такую срамоту на борту терпят, пропускают уборку! «Игнатка-бора», едва отгремели залпы «Селимие», опять становился «Игнаткой-борой». А кто ж из истинных моряков, плавающих на Черном море не знает, как непредсказуема, как устрашающа новороссийская бора!
Казарский подозвал к себе, улыбаясь, боцмана. Сам прислонился к борту на шканцах. Показал глазами, приглашая отдохнуть, перевести дух боцмана:
- Игнат Петрович, что, мы с тобой вроде последние холостяки на «Меркурии»? Растут, говоришь, еще наши невесты? Как думаешь, успеют дорасти?
Грубое лицо боцмана с кожей темно-загорелой, похожей на подошву крепкого, несносимого сапога, неожиданно для командира осталось сосредоточенным, строгим. Боцман не осклабился, услышав шутку, не подпустил чего-то привычного, «соленого», «морского». Он вообще не принял шутки.
- А я, вашскородь, - проговорил Конивченко, - вот что про себя положил. Я Богу обещание дал. Ежели уцелею сегодня - так по прибытии в Севастополь тотчас и оженюсь. Пойду под венец с моей Прасковьей Матвеевной. Хватит мне судьбу пытать. Могу теперь и в огородишке покопаться.
Конивченко уже всю «царскую» сполна отзвонил. Мог уйти со службы еще три месяца назад. Но есть в человеке что-то - чувство долга, обязанность перед товарищами, к которой никто не понуждает, но которая не отпускает человека. И боцман, имеющий полное право жить в тиши и покое, остается в грохоте и огне, в аде боев.
Их услышал лейтенант Новосильский. Что сделали два часа боя с щеголеватым лейтенантом! Лицо грязное и потное, сюртук без лацкана, край его обгорел.
- Вот-вот, Петрович! Будешь уходить, и меня с собой прихвати! Твоя Прасковья Матвеевна баба хозяйственная. У нее непременно найдется запасная лопата для отставного лейтенанта. Лучше уж я буду у вас огород копать, чем вот так с «адмиралами» играть. Нет, Александр Иваныч, - с какой-то возбужденной, подкупающей искренностью проговорил лейтенант, споря со смеющимся командиром,
- Я что, их аллаху, пророк Магомет, что ли? «Если Магомет не идет к горе, гора придет к Магомету». Одну гору аллах на меня наслал, теперь вот вторую гору гонит.
И лейтенант показал на «Реал-бея», в самом деле, белого, как снежная вершина Казбека, грозно и неотвратимо надвигавшегося на «Меркурий».
Он, лейтенант Новосильский, которого матросы за лихую веселость характера и юность в выражении лида называют «гардемарином», пока еще не ведает, что одному ему предстоит долгая-предолгая жизнь, самая долгая из всех, кто сейчас на борту брига. Пока не знает лейтенант, что доживет до глубокой старости, что станет адмиралом, что будет награжден всеми мыслимыми и немыслимыми наградами, - и своего государя, и чужих правителей. Даже «Золотой медалью от султана», как сказано в «Общем морском списке», будет со временем награжден лейтенант Новосильский. Да, да, того самого султана Махмуда II, с которым яростно сражается. Среди его наград будет и «Золотая сабля», и «Табакерка с портретом Государя-императора» (Николая), и «Орден Святого Александра Невского, украшенный алмазами», и «Перстень с портретом Государя-императора«(уже Александра II), и Бриллиантовый знак ордена Святого апостола Андрея Первозданного». Но останется он, адмирал Новосильский, в памяти моряков более всего своими горькими и едкими остротами. Двадцатью с лишним годами позже, уже перед началом Крымской войны, когда многие русские офицеры будут видеть, как непозволительно отстает Россия от Англии и Франции в строительстве парового флота, на параде, который пройдет в присутствии Николая, генерал Витошкин похвалит одного офицера-кавалергарда за то, что его кобыла так хорошо держит строй, Новосильский, уже контр-адмирал, согласится с собеседником: «Действительно, - скажет он громко, так, чтобы его слышал государь-император. - Вы совершенно, совершенно правы, ваше превосходительство! Наша репутация зависит от скотов!»
Но пока на борту «Меркурия» Новосильский и верит, и не верит, что уцелеет. Ему двадцать шесть. И ему до сосущей тоски в сердце охота жить!
Казарский отпустил боцмана, пошел по палубе с юта на нос, Файзуил Зябирев с перевязанной головой, похожей на толстый белобурый чан, расслабившись, примостился лежа, подбирая под себя ноги, чтобы никому не мешать, у шпиля.
На шпиле, вертикальном вороте для подъема якорей, лежит пистолет командира. Как положил его Казарский дулом к люку крюйт-камеры, так он, заряженный, и лежит. Какая запарка на палубе! А, видно, каждый, и не думая о пистолете, держит его в голове. Ни рукой, ни веслом, ни неосторожным движением не сбросили со шпиля!
И притягивает к себе взгляды, холодя сердце, охранительно закрытый люк в пороховой погреб, - грозный н спасительный.
- Файзуил, иди в низы, - присел на корточки возле раненого Казарский.
Татарин метнулся было, готовый через силу подняться. Казарский придержал его за плечо. Файзуил уже смыл кровь с лица. Отлежался. Краска возвращалась в лицо.
- Йох! - оберегая голову, не мотая ею, протестуя одними горячими, заметно тревожными глазами, отказался Зябирев. - Моя башка - якшы башка! [43]
У люка порохового погреба, с заряженным пистолетом под рукой, татарин чувствовал себя хозяином своей судьбы и хозяином судьбы адмирала Порты. В темноте кубрика ему, в самом деле, было бы куда хуже. Грохот, топот, неизвестность, - там труднее.
- Ну, ну, - согласился Казарский, подымаясь. - раз тебе тут покойнее, будь тут.
Встал, поднес трубу к глазам. Расстояние между «Реал-беем» и «Меркурием» было не более трех кабельтовых. «Реал-бей» уже мог начать обстрел. Но продолжал преследование. Адмирал Ахмет-паша выбирал дистанцию верную, беспроигрышную. Намеревался покончить с бригом быстро, начав сразу огонь на уничтожение. Солнце склонялось к горизонту. Было пять часов пополудни. Не так уж далеко и до ночи. Но и не близко. В круге трубы Казарскому хорошо были видны оскаленные львиные морды на форштевне «Реал-бея». Даже удлиненные клыки в пасти львов. Львы - отменная скульптурная работа!
Залпы орудий «Реал-бея» сразу - без подступов, без нарастания - слились в канонаду. В ушах нестерпимо и опасно зазвенело. Казарскому показалось, что такого рева орудий он еще в жизни не слышал. Догадался, так показалось потому, что устал от грохота «Селимие», и слух еще не успел отойти в тишине от пережитого напряжения. Начиналась вторая схватка, более опасная, чем первая. Теперь для противников не было тайны друг в друге. «Реал-бей» не повторит ни одну из ошибок «Селимие».
Атака «Реал-бея» была неслыханной по ярости. Ахмет-паша вложил в бой все свое искусство, наживавшееся три с лишним десятка лет. «Адмирал», меняя галсы, появлялся то справа, то слева от «Меркурия». Никакие старания Казарского не давали возможности избежать метких попаданий «Реал-бея». Работа Ахмет-паши была работой грубой, но верной. Он не требовал от своих наводчиков того ювелирного искусства, которое вложили в свои меткие залпы бомбардиры Корнеев и Лисенко. Ахмет-паша требовал, чтобы артиллеристы пробивали корпус брига, засыпали его палубу брызжущими феерическим огнем брандскугелями. Это бриг не мог настолько продырявить исполинский линейный корабль, чтобы затопить его. А «Реал-бей» мог превратить бриг в решето, пустить на дно. Крики офицеров и унтер-офицеров перемешивались со стонами раненых на том и другом борту. Оба борта все учащали и учащали выстрелы. «Реал-бей» прочно и уверенно сидел на хвосте «Меркурия». Рев орудий «адмирала» и карронад брига слились в громоподобную канонаду. Стволы карронад раскалились. В густом дыму Казарский наткнулся на Конивченко, раненого, упавшего на палубу. Залитый кровью, Игнат Петрович крепко, цепко, по-боцмански, держал за штанину юнгу Леонова.
- Слушай, юнга, - хрипел он. - У меня всю дорогу брезенты мокрые были! Если ты, сучий сын, не будешь их мочить, как я мочил, башку оторву! Чтоб стволы не раскалялись!
Нарастающим свистом возвестило о своем приближении ядро. Грохнуло над головой. Громадный брус, показавшийся Казарскому черным, мелькнул в глазах. Казарский почувствовал удар в голову и жестокую боль во всем теле. Понял - падает навзничь.
Меркнущее сознание просветлело. Из беспамятства его достал чей- то истошный крик:
- Дохтура! Дохтура! Командира убило!
Крик оборвался. Прочная глухота подавила все звуки, даже рев орудий «Реал-бея».
Казарский не знал, долго ли, нет ли лежал он на палубе. Его привело в себя странное покачивание, ощущаемое всем телом. Он заставил себя открыть глаза. Четыре матроса несли его на руках, очевидно, в его каюту. Небо дымилось и клубилось, перемещая пороховые валы. На стеньге грот-мачты, на самом верху, был оторван рей, хлопал под ветром покосившийся кусок паруса. В голове гудело. Пересиленным движением руки Казарский приказал матросам, чтоб его опустили на палубу.
Тотчас над ним возникло бледное, растерянное лицо доброго Кочеткова. Ему не понравилась угнетенность фельдшера, - плохо, когда беда с командиром лишает подчиненного веры. Бригом уже командовал Скарятин, хладнокровный, скорый, решительный. Но мачтовым у грот- мачты стоял штурман Прокофьев. Морское дело - искусство. Дельный штурман должен быть докой в своем штурманском деле, но не может быть докой и в парусах. Непорядок, непорядок, когда штурман у парусов. Неужели так плохи дела на «Меркурии»? Если так плохи, то командиру не до фельдшера. Что он там говорит, добряк Кочетков? Говорит, стоять нельзя? Говорит, ходить нельзя? Говорит… Казарский отстранил Кочеткова. И поразился. Словно Кочетков был не фельдшером, не человеком, а тяжеленной дверью, с трудом отодвигаемой. За дверью то ли коридор, то ли труба диаметром в два человеческих роста, - сквозина, вся в протуберанцах ослепляющего свечения. Светлый ветер втягивал Казарского внутрь коридора. Только ступи, только сделай шаг, и тебя понесет неведомо куда потоком света. И сам ты, теряя плоть, теряя физическую тяжесть тела, поплывешь, превращаясь в световой поток. «Смерть зовет», - понял Казарский. Но и «Меркурий» не отпускал. В прерывистых просветах сознания возникла мысль о распоряжении, которое надо бы успеть сделать. Успеть - прежде чем ступить в зовущий и притягивающий тоннель. Палуба норовила уйти из-под нетвердых ног, - как будто бриг качал ураган. Казарский добрался, кем-то поддерживаемый, до Скарятина. Отвел его с дороги, - опять «отодвинул» тяжеленную дверь. И опять за Скарятиным высветился тоннель. Весь внутри в сквозных протуберанцах, в вихрях свечения. Из его нескончаемых далей тянул мощный ветер, втягивая командира внутрь тоннеля. Смерть звала настойчивее, гневалась, - не терпела непослушания. Казарский добрался до своих бомбардирев-ювелиров, - Корнеева и Лисенко. Хотел сказать, что надо бы попробовать унять разбушевавшегося младшего флагмана турецкой эскадры. Но не мог разомкнуть спекшиеся губы. Смерть, дышавшая из-за спины, уже запечатала рот. Казарский только рукой показал бомбардирам в сторону кормы. И все так же, кем-то поддерживаемый, сам двинулся в корму. Бомбардиры оставили бортовые карронады. На корме из ретирадных пушек палили Семенов и Тимофеев, черные от копоти. Все тем же слабым, пересиленным движением Казарский отстранил их от ретирад. Взглянул на Корнеева и Лисенко налитыми кровью, мутнеющими глазами: «Ну же, братцы, сделайте то, чего, кроме вас, сделать некому…»
Корнеев припал глазом к планке наводки.
Выстрел, - Корнеев и Лисенко срезали фор-брам-рей.
Еще выстрел, - срезали левый нок фор-марса-рея (верхние части фок-мачты).
Третьим выстрелом бомбардиры разнесли руслень «Реал-бея» (площадку снаружи борта, по которой бегут снасти, удерживающие фок-мачту).
Мачта «адмирала» качнулась.
Как перышки с подбитой птицы, пооблетели лиселя (косые паруса) «Реал-бея».
И захлопал на «султане» провисший мешковиной фор-марсель.
И отпустил ветер, обессилил фор-брамсель.
И замотались на высоте - словно Корнеев и Лисенко ножами по ним резанули - топенанты (канаты).
Нос «Реал-бея» повело. «Султан» задрейфовал. Так же беспомощно, как в отдалении дрейфовал другой флагман, «Селимие».
Бомбардиры, выпрямившись, стояли на корме, еще не веря, что погоня кончилась, что адовый день завершился победой над врагом, неслыханной в истории флота победой. Из-за спин бомбардиров смотрел на «адмирала» Казарский. Ждал, что там, где замутненным взглядом видел обвисающие паруса противника, вот-вот высветится световой тоннель и нездешний ветер втянет его в открывающуюся сквозину. Он, командир, кончил все свои командирские дела. Он сделал все, что мог. Он готов был ступить в зовущий к покою тоннель.
Но за кормой «Меркурия» все дрейфовал обессиленный, выпустивший ветер из парусов, «адмирал». Смерть, видно, нашла себе работенку поважнее там, на палубе «Реал-бея». Попризабыла Казарского.
Направляемый командами Скарятина, «Меркурий» выходил из серой мглы дыма.
Клубы рассеивались, редели, истаивали.
И все дальше за кормой оставались оба флагмана Порты. И далеко- далеко за ними дрейфовала остальная эскадра. Даль слила паруса дведцати кораблей в одно белое длинное облако.
Спотыкаясь, держась то за борт, то за мачты, но уже сам, без посторонней поддержки, Казарский брел по своему кораблю, намереваясь подсчитать потери. Опустившись на колени, прикрыл глаза боцману Конивченко, «Игнатке-боре», который так и не дожил ни до утренней приборки на «Меркурии», ни до своего венчания с солдатской вдовой с Корабельной слободки Севастополя Прасковьей Матвеевной. Казарский посидел над убитым, поминая его, провожая душу храброго моряка. У люка крюйт-камеры прикрыл глаза Файзуилу Зябиреву. Второе, смертельное ранение, татарин получил едва не с последним залпом «Реал-бея». Юное, тонкое лицо, смуглокожее, обрамленное чернущими волосами, которые трепал ветер, было покойно и торжественно. Файзуил больше не сторожил пистолет на шпиле. Больше его не страшила ярость единоверцев. Казарский протянул руку, снял со шпиля свой пистолет, который так и не понадобилось разрядить. Привычным движением руки вернул его на место, за пояс.
На «Меркурии» было двадцать две пробоины в корпусе, шестнадцать повреждений в рангоуте, сто сорок восемь в такелаже. Сто тридцать три дыры зияли в парусах.
Сменив галс, бриг уходил в Сизополь.
«Сизополь» - «город спасения». Так в переводе с греческого.
Туда, туда, в Город спасения, где в гавани, надежно прикрытой скалами, стоят корабли эскадры адмирала Грейга и капитана первого ранга Скаловского, Туда, где, верно, скорбя, уже похоронили «Меркурий», отдав со всех бортов залпы прощального салюта. Туда, где, верно, казнят себя никем не обвиняемые и ни в чем не виноватые, действовавшие строго по инструкции и в соответствии с жестокой логикой войны командир «Штандарта» Сахновский и командир «Орфея» Колтовский.
Туда, в гавань спасения.
Из резолюции царя Николая I
Адм. Грейг
Всеподданейший рапорт от 18 мая 1829 г. по поводу сражения брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями.
Капитан- лейтенанта Казарского произвести в капитаны 2-ого ранга, дать Георгия 4 класса, назначить в флигель-адъютанты [44] с оставлением при прежней должности и в герб прибавить пистолет.
Всех офицеров - в следующие чины, и у кого нет Владимира, дать Георгия 4 класса. Всем нижним чинам знаки отличия военного ордена и всем офицерам двойное жалованье в пожизненый пенсион.
На бриг «Меркурий» - Георгиевский флаг.
Повелеваю при приходе брига в ветхость заменить его другим, новым, продолжая сие до времен позднейших, дабы память знаменитых заслуг команды брига «Меркурий» и его имя во флоте никогда не исчезали, и переходя из рода в род на вечные времена служили примером потомству.
Двойное жалованье в пожизненый пенсион получили и все нижние чины брига. У бомбардиров Трофима Корнеева, Михайлы Семенова «окладного жалованья в год» было 17 руб. 82 коп. Иван Лисенко по документам к моменту боя был не бомбардиром, а канониром 2-ой статьи. Его окладное жалованье в год» - 12 руб 91 коп.
«Меркурий» стал вторым кораблем Российского флота, который - после «Азова» капитана I ранга Лазарева - получил кормовой Георгиевский флаг.
7. АУДИЕНЦИЯ
ИЗ «ФОРМУЛЯРНОГО СПИСКА О СЛУЖБЕ И ДОСТОИНСТВАХ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТА И КАВАЛЕРА ГВАРДЕЙСКОГО ЭКИПАЖА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КАЗАРСКОГО».
Вопрос:
- Имеет ли за собой, за родителями или, когда женат, за женою, недвижимое имущество или имение?
Казарский, заполняя «СПИСОК», ответил:
- Не имеет
12- го июня 1829-го года ворота главного дворца державы, Зимнего, открылись, впустив две тройки. Распахнулись дверцы адмиралтейских карет. Из первой вышел князь Меншиков с адмиралами. Из второй капитан II ранга Казарский в окружении неизвестных ему чинов того же адмиралтейства. Казарский, произведенный во флигель-адъютанты, был
в новой, с иголочки, форме. Князь не успел рассмотреть нового флигель-адъютанта в Адмиралтействе. И теперь бросил на него внимательный взгляд, осмотрев черноморца сразу всего, скользнув по нему вверх и вниз, и остановился на лице. Он отметил смугло-бледное лицо, быстрые глаза и живые ноздри. Такие лица можно увидеть разве что на скульптурных портретах древних римлян. Была понятна смуглость флигель-адъютанта, - от морских ветров, от солнца. Была понятна бледность, - контузия не бесследна. Было понятно достоинство, с которым ступил на площадь прибывший. Было не понятно выражение решимости на его лице, - сумасшедший древний военный гнев, которому смельчаки предаются на поле сражения или на палубе корабля и который называется храбростью. Вон как дышат тонкие ноздри, приберегая для чего-то внутреннюю ярость. Что собирается штурмовать черноморец? Императорский дворец?… Но дворец сам распахивает ему двери.
А Казарский чувствовал, что его сопровождают не чины адмиралтейства, - что ему за дело до незнакомых офицеров? Его, прибывшего в столицу, сопровождал человек, которого никто не видел. Не увидели солдаты у подъезда, взявшие на караул. Не увидел офицер, отдавший салют. Невидимым человеком этим, ступающим нога в ногу вслед Казарскому, был дед, Кузьма Иванович Казарский. Лейтенант екатерининской поры, одолевший головокружительный путь вверх по царским лестницам и слетевший с них вниз, в придворцовую лужу. Лужа была наготове, блистала иголочками света под летним солнцем после утреннего дождя.
Вскоре флигель-адъютант убедился, что со времен императрицы Екатерины в дворцовом этикете ничего не изменилось. Сами собой, как по команде «сезам, откройся», распахнулись дворцовые двери. Придворный Скороход склонил голову. Повернулся к прибывшим спиной и гордой, мягкой походкой начал, предводительствуя, шествие вверх по мраморным лестничным маршам. Как он мог, этот пронафталиненный старик, густо усыпанный золотом, ввергнуть в испуг и беспамятство простодушного деда? Казарский усмехнулся. Перед самым лицом его колыхались два громадных страусовых пера, вероятно те же, что были на шляпе Скорохода пятьдесят лет назад. Известно, страусовые перья не сносимы. Они мешали. Казарский укоротил шаг. Старусовые перья стали качаться на большей дистанции.
Двери зала распахивались. И в каждой появлялся новый пронафталиненный старик, усыпанный золотом, увешанный лентами, и, гордый, занимал место во главе шествия. Так их встретил в распахе дверей Гоф-Фурьер, потом первый чиновник Церемониальных дел, второй, третий, Главный Церемониймейстер, Гофмаршал и Обер-Гофмаршал.
В этой череде стариков лишь один обер-церемониймейстер, выделялся, - был черный, как смоль, и молодой, как камер-юнкер.
Ступили в Залу Приемов.
Народу было много. Все у стен. Пустое пространство сквозной галереей уходило в глубь Залы. У стен много темных морских сюртуков, военных ментиков и зеленых с красными воротниками вицмундиров чиновников Иностранной коллегии. И было много дам. Но Казарскому пока было не до тех, кто у стен. Он шел первым из прибывших за Скороходом, церемониймейстерами, гофмаршалом, министром двора. Но вдруг эта первая волна шествия остановилась, расступилась, отошла, оставив его впереди. Так море в отлив отходит, оставляя корабль на мокром донном песке.
Два царя в костюмах кавалергардов сдержанно и приветливо улыбались герою Босфора. Один со стены, с портрета. Второй с возвышения, похожего на корабельные шканцы. Николай и Казарский были почти ровесниками. Флигель-адъютант отметил редеющие, не по возрасту, волосы, светлые, похожие на северное небо глаза и лосины неправдоподобной белизны. Зоркость собственного взгляда, памятливость к подробностям, особенно, вот к этим лосинам невероятной белизны, свидетельствовала о том, что он, офицер из заштатного Севастополя, из далекой провинции, с дальних, окраинных российских берегов, в полном порядке.
Отступи дед, Кузьма Иванович Казарский.
Внуку твоему не быть сброшенным в придворцовую лужу.
Ничтожно малая «держава», именуемая «офицер флота Александр Иванович Казарский», встретила милостливый монарший взгляд со спокойным достоинством. Много нежданных милостей принял Казарский в последний месяц. Не последней из них было распоряжение царя в резолюции: «… произвести в капитаны II ранга… с оставлением при прежней должности…» Уходить с родного флота Казарский не хотел. Во всяком случае, пока не хотел. И рад был, что ему велено возвращаться на «Меркурий». Бриг, израненный, в подпалинах пожарищ, стоял уже в доке, на ремонте.
Плавать в Маркизовой луже, в Финском заливе?
Увольте от таких милостей.
- Ваше величество! Имею честь явиться, капитан II ранга Казарский.
Николай сошел с возвышения, как со шканцев на корму. Прошел к нему, в середину Залы.
Чуть поднял подбородок. И тут разыгралось последнее действие, которое не раз ввергало в оторопь и не таких, как дед Кузьма. Прежде, чем император произнесет первое слово, должны - так по установленному тут порядку - державно дохнуть громом пушки на Петропавловке. Обыватели столицы оповещались, что победе маленького брига над двумя «султанами», над двумя адмиральскими кораблями император придает то же значение, что и выигрышу в крупной баталии.
Синхронность совпадения движений: поднятый подбородок, взгляд вбок и гром первого залпа, - могли показаться мистикой. Казарский проследил взглядом направление взгляда Николая. Гоф-маршал отступил к окну и там повелительно махнул рукой. После чего и грянули пушки. Во времена Александра, во времена Павла старик, верно, был не гофмаршалом, а маршалом, и тогда пушки по мановению его руки палили не холостыми снарядами.
О победах, которым суждено остаться в истории, столицу извещала Петропавловка двадцатью одним выстрелом. Впрочем, с той же Петропавловки уханьем пушек столицу извещали и о наводнениях. И обыватель каждый раз переживает краткий миг изумления, соображая, радоваться ли ему или печалиться.
Николай взглянул на черноморца взглядом быстрым и метким. Проговорил с некоторым вопросом в голосе:
- Помнится, бриг «Меркурий» строился на севастопольской верфи?
- Так точно, ваше величество. Ваша память вызывает зависть.
Но он видел, зависть вызывал он сам. Зал Приемов был буквально пьян завистью. Ах, как на него смотрели! Как ели его глазами! Как длинно вытягивали к нему и государю шеи из шитых золотом сановных воротников! Как внимали каждому слову, произносимому под грохот орудий! Как мучались от того, что не все могли расслышать!
И только один Пушкин, поэт, проникновенный ум, заметит не монаршие милости, а человека, запишет в дневнике: «Сегодня двору был представлен блистательный Казарский».
И ниже, загадочное, летящим пером:
«Держава в державе».
* * *
Никто не торопил флигель-адыотанта с отъездом. А Дмитрий Лазутин, брат Татьяны Герасимовны, оказался хорошим и простым товарищем. Через него Казарский получал приглашение за приглашением то на офицерскую холостяцкую пирушку, то на литературные обеды, которые были в большой моде. Юг воевал, а залы дворянского собрания и залы лучших домов столицы были великолепно начищены и блестели. На балах особенно любили котильоны. Барышни мило тянули к нему ручки с веерами. На веерах полагалось писать мадригалы.
Пожалуй, он долго мог бы оставаться l ’homme du jour. [45]
С непривычки все это стесняло и сильно утомляло.
Казарский ждал царской аудиенции, о которой просил Николая.
Он был принят через три дня после торжественного представления двору.
Флот воевал.
Нет никакой возможности предсказать дальнейшее течение войны. Битый Осман-паша - флотоводец решительный и внезапный.
Битый - не убитый.
Никто не скажет, что будет завтра.
На Кавказе, у Паскевича, заключен Туркманчайский мир, который очень расстроил Англию. Дибич, встречаемый с восторгом православным населением Балкан, завершает свой переход, которому, без сомнения, предстоит быть историческим. Идет к Адрианополю. Войска в нескольких переходах от Константинополя. Говорят, в посольствах Англии, Франции, Австрии горячая работа. То, чего не может сделать султан, собираются сделать дипломаты: остановить русских.
Только ли остановить?
Или - вступить в войну?
«Меркурий» в доке.
Корабль взыскует глаза командира.
Флигель- адъютант был принят в обстановке уже обыденной. Его встретил дежурный флигель-адъютант. Взошел впереди него по широкой дворцовой лестнице. Оставил на некоторое время в комнате ожидания, среди ожидающих приема. Вернулся. Пошел по Белой галерее, но не в Портретную залу, как в прошлый раз, а вправо, в одно из помещений. В Залу Аудиенций.
Николай встал из-за стола, оставил кресло за собой. Улыбнулся. И Казарский понял, почему у флигель-адъютантов, отныне его коллег, одинаковые улыбки. Флигель-адъютанты, высокие и низкие, с плотной статурой и тонкие, были чем-то неуловимо похожи друг на друга. Нет, это было, конечно, не сходство матрешек, вынимаемых из большой матрешки. Но тем не менее сходство было.
Улыбка государя - знак высочайшего благорасположения. Тенью этой улыбки, зеркальным отражением и была улыбка встретившего его дежурного адъютанта.
Николай, рано начавший лысеть, зачесывал пряди височные к уголкам глаз. Зачесывали точно так же виски - «под Николая» - и военный генерал Чернышев, и все флигель-адъютанты.
Усы царя, стоившие, вероятно, ему не малых забот, закручивались на кончиках кверху. Жиденькие седые усы генерала Чернышева, усы всех флигель-адъютантов загибались кверху.
Форма бакенбардов Николая многократно повторялась в формах бакенбард флигель-адъютантов.
Но, поразился Казарский, флигель-адъютанты были похожи один на другого и ни один не был похож на Николая. Почтительное выражение лица выдавало людей зависимых, готовых служить. Выражение лица Николая было выражением властителя.
Николай умел работать.
И любил работать.
В Зале Аудиенций - простота рабочего кабинета. Два бюро меж окон, сквозь которые простор неба. Огромный письменный стол. Кресло. Стулья.
Все.
Он вышел из-за стола. Стоял, огромный, с крутыми плечами и круглой грудью, в мундире с эполетами.
Где этот человек, в руках которого, действительно, сосредоточена невероятная власть, найдет нужным прочертить границы России? По северной кромке берега Черного моря? Тогда армия, флот - его опора. Зачем же с боями брали Суджук-Кале, зачем лили кровь за Анапу, если без боев, бескровно, самим оставить их туркам, как понуждает Англия?
Ну, а если точка такой границы… Стамбул? Рубит же с плеча, с армейской откровенностью генерал Дибич: «Ссйчас у России две столицы, Петербург и Москва. Скоро будет третья - Стамбул.
Что тогда ждет армию? Флот?
Турки - не куклы.
Тогда - джахат [46] .
Тогда война без конца.
Завтрашний день Черного моря - загадка.
- Просите, Казарский, - проговорил Николай, показывая на стул и сам садясь. - Ведь у вас есть личная просьба, раз вам понадобилась аудиенция.
Просьба была. Но уж не о том, чтобы стать новым «матрешечным» флигель-адъютантом. Его просьба насторожила князя Меншикова и не понравилась морскому министру Моллеру.
- Ваше величество! - проговорил Казарский, весь внутренне напряженный. - Двенадцатого мая близ Пендераклии был сдан туркам русский корабль. Кораблем сим был фрегат «Рафаил», командиром его Стройников. Мне известно, что сейчас ведутся переговоры об обмене пленными, что турецкая сторона настаивает на персональном обмене капитана II ранга Стройникова на помощника коменданта Анапы билим-башу Теймураза. Дозвольте, ваше величество, сей обмен произвести на борту брига «Меркурий». Бриг может взять на борт до ста человек пленных.
Николай резко и гневно вскинул голову. Поднялся. Отошел к окну.
Ходили слухи, что султан Махмуд II, с трудом перенося позор поражения, намеревается принять своих возвращающихся из плена подданных на борт «дарованного аллахом» «Рафаила». Дело царя и султана, как им рассчитаться друг с другом, соизмеряя самолюбия. Подданный в такой спор - не лезь!
Если к Стройникову охота пробудить сочувствие, значит есть мысль, что не за одним Стройниковым вина?
Да не проникла ли уже и во флот крамола инакомыслия?
Николай знал, что военные его «хвалили». Говорили: он был бы «хорошим отцом-командиром». То есть всего командиром полка. Не больше. Согласиться с этим он не мог, даже оставаясь наедине с самим собой, со свими мыслями.
Всю Европу он держал в кулаке. Притихла, умывшись кровью, под его диктатом бунтующая Венгрия. Волновалась и обессиленно покорялась силе Польша. Он давно привык к возбуждаемому им ужасу.
Глаза его, серые, мгновенно стали серо-свинцовыми. Бестрепетно
смотрели на жертву, которая должна почувствовать, что стоит и рудников Сибири, и кандалов, и сырых камер Петропавловки.
- Вы понимаете, Казарский, что вы дерзки? - проговорил он.
- Моя просьба смиренна, государь. - Казарский тоже поднялся; взгляда не отвел.
Только в конце мая сизопольская эскадра узнала, что пропавший без вести «Рафаил» взят турками. Что в плену у турок капитан II ранга Стройников и вся команда фрегата.
Постепенно время прояснило подробности.
Еще 5- го мая в крейсерство к кавказским берегам ушли бригантина «Елисавета», бриг «Пегас», шлюп «Диана» и шхуна «Гонец». Запоздало, уже 9-го мая, адмирал Грейг отдал приказ «Рафаилу» тоже идти на Кавказ, а капитану II ранга Стройникову принять на себя командование отрядом. Так «Рафаил» оказался один в тисках турецкой эскадры, состоявшей из шестнадцати вымпелов.
В кают- компаниях, в каютах командиров кораблей споры о том, как случилось, что Стройников, боевой командир, вдруг без боя сдался туркам, были такими яростными, что имели бы последствием своим не одну дуэль, если бы не бдительность Грейга и Скаловского, объявивших по эскадрам, что виновный в дуэли немедленно будет «выслан в Россию» без внимания к прежним заслугам. Воюющий Черноморский флот почитал «высылку в Россию» признанием никчемности офицера, непригодности его к корабельной службе. А споры нижних чинов на полубаке, в портовых кабачках нередко кончались свирепой костоломкой.
Обе сизопольские эскадры пришли к согласному мнению: победить «Рафаил» не мог; но погибнуть, избегнув бесчестья, мог. Положил же Казарский перед началом сражения, не надеясь выйти из него живым, заряженный пистолет на шпиль у крюйт-камеры! Почему Стройников не сделал так же?
Стройникова - осуждали.
Позор - спустить флаг даже в неравном бою.
Позор неслыханный - спустить флаг без единого выстрела.
Но за закрытыми дверями офицерских кают судили и… вице-адмирала Грейга.
Почему «Рафаил» оказался один в тисках вражеских кораблей? Откуда такое легкомыслие в запоздалом приказе «Рафаилу» идти вдогонку уже ушедшему отряду? Что, война закончена, и корабли могут выходить на безопасные морские прогулки?
Казарский тоже спорил, - горячо, с обжигающей волной крови, обливавшей сердце каждый раз. И множество раз, оставаясь наедине с собой в своей каюте, возвращался в думах к картине сдачи «Рафаила». Содрогался внутренне. На эскадрах говорили: «Казарский тоже оказался один меж двух «адмиралов», а не сдался же!» Но Казарский не соглашался с этим. Да, «Меркурий» оказался настигнутым двумя «адмиралами». Однако, думал Казарский, его обстоятельства другие, совсем другие! А для живого человека обстоятельства - это все.
Господь Бог так уж сотворил плоть человеческую, что дал ей страх перед концом и неизбывное желание жизни. Не легко бросить корабль, а вместе с ним и свою живую плоть, вопящую о жизни, в огонь боя. Надо очень разозлить себя, рассвирепеть, почувствовать шкурой ненавистного врага, чтобы стать вроде быка с налитыми кровью глазами, который, хоть лоб расшибет, а пробьет рогами обидчика!
«Меркурий» имел время рассвирепеть.
Во- первых, он и вышел-то в дозор не один. Пусть «Штандарт» и «Орфей» ушли. Ощущение, что ты в составе отряда, у команды осталось.
Во- вторых, погоню «адмиралы» начали на рассвете, а настигли бриг около двух пополудни. Возмущение на борту закипало с утра, наливалось взрывной силой изнутри и потом рвануло подожженым порохом, -адмиралы, командиры линейных кораблей, не побрезговали бригом, тогда, когда по всем правилам морской чести должны были выбрать более сильных противников! Тут уж погибни, а намыль холку адмиралам.
Казарский вновь и вновь живо, во всех подробностях представлял себе минуту, когда «Рафаил» спустил флаг.
Туман. В парусах нет ветра. «Рафаил» едва ползет. Семен Михайлович - это уж без сомнения! - всю ночь на палубе. Вахтенные сменяются, а он с каждой сменой вновь начинает свою командирскую вахту. И вот фрегат на траверзе Пендераклии. Сражение в гавани уже отгремело. Корабль «Султан Махмуд» сожжен, форты разрушены. Русская эскадра давно ушла в Сизополь. Турецкий флот, если он ищет встречи с противником, может быть где угодно, но не у Пендераклии. Это против всякой логики быть флоту там, где дело давно кончено и уже остыли головешки на пожарищах, вызванных баталией.
К рассвету Семен Михайлович уходит в свою каюту. Его, едва уснувшего, подымает грохот в дверь вахтенного. Он вскакивает, уже зная, что случилось непоправимое. И вот он, не понимающий, не дурной ли сон все это, не верящий в то, что проснулся, на палубе. Сотни черных орудийных зевов направлены на «Рафаил».
Казарский меньше бы жалел Семена Михайловича, если бы тот погиб. Участь Стройникова, живого, такова, что мертвому позавидуешь!
… Николай молчал и смотрел на офицера, на его эполеты с вензелями, такие новые, что не только пообмяться, припылиться не успели. Казарский стоял перед царем и с отвращением чувствовал нарастание страха в себе. Говаривали, под взглядом Его Величества, когда тот бывал в гневе, люди столбенели от ужаса. Случалось, боевые офицеры немели и потом заиками оставляли службу.
Казарский ждал: «Вон!»
- Государь! - понуждая себя довести до конца задуманное, проговорил он, внешне спокойный. - Позвольте мне напомнить, за взятие Анапы капитан-лейтенант Стройников был награжден орденом Святой Анны второй степени. На транспорте вражеском, призом им взятом, была жена билим-баши Теймураза. Я сам вел допрос жены билим-баши. Когда его превосходительство адмирал Грейг принуждал коменданта Анапы Шатыра Осман-оглы сдать крепость, жена билим-баши, жена племянника везиря, крупным доводом была!
Николай молчал.
И Казарский подумал, как далек, как невероятно далек государь от людей воюющих. Ему кажется, окажись он сам на «Рафаиле», русский фрегат не был бы посрамлен. Никогда смерть не заглядывала в глаза государя, и ему не понять, что смелому поведению человека, бросающего себя в огонь боя, каждый раз предшествует тяжелая работа души.
- Это ваша единственная просьба, господин Казарский? - спросил Николай.
- Единственная, государь,- к неудовольствию императора ответил Казарский.
Дерзких Николай не любил…
Но случались минуты, когда он с удивлением ощущал, что у его власти над людьми есть границы. Нет, ему никто не перечил. Гнили погребенные заживо в сибирских рудниках строптивцы, вышедшие на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Дотлевали в земле останки пяти повешенных.
Сопротивляющихся не было - а сопротивление было.
Пока его царская воля совпадала с какой-то глубинной рекой - волей народной - его войска одерживали победу за победой. Командиры были храбры, солдаты самоотверженны. Самые безнадежные штурмы заканчивались победой.
Защита соотечественников, поселившихся на берегах Черного моря, от кровавых расправ янычар, воспринималась и солдатом, и офицером, как дело кровное, родственное. И тут с турками сходились насмерть! Братья-христиане - болгары, валахи, фракийцы, греки - стонущие под пятой Османской империи, взывают о помощи, и солдат, офицер России слышит этот братский зов, сердце его откликается. В пределах этого государь - полный властитель над своими подданными. Но вот он говорит, что в Константинополе, в Ак-Мечети, ключи от гроба господня, и христианам надо потому взять Ак-Мечеть. - Войска молчат. Он знает, что может бросить полки за полками на Стамбул. Но те же офицеры станут безинициативными и тупыми, те же солдаты пугливыми и острожными. Еще бабка Екатерина II положила младшему из внуков, Михаилу, стать губернатором в Стамбуле. Но так и не смогла посадить его на трон султана. Не смогли этого сделать ни Павел, ни Александр. Не сможет этого, судя по всему, сделать и он, Николай. И не потому, что этому всячески препятствуют англичане и французы, - а они препятствуют! А потому, что невидимая, глубинная река - воля народная - тут расходится с его волей. Проливы Босфор и Дарданеллы для русского сознания - такие же исконно турецкие, как Волга - исконно русская. За Анапу русский будет воевать, живота не жалея. За губернаторское кресло для брата Михаила в Стамбуле - нет.
Мысли такого рода редко посещали Николая. Но когда посещали его, они были ему неприятны.
Однако в баталиях побеждают дерзкие, а не послушные.
Николай перевел тяжелый взгляд с Казарского на дежурного флигель-адъютанта князя Барятинского у двери кабинета. Князь был румян и славно сложен. Стоял с отсутствующим выражением лица, словно в ушах его пробки, и он не слышал непозволительной просьбы просителя. Височки у Барятинского - «под Николая». Усики - «под Николая». Но Барятинского Николай никогда не пошлет на театр военных действий, ибо с ним не только брату Михаилу не иметь губернаторства в Стамбуле, а и Анапе не долго быть русской Анапой.
Что ни говори, командир «Меркурия» не посрамил флага российского. Этот дерзкий скромник сознает цену своей победы. У Николая есть турецкие, английские, французские газеты. У Николая есть каналы связи графа Канкрина и графа Нессельроде. Моральный урон у Босфора нанесен турецкому флоту такой, что бой стоит победы Лазарева при Наварине. Когда капитан-лейтенант бьет двух адмиралов, один из которых верховный адмирал Порты, он одерживает победу далеко не тактическую. Флот Порты деморализован до конца кампании. Ему не скоро оправиться от такого удара.
Николай любил видеть, как возбуждает в людях страх. Но любил и быстрые переходы в себе от гнева к ласковым словам и теплому взгляду.
Он принудил себя улыбнуться.
- А все-таки вы нахальны, Казарский! И я теперь понимаю, почему так не повезло капудан-паше при встрече с вами!
Заканчивая аудиенцию, пообещал:
- Я отдам распоряжение князю Меншикову, чтобы обмен пленными произошел на борту «Меркурия».
Из работы «ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В ПРОДОЛЖЕНИИ ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ В 1828 И 1829 Г.Г.
СОЧИНЕНИЕ В.И. МЕЛИХОВА»
«На траверзе Инады сошлись на rendez-vous два корабля, неприятельский и наш, бриг «Меркурий». С борта «Меркурия» 70 пленных турок перешло на борт своего корабля. С борта турецкого судна 70 пленных русских перешло на борт «Меркурия». Это были все, кто остался в живых из команды фрегата «Рафаил» без малого в двести человек. Среди них был и бывший командир бывшего «Рафаила» С.М. Стройников».
….
Состоялся военный суд над Стройниковым. Прошел он в Севастополе.
ИЗ «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
СТРОЙНИКОВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ.
1830 г. июля 6-го. По Высочайшей конфирмации лишен чинов, орденов и дворянства, и назначен в Бобруйскую крепость в арестантские роты.
Но к расстрелу приговорен не был. Не этого ли добивался испросивший аудиенцию у непредсказуемого в гневе Николая Казарский?
К расстрелу Черноморский флот приговорил фрегат «Фазли Аллах» - «Дарованный Аллахом». За фрегатом охотились.
Рыжий англичанин лейтенант Слэд, будущий Мушавер-паша, опубликовал в свое время свои записки «Пассажир на адмиральском судне». Он был на борту «Реал-бея» уже 5 июня 1829 года. Слэд видел, турки сняли фигуру Рафаила с форштевня. «На шеке, - пишет Слэд, - вместо ангела, посажен был ананас. (Мусульмане не разрешают себе изображения людей и, тем более, своих святых, считая, что сотворение лика человеческого, тем более лика святого, подвластно только Богу. Ананас - сладкий дар аллаха). Говорили Ахмет-паша и лейтенант Слэд о бое «Селимие» и «Реал-бея» с бригом. «Капитан-бей бесился, рассказывая мне этот случай, - пишет Слэд. И приводит слова Ахмет-паши: «Заяц был в моих руках, но собаки мои испугались собственного лая: при первом пролетевшем ядре бросили орудия!»
Кличка «Ахмет-попуджи» («Ахмет-сапожник») сопутствовала Ахмет-паше до могилы.
Сжег фрегат, бывший «Рафаил», двадцать четыре года спустя в Синопском бою Нахимов. Корабли его эскадры обрушили ужасающий огонь на одряхлевший корабль. И не прекратили обстрел до тех пор, пока не убедились, что пожара на нем нельзя потушить.
Флигель- адъютант Казарский личные поручения царя выполнял. И не раз. Но никогда не бывал в числе дежурных по Зимнему, сопровождающим прибывших к государю людей до дверей его кабинета. Никогда не скакал с пакетами от государя к главному командиру Черного моря и портов и с пакетами главного командира к государю, загоняя лошадей, разбивая в кровь лица ямщиков. В тридцатом году Казарский был командирован в Англию, где «знакомился с королевским флотом». Памятная командировка! Вернулся, возбужденный виденным. В сильном беспокойстве за судьбу флота. Подает «Записку» императору, полную конкретных, дельных, справедливых и прямо-таки провидческих суждений: в английском кораблестроении -смена эпох. Называть паропарусные фрегаты «самоварами» (а так их называл даже капитан-лейтенант Нахимов!) - ничего не понимать. У паропарусного флота преимущества перед парусным несомненные.
Эти провидения - когда Россия с победой. Побежденной Турцией смиренно подписан Адрианопольский мирный договор. Греция получает свободу, добытую русским оружием. Можно бы и не досаждать государю размышлениями об отставании…
В тридцать втором году Казарский уже капитаном I ранга «прошел по рекам, переволокам и озерам из Белого моря до Онеги», надо полагать, разведывая водный путь, который бы - при строительстве каналов, - мог бы соединить северные моря и Балтику.
В тридцать третьем, когда вновь запахло порохом, флигель-адъютант в Одессе. «При генерал-губернаторе». «Готовит корабли десанта».
То есть всегда выполнял поручения, где требовались знания и опыт боевого командира.
Татьяна Герасимовна Воздвиженская, словно отшельница в скиту, затворилась в своем особнячке на Малой офицерской. Никуда не выезжала и мало кого принимала: жену штабс-капитана Клепикова, Антонину Ефимовну, да Казарского. Дуняшка открывала дверь Казарскому и, осторожная, как чуткий зверек, оглядываясь, шептала: у барыни Антонина Ефимовна, опять раскладывает карты и опять сулит барыне очень, очень много детей; все считает и никак не может пересчитать всех по головкам червей. Дуняшка стала прехорошенькой, заневестилась, собралась замуж за подшкипера адмиралтейства. Барыне жалко было расставаться с ней, и она готовила ей хорошее приданое.
Печать подвижничества, всегда угадывавшаяся в Татьяне Герасимовне, после суда над Семеном Михайловичем Стройниковым стала очень приметной в ее облике. Воздвиженская стала строже, суше и еще красивее, чем прежде. Ее брат флигель-адъютант Дмитрий Герасимович Лазутин сердился, не принимая затворничества сестры. Три года спустя после суда, Казарский сделал Воздвиженской предложение. Она не отказала. Но, поднеся к повлажневшим глазам платок, проговорила:
- Грех вам, Санечка, торопить меня!
Брат говорил ей, что Стройникова помилуют, но, как положено по уставу, он будет переведен в матросы.
Так и произошло.
ИЗ «ОБЩЕГО МОРСКОГО СПИСКА»
СТРОЙНИКОВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ
1834 г. апреля 11-го. Освобожден из арестантской роты и
написан в матросы на суда Черноморского флота.
Напрасно Воздвиженская ждала этого освобождения! От встречи со своей бывшей невестой Стройников отказался. Он сам себя приговорил к смерти, и только крест христианина не позволял ему окончить жизнь до времени.
Из всех моряков «Рафаила», уцелевших в плену, приговором военного суда был оправдан лишь один мичманок, совсем мальчишка. До самого последнего момента он был в крюйт-камере «Рафаила» с фитилем, горючей смесью наготове. Все ожидал приказа командира взорвать фрегат. Когда его брали в плен, он рыдал, упав на мешки с порохом.
Но пока Стройников еще в арестантских ротах, а жена штабс-капитана Клепикова все считает по головкам крестей будущих детей Татьяны Герасимовны и все никак не может сосчитать…
Наверное, рано или поздно брак Казарского и Воздвиженской состоялся бы. И не исключено, сейчас жил бы в Севастополе какой-нибудь потомок Александра Ивановича, прапраправнук, и собирал бы материалы о своем славном пращуре. Браку состояться было не суждено. В 1833 году при обстоятельствах загадочнейших Казарский скоропостижно скончался…
Антонина Ефимовна Клепикова, упорно предсказывавшая Татьяне Герасимовне Воздвиженской несосчитываемую кучу детей, оказалась пророчицей. Воздвиженская оставила Севастополь. Переехала в орловское имение родителей своего первого мужа и вскоре открыла сиротский приют. В Орловской губернии уже давно жила с мужем одна из сестер Александра Казарского, Прасковья. Другая сестра, Екатерина, выходила замуж за армейского офицера. Но тот оказался женатым. Екатерина окончила дни в монастыре, тоже под Орлом. Женщины дружили до конца дней своих. На нежданных, обрушившихся на них тяжким обвалом, похоронах Казарского присутствовала одна из троих, - Прасковья. Показания ее есть в документах судебного разбирательства, учиненного по личному распоряжению Николая в губернском Николаеве.
Непроницаема завеса тайны, скрывающая подробности гибели Казарского.
Его дядюшка, Алексей Кузьмич Мацкевич, суливший ему наследство, при всей своей дряхлости дотянул до 1833 года. Выходит, недаром племянник не торопил его со смертью. Предчувствовал, что ли, что смерть дядюшки совпадет с его гибелью? И как объяснить опасения старика, не верившего, что племянник, совсем не мот, не удержит деньги?
Но вот документ той поры. Записка Бенкендорфа (да, да, того самого, шефа жандармов, гонителя Пушкина) Николаю. От 8 октября 1833г.
«… Дядя Казарского, Мацкевич, умирая, оставил шкатулку с 70 тыс. руб., которая при смерти была разграблена при большом участии николаевского полицмейстера Артамонова. Назначено было следствие, и Казарский неоднократно говорил, что постарается непременно открыть виновных. Артамонов имеет связь с женой капитан-командира Михайловой, женщиной распутной и предприимчивого характера. Казарский после обеда у Михайловой, выпив чашку кофе, почувствовал в себе действие яда и обратился за помощью к штаб-лекарю Петрушевскому, который объяснил, что Казарский беспрестанно плевал и оттого образовались на полу черные пятна, которые три раза были смыты, но остались черными. Когда Казарский умер, то тело его было черно, как уголь, голова и грудь необыкновенным образом раздулись, лицо обвалилось, волосы на голове облезли, глаза лопнули и ноги по ступни отвалились в гробу. Все это произошло менее, чем в двое суток. Назначенное Грейгом следствие также ничего хорошего не обещает, ибо Артамонов - ближайший родственник адмирала Лазарева».
Лазарев был любимцем Николая. Но истину Николай любил больше. Потрясенный кончиной дельного офицера, он распоряжается:
«Поручаю вам (кн. Меншикову, главе Морского министерства) лично, возлагаю на вашу совесть открыть истину по прибытии в Николаев.
Слишком ужасно!!!»
Три восклицательных знака - его.
Комиссия разбиралась в происшедшем с 9 ноября по 16 ноября 1833 года. В ее выводы можно поверить. А можно и не поверить им:
«По заключению члена сей комиссии помощника флота генерал-штаб лекаря доктора Ланге, Казарский помер от восполения легких, сопровождавшегося впоследствии нервною горячкой».
В нервной горячке-де Казарский и говорил о разграбленной шкатулке, о том, что отыщет виновных. А сплетники, вроде давно имевшего зуб на полицию николаевского купца I-ой гильдии Коренева, раздули их. И еще-де донос исходил «от непросвещенного понятия родственника Казарского чиновника Охоцкого и некоторых людей о знаках изменения тела во время стояния его в церкви».
Ну а то, что «тело Казарского (при отпевании в церкви) было «черно, как уголь, голова и грудь необыкновенно раздувшись…», то «сие было дело начавшегося тогда уже гниения…»
Отчего бы при воспалении легких так уж «раздуваться голове»?
Некоторые современные исследователи, в частности, писатель В. Шигин, доказывают, что в гибели Казарского были заинтересованы флотские казнокрады. Флигель-адъютант Казарский-де не хотел мириться с их злоупотреблениями. Но и эти доказательства зыбки.
Напомним же все-таки читателю фамилию Артамонова, николаевского полицмейстера, брата бывшего главного шкипера севастопольского адмиралтейства Артамонова.
Счеты с Казарским было кому сводить.
Николай умер через двадцать два года после кончины Казарского, в 1855 году, когда весь мир потрясли залпы ужасающей канонады, - боев за Севастополь во время Крымской войны.
Смерть его тоже была неожиданной. Все у государя, отличавшегося отменным здоровьем, началось с легкой простуды и вдруг, в одночасье, кончилось параличем легких. Существует версия, никем до конца не опровергнутая: не умер, а отравился. Не смог себе даже представить, как он, самодержец России, гроза Европы, сотрясаемой революциями, подпишет позорный договор о поражении. В день его кончины толпа кричала, что царя отравил его врач, немец Мундт. Лейб-медику пришлось тайно бежать сначала из дворца, потом из России.
В тот день Севастополь еще стоял, Севастополь еще сражался, но Англия и Франция выигрывали «поединок». Технический прогресс одерживал победу над косностью и застоем. Не один Казарский докладывал Николаю о видимом уже отставании в кораблестроении. Доклады такого рода, что ни год, ложились на стол Николая.
1835 год. Беспокойство флотских передается Николаю:
«Надо б купить планы и модели. Весьма любопытно. За деньгами нечего останавливаться, лишь бы полезное достать. Выслать ему (консулу в Лондон) 300 ф.с.»
Полезное достали. И что же?
«Постройку для Черноморского флота корабля в Англии по ограниченности смелы Черноморского управления отложить.
Нечего делать!»
Вот так! У Англии средства на строительство кораблей есть, а у нас - «ограниченность сметы». Природных богатств в Англии больше, чем у нас? Или рабочих рук больше?
Результат - поражение.
Всю жизнь Николай старался быть повторением Петра I, - на троне вечным быть работником. Скончался он все в том же плохо отапливаемом кабинете, под той же своей серой шинелью, на той же жесткой походной койке, на которой проспал всю жизнь. Страна воевала, - и на столе в кабинете лежала неразорвавшаяся английская бомба, грозившая в любую минуту разорваться. Но ни личная смелость, - а Николай был смел, - ни работа с утра до полуночи, ни монаршая строгость к любому из подданных Петром его не сделали.
Петр построил флот.
Николай, не желая того, сам обрек свой флот, своих моряков на поражение в Крымской войне.
Скряга- история на гениев скупа.
Казарский и его ровесники годами плавали на таких утлых «лоханях», как бриг «Соперник», которые и удерживать-то на плаву было уже истинным геройством. Да и прославленный «Меркурий» был не последним словом кораблестроения.
Поколение Казарского, Скарятина, Новосильского, их предшественников и их преемников, «рыцарей чести», как называет их влюбленных в море писатель-маринист К. Станюкович, подвело одну знаменательную черту в истории развития России. Они, так сказать, до конца исчерпали «личностные возможности» человека. Их самоотверженность - предельна; их преданность - предельна. Но время уже оборвало эпоху бездорожья, такого милого престарелому Канкрину. (Помните его старческий скулеж: «И к чему, батушка ты мой, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег!»). Пришло другое время, поставившее способности человека в зависимость от той техники, что в его руках. Готовности умереть за Россию стало мало. Надо было показать преимущество не только в личной смелости, но и преимущества в типе оружия, в приборах навигации, в возможностях кораблей.
Рассказывают о последнем дне жизни Николая.
Во время войны Николай не ограждал своих сыновей от опасности. Два его сына были в осажденном Севастополе. За несколько часов до смерти курьер доставил ему письмо от них. Сознание Николая уже мутилось.
- A-а?… Что?… Здоровы оба? - спросил Николай, пересиливая слабость. И когда ему ответили, что здоровы, проговорил: - Вот и хорошо… все прочее меня уже не касается…
Вот так! Человек, которому было дело до каждого пуда меди, идущей на строительство корабля, до судьбы каждого недоросля, поступавшего на флот, - довел флот до необходимости затопления кораблей на севастопольском рейде, и теперь это его уже не касалось.
Власть и личность - тема вечная. И извечно-трагическая.
Но светлой памятью в истории останется имя Казарского. Николай
любил писать. Оставил огромное эпистолярное наследие. Удостоились бессмертия же только три слова, - написанные им на памятнике Казарскому в Севастополе слова:
ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР
Слова - из приказа Николая, написанного после знаменитого боя. Три слова… Это, право, много.
[1] В «Табели о рангах» было 14 классов. 14-ый класс - самый низкий.
[2] Тавлинка - плоская дешевая табакерка из бересты.
3 Статура (устар.) - стать.
[3] Будущий Новороссийск.
[4] В те времена капитанами звали и командиров военных кораблей.
[5] Вид тяжелого орудия.
[6]Трельяж - в ту пору тонкая решетка, увитая растениями.
[7] Горка - этажерка во французском стиле.
[8] Карсели - бронзовые украшения.
[9] На месте Николаевской батареи ныне Приморский бульвар.
[10]«Османская империя», «Блистательная Порта», «Золотая Порта» - названия Турции и завоеванных ею территорий.
[11] Умрани - район гигантской свалки под Стамбулом. Впрочем, Турция конца XX века - не Турция времен Николая. Успехи Турции в экономике впечатляют. И ту знаменитую стамбульскую помойку власти недавно прикрыли, свалку разгребают.
[12]В то время градация званий на флоте была такая: мичман, лейтенант, капитан- лейтенант, капитан второго ранга, капитан первого ранга, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал. Званий: «старший лейтенант», «капитан третьего ранга», - не было.
[13] Орудие меньшего калибра, чем единорог.
[14] В царское время сведения о каждом офицере флота заносились в «Общий морской список»; позже стали публиковаться в журнале «Морской сборник».
[15] Казарский был принят в штурманский класс Николаевского училища. В «Списке» оговорено: «На собственный кошт». В 1811 г. Казарскому было 14 лет.
[16] Духовный праздник, вроде нашей пасхи.
[17] Артиллерийские снаряды - дырчатые шары, начиненные порохом. Предназначались для того, чтобы вызывать пожары на палубе. Бранд (нем.) - огонь, кугель - шар.
[18] Руслени - площадки, приделываемые снаружи борта судна. Внутри их идут панты (канаты), стягивающие корпус. Если ванты перебиты, закачаются мачты, пообрываются шкоты, фалы, упадут паруса.
[19] Острый снаряд, которым можно, как ножом, перерезать канат.
[20] Шебеке - (от араб, «шаббак») - парусное гребное судно с косыми парусами, применявшееся для военных и транспортных целей. Имело до 40 весел и 30-40 пушек малого калибра.
[21] Ага - (от турецкого хозяин, начальник). Составная часть наименований многих воинских званий.
[22] Бим-баша (правильно: бин-баши) - тысячник, майор. Иногда в просторечии обобщенно: начальник отряда. Билим-баша - звание, меньшее, чем бим-баша. Байрактар - армейский чин, соответствующий прапорщику. Чауш - сержант, унтер-офицер, ездовой.
[23] - Как твое имя?
- Улдуз. (Звезда).
- Звезда?
[24] - Твой муж - паша Шатыр?
[25] Господин, вы капитан?
[26] В то время Николаев был центром губернаторства. Севастополь по линии адмиралтейства подчинялся ему. Штаб Главного командира Черного моря и портов находился в Николаеве.
[27] Сераскер - правитель области. Он же - командующий группой войск.
[28] Там, где сейчас железнодорожный вокзал, было огромное болото, подступающее к скалистым кручам центрального холма. Болото пересекала дамба, по которой можно было пройти на Корабельную сторону.
[29] Брызгас - матрос, исполняющий все железные работы по судну (коваль, слесарь).
[30] Команда жила в казармах на берегу.
[31] Фрегат «Штандарт».
[32] Парус, поднимаемый над марселем.
[33] Бухта и пристань на Корабельной стороне Севастополя.
[34] Везирь - примерно соответствует европейскому понятию канцлера. Но во время войны везирь распоряжается всеми вооруженными силами. Реис-эфенди - примерно соответствует министру иностранных дел.
[35] Начальник артиллерии фортов.
[36] Сапожник! Сапожник!! Сапожник!!!
[37] Слушаю.
[38] Сумки.
[39] Шпиль - вертикальный ворот для подъема якорей и других тяжестей.
[40] Йох - нет; вар - есть.
[41] Переводчик.
[42] Ростры - решетчатый настил, на котором хранятся запасные деревянные предметы: стеньги, реи, весла и пр. На них же - место для шлюпки.
[43] Яхшы - хорошая.
[44] Флигель-адъютанты выполняли личные поручения царя, нередко дипломатического характера.
[45] Героем дня (фр.)
[46] Священная война, объявляемая муллами, взывающая к уничтожению всех иноверцев.



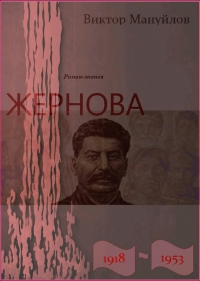
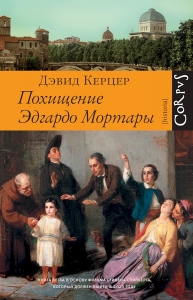



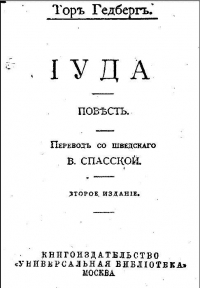
Комментарии к книге «Ветры Босфора», Валентина Степановна Фролова
Всего 0 комментариев