Врангель. Последний главком
Моим родителям —
И. Я. Лиманской
В. В. Карпенко
ПРОЛОГ
11—13 января 1918 г. Ялта
рупкую рассветную тишину спящего дома разбили громкие грубые голоса, бесцеремонный топот и хлопанье дверей. Едва оторвал тяжёлую голову от окаменевшей подушки, в комнату вломились матросы с винтовками.
— Ни с места! Генерал Врангель?! Вы арестованы!
Дурной сон обратился в явь.
Ноги сковал холод. Горечь беспомощности и унижения вмиг отняла силы... Прокашлявшись, справился с голосом:
— Одеться-то я могу?..
...Два месяца назад он покинул гибнущую армию.
Свершилось невозможное и чудовищное: отразив не одно нашествие чужеземных завоевателей, русская армия оказалась бессильна перед врагом внутренним — взбунтовавшейся чернью. «Братание» с немцами распространилось, будто чума. Пехотные полки или разбегались, или обращались в орды разбойников. И даже в полках его Сводного корпуса, прежде вполне надёжных, казаки, забыв присягу, принялись разоружать офицеров.
Вызванный Духониным[1] в Ставку, убедился собственными глазами: агония добралась и до неё. Вместо самоотверженной работы — переливание из пустого в порожнее, растерянность и даже трусость.
Захват власти большевиками, назначение ими прапорщика Крыленко главковерхом и его приказ войскам вступить в переговоры с противником отняли последнюю надежду на оздоровление армии.
Из Могилёва укатил в Ялту, куда ещё раньше, на дачу тёщи, вдовы камергера Иваненко, догадался отправить жену с тремя малолетними детьми.
В Крыму утвердилась власть татарского Курултая и «коалиционного» правительства во главе с адвокатом Сайдаметом. Всю его вооружённую силу составляли Крымский драгунский полк, сформированный из татар, и несколько офицерских рот. В прочность этого подобия керенщины не верилось, а потому, получив от Сайдамета предложение занять должность «командующего войсками», отказался без колебаний.
Облачившись в штатское, решил выждать: должна же найтись в России сила, способная поставить хама на место и водворить порядок.
Отсыпался, приходил в себя среди милых и дорогих лиц. Принялся за воспитание сына и дочерей, как-то неожиданно быстро повзрослевших, пока он воевал. Но всё сильнее тревожился за родителей, оставшихся в Петербурге: наверняка несладко им там, бедным, под пятой большевиков — немецких агентов и наглых узурпаторов власти. Звал приехать, но письма и телеграммы оставались без ответа.
За неделю до Рождества дошли слухи о зверской резне флотских офицеров в Севастополе, учинённой матросами. Вслед за слухами появились насмерть перепуганные очевидцы. От жутких подробностей кровь стыла в жилах.
Обнадёживающие известия достигли Ялты только в первых числах нового года: генерал Корнилов уже на Дону и формирует вместе с Алексеевым добровольческие части. Засобирался: хлопотал о гражданском паспорте, выискивал по дачам знакомых офицеров, писал сослуживцам. Прикинув так и эдак, выбрал маршрут понадёжнее: пароходами РОПиТа[2] до Ростова с пересадкой в Керчи.
Всё было готово к отъезду, когда третьего дня в Ялте случился большевистский переворот.
Местный отряд Красной гвардии, выдавив в горы два эскадрона Крымского драгунского полка, охранявших Ливадийский дворец, захватил город. Из Севастополя к ним на подмогу подошло судно, и с него высадились матросы. Стены зданий и тумбы на набережной оклеились белыми листками: извещением о переходе власти к Совету рабочих и матросских депутатов, приказом «бывшим офицерам» сдать оружие и призывом к «сознательным трудящимся» записываться в Красную гвардию.
Матросы с ходу принялись за обыски и аресты, под шумок не упуская случая поживиться «буржуйским» добром. Аристократическая Ялта затаилась. И дня не прошло, как начались расстрелы генералов, офицеров и петербургской знати — всех, кто рассчитывал переждать лихолетье в тихой курортной заводи.
К ним, на Нижне-Массандровскую, матросы, увешанные пулемётными лентами и, показалось, нанюхавшиеся кокаину, заявились в первый же вечер. Как предчувствовал: ещё утром спрятал все имевшиеся в доме шашки, револьверы и пистолеты в подвале и на чердаке. Деньги и драгоценности жена с тёщей зашили в детские куклы, а меха — в диванные подушки... Незваные гости — друг к другу они обращались «братишка» или «товарищ» — повертели в руках документы, послонялись по комнатам, пошарили в шкафах, комодах и письменном столе, пошвырялись в саду... И ушли несолоно хлебавши.
Позавчера и вчера являлись с обыском по два раза, с «мандатами» и без. Искали всё настойчивее и дотошнее... Но уходили с пустыми руками и никого не уводили. Не скрывая, впрочем, ни озлобления, ни досады.
А тут ещё, как на грех, прошлой ночью крымские драгуны, спустившись с гор, заняли западные кварталы. Бой завязался нешуточный... На рассвете из Севастополя подошли два миноносца под красными флагами. К частой винтовочной перестрелке примешались гулкое буханье орудий и трескучие разрывы шрапнели в центре города.
Кончилось тем, что драгуны отошли, а озверевшая матросская братия кинулась искать участников нападения. Как возбуждённо живописала вчера вечером прислуга, офицеров хватали без разбора...
...Пришёл, судя по всему, и его черёд.
Маленький белобрысый матрос, с круглым бледным лицом, густо исконопаченным веснушками, сразу велел двоим стать у двери и никого не впускать. Тыча револьвером в разные стороны, суетливо обшаривал комнату.
Недобрые взгляды вернули силы. Одеваться под дулами винтовок — только этого не хватало! По всему, старший среди них — конопатый. К нему и обратился. Сквозь деланное спокойствие совсем некстати пробилась офицерская властность:
— Уберите ваших людей. Вы же видите: я безоружен и бежать не собираюсь. Сейчас оденусь и пойду с вами.
— Ладно, — тот уступил на удивление легко. — Только поторопитесь. Некогда нам...
Матросы нехотя вышли в коридор.
С брючинами, рукавами и пуговицами старого пиджачного костюма управился быстро, но мысли метались и разлетались, будто поднятые выстрелом утки, — не ухватить. Так и не сообразив, как приободрить жену, шагнул за порог. Хоть бы словом перекинуться...
В тесном окружении пяти матросов, задыхаясь от источаемой ими прогорклой табачной вони, прошёл к парадному входу. У широкой стеклянной двери жалась в кучку прислуга. Кто-то уже всхлипывал и сморкался в белый передник. Сделалось совсем мерзко: теперь соплей не оберёшься...
У вешалки задержался: надевал и застёгивал пальто с нарочитой медлительностью. Руки, не находя привычной опоры — ремней и эфеса, — скользнули в глубокие карманы.
Ещё с десяток матросов увидел в саду: столпились перед верандой. Бушлаты нараспашку, бескозырки сбиты на затылок, за кожаные пояса заткнуты офицерские револьверы и кортики... Неужто целый взвод послали для его ареста? Физиономии багровые — то ли от холода, то ли от водки. Орда, а не экипаж!
Между ними узнал баранью шапку и драную телогрейку: их бывший помощник садовника. А этому чего здесь надо? И недели не прошло, как уволил пьяницу и грубияна. За дерзость, сказанную жене: случайно услышал, выйдя в сад. Взъярившись, вытянул мерзавца тростью... Неужто он и привёл матросов? Похоже: заискивает перед ними, горячо убеждает в чём-то, клятвенно колотит себя в грудь.
— Он и есть барон Врангель, товарищи! — Едва завидев, тот завопил исступлённо и стал тыкать в его сторону пальцем. — Самый заядлый контрреволюционер и враг трудового народу... Я свидетельствую!
В голову хлынул жар. Под сухой кожей, обтянувшей впалые щёки, задёргались желваки. Вот сволочь!
С балкона, подталкиваемый двумя матросами, спускался брат жены Дмитрий, ротмистр гвардейской кавалерии: без пальто, сюртук не застегнут, нервно хватался рукой за балюстраду, ноги заплетались... В глаза бросилась его мертвенная бледность: холёное лицо, всегда свежее и румяное, стало серее инкерманского камня.
Через сад, сырой и мрачный, их вывели на улицу.
У распахнутой калитки стучали моторами коричневый «Бенц» на пять мест и жёлтый «Форд» на семь. Окуривали сизыми выхлопами столпившихся. Одни глазели с любопытством, другие от души злорадствовали... Увидев арестованных, кто-то заматерился, а кто-то сунул пальцы в рот и засвистел по-разбойничьи.
Вспышка отвращения передёрнула всего: чернь уже сбежалась, будто на сеанс в кинематографе. Не народ, а сплошь мерзавцы отъявленные! Одно утешает: повезут с комфортом... Такие автомобили перед войной больше двух десятков тысяч стоили. Целое состояние! А теперь «братишки» реквизировали у каких-то толстосумов «на нужды мировой революции»... Однако есть и сочувствующие, но раз-два, и обчёлся. И предпочитают держаться поодаль... Нет, знакомый грек — хозяин бакалейной лавки, поставляющий им продукты, — всё же рискнул подойти.
— Товарищи, я их знаю, — попытался заступиться бакалейщик. — Они в бою не участвовали и ни в чём не виноваты. Зачем зря-то арестовывать...
Один из матросов грубо отстранил его и процедил сквозь зубы, точно сплюнул:
— Там разберут.
Уже усаживались в «Форд», когда на улицу выбежала жена. Одета наспех: голова не покрыта, болтаются незавязанные шнуры бежевого летнего сака. Любимые черты искажены ужасом... Тоска защемила сердце. Бедная Олесинька!
Кинулась к не захлопнутой ещё дверце, вскочила на подножку. Матросы, ухватив её за локти, стали оттаскивать. Брызнули слёзы... Начнись у неё истерика — и самому не выдержать. Не приведи Бог!
Придав голосу уверенности, произнёс негромко:
— Оля, останься... Прошу тебя. Всё будет хорошо.
Надежды на хорошее таяли с каждой минутой. Тем более ей следует остаться дома, с детьми и своей больной матерью.
Она и сама, верно, предчувствовала худшее: всхлипывала и упрямо мотала головой.
— Разрешите мне... ехать с мужем... Я требую!
Матросы дрогнули, стали переглядываться.
На улице, среди своих более рослых и хамоватых подчинённых, «конопатый» затерялся. Возможно, явилась никчёмная мысль, никакой он и не старший, а все они — «братишки». Кто ж её поймёт, чёрт возьми, эту «революционную» дисциплину!
Решил один голос. Не повелительный, а скорее просящий:
— Да ладно, товарищи... Нехай едет.
Не успел успокоить жену, как «Форд» домчал до мола.
К отвесной бетонной стенке притёрлись два миноносца. Орудия их неспешно посылали снаряд за снарядом куда-то в Яйлу. Над свинцовым морем неслись изорванные ветром тёмно-синие тучи. Меж ними и волнами белыми крестами метались чайки. На набережной колыхалась огромная серая толпа, разбавленная чёрными бушлатами. Ветер порывисто разносил торжествующие крики.
Высадив, их повели на мол. Не сделали и нескольких шагов, как в спину толкнул истошный вопль:
— Вот они, кровопивцы! Чего там разговаривать — в воду!
Посреди мола лежали ничком, раскинув руки, убитые. По серому шероховатому бетону растеклись алые струйки. Ещё издали разглядел офицерскую полевую форму... Трое. Без шинелей. Один, кажется, напоминает кого-то...
Старательно отводя глаза и от трупов, и от искорёженных злорадством и ненавистью лиц, быстро поднялись по скрипящим деревянным сходням на миноносец.
Просторная каюта, куда их ввели, давно не убиралась и провоняла дешёвым табаком. Один из матросов занял пост у двери, остальные поднялись на палубу. Напряжённо ловя их удаляющийся топот, обнял жену.
— Ну-ну, будет...
Нежно поглаживал её тёмно-русые волосы, слегка волнистые и коротко остриженные. Но снова вырвался громкий всхлип, затряслись худые плечи. Тут и самого заколотило.
Распахнулась дверь, и в каюту вошёл морской офицер. Китель без погон — выдраны с мясом, — кортика как не бывало, вид совершенно растерянный и подавленный. Невнятно, словно стесняясь, отрекомендовался капитаном миноносца.
Жена бросилась к капитану чуть не на шею: что с ними будет? Тот попытался приободрить их, но вышло это крайне неуклюже:
— Да вам нечего бояться... ну, если вы не виновны. Сейчас ваше дело разберут... — блуждающий взгляд, сопровождаемый вздохом, устремился куда-то наверх, — ну и... я уверен, отпустят.
Уверенности в тоне капитана не расслышал.
— Да что за «дело»-то? И кто разбирать будет?
— Судовой комитет. Сами понимаете, время какое... — И вышел, не попрощавшись.
Тут же в коридоре решительно затопали ботинки, и у самой каюты вспыхнула ругань. По голосам, группа матросов возбуждённо требовала выдать «этих гадов» для немедленной «отправки к Духонину». Кто-то уже ухватил за ручку и сильно дёрнул. Караульный пытался их урезонить:
— Поимейте совесть, братишки!
На помощь ему подоспели не то двое, не то трое, а с ними, кажется, и беспогонный капитан. Вместе им удалось-таки убедить «братишек» уйти и предоставить их участь «революционному суду».
Леденящая душу и тело жуть, ни с чем не сравнимая, наполнила всего до краёв, парализовала волю и опустошила голову. Привычка смотреть в лицо смерти в бою облегчения не приносила. Самое страшное и дикое — даже не самосуд черни, опьяневшей от вседозволенности и «барской» крови. И не гибель от рук своих же русских людей. А что всё произойдёт на глазах любимой его Олесиньки... Нет, чёрт возьми! Никто — тем более она! — не должен видеть его унижения и бессилия.
С трудом, но всё же уговорил её уйти, позаботиться о детях и матери. А главное — поскорее найти и привести свидетелей, могущих удостоверить его неучастие в этой бездарной атаке города драгунами.
Караульный матрос не возражал:
— Ну, коль пришла сама...
Без слов снял с руки и отдал ей швейцарские часы-браслет «Лонжин», из чистого серебра. Подарила ему невестой, и с тех пор всегда носил с собой. И нынче надел машинально.
Слава Богу, ушла...
Но тут же вернулась. По меловым щекам сбегали слёзы, взгляд обезумел, губы искусаны до крови. Намертво вцепилась в борта пиджака. Слова захлебнулись в рыданиях, но смысл дошёл: только что на её глазах толпа растерзала офицера.
— Петруша, всё кончено... Я останусь с тобой... — не расслышал, а догадался по дрожи её распухших губ...
Сумерки уже начали завешивать толстые стёкла иллюминаторов, когда в каюту втолкнули пожилого инженер-полковника.
Качка усилилась. Шум ветра и моря заглушил тревожные крики чаек. Боялись говорить друг с другом.
Тягостное ожидание прервал щуплый юноша студенческого вида: длинноволосый, с круглыми металлическими очками на остром носу и в форменной суконной куртке с латунными пуговицами. Включив яркий электрический свет и деловито переспросив их фамилии, объявил полковнику, что тот свободен.
— ...За вас заступились рабочие порта. Вы же, — указал пальцем на него и шурина, — по решению судового комитета предаётесь суду революционного трибунала.
Внутри всё оборвалось. Почему? Докопались до его участия в августовской попытке Корнилова навести порядок? Не может быть: оно было косвенным и законспирированным. Или узнали о его противодействии солдатским комитетам? Вряд ли... Скорее кто-нибудь из прислуги донёс о намерении ехать на Дон. Или всё же нашли оружие? Ведь подумывал ещё перепрятать — в саду зарыть...
Взглянул украдкой на шурина: забился в угол дивана и, похоже, дрожит... Обычно самоуверенный и недоступный, теперь определённо потерял себя. Понять можно: не дай Бог, матросская братия дознается, что он женат на дочери бывшего московского обер-полицмейстера Трепова...
Наконец дверь каюты распахнулась, и караульный, уже другой, заявил, что их переводят в здание таможни.
Ранние зимние сумерки сгустились до слепой темноты. Холодный ветер с моря не унимался. Волны остервенело бились в мол, окатывая его пенными брызгами. Безжалостно хлестал дождь. Низко клонились высокие кипарисы... Толпа давно разошлась, и матросы, надевшие прорезиненные офицерские накидки, довели их без эксцессов.
Таможню охраняли местные красногвардейцы. С винтовками они обращались неумело и беспрестанно подтягивали сползающие с рукавов повязки малинового цвета.
По большому полутёмному залу гуляли сквозняки: стёкла и многие лампы были разбиты. Мебель отсутствовала. На заплёванном полу расположилось несколько десятков человек: солидные генералы и молодые офицеры, безусые гимназисты и студенты, татары-лавочники... Никто не спал: из разных мест доносились тихие разговоры, прерываемые тяжкими вздохами, кашлем и сморканием... Удивился, заметив в углу несколько оборванцев, явно из «сознательных трудящихся».
Несмотря на холод и грязь, на душе полегчало: и охрана вполне миролюбива, и людей побольше, и Олесинька немного успокоилась, и можно наконец-то прилечь... Его длиннополое драповое пальто, перед самой войной купленное в рассрочку в торговом доме «Монополь», оказалось как нельзя кстати.
Всю ночь шёл допрос.
Его вызвали среди первых.
Допрашивал тот же щуплый юноша в студенческой куртке. Толково, но без особого рвения, словно хотел продемонстрировать: предстоящий суд — пустая формальность. Показания записывал небрежно, громко стуча кончиком пера о дно чернильницы и разбрызгивая фиолетовые кляксы: Врангель Пётр Николаевич... Полных 39 лет... Из потомственных дворян Петербургской губернии... Бывший барон... Бывший помещик Минской губернии... Бывший генерал-майор... Кончил курс Горного института и Академии Генштаба... Участвовал в войнах против Японии и Германии... Последняя должность — командующий конным корпусом... Женат первым браком, детей трое...
— Православного вероисповедания...
— Это несущественно, гражданин.
Торопливо записав заявление о неучастии в нападении на город и отказ признать себя в чём-либо виновным, приказал красногвардейцам увести его.
Ранним утром всех арестованных — человек за семьдесят — вывели в вестибюль и поставили толпой перед кабинетом начальника таможни. Там, объявили, заседает революционный трибунал. Одного за другим вводили и выводили: суд был скорый. Кто-то выходил сам, подскакивая от радости, другие еле волочили ноги и чуть не падали в обморок — их подталкивали прикладами...
В открывавшуюся то и дело дверь успел приметить крупного белокурого матроса с красивым, даже интеллигентным лицом. Его властный голос покрывал общий говор. По всему, самый старший «товарищ». Острое любопытство пересилило благоразумие: не удержавшись, поинтересовался у ближайшего из матросов.
— Товарищ Вакула. Председатель трибунала, значит...
Дошла очередь и до него. Ввели вместе с женой.
За широким двухтумбовым столом, по левую сторону от председателя трибунала, сидел всё тот же юноша студенческого вида. Бледный, после ночных допросов, шелестел бумагами и поминутно поправлял пальцем очки. По правую — матрос с дымящимся окурком в зубах, смугло-румяный, с живыми глубокими глазами. На шапке смоляных кудрей едва держалась бескозырка, украшенная надписью «Iоанн Златоустъ». На стол перед собой он выложил деревянную кобуру с длинностволым германским «маузером».
Эта троица намертво приковала к себе его внимание.
«Студент», потянувшись к уху «председателя трибунала», что-то нашептал. Послышалось «тот самый».
— За что арестованы? — Хмурый и уже уставший, «товарищ» Вакула мельком глянул в подсунутый «студентом» протокол допроса.
— Вероятно... — с трудом прокашлялся, — за то, что я русский генерал. Другой вины за собой не знаю.
— Отчего же вы не в форме? Раньше-то небось гордились погонами... А сейчас что — боитесь носить?
Счёл за благо промолчать.
— Ну а вы за что арестованы?
Оля ответила с вызовом, вскинув голову:
— Я не арестована. Я добровольно пришла сюда с мужем.
«Студент», подтверждая, тряхнул патлами. «Iоанн Златоустъ» хмыкнул и выпустил струю дыма.
— Вот как... Зачем же?
«Товарищ» Вакула едва заметно улыбнулся, и в голосе его неожиданно послышалось добродушие.
— Я счастливо жила с. ним... И на фронте с ним была... Сестрой милосердия. И хочу разделить его участь до конца.
Откинувшись на расшатанном канцелярском стуле, «товарищ» Вакула улыбнулся шире, в его карих глазах засветилось одобрение.
Но тут вмешался «Iоанн Златоустъ»:
— Энтот генерал — самый какой ни на есть контра тут. От лица анархистов требую высшей меры!
Снова нахмурившись, «председатель трибунала» повернулся к «студенту»:
— Оружия не нашли, так?
— Не нашли. — «Студент» ещё раз тряхнул патлами. — Хотя весь дом и сад перерыли... Но ведь и приказа о сдаче он не выполнил.
— Расстрелять! — «Iоанн Златоустъ» с силой ткнул окурок в кобуру.
— Товарищ Щусь! Революционная власть не потерпит самоуправства! — «Председатель трибунала» строго повысил голос, и «Iоанн Златоустъ» стушевался.
Прищурившись, «товарищ» Вакула глянул в протокол допроса внимательнее.
— Вы что — немец?
— Нет. Из обрусевших шведов.
Решительно отодвинув наконец бумаги, «товарищ» Вакула произнёс громко и торжественно:
— Гражданин Врангель, вашей жене вы обязаны жизнью. И запомните... Советская власть в Крыму установлена окончательно. И бороться против неё — дело дохлое.
И приказал, не без театральности указывая на дверь:
— Освободить!..
Освободили его вместе с шурином только на рассвете следующего дня, после регистрации. Всю ночь за стенкой, где-то у агентства РОПиТа, не прекращался треск винтовочных залпов: расстреливали приговорённых.
С каждым залпом мелко и быстро крестился. «Упокой, Господи, душу раба Твоего»...
Часть 1
КУБАНСКИЙ ЖРЕБИЙ
29 апреля — 15 мая.
Мисхор — Ялта — Симферополь
ретий месяц пошёл, как Врангель с семьёй перебрался в Мисхор — подальше от обысков и расстрелов. Прислугу поувольняли, оставив лишь четверых самых преданных, сняли маленькую дачку, никуда не выходили и ни с кем не встречались.
Крым, по его ощущению, превратился в остров посреди океана, отрезанный от всего мира, — так тяжело придавила его большевистская пята. Газеты из Симферополя приходили от случая к случаю. Среди них, к немалому его удивлению, нашлись и такие, которые отнюдь не били в литавры по поводу «мировой пролетарской революции» и декретов Совнаркома. А потому события в России освещали относительно правдиво: и заключение Лениным и Троцким позорного Брест-Литовского мира с Германией, и самоубийство Донского атамана Каледина, героя Луцкого прорыва, и изгнание, большевиками продажной Центральной рады из Киева.
Однако более или менее похожие на правду сообщения «собственных корреспондентов» тонули в море нелепых слухов: о прорыве через Дарданеллы эскадры союзников и приходе её завтра-послезавтра в Севастополь, о скорой высадке турецкого десанта у Феодосии, о взятии немцами Киева... Один фантастичнее другого, слухи эти, в одночасье рождаясь и умирая, только раздражали и без того истрёпанные нервы.
Поэтому, когда на Страстной неделе Великого поста в Мисхоре заговорили, что немцы заняли Одессу и идут на Крым, поначалу не поверил. Но день спустя пришли известия: у Перекопа немцы ведут бой с Красной гвардией и та уже уносит ноги. Подтвердил их примчавшийся из Ялты граф Ферзен: в порту идёт паническая погрузка большевиков, вместе с семьями и награбленным добром.
Ещё через несколько дней татары из соседней деревушки Кореиз, утром, как обычно, принеся свежие продукты на продажу, сообщили: немцы идут из Бахчисарая на Ялту. Их самих, похоже, это ничуть не удивило... А после обеда, отправившись с женой к вечерне, увидели небывалое оживление: из улочек и парковых аллей группки жителей спешили вверх к шоссе. Из восклицаний и отрывистых реплик стало ясно: через Кореиз проходят части германской армии. Подхваченные общим волнением, устремились вместе со всеми.
Хорошо укатанное Ялтинское шоссе серой лентой слегка изгибалось между нагромождением скал и парком, спускающимся к морю. И по нему действительно из Ялты на Севастополь медленно двигалась под прикрытием пехоты колонна артиллерии. Следом, исчезая за поворотом, бесконечным хвостом тянулся обоз.
Тускло поблескивала на закатном солнце щетина длинных плоских штыков, колыхались ряды глубоких серых касок и квадратных ранцев... Что-то странное, не изведанное прежде, испытал он при виде кайзеровского воинства, этих столь знакомых внешних черт... Горечь хлынула в душу, примешалась к радости избавления от унизительной власти хама. И в дурном сне не могло такое привидеться: по Южному берегу Крыма, самоуверенно, как по балтийскому побережью какой-нибудь Восточной Пруссии, маршируют тевтоны.
Жена, отвернувшись и уткнув лицо в ладони, расплакалась.
— Ну, будет, Олесь... — Внезапно просевший голос отказался повиноваться...
Но повели себя немцы — вскоре вынужден был отдать им справедливость — умно и тактично. «Посадив» на власть в Крыму русского генерала Сулькевича, татарина по крови и магометанина по вере, присутствие своё напоказ старались не выставлять. Отменили продовольственные карточки, разрешили пользоваться счетами в банках и вернули владельцам имущество и квартиры, отнятые большевиками. Сразу пооткрывались магазины, и татары повезли продукты на рынки.
Пасхальная неделя стала настоящим воскресеньем для всех, кто прятался по дачам, спасаясь от ужасов большевистской анархии. Дни стояли тихие и солнечные, с ярко-синего неба исчезли все до единого облачка. Зацвели персики, абрикосы и миндаль. Всё благоухало пьянящим ароматом. Вместе с природой вернулись к жизни люди: высыпали на пляжи, снова ходили друг к другу в гости, ездили в Ялту за покупками и развлечься.
В первые же дни немецкое командование обратилось к русским офицерам, предложив им ехать или на Украину, где «началось государственное строительство», или на Дон, в Добровольческую армию. Обещало даже содействие в переезде. Между строчек он ясно прочёл намёк: присутствие русских офицеров в Крыму нежелательно. Напрашивался тревожный вывод: немцы намерены превратить Крым в свою колонию. Что вскоре же и подтвердилось их стремлением полностью изолировать Крым от Украины и спешным насаждением германских акционерных обществ по эксплуатации природных богатств полуострова.
С немцами появились в Крыму и газеты, в основном киевские. Первые же принесли ужасную весть: Корнилов погиб под Екатеринодаром и Добровольческая армия совершенно большевиками уничтожена... Сердце перечило разуму и верить этому не хотело.
Разобрался и в дебрях политического положения на Украине: вожди Центральной рады Винниченко, Петлюра и прочие — всего лишь калифы, вернее мазепы[3], на час. Этакие керенские малороссийской закваски.
И возвратиться в Киев они сумели лишь при помощи кайзеровского воинства, подписав в Брест-Литовске, даже прежде немецкого шпиона жида Троцкого, позорный сепаратный мир с Германией. За признание независимости «Украинской народной республики» и изгнание большевиков пообещали заплатить миллионами пудов хлеба и сала[4]... Положили, мерзавцы, себя и свою «неньку» под кайзера Вильгельма, известного ненавистника Великой России. Вот позорище-то!
Во всяком грехе не без смеха: несмотря на изгнание их «союзниками» с Украины комиссаров и Красной гвардии, новые мазепы сохранили в действии большевистский декрет о переходе с 1 февраля на григорианский календарь, по которому живёт Европа. Не иначе как для удобства немецких хозяев.
А в конце Пасхальной недели — с десятидневным опозданием — из газет от 1 мая узнал о ликвидации немцами ими же спасённой Центральной рады из социалистов и избрании на каком-то водевильном «съезде хлеборобов» генерала Скоропадского «гетманом Украинской державы». Изумлению не было предела: вот так вольт[5] исполнил его старый приятель! Немало вина, лучших марок и сортов, выпито вместе с Павлом, а ещё больше — крови, японской и германской, пролито...
...Отец — барон Николай Егорович Врангель, — окончив Берлинский университет со степенью доктора философии и недолго прослужив в Царстве Польском[6] по Министерству внутренних дел, увлёкся коммерцией и коллекционированием произведений искусства. В коллекционировании преуспел, собрав немало ценных картин, фарфора и бронзы. А вот с коммерцией не заладилось: во время войны с Турцией взялся за производство и поставку в армию сухарей и на этом выгодном деле, где другие, более дошлые и щедрые на взятки интендантам, наживали за счёт казны миллионы, разорился. Утешившись в женитьбе, переехал в Ростов-на-Дону, где ему предложили возглавить Азовскую контору Русского общества пароходства и торговли.
Немного поправив дела, начал покупать небольшие паи горнопромышленных акционерных обществ. И скоро его стали избирать в члены их правлений. Главным его капиталом стала знатность: своим баронским титулом и связями в столице придавал им благонадёжность в глазах властей, за что, собственно, и получал долю прибыли.
Дела пошли так хорошо, что Николай Егорович всерьёз заинтересовался горным делом и даже стал подумывать о золотых приисках в Сибири. Почему и вознамерился дать одному из сыновей образование горного инженера. Выбор пал на старшего — Петра, ибо средний — Николай — «заболел» историей искусства, а младший — Всеволод — ещё в детстве умер от дифтерита.
Пётр воле отца перечить не стал: особой тяги ни к чему не испытывал и с лёгкой душой поехал учиться в знаменитый Горный институт в Петербурге. Туда же по настоянию матери — баронессы Марии Дмитриевны, — не склонной оставлять его без присмотра, переехала и вся семья.
Премудростями горного дела овладевал со старанием. Что-то увлекло: прикладная механика, палеонтология и петрография[7]... Что-то нет: начертательная геометрия и политическая экономия... Особенно полюбились черчение и летние геодезические съёмки.
Курс кончил с золотой медалью.
И сразу, в сентябре 1901 года, для отбытия неизбежной по милютинскому закону воинской повинности[8] поступил вольноопределяющимся в «семейный» полк, где служили многие из Врангелей, — лейб-гвардии Конный.
Выпускник Пажеского корпуса Павел Скоропадский, годами постарше, служил тогда в Кавалергардском полку. Как познакомились — теперь и не припомнить. Ведь конногвардейцы и кавалергарды все знали друг друга: вместе несли караулы, участвовали в учениях и парадах, встречались в Офицерском собрании и театрах, пировали в одних и тех же ресторанах и загородных кабаре с цыганами.
Через год, когда он успешно сдал экзамен на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище, Павел уже прочно вошёл в компанию его приятелей, лихо гулявшей по этому случаю в «Медведе».
Но дороги их тут же и разошлись.
Старый барон, видя счастье сына не в эполетах, а в тугом кошельке, упорно гнал его в Сибирь... Впрочем, отбывая воинскую повинность, и сам нашёл все эти учения, караулы, смотры и парады не столько обременительными, сколько скучными и отупляющими. В одной верховой езде, с детства полюбив её не меньше охоты, только и находил удовольствие и спасение от скуки. Даже светская жизнь конногвардейцев из-за своего однообразия не скрашивала казарменную рутину. Да и без него, соглашался с отцом, в роду Врангелей — явный переизбыток генералов и маршалов.
Так что с Петербургом, гвардейской кавалерией и обретёнными в ней приятелями расстался хоть и не по своей воле, но без особых сожалений.
Вышел, подобно многим отпрыскам знатных родов, корнетом в запас гвардейской кавалерии и уехал в Иркутск чиновником для особых поручений при тамошнем генерал-губернаторе. Предполагая, как наставлял отец, делать карьеру по Министерству внутренних дел и приглядеться к местной золотодобыче.
Война с Японией круто всё переменила. Не столько даже война — она лишь предоставила удобный случай, — сколько его решение вернуться в армию. Хотя и запоздалое, но бесповоротное. Весьма скоро убедившись, что штатская служба — штука пресная и грозит превратить его в подобие щедринских, в лучшем случае чеховских типов, поспешил покинуть её. И в начале февраля 1904-го, сразу после объявления войны, добровольно вступил во 2-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска. В Маньчжурии встретил кое-кого из старых приятелей, в том числе и Павла.
Воинственная кровь шведских предков, оросившая за несколько веков поля многих знаменитых сражений, взяла своё. Оказалось куда более захватывающим и славным делом воевать с живым и потому смертным врагом, чем с горами мёртвой исписанной бумаги и вечной, как жид, человеческой глупостью. Не щадил ни себя, ни своих казаков. Да старался вдобавок, чтобы догнать сверстников — те уже ходили в штабсах, — получать чины вместо полагающихся орденов. И в декабре 1904-го за отличия в делах против неприятеля был произведён в сотники, а уже в сентябре 1905-го — в подъесаулы.
В начале 1906-го, когда война окончилась и Россия, придушенная постыдными поражениями на суше и на море, одолевала новую напасть — волнения и бунты, — он был переведён в 55-й драгунский Финляндский полк с переименованием в штабс-ротмистра[9]. А уже в конце лета удалось, используя семейные связи, добиться прикомандирования к лейб-гвардии Конному полку и переехать поближе к родительскому дому. Неприятный осадок на душе, оставленный неудачной маньчжурской кампанией, растворился быстро.
Окончательно вернуться в родную часть помог счастливый случай. На следующий год в день полкового праздника Конной гвардии — 25 марта — государь по традиции прибыл в полк, на Ново-Исаакиевскую. И, принимая парад в манеже, изволил приметить его. Сначала — защитный мундир, разрушавший белоснежно-золотое великолепие конногвардейского строя, затем — ордена с бантами. Поинтересовавшись, что это за офицер, и услышав от командира полка «барон Врангель» — фамилию громкую и хорошо ему известную, — тотчас указал перевести его в лейб-гвардии Конный полк.
Так он опять оказался рядом с Павлом: тот вернулся после войны в Кавалергардский полк, но уже в чине полковника, да вдобавок ещё с назначением флигель-адъютантом к императору.
В 1911-м, когда сразу после окончания Академии Генштаба он проходил курс в Офицерской кавалерийской школе, Павла назначили командиром лейб-гвардии Конного полка. И на следующий год, возвратясь в полк, но уже на должность эскадронного командира, он оказался в прямом подчинении Павла, тогда же произведённого в генералы.
Начальство, заметил, всегда благоволило Скоропадскому — за исполнительность и добросовестность — и продвигало по службе охотно. Тем охотнее, что тот, имея руку при дворе, внешне держался без малейшего вызова, был чрезвычайно осторожен, умел молчать и тщательно избегал конфликтов. Но вот многие из товарищей Павла недолюбливали: слишком себе на уме, замкнут и суховат. А иногда настораживал: в компаниях пил и говорил меньше других, никогда не пьянел и за всеми всё подмечал. Впрочем, порядочность его никогда под сомнение не ставилась.
Вступив в командование полком, к своим приятелям, оказавшимся у него в подчинении, Скоропадский доброго отношения не изменил. Уже через год, в 1913-м, дав отличную аттестацию, представил его к производству в ротмистры вне очереди. И в августе они старой компанией обмывали в парадной столовой Офицерского собрания армии и флота его новенькие погоны — однопросветные и беззвёздные.
В тот роковой июль 1914-го, не чуя ни сном ни духом скорого кошмарного будущего, с вдохновением и жаждой нового, после Семилетней войны, взятия Берлина, под прошибающий до слёз марш «Прощание славянки» выступили они на войну. Прозвали её Второй Отечественной... Каким же глупцом он был тогда! Захлёбывался от мальчишеского восторга после первых скоротечных перестрелок и разведок боем, обошедшихся без потерь: «Вот это жизнь! Не приведи Бог снова вернуться в казарму». Не он один — все верили: через полгода — разгром супостата и победный парад в Берлине.
Скоропадский сразу вступил в командование 1-й бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. И в первом же серьёзном бою преподнёс ему возможность отличиться: 1 сентября под селением Каушен, в Восточной Пруссии, приказал командиру лейб-гвардии Конного полка одним эскадроном атаковать двухорудийную германскую батарею, уже готовую к открытию огня. Не в охват фланга и даже не во фланг, а во фронт: рассчитывал напором коней и холодного оружия потрясти противника и заставить его, бросив орудия, бежать. Но немцы не побежали. 1-й эскадрон весь лёг под залпами шрапнели... Следующим был послан его 3-й эскадрон. Едва не половину людей потерял, под самим разорвало на куски лошадь, но батарею взял и прислугу изрубил. Эта самоубийственная атака принесла ему в петлицу Георгия IV степени.
А уже в сентябре, во время кровопролитных боёв в Польше, Скоропадский, получив Сводную кавалерийскую дивизию, взял его из строя к себе — начальником штаба. Тогда-то и обнаружил в Павле слабые места: смелость и быстрота решений, размах и отчаянный порыв тому чужды. А на войне именно они, и ничто другое, приносят победу, награды и славу. И отказываться от всего этого — глупость чистой воды. Даже под благими предлогами соблюдения академических канонов тактики, сбережения людей и заботы о конях.
Осенью 1915-го война развела их: Скоропадский, уже генерал-лейтенант, по-прежнему командовал гвардейской кавалерией, а он получил назначение командиром 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска. С тех пор, быстро продвигаясь в чинах и должностях, командовал частями регулярной и казачьей конницы на Юго-Западном фронте. В генералы был произведён в январе 17-го, в 38 с небольшим лет. В том же возрасте, что и Скоропадский, однако уже на тринадцатом году службы. На девять лет быстрее Павла! Едва ли кто-то ещё может похвастаться таким рекордом...
...И на что теперь всё это? Псу под хвост пошли все жертвы и заслуги, чины и награды.
Никому и в голову не приходило в июле 14-го, что так круто переменится судьба России и каждого из них... Как же много ждали они, явно и тайно, от этой войны! Реванша за Цусиму и Мукден. Установления контроля над проливами, Константинополем и всеми Балканами, населёнными братьями-славянами. Присоединения Восточной Пруссии, Галиции, Подкарпатской Руси и Буковины.
А в итоге? Трёхсотлетний дом Романовых сгнил на корню и рухнул. Армия отказалась драться с врагом, покрыла себя позором нарушения присяги и развалилась. Россия корчится в муках и гибнет, её рвут на куски. Сам он плюнул на всё, покинул армию, снял мундир, попал под пяту хама, чудом избежал бесславной смерти... И отсиживается за спинами Олесиньки и деток. А тем временем золотые и серебряные рубли, так удачно спрятанные на тёщиной даче в металлических кронштейнах для портьер, подходят к концу. А старинный приятель Павел Скоропадский вознёсся на германских штыках до «гетмана» придавленной германским же сапогом Малороссии. Форменное бесчестье!
Да не в бесчестье Павла главная беда, а в нём самом: не с его характером и привычками браться за власть, когда она меньше всего похожа на самое себя, а больше — на кисель. Точнее — на разлитый дёготь, готовый вот-вот вспыхнуть. Не сгоришь дотла, так вымажешься с головы до пят... Но как ни крути, Украйна — единственный островок хоть какого-то порядка и надежды, который образовался — пусть при корыстной помощи немцев, да пусть хоть самого чёрта! — в бескрайнем океане кровавой российской анархии. Так почему бы там не поискать привычного и достойного дела? Хватит отсиживаться и дожидаться нового большевистского суда. Не приведи Бог... Второго «товарища» Вакулу, тряпку и любителя театральных эффектов, можно и не встретить. Раз есть гетман — должны быть войска. А значит, нужны командиры. В том числе — конницы... Вдобавок оттуда рукой подать до Минской губернии, занятой польскими войсками. Хорошо бы побывать в имении, решить с управляющим все накопившиеся хозяйственные вопросы. Глядишь, и денежные дела семьи удастся поправить.
Мысль поехать в Киев, увидеться со Скоропадским и выяснить тамошнюю обстановку овладела Врангелем мгновенно.
Выехал из Симферополя 15 мая. Почти в полночь, а не в полдень, как гласило новое расписание. Вместе с женой, побоявшейся отпускать его одного.
16 мая. Мелитополь — Александровск
Почтово-пассажирский поезд шёл вполне сносно: хотя полз порой как черепаха и в чистом поле, на разъездах, прохлаждался, зато на станциях сутками не парился. Немецкие коменданты препятствий не чинили.
Относительно свободными оставались два жёстких вагона III класса, куда пускали только немецких солдат. Единственный мягкий вагон II класса, отведённый для офицеров, и дюжина солдатских теплушек, для прочих пассажиров, были набиты битком. Всучившие кондукторам взятку ехали на переходных и тормозных площадках, а самые бедные и бесшабашные — на ступеньках, буферах и плоских крышах.
В вагоне II класса, куда Врангелю с трудом удалось добыть плацкарты у перекупщика, почти впятеро дороже прежней цены — по 40 рублей, на нижних полках сидело, сдавив друг друга, по нескольку человек. Кому-то повезло растянуться на верхних, в том числе и боковых, предназначенных для багажа. Дети спали в сетках для ручной клади. Свечей кондуктор не дал, и ночью в вагоне царил тревожный мрак — даже вздремнуть мешал... Хорошо хоть вшей и клопов, кажется, нет: не станешь ведь целое купе персидским порошком посыпать.
От духоты и тесноты весь извёлся. Что ни остановка, оставлял жену при вещах и продирался к выходу: глотнуть свежего воздуха, размять отёкшие руки и ноги, купить чего-нибудь съестного.
Первое, что бросалось в глаза — ярких цветов жёлто-голубой флаг над крышей вокзала и серые фигуры немецких патрульных в касках, торчащие на платформе. А вот привычные бравые жандармы в красных фуражках, встречавшие всякий пассажирский поезд, отсутствовали начисто.
На каждой станции поезд ожидала обычная после революции измаявшаяся толпа крестьян и городских торговцев вразнос, увешанных несметным числом туго набитых мешков и корзин. Едва тот останавливался, с воплями кидались они на штурм вагонов.
Изумляли буфеты: снова, как до войны, ломились от продуктов, но всё вздорожало в 4-5 раз.
Чем ближе к Киеву, тем чаще попадались свеженамалёванные вывески с малороссийскими названиями станций, водружённые вместо снятых русских, и лубочные плакаты с текстами на «мове».
Но речь повсюду слышалась русская...
В Александровске — и на платформе, и в зале I класса, и в буфете — городская публика ахала и охала по поводу бешеного роста цен. Группки офицеров без погон — едут, догадался, на Дон, в Добровольческую армию, — по-солдатски ругали гетмана, «продавшего Украйну кайзеру». Разве что у мужиков, сумрачно обсуждающих слухи о возвращении земли и инвентаря помещикам, изредка проскакивало малороссийское словечко.
На немецкие патрули и мужики, и офицеры косились с открытой неприязнью. И чуждались друг друга. А иные из простонародья, особенно кто помоложе, смотрели на благородную публику волками.
— Ну, погоди трохи — недолго кровь нашу пить осталося... — долетело до его слуха со стороны насупленных бородачей. В серых армяках из домотканины и картузах, те расселись на мешках и поплёвывали себе под запылённые сапоги.
Так и не понял, к нему это относилось или к трём молоденьким подпоручикам, что смущённо пересчитывали деньги перед входом в зал I класса. Он-то чем мог навлечь на себя их злобу? Разве что интеллигентными манерами и гвардейской выправкой... Или начищенными до блеска новыми ботинками и пиджачным костюмом тёмно-синего английского шевиота, купленным в рождественскую распродажу за 15 рублей во «Взаимной пользе» на Невском? Да чёрт с ними, наплевать и забыть.
Мыслями был уже в Киеве. И чем меньше вёрст[10] оставалось до него, тем невыносимее душили вонь и теснота вагона.
19—20 мая. Киев
В Киев поезд пришёл поздним воскресным вечером.
Носильщики хоть и с ленцой, но шевелились. А вот юрких и горластых комиссионеров не оказалось ни на перроне, ни у выхода из вокзала — довольно тесного и невзрачного, но зато чистого. Никто не выкрикивал названия гостиниц, не кидался с предложениями номеров, не хватался за багаж. Не было и карет или омнибусов, прежде присылавшихся к приходящим поездам от первоклассных отелей.
Приезжие, ругаясь и неистово пихаясь локтями, ломились в три двери длинного вагона трамвая.
Одноконный извозчик, вальяжный бородач в примятом котелке и ватном кафтане, не отрывая тяжёлого зада от козел, авторитетно заявил:
— Все гостиницы и меблированные комнаты забиты, как Владимир на Пасху. Так что никакой нумер за вами, господин хороший, не скучает.
Но тут же побожился устроить в гостиницу «для господ», после чего без стеснения запросил «за всё про всё» целых 6 рублей, а гривнами — так вдвое больше.
Примерно вдесятеро дороже довоенного, сразу прикинул Врангель. Табличка с таксой на задней стороне козел, где ей положено быть, отсутствовала. Дорога выжала до капли, и торговаться со сквалыгой сил не осталось... Такса таксой, хоть на жести написанная, хоть на резине, хоть Городской думой утверждённая, хоть чёртом, а в вокзальной суматохе приплата сама идёт в руки этим наглецам извозчикам.
— А вы, господин хороший, по торговому делу или святые места осматривать?
— По службе, любезный. Так что о шести забудь и думать. Получишь пять романовской кредиткой, ежели гостиница приличная.
— Добре, барин, — покладисто кивнул извозчик и с неожиданной прытью соскочил с козел за чемоданами.
Дрожки, грубовато сработанные, но на резиновом ходу и с кожаным верхом, резво, не отставая от гудящего мотором трамвая, вкатили вверх на тёмный Бибиковский бульвар. Электрические фонари не горели... Свернули на Владимирскую, освещённую только окнами и редкими витринами. Ярче других светились огромные окна на выпуклом полуовальном фронтоне городского театра. Напротив, прижавшись к газонам, любителей оперы ожидали несколько экипажей и три автомобиля.
Впереди слева, подминая соседние дома, глухой торцевой стеной вздымалась в быстро чернеющее небо шестиэтажная громада гостиницы «Прага». Сплошные железные балконы двух верхних этажей, прикрытые бетонным козырьком, красоты ей не придавали. Но капитально отремонтированная и надстроенная перед самой войной, облицованная желтоватым киевским кирпичом и начиненная новейшими техническими удобствами, она привлекала многих: и помещиков, и сахарозаводчиков, и инженеров, и провинциальных чиновников — всех, кто мавританско-французской роскоши «Континенталя», «Гранд-отеля» и «Савой-отеля» предпочитал разумную цену, а шуму и духоте Крещатика — тишину и свежий воздух возвышенностей Старого Города.
Круто развернувшись через трамвайные рельсы, кучер остановил дрожки у её скромного, без навеса и швейцара, парадного подъезда.
«Прага» манила электрическим сиянием окон, кое-где расцвеченных неплотными шторами в бордовое и оранжевое. Переполненная публикой кофейня «Славянская», на первом этаже, истекала ароматом сдобы и лёгкими переборами балалаечников и гитаристов. Её широкие витрины хозяин-чех не без вызова декорировал синим, белым и красным тюлем.
Свободный номер действительно нашёлся, и даже просторный: из гостиной и спальни. Однако же под самой крышей и окнами во двор, в противоположную ото всех киевских красот сторону. А цену стоил бешеную: 45 рублей в сутки. «В гривнах — вдвое дороже», — вполне искренне посочувствовал номерной с высохшим желтушным лицом и воспалёнными глазами, по выправке и манерам — кадровый офицер. И даже попробовал утешить: в «Континентале» на Николаевской подобное жильё обошлось бы в 70 рублей, но в нём теперь одни немцы проживают, а тут и простора побольше, и дышать есть чем. Как ни устали — расстроились ещё сильнее: прежде за такие деньги можно было с неделю прожить в шикарно обставленной комнате любого из первоклассных петербургских отелей.
Однако порядок и чистота быстро смирили с непредвиденной дороговизной. Номерной взял паспорта для посвидетельствования без малейшей попытки вымогательства не полагающихся за это денег. Кнопочная подъёмная машина, неумеренными поклонниками англичан называемая «лифтом», работает исправно, и даже без проводника-швейцара. Номер хорошо прибран, постельное бельё накрахмалено, на фаянсовом умывальнике — целый кусок туалетного мыла «Персидская сирень», вода из никелированного крана течёт. Ванну и даже душ-колье можно взять хоть сейчас.
Вот только бронзовая пятирожковая люстра сплоховала: две лампочки перегорели. Но услужливый и опрятный коридорный, встав на принесённый венский стул, живо вкрутил новенькие немецкие «Осрам», сделанные в виде конуса...
Пробудился Врангель вместе с солнцем. Длинное сухощавое тело ещё блаженствовало в покое, но в мозгу уже теснились и пульсировали жаркие мысли, одолевавшие дорогой, — властно требовали движения и дела.
В открытую форточку вместе с утренней прохладой проникали первые, ещё различимые, шумы большого города: цоканье копыт и дребезг обитых железом колёс но каменной мостовой, крики торговцев керосином и точильщиков, гул и звонки трамвая... В них вторгся вдруг близкий собачий лай. Какой-то надсадный и тревожный. Даже, почудилось, тоскливый. Но без подвывания.
Лай навеял сладко-томительные ощущения раннего детства, почти забытые... Кажется, подобное пробуждение с ним уже случалось. Не иначе в их бывшем донском имении...
В коридоре громко захлопали двери, заторопились ноги, заспорили голоса...
Костюм немолодая уже горничная-полька выгладила хорошо и чаевые взяла с похвальной скромностью.
Справившись у коридорного, где телефон, по бетонной лестнице, устланной красной пеньковой дорожкой, спустился в тесноватый вестибюль. У настенного «Эрикссона» — никого. Крутить рукоятку дважды не пришлось: с приёмной гетмана станция соединила сразу и даже без номера. Сначала хрипловатый бас бодро ответил на «мове», потом, когда назвал себя, сухо и без «превосходительства» попросил обождать у аппарата и наконец, самым радушным тоном передал от «пана гетмана» приглашение пожаловать прямо сейчас на завтрак.
Скоропадский, выяснилось, занял дом Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора на Институтской улице. Выслушав советы швейцара — тоже из офицеров, — как подъехать трамваем поближе, как пройти покороче и за какую цену можно взять извозчика, решил сэкономить.
Выйдя из гостиницы, широко зашагал к Софиевской площади. Непривычную после сапог тесноту ботинок почти перестал замечать... Наискось пересёк узкие трамвайные пути. По левую руку, как доброе знамение, из-за бурых железных крыш сияющим золотым куполом возносилась в чистое небо белая колокольня Софийского кафедрального собора.
На плавном изгибе улицы, с тихим рокотом скользя вниз, его обогнал щеголеватого вида вагон трамвая — ярко-красный, с тонкой жёлтой обводкой шести широких окон. В полдлины его крыши протянулся голубой щит, призывающий курить папиросы табачной фабрики Соломона Когена.
Посреди площади, обтекаемый рельсами и ограждённый чугунной решёткой, резким рывком поводьев, сильно откинувшись в седле, удерживал своего ретивого коня гетман Богдан Хмельницкий. Много ярче и свежее бронзы зеленели дикий виноград, разросшийся по гранитной скале пьедестала, и посаженные вокруг каштаны.
Врангель даже замедлил шаг, всматриваясь в памятник. Мощная фигура гетмана и зажатая в вытянутой руке булава, указующая в сторону Москвы, впечатлили... Как живой. Только что же это он позволил коню разгорячиться не в меру? Похоже, тот ещё кавалерист: так ведь и губы порвать недолго.
Хотя виноград почти поглотил выбитую на пьедестале надпись, дальнозоркие глаза выхватили из густой зелени: «...Хмъльницкому — единая недълимая Росшя...» Священные слова осадили усмешку — не дали проступить на тонких бледных губах.
Повернувшись спиной к золотым куполам Святой Софии и бронзовому лошадиному хвосту, спустился по Софиевской улице к Городской думе.
На узком боковом пространстве Думской площади двумя серыми короткими колоннами выстроилась немецкая пехота — в касках, с винтовками на плечах, с ранцами и скатками шинелей за спиной. Ещё прохладный и чистый утренний воздух по-вороньи разрывали гортанные крики команд. По всему, развод караула... Отвернулся брезгливо, как от зловонной падали. Обогнув подковообразное трёхэтажное здание Думы, выкрашенное в какой-то грязно-серый цвет, пересёк уже довольно оживлённый Крещатик.
Вымощенную, как и все главные улицы города, гранитными кубиками Институтскую только что подмели и полили. Мелкие лужицы дышали холодной свежестью. Дворники в белых фартуках, по подолу затемнённых пятнами поды, неспешно скатывали брезентовые рукава. Вперемежку с чугунными столбами электрических фонарей по краю бетонных тротуаров двумя ровными, в отличие от Крещатика, рядами выстроились каштаны. Из зелени выглядывали бежевые пушистые пирамидки цветов... Побелённые снизу стволы деревьев напомнили лошадиные ноги «в чулках».
Легко поднимался в гору мимо богато отделанных и внушающих почтение зданий биржи и банков, мимо строгих белых корпусов Института благородных девиц, едва проглядывающих в глубине большого сада, мимо гигантского, много выше «Праги», доходного дома в 12 этажей... Даже по петербургским меркам — настоящий «небоскрёб»... И на этой улице стёкла в окнах и фонари все целые — не то что в Ялте.
Двухэтажный каменный особняк генерал-губернатора тонул в густой зелени роскошного сада. Подновлённый фасад вернул ему прежнюю белизну и нарядность. Слабый утренний ветерок со стороны Днепра едва шевелил над плоской крышей огромное жёлто-голубое полотнище с витым золотистым трезубцем.
Прищурившись, Врангель задержал на нём взгляд. На этот раз усмешка проступила-таки... Не иначе, съязвил про себя, ветер из Великороссии брезгует прикасаться к этому художеству.
Грузчики, крикливо командуя друг другом, снимали с двух телег и заносили в главный подъезд громоздкие стальные шкафы германской фирмы «Остертаг». За ними равнодушно наблюдал офицерский караул в русской парадной форме.
Караул этот поразил Врангеля даже не бьющей в глаза нерадивостью — навидался уже, — а отсутствием погон и жёлто-голубыми кокардами в форме геральдического щита. Что изображено на щите — разглядеть не успел, ибо ещё сильнее поразил стоящий тут же, под длинным кованым козырьком, почтенных лет господин. В штатском, но с военной выправкой, тот противно лебезил перед высокомерно взирающим на него начальником караула. И тщился изъясниться на «мове», мучительно, как нерадивый кадет на экзамене по латыни, выталкивая из себя каждое слово.
Первый же чин гетманского штаба — молодой, но уже раздобревший офицер в синей черкеске без погон, зато с белым шёлковым аксельбантом, — встретив его в вестибюле, отрекомендовался «войсковым писарем» Полтавцем-Остряницей и бойко затараторил на «мове». И в «писаре» всё выдавало кадрового русского офицера. Тем нелепее гляделись на нём черкеска с чересчур долгими и широкими рукавами, а на его обритой голове — длинный, на запорожский манер, рассыпающийся клок светлых волос. Даже растерялся на миг от такого маскарада.
Едва перешагнул порог приёмной, дверь, ведущая в кабинет, отворилась, и перед ним предстал старый знакомец — Кочубей. Слава Богу! Тоже без погон, но, помнится, произведённый в штабс-ротмистры. А теперь, как выяснилось, бывший кавалергард состоит при гетмане дежурным адъютантом.
Скоропадский принимал какого-то земца, и у них нашлось время, отойдя к высокому окну, переговорить. Обо всём, о чём говорили теперь при негаданных встречах знакомые офицеры: кто как устроился, где семьи, кто из сослуживцев погиб, что творится под большевиками... Кочубей постоянно отвлекался: заходили с вопросами чины штаба — все без погон, и работы, судя по их озабоченному виду, каждому хватало. Всё же сумел, то и дело приглаживая неравномерно поредевшие надо лбом тёмные волосы, в общих чертах рассказать об изгнании немцами большевиков с Украины и их помощи в формировании украинской армии.
— Что-то я по дороге от самого Екатеринослава ни одного украинского патруля не заметил, — не удержался Врангель. — На всех станциях — только германские часовые.
— Пока они дали деньги только на формирование восьми корпусных штабов, — охотно пояснил Кочубей. — Зато штаты большие, военного времени. И оклады хорошие.
Ни тени сомнений не уловил Врангель в его словах и тоне. Хотя бы в бескорыстии немцев. Тем более — и совместимости службы исконным врагам России, прикрывшим свою оккупацию ширмой гетманской власти, с честью русского офицера. Неужто так «хороши» оклады?! И сколько это выходит нынче, любопытно знать, — тридцать серебряников? А главное — какими? Русскими рублями? Украинскими гривнами? Или германскими марками, которые в большом количестве появились на крымских базарах?
— И как же вы обращаетесь к гетману?
— Вопрос этот весьма сложен, Пётр Николаевич, и пока ещё только разрабатывается знатоками украинской старины. — Ни бледное одутловатое лицо, ни приглушённый усталостью голос Кочубея не утратили серьёзности. — Но обычно так: «ясновельможный пан гетман».
Отвернувшись к окну, смотрящему на вылизанную Институтскую улицу, Врангель едва успел спрятать едкую усмешку. Ничего не скажешь — достойное обращение к персоне, занявшей весь генерал-губернаторский дом! Первый этаж Павел отвёл под канцелярию, второй — под кабинет и личные покои. Не поскромничал ли? Странно. Уж чем-чем, а скромностью никогда богат не был. Мог бы и в императорский дворец вселиться. Благо он где-то рядом...
Раздражение распирало Врангеля всё сильнее. Пришлось осаживать... И когда Скоропадский, провожая раннего визитёра — импозантного господина в земгусарской форме[11], — сам вышел в приёмную, встретил его широкой радостной улыбкой.
Сердечно, как в прежние времена, расцеловались, и Скоропадский сразу пригласил нежданного, но от этого ничуть не менее дорогого гостя завтракать.
Столовая была обставлена дубовой мебелью, громоздкой и украшенной вычурной резьбой. Большой овальный стол покрывала, свешиваясь почти до пола, кремовая скатерть с кистями.
Внешне, нашёл Врангель, Павел мало изменился: так же элегантен, не располнел, не ссутулился от кабинетной работы. Но всё же залысины забрались повыше, посеребрились пшеничные, высоко изогнутые брови и коротко стриженные усы, да морщин на высоком лбу и под светлыми глазами прибавилось. И ещё лицо слегка осунулось. Верно, от банкетов...
Что заинтриговало, так это форма: всегда был тщателен и безукоризнен во всех деталях форменной одежды конногвардейцев и кавалергардов, а тут — чёрная кавказская черкеска, пошитая из тонкого и блестящего кастора, и опять без погон. Неужто новоиспечённый гетман решил, что под запорожский зипун больше всего подходит именно черкеска?
За завтраком говорили каждый о себе, о пережитом за время, что не виделись. Перебрали общих знакомых. Оказалось, жена Скоропадского застряла в Советской России. Теперь через германское посольство в Москве ведутся с большевиками переговоры о переезде её сюда. Пока безуспешно.
Узнав, что старые барон и баронесса Врангель всё ещё в Петербурге и даже живут по-прежнему в арендованной роскошной квартире на Бассейной улице, гетман настойчиво стал предлагать услуги своего «Министерства закордонных справ». Врангель душевно поблагодарил. Конечно, надо ещё раз, и поскорее, написать старикам: как только решат выехать, пусть дадут знать. И он через Павла устроит им выезд на Украйну. Хотя ситуация слишком щекотлива, чтобы безоглядно принимать одолжения гетмана.
— Послушай, Пётр... — Вынув из-за бортов черкески и отложив в сторону салфетку, Скоропадский легко поднялся. — Давай-ка прогуляемся по саду, подышим. А то скоро как начнутся одно за другим заседания. Министры набегут, просители разные...
Пройдя через просторный зал, где стоял зачехлённый рояль и висели, распространяя густой пряный запах масла, недавно написанные портреты украинских гетманов в массивных бронзовых рамах, спустились на первый этаж. При их приближении поспешно скрылся, не отдав чести, немецкий часовой в бескозырке с красным околышем, стоявший у двери в сад.
Изумлённый взгляд приятеля не ускользнул от Скоропадского. Его сухие губы досадливо поджались.
— Не хочется, чтобы они лишний раз показывали мне, что я просто узник... — Грусть в его глуховатом голосе и вздохе была совершенно искренней. — Конечно, я, генерал и монархист, милее им, чем Петлюра с его социалистическими экспериментами. Но их рука так же тяжело лежит на мне, как и на всей Украине. Шагу не дают ступить самостоятельно...
Дёрнуло было Врангеля напомнить «ясновельможному пану гетману», что тот сам выбрал свою участь, но он удержал себя.
— ...Поначалу они поставили парных часовых у главного входа с улицы. Но я добился, чтобы их заменили на русский караул. А в саду согласился на одного часового, но с условием, что при моих прогулках его будут отводить. Сейчас, видно, дежурный адъютант не успел предупредить кого следует.
Фруктовые деревья оделись в пышное бело-розовое цветенье, и в саду стоял упоительный аромат. Врангель с наслаждением дышал полной грудью... Вдруг напало лёгкое покашливание — не иначе зацепило сквозняком в вагоне.
Гетман в нескольких словах обрисовал свои планы формирования армии: вооружения и снаряжения имеется на восемь корпусов, украинское крестьянство — надёжный элемент для комплектования, в Киеве и других городах собрались десятки тысяч офицеров, среди них много специалистов — генштабистов, военных инженеров, артиллеристов. И без обиняков — нужды в них не было — предложил:
— Тебя, Пётр, сам Бог послал. Не согласишься пойти ко мне начальником штаба?
Столь высокого предложения Врангель даже не ждал. Максимум, по его разумению, на что он мог пока рассчитывать — начальник формирования конных частей. Тем большую настороженность оно вызвало.
— Ты ведь знаешь, Павел: я с Украйной ничем не связан... Да и условия местные мне неизвестны. Поэтому для должности начальника твоего штаба вряд ли гожусь... Дай мне время ознакомиться с положением. К тому же дела требуют моей срочной поездки в бобруйское имение...
Нотки сожаления в голосе приятеля показались Скоропадскому не совсем искренними. И неожиданно сильно задела «Украйна». Впрочем, вполне естественная в устах петербургского аристократа и конногвардейца. И самому ведь не без труда удалось выбросить из речи и её, и «Малороссию». Задумался, стоит ли извлекать припасённые аргументы...
Но Врангель резко сменил тему:
— А что тебе известно о Корнилове? Верно, будто убит? А армия его?
— Да какая там армия... Едва с пехотный полк набралось. В основном — мальчишки: юнкера, кадеты, гимназисты... Корнилов больше половины потерял при штурме Екатеринодара. Тогда же и сам был убит, в конце марта. Это по-старому. Остатки — тысячи полторы, не больше — спас Деникин: вывел обратно на Дон. Знаком с ним?
— Кажется, видел мельком... Ну да, в Могилёве. Он тогда принимал Юго-Западный фронт. Так ты считаешь, перспектив у Добровольческой армии нет?
— Хотелось бы надеяться на обратное, но увы... Во главе стоит Алексеев, однако он тяжело болен. Кто выжил, из армии уходит. Денег и боеприпасов нет. Кубанские и донские казаки её не поддерживают. Во всяком случае, так посланцы Краснова сообщают...
— Краснова?
— Да. Недели две, как он избран Донским атаманом. Казаки поднялись наконец и очищают Дон от большевиков... Тоже не знаком?
— Ну, как же... Ещё с Японской. Последний раз виделись в Петербурге, в сентябре.
И Врангель коротко рассказал об этой встрече, опуская главное...
...Нелепой и унизительной она вышла. А особенно — повод к ней.
В начале сентября 17-го он приехал по вызову командующего армиями Румынского фронта генерала Щербачёва в его штаб, в Яссы. И там, к своему изумлению, получил из Ставки главковерха телеграмму за подписью Алексеева о назначении его командиром 3-го конного корпуса.
Изумиться было чему. Арест Корнилова, с которым он состоял в переписке, как «изменника», самоубийство импульсивного, но честнейшего генерала Крымова, его бывшего начальника, сумасбродные выходки адвоката Керенского, назначившего себя главковерхом и, похоже, готового камня на камне не оставить от полуразвалившейся армии, — всё это заставляло ежечасно опасаться собственного ареста. Однако решение Алексеева принять должность начальника штаба при Керенском навело на мысль: не всё ещё потеряно и дело Корнилова может быть доведено до конца. И вдруг — такой вольт! Сам «главковерх из Хлестаковых» назначил его командиром корпуса! Ведь 3-й конный стоит не где-нибудь, а в окрестностях столицы, и в состав его входит родная ему Уссурийская дивизия. Порадел Алексеев и, по видимости, затеял всё неспроста...
Сорвавшись, полетел в Петербург как на крыльях, чередуя стараниями комендантов воинские поезда с почтово-пассажирскими и санитарными. Как назло, тащились, будто на собственные похороны. Не представляя даже, в какой мере корпус уцелел от разложения, горел одним: во что бы то ни стало взять его в руки... Хотя нет, не только. Ведь назначение командиром корпуса открывало верную возможность досрочно получить на генеральские погоны третью звёздочку.
С Варшавского вокзала, пообещав извозчику хорошие чаевые, помчался в пролётке на Ново-Исаакиевскую, к себе на квартиру[12]. Живо переоделся и, презрев мелкий дождик, торопливо пошагал на Дворцовую площадь, в штаб Петроградского военного округа... Не заметил, как отмахал Адмиралтейский проспект... И буквально в дверях столкнулся с Красновым. Вот тут-то — из совершенно пустого и краткого, завязанного из одной только вежливости разговора — узнал, что и тот назначен командиром 3-го конного корпуса. И не только назначен, но даже успел вступить в командование!
Вообще, осенью 17-го, когда смена начальствующего состава превратилась в чехарду, подобные глупые недоразумения стали обычным делом. Но в его случае примешалась «политика». Как потом выяснилось, Верховский, полковник из пажей, предавший Корнилова и за это Керенским произведённый в генералы и одарённый «портфелем» военного министра, отказался утверждать его назначение. Заявив будто бы: «Барон Врангель — фигура политическая». И «главковерх» с этим согласился. Кто-то, конечно, надоумил этих господ.
В такой унизительной ситуации ничего не оставалось, как отказаться от командования. Обидно. Впрочем, нет худа без добра...
... — Жаль, что так вышло, — задумчиво покачал головой Скоропадский. — Краснов лучше орудует пером и языком, чем шашкой. Вступи ты в командование корпусом, глядишь, по-иному сложилось бы...
— О чём ты? Петербург бы взял? И повесил Ленина с Троцким?
— Кто знает...
Врангель на миг ушёл в себя.
— Я знаю. Свои же казаки арестовали бы. А то и повесили. Не больно много чести — быть повешенным нижними чинами.
— Ну, если только о чести и думать...
— А как же иначе?! — встрепенулся Врангель, его округлившиеся глаза вопросительно упёрлись в слегка посвежевшее лицо гетмана.
Но теперь уже Скоропадский поспешил сменить тему. Честолюбие «Пипера», как товарищи прозвали Врангеля за неустанное опорожнение бутылок французского шампанского «Piper Heidseick», стало в гвардейской кавалерии притчей во языцех. Задеть слишком сильно — и прощай надежды на его сотрудничество.
Солнце, поднимаясь из-за Днепра над цветущими деревьями, настойчиво пробиралось во все закоулки сада. На каменистые дорожки легли яркие тёплые пятна. Врангелю стало вдруг жарковато в тесном пиджаке, но холодок между ним и Скоропадским, как-то незаметно возникший и поначалу едва ощутимый, не исчезал.
21 мая. Киев
Погода установилась тихая и солнечная. Слепило золото куполов. Переливался серебром и бирюзой полноводный Днепр. Всё цвело и благоухало. И хотя на теле города страшными ранами зияли разрушения и едва выветрившиеся пепелища, молодая зелень пыталась прикрыть их, будто свежей повязкой, обещая скорое излечение и возвращение к прежней жизни...
Матерь городов русских, по ощущению Врангеля, столпотворением походила на Вавилон. С одной, впрочем, разницей: там в ходу были все языки, а здесь только три — великорусский, малороссийская «мова» и немецкий. Из совдеповской России понаехали аристократы, богатеи, чиновники и офицеры — забили под завязку гостиницы и «уплотнили», выражаясь по-большевистски, родственников и знакомых. Дома и квартиры состоятельных киевлян, как они сами пошучивали, превратились в «коммуны».
Уже с начала одиннадцатого часа тротуары Крещатика плотно заполнялись приезжими и беженцами. Пока пройдёшь от Городской думы до Бессарабского крытого рынка — все бока обтолкают... Кто-то искал заработок, кто-то, наоборот, спешил растратить в магазинах падающие в цене бумажные деньги, кто-то кочевал из одной кофейни в другую, а кто-то просто шатался, глазея на витрины и выискивая знакомых.
Витрины торговых домов и магазинов действительно радовали глаз былой роскошью и аппетитно разложенными и развешанными яствами. Кое-где, правда, пробитые пулями стёкла ещё не заменили... Цены, однако же, стояли много выше крымских — жена только ахала да вздыхала.
Сам он больше разглядывал толпу.
Преобладали в офицеры — всех чинов и родов войск. Пережив смерть родных частей, претерпев от солдат жестокие издевательства и побои, они с риском для жизни пробирались на Украину через кордоны большевиков. Кто, обзаведясь фальшивыми документами, по железной дороге, а кто — без оных, в крестьянской телеге или пешком. Только что прибывшие угадывались сразу — по землистым лицам, худобе и оборванным солдатским шинелям без погон.
Многие мечтали о мирном и сытом житье-бытье. Эти соглашались на любой заработок, устраиваясь даже коридорными и швейцарами в гостиницы и официантами в рестораны. Смотреть на них Врангелю было больно и стыдно: ни формы не снимали, ни значков, училищных и полковых, ни орденов. На вопрос «почему?» отвечали почти без стеснения: «Так на чай больше дают...»
Повсюду — на улице, в кофейне, у дверей меняльной конторы — встречал знакомых.
Слушая их рассказы — гневно-возбуждённые или устало-равнодушные — о всякого рода злоключениях, убедился: умно поступил, покинув армию сразу после большевистского переворота. Самое унизительное и страшное обошло его стороной: упразднение чинов и снятие погон, назначение начальников кашеварами, убийства офицеров озверевшей солдатнёй. Кого-то из сослуживцев растерзали, кого-то искалечили... А кто-то уже сложил голову в первых боях с большевиками на Украйне.
Из уцелевших многие признавались: махнули на всё рукой и думают лишь о том, на какие средства существовать. Эти, желающие переждать в стороне, громче и яростнее других поносили гетмана и за крепкими солдатскими выражениями в карман не лезли.
Куда меньше нашлось таких, кто подобно ему мучился гамлетовскими вопросами: откуда придёт избавление от немецко-большевистского ига, как продолжить борьбу за Россию, под чьё знамя встать?
Одни носились целыми днями по украинским штабам: выясняли, куда можно поступить на службу и каково будет довольствие — основное жалованье, столовые деньги, квартирные и добавочные... И всюду выслушивали высокомерные требования «размовляти тильки на державний мови», сочиняли десятки «заяв» и «проханний».
Другие искали путь на Дон.
Несказанно удивился, когда узнал, что в Киеве открыт вербовочный центр Добровольческой армии. И немцы — с чего это вдруг? — смотрят на его работу сквозь пальцы. Однако из тысяч офицеров, нашедших приют в гетманской столице, к Алексееву и Деникину уезжают жалкие десятки. И причина — не в гибели Корнилова, единственного, кому верили беззаветно. И уж, конечно, не в низком жалованье... Совсем в ином: из уст в уста передаются сведения, сообщённые будто бы прибывшими с Дона добровольцами, о неладах между старшими начальниками, об отсутствии у армии денег и материальной части, о враждебности к ней казаков... Хуже того: верхушка армии будто бы заражена республиканскими настроениями.
Слухи эти распускались местными монархическими организациями. Особого доверия к этим кликушам не испытывал, но ведь дыма без огня не бывает. Как ни крути, а в феврале 17-го Алексеев оказался среди тех старших начальников, кто, потеряв сердце и голову, уговорил государя отречься от трона... И оставалось только пожимать плечами, когда очередной знакомый принимался настойчиво выспрашивать, правда ли, что Алексеев и Деникин — «за эту сволочь учредилку».
Именно этим и объясняли многие своё решение зачислиться в украинскую армию, благо оклады в ней позволяют хотя бы платить за скромное жильё и есть по-человечески. А, возможно, заподозрил сразу, «республиканство» Добровольческой армии, над которым ещё надо поставить знак вопроса, — лишний предлог для малодушных не ехать на Дон.
Те, кто пошёл служить в украинские штабы, чаще всего оправдывались острой нуждой. Реже — необходимостью делать хоть что-то для возрождения армии и России, раз нет надежд на Добровольческую армию. И даже далёкими малороссийскими предками.
Если отбросить эмоции, искренние и напускные, картина с их слов рисовалась удручающая: штыков и шашек у гетмана — кот наплакал, командующий немецкими войсками на Украине генерал-фельдмаршал Эйхгорн и его штабные все только обещают, но формирования строевых частей не допускают. Единственное, что делается — особой комиссией, созданной при Военном министерстве, — разрабатывается форма украинской армии. И будет она весьма похожа на германскую. Потому-то и погон пока не носят.
Нынешняя утренняя встреча в бывшем штабе Киевского военного округа, на Банковой улице, с полковником Сливинским, знакомым по Румынскому фронту, только подтвердила его первые, но уже определённо скверные впечатления.
Выходец из запорожских казаков, до поступления на военную службу носивший, по собственному признанию, фамилию Слива, тот взлетел теперь до начальника Генерального штаба Украины. Китайским чаем «Царская роза», откровенностью и задушевным тоном беседу старался согреть как мог, но слова примораживали к кожаному креслу: немцы не желают более иметь сильного и хорошо вооружённого соседа на востоке, и тут их воля непреклонна. А посему все попытки выпросить у них разрешение на формирование хотя бы двух дивизий — для защиты границ от большевиков, и только — результата не дали. Склады бывших Юго-Западного и Румынского фронтов взяты ими под охрану. Военное министерство не имеет в своём распоряжении ни вооружения, ни боеприпасов. Даже новое обмундирование пошить не из чего. Правильной мобилизации не проводится, да и мобилизационный план ещё не готов.
Военно-окружной штаб Врангель покинул в твёрдом убеждении: тевтоны больше всего опасаются, как бы под видом украинской не возродилась армия русская. Конечно, для них такая перспектива — малоинтересная: тогда прощай их планы поживиться за счёт России.
Так или иначе, все эти бесконечные и бесплодные, а порой и болезненные разговоры только усиливали собственные сомнения и гасили надежды, едва тлеющие, на Добровольческую армию...
22 мая. Киев
К чашкам и изящному кофейнику императорского фарфора, расписанным пейзажами с удивительной тонкостью, больше не притрагивались: кофе давно остыл. Беседа, начатая за поздним обедом, незатейливым, но сытным, с водкой и удельным портвейном «Массандра», и продолженная потом в кабинете гетмана, затянулась. Узкие высокие полоски между неплотно задёрнутыми оконными портьерами золотистого бархата потемнели до синевы.
Не так-то просто оказалось для Врангеля заговорить наконец со Скоропадским начистоту. Подтолкнула карта: мелкого масштаба и ярко раскрашенная, она заняла добрую часть глухой стены между голландской печью и дверью. И только присмотревшись, сообразил: петляющая жёлто-голубая полоска — граница гетманства. И граница эта, на западе совпадая с довоенной российской границей с Австро-Венгрией, заключила внутрь себя не только малороссийские губернии, но и Новороссию с Одессой и Херсоном, а далее прихватила Донецкий каменноугольный бассейн, изрядный кусок Донской области с Таганрогом и Ростовом, всю Кубанскую область и даже Черноморскую губернию с портом Новороссийск.
— Украинская держава, — пояснил гетман, проследив за его взглядом, и с гордостью прибавил: — Как видишь, одно из самых больших европейских государств.
Врангель перекинул изумлённый взгляд с карты на его лицо. Электричество в Дворцовой части города погасло, и горело всего четыре свечи в двух бронзовых канделябрах, расставленных по бокам от письменного прибора. Но и их скупого света хватило, чтобы убедиться: хозяин кабинета совершенно серьёзен и необыкновенно горд произведённым впечатлением.
— Послушай-ка, Павел... А какой бес попутал твоих картографов и занёс так далеко? Особенно на юго-восток.
— При чём тут бес? Ты разве не знаешь, что Кубань и Черноморье заселялись запорожцами, моими предками? Они и теперь все говорят по-украински.
— А Таганрог с Азовом? А Донбасс? — Врангель не совладал с внезапно вырвавшимся раздражением, его длинное худое тело подалось вперёд из глубокого кожаного кресла. — Там-то кто говорит по-малороссийски? Или эти земли Донского войска тебе нужны для обеспечения углём и соединения с Кубанью?
— Но ведь на Дону тоже немало выходцев с Украины... — Скоропадский крепко держал себя в руках: характер у «Пипера» взрывной, и не стоит раздувать так некстати вспыхнувший спор.
— А где их нет? Поселения бывших запорожцев есть и на Амуре. И они до сих пор говорят на малороссийском наречии. Так почему бы твоей державе не претендовать тогда на Волгу и Сибирь, чтобы соединиться с ними?
— Оставь, Пётр, не передёргивай... Незачем нам с тобой копья ломать — пусть историки со всем этим разбираются.
— А как же с Крымом? — Врангель и не думал отступать. — Материковую часть Таврической губернии твои картографы включили в Украйну, а Крым?
— Видишь ли... — Скоропадский едва приметно запнулся. — Дело в том... Немцы не признали Крым частью Украины.
— Вот как... — Обезоруженный откровенностью, Врангель сбавил пыл, плечи его снова расслабленно приникли к высокой мягкой спинке. — Выходит, они действительно намерены отторгнуть Крым от России...
— Ну, это мы ещё посмотрим... После завершения войны, я уверен, мне удастся как-то убедить кайзера вернуть Украине и Крым, и Галицию со Львовом.
— О чём ты, Павел? — изумился Врангель. — О победе Германии?
— Да, — голос гетмана потвердел. — Я уверен, война окончится победой Четверного союза[13].
— С чего это вдруг? Вступление в войну Соединённых Штатов склонило весы в сторону Антанты. У них же самая мощная индустрия и огромные запасы живой силы.
— Ну, не скажи...
Прикуривая папиросу от свечи, Скоропадский навис над массивным столом. Потом вышел из-за него и заходил по кабинету. Чуткие язычки пламени, а с ними и тени на стенах заколыхались.
— Не склонило, Пётр, а всего-навсего компенсировало выход из борьбы России. Сам посуди: американцам нужно несколько месяцев, чтобы перебросить в Европу войска, тылы и запасы снаряжения. Главное же — научиться воевать против немцев. А у джонни, я уверен, против Гансов кишка тонка.
— Скорее, у Гансов она самая тонкая теперь. С голоду...
Врангель первым рассмеялся собственной шутке. Гетман лишь усмехнулся невесело.
— Этот самый голод и толкнул их на занятие Украины, что б ты знал. Ни днём, ни ночью покоя не дают — требуют увеличить поставки зерна и жиров. Я делаю всё, чтобы урезать их аппетиты. Правда, они платят марками, да деньги-то нынче дешевле хлеба. Курс установили они: наш карбованец равен половине марки. Больше бы надо, но финансисты мои уверяют, что для нас и это неплохо... Твёрдый курс украинской валюты — вот основа всего: без этого не будет ни продуктов на рынке, ни прочной власти, ни сильной армии...
Врангель, закинув ногу на ногу и обхватив острое колено туго сцепленными пальцами, исподволь наблюдал за Скоропадским. Вот — истинный баловень судьбы! Всё в жизни давалось Павлу легко благодаря бездумной исполнительности, богатству, связям и внешней красоте. За одно только умение эффектно сидеть на лошади великий князь Николай Николаевич считал его одним из лучших эскадронных командиров гвардейской кавалерии... И честолюбие его, умело скрываемое под маской безукоризненности, искало удовлетворения не столько в боевых лаврах, сколько в придворных успехах. Как-то в порыве откровенности признался даже, что предел его мечтаний — аксельбант свитского генерала... Теперь же случай вознёс его на высоту, о какой он прежде и мечтать-то не смел. И благодаря лишь тому, что в жилах его течёт кровь какого-то худородного украинского гетмана. Да ежели на то пошло, так Олесинька имеет куда больше прав на гетманство: всё ж таки Иваненки — богатые малороссийские помещики и родословную свою ведут аж от самого Мазепы!..
По видимости, много сильнее всех выпитых вин ударило Павлу в голову вино власти. Потому и заигрался — то ли в угоду немцам, то ли по собственной глупости — в «щирую Украину». Не иначе, надеется такой ценой удержать в руках гетманскую булаву. Всегда был глуп, хотя и с хитрецой. Определённо, глупость Павла на этот раз превзошла его хитрость... Но каковы его потаённые мысли? Ведь не может же он, чёрт возьми, не понимать, сколь непрочно его положение. Не союзники разобьют немцев через год-другой, так новое народное ополчение выгонит из Кремля их агентов — большевиков... И что тогда? Ведь мокрого места от гетманства не останется...
Вспыхнуло было желание поделиться со Скоропадским скверными впечатлениями, что сложились у него за неполные три дня встреч и разговоров, но быстро угасло. К чему? Одни пустые разговоры родят лишь другой, такой же пустой.
— Ежели говорить об армии, Павел... Насколько я успел ознакомиться с делом, я сильно сомневаюсь, чтобы тевтоны позволили тебе сформировать крупные части, особенно конные... Но вопрос даже не в этом... — Протестующий жест гетмана заставил Врангеля поспешно уточнить свою мысль и смягчить тон дружеской доверительностью. — Я-то сам готов взять любую посильную работу. Хоть околоточным[14], будь это полезно России. Но скажи мне откровенно... Веришь ли ты сам в возможность создать самостоятельную Украйну? Ведь это — расчленение России. Или Украйна для тебя — первый слог слова «Россия»?
Скоропадский ещё какое-то время молча отмерял по кабинету шаги, слегка заглушаемые вишнёвым паласом. «Украйна» больше не задевала.
— Скажу одно: я — русский человек и русский офицер, а не «щирый украинец»... — заговорил он наконец, остановившись перед картой. — Ия — не расчленитель... В моём правительстве, чтоб ты знал, идёт нешуточная борьба по этому вопросу. Я стараюсь вести среднюю линию. Хотя бы для примирения. Но теперь, когда мы под немцами, это нелегко... В общем, само время укажет выход. Может быть, в отдалённом будущем Украина и воссоединится с Россией. Разумеется, как равная с равной, на условиях федерации. Но пока в Москве сидят Ленин с Троцким, самостийность Украины — лучшее лекарство против большевизма.
— А по-моему, щирое украинство ничем не лучше большевизма. Немцы потому и поддерживают его, что это — лучший способ расчленить Россию... — Раздражение вырвалось с новой силой и опять ожесточило тон. — И прибрать к рукам наши богатые западные земли. Разве не так?
Наскоки Врангеля вывели-таки Скоропадского из равновесия. Вспыхнув, он горячо заговорил о стремлении к самостоятельности, веками жившем в украинском народе. Об активной работе в этом направлении многих известных деятелей и организаций. О том, наконец, что Украина имеет всё необходимое для образования самостоятельной державы: и промышленные заведения, и плодородные земли, и пути сообщения, и выход к морю.
— ...Это Крым, где нет ничего, кроме винограда и хамсы, и пары месяцев не проживёт самостоятельно. Сулькевичу рано или поздно придётся склонить голову перед Украиной, Россией или Турцией. Сам увидишь.
С каждым словом Скоропадский возбуждался всё сильнее. Широкий рукав черкески порывисто обмахивал цветастую карту, едва поспевая за решительно вытянутым указательным пальцем. Нервно подрагивали, отсвечивая серебром и эмалью, головки газырей, петличный Георгий и рукоять длинного кавказского кинжала.
— ...Ты, Пётр, небось наслушался уже моих хулителей? Некоторые наши общие с тобой приятели открыто мне говорят: как же ты, русский генерал, обласканный государем, коему ты присягал, можешь помогать немцам расчленять Россию! Ну чем, скажи, я усугубил положение России, приняв гетманскую булаву? Чем? Алексеев и Деникин ополчились против меня, ширяют мне в глаза своей псевдорыцарской верностью союзникам... А где они, союзники? Взгляни на карту... Захотели бы — помогли бы нам ещё в прошлом ноябре. В том-то и беда, что никто, кроме немцев, помочь нам теперь не в силах. Если думать действительно о России, надо принимать ту помощь, какую дают, а не ту, какую хочется. И хулители всех мастей это оч-чень хорошо понимают... Потому понаехали в Киев, под защиту немцев и мою. Они предпочитают оставаться тут, жить в сытости и поливать меня грязью, а не едут на Дон и Кубань бороться в рядах добровольцев.
— Я не обвиняю тебя, Павел, — поспешил перебить гетмана Врангель и тут же пожалел: ведь тот может подумать, что он принял эту гневную отповедь на собственный счёт. — Потеряв убитыми два миллиона с лишком, мы давно свободны от моральных обязательств перед союзниками. И я вполне допускаю возможность немецкой ориентации... Весь вопрос в том, насколько германско-украинский союз служит делу воссоздания Великой России. Разве нет? Поможет ли он создать армию, которая двинется от Киева на Москву?..
Но Скоропадский уже взял себя в руки, и возбуждение, словно выплеснутое разом, покинуло его. Высказав всё накипевшее на душе, он как будто потерял интерес к разговору. Вернувшись за стол, тяжело опер голову о руку и, машинально потирая пальцами выпуклый лоб, ушёл в себя. Об откровенности своей не пожалел. Что думает «Пипер» и согласится ли возглавить штаб — не понять: искренностью никогда не отличался. С виду открыт, импульсивен, нагородить и натворить может чёрт знает чего, но если не захочет пустить к себе в душу — нипочём не пустит. И оборону эту ничем не взломать...
Разговор иссяк сам собой: ворошить гаснущий костёр никому не хотелось. Скоропадский незряче смотрел в какие-то бумаги, вяло барабаня по ним согнутыми пальцами. Намерение ещё раз попытаться убедить приятеля перебраться в Киев и помочь сформировать армию посетило на миг и исчезло, оставив горький привкус досады. Да к тому же, как и при первой встрече, тот раза два вскользь, словно оправдываясь, напомнил о крайней нужде побывать в бобруйском имении. Ну да Бог ему судья...
Врангель чувствовал себя, как на похоронах: гроб опущен, первые комья земли гулко застучали по крышке и пора уж уходить от чужой смерти — возвращаться к собственной жизни.
А в жизни его — беспросветная тьма, как в том гробу. Займи он должность начальника штаба гетмана — не закончится ли его служба на Украйне вместе с германской оккупацией? А то и раньше — с властью Скоропадского, бывшего сослуживца. И приятеля, как видно, тоже бывшего... А в Добровольческой армии? Сведения о ней — самые противоречивые, и кому верить — неизвестно. Неужто её дело ещё безнадёжнее и там всё завершится даже раньше?
Вместо прощания гетман посоветовал не слишком прижимать мужиков в имении.
— А что? — насторожился Врангель.
— Небезопасно это по нынешним временам. У меня по всей Украине «красные петухи» разгуливают. Как только господа землевладельцы начинают недоимки за семнадцатый год выколачивать, так мужики и подпаливают усадьбы. Ну, «иллюминации» эти — полбеды, а бывает, что и целые семьи вырезают.
— Даже гансы справиться не могут?
— Даже они.
— Может, мне помочь им? Опыт имею... — Врангелю захотелось свести неприятную тему к шутке, но не вышло.
— Устарел твой опыт. В шестом году у мужиков, которых ты драл с отрядом Орлова[15], были лишь топоры да вилы. А нынче — винтовки и пулемёты. Государь император сам и вооружил их. На свою и на нашу голову...
На том и расстались на пороге кабинета, неловко обнявшись. Полумрак помог им разойтись взглядами, полными разочарования и сожаления.
23—31 мая. Киев
Купеческий сад, как и в мирное время, привлекал публику роскошными цветниками, красивой, похожей на дворец, деревянной беседкой над самым обрывом и чудным видом на Днепр и левый берег, ровно стелющийся в непроглядную даль. С утра до ночи от Царской площади беспечно растекались по округло спускающимся к реке ухоженным аллеям гувернантки с детьми, разодетые компании и пары.
Врангель и сам старался выкроить хоть пару часов — прогуляться с женой, благо плату берут умеренную... Уходящее за городские крыши солнце ещё ласкало последними лучами, а от воды уже тянуло бодрящей прохладой. Лёгкие не могли надышаться любимым с детства ароматом белых акаций... Правда, с темнотой наплывала публика, отчего прогулки по тесноватому саду превращались в толчею.
Каждый вечер на сцене большой эстрады, прикрытой высокой раковиной, неутомимо играл военный оркестр. Смотря по настроению, останавливались наверху у клумбы, позади последнего ряда белых скамеек, или чуть спускались и присаживались где-нибудь с краю. Исполнялись и какие-то малороссийские песни, и популярные вальсы. И даже русские марши иногда... Всё бы хорошо, да вырядили музыкантов в совершенно нелепые зипуны синего цвета и светло-серые шапки, с верха которых свисали набок синие же хвосты, придавая им вид старомодных ночных колпаков.
На просторной и изящной веранде ресторана Купеческого клуба отыскать свободный столик — пообедать, поужинать ли — удавалось с трудом.
Разгуливающая публика задыхалась от веселья. Заразительного, но какого-то нервозного и натужного. Дамы, как никогда оголённые и обворожительные, смеялись громко и зазывно.
Однако это веселье и этот смех всё чаще будили в его душе досаду и раздражение.
Казалось, каждый если не понимал, то чувствовал: киевское благополучие временно и держится лишь на германских штыках. А потому спешил набивать карманы и по-хлестаковски «срывать цветы удовольствия». Всех неодолимо тянуло в прошлую жизнь, и мало кто задумывался о будущем...
Его собственное предчувствие недолговечности гетманской власти обострялось блистательным отсутствием украинских патрулей. Их, а заодно и городовых заменяли странного вида милиционеры: в защитной форме без погон и широкополых, подобных американским, шляпах. А вот серые фигуры немецких патрульных в касках попадались повсюду. Мелькали даже идущие куда-то команды с пулемётами и обозом в несколько телег.
Держались немцы — и здесь отдал им должное — скромно. Особенно солдаты, многие — всего лишь ландштурмисты[16]: добродушные хозяйственные крестьяне из южной Германии, лет под сорок, а то и более, они попросту терялись в большом и богатом городе. Даже тяжёлые каски на головах и карабины «маузер» за сутулыми плечами таскали с заметной неловкостью...
Между тем хлопоты о плацкартах на Бобруйск увенчались успехом. И Киев как-то вдруг опостылел: всё острее раздражал этот по-украински костюмированный пир во время русской чумы.
3 июня. Киев
Ближе к вечеру приподнятость — несколько нервозная, а потому шаткая, — одолела сосущую безысходность. Так подействовало приглашение «на чашку чая» от князя Туманова, бывшего командира 2-го конного корпуса, снявшего квартиру в самом начале Большой Васильковской улицы. Чай устраивался ради генерала Свечина, командовавшего в войну лейб-гвардии Кирасирским полком: состоя теперь на службе у Донского атамана Краснова, тот прибыл к гетману главой «дипломатической миссии». Точнее, ради обещанного им доклада об обстановке на Северном Кавказе, положении донцов и Добровольческой армии.
Поторопился выйти из «Праги», шагал быстро и сосредоточенно — и в запасе осталось больше получаса. А потому, попав на широкий Бибиковский бульвар, решил не отказывать себе в удовольствии пройтись по его прямой как стрела аллее, уходящей под горизонт.
Только что отгремела гроза, и синебрюхие тучи ещё не освободили солнце. Короткий ливень прибил пыль к гранитным кубикам мостовой и асфальту тротуаров, охладил воздух, напоил его возбуждающим ароматом освежённой молодой зелени. Протянувшиеся по обе стороны от аллеи высокие пушистые стенки пирамидальных тополей трепетали и тускло серебрились на ветерке. Тёмно-зелёные ряды жимолости лохматились молодыми светлыми побегами.
Повреждений в изящной железной решётке, ограждающей аллею, не заметил, а вот деревянные скамейки кое-где поломаны, краска потеряла белизну и облупилась. Похоже, у Городской управы ещё руки не дошли отремонтировать и покрасить. Как и подстричь кустарник.
Владимирский собор, выкрашенный в светло-шоколадный цвет, в сравнении с Исаакием показался совсем не нарядным и каким-то приземистым, будто вдавленным в землю. Перед ним роилась, христарадничая, обычная публика — богомольцы в чёрном, нищие и убогие в рубищах. Но преобладали солдаты — на костылях и безрукие, обросшие, в драных шинелях нараспашку...
Квартиру, снятую Тумановым в старом трёхэтажном доме, нашёл весьма скромной.
Небольшую столовую уже заполнили офицеры — человек сорок. И почти все курили. Сизый дым, поднимаясь к потолку, плотно окутывал большой розовый абажур. Каждый приходивший поневоле вступал в разгоревшийся спор. Одни обвиняли гетмана во всех смертных грехах. Другие — и такие преобладали — горячо защищали его, доказывая, что «германская ориентация» — единственно возможная в создавшейся обстановке. Договорились до того, что Скоропадский исправляет роковую ошибку Николая Романова — гибельный союз с республиканской Францией[17] против Германской империи. Некоторые, видимо, уже изрядно где-то выпив, спорили особенно страстно и в выражениях не стеснялись.
Прислуживал молоденький официант из прапорщиков военного времени, нанятый в ближайшей кофейне: без особой сноровки выставлял на стол бутылки с красным и белым вином, графины с водкой и тарелки с закуской. Больше официанта хлопотал вокруг стола сам Туманов.
Не успел Врангель обойти знакомых, здороваясь за руку, и выбрать место у отворенного настежь окна — не глотать бы табачный дым, — как появился Свечин.
Частенько встречал того в Петербурге, а потом и на фронте: не раз сидели за одним столом, были на «ты» и как бы даже в приятельских отношениях. Обычно подтянутый и лощёный, хоть и не очень бравый с виду, Свечин выглядел каким-то помятым и осунувшимся. На бледном лице заметно выделялись набрякшие мешки под глазами и короткие чёрные усики. Но самым примечательным в нём были походная форма русской армии и генерал-лейтенантские трёхзвёздные погоны, на которые все присутствующие, одетые в штатское, воззрились с откровенной завистью.
— Здравствуй, Михаил Андреевич! И ты сюда пробрался... — Врангель одним из первых подошёл к Свечину. — Да ещё в военной форме! И как тебе удалось?
— Вот так встреча! Пётр Николаевич, дорогой... — Широко улыбаясь и раскрывая объятия, невысокий Свечин живо приподнялся на цыпочки, чтобы расцеловаться. — Мне и не сообщил никто, что ты здесь. А я вот на службе в Донском войске...
Туманов, уже заняв место во главе стола и приглашающим жестом указывая Свечину на стул рядом с собой, потребовал тишины.
Почти два часа повествовал Свечин о своём приезде в декабре в Новочеркасск, о встречах с Алексеевым и Корниловым, об участии в апрельском восстании казаков против большевиков и — с чужих слов — о походе Добровольческой армии на Кубань и гибели Корнилова...
Выяснилось — для Врангеля и других это стало неприятным открытием, — что казаки озабочены лишь освобождением Донской области и о походе на Москву даже не помышляют. К офицерам и генералам относятся настороженно, ибо считают их поголовно «старорежимниками». То ли поэтому, то ли из-за собственного казакоманства Краснов неохотно принимает на службу в Донское войско офицеров и генералов, не причисленных к казачьему сословию.
Отношения между Красновым и Деникиным не заладились с самого начала. По возвращении Дабрармии из похода на Кубань Деникин, заместивший убитого Корнилова, довольно самонадеянно попытался подчинить себе донские ополчения. Но получил от ворот поворот: казачье командование прямо заявило ему, что донцы освобождают свою область собственными силами, а потому их власть и армия будут самостоятельными.
А внешняя ориентация развела донское казачество и добровольцев окончательно... Алексеев и Деникин — целиком и полностью на стороне союзников, немцы же — их заклятые враги. А Краснов — германофил уже потому, что немцы заняли часть Донской области с Ростовом и прикрыли её с запада, оружие и снаряжение на Дону отсутствуют и получить их проще всего с Украины.
Дошло до абсурда. Краснов предложил Деникину свои услуги посредника: через него обратиться к гетману за оружием и боеприпасами. Но Деникин категорически отказался, даже через третье лицо, иметь дело со Скоропадским, назвав того «ставленником немцев».
Над Добровольческой армией с первых дней существования витает дух неудачи: Алексеев и покойный Корнилов постоянно ссорились, денег и предметы снабжения получить неоткуда, воюют добровольцы только трофейным, число их никак не превысит 4-х тысяч, командный состав расколот на монархистов и республиканцев, а казаки, донские и кубанские, симпатий к ней не питают...
Едва доклад был окончен, все наперебой кинулись засыпать Свечина вопросами. Многим не терпелось узнать, чем закончились его переговоры со Скоропадским и Эйхгорном. И облегчённо вздохнули и принялись обмениваться подбадривающими взглядами, когда услышали, что немцы разрешили Военному министерству отпустить Донской армии оружие и боеприпасы в обмен на хлеб. Правда, при условии, что они не попадут в руки Добровольческой армии.
Врангеля это настроение не захватило. Напротив, последние слова Свечина задели его неожиданно сильно. И, перебив чей-то вопрос, он резко спросил:
— Почему же ты так однобоко освещаешь обстановку — подробно о казаках и вскользь о добровольцах? Между тем они стоят на правильном пути спасения России, а Краснов с казаками пошёл на поклон к немцам. Разве не так?
Свечин, бросив через всю столовую удивлённый взгляд на сидящего у окна Врангеля, насупился. Восприняв столь резкие слова как незаслуженный упрёк, принялся объяснять, едва не сбиваясь на оправдания: ещё в конце декабря прибыл он из Москвы в Новочеркасск, чтобы вступить в Добровольческую армию, и лишь случай толкнул его, не казака, на работу против большевиков совместно с донцами, а Краснову сама обстановка диктует союзнические отношения с немцами и Украиной...
— ...Согласись, Пётр Николаевич, что с голыми руками воевать против хорошо вооружённого противника нельзя. Поэтому Краснов и прислал нашу миссию сюда. И мы свою задачу выполнили: добились при поддержке гетмана согласия Эйхгорна, и в ближайшее время Донская армия получит всё необходимое снабжение. А там Краснов, в чём я не сомневаюсь нисколько, поделится с Добрармией...
— Значит, не Скоропадский, а именно немцы позволили русским, чтобы бить большевиков, пользоваться русским оружием в обмен на русский же хлеб. Так? Умно, нечего сказать!
— Да если бы не Скоропадский, мы никогда не договорились бы с немцами. Он помогает всем, кто борется за освобождение России, и...
— Одному Вильгельму он помогает — выиграть войну на Западе и расчленить Россию...
Поймав на себе осуждающие взгляды, Врангель осёкся. Едва ли прямота и резкость уместны в этой компании, где большинство явно сочувствует гетману. Разом сбавил тон:
— И почём ты знаешь, что Краснов поделится с Алексеевым? Ведь приезжающие сюда с Дона добровольцы в один голос говорят о недружелюбном отношении донских властей...
Меньше всего Свечину хотелось вступать в словесную дуэль с бароном. Унизительна она и лёгкой победы не сулит: красноречие «Пипера» известно. И в прежние времена мало кто рисковал соперничать с ним в тостах. Разве что балабол Бискупский... И с чего это старый приятель с цепи вдруг сорвался? Откуда взялась эта предвзятость лично к нему? Сам-то предпочёл не на Дон поехать, а в Киев, под защиту своего бывшего командира полка...
Сдерживая себя, достойно парировал:
— Я удивляюсь, Пётр Николаевич, как можешь ты доверять подобным бродячим осведомителям. И зачем они приехали сюда? Отчего не продолжили борьбу в рядах Добрармии? Не дезертиры ли они?
Туманов поспешил воспользоваться старшинством в чине и правами хозяина: решительно прекратил спор, грозящий разгореться в ссору. Свечин столь же вспыльчив и боек на язык, как барон. Сорвётся ещё, и найдёт тогда коса на камень, только искры полетят...
Возвращался Врангель в «Прагу» в настроении самом отвратительном. И ничто вокруг его не улучшало.
Ярким освещением — исправным электрическим фонарям помогали окна ресторанов, кофеен и кондитерских, витрины магазинов и кинематографов — Крещатик тужился уподобиться Невскому. По мостовой чванливо катили открытые экипажи на резиновых шинах. Высокомерно сигналя, пробивали себе дорогу автомобили. Ползли по рельсам полупустые трамваи, звеня и отбрасывая вперёд и в стороны тошнотворно жёлтый свет. Аляповатые вывески торгово-промышленных заведений громоздились одна на другую, закрывая фасады до самых крыш. Праздно гуляющая по широким тротуарам публика разоделась с вызывающей роскошью. Разговоры велись неестественно громко, и их весёлость была насквозь фальшивой. Из распахнутых окон ресторанов вырывалась визгливая музыка. Дородные лихачи в приплюснутых котелках настырно зазывали «прокатиться».
Сориентировавшись по смахивающей на церковный купол серой башенке, венчающей высокий дом на Владимирской, свернул налево в Прорезную. Улочка уже видела первый сон. Крутизну её одолел, не замедляя шага.
Оперу нынешним вечером не давали, и без единого огонька светлое здание театра, невысокое и ничем особенным не украшенное, выглядело каким-то заброшенным. Рядом, в темноте худосочного скверика, едва угадывались толстые мрачные стены Золотых ворот.
Выровнив дыхание, осадил заколотившееся сердце.
Фонари не горели и дальше — в сторону Софиевской площади. Улица, по-провинциальному тихая и несуетная даже днём, теперь помертвела: ни обывателей, ни извозчиков, ни трамвая. Витрины давно закрытых магазинов и окна верхних этажей смотрели на осиротевшую мостовую незрячими чёрными провалами. Огромный прямоугольный силуэт «Праги», приближаясь, давил всё сильнее. На торце одиноко и тускло светились один над другим узкие окна коридоров.
В пустой и гулкой темноте его шаги заторопились.
На душе саднило от опять навалившейся безысходности. Просвета нигде не видать... По всему, гетманская власть — игрушка в руках немцев. Украинская армия существует только в приказах Скоропадского. И нужно быть глупцом, чтобы не видеть этого... А у них, истинных патриотов России, когда будет сила? Добрармия — капля в русском океане, и та почти высохла. Без Корнилова она обречена. Деникин, как ни крути, — не общероссийского масштаба фигура... Не имел случая познакомиться лично, но обманывать себя — глупо. Ну, прогремела благодаря газетам его Железная дивизия... Ну, поднялся до начальника штаба главковерха и командующего фронтом... Но какой из него вождь? Даже выскочка Краснов не признал его за старшего. Верно, былое литературное соперничество дало о себе знать: оба до войны баловались сочинительством и вкусили популярности среди генеральских дочек и офицерских жён...
5 июня. Киев
Как-то не связался в представлении Врангеля этот неприметный и старый домик с громким именем владельца: одноэтажный, деревянный, железная крыша и водосточные трубы изрядно попорчены ржавчиной.
Фасадом он выходил на неширокую и редко засаженную каштанами Кузнечную улицу. Рядом, занимая угол её с Караваевской, высилось массивное, бурого кирпича здание в три этажа. Между окнами первого и второго протянулась длинная вывеска в виде железной сетки с аршинными буквами белой эмали: «Кiевлянинъ».
Ступеньки крыльца расшатались. На их скрип, опережая электрический звонок, залаяла за потемневшим забором собака. Как ни надрывалась, не сумела заглушить вылетающий из форточки частый стук пишущей машины.
Смолк этот стук не сразу. Но тут же заскрежетал ключ, и дверь отворилась.
Глазам Врангеля предстал господин средних лет, высокий и худощавый, с бледным круглым лицом. Поза развязная, клетчатый пиджак нараспашку, без галстука, светлые усы и волосы, обрамляющие большую лысину, расчёсаны небрежно... По всему, привык к непрошеным визитёрам и считает вполне приличным принимать их без церемоний.
— Что вам угодно, господа?
Осведомляясь подчёркнуто учтиво, вставший в двери с любопытством оглядывал Врангеля и его спутника: долговязых, поджарых, с выпирающей военной выправкой, одетых в дорогие пиджачные костюмы. Услышав же титулы, перешагнул через порог и подошёл к ним почти вплотную, словно примеряясь, насколько они выше него ещё и ростом. Представился с подчёркнутым достоинством, подмешав к нему толику озорного вызова:
— Шульгин — это я. Мелкопоместный дворянин Волынской губернии. А ещё редактор «Киевлянина» и депутат Государственной думы...
Нанести визит известному всей России газетчику и правому думцу, яростно выступавшему в защиту монархии и собственными руками принявшему из рук Николая Романова манифест об отречении, советовали многие. Одни указывали на его обширные связи в гетманских кругах, другие — на тесные сношения с союзными консулами в Киеве, а третьи намекали на тайные контакты с генералом Алексеевым... Вот кто наверняка мог бы прояснить ситуацию с Добровольческой армией. Потому-то и явился незваным, попросив герцога Лейхтенбергского составить ему компанию.
К разочарованию Врангеля, с громким именем не связался и голос: очень слабый и какой-то никакой.
— Я работаю, но перерыв не повредит. — Энергично встряхивая протянутую Врангелем руку, Шульгин широким жестом пригласил гостей в дом. — Чаю с молоком не угодно? А пирожков с капустой? Я вегетарианец...
Через узкую переднюю провёл в угловую комнату.
Походила она то ли на маленькую гостиную, то ли на библиотеку. Окно, смотревшее на перекрёсток, загораживал разросшийся лимон в большой кадке, уткнувшийся в низкий белёный потолок. Стены подпирали старые массивные шкафы, забитые книгами, и высокая спинка продавленного дивана, которую венчала полка, тесно заставленная фарфоровыми безделушками. Остатки пространства загромождали два вольтеровских кресла — на одном растянулся, разбросав лапы, тёмно-серый полосатый кот — и круглый чайный столик, завешенный газетами.
Предложив располагаться и извинившись, Шульгин вышел. Минута — и он вернулся с большим мельхиоровым подносом. Стаканы, сахарницу, молочник и блюдо с пирожками небрежно прикрывала пара вышитых салфеток. Сдвинул газеты на край столика, обнажив повреждённую полировку... Кое-как расставляя принесённое, перехватил взгляд Врангеля, нацелившийся на ровные ряды огромных, тиснённых золотом переплётов.
— «Киевлянин» за пятьдесят с лишним лет, — пояснил не без рисовки. — А лимон — его ровесник и, опасаюсь, переживёт газету...
Прислуга если и была в доме, то не показывалась, и шарообразный никелированный самовар Шульгин принёс сам. Разливая чай, принялся живописать, как он прекратил выпуск «Киевлянина» после вступления в город немцев.
— ...А вы, кстати, читали мой последний номер? От десятого марта по-старому.
— Нет, — ответил за себя и за герцога Врангель. И тут же пояснил: — Я только пару недель как из Крыма.
— А старые мои статьи? Книги?
— Книги, признаться, нет...
Разочарование, мелькнувшее на подвижном лице Шульгина, было слишком заметно. Задетый бесцеремонностью вопроса, Врангель всё же постарался поправить дело:
— Штабные ведь столько сочиняют, Василий Витальевич, что до книг руки просто не доходят...
Но Шульгин, пропуская мимо ушей эти не слишком убедительные оправдания, уже перескочил на другое:
— Едва немцы вступили в город, как заявляется ко мне Кочубей. Гвардеец, между прочим, а теперь у гетмана в адъютантах...
— Сослуживец мой, знаю.
— А что он — потомок того самого Кочубея, которого погубил изменник Мазепа[18], тоже знаете?.. Так, значит, заявляется — весь лопается от важности, будто от него зависит, какую новую религию примет теперь Киев... И безо всяких там конвенансов[19] начинает уговаривать возобновить «Киевлянина», чтобы поддержать посадку Скоропадского на гетманство. Представляете, Пётр Николаевич?! Так я сказал этому потомку — тоже безо всяких: «Мне кажется странным, что Кочубей приглашает меня на мазепинское дело»... — Шульгин от души расхохотался. — И другие потом подъезжали, но я всех заворачивал. Гетманшафт поддерживать не буду — мерзавцы эти не дождутся! Ничего не стану делать против Господа, России и совести.
Он успевал и говорить, и смеяться, и разливать чай, и глотать пирожки с капустой, и прихлёбывать молоко из стакана. Обращался он к одному Врангелю. Герцог, тщетно пытавшийся сохранить осанистость на продавленных пружинах и грубой пеньковой обивке дивана, лишь слушал внимательно и из беседы выпал.
Врангель успевал не меньше: и кивать в нужных местах, и шутку смешком поддержать, и сквозь прищур пытливо разглядывать хозяина... Высокий, всего-то на голову ниже. Сутулый — не иначе как от неумеренного сидения за письменным столом. Красивым не назовёшь: черты лица тонкие, а нос несуразно большой, с какой-то приплюснутой переносицей, глаза расставлены слишком широко, подбородок маленький и безвольный... Длинные усы, лихо закрученные стрелками вверх, выглядят как-то по-водевильному... И одет не ахти: кургузый, не по росту, пиджак дешёвого сукна и вдобавок сильно потёрт на локтях... Но в заразительном смехе, умном живом взгляде и даже в слабом голосе — «бездна обаяния», как выражается Олесинька. Такие умеют нравиться женщинам... Но самое яркое и притягательное — язык. Поострее американской бритвы «Жиллетт» будет. Не приведи Бог попасть... И пишет так же? Глупо не огладить такого лишний раз...
— А вы не думаете, Василий Витальевич, что пора возобновить выпуск «Киевлянина»? И бить их вашим словом, раз мы пока не можем бить оружием?
— Нет, — решительно возразил Шульгин. — Конечно, все эти вопли украинствующих про «русское иго», под которым, дескать, «Украина стонала двести лет», насильственная украинизация учебных заведений — всё это гнусно и отвратительно. Но я прекратил выпускать газету, протестуя против не-мец-кой оккупации... А теперь шавки Эйхгорна через разных гешефтмахеров — ну, разве один Липерович ещё не в гешефте! — предлагают возобновить, но только... только-то!.. не нападать на германскую политику. А вот не дождутся! Раз моё молчание для них опаснее моих статей — буду бить их молчанием...
Врангель счёл нужным ограничиться понимающей улыбкой.
— ...Значит, совсем их дела плохи. И прекрасно! Щирая Украина погибнет в исполинской пасти истории, словно Атлантида. А Россию и монархию мы восстановим. Любой ценой восстановим... Но! — И Шульгин, как строгий учитель, сделал крайне серьёзное лицо и ткнул худым пальцем в низкий потолок. — Упаси нас Бог совершить это святое дело при помощи Германии...
Он готов был развивать эту кипевшую в нём тему до бесконечности. Тактично послушав ещё какое-то время, Врангель всё же перебил:
— А ежели Германия победит?
Вмиг помрачнев, Шульгин задумчиво и нежно погладил кота, вытянувшегося поперёк его колен. Тот громко замурлыкал.
— Тогда, Пётр Николаевич, боюсь, соглашение с немцами станет для нас неизбежным. Надо трезво смотреть на вещи. Но восстановление монархии при помощи Германии — это самое страшное, что может случиться с Россией... Как монархист я подчинюсь этому. Но произвести над собой ломки не смогу и работать над воссозданием России вместе с немцами не стану. Тем более — с продавшимися им иудами... A-а, вот что я тогда сделаю! Отойду от политической и издательской деятельности и примусь за исторические романы... Не переплюнуть ли Загоскина[20], а? «Павло Скоропадский, или малороссы в тысяча девятьсот восемнадцатом году». Каково?
И опять рассмеялся первым.
— Весёлого мало, — нешироко развёл руками Врангель. — Я заехал к Скоропадскому... Когда-то ведь служил под его началом... И попробовал поговорить с ним. Тяжело и бесполезно. Хитрый глупец — и ничего больше. Немцы не дадут ему ни сформировать армию, ни стать настоящим вождём. А он или не понимает этого, или боится признаться себе.
— Порядочность в нём ещё осталась?
— Не уверен, была ли...
— Так вы отвергли его предложение стать во главе штаба украинской армии?
Карие глаза Шульгина смотрели невозмутимо. Ничем не выдав своего удивления, весьма неприятного, осведомлённостью собеседника, Врангель твёрдо ответил:
— Бесповоротно. Прежде всего потому, что такой армии нет и никогда не будет. Ну и по другим причинам. Надеюсь, вполне понятным...
— Вполне.
— Что же тогда остаётся? Добровольческая армия? Что вы о ней думаете? Я ведь за этим и пришёл...
Шульгин всем своим видом показал, что уже понял и это.
— Думаю я вот что... В ней — все задатки возрождения русской армии. Она не согнула шею перед немцами. Она выжила в походе от Новочеркасска до Екатеринодара. И продолжает борьбу без Корнилова. Деникину по популярности, конечно, далеко до болярина Лавра... Но ведь при Керенском его мужественные протесты против разрушения армии и унижения офицерства были слышны всей стране.
— Вы знакомы с ним?
— Нет. Но видеть — видел: в Москве, на августовском совещании, в Большом театре. Он сидел в одной ложе с Алексеевым, Корниловым и Калединым, в правом бельэтаже. Хотя и не выступал. Так что какой он оратор — не знаю. Но как военный — возможно, посильнее Корнилова будет: победы его «Железная» дивизия одерживала громкие, и в плен он не попадал...
По худому, скованному напряжённым вниманием лицу Врангеля тенью метнулось что-то неуловимое. Шульгин и не пытался уловить. К чему? Много разных людей обивало порог его дома в переломный 5-й год, ещё больше — в смутный 17-й, а теперь и вовсе не дом, а проходной двор стал... Все хотят одного: узнать, что будет с Россией и как её спасти. Ни много ни мало... И встречаются среди них весьма и весьма высокие люди — и ростом, и положением. Ростом Врангель, пожалуй, повыше всех прочих будет, но никак не положением. Хотя, человек, похоже, незаурядный. Между бровями наметились вертикальные складки воли. Нос — тонкий, длинный, с горбинкой — придаёт лицу что-то орлиное. Голос — густой мощный баритон. На зависть мощный. Говорит внятно, с властной расстановкой. Привык, видно, драть горло перед войсками. Взгляд вот... Не то что бы неприятный, но какой-то тяжёлый. И давит, как предгрозовое небо. Может быть, виной тому — полуопущенные верхние веки. Или цвет глаз: сталью отливает... Но что притягивает в этом взгляде — прямой, твёрдый, испытующий. И требующий высказаться. Именно решительно требующий, а не вяло приглашающий, как у того же несчастного Николая. А у герцога — пустой, как дно отмытой от вчерашних щей кастрюли. Да и весь он — никчёмник, заурядный увалень голубой крови, хотя и отирается при штабе Эйхгорна... Выродились, увы, Романовы и вся их родня за 300 лет, обрекли себя на бесславную гибель. Ладно бы только себя...
— Это всё в прошлом, Василий Витальевич. А что теперь?
— Пока армия восстанавливает силы на юге Донской области, на самой границе с Кубанской. Денег в обрез. Все наши толстосумы — патриоты одного своего кармана. А нет денег — значит нет оружия, боеприпасов и всего прочего. Но добровольцы едут со всех концов страны, дух исключительно высок, и всё необходимое добывают в бою. Я верю в Добровольческую армию. И считаю, что каждый истинный патриот должен быть в её рядах, ибо без возрождения армии не будет возрождения России.
— А известны вам намерения командования?
— Намерения?
Шульгин неспешно вернул на тарелку надкусанный пирожок. Взялся за гнутую ручку высокого подстаканника, всмотрелся в него: старый мельхиор сильно потемнел... После нескольких глотков чая голос его утратил страстность, а на лицо наползла маска неведения.
— Ну, кому ж они, кроме Алексеева и Деникина, могут быть известны...
Врангель зашёл с другой стороны:
— Зато в Киеве много разговоров о республиканстве Алексеева и Деникина...
— А разговоров, что жидовский Совнарком делает эвакуацию в Берлин, — ещё больше... — и Шульгин заразительно расхохотался.
На этом пришлось заканчивать: усердный лай бегающей во дворе собаки и пронзительный электрический звонок возвестили о новых посетителях.
— А сами вы, часом, не собираетесь к Алексееву? — Готовясь встать, Врангель упёрся руками в шаткие деревянные подлокотники кресла.
— Собираюсь. Раз я закрыл «Киевлянина», что мне, собственно, здесь делать?
— Что ж, благодарю. Надо будет попробовать... Может, в другой раз мы с вами встретимся у Алексеева...
Провожая визитёров, Шульгин ясно ощущал, что согласие Врангеля — чисто внешнее. Равно как и благодарность. А внутренне тот уходит совершенно неудовлетворённым. Ну, в конце концов, он оторвался от главного своего дела — диктовки Крошечке, секретарю и возлюбленной Дарье Васильевне, — не для того, чтобы исповедь выслушивать или самому исповедываться. Во всяком случае, сказать этому генералу в штатском, которого видит впервые в жизни — да и не припоминает, чтобы слышал когда, — больше, чем сказал, ни на миг желания не возникло. Ни к чему распространяться о том, что сам он ещё в ноябре поехал в Новочеркасск и вступил в Добровольческую армию... Что Алексеев записал его в свою тетрадку 29-м и тут же приказал вернуться в Киев и вместе с генералом Драгомировым[21] вербовать и отправлять на Дон офицеров... Что созданная нм тайная осведомительная организация «Азбука» уже снабжает штаб армии информацией о положении на Украине и даже событиях в Москве...
Усаживаясь в поджидавший их длинный и комфортабельный «Ауди» герцога, Врангель поймал себя на том, что сильно уязвлён: не проявил Шульгин к нему ни должного интереса, ни доверия. Трещал без умолку и все только о себе и своей газете, а расспрашивать ни о чём не расспрашивал и явно не склонен был делиться всем, что знает о Добровольческой армии. А знает, по видимости, немало. Как и о происходящем в штабе гетмана. Впрочем, скрытность эта недорогого стоит, раз в ней так много актёрства... Как и во всём облике Шульгина. Привык в Таврическом дворце ходить гоголем среди господ депутатов да петь соловьём с думской трибуны... Вот и результат: тщеславен и самовлюблён не в меру. И слишком заигрался, как азартный картёжник, в «политику»...
«Ауди» легко одолел один квартал вверх по Караваевской и свернул, огибая угол разросшегося Николаевского парка, направо на Владимирскую. Трясясь на неровно заделанных крупным дубовым кругляком воронках, ехал неспешно... Слева широко раскинуло тяжёлые крылья тёмно-красное здание университета. Величавость его изрядно умаляли облупившиеся до розоватой штукатурки круглые колонны портика.
Пропустив трамвайный вагон, автомобиль выкатился на перекрёсток с широким Бибиковским бульваром. Под полуденным солнцем ярко серебрились пирамиды тополей, плавилось в лёгком мареве золото соборных куполов. По поверхности бело-цветастого людского потока плыли серые каски немецкого патруля...
Ну да ладно, успокоил себя Врангель, наплевать и забыть. Актёрство и самовлюблённость Шульгина скорее забавны. И задевать не должны. О потерянном времени жалеть глупо: знакомство свёл полезное — пишущая братия всегда пригодиться может...
На перекрёстке с Фундуклеевской, сбавив скорость, шофёр коротко — не испугать бы деревенских лошадей — прогудел крестьянским телегам, закрывшим путь. Возчики зачмокали, затрясли сыромятными вожжами, защёлкали кнутами... Врангелю вдруг подумалось: как же, верно, счастливы те, кого Бог одарил способностью легко и красочно описывать всё на бумаге и только тем обретать громкую известность...
Самого-то никогда к перу не тянуло. Хотя мама, большая любительница литературы и литераторов, всячески пыталась привить ему эту тягу. Кончилось всё чёрт-те чем... В Японскую войну слал ей из Маньчжурии длинные-предлинные письма. По пять-шесть, а то и семь страниц исписывал. То ли времени свободного было в избытке, то ли край так поразил его необычностью, то ли по дому тосковал. А скорее — хотел таким нехитрым способом как-то успокоить её и отвлечь от тревожных мыслей об опасностях, которым он подвергается... Так или иначе, но описывал очень подробно всё, что видел: и людей, казаков и китайцев, и суровый их быт, и дикие нравы, и яркую в своей первозданной красоте природу, и столкновения с неприятелем... Сколько же он перевёл на эти письма листов из бюваров и пожёг керосина в лампе! Так она возьми да в тайне от него и отправь их в суворинский «Исторический вестник». Предварительно, конечно, сама их переписала. Очень литературно всё получилось, почти как у молодого графа Толстого... Самому потом неловко было читать эту писанину, когда впервые взял в руки толстую книжку журнала. А уж приятели-то зубоскалили... «Пипер-летописец»! Только новых завистников приобрёл... Зарок дал: никаких больше подробных писем с фронта и уж тем более — записок о войне.
Немало борзописцев охотится за известностью и деньгами с пером наперевес. И иные легко в том преуспели. Вот шашкой слава добывается куда труднее...
15 августа. Киев
От весенней свежести Киева остались одни воспоминания. Зной немилосердно выпарил Днепр, сузив голубой поток и обнажив серо-жёлтые язвы песчаных мелей. Сухой ветер гонял и крутил по улицам пыль, забивая лёгкие и засоряя глаза. Поблекла и начала съёживаться листва. Траву в садах и скверах скосили на корм лошадям. Трамвайные вагоны потеряли щеголеватость. Потускнело золото куполов. Ярче и уродливее проступили пепелища и разрушения...
Столица гетманства стала ещё многолюднее, ещё суматошнее, ещё крикливее... И дороже. Остановиться пришлось в старом и шумном «Савой-отеле» на Крещатике. Номер, полученный при содействии Кочубея, оказался много теснее прежнего, но уже за 60 рублей или 100 карбованцев. Подешевело только одно: авторитет Скоропадского и его правительства.
На Крещатике и Институтской появились патрули гетманского конвоя: наевшие физиономии казаки в чёрно-белых шапках-мазепинках, защитных жупанах и синеватых шароварах. Шапки украшала новая кокарда: круглая, жёлто-синяя, с трезубцем. И даже погоны вернулись на плечи — узкие и клиновидные, наподобие немецких.
Их вид, напомнив маскарады в Ростовском реальном училище, ничего, кроме горькой усмешки, у Врангеля не вызвал. И убеждения, с которым он вернулся в Киев, не поколебал: гетманская власть обречена, поскольку объедать западные и южные области России тевтонам осталось недолго...
...В Минской губернии германская пята давила много тяжелее и унизительнее, чем в Крыму: немцы без конца производили непомерные продовольственные раскладки, строго регламентировали промышленную и торговую деятельность, ограничили передвижения, во всё совали нос. Но первые признаки разложения кайзеровского воинства он заметил сразу. Уж русским-то они хорошо были известны: в части проникла пропаганда против кайзера, чины комендатур стали брать взятки, уставами пренебрегали всё более открыто.
Расквартированный в имении пехотный полк на глазах превращался в орду, плохо управляемую и небезопасную. И причины заключались не только в общем падении нравственности, неизбежном в каждой затянувшейся войне, но и в поражениях на Западе: битва на Марне была проиграна и началось общее отступление обескровленных германских дивизий с территории Франции.
Дела свои в имении закончил быстро. И дел-то особых не было. Мужики хоть и сумрачнее прежнего стали, но благодаря присутствию сначала польских, а затем немецких войск вели себя смирно. Господского добра, считай, не тронули. И ничего не сожгли: ни дома, ни флигеля, ни хозяйственных построек... Но так или иначе, доходы иссякли и скоро не предвиделись: разорённое войной и дороговизной хозяйство добили беспощадные реквизиции. Как быть дальше, не знал... Оставаться в имении? Возвращаться в Киев? Или ехать назад в Крым? И сколько ни прикидывал, ни советовался с женой — решиться ни на что не мог.
Не сомневался только в одном: немецкую пяту, раз нет ещё новой русской власти и армии — что в Белоруссии, что на Украйне, что в Крыму, — сменить может только большевистская. И никакая другая. Ещё раз оказаться в лапах «товарищей» — глупо. Родные не наплачутся... А как скоро придут на помощь союзники — и чёрт вряд ли знает...
От неопределённости и метаний устал ужасно.
Но в конце июля — начале августа разными путями дошло до него несколько писем от сослуживцев. Главные новости были столь же неожиданны, сколь и долгожданны: за Волгой и на Северном Кавказе началась настоящая война с большевиками. Донская армия Краснова разворачивается и почти освободила Дон. А Добровольческую армию, передохнувшую под её прикрытием, Деникин по примеру Корнилова повёл во второй поход на Кубань, где казаки поднялись наконец-то.
Новости окрылили. Раз так — оставаться безучастным зрителем разгорающейся борьбы долее нельзя. Глупо, и малодушием попахивает... Да и бездельничать надоело смертельно. И покомандовать — не корпусом, так хоть полком для начала — захотелось вдруг до зуда в ладонях: стиснуть в кулаке рукоять эфеса и сполна отплатить хаму за все мытарства, унижения и страхи, отвести душу в бою.
Пробудившееся боевое нетерпение оттеснило все сомнения. Два кожаных чемодана и портплед были быстро сложены. За сравнительно скромную мзду немецкий комендант не только оформил разрешение на поездку в Киев, но и помог с плацкартами на единственный почтово-пассажирский поезд.
Однако когда в минувшее воскресенье, далеко уже за полночь, он шагнул из провонявшего потом и махоркой жёсткого вагона III класса на скупо освещённый и пустынный перрон, одну руку подав жене, а другой подзывая носильщика, твёрдо знал только одно: к Скоропадскому — исключительно за новостями, к Кочубею — за номером в гостинице. А где служить, куда ехать и под чьё начало становиться — ещё предстоит решить, посоветовавшись с людьми, лучше других осведомлёнными о положении на Волге и Северном Кавказе...
...За тем и пришёл нынче вечером к генералу Драгомирову, услышав от общих знакомых, что тот не сегодня-завтра отбывает в Добровольческую армию. Собственный дом Драгомировых стоял на ответвляющейся от Крещатика Анненковской улице, которую многие киевляне звали по старинке — Лютеранской.
Старый кавалерист принял его хотя и в кабинете — отцовском ещё, — но облачённым в зелёный атласный халат. Тяжёлые приземистые шкафы были так плотно и аккуратно заставлены книгами, что их, показалось Врангелю, и в руки-то никогда не брали. Холодного оружия, развешанного по настенным туркменским коврам — из верблюжьей шерсти, с бахромой — хватило бы на взвод. На массивном письменном столе красного дерева, потемневшем от времени, лежали в беспорядке бумаги. Не иначе, Драгомиров разбирал их перед отъездом на предмет сожжения.
Несмотря на безветрие и духоту, источаемую нагретыми за день каменными домами, окна на улицу были плотно закрыты — от пыли. Стоял терпкий запах табака, лаванды и старых книг.
— Михаил Васильевич зовёт. — Драгомиров не любил длинных предисловий. — Поехали со мной, Пётр Николаевич. Чего ты тут потерял?
Письмо от Алексеева офицер-доброволец привёз третьего дня из Новочеркасска. Как выяснилось из него, союзные державы намерены создать на Волге новый фронт из русских сил — против немцев и большевиков. Возглавить их предложили Алексееву. Обещают самую широкую материальную поддержку. Почему Алексеев и предполагает в ближайшее время выехать туда. А Драгомирова приглашает к себе заместителем.
— Поехали. Дело на Волжском фронте тебе найдётся: формировать дивизии и регулярной кавалерии, и казачьей конницы. А то придётся и сводить их в корпуса. Ты знаешь те и другие — тебе и карты в руки...
Обычная прежде добродушная полуулыбка ни разу не потеснила с бледного морщинистого лица Драгомирова хмурую сосредоточенность. Говорил он, тяжело отдуваясь в поседевшие усы и промокая лысину, подобную бильярдному шару, скомканным батистовым платком. И все — с такой озабоченностью, будто уже взвалил на свои оплывшие плечи тяжкий груз обещанной должности. Сходство с отцом, командовавшим когда-то войсками Киевского округа — портрет висел за спиной, — Врангель нашёл полным. И некоторой тучностью, и круглой по-кошачьи головой, и сосредоточенным выражением.
— ...Конским составом Поволжье и Урал хоть и не богаты, но как-нибудь наскребёшь по сусекам. Восточные казачьи войска подымешь. А союзники доставят снаряжение...
Слухи о будущем фронте на Волге, где дрались против большевиков русские и чехословацкие части, уже гуляли по Киеву, воодушевляя антантофилов. И письмо самого Алексеева — самое надёжное их подтверждение. Правда, всех сомнений Врангеля оно не развеяло.
— А не кажется вам, Абрам Михайлович, что Волжский фронт будет нужен союзникам лишь до тех пор, пока они не ликвидируют Западный. А что потом?
— Англичане и французы наращивают силы в Мурманске и Архангельске. Оттуда и станут снабжать наш фронт.
— А как скоро пойдёт снабжение? И будет ли оно достаточным?
— Ну, что-то ещё, полагаю, добавят американцы и японцы — доставят во Владивосток. Видимо, и там в скором времени высадятся их крупные силы.
— Японцев? А как их потом выпроваживать обратно в Японию?
— Главное сейчас — с их помощью выпроводить на тот свет большевиков. А уж потом уладим все дела с союзниками. Новая русская власть ни территорией, ни чем другим поступаться не станет.
Что-то, почудилось Врангелю, старый кавалерист не договаривает. И обычная его твёрдость и бравада не так явно выпирают: ни в тоне, ни во взгляде, который то и дело уходит в сторону. И письмо Алексеева лишь пересказал в двух словах...
— А что Михаил Васильевич? Сам он уверен в скорой помощи союзников нашим силам на Волге?
— Не был бы уверен — не собирался бы переезжать туда, — буркнул Драгомиров, всем видом показывая, что далее развивать эту тему считает излишним.
Врангель укрепился в своих подозрениях: явно не на пустом месте они возникли.
— А здоровье его как? Говорят, болен серьёзно.
— Об этом в письме ни слова. — Драгомиров надул щёки.
— Но тогда, Абрам Михайлович, мне непонятна стратегия Деникина... Фронт создаётся на Волге, туда едет Алексеев, а он двинул армию в противоположном направлении — на Кубань. И какой смысл тратить силы на повторный штурм Екатеринодара, когда идти надо на Царицын? Только через Царицын можно связать антибольшевистские силы юга и востока. И никак по-другому.
— Пожалуй... Но Деникин намерен прежде всего освободить Кубань с Тереком. И создать там прочную базу... Екатеринодар он возьмёт — в этом сомнений нет. Шульгин уже умчался туда — издавать газету...
— Решил обратить Алексеева с Деникиным в монархическую веру?
Драгомиров и эту тему не поддержал, только сильнее надул щёки.
— Всё увидим на месте, Пётр Николаевич. — Он тяжело поднялся из-за стола, подперев лысиной отцовский портрет. — Так что ты решил? Едешь со мной?
В тоне его Врангель явственно расслышал неудовольствие. Что ж, искать добра от добра не приходится. Тем более с таким трудом, да не однажды, удалось избежать зла.
Поспешив встать вслед за хозяином дома, заявил, что согласен. Но тут же оговорил: сначала Заедет в Ялту к семье, а уж оттуда — в Екатеринодар.
Там и условились встретиться.
Покидал Врангель дом Драгомирова окрылённый: разъедающие душу сомнения и мучительная неопределённость рассеялись как дым. Длинные пружинистые ноги несли под гору стремительно. Словно обутые не в жёсткие и тесные ботинки механического производства петербургского товарищества «Скороход», а действительно в сказочные сапоги-скороходы. И не заметил, как пролетел между обступившими почти не освещённую улицу старыми зданиями в готическом стиле, построенными немецкой колонией Киева: кирхой, реальным училищем, женской гимназией, церковью... Острый шпиль лютеранской церкви глубоко вонзился в пыльную фиолетовую темноту.
Слава Богу, судьба его решилась наконец! На Волге его ждёт настоящее дело! Алексеев с головой уйдёт в политику и сношения с союзниками, а военное управление отдаст Драгомирову. Иначе не настаивал бы на его приезде. Драгомиров же загодя решил доверить ему формирование конных частей. Кому ж ещё-то? Самому в седло уже не вспрыгнуть: годы не те... Из-за стола-то лишний раз лень встать, да и сквозняков в чистом поле слишком много. Потому, видно, и недоволен был его промедлением с согласием... Нет, Петруша, не зря ты выжидал, не напрасно искал так долго, куда приложить силы. Да, именно на Волге твоё место. Именно оттуда предводимая тобой конница начнёт освобождение многострадальной России...
Анненковская спускалась на Крещатик точно против «Савой-отеля».
Магазины на первом этаже гостиницы уже позакрывались. Пьяно шумела нависшая над парадным подъездом длинная веранда ресторана. Тосковал и звенел гитарами цыганский хор. В ярком кругу электрического света, льющегося из-под веранды, ожидали, выстроившись в затылок, трое лихачей. Настораживая кровных рысаков с забинтованными ногами, урчал мотором открытый автомобиль. На его передней двери распластался германский чёрный орёл, обведённый белым контуром. За рулём восседал унтер, не уступающий лихачам ни дородностью, ни чванливостью.
Уже перешагивая узкие трамвайные пути, Врангель ощутил вдруг на душе что-то тревожное... Едва, впрочем, уловимое. Что-то вроде водянистого привкуса в вине дождливого года. С чего это вдруг? Цыгане чёртовы тоску нагнали? Или вылизанных тевтонов лицезреть сил уже нет? Весь «Савой» заполонили, сволочи... Париж захватить не удалось, так хоть «Савой» киевский... Да наплевать на них. Или Драгомиров тому виной?..
Ах да, верно... По какой-то причине ушёл от разговора о здоровье Алексеева... Ну, ушёл. Наверняка из деликатности. О чём тут тревожиться? В конце концов, старики без болезней не живут...
2 сентября — 25 августа (7 сентября)[22].
Ялта — Ростов-на-Дону — Екатеринодар
Отметив 15 августа по-старому, в среду, свой 40-й день рождения — очень скромно, в кругу семьи, — Врангель с женой, пожелавшей непременно ехать с ним, в понедельник покинул Ялту. И только в субботу добрался до Екатеринодара — «стольного града» Кубанского казачьего войска. Позади осталось утомительное, хотя и без обычной пересадки в Керчи, путешествие на пароходе РОПиТа «Король Альберт» до Ростова. И ещё три дня толкотни по его центральным улицам, хорошо знакомым с детства...
...Революционная анархия — заметил сразу, едва поднялся на борт — оставила свою мертвящую печать и на коммерческом флоте: «Король Альберт» потерял былую роскошь, а капитан и его помощники — элегантность и предупредительность. Пароход, прежде — почтово-пассажирский, опасно перегрузили товарами: на палубах, даже верхней, громоздились бочки, ящики и тюки. Толпа пассажиров была так густа, что без помощи локтей не пробиться. В кают-компаниях I и II классов царила совсем иная публика — не та, что в прежние времена: толстые и болтливые армяне, смуглые и горбоносые греки и рыжеватые евреи в чёрных жилетках. Держались они вольготно и даже нагло, свои перевязанные верёвками чемоданы и узлы навалили прямо на бархатные диваны, по-медвежьи откупоривали, обливая столы и ковры, бутылки с шампанским и жадно заглатывали пищу, чавкая и хлебом собирая с тарелок жирный соус.
Оставалось или отсиживаться в каюте I класса, которая обошлась в 200 рублей «керенками»[23] — неслыханная цена! — или скрасить дорогу интересным знакомством. Тут повезло: среди пассажиров нашёлся пожилой профессор из Берлина, которого военно-санитарное ведомство командировало на юг России для инспектирования частей армии. Помешанный на туберкулёзе, тот готов был часами разглагольствовать на смеси немецкого с латынью о палочке Коха. С трудом, но всё же удалось выпытать что-то и о жизни в Германии: росте дороговизны, исчезновении продуктов из продажи, всеобщей усталости от войны.
Знакомство оказалось ещё и полезным. В Керчи, где пароход простоял полдня, немецкая комендатура порта неожиданно устроила самую придирчивую проверку документов. С десяток пассажиров, по манерам — офицеров, с парохода сняли. Хотя официально германское командование не запрещало русским офицерам ехать на Дон. Спекулянты никаких подозрений, естественно, не вызвали... Профессор коротко переговорил с лейтенантом в светло-сером, отливающим голубизной мундире, и они были избавлены от необходимости даже доставать паспорта. И слава Богу: гражданский паспорт, что жена выхлопотала для него в Ялтинском совдепе и куда его вписали горным инженером, даже самому не внушал доверия.
Ростов, прозванный газетчиками «русским Чикаго», как и в прежние времена, шумом и суетой напоминал улей, в который забрался медведь. Кричали пронзительно разносчики газет и продавцы кваса, бойко торговали магазины и лавки, рестораны оглушали несмолкаемой музыкой, тумбы пестрели зазывными афишами театральных бенефисов и цыганских хоров. И даже городовые — «крючки» — красовались в своих васильковых мундирах, довершая иллюзию вернувшегося прошлого.
Немецкие патрули попадались куда реже, чем в Киеве, но их, а также безжизненно повисших в знойном мареве сине-жёлто-алых флагов Всевеликого войска Донского вполне доставало, чтобы грубо возвращать к унизительной действительности.
Хотя и составленный из одних вагонов III класса, поезд Ростов — Екатеринодар выглядел приличнее украинских: чисто убрано, стёкла целы, свечей у кондукторов хватает.
На станции Батайск, перерытой окопами и заставленной ограждениями из колючей проволоки, зона германской оккупации наконец закончилась. Проверку документов и багажа патрули последней немецкой комендатуры провели с неизменной педантичностью, но, хорошо организованная, много времени она не отняла.
Границу между Донской и Кубанской областями поезд пересёк обычным маршрутом: по Кущёвскому мосту через речку Кугоея, только на прошлой неделе восстановленному донской инженерной ротой. Словоохотливый пожилой кондуктор поведал: полтора месяца назад его взорвали, взяв Кущеёку, добровольцы. Не иначе с намерением перерезать немцам кратчайший железнодорожный путь на Кубань — через Тихорецкую...
По обеим сторонам виднелись обычные следы недавних боев: незасыпанные воронки, обломки повозок, остовы сгоревших и столкнутых с путей вагонов, следы пуль и шрапнели на стенах станционных зданий... То и дело паровоз пронзительно свистел и притормаживал со скрипом и лязгом: зелёный флажок[24] предупреждал о ремонте полотна. Опасливо проползал мимо пережидающих у края насыпи рабочих, одетых кто в солдатские обноски, кто в замызганную робу.
Всего-то чуть более месяца назад Добровольческая армия выбила из этих мест большевиков. На каждой станции в вагон садились её офицеры, ехавшие в отпуск или командировку. С недоумением рассматривал Врангель их обмундирование: застиранное и заплатанное, полевая форма смешана с принадлежностями строевой и парадной... Околыши и тульи фуражек, погоны без галуна — каких-то странных цветов и сочетаний: голубого, красного, чёрного... На левый рукав нашит бело-сине-красный, под национальный флаг, шеврон в форме буквы V. У всех разных размеров и оттенков.
Вели они себя, несмотря на молодость, самоуверенно и развязно, на прочих пассажиров смотрели свысока, громко разговаривали и хохотали, курили, сплёвывая в открытые окна, и поминутно дёргали вконец запыхавшегося кондуктора.
Немалого труда стоило ему удержаться и не сделать им замечание. Кто он для них? Были бы на плечах генеральские погоны... Уже в Ростове одолевал соблазн сменить опостылевший пиджачный костюм, стесняющий движения, на летнюю полевую форму, запрятанную женой в неподъёмном портпледе под бельём. Долго колебался, но благоразумие взяло верх...
Подобных ему пассажиров — мужчин в штатском, но с военной выправкой и интеллигентными манерами — было немного. Все, без сомнения, — офицеры, едущие в Добровольческую армию... Кто вырядился, и иногда весьма удачно, под торговца, кто — под учителя, кто — аж под мужика... Теперь, после всех мытарств, тревожных и бессонных дней и ночей пути, сотни вёрст пройдя пешком и проехав на телегах и в вагонах, преодолев все кордоны, проверки документов и обыски, счастливо избежав ареста немцами и расстрела большевиками, они спали. Одним сердобольные соседи уступили верхние полки, другие прикорнули прямо на чьих-то мешках.
А преобладали, к его неудовольствию, какие-то хохлушки базарного вида и спекулянты: те же армяне, греки и евреи. Багажные полки прогибались под их мешками и тюками, туго набитыми товаром. Их же багаж загромоздил узкие проходы. Вожделенней покупателя, чем воюющая армия, для них нет.
Вместо прежних десяти часов поезд тащился до Екатеринодара полтора суток...
...В быстро светлеющей синеве безоблачного неба, над конусообразной крышей вокзала едва шевелился белый флаг Министерства путей сообщения со скрещёнными топором и якорем. Дальнозоркие глаза Врангеля сразу нашли его... Увы, слабый ветерок не сумел развернуть полотнище и открыть белую, синюю и красную полосы национального флага в его верхней левой четверти.
Зато железнодорожный жандарм выставил себя во всей красе: полная форма, медали, серебристый шеврон на рукаве. Только обычный красный аксельбант заменён бело-сине-красным...
Радостно застучало сердце. Наконец-то у своих! Полной грудью вдохнул сухую утреннюю прохладу, слегка приправленную городской пылью и паровозной гарью.
В отличие от киевского и ростовского, екатеринодарский вокзал имел прифронтовой вид: прямо на перроне сидели и лежали на своих вещах женщины и дети, толкались офицеры и казаки, всюду валялся мусор. Среди этого беспорядка деловито расхаживали два патруля — добровольцев в белых гимнастёрках и кубанских казаков в серых черкесках поверх чёрных бешметов. Придирчиво изучали паспортные и офицерские книжки. Норовили, отметил, проверить документы у всех сошедших с поезда мужчин, что в военном, что в штатском... А вот носильщика не дозваться.
Высокие узкие окна вокзала подёрнула тусклая желтизна. Значит, городская электрическая станция в исправности.
В плохо освещённом зале не протолкнуться и не продохнуть. На жёстких деревянных скамьях и на цементных плитках пола растянулись и развалились спящие. К буфету выстроился длинный хвост... По видимости, беженцы с севера.
Сопровождаемые не слишком опрятным носильщиком, вышли на площадь, обсаженную пирамидальными тополями. Два одноконных извозчика, стоящие со своими пролётками прямо против выхода, нагло заявили, что «заняты». Третий, хозяин пароконного фаэтона на резиновых шинах, заломил 7 рублей. Без долгой торговли сбил до 5-ти. Уселись, не обращая внимания ни на драную обивку, ни на расплющенные кожаные подушки. Первым делом поехали в войсковое собрание — позавтракать.
Из окна вагона Екатеринодар походил скорее на станицу: маленький какой-то, одноэтажные белые домики, среди которых преобладали деревянные и турлучные[25], и даже лачуги под соломенными крышами прятались в садах, дворы огорожены некрашеными заборами, а раскидистые ветви громадных акаций превратили немощёные улицы в тенистые аллеи. На мысль о городе навели разве только торчащие из густой зелени высокие колокольни и купола храмов да закопчённые трубы заводов.
Теперь же картина переменилась: улица и выходящие на неё переулки вымощены бурым кирпичом, акации поредели и между ними на асфальтовых тротуарах выросли трамвайные и фонарные столбы, от вокзала к центру пролегли рельсы, в обоих направлениях едут открытые экипажи и телеги с грузом. Появились и каменные особняки, обнесённые выкрашенными в чёрный цвет чугунными оградами с орнаментом, и высокие, до трёх этажей, дома. Справа, много выше железных крыш, покрашенных и оцинкованных, засияли золотом семь куполов громадного собора из тёмно-красного кирпича, стоящего посреди небольшой квадратной площади. Улицы, хотя и узкие, приятно удивили столичной прямизной, а кварталы — одинаковым размером... Навстречу прогремел, пугая лошадей, моторный вагон бельгийского трамвая, белого, как в Петербурге, цвета...
Войсковое собрание на Екатерининской улице было переполнено офицерами: они толпились и громко переговаривались в вестибюле, поодиночке и группами спускались и поднимались по неширокой лестнице. Несмотря на утреннее время, оживлённые компании заняли почти все столы в ресторане. Блюда количеством и вкусом напомнили Врангелю доброе старое время. И цены умеренные. Единственное, что огорчило, — отсутствие любимого шампанского «Piper-Heidsieck». Пришлось довольствоваться полусухим удельным «Абрау-Дюрсо».
Плотно позавтракав, оставил жену в читальном зале, а сам отправился к коменданту: теперь нужно позаботиться о квартире. Ловко обойдя благодаря встретившемуся сослуживцу очередь страждущих, с трудом, но добился ордера на комнату в доме мукомола Рубинского, на Екатерининской...
Нашли его совсем недалеко от храма, мимо которого проезжали утром: Екатерининского — самого большого в городе, построенного перед Великой войной. Особняк одноэтажный, но с ванной и ватерклозетом. Выделенная комната оказалась светлой и большой, хотя и чересчур заставленной мебелью купеческого стиля.
Пока жена раскладывала вещи по полкам бельевого шкафа и ящикам комода, ополоснулся с дороги и облачился наконец в диагоналевые тёмно-синие бриджи и защитный мундир с петличным Георгиевским крестом. Натянул и обмахнул щёткой скрипящие боксовые сапоги. Нацепил на них савельевские шпоры — небольшие, нержавеющей стали и с колёсиком вместо звезды. Взялся за аксельбант... Нетерпение поскорее явиться в штаб Добровольческой армии торопило пальцы, лишая их обычной ловкости. Осаживая себя, поправил шейного Владимира, потуже затянул поясной ремень. Надел плечевую портупею. Старая драгунская шашка с «клюквой», красным аннинским крестиком на эфесе, послушно приникла к левому бедру... Аккуратно расправил изрядно уже обтрепавшийся чёрно-оранжевый Георгиевский темляк. Крутанув барабан — все семь патронов не стреляны, — вложил револьвер «Наган» в потёртую, но ещё пахучую кобуру. В полевую сумку уложил офицерскую книжку, денежный аттестат и послужной список, предусмотрительно прихваченный в штабе 7-й кавалерийской дивизии. Перекинул её узкий ремешок через плечо.
Медленно поворачиваясь, придирчиво оглядел себя в широком зеркале, вделанном в дверцу шкафа... Ещё раз разгладил аксельбант и поправил шейного Владимира. Прихлопнул, по обыкновению, ладонью по кобуре и полевой сумке: застёгнуты. Ощупал карманы: портмоне, носовой платок и расчёска на месте. Всё, собран.
— Ну, ни пуха...
Нагнувшись и приникнув губами к прохладной щеке жены, замер на миг, будто присел перед дорогой, и стремительно шагнул за порог, провожаемый её благословляющим взглядом.
25 августа (7 сентября). Екатеринодар
По Екатерининской и Красной, главной улице города, резво катили экипажи и телеги: по неровной мостовой цокали подковы и дребезжали железные шины, поскрипывали деревянные колёса и хлопали кожаные крылья, звенели бубенцы и причмокивали извозчики. Между ними, жиденько трезвоня звоночками, нахально сновали велосипедисты. Изредка, рёвом мотора заглушая шуршание резиновых шин и отравляя уже знойный воздух удушливыми выхлопами, проносились легковые автомобили. Ещё реже проползали, гремя стальными колёсами, битком набитые вагоны трамвая с прикреплёнными наверху рекламными щитами.
Голосили и чуть не хватали за рукав продавцы вразнос. Христарадничали нищие в солдатских обносках. Не давали проходу молоденькие цыганки в цветастых платках и платьях. Вопили как недорезанные и размахивали свежими номерами мальчишки-газетчики. Кое-где, спрятавшись в затхлую тень подворотен, заунывно тянули простую мелодию старики шарманщики.
В людской поток, пёстрый и говорливый, вливались ручейки из боковых улиц и переулков. Женщины были одеты легко и по-простому. Редко где над шляпкой плыл зонтик, чаще мелькали светлые платки и косынки.
Даже на Красной, прямизной и бесконечностью походящей на петербургские проспекты, Врангель заметил приземистые ветхие домики, сдавленные двух- и трёхэтажными зданиями. На боковых же улицах они преобладали. Гостиниц, странно, не обнаружил. Ресторанов — раз-два и обчёлся: одни столовые, кофейни, грузинские погребки-шашлычные и кабачки. Да и зелени в центре маловато для южного города, особенно в сравнении с Ростовом.
Почти все первые этажи на Красной занимали магазинчики и лавки — галантерейные, мануфактурные, бельевые, обувные, гастрономические, винные, бакалейные, колониальные, мебельные, ювелирные, книжные, аптекарские... Белые парусиновые тенты с трепыхающимися волнообразными краями укрывали витрины от палящего солнца. Двери неутомимо распахивались, впуская и выпуская покупателей. Многим оттягивали руки клеёнчатые сумки, сетки-авоськи и даже плетёные корзины, из которых высовывались сероватые свёртки и кульки.
Но больших универсальных магазинов попалось всего два. Витрины нашёл оформленными безвкусно: их попросту заставили всякой всячиной.
Среди обывателей на каждом шагу встречались военные в самых разных формах, армейских и казачьих. То и дело бросался в глаза добровольческий шеврон. Теперь он окончательно почувствовал себя в своей тарелке, вернее — в седле. Шпоры позванивали всё громче, и сладкий этот звук, будто крепчающий ветер, поднимал в душе волну радости. Она росла и неслась неудержимо... Как вдруг разбилась, будто о мол.
Смачно лузгая подсолнечные семечки, шлялись какие-то босяки пролетарского вида. Хамоватостью не уступали им и рядовые казаки, потерявшие уставную выправку. Асфальт тротуаров усеяли шелуха и мусор... Как в печальной памяти Петербурге после мартовского переворота[26], загаженном торжествующей «революционной демократией»...
Ещё сильнее задели «добровольческие» манеры офицеров.
За единичным исключением, словно не видя ни его генеральских погон, ни сбегающих за высокие узкие голенища двойных красных лампасов, они демонстративно смотрели на рукава. Не найдя добровольческого шеврона, честь отдавали вызывающе небрежно. Кто-то даже позволял себе уводить взгляд. Всё это совершенно не походило на уставное чинопочитание, требующее «ловить глазами начальство»...
Переходя на другую сторону Красной улицы, пропустил похоронную процессию. С десяток, а то и больше, телег со свежеструганными гробами медленно тянулись вдоль трамвайных путей, явно направляясь туда же, куда и он, — к войсковому собору. На одной сидела, припав к крышке, молодая казачка, вся в чёрном. Выплакав уже все слёзы, тихо подвывала. Прохожие замолкали и крестились, мужчины — снимая белые парусиновые картузы и соломенные канотье. Но особенно не любопытствовали: попривыкли за войну.
— С-под Ставрополя, верно, — вздохнул кто-то.
— Мабуть, и Армавиру...
От перекрёстка Екатерининской с Красной до Соборной площади оказалось всего два квартала. Посреди неё величаво тянулся ввысь войсковой Александро-Невский собор, золотом пяти шлемовидных куполов и белизной отштукатуренных стен подавляя стоящие по сторонам квадрата дома в два и три этажа, построенные из огнеупорного кирпича. Кварталом севернее вздымалось массивное, подобное прямоугольной гранитной глыбе, здание Зимнего театра.
Не затихший ещё бабий вой сразу покинул сознание, едва приметил русский флаг над красивым двухэтажным особняком, выходящим фасадом на Соборную площадь. Светлым камнем и высокими, овальными сверху окнами похожий на их старый ростовский дом. Перед ним замерли с заглушёнными моторами три легковых автомобиля.
Войдя в кованую калитку, легко поднялся по ступеням. У резных дубовых дверей вытянулись часовой и подчасок: невысокие, но крепкие кубанцы, одетые в чёрные, парадные, черкески при алых бешметах. Низкие папахи белого каракуля с алым верхом сидели на головах ровно. Младший урядник, сосредоточенно хмурясь и шевеля полными губами, вчитывался в его раскрытую офицерскую книжку дольше обычного.
Среди штабных сразу же нашлись старые знакомые: полковник Апрелев[27], бывший лейб-кирасир, и поручик Асмолов, бывший офицер его 7-й кавалерийской дивизии. Апрелев только-только оправился от пулевого ранения и вступил в должность начальника связи. А Асмолов пристроился в Разведывательном отделении. Оба — «первопоходники», как не без апломба стали именовать себя те, кто вступил в Добровольческую армию ещё в конце прошлого года и участвовал в неудачном походе Корнилова на Екатеринодар.
Деникин, сразу выяснилось, уехал с начальником штаба в Ставрополь. Так что принять его сможет не раньше завтрашнего. Раз так, поспешил дозвониться до квартиры Драгомирова. К его немалому удивлению, тот состоял в какой-то странной должности: помощник «верховного руководителя» армии генерала Алексеева по гражданской части.
Драгомиров обрадовался, но попросил зайти не раньше пяти часов пополудни. Потому у него нашлось время обстоятельно расспросить Апрелева и Асмолова...
Хотя, по их словам, Добровольческая армия очистила от большевиков западную часть Кубанской области с севером Черноморской губернии и уже вступила в Ставропольскую, положение её остаётся чрезвычайно сложным. Боевой состав едва превысил 40 тысяч, а силы противника — Красной армии Северного Кавказа под командованием военного фельдшера Сорокина[28] — разведка исчисляет в 80—120 тысяч. Потому и идут такие кровопролитные бои за Армавир и Майкоп.
Разведка, особенно агентурная, поставлена неважно. Россказни местных жителей да неохотные и путаные показания пленных — вот и всё, на основании чего приходится освещать войска и тыл большевиков.
С немцами — откровенная, хотя и сдержанная, враждебность. Все их попытки наладить с армией «деловые» контакты Алексеевым и Деникиным отвергаются. Самая серьёзная угроза — их возможное продвижение от Батайска на Екатеринодар. Им как воздух нужен кубанский хлеб, и им ничего не стоит сговориться с Лениным и Троцким о совместных операциях против Добровольческой армии.
В начале лета с Украины и из центральных губерний России в армию приезжало по несколько десятков добровольцев в день. В основном — офицеры, юнкера и кадеты. Сейчас этот поток почти иссяк: большевики ужесточили репрессии, а немцы, не иначе как по просьбе большевиков же, стали чинить всевозможные препятствия. Так что рассчитывать приходится только на местные источники пополнения: казаков и иногородних крестьян. Казаки многие вступают добровольно. А кубанских иногородних и ставропольских мужиков с трудом, но удаётся брать по мобилизации. С этими офицерам приходится повозиться: «старый режим» ненавидят всей душой, погоны надевают неохотно, о возвращении монархии и слышать не хотят, подавай им «учредилку», а с ней «землю и волю». Да и стойкостью в бою не отличаются.
Снабжение армии — чисто случайное, в основном трофеями. А в распоряжении большевиков — бездонные склады бывшего Кавказского фронта. По счастью, их численное и материальное превосходство сводится на нет «революционной» дисциплиной, то есть полным отсутствием таковой.
По составу армия — лоскутное одеяло. Есть чисто офицерские части, которые начали формироваться Алексеевым в Новочеркасске и Ростове ещё в ноябре. Немало смешанных — из добровольцев и мобилизованных. И быстро растёт число казачьих — конных полков и пластунских батальонов[29]. Доля кубанцев уже превысила половину...
Из названных ему дивизионных и бригадных командиров Врангель близко знал лишь начальника 1-й Конной дивизии генерала Эрдели[30]. Познакомились за два-три года до Великой войны, когда тот командовал лейб-гвардии Драгунским полком.
Остальных — никого.
Виделся мельком летом 17-го в Петербурге со штабс-капитаном Покровским[31], лётчиком. На войне тот прославился: первым на Восточном фронте угрозой тарана принудил австрийский «Альбатрос» к посадке и пленил двух лётчиков, не дав им испортить аэроплан. Теперь же, произведённый Кубанским атаманом — не совсем понятно, правда, за какие заслуги, — в генералы, командует сформированной им 1-й Кубанской казачьей дивизией.
Столкнулся как-то и со Шкуро в Карпатах, в 16-м. В чине есаула тот возглавлял партизанский отряд, который не столько оперировал на фронте, сколько болтался в тылу, пьянствуя и грабя жителей. Теперь, уже в чине полковника, формирует Кубанскую партизанскую бригаду.
Какие-то смутные ассоциации навеяла и фамилия начальника 3-й дивизии полковника Дроздовского: кажется, учился такой в академии, на старшем курсе.
О полковнике Улагае[32], кубанце, начальнике 2-й Кубанской казачьей дивизии, даже слышать не доводилось.
Выходит, заключил, казачьи конные части сформированы своими начальниками непосредственно в боях и разворачиваются, пополняясь за счёт притока добровольцев и мобилизованных. Деникин разбросал их по всему фронту, и сомнительно, чтобы планировал в обозримом будущем сводить в корпуса. И тем более назначать их начальниками кого-то из вновь прибывших. Пусть даже опытных кавалеристов, но совершенно не известных кубанцам и черкесам. Таких, как он...
Выйдя на площадь, обернулся и глянул на крышу. Разгулявшийся восточный ветер, сухой и раскалённый, развернув во всю ширь, энергично трепал изрядно выцветшее бело-сине-красное полотнище. Его одиночество в ослепительно голубом кубанском небе показалось вдруг не слишком горделивым...
Драгомирова, придя на отведённую тому квартиру в доме на Графской улице, в четырёх кварталах к югу от Соборной площади, Врангель застал за вечерним чаем.
Через затворенные окна свободно проникал колокольный перезвон, но не свежий воздух, и гостиную распирала духота. Вдобавок воняло чем-то подгорелым. Свет, падая от цветастой фарфоровой люстры, стекал по шарообразной лысине Драгомирова, покрасневшему носу и чуть отвисшим щекам. Грузно навалившись на стол и постоянно оттягивая липший к полной взмокшей шее ворот просторной защитной рубахи, тёмной под мышками и на груди, тот пил один стакан за другим и говорил негромко, но крайне раздражённо. И этот раздражённый тон немало озадачил Врангеля, заставив забыть о предложенных закусках.
Невероятно, но должности в штабе армии Драгомирову не нашлось: у Деникина — своё собственное окружение. Потому и уступил настойчивым уговорам Алексеева стать его помощником по гражданской части. И чемоданы не успел разобрать, как пришлось спешно доводить до ума положение об Особом совещании — правительстве при Алексееве. Проект набросал Шульгин... Алексеев подписал, но бумажка она и есть бумажка. А на деле теперь нужно создавать правительственный аппарат, восстанавливать губернское управление, разбирать конфликты с донцами, сноситься с кубанскими властями по поводу поставок...
В общем, должность чуждая и хлопотная, а главное — бесперспективная. Ибо о переезде на Волгу речь уже не идёт, хотя там плечом к плечу с чехами и словаками успешно бьют большевиков части едва сформированной Народной армии: союзники, как только началась полоса побед на Западе, к собственным планам воссоздания Восточного фронта резко охладели. А сам Михаил Васильевич почти уже не подымается с кровати.
— Да что ж с ним такое? — тревожно вскинулся Врангель.
— Мочевой пузырь. И почки. Ну, и рядом там... Острейшее воспаление, в общем... — вымолвил после заметной паузы Драгомиров, так и не решившись назвать вслух предполагаемый диагноз: острое воспаление или рак предстательной железы. — Лучших докторов пригласили, здешних и ростовских. Опасаются скорого вскрытия нарыва. Это верная смерть...
— Я-то... — ошеломлённый, Врангель с трудом находил слова, — рассчитывал представиться...
— Я уже доложил нынче днём. Представил, так сказать, заочно... Он обрадовался твоему прибытию. Сказал, что Корнилов не раз вспоминал о тебе. В общем, пожелал тебе успешной службы под началом Деникина. Но принять не может...
Денщик Драгомирова, немолодой вахмистр-сверхсрочник в выцветшей гимнастёрке с навесными погонами, степенно внёс и поставил на стол тихо шипящий самовар, сделанный в форме вазы. То ли от жара, источаемого его блестящими мельхиоровыми боками, то ли от слов старого кавалериста Врангелю поделалось совсем душно. Ощутил вдруг холодную липкую влагу под мышками и на пояснице.
— Деникин найдёт какую-нибудь должность, Пётр Николаевич... — Драгомиров потянулся к пустому стакану. — То бишь, Романовский... Вот кто первая скрипка в штабе, хочу тебе доложить. Хотя и генерал-майор всего. Близкий друг Деникина и убитого Маркова. Генштабист грамотный, но слишком себе на уме.
Самоварный кран не сразу поддался руке Драгомирова. Упёртый в паркую струю взгляд его прищуренных глаз остался Врангелю непонятен. С Романовским встречаться не доводилось, хотя слышать слышал: в 17-м, при Корнилове, тот служил генерал-квартирмейстером в штабе верховного.
Не притрагиваясь к чаю, густо закрашенному крепкой заваркой — и так дышать нечем, — вознамерился расспросить подробнее о начальнике штаба. Не успел решить, исподволь или напрямую, а Драгомиров уже перешёл к другим темам. Самым, как оказалось, больным...
С Красновым — полный разрыв. Хотя он и отпускает армии за хлеб, который интенданты реквизируют на Кубани и в Ставропольской губернии, часть получаемых от Скоропадского, то бишь от немцев, вооружения и боеприпасов. И дело вовсе не в его кокетничанье с немцами и холопстве перед Вильгельмом... Самое страшное — его изменническая игра в самостоятельное «Всевеликое войско Донское», попытки отколоть от России казачий Северный Кавказ, нежелание передать донские части в Добровольческую армию. Вот и пытается втянуть её в операции на царицынском направлении: надеется выпроводить за Волгу, чтобы ничто не помешало создать в казачьих землях отдельное от России государство, а самому стать чем-то вроде верховного атамана. В общем, руками Добровольческой армии выгрести самый жар, а к своим прибрать Кубань и Терек. Потому-то взаимное поношение в штабах и газетах давно перешло границы приличия. Деникин даже переписку с ним прекратил.
В кубанском же правительстве — сплошь социалисты и самостийники почище Краснова. Но от разрыва с добровольцами пока воздерживаются: Кубань не вся ещё очищена от большевиков. Однако палки в колёса вставляют как могут... Требуют передавать в их распоряжение все трофеи, хотя трофеи эти — имущество бывшей русской армии и принадлежать должны Добровольческой армии как её прямой наследнице. Недовольны реквизициями. Протестуют против монархических настроений офицеров-добровольцев. Но главное — настаивают на создании отдельной Кубанской армии, и чтобы Деникину она подчинялась только в оперативном отношении. Допустить такое — значит своими руками угробить Добровольческую армию. Во всяком случае — остаться без конницы, сформированной почти из одних казаков и отчасти черкесов. Поэтому Алексеев и Деникин категорически против. Кубанский атаман Филимонов[33] на стороне добровольческого командования, но унять самостийников не может: сам — тряпка...
Все надежды — на союзников: должны же они, одолев немцев и турков, ввести флот в Чёрное море и высадиться в южнорусских портах. Тогда и снабжение пойдёт неограниченное и бесплатное, и Краснова, замаравшего себя сотрудничеством с немцами, свалить удастся, и Донскую армию подчинить.
А пока остаётся одно: надрывая силы и теряя лучших, офицеров, отвоёвывать у большевиков Северокавказскую базу.
Самое унизительное — то, что Добровольческая армия до сих пор не имеет ни собственной территории, если не считать клочков Ставропольской и Черноморской губерний, ни гражданского аппарата управления, ни казны. И живёт, по сути, на содержании у донского и кубанского казачьих правительств, словно наёмное войско в старину...
Ветер обессилел, и город накрыло, как стёганым одеялом, низкими сплошными облаками. Темнота сгустилась по-южному быстро. Кое-где через щели закрытых ставней пробивались яркие полоски электрического света, но фонари не горели. И хотя всё вроде бы рядом, Врангель, перепутав квартал, свернул не в ту улицу.
Скорее, не темнота была виною, а тяжёлый камень на душе и тревожные мысли.
Выходит, его ставка на Алексеева и Драгомирова пошла прахом. До Волги нынче — дальше, чем до Рейна в 14-м. А назначение его зависит от прихоти некоего Романовского, с которым его ничто не связывает: ни совместная служба, ни общие приятели, ни даже шапочное знакомство. И что же они с Деникиным ему дадут? Вряд ли даже бригаду...
«Головокружительное», нечего сказать, падение: год назад он был корпусным командиром. А вздумается Деникину сводить конные части в корпус, так у Эрдели перед ним — неоспоримое старшинство: и в чине, и в «добровольческой» выслуге. Как поведал Апрелев, штаб, вернее Романовский, выдвигает на командные должности исключительно «первопоходников», затирая тех, кто вступил в армию позже. Особенно — гвардейцев. В Добровольческой уже своя, новая, «гвардия» — корниловцы, марковцы...
Погибших Корнилова и Маркова, судя по разговорам в войсковом собрании и штабе, причислили чуть не к лику святых. А никому прежде не известных Дроздовского и Казановича сравнивают не иначе, как со спартанским царём Леонидом... Не глупо ли? С кем же будут сравнивать Деникина, ежели его армия освободит Москву? С Дмитрием Донским?
А сам он когда добьётся достойного места в этой армии? И главное — какой ценой? Вот Шульгин — всюду как рыба в воде: не успел приехать, как уже издаёт, проныра, газету и вовсю «делает политику»...
Будущее опять покрылось пеленой неизвестности, непроницаемой и отталкивающей, как бельмо. И дышалось совсем не так легко, как утром, когда ехал на извозчике с вокзала. Да и чем тут дышать в этакую духоту, влажную и липкую. И вдобавок прогорклой кухонной вонью тянет от каждого дома...
Вместо аппетита она пробудила лёгкую тошноту. И тупая боль проснулась вдруг в голове.
26 августа (8 сентября). Екатеринодар
Спал на новом месте беспокойно.
Поначалу душили густые ароматы чужого жилья. Особенно силён был самый ненавистный — чесночный... Отворил настежь окно, проветрить, так поналетели комары... До рассвета их едкий зуд нещадно сверлил уши, тягуче скрипела, чуть пошевелись, провисшая сетка двуспальной металлической кровати, а из дальних комнат временами наплывал густой храп. Мозг будоражили обрывки снов. Бессвязные и нелепые, они, как кузнечный мех, нагнетали в душу и тело жаркое и тревожное смятение...
...Резко, вопреки инстинкту и выучке, рванул мундштучные поводья, когда до германской батареи остался какой-нибудь десяток саженей... И теперь уже никак не успеет доскакать и разметать орудийную прислугу: выстрел шрапнелью в упор через секунду разнесёт в клочья и вставшую на дыбы лошадь, и его самого... А белые языки пламени, уносясь с дьявольским гулом в бездонное ночное небо, пожирают Станиславов. И распоясавшаяся солдатня из отступающих в беспорядке частей разбивает стальные шторы, вламывается в магазины, вытряхивает на улицу ящики, изломанные картонки, штуки материи, посуду, опорожнённые бутылки из-под коньяка и шампанского, а с ними и перепуганных насмерть хозяев в одном белье... Перекрывая пьяные крики солдат и вопли обывателей, он орёт благим матом казакам-конвойцам: «В нагайки эту сволочь!»... И пальцы ломает дикая боль: вцепившись намертво, тащит за ворот шинели мародёра с расквашенной мордой... Ну да, сам же только что молотил по ней кулаками. Лихорадочно оглядывает площадь, запруженную обозными повозками, в поисках фонарного столба, на котором уже должны закрепить верёвку с петлёй... И находит наконец бетонный мол, защищающий набережную Ялты... Город невидим — накрыт, словно саваном, январской изморосью и липким ужасом... Чёрные волны неистово, но почему-то бесшумно бьются о мол, тишина висит зловещая, и только скрипят нестерпимо сходни двух ярко освещённых миноносцев. А на сером плоском хребте мола, заливаемом кипящей белой пеной, лежат ничком тела с раскинутыми руками, будто распятые на невидимых крестах. Один из них — вот этот, в длиннополом штатском пальто, — кто-то очень знакомый... Да не он ли это сам?.. И тут же неподалёку некто — неведомый, спиной к нему — вышагивает, разгребая сапогами пену... Нет, не пену — рыхлый снег. Дистанцию для дуэли отмеряет... Какой ещё, чёрт возьми, дуэли?! Почему с ним? Кто это? Фигурой смахивает на Скоропадского, но этого не может быть — это, конечно, Романовский. Он ждёт, а из чего стрелять — непонятно: руки его и кобура пусты... Дуэли нет и снега нет, а бьются чёрные волны в серый мол, и на нём — тела с раскинутыми руками. И какой-то здоровенный матрос в бушлате склонился над ними, рассматривая... Вдруг выпрямился и, обернувшись, посмотрел на него пристально. Да это же «товарищ» Вакула! Улыбается и машет медленно рукой — приглашает подойти и взглянуть. Только улыбка теперь не добродушная, а злорадная...
...Взбудораженное сознание пыталось ухватиться хоть за один обрывок, прояснить, связать с другими, выстроить какой-то порядок и найти смысл, но тщетно...
Пробудился весь в едком холодном поту. Нудная слабость овладела всем телом, ноги ныли и подламывались... Обречённо наблюдал, как жена, встревоженная не на шутку, капала валерьянку из тёмного флакона... Вот ведь, привыкать уже начал к этой вонючей гадости. Плохой признак... Сказала, бормотал во сне... Спасибо, не кричал, как после контузии.
Треклятую эту контузию получил в 16-м, в Лесистых Карпатах. И не сильную, сравнительно. Потому-то, махнув рукой и на неё, и на предостережения врачей, не закончил курса лечения и вернулся спешно в свой 1-й Нерчинский полк. С тех пор частенько побаливает голова, а всякое сильное волнение кончается сердечными спазмами: мучительные боли тисками сдавливают грудь. В лучшем случае — изматывающей бессонницей, а наутро после неё не чует ни рук, ни ног... В Ялте, когда их с шурином освободили и они пешком — во избежание эксцессов их сопровождал красногвардеец — вернулись на тёщину дачу, сразу рухнул на постель и пролежал пластом с неделю...
До отведённого Деникину особняка промышленника Фотиади, на перекрёстке Соборной и Борзиковской улиц, оказалось рукой подать. Парный пост казаков с шашками наголо накрыла тень от кованого козырька, нависающего над парадным входом. На взгляд Врангеля, одноэтажный дом, даже по екатеринодарским меркам, нельзя было назвать ни большим, ни красивым. Но декорировал и меблировал его хозяин с явной претензией на роскошь: лепнина на потолке и шёлковая обивка на стенах, красное дерево и карельская берёза, ковры и портьеры, зеркала и картины в позолоченных рамах, бронза и фарфор.
Пока составлял в гостиной, приспособленной под приёмную, рапорт о поступлении в Добровольческую армию, Деникин освободился.
В кабинете помимо командующего находился и Романовский. Стоял у широкого окна, вполоборота, хорошо освещаемый ярким полуденным светом: среднего роста, плотный, моложавый и без признаков кабинетной сутулости, частой среди генштабистов со стажем. Тяжеловатый выпирающий подбородок, плотно сжатые губы, нос с орлиной горбинкой и высокий лоб, увенчанный густым веерообразным вихром светлых волос, придавали ему довольно надменный вид. Врангель сразу почуял в нём что-то шляхетское.
Выслушав краткое представление, Деникин легко поднялся, вышел из-за письменного стола и протянул руку. В его полуулыбке смешались благодушие и доброе лукавство.
— Пётр Николаевич, а ведь мы встречались в Маньчжурии. Не припоминаете?
Хотя голос его оказался низким и грубоватым, слова эти он произнёс как-то просто и мягко. Прямо по-домашнему, сразу нашёл сравнение Врангель. Точно встречал в прихожей старинного приятеля, приглашённого на будничный обед в семейном кругу. И рука — мягкая и безвольная какая-то. Он. заметно располнел: живот нависает на тонкий кавказский ремешок. И при его среднем росте полнота придала ему основательность и кряжистость, свойственные коренным русским людям. Ещё заметнее постарел: голова почти совсем облысела, а подстриженная клином небольшая бородка, в отличие от тёмных длинноватых усов, густо проросла сединой. Глаза, правда, светятся молодым задором. И двигается весьма энергично.
— Лавр Георгиевич, царствие ему небесное, не однажды говорил о вас. Всё пытался разыскать, письма передавал...
Врангель насторожился, но не уловил и тени упрёка, а лишь то же благодушие — в словах, тоне, улыбке, взгляде. Нет, оправдываться ему не в чем и не перед кем. У каждого своя стезя. Обстоятельства, не позволившие ему прибыть в Новочеркасск в декабре прошлого года, были сильнее его.
— Я отсутствовал из Петербурга: уехал в Ялту к семье и застрял. Большевики держали под арестом и не расстреляли только по своей расхлябанности...
— Ну, в здешних краях они от этой расхлябанности давно избавились, — заметил Деникин, сразу посуровев. — Чем крепче мы бьём их на фронте, тем беспощаднее они свирепствуют в тылу. Города и казачьи станицы стонут от грабежей и насилий. Заложников расстреливают уже сотнями... Вот так. Чего боялись, того и дождались — новой русской смуты...
Жестом пригласив генералов садиться, Деникин двинулся на своё место.
Только теперь Врангель смог оценить роскошь и дороговизну обстановки. Письменный стол, скорее всего, французской работы: красного дерева, с накладками из золочёной бронзы и женскими фигурами, венчающими сильно выгнутые ножки. Спереди приставлен прямоугольный чайный столик. Похоже, и они, и остальная мебель в кабинете — высокий секретер, стёганый диван светлой кожи, такие же кресла и зеркало с консолью — одного гарнитура. Всё полировано до блеска, украшено витиеватой резьбой и накладками. И гарнитур явно подписной.
Среди этой французской роскоши и изящества тяжёлая и рыхлая фигура Деникина, его защитная гимнастёрка, вдобавок далеко не новая, и простоватые манеры показались ему мало уместными. И сразу окатило холодной водой разочарование: нет, далеко Деникину до Корнилова... Ничего яркого и зажигающего. Не чувствуется, как в покойном главковерхе, ни особого порыва, ни какой-то скрытой силы, ежеминутно готовой к устремлению. Ничто не указывает на сильного духом вождя и полководца... Даже карты на стену не повешены. Не иначе, шёлковую обивку побоялись испортить... Тогда уж, скорее, тут не карт не хватает, а пары борзых, развалившихся на толстом ковре. И будь на хозяине какой-нибудь плюшевый халат, никто не сказал бы, что это — кабинет командующего армией.
Заняв ближайшее из двух кресел, стоящих по бокам приставного столика, оказался лицом к лицу с начальником штаба... А Романовский, по всему, — совсем иного теста. Рука твёрже и холоднее. Сидит словно каменный, только вот в глаза почему-то избегает смотреть... Не заметно, чтобы смотрел и в рот начальнику. Куда-то в никуда или в себя... Что роднит их, так это изрядно поношенные и застиранные гимнастёрки и бриджи с выцветшими лампасами.
Даже ощутил на миг что-то вроде неловкости за своё почти новое обмундирование, пошитое из тонкого английского сукна и с дореволюционной добросовестностью отутюженное прислугой еврея-мукомола. Сукно повезло купить с большой скидкой: в громадном магазине Экономического общества офицеров, что на первом этаже Офицерского собрания армии и флота на углу Литейного и Кирочной, устроили широкую распродажу на Рождество.
— А вас Господь уберёг для святого дела... — Деникин отвалился на спинку кресла. — Вот только как же мы вас используем? — Взгляд его упёрся в бронзовый письменный прибор, а в голосе пробились озабоченность и даже смущение. — Не знаю, право, что вам и предложить: войск ведь у нас немного...
Чего-то в таком духе Врангель и ожидал.
— Как вам известно, ваше превосходительство, в семнадцатом я командовал кавалерийским корпусом, но ещё в четырнадцатом был всего лишь эскадронным командиром. И я надеюсь, с той поры не настолько устарел, чтобы вновь не стать во главе эскадрона.
— Ну, уж и эскадрона... — Светлые глаза Деникина чуть сощурились, и в них вернулось мягкое лукавство. — А бригадиром согласны?
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Вот и славно, — с видимым довольством подытожил Деникин. — Оставляйте рапорт и завтра зайдите к Ивану Павловичу. Он вам всё и расскажет.
Наблюдательности Врангелю было не занимать, и покидал он кабинет командующего Добровольческой армией в полной уверенности: не только гимнастёрки и бриджи своей потёртостью роднят этих двух чужих ему людей... И легкомысленная шутливость на сей счёт определённо неуместна. Роднит их что-то гораздо большее: какая-то особая близость и доверительность. Заметно по всему: взглядам, интонациям, даже жестам. А не управляет ли Романовский, помимо штаба, ещё и самим командующим?..
Едва Врангель вышел, Деникин обратился к начальнику штаба:
— Так вы, Иван Павлович, считаете, можно дать ему всю Первую конную? Пока Эрдели не воротится...
— Другого выхода, Антон Иванович, нет. Уже ясно, что старику Афросимову она не по зубам: растерял бойцовские качества и тугоумие одолело. И дела не сделает, и дивизию погубит.
Деникин, уйдя в себя, сухим пером костяной ручки рисовал поверх рапорта Врангеля какие-то невидимые фигуры.
— Ладно, быть по сему. Готовьте приказ: Афросимова — вернуть на бригаду, Врангеля — на дивизию, временно командующим. А там... как пойдут дела у Эрдели... — Перо нырнуло в бронзовую чернильницу. — Негоже лишаться единственного достойного начальника кавалерии, но кого ещё пошлёшь в Тифлис...
Бесконечные обсуждения, как получить из Грузии — в правительстве её окопались сплошь социалисты и противники Великой России — хотя бы часть имущества бывшего Кавказского фронта, велись между ними денно и нощно... А потому сейчас по молчаливому согласию отвлекаться не стали.
— Как-то Врангеля примут в дивизии, Иван Павлович... Всё-таки не первопоходник, — спохватился вдруг Деникин, не дописав резолюции. — Верно, следовало предупредить его, а?
— Не стоит вам беспокоиться на этот счёт, Антон Иванович. Я с ним поговорю. Казакам Врангель придётся не по нраву, скорее, баронским титулом... Но командовал он казаками предостоточно и, насколько мне известно, умеет брать части в руки и завоёвывать популярность. Сами видели, каков...
— М-да... Крутость нрава так и прёт. А какая у него репутация?
— Сослуживцы утверждают, что в Маньчжурскую кампанию он слыл за храброго офицера. Но ничем особенным не выделялся. Разве только тем, что добивался получения отличий чинами вместо орденов...
— Вот как...
— Ну, это понятно: раз в свои двадцать шесть, имея образование инженера и будучи всего лишь хорунжим, он решил остаться в армии, у него просто не было иного способа угнаться за сверстниками. И ему это удалось...
Романовский сохранял беспристрастный тон, а сам не мог отделаться от неприятного ощущения, оставленного у него новым подчинённым... Внешне барон совсем не располагает: для столь высокого роста чрезмерно худ, шея несуразно вытянутая и переходит в затылок без всякого утолщения, удлинённое лицо рано состарили морщины, пролёгшие от крыльев носа до уголков губ, серые с желтизной глаза — прямо-таки волчьи... А главное, сдержанность и покладистость его — явно напускные, на наивных людей рассчитанные. А что там скрывается за ними помимо решительности и, очевидно, сильной воли? Разумеется, честолюбие. Ещё ум. И ум острый: выдают проникающий взгляд с затаённой насмешкой и тщательно взвешенные слова. Но если ум целиком во власти честолюбия — жди конфликтов между ним и другими начальниками, а то и штабом армии. Лишняя головная боль...
— ...Курсы в академии он кончил хорошо. Для выпускника Горного института было бы странным кончить плохо... Но по штабной линии не пошёл. И после прохождения курса в Офицерской кавалерийской школе вернулся в свой полк — лейб-гвардии Конный...
— И это понятно, — благодушно заметил Деникин. — Рассчитывал получить полковника раньше, чем в Генштабе[34].
— Именно. В результате он был произведён в генералы на тринадцатом году службы.
Деникин неопределённо хмыкнул и, избавившись от не нужной уже ручки, провёл ладонью по взопревшей шее.
— А я только на двадцать первом, знаете ли.
— Естественно, Антон Иванович... Если бы вы были сыном барона, а не бывшего крепостного крестьянина, выбившегося в офицеры... И служили бы в гвардии, а не в матушке-пехоте, да имели связи при дворе... — Романовский невозмутимо пожал плечами.
— Да если бы меня, скажите уж, не турнули из академии за неуспеваемость, и не пришлось бы поступать вторично...
Рассмеялись одновременно и легко. Промокнув платком слезу, Деникин покачал головой.
— Стало быть, слона-то я и не приметил. Гвардейского честолюбия то бишь... Ну, это не беда. Посмотрим, как воевать будет в наших условиях. Если хорошо, так для Эрдели и другое назначение найдётся.
И, помолчав, добавил со вздохом:
— Эх, нет Маркова... И никого, подобного ему, уже не найти...
Тяжесть вздоха и приглушённость голоса выдали нахлынувшую вдруг горечь. И трёх месяцев не прошло, как в первом же после выступления в новый поход на Кубань бою, за станцию Шаблиевка, случайным снарядом ранило смертельно их общего и самого близкого друга — генерала Маркова. От Бога был военачальник, и человеческих качеств исключительных.
Романовский, забирая со стола предназначенные для него бумаги, легко коснулся руки Деникина, но от банальных слов удержался. Не нужны им никакие слова: ни для осознания тяжести потери, ни для утешения.
27 августа (9 сентября). Екатеринодар
Ещё не пробило восьми, и старая кухарка только-только внесла горячий завтрак, как посыльный из штаба армии доставил записку: Романовский вызывает к себе.
Квартировал тот в доме фабриканта подсолнечного масла армянина Аведова, на Гимназической улице. Вымостить её руки у властей не дошли, и ветер гонял по ней завихрения густой пыли.
У кованой калитки стоял со скучающим видом одиночный часовой — мордатый вихрастый казак в чёрной черкеске при алом бешмете — и украдкой лузгал семечки. Черкеска, на взгляд Врангеля, нуждалась в щётке, бешмет — в утюге, а казак — в хорошей зуботычине, дабы освежить в его затуманенных революцией мозгах правила караульной службы. Беспечность неприятно удивила: ведь фронт совсем близко, а в городе, верно, полным-полно большевиков и всякой пролетарской шпаны.
Начальнику штаба отвели весь первый этаж массивного особняка. Танцевальный зал превратили в кабинет: вдоль стены с высокими полуовальными окнами выстроились роскошные пальмы в больших кадках резного дерева, в угол задвинут зачехлённый белой материей рояль, паркет кое-где сохранил зеркальный блеск. У глухой стены — большой несгораемый шкаф, совсем недавно выкрашенный в казённый тёмно-зелёный цвет, и дубовый письменный стол с простым письменным прибором: стеклянным на подставке голубоватого мрамора. В центре зала — прямоугольный обеденный стол, устеленный картами. Самые большие кое-где свешиваются вроде скатерти. Вокруг стола ровно расставлены гостиные кресла, обитые чёрной кожей.
Теперь Врангель разглядел и покрасневшие белки, и синие круги под глазами Романовского — верное свидетельство долгой ночной работы.
Даже не пригласив присесть, хозяин кабинета сразу передал предложение Деникина вступить во временное командование 1-й конной дивизией.
— Согласны, Пётр Николаевич? Её начальник генерал Эрдели получил специальную командировку в Грузию и может задержаться там надолго. А его заместитель генерал Афросимов, командир Второй бригады, оказался не на должной высоте.
Врангель ощутил, как зачастило сердце и легко ударила в виски кровь. Выходит, за одну ночь акции его поднялись — уже до дивизии. А ежели не соглашаться и вторую ночь обождать? Ещё выше поднимутся? Но выше-то некуда: корпусов в Добровольческой армии ещё нет. Выше — только Деникин.
Медный крымский загар скрыл выступившую на щеках красноту и не выдал волнения.
Романовский истолковал его молчание по-своему.
— Весьма вероятно, что по возвращении генерал Эрдели получит другое назначение... И тогда явится возможность окончательно оставить дивизию за вами.
— Для этого требуется ещё одно, Иван Павлович... — Врангель сообразил, сколь глупо было затягивать с ответом, и поспешил исправить оплошность. — Доказать в бою соответствие занимаемой должности. Именно это я и намерен сделать. И, разумеется, предложение командующего считаю для себя честью и принимаю с благодарностью.
— Прекрасно. Сегодня же приказ будет подписан и отправлен в штаб дивизии. Сколько дней вам требуется на сборы?
— Один.
— Что ж, вечером получите все документы. — Скупая улыбка Романовского показалась Врангелю искренней и ободряющей. — Кстати, семью лучше оставьте здесь, она будет под охраной. А теперь к делу...
Подведя его к картам, Романовский лаконично и чётко обрисовал общее стратегическое положение и состав армии, осветил силы противника и сформулировал задачи 1-й конной. Врангель задал несколько обычных в таких случаях вопросов: о составе дивизии, её вооружении, командирах бригад и полков, снабжении. Ответы получил ясные и исчерпывающие.
Штаб, выяснилось, возглавляет полковник Баумгартен — бывший лейб-драгун и старый сослуживец по гвардейской кавалерии. И отозвался о нём Романовский хвалебно. Добрый знак...
Врангель быстро убедился: начальник штаба командующего хорошо осведомлён обо всём, что имеет отношение, даже косвенное, к кругу его деятельности. И весьма неглуп... Явно благодаря своим способностям дослужился за Великую войну до генерал-квартирмейстера штаба главковерха... И ежели верить Апрелеву, Корнилов целиком посвящал его в свои планы и в отношения с Керенским. И в Добровольческой армии именно его взял к себе в начальники штаба. Впрочем, покойный не слишком хорошо разбирался в людях...
Держал себя Романовский без тени недоброжелательства, разговор шёл легко, и внутреннее напряжение у Врангеля незаметно рассосалось. Даже какое-то расположение затеплилось в душе. Одно только охлаждало: красноватые глаза начальника штаба упорно уходили в сторону...
— Кофе не хотите, Пётр Николаевич? — неожиданно предложил Романовский. — В Екатеринодаре ещё можно найти настоящий «Мокко».
Вышел за дверь и скоро вернулся, держа в одной руке серебряный кофейник, в другой — поднос, накрытый белоснежной салфеткой. Расположились на краю письменного стола, отодвинув стопки бумаг и газет. На верхней Врангель приметил крупное название: «Россiя». Кофе, на его вкус, африканский «Мокко» напоминал слабо: явно эти пройдохи торгаши молотых желудей намешали.
Романовский, медленно отпивая из чашки, поинтересовался, где он жил после того, как оставил ряды армии. Получив ответ, принялся расспрашивать о Крыме, Украине, Белоруссии.
— Разведке бы опросить вас поподробней, Пётр Николаевич. Но вы ведь не перебежчик и не пленный... — мягко поиронизировал Романовский, когда с кофе было покончено. — Да и дивизия ждать не может...
И, откинувшись в кресле, заговорил медленнее прежнего. Усталость в его чуть хрипловатом голосе послышалась явственнее.
— Нынешняя наша война такая, что думать приходится больше о тыле, нежели о фронте. И я бы хотел вас предупредить вот о чём... Полагаю, нам не стоит начинать политическую дискуссию в духе Керенского, чтобы выяснить и так очевидное... Вы наверняка убеждены, что армия и все государственно мыслящие силы должны восстановить в России монархию. Пусть даже без Романовых... Мы же с Антоном Ивановичем убеждены в ином: после ликвидации большевиков народу должна быть дана возможность самому высказаться относительно формы правления. И именно на Учредительном собрании... Конечно, нового созыва, то есть без большевиков и прочих левых. И если он выскажется за республику — так тому и быть...
Самоуверенность, с какой Романовский взялся излагать его политические взгляды, покоробила Врангеля сильнее, чем не слишком тактичное замечание насчёт перебежчика. Тем более они — себе-то он может в этом признаться — за последнее время утратили былую незыблемость. Поймав паузу, прервал начальника штаба:
— Я убеждён прежде всего в том, что о форме правления можно будет говорить только после избавления России от немцев и их агентов большевиков.
— Тогда мы поймём друг друга, — удовлетворённо кивнул Романовский. — Так сложилось, что процентов восемьдесят офицеров нашей армии — монархисты. И монархисты не по убеждениям даже, а, скорее, по вере. И среди них бродит глухое недовольство нашим отказом открыто провозгласить, что цель армии — восстановление монархии.
Врангель отреагировал понимающим прищуром.
— Произойди такое, Пётр Николаевич, случится катастрофа. Во-первых, от нас немедленно уйдут все казаки. Ибо настроены они резко против монархии. Да-да, они — республиканцы... А их в армии на сегодня — почти двадцать пять тысяч. Шестнадцать конных полков из восемнадцати. Это — больше шестидесяти процентов боевого элемента. За ними дезертируют и мобилизованные иногородние. Сами посудите...
— Значит, армия уменьшится в три раза?
— Именно. А во-вторых, мы лишимся лошадей, продовольствия и фуража... Ведь тогда нам никто и ничего на Кубани даром не даст. А казна наша пуста. У интендантства ни складов, ни мастерских нет. И нам ничего не останется, как проводить бесплатные реквизиции. То есть всё необходимое брать у населения силой. А это неминуемо кончится массовым выступлением против нас...
— Чего же вы хотите, ведь это казаки. За своё добро кому угодно башку снимут.
— Что вы знаете казаков — это хорошо. Но следует знать и другое: таким оборотом дела не преминут воспользоваться «черноморды»[35]... Это самая влиятельная политическая группа в Законодательной раде. Своего вожака Быча[36] они избрали главой войскового правительства. «Черноморцы» — ярые самостийники: хотят оторвать Кубань от России. И для достижения своей цели намерены сформировать отдельную Кубанскую армию. Им противостоят «линейцы», но они малочисленны и не столь активны...
Не докончив фразы, Романовский потянулся к стопке газет.
— Вот, полюбуйтесь... — в его руке Врангель увидел «Россiю». — Небезызвестный Шульгин уже начал выпускать здесь свою газету. Что ни номер, то проповедь монархии и поношение «черни». Многим нашим офицерам такое по душе, а Рада возмущается и требует закрыть «Россию»... Один конфликт за другим. А все конфликты с кубанской властью пагубно влияют на боевой дух казачьих частей. Поэтому, Пётр Николаевич... — сделав паузу, Романовский заговорил медленнее, чуть не по слогам, — настоятельно прошу вас проявлять максимум уважения к казачьим традициям вольности и демократизма. В особенности к кубанской власти, её представителям и её атрибутам. Даже если это идёт вразрез с вашими личными убеждениями. Вы меня понимаете?
— Вполне.
Распрощались по-доброму...
Шагая по пыльной Гимназической улице в штаб армии — подписать в отделе генерал-квартирмейстера, как установлено в Добровольческой армии, четырёхмесячный контракт, сдать послужной список и получить предписание, — Врангель перебирал в памяти детали разговора с Романовским. Всё-таки штабист он толковый и знающий. Хочешь не хочешь, приходится признать... Сам-то после академии не пошёл в «моменты»[37], по проторённой дорожке Генштаба. И умно сделал. Ну какое геройство в том, чтобы ночи напролёт перечитывать горы донесений, сочинять бесчисленные распоряжения и разрабатывать операции, которые осуществляют другие? И при этом ещё нужно уметь делать довольный вид, когда начальник плюёт на твои разработки. А в разгар дела полезешь под руку с советами — так отблагодарит, что потом ни валерьянкой, ни коньяком себя не отпоишь...
Слава Богу, напрасно опасался недоброжелательства Романовского... Спасибо, Олесинька сумела правильно настроить. Весь вчерашний вечер уговаривала не переживать, не жалеть о срыве планов поехать на Волгу: неизвестно ещё, как там сложилось бы... И согласиться на любую должность. И не обращать внимания на предвзятое отношение хоть командования, хоть старых добровольцев-«первопоходников». «Отчего ты так переживаешь, Петруша? Ты, конечно, быстро выдвинешься благодаря своим способностям...»
Какая же она у него всё-таки умница, Кискиска его любимая! И как хорошо научилась понимать его мысли и чувствовать, что творится у него в душе. Самый настоящий, верный и единственный его друг... Ну как её тут оставишь? Да ещё при такой безобразной охране! Да в доме у евреев... Глупо. А взять с собой — и того глупее: чёрт его знает, что это за дивизия и какова обстановка на фронте...
Часть 2
МИХАЙЛОВСКИЙ УЗЕЛ
30 августа (12 сентября). Зеленчукский
охлы, гольтепа клятая, це воны забунтили. Землицы, вишь, подай им... А як повалилы дезертиры з турецкого хронту, саранча ненасытная, дык грабительство пошло до кобылы. И старыков постреляли почём зря... Ну а ваши-то подпёрли — усе кынули и подались до хвелшера Сорокина. Та нехай бис забере их усих, гуртом з босякамы-болшэвыкамы...
Возчик, убелённый сединами высокий однорукий казак — другую потерял под Плевной — чесал языком без умолку. Мешая, как многие жители Кубанской области, где великороссы и малороссы издавна селились рядом, русские слова с украинскими. Его лицо и шея, торчащая из ворота вылинявшего и ободранного чекменя, загорели дочерна и сморщились, вроде сушёной сливы. Коляску с опущенным верхом, такую же старую, пара почтово-обывательских лошадей легко катила по набитому чернозёму сухой дороги.
Прохладный северо-западный ветерок, предвестник осени, как лемех, отваливал на сторону поднимаемый копытами и колёсами жидкий шлейф чёрной пыли.
И обдувал обнажённую голову Врангеля, не позволяя ещё жаркому солнцу напечь её. Вольно рассевшись, он вполуха слушал негромкую стариковскую болтовню. Глухой перестук копыт, лёгкое поскрипывание колёс и мягкое покачивание на пружинных рессорах обостряли тревожно-сладкое предвкушение встречи с дивизией.
В обе стороны от дороги уходили под горизонт заросли кукурузы и подсолнечника выше человеческого роста. В этом золотисто-зелёном половодье иногда попадались серо-жёлтые прямоугольные островки скошенных полей: заставив их высокими скирдами соломы, хозяева вывезли снопы на гумна. Ещё реже — чёрные: кто-то уже успел и вспахать под озимую пшеницу. На тёмной зелени садов, обступивших большие и маленькие хутора, густо высыпали покрасневшие яблоки.
Сколько ни вертел толовой, не заметил ни окопов, ни пожарищ... Не похоже, что по этому богатому краю только что прошлась война.
Часа два уже минуло, как, оставив за спиной обмелевшую Кубань, выехали со станции Кавказская в станицу Темиргоевскую, где должен стоять штаб 1-й конной дивизии. Здесь, в Закубанье, ровная, как стол, степь начала волноваться пологими возвышенностями. А впереди уже выглянула из-за горизонта подернутая маревом синеватая зубчатая полоска Кавказских гор, увенчанная белым конусом Эльбруса.
По низким берегам речки, пересекающей дорогу, расположились хутора: белёные домики под камышовыми крышами и хозяйственные постройки, обнесённые высокими плетнями. Деревянный мостик весь затрясся под коляской. Пахнуло гнилью: вода в мелких местах зацвела...
С правой руки хутора пошли побогаче, вытягиваясь в почти сплошную линию крыш и садов. За ними, в низине, бежала другая речка, полноводнее. Её всю запрудили плотинами: тут и там торчат низкие серые башенки водяных мельниц. Их ровный шум едва слышался...
— Зеленчукский хутор, — процедил возчик. — Хохлы тута господарють.
Но Врангель не услышал: всё внимание приковали фигурки казаков с винтовками. На хозяйственном дворе большого деревянного дома, крытого тёсом, одни задавали корм лошадям, другие загружали в телегу мешки и короба. Приказал свернуть.
Подъехали ближе, и на алых погонах Кубанского войска ясно различил белые нашивки конников... Десятка три, не больше. Некоторые без черкесок, в одних бешметах, но все, помимо винтовок и шашек, ещё и при кинжалах. Лошади под сёдлами, привязаны к плетню. Значок воткнут в землю посреди двора: набирающий силу ветерок обернул алый флаг вокруг пики, и что на нём изображено — не разглядеть...
Надел, чуть надвинув на глаза, фуражку. Легко, придерживая шашку, спрыгнул и направился в распахнутую калитку.
— Смирно! — вяло скомандовал кто-то.
Громко поздоровался и даже назвал себя. Положение «смирно» казаки приняли с ленцой. И весьма небрежно: руки не прижаты к ляжкам, а свисают вольно, головы, покрытые папахами длинного курпея, чуть опущены.
Молодой, лет 25-ти, и невысокий хорунжий, сипя простуженным горлом, представился начальником конвоя командующего 1-й конной дивизией Гаркушей. Выбившийся из-под серой папахи отросший соломенный чуб навис над высокой горбинкой носа, защитная черкеска туго обтянула широкие плечи, поверх газырей блеснул солдатский серебряный Георгий. Убрав присогнутые пальцы от виска, не то доложил, не то сообщил:
— Их превосходительство генерал Афросимов в хате. Ще чаювают...
На ловца, порадовался, и зверь. Только не бежит, а сидит и чай попивает.
— Я назначен командующим дивизией. Проводите меня к генералу.
Простодушное удивление, вмиг разлившееся по смуглому лицу хорунжего, было слишком явным. Но, шмыгнув носом и сбив чуб на левый бок, живо направился к низкому крыльцу. Безо всяких, однако, «слушаюсь»...
По манерам, заключил Врангель, не кадровый офицер: курса в военном училище не кончал. Значит, или в школе прапорщиков получил офицерский чин, или, судя по крестику, произведён из урядников за боевые отличия.
Ощущая спиной любопытствующие взгляды конвойцев, шагнул, пригнувшись, следом за хорунжим в сени. В полумраке, не разглядев с яркого света, задел плечом висящую на стене упряжь. Из стряпной тянуло печным чадом и ароматом выпекаемых не то оладий, не то блинов. С лёгким скрипом распахнулась дверь в горницу — просторную, в два окна, чисто побелённую и опрятную.
За длинным некрашеным столом восседали трое.
Пожилой и тучный, в расстёгнутом чёрном бешмете, втиснулся в «святой угол», заставленный яркого письма иконами под вышитыми полотенцами. Отрешённо уставившись на полный стакан чая, размешивал сахар. Черкеска, скрыв погоны, комом валялась рядом на лавке, и только двойные красные лампасы удостоверяли его генеральский чин.
Двое других — помоложе, в защитных гимнастёрках и тёмно-синих офицерских бриджах с алым кантом Кубанского войска, — уткнулись в тарелки и энергично жевали. Подняв стриженые «под ноль» головы и увидев две золотистые звёздочки на серебряном шитье зигзагами, разом встали, торопливо глотая непрожёванное и вытирая платками губы. Ножки табуретов проскрежетали по деревянному полу, покачнулась от толчка столешница. В откупоренной четверти, красующейся подле медного самовара с вмятиной на тусклом боку, заколыхалась мутноватая жидкость.
Хорунжий подвёл: как ни старался, исполненный сознанием важности момента, но фамилию его, чин и новую должность, докладывая пожилому, просипел безобразней некуда.
Взгляд Афросимова, зацепив его аксельбант и погоны, упёрся, наполняясь крайним недоумением, прямо ему в лицо. Кустистые брови поползли вверх по морщинистому лбу. Рот, показавшись из-под длинных сивых усов, открылся, да так и замер. Будто хотел приказать начальнику конвоя доложить ещё раз, внятнее и толковее, да воздуха в лёгких не нашлось...
Ложка машинально стукнула ещё раз-другой о стенки гранёного стакана и замерла. В повисшей тишине лишь зудела громко, кружа у оконного стекла, жирная муха.
Нечего сказать, съязвил про себя, удачное начало — точно конец в «Ревизоре». А Афросимов — не генерал и даже не городничий, а тряпка какая-то.
— Так а мы вот... ни сном ни духом... — проговорил наконец бывший командующий дивизией и, выпустив ложку, широко развёл руками. — Ни телеграммы какой, ни нарочного с пакетом...
Выслушивал представление новых подчинённых, а самого терзали недоумение и досада... Ну и дела! В штабе дивизии телеграмма о его назначении и выезде до сих пор не получена... Третьи сутки пошли! Что, не налажена работа полевых телеграфных отделений? Повреждены линии?.. Или штаб Добровольческой армии работает хуже самого Романовского? По видимости, так и есть... Тогда чего стоит его всезнайство?
Усмешку, уже тронувшую губы, подавил: ещё не хватало, чтобы новые подчинённые приняли её на собственный счёт. И умнее всего поступит, ежели по-товарищески присоединится к чаепитию, благо один табурет свободен.
Отпустив хорунжего и разрешив офицерам сесть, принял из сноровистых рук незаметно вошедшей хозяйки — ещё молодой, в туго затянутой белой косынке — чистый стакан без подстаканника и простое блюдце. Радушия на её худом неулыбчивом лице не заметил, а лишь тревогу и вымученное желание услужить.
Душистый и терпкий, на травах, чай был чересчур горячим. Но блюдцем, на мужицкий манер, не воспользовался. Осторожно отпивая, распорядился отправить свои вещи с ординарцем в Темиргоевскую, казака-возчика и его лошадь накормить хорошенько и отпустить, а для него оседлать коня порезвее.
— Где дивизия, Михаил Александрович?
— Да неподалёку тут... — Насупившись, Афросимов снова застучал ложкой в стакане, хотя сахар давно растворился.
Из его слов, так и не выстроившихся в чёткий доклад, Врангель уяснил: дивизия, пока старый генерал изволит чаёвничать, ведёт наступление на Петропавловскую. Вчера станица занималась 1-й бригадой, но её выбили большевики неизвестной численности.
Командир её, полковник Науменко[38], сидел тут же.
Выходит, как и Афросимов, атаке предпочёл завтрак. Какого чёрта?! И отчего это, причисленный, судя по чёрно-серебристым погонам, к Генштабу, ни серебряного знака выпускника академии не носит, ни аксельбанта? Ну, отсутствию знака ещё есть оправдание: слишком приметен императорский вензель... И самому пришлось его снять в конце весны вместе со свитским аксельбантом, как того потребовало Временное правительство. Но академический аксельбант?! На нём-то вензеля не разглядеть...
Возмущение вспыхнуло, но скоро погасло: тонкая высокая фигура, правильные черты и чистая кожа лица, открытая улыбка и внимательный взгляд живых карих глаз легко расположили к кубанцу. Особенно понравились ясные и основательные, несмотря на молодость, ответы... Но приглядевшись, заметил седину на висках и в коротких усиках. И поправил себя: годами Науменко, по видимости, почти ровесник.
Второй сотрапезник Афросимова — старший адъютант штаба дивизии капитан Рогов — произвёл впечатление куда хуже: ни рыба ни мясо. Маленький и щуплый, нос длинный и хрящеватый, с острым кончиком, рыжеватая голова вся в шишках, глаза блёклые какие-то... И голос такой же блёклый, и даже слова...
Наскоро напившись чаю, Врангель поднялся.
На дворе Гаркуша уже держал в поводу осёдланную для него лошадь — немолодую кобылу каурой масти, хорошо вычищенную.
Забрав у хорунжего трензельные поводья — вторые, мундштучные, как принято у казаков, отсутствуют, — привычным ласкающим движением огладил почки. Грубая кожа задрожала под ладонью, но уши не прижались... По всему, почки не больны и от шпор, которых она не знает, «козла» не даст. Но на всякий случай, легко сев в казачье седло с высокой передней лукой, мягко тронул её шпорой. Нет, стоит смирно и ждёт повода.
В сопровождении Афросимова, офицеров и малочисленного конвоя, теперь уже его, рысью[39] поехал прямо по жёлтой ломкой стерне на юг, к речке Чамлык. Трензельных поводьев и шенкелей кобыла слушалась хорошо, и в шпорах нужды не возникало. Старое казачье седло было вполне удобно, как и удлинённые стремена, хотя и они не позволили вытянуть ноги на казачий манер...
Вскоре на пологом склоне вытянутого к востоку бугра заметил жидкую лаву. Маячит с непонятной целью...
Подскакавший оттуда ординарец сбивчиво доложил: 1-й Уманский полк обходит противника с фланга, тот отступает по-над Чамлыком на Петропавловку, а с фронта его атакует 1-я бригада.
С хребта склона открылась неширокая речная долина, протянувшаяся с востока на запад.
Аккуратно вынул из уже сильно потёртого кожаного футляра 8-кратный призменный бинокль «Гёрц»... Речка обозначена густой и высокой полосой камыша. Большевики — на том берегу. Нестройные пехотные колонны кое-где рассыпались в толпы, есть и группки конников... Боя не принимают и медленно отходят по долине в восточном направлении. Изредка постреливают из винтовок... Казаки — строй разомкнутый, жидкий и неровный — шагом выдавливают их к Петропавловской. Числом — меньше тысячи. Это что — двухполковая бригада? И какая же это к чёрту атака?
Петропавловскую закрывала макушка бугра.
Сверившись с двухвёрсткой, услужливо поданной Роговым, засомневался, что именно давление бригады Науменко подвигнуло противника к отходу на Петропавловскую. Скорее — демонстрация, хотя и вялая, лавы 1-го Уманского полка на фланге.
Перевёл бинокль на юго-запад, в сторону Темиргоевской. Станица — до неё не более двух вёрст — раскинулась в низкой долине Лабы, у места впадения в неё Чамлыка. У окраины сбился в кучу обоз.
— Что за обоз?
— Первого У майского полка, ваше превосходительство.
Венных повозок — раз-два и обчёлся, сплошь — простые крестьянские телеги. Где-то под четыре десятка... Патронных и хозяйственных двуколок, кажется, три вместо девяти, лазаретных линеек и походных кухонь вообще не видно, а одноконных офицерских двуколок — с полдюжины вместо одной... Что-то не похоже на обоз 1-го разряда... И не слишком ли многолюдна охрана? Не считая ездовых — больше сотни...
Бережно уложил бинокль обратно в футляр. Тяжеловат всё-таки, отметил в тысячный уже раз. Вот 8-кратный призменный «Цейсс» — легче и изящнее, но и стоил дороже...
Дав кобыле шенкелей, галопом поскакал к уманцам.
Полк уже подравнивался. Навстречу поспешил широкой рысью, держа шашку подвысь, командир. В ситуации разобрался быстро: незнакомый генерал-кавалерист — старший начальник, коль Афросимов плетётся за хвостом его лошади. Представившись полковником Жарковым[40], отсалютовал и отрапортовал чётко. Но особо не тянулся. Не затруднился и тем, чтобы заставить своего на зависть красивого каракового жеребца стоять посмирнее.
Да и сам, с лёгким неудовольствием отметил Врангель, тот ещё щёголь: чёрная папаха — высокая и косматая, на её сильно выпуклый алый верх нашиты восемь, а не четыре, штаб-офицерских галуна, газыри на парадной черкеске крупные, а их кармашки посажены выше обычного, чуть не под самые ключицы, и отделаны серебристой тесьмой...
Казаки, взяв шашки «на караул», повернули головы в его сторону и замерли. Подъехал ближе.
— Здор-ро-ово, мол-лод-цы уманцы! — прокричал с расстановкой.
— Здравия желаем, вашс-сь!
Ответили не слишком дружно, но задорно. Хотя и заглотав «превосходительство»...
Сразу бросилось в глаза: в полку, как заведено в Кубанском войске, шесть сотен, но до полагающихся по штату 120-ти всадников ни одна не дотягивает. Весь полк — менее полутысячи. Возрастов самых разных, но преобладают совсем молодые — в войне, конечно, не участвовали — и пожилые, за сорок уже, отслужившие действительную ещё до её начала... На вид здоровые и бодрые. Чем дольше шла Великая война, тем чаще встречались в строю исхудавшие болезненные лица и равнодушные глаза... Тут, слава Богу, таких не заметно.
По форме одеты не все: есть в одних бешметах, а то и выцветших гимнастёрках, среди чёрных и серых папах попадаются какие-то странные, широкополые и войлочные, шляпы тёмно-бурого цвета... Черкески, у кого есть, сильно потрёпаны... Мягкие кавказские сапоги — кажется, чувеки[41] по-местному — истоптаны... Свёрнутых бурок и сум в тороках что-то не видать... Не иначе, в обозе держат. Лошади хорошие, но подморены и не в теле, хотя и впалых у паха боков с выпирающими рёбрами не заметно. И не сказать, что ухожены. По всему, регулярной уборки нет и в помине... Из-за беспрерывных боёв или плохой дисциплины? Странно, лошади ведь казачьи, собственные... И уздечки истрепались... Винтовки — казачьи трёхлинейки, короткоствольные и облегчённые — вопреки уставу висят на плече или передней луке дулом вниз. Есть и трофейные карабины «маузер»... По одному-два подсумка вместо четырёх... Патронташи полупустые... На вьюках, вместо полагающейся дюжины, три пулемёта всего... Значит, со снабжением и верно беда. Тогда с чего это вдруг такое обилие повозок в полковом обозе?
Не ускользнула от внимания и небрежность, с какой сидели в сёдлах казаки в положении «смирно». Поводья распущены... Двухцветные сотенные значки заметно покосились... Позабыв, что «строй есть священное место», даже позволяют себе переглядываться. И взгляды их из-под надвинутых на брови папах — какие-то озадаченные и неодобрительные... Как бы даже с затаённой насмешкой.
То ли жар кинулся в голову, то ли полуденное солнце напекло... Это что ещё за вольность! Не поняли, дурачье, что перед ними — новый начальник дивизии?
С досады пришпорив кобылу, не удержал себя и обернулся: многие провожали его откровенно неодобрительными взглядами, хмурясь или усмехаясь в усы...
Проехал ещё с версту дальше по фронту.
Справа из низинки выглянула голова конной колонны по шести. Серо-коричневая, с белыми вкраплениями папах, шла шагом по просёлку. За ней густым хвостом поднималась пыль.
Не растягивается, одобрительно отметил Врангель. Вот начальник, останавливая лошадь, поднял вверх вытянутую руку: «Стой!» Вида невзрачного, но шустрый и сообразительный. Команды на построение развёрнутого строя подал громко и отчётливо.
Головная сотня живо выстроила развёрнутый строй, а следовавшие за ней взводными колоннами слаженно, выказывая старую выучку, кратчайшим путём вступили в общую линию и подровнялись.
— Пер-рвый Екатеринодар-рский полк, смир-рна! Шашки — вон! Слу-ушай! На кра-а-ул!
Стальной шелест стремительно извлекаемых из ножен клинков — и строй замер.
— Гос-спода оф-фицер-ры!
Офицеры отсалютовали и, взяв шашки подвысь, переехали на левый фланг своих сотен.
Лошадям остановка пришлась не по нраву: мотали головами, прося повода, нетерпеливо стучали копытами в сухой грунт, обмахивали хвостами крупы, отгоняя слепней и мух.
Командир — полковник Муравьёв[42] — шашку подвысь держал небрежно, но отрапортовал бодро.
Пока трубачи задорно играли полковой марш, Врангель обежал взглядом строй... И в этом полку казаков не больше, чем на четыре полных сотни. А обоз? Вот и он: плетётся следом низиной — балкой, по-казачьи. Не иначе на два кавалерийских полка: телег и военных повозок никак не меньше пятидесяти.
Махнул трубачам перчаткой: прекратить игру.
— Здор-ро-ово, молодцы екатеринода-ар-рцы!
— Здравия желаем, ваше превосходит-ство!
Не спеша объехал полк по фронту, всматриваясь в загорелые и припорошённые пылью усатые лица... Прошлым летом полк этот входил в состав Сводного конного корпуса, которым он временно командовал два месяца. Узнал нескольких офицеров и рядовых казаков... Жаль, мало их. Но хорошо, хоть кто-то остался: есть кому рассказать о нём. Один отход к реке Сбручь, когда он прикрывал пехотные части во время Тарнопольского прорыва немцев, чего стоит. За это славное дело и был награждён солдатским Георгием.
Выглядели екатеринодарцы такими же бодрыми и сытыми, как и уманцы. И переглядывались, провожая его глазами, с тем же неодобрением. Иные, перемигиваясь, не скрывали и ухмылок.
На этот раз удержал себя — не оглянулся. Впрочем, и то уже хорошо, что нет ни ропота, ни раздражённых жестов, ни озлобленных взглядов. Насмотрелся этого позорища в минувшем году — до гроба не забыть...
Нахлынувшая терпкая досада не помешала угадать причину непозволительной вольности в строю: конечно, виной всему его фуражка, а особенно шпоры, которые не приняты ни в одном из казачьих войск. Точно так же, вероятно, смотрели бы кубанцы на французского мушкетёра с тонкой рапирой и в широкополой шляпе с перьями: как на заморскую диковинку — потешную, но для дела непригодную. Дремучий народ эти казаки: признают только своё — «казачье»...
Скосил глаза на Афросимова: аккуратно держится на корпус позади. Пришёл уже в себя и, похоже, даже доволен, что спихнул дивизию с плеч... Вот он для них свой: серая папаха с алым верхом, черкеска с мягкими удлинёнными погонами, серебристыми с алой выпушкой, на узком поясе с серебряной оправой — длинный кавказский кинжал. Обут в кавказские же чувеки, а не сапоги. Лошадь подстёгивает ногайкой, накинутой на кисть правой руки, и никаких тебе шпор.
— Какой бригаде принадлежит полк, Михаил Александрович?
Догадался прежде, чем услышал ответ.
— Первой, ваше превосходительство, — тяжко вздохнул Афросимов: и доложил, и повинился разом.
Получается, той самой бригаде Науменко, что будто бы атакует большевиков на противоположной стороне реки... Вот растяпы! Мало того, что бьют не кулаком, а растопыренными пальцами, так даже не знают, где эти пальцы.
Резкие упрёки придержал. Умно, решил, поступит, ежели не станет с места в карьер метать громы и молнии. А послушает прежде Баумгартена, приведёт всё в ясность.
Предоставив Афросимову и Науменко честь довести операцию — неплохо задуманную, но безобразно начатую — до какого-нибудь конца, поспешил в Темиргоевскую.
30 августа (12 сентября). Темиргоевская
Штаб 1-й конной дивизии расположился в просторном кирпичном доме станичного атамана, выходящем фасадом на небольшую церковную площадь. Поздний, в седьмом часу, обед Врангель свернул быстро: работы по горло и глупо транжирить время на застолье. Даже ради встречи со старым сослуживцем и знакомства с новыми.
Первые часы, проведённые в дивизии, окрылили: революционный дурман из казачьих голов выветривается и настроение полков отменное. Давно уже такого не встречал, где-то с осени 16-го... И пусть 1-я конная — дивизия больше по названию, пусть не укомплектована до штата ни людьми, ни конским составом, не оборудована материальной частью... Главное — она горит желанием драться, а значит с ней можно делать дела... И пусть он — временно командующий, но он, барон Врангель, сделает эту дивизию лучшей во всей Добровольческой армии. И докажет, чёрт возьми, что умеет бить большевиков не хуже, чем бил их хозяев немцев. Тогда Деникин по возвращении Эрдели наверняка даст другую дивизию.
Однако настроение настроением, а строй и дисциплина хромают, хозяйство запутано и запущено. Всё с головой выдаёт серьёзные упущения начальников и штабных. Особенно же — нерадение снабженцев... Потому-то, видно, эти пройдохи и бездельники так расстарались с обедом.
Ничего другого не пришло в голову, едва кинул взгляд на накрытый стол: парующий наваристый борщ, холодная окрошка, запечённый поросёнок под румяной лоснящейся шкуркой, баранина и куропатки, жаренные на вертелах, отварные сазаны и щуки, горки больших розовых помидоров и пупырчатых огурцов, свежих и малосольных, нарезанные большими ломтями золотистые дыни и ярко-красные, истекающие липким соком арбузы, домашние вина и настойки... Фарфоровые супницы, круглые и продолговатые блюда, стеклянные вазы и пузатые графины совершенно закрыли скатерть и теснили друг друга, грозя столкнуть на пол расставленные по краям тарелки и бокалы.
Количество еды с лихвой возместило её простоту.
Однако богатый вид стола только укрепил в нежелании рассиживаться. Кормить начальство на убой, особенно новое, — излюбленная тактика интендантов. Но на сей раз она им не поможет. Завтра же встряхнёт их как следует.
Да тут ещё перед самым обедом доставили из станицы Тенгинской — с ближайшего почтово-телеграфного отделения — телеграмму о его назначении. Вот уж не дорога ложка!
Приглашённых офицеров, собравшихся в столовой, заставил подождать: набрасывал на первой странице полевой книжки — слава Богу, обновил наконец-то! — донесение Деникину о приёме должности, диктовал Баумгартену приказ по дивизии о вступлении в командование, перечитывал, правил...
Первый тост, невысоко подняв бокал топазового стекла, произнёс без обычного воодушевления, кратко — за Россию и одоление всех её врагов. Выпил до дна. Белое домашнее вино нашёл грубоватым и чересчур терпким, букет еле улавливался... Второй тост, предложенный Баумгартеном, — «за нового добровольца» — только пригубил. И демонстративно отставил бокал почти полным.
— Пить, господа офицеры, будем после победы.
Порекомендовать новому командующему отведать «кишмишевки», кубанского самогона, никто даже не рискнул...
Уже стемнело, когда Врангель уединился с начальником штаба в его комнате.
Единственное окно, кроме ставен, закрывал кусок серого полотна, накинутый поверх тюлевых занавесок. В центре круглого стола, покрытого вышитой бледными цветами скатертью, стояла американская пишущая машина «Фейшолес-Империал», старая и на пол-листа. К её высокому чёрному боку приникла раскрашенная под дорожный сундучок жестяная коробка из-под монпансье московской фабрики Казакова с карандашами, ручками, перьями и резинками. Почти всё пространство между столом и узкой железной кроватью заняли панцырная несгораемая касса «Саламандра», однодверная и облезлая, и два фибровых чемодана, в которые вполне умещались все документы и карты.
Штабной канцелярии, заключил, осмотревшись, нет и в помине. Даже походного типа, как повелось на Великой войне.
Керосина в станице нельзя было достать ни за какие деньги, и совсем новая лампа «Космос», с круглым фитилём и высоким узким стеклом, без пользы стояла на полу, будто опорожнённая бутылка. С трудом раздвигая темноту по углам, коптил посреди стола самодельный масляный светильник, сконструированный из стреляной гильзы и низкой консервной банки. Ему тщетно пытался помочь жёлтый язычок, что трепетно и тускло теплился под печальным ликом Богоматери.
Полумрак усилил первое впечатление Врангеля: Баумгартен изрядно сдал. Глаза ввалились, синие мешки под ними набухли, морщин прибавилось, а волос — наоборот. И весь он как-то потерял прежнюю свою живость... А чего же тут хотеть? Позапрошлой осенью, по его собственному рассказу, получил контузию. И тоже не долечился: пришлось принять штаб 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В Добровольческую армию прибыл в середине лета, и уже две простуды — в самую жару умудрился подцепить — перенёс на ногах...
В компании Баумгартен ещё бодрился. А теперь, оставшись с Врангелем один на один, сник. То и дело пробивался сухой кашель. Высокий лоб, уходящий под жиденький светлый чубчик и перечерченный поперёк синеватой жилкой, орошала испарина.
Но докладывал толково и обстоятельно, а потому Врангель предпочёл меньше читать и больше слушать.
Боевой состав дивизии по состоянию на 8 часов нынешнего утра был расписан превосходно: шесть полков, по два в трёх бригадах, три батареи и пластунский батальон — личный и конский состав, вооружение, технические средства и прочее. 1-ю бригаду, командир полковник Науменко, составляют Корниловский конный, укомплектованный казаками разных отделов Кубанского войска, и 1-й Екатеринодарский, из казаков Екатеринодарского отдела. 2-ю, командир — генерал Афросимов, — 1-й Уманский и 1-й Запорожский полки, укомплектованные казаками Ейского отдела. 3-ю, командир которой ещё не назначен, — 1-й Линейный, из казаков Лабинского отдела, и 2-й Черкесский, пополняемый черкесами горных залабинских аулов. Батареи — офицерского состава: офицеры-артиллеристы занимают почти все солдатские должности, кроме ездовых. В пластунском батальоне большой некомплект: не хотят кубанцы воевать пешими. Итого в строю — 260 офицеров и 2 460 казаков.
Продовольствием полки обеспечены хорошо: печёный белый хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты казаки ближайших станиц и хуторов подвозят полковым хозяйственникам ежедневно, причём часто сдают безвозмездно.
То же с фуражом, хотя сена везут больше, чем зерна. Но из-за непрерывных боёв лошадей не водят и кормят нерегулярно. Бывает, неделями не рассёдлывают и месяцами не чистят. Остро недостаёт воды. По всем этим причинам, да ещё из-за жаркой погоды, у лошадей плохой аппетит. В результате многие не в теле и выглядят заморёнными. Купать их негде и некогда, а потому появились чесоточные. А ветеринарных врачей в полках нет. Вообще, ремонт конского состава[43] в армии не налажен. Одно спасает: местные породы очень выносливы.
В технических средствах — вопиющая бедность. Ни полевых телефонов, ни проводов, ни штепселей. Есть, правда, искровая радиостанция, но исправна она или нет — неизвестно, ибо к ней ещё нужно найти заряженные аккумуляторы. Броневиков и автомобилей нет, и не обещают. На весь штаб — единственная пишущая машина. Но проку от неё никакого, поскольку красящая лента обесцветилась и вся уже в лохмотьях. Да и угольной бумаги для получения копий нет ни листа.
Со снабжением боевыми припасами даже не беда — оно, можно считать, отсутствует. Воевать приходится тем, что захватили накануне у противника. Трофейные артиллерийские и винтовочные патроны сразу распределяются по батареям и полкам. Правда, казаки во время власти большевиков сумели немало припрятать из того, что привезли с фронта, и теперь являются в части с винтовками и некоторым запасом патронов. Но хватает их на день-два.
— Но ведь штаб армии получает винтовки, снаряды и патроны от Краснова, разве нет?
— Получать-то получает, да только нам достаются крохи.
— Уточни, Александр.
— Вот, полюбуйтесь... — Баумгартен протянул аккуратно расчерченную таблицу. — Из Батайска донские поезда с боевыми припасами идут на Кавказскую — Екатеринодар и по дороге разгружаются на нескольких станциях. В нашу дивизию их везут подводами с Потаённой. Почти каждый день доставляют тысяч десять винтовочных патронов и до двух десятков шрапнелей. Бывает и побольше, но редко...
Врангель уже давно пробежал глазами цифры.
— А другие дивизии как снабжают?
— Насколько я в курсе, пехотные — лучше нашей. Например, Третью генерала Дроздовского. Это сосед наш слева. Видно, Романовский считает, что конникам достаточно и шашек... Так что единственная наша надежда — «самоснабжение за счёт противника». Так теперь говорят.
Грустная улыбка прошлась по бесцветным губам Баумгартена и исчезла без следа, голос увял совсем. Только влажные глаза блестели необыкновенно ярко даже при слабом светильнике... Врангеля кольнуло подозрение: а всё ли говорит ему старый сослуживец? Может, попросту не видит необходимости, раз начальник дивизии — Эрдели — должен скоро вернуться?
— По сколько же патронов у строевых казаков?
— Не больше десятка.
— Деся-ятка?! — Врангель не поверил ушам.
— Именно. Дошло до того, что казаки начали воровать патроны друг у друга.
— Этого ещё не хватало... А что же в артиллерийском парке на сегодня?
— Снарядов до полудюжины на орудие и по два десятка патронов на винтовку. И на один бой не хватит, если по меркам нынешней войны.
Оцепенев в мрачном раздумье, Врангель неотрывно смотрел в таблицу. Тщательно промокая лоб платком, Баумгартен ждал следующего вопроса. Не дождавшись, добавил:
— Как получаю из бригадных штабов оперативные сводки, первым делом ищу не названия занятых или оставленных пунктов, а число захваченных снарядов и патронов. От этого и танцую в разработке...
— Правильно, — одобрил Врангель машинально. Его длинные худые пальцы никак не хотели выпускать лист плотной бумаги, хотя глаза никаких цифр уже не видели. — Глупо при такой нехватке снарядов атаковать в конном строю укреплённые позиции.
— Дело обстоит как раз наоборот, Пётр Николаевич. Единственный выход — атаковать во фронт укреплённые позиции и именно там, где развёрнута артиллерия. И атаковать стремительно, чтобы противник не успел увезти снаряды. И ещё — станции: если обойти глубоко и успеть отрезать пути отхода, есть шанс захватить бронепоезд или эшелон с боевыми припасами... Таковы директивы Деникина. Того же требовал и Корнилов.
Имя погибшего главковерха вывело Врангеля из оцепенения. Пронизывающим взглядом впился в глаза Баумгартена, но поздно: в них уже исчезла мелькнувшая на миг отрешённая покорность обстоятельствам.
— Ив каком соотношении?
— Пять к одному в пользу большевиков. А то и все десять.
— Да разве можно так атаковать? — скорее выдохнул, чем произнёс, Врангель.
— Штаб командующего считает, что можно. Так же поступали и в первом походе... В общем, тактику, которой нас учили в академии, на этой войне лучше поскорее забыть. Таких условий и такого противника наши профессора и представить себе не могли...
— И как же дерутся «товарищи»?
— Непредсказуемо. То разбегаются в панике при первых же выстрелах, то цепляются мёртвой хваткой за каждый пункт. В последние дни их упорство возросло: отходят только при реальной угрозе окружения. А при ослаблении нажима сразу контратакуют. Патронов всякого рода у них в избытке. Спасибо, управление — из рук вон...
— То есть? Разве не немцы ими командуют?
Баумгартен задержался с ответом, глубоко и медленно вздохнув.
— Так многие думают, кто поступает в армию. И я думал так же... Но нет. По данным разведки, на должностях старшего начсостава у них — унтера. А в штабах служат мобилизованные офицеры. Включая Генштаба... Да не в том дело, Пётр Николаевич, кто командует. А в том, что нижние чины этой так называемой Красной армии Северного Кавказа — сплошь иногородние. И воюют они за землю, которую большевики разрешили им отбирать у казаков. Потому так упорны и злы в бою. И не забывайте главного: они же русские...
Чем-то Врангеля — не понял, чем именно, — покоробили слова начальника штаба. Но мелькнувшее в глазах выражение на этот раз он уловил и его-то понял точно.
— И каковы потери, Александр?
Из доложенных цифр явствовало, что убыль личного состава частей достигает двух третей в месяц. Доля убитых невелика, но много раненых и больных. А лазарета в дивизии нет, как нет и полковых околотков[44]. Имеются лишь перевязочные пункты в полках да единственная на всю дивизию санитарная летучка[45]. И все они — убогая импровизация: нет ни потребного числа врачей и фельдшеров, ни медикаментов, ни перевязочных средств. Что такое индивидуальные пакеты — давно забыли. Остро не хватает самого элементарного: йода, ваты, марли, бинтов, морфия, соды, касторки. Нет и денег, чтобы всё это купить. Да и купить негде: большевики разграбили в станицах все войсковые и частные аптеки. В летучке — один-единственный доктор и две сестры, из бывшего госпиталя Земгора. Только тем и заняты, что изготовляют бинты из пришедшего в полную негодность нательного белья. Потому-то почти всех раненых и заболевших приходится отправлять в тыл, в городские больницы и госпитали Кубанского войска.
Убыль компенсируется притоком казаков-добровольцев из освобождённых станиц. Но лишь отчасти: некомплект в полках — до двадцати процентов. Главная же беда в другом: при постоянно меняющемся составе частей их планомерное обучение невозможно. И тут даже казачья выучка и спайка не спасают дело.
— Что же, казаки дерутся плохо?
— Каждый в отдельности — хорошо, а полки в целом — по-разному. Бывает, что и плохо...
— Значит, начальники никуда не годятся? Так?
Баумгартен, прежде чем ответить, аккуратно развязал тесёмки тощей картонной папки.
— Вот краткие записки о службе... Афросимов слишком стар для этой войны и больше думает, по-моему, о своих болячках. Действует вяло. Так, номер отбывает... Командир Первой бригады Науменко... «Первопоходник», как говорят у нас. Бригаду принял на днях, а до этого полгода командовал Корниловским конным полком. Исполнителен и не трус, но не более. Самое замечательное в нём — прост и приятен в обращении с подчинёнными, а потому умеет нравиться казакам...
Характеристика Науменко показалась Врангелю несколько странной и требующей уточнений, а вот с оценкой Афросимова согласился сразу. Действительно, рамолик[46] этот не только дивизией, но и бригадой командовать не может. Ни боевого задора, ни начальственной властности, ни ясного ума... Вышибить из дивизии, и поскорее: не дай Бог такую задницу иметь в подчинении. Неизвестно ещё, чем закончится операция против Петропавловской. Ночь уже, а вестей никаких.
— Есть кого назначить вместо Афросимова?
— Разве только полковника Топоркова[47], командира Первого Запорожского...
— Фамилия знакомая...
— Забайкальский казак. В Великую войну служил в Туземной дивизии, командовал Чеченским и Татарским конными полками... Но он ранен и сейчас в госпитале, в Екатеринодаре.
— Ну и ну, даже рака нет на безрыбье... — Врангель дал волю сарказму, но вслух родившуюся мысль не высказал. Выходит, в Грузию Деникину некого было послать, кроме Эрдели, начальника дивизии, на чьё место Романовскому не удалось найти никого, кроме него, Врангеля, случайно подвернувшегося под руку. А теперь вот и он, в свою очередь, не знает, кем заменить Афросимова. А кого назначить командиром 3-й бригады — не знает и сам чёрт. Вот и весь «добровольческий» пасьянс, Петруша...
— А что Эрдели думал на этот счёт?
— Топоркова и думал назначить.
— Почему ж не назначил?
— Дело в том, что Афросимов чрезвычайно популярен среди казаков Ейского отдела. А бригада вся из них.
— Это имеет столь большое значение?
— На этой войне имеет, Пётр Николаевич. Ведь когда кубанцы поднялись, сотни и пешие батальоны формировались по станицам. И в командование, естественно, вступали офицеры тех же станиц. А теперь, вливаясь в нашу армию, они хотят служить под началом только тех, кого знают лично, кто родом из одной с ними станицы. На худой конец — из того же отдела.
— И тогда полки воюют хорошо?
— Как правило...
— Лучше, чем против немцев?
Баумгартен едва приметно покачал головой.
— Это сравнение хромает, Пётр Николаевич. Уместнее будет другое: так же зло, как иногородние с ними. Мстят беспощадно за самоуправство Советов, конфискации и репрессии. Большевиков из местных расстреливают без следствия и суда, дома жгут, а семьи выгоняют из станиц...
— Понять можно.
— ...Другой стимул к борьбе — грабёж. Раз, считают, большевики их разорили, то имеют теперь полное право отбирать имущество у всех, кто их поддерживал. В первую очередь — у иногородних... Ведь жалованье в нашей армии копеечное, да и то выплачивается с задержкой... А с другой стороны, шкурничество расцвело невероятное. За чужие станицы воюют куда хуже, чем за свои. И думают во время боя не только о занятии указанного в приказе пункта, но и о том, чем там можно поживиться да как бы большевики не отбили уже награбленное. Обозами, заметили, какими обзавелись?
Врангель не ответил. Веки сощурились до узких щёлок, на впалых скулах дрогнули желваки, тонкие губы сомкнулись жёстко и почти пропали...
— Поэтому им по нраву только те начальники, которые в бою берегут их головы, а после боя — не хватают за руки. Да ещё краткосрочный отпуск дают — отвезти домой трофеи. За примером ходить далеко не надо: Покровский, начальник Первой Кубанской дивизии. Это наш сосед справа...
Чем дольше Врангель вслушивался в безжизненный голос Баумгартена и всматривался в его землистое лицо и лихорадочно блестящие глаза, тем явственнее ощущал, как улетучиваются лёгкость и задор. Те, что наконец-то возвратились к нему нынешним днём, когда увидел он свою дивизию... Улетучиваются, подобно этой вот струйке копоти от светильника. И гнетущая безысходность, за прошедшие с большевистского переворота месяцы едва не высосавшая его, как муху паук, снова предательски пробирается в душу.
И острое раздражение не заставило себя ждать.
Да какой же чёрт так сломал бывшего лейб-драгуна?! Контузия? У самого не легче... Большие потери? Да ведь не первый день на войне... Взаимная озлобленность казаков и иногородних? Отслужил бы цензовое командование полком по Донскому или Кубанскому войску и всё бы понял... Вражда эта — дело стародавнее. Ничего удивительного, что безземельные иногородние, проще — хохлы, воспользовались большевистской анархией. Сколько лет зубы точили на казачью землю... Ну, а казаки — не тот народ, чтобы склонить головы и отдать за здорово живёшь. Так что с этим злом остаётся только мириться. Однако есть то, с чем мириться нельзя никак.
— Но ежели потворствовать грабежам, казачьи части превратятся в орды. И тогда уже никто не сможет ими командовать, кроме Стеньки Разина и Емельки Пугачёва. Разве не так, Александр? И что это будет за армия?! Как тогда вести казачьи корпуса на Москву и Петербург?
— А вести их, боюсь, и не придётся...
Врангель опешил. Сам собой, по-детски, открылся и закрылся рот.
— То есть? Ты что такое говоришь?! — пришлось добавить в голос проникновенности. Судя по тому, как сорвались эти слова у начальника его штаба — без паузы и раздумий, — тот высказал что-то наболевшее.
Подавив вздох, Баумгартен принялся без видимой надобности поправлять тупым концом ученической деревянной ручки самодельный матерчатый фитиль. Язычок пламени забился, выпуская под низкий потолок густую струю копоти. Света убавилось, и тьма из углов подступила ближе.
— Вы ведь знаете, Пётр Николаевич, мне в казачьих частях служить не доводилось. И когда пробирался сюда, и в голову не пришло, что получу назначение начальником штаба казачьей дивизии... — Голос его слегка оживили извинительные нотки. — Но так уж сложилось, что у кубанцев офицеров Генштаба единицы...
Злобный лай собак на атаманском дворе перебил его. Тут же накатился и замер у дома конский топот. На крыльце вспыхнула перебранка, торопливо приблизился глухой стук шагов по деревянному полу, и в соседнюю дверь — в комнату ординарцев — заколотили без всякого стеснения.
— Катеринодарского полку молодший урядник Куруляк, господин хорунжий! С донесеньем! — Этот прямо-таки петушиный крик мог поднять на ноги всю станицу. — Будыты трэба прэвосходытэльство! Возвертали Петропавловку! Ось то мы!
Баумгартен, легко оторвавшись от стула, отворил дверь прежде, чем в неё постучали. Из-за широкого плеча Гаркуши выглядывал, вытягиваясь на цыпочках и едва не подскакивая, молоденький низкорослый казачок: глаза сияют торжеством, щёки пунцовые, никак не отдышится...
В седле Науменко писал рапорт — так спешил обрадовать нового командующего: бланк донесения, вырванный из полевой книжки, измят, оставленные химических карандашом серо-фиолетовые строчки ходят волнами... Врангель читал вслух, себе и Баумгартену, под аккомпанемент неугомонных собак и старых напольных часов, хрипло отбивающих полночь.
31 августа (13 сентября). Темиргоевская
Петли, видно, смазывали совсем недавно, и закрашенную охрою дверь — не разбудить бы злющих атаманских собак — Врангелю удалось открыть и закрыть бесшумно.
В ноздри ударил знакомый с детства терпкий аромат степных трав с едва уловимой горькой примесью дыма, а в уши — звенящий стрекот кузнечиков... Они сразу напомнили их имение на речке Кагальник, вечерний чай на веранде с печеньем, кексами и пирожными из кондитерской Амбатьело, привезёнными отцом из Ростова. И ещё с бесконечными разговорами взрослых, родителей и их гостей, то серьёзными, то весёлыми, не всегда понятными, но всегда ужасно интересными... С тех самых пор и полюбил сладкое, особенно шоколадные кексы и изюм.
Осторожно присев на перила заднего крыльца, вдохнул полной грудью уже остывший воздух. Только теперь ощутил, какая духота в комнате Баумгартена. Зато там не было этой сволочи комарья. Тут же они атаковали его с таким задором, будто давно заждались в засаде. Памятуя о собаках, старался не шлёпать их — отмахивался, стряхивал... Даже пожалел на миг, что не пристрастился к курению...
Глаза быстро освоились с темнотой, и от неё отделились летняя кухня и просторный стол под навесом. К самому дому подступили развесистые фруктовые деревья и какие-то кусты. Они, однако, уже не занимали его. Как и торчащие где-то на окраине хозяйственного двора пирамидальные тополя, острыми верхушками подпирающие затянутый в чёрный бархат небесный свод. Как и густо рассыпанные по нему голубоватые мерцающие звёзды.
Лишь отметил машинально отсутствие луны. Повертев задранной головой, удивился, куда же она запропастилась. Не чёрт же её умыкнул...
Вот странность: сна ни в одном глазу... Ровно сутки назад, за полночь, вымотанный поездом, он укладывался спать в Кавказской, в общественном доме для офицеров, устроенном подле старой крепости. А уже в седьмом часу утра тряс станичного атамана, требуя возчика до Темиргоевской. День выдался суматошный, много новых лиц и впечатлений, навалились заботы... И не однажды дрёма начинала туманить и тяжелить голову... Но всегда что-то встряхивало его, будто лошадь спотыкалась на ровном месте.
На этот раз — слова его нового начальника штаба. Именно они погнали сон прочь. А последние, сказанные с четверть часа назад, как закончили сочинять донесение Деникину о взятии Петропавловской, прямо-таки хлестнули. Наотмашь, будто плетью...
Однако достаточно ли долго служит Баумгартен у кубанцев, чтобы делать такие категоричные выводы? Верно ли он понимает настроение казаков? Да и так ли уж откровенны с ним командиры бригад и полков, как ему думается? Ведь для них он чужак...
А ежели его выводы справедливы? Вдруг Алексеев и Деникин, делая ставку на Кубань как на базу, действительно ошибаются? Базу, которая должна обеспечить Добровольческую армию всем необходимым — людьми и лошадьми, хлебом и фуражом — для освобождения всей России от немцев и большевиков... Тогда прав этот выскочка Краснов: следует, не теряя времени и сил, идти на Царицын. И оттуда начать отвоёвывать у большевиков ближайшую неказачью губернию — Саратовскую, — поднимать коренное русское население и соединяться с сибирскими формированиями...
Баумгартен уверен твёрдо: кубанцы за пределы своей области не пойдут. Пока не вся Кубань освобождена от большевиков — дерутся плечом к плечу с добровольцами, а самостийники-черноморцы» ограничиваются недовольным бурчанием. Хотя и сейчас, говорят, этот Быч, глава войскового правительства — надо же, премьер-министр выискался! — гадит, как может. И заявляет направо и налево, сволочь самостийная, что помогать Добровольческой армии — значит «готовить поглощение независимой Кубани Россией». А что же будет, когда на Кубани не останется ни одного большевика? Ведь в руках самостийников Рада и правительство, у них свои газеты. Оплот их — Ейский, Екатеринодарский и Темрюкский отделы войска: самые богатые, где живут потомки запорожцев, переселённых сюда Екатериной Великой. Именно об их присоединении к «Украинской державе» грезит в Киеве глупец Скоропадский... И что тогда? Вденут шашки в ножны и откажутся идти в поход на Москву и Петербург?
А ведь его дивизия, считай, на две трети состоит из казаков именно этих отделов. Именно они выбирали в Раду — какая всё-таки задница все эти выборы! — господ самостийников, этих скоропадских кубанского розлива. И с чем он сам тогда пойдёт на Москву?
А Деникин не принимает никаких мер. Не хочет или не способен? Баумгартен убеждён, что командующий армией связан по рукам и ногам малочисленностью офицеров-добровольцев и пустой казной. Что верно, то верно: в одном Киеве офицеров побольше будет, чем во всей Добровольческой армии... И денег нет. Союзникам явно недосуг вспоминать о той части России, что сохранила им верность. А помощью Краснова и Скоропадского, сделавшими ставку на немцев, командование брезгует. Единственный источник продовольствия, фуража и лошадей — Кубань. Как там Баумгартен выразился... «Мы на Кубани — как офицеры-иноземцы, которых принимал на службу царь Пётр». Нечто в этом же роде говорил и Драгомиров. Можно и проще: Добровольческая армия оказалась на содержании у Кубанского войска, как гулящая девка — у какого-нибудь приказчика. Вот позорище-то...
Так что же Деникин? Что это за командующий новой русской армией, который не в состоянии обуздать самостийников?! Ведь в прежнее время эти господа наложили бы в штаны от одного вида уличного городового.
И почему же Романовский не посвятил его во все тонкости отношений с кубанской властью? Почему освещал обстановку так однобоко, будто заурядному строевому начальнику? Тут ведь политики больше, чем войны. Мог бы и снизойти...
Спасибо, Александр открыл глаза, разложил всё по полочкам... Повезло с начальником штаба. Работает, судя по докладу и бумагам, как лошадь. И штабное хозяйство прекрасно знает, и части. Раз так — другого ему и желать не надо. Считай, полдела уже.
Только вот раскис непозволительно. Поскорее нужно выбить из него тяжёлое настроение. Или отпуск дать? Пусть развеется в Екатеринодаре. Нельзя драться, потеряв сердце. Как бы враждебно ни складывались обстоятельства, покоряться им — последнее дело. Особенно ежели обстоятельства — рукотворные. Тогда, полковник Генштаба Баумгартен, нельзя мириться с людьми, руками которых они сотворены. Поучитесь-ка у баронов Врангелей, чей девиз — «Ломаюсь, но не гнусь»...
Собаки, загремев цепями, всё-таки сорвались со своих мест, зашлись в лае. Им дружно отозвались сородичи с разных краёв станицы.
Не сразу понял, что разбудила их смена часовых у переднего крыльца.
Луны как не было, так и нет. Бледно-жёлтый свет исходит, оседая на густой листве ближайшего куста, лишь из окна комнаты, где ему уже давно постелили. Мысль о чистых простынях, топкой перине и по-деревенски выстроенной пирамиде из разнокалиберных пуховых подушек разом повергла в сон. И ощутил вдруг, как ночная прохлада пробралась под накинутый на плечи мундир и коснулась лопаток. Расставаясь с негреющими звёздами и вконец остервеневшими комарами, уже без всякой осторожности потянул на себя холодную ручку двери. Нет, чёрт возьми, скрипит... Наплевать на всё и спать. Утро вечера мудренее. Да не забыть проверить, нет ли клопов...
2 (15) сентября. Петропавловская
— Ещё р-раз, полковник, повтор-рится такое позорище — повешу р-рядом с вашими мар-родёрами!
Врангель не говорил, а рычал. Хрипло и зло, как кавказская овчарка, почуявшая волка. Вскипевшая кровь частыми жаркими толчками билась в черепную коробку и грозила разнести её вдребезги. Уши заложило, и в них перекатывался гул, подобный далёкой артиллерийской пальбе. Выброшенная в гневе рука указывала на развесистый дуб, растущий особняком от рощи, высаженной петропавловцами много лет назад вдоль берега Чамлыка.
Нижние ветки его прогнулись под тяжестью двух повешенных казаков 1-го Уманского полка. Со связанными за спиной руками, они только-только перестали биться в судорогах. Лица быстро синели, из глубины широко разинутых ртов вывалились лиловые языки, и вокруг них уже кружили, норовя присесть, злые осенние мухи.
Облитый беспощадным полуденным солнцем, пеший строй сотни уманцев ошеломлённо затаил дыхание: ясно, начальство, хоть оно и в фуражке да с острогами[48] дурными, оно и есть на то, чтоб порядок заводить, и права ему все дадены, да уж дуже поганой смерти предали станичников.
Над крепкими заборами и плетнями немо торчали головы в чёрных косматых папахах и белых косынках. И самые набожные устали уж креститься. Прекратили ржать и фыркать лошади, отведённые на водопой. Даже ветерок притих, будто не решаясь тревожить повешенных.
Лишь птицы беззаботно пели высоко в ярко-синем небе, слегка разрисованном перистыми облаками, да зудели деловито мухи.
Перед Врангелем окаменел полковник Жарков. Его серая фигура, сухощавая и ладная, точно вросла в землю, голова склонилась покаянно. Но достоинство офицерское сохранил: глаз не спрятал. Из-под надвинутой на самые брови папахи старолинейного образца стекали по пунцовым щекам, цепляясь за подкрученные кверху усы, струйки пота.
У его истоптанных чувяк сиротливо лежали папахи, ремни, кинжалы, шашки и винтовки повешенных.
Тут же валялись три тугих узла из залатанных простыней. Из четвёртого, вспоротого шашкой, высыпались на пожухшую траву тарелки дешёвого фаянса, две перетянутых солдатским тренчиком[49] пары новых сапог, аккуратно сложенные полотняные рубахи и штаны, связка алюминиевых вилок и ложек.
В доме, брошенном иногородними — ушли с большевиками, — казаки похозяйничали со знанием дела. И узлы пеньковыми фуражными арканами связали крепко, и грузили уже бережно на телегу, когда случайно, проезжая с позиции в штаб, наткнулся на них новый командующий дивизией.
Хорунжий Гаркуша и полдюжины конвойцев страшный приказ выполнили, слегка растерявшись и замешкавшись, но не без сноровки. Отведённые теперь в сторону, в жидкую тень развесистых яблонь, остывали. Просыпая сквозь дрожащие пальцы табак-самосад, скручивали и раскуривали цигарки. Глаз друг друга избегали. И тоже молчали.
Сам Гаркуша от предложенного курева отмахнулся. Оттянув большим пальцем ремень закинутого за плечо карабина, исподлобья поглядывал на Жаркова: не шелохнётся полковник, кисти рук смирно прижаты к ляжкам. Но в душе его, почуял, закипает злоба. Верно, на судьбу-изменщицу, на неудалых любителей пограбить чужого добра и, гляди, ещё на новое начальство...
6 (19) сентября.
Петропавловская — Михайловская
— Убитых и раненых много?
— Считают, ваше превосходительство.
— Подобрали всех?
— Подчистую.
— Значит, противник не контратаковал?
— И не думал.
— Почему тогда сами не атаковали вторично? Не поискали слабое место?
— Чего ж дуром под пули переть... Станичники и так недовольны.
— То есть?
— Ворчать стали много. Пускай, мол, начальство сперва патроны даст и пушки поработают, тогда и возьмём Михайловку...
Выматерившись, полковник Топорков осторожно опустился на расстеленную бурку. Чтобы не потревожить ногу, задетую шрапнелью, опёрся, как на костыль, на шашку. Не помогло: гримаса боли исказила на миг тёмно-жёлтое, монгольского типа лицо. Ни стоять, ни доложить по всей форме сил не осталось — только поднести к обветренным, чуть вывернутым губам помятую фляжку... Глотнув пару раз, снял папаху и вылил остатки воды на обритую голову. Мрачная задумчивость сковала распаренное лицо, обескровленные губы плотно сжались, с опущенных кончиков седоватых усов стекали капли.
В ином случае Врангель не стерпел бы такой мужицкой простоты. Но слишком многое зависело от этого человека — приземистого и широкогрудого, почти квадратного, в потрёпанной серой черкеске. Грубые, словно вырубленные, черты, непреходящая мрачность и замедленные движения старили его: в неполные сорок выглядел на все пятьдесят.
Из госпиталя Топорков вернулся позавчера. Раньше положенного: рана едва затянулась. Но Врангель поспешил назначить его командиром 2-й бригады вместо Афросимова. И сразу — в дело...
...Как лбом в стену, упёрлась ,1-я конная дивизия в Михайловскую. Группу противника, что укрепилась в станице, разведка исчисляла в 10—15 тысяч. Командовал ею будто бы сам «главковерх» Сорокин.
Позиция большевикам досталась выгодная.
Левый фланг, юго-восточнее Михайловской, прикрыла Лаба: широко, чуть не на версту, раздробилась в этом равнинном месте на многочисленные рукава. Островки, между которыми они протекали, сплошь заросли камышом и тощими группками деревьев. Вдобавок на левом берегу, у черкесского аула Каше-Хабль, они заняли небольшой плацдарм и тем обеспечили за собой железнодорожный мост ветки Армавир — Туапсе. Центр позиции, выгнутый на северо-запад, к Петропавловской, пересёк несколько пологих холмов: на них установили батареи. А камыш, непроходимо густой и до полутора саженей высотою, перегородил низины надёжнее колючей проволоки. В одной из них брала начало болотистая балка Глубокая. Изгибаясь на восток узким и длинным, почти на 12 вёрст, языком, она прикрыла и центр, и правый фланг.
Раз отсутствие удобных подступов исключало удар во фланг, Врангель бросил полки во фронтальную атаку укреплённых высот — тремя разомкнутыми эшелонами, с переходом на полевой галоп за четыре версты. Азартно, как под Каушеном.
Азарта хватило на две атаки, на два дня.
Численное и огневое превосходство большевиков было полным. И они, ограничившись пассивной обороной, без суеты, даже с каким-то унижающим спокойствием оба раза отбрасывали атакующих...
Батареи дивизии лишь изредка нарушали нагоняющее тоску молчание. Подсумки и патронташи как были, так и оставались почти пустыми. А потому казаки головы класть не спешили: при первых разрывах шрапнели, едва начинали ржать раненые лошади и вываливаться из седел убитые станичники, натягивали поводья и поворачивали назад. Командиры же сотен — молодые и неопытные, военных выпусков, хорунжии, сотники и подъесаулы — терялись совершенно: казачий поток накрывал их с головой.
Понесённые потери не окупились даже мелочью: хотя бы нащупать уязвимый участок — и то не удалось.
Успех, убедился быстро, дадут только огнеприпасы. А их обязан дать штаб армии. Отделение связи, получив хорошую выволочку, наладило наконец через Тенгинскую бесперебойное телеграфное сообщение с Екатеринодаром. Одна за другой пошли Деникину, Романовскому и генерал-квартирмейстеру полковнику Сальникову телеграммы с указанием на большие потери, исключительную сложность поставленной задачи и невозможность её решения без присылки такого-то количества артиллерийских и винтовочных патронов.
Как мог, старался умерять требовательный тон, даже позволял Баумгартену смягчать кое-что.
Вместо огнеприпасов, однако, штаб слал в ответ лишь те же телеграммы: голубовато-серые листочки старых, ещё с царским гербом, бланков с наклеенными обрывками белой ленты. Отбитые на них аппаратом «Бодо» числа, а чаще — незашифрованные слова, плохо пропечатанные и вдобавок с пропусками, разжёвывали, будто неучу, смысл отданных директив, настаивали на «решительных действиях» и требовали наступать «минуя все препятствия».
Это Врангель ещё понимал. Слева от него Дроздовский — 3-я дивизия — безуспешно штурмует Армавир. Дальше на юго-восток Боровский[50] — 2-я дивизия — имеет задачу перерезать Владикавказскую железную дорогу. А справа Покровский — 1-я Кубанская дивизия — вчера потерял с неделю назад взятый Майкоп и теперь пытается вернуть... Но даже если они добьются успеха, Михайловская группа, острым клином входящая глубоко в их фронт, способна нанести удар в тыл любому из них и свести на нет достигнутый успех. Так что будь он на месте Деникина и Романовского, признался себе, и сам настаивал бы на разгроме в первую очередь именно её.
Но вот чего никак не мог понять — отношения штаба армии к нему лично. И чем яснее становилась стратегическая идея командования, тем сильнее овладевало им горькое недоумение... Если его направление — самое важное и тяжёлое, а враг перед ним — самый многочисленный, раз в пять-семь превосходит его дивизию, и дерётся упорнее других, почему же не снабжают нужным количеством огнеприпасов? Почему вместо недостающих патронов только и шлют, что указания озаботиться их захватом у противника? А все его просьбы прислать телефонные аппараты и положенный начальнику дивизии автомобиль даже отказом не удостоили.
Никогда ещё Врангель не чувствовал себя столь беспомощным и униженным: ни противник, ни начальство, ни подчинённые — никто не принимает его всерьёз!
Злое раздражение, как ни странно, остудило голову и умерило азарт. Поразмыслив, решил сделать ставку на плохую выучку противника и, отказавшись от академических атак, попытаться прорвать его фронт внезапным конным налётом.
Предварительно требовалось найти самый уязвимый участок.
Рекогносцировку произвёл лично: весь вчерашний день, поднимая тучи комаров и черпая сапогами гнилую воду, лазил по топким руслам полувысохших за лето ручьёв, что текут между маловодным Чамлыком и Лабой. Комары остервенились и кусали, будто осы жалили. Гаркуше обошлось легче: папиросами от них откуривался... Лицо и шея пылали от комариных укусов, руки все перерезал о камыш, чуть не задохнулся от зловонных испарений, но нашёл-таки гнилой ручей, наблюдаемый большевистскими разъездами лишь от случая к случаю.
Особо надеялся на свежеиспечённого бригадира — Топоркова. Впечатление тот произвёл самое благоприятное: понятлив, немногословен, твёрд.
Бой нынешний подтвердил это впечатление наглядно.
Обогнув балку Глубокую, за тёмное время лично провёл вброд через Синюху 1-й Запорожский и 1-й Уманский полки. Едва занялся рассвет, бросил их в атаку Михайловской.
Эшелон за эшелоном сотни пролетели на карьере два ряда окопов, порубив сонное охранение. И лихо устремились к станице, окраину которой обозначили сторожевая вышка и три ветряных мельницы.
Из окон мельниц и ударили по ним пулемёты...
...Теперь, в низине, казаки сбредались к сотенным значкам. Вахмистры сотен и взводные урядники пересчитывали людей и коней. Сотенные командиры и младшие офицеры принимали от них доклады.
Врангель своего наблюдательного пункта — холмик в трёх десятках саженей от камышовой стенки берега — не покинул. Забыв про бинокль, тянул шею: пытался на взгляд определить потери... Немалые, чёрт возьми! Суетятся санитары с носилками, грузят убитых и укладывают раненых... Десятка три телег уже подогнали... Да гонят вон ещё две лазаретные линейки... Надо бы поторопить: скоро уж полдень, пора трубить сбор начальников отдельных частей. Так установил после первой неудачной атаки: дело разбирать до мелочей, выслушивать полковых и сотенных командиров, указывать на их ошибки.
Пристально глянул сверху на Топоркова.
Простой-то он простой, но язык прикусил вовремя. Впрочем, и без Топоркова прекрасно известно: недовольны казаки его назначением. Ропщут: своих, что ли, командиров мало?.. А Эрдели, любопытно знать, приняли за своего? Чисто кавказский тип, один горбатый нос чего стоит. Хотя гвардией за версту несёт. Так что вряд ли... Вот Топорков — определённо свой, хотя и забайкалец. Тем более не кадровый офицер, кончивший курс в училище, а за боевые заслуги произведённый из подхорунжих на Японской войне. Так что мужицкие манеры и речь вполне извинительны. Впрочем, они весьма часто встречаются у офицеров казачьих войск... Ишь, надулся и молчит. Сыч-сычом... Недоволен, по всему, не меньше станичников. Собой или им, командующим дивизией?
А что он может поделать, когда штаб армии не снабжает в должной мере огнеприпасами? Да ещё без телефонной связи и автомобиля... Как же на таком широком фронте — все 40 вёрст! — объезжать полки днём и ночью? На лошади не наскачешься... А как быть, когда из штаба какого-нибудь полка кровь из носа нужно связаться с начальниками других боевых участков? Вогнать в мыло летучую почту — не котильон[51] как-никак — много ума не надо...
Они что, Деникин с Романовским, издеваются?! Сами-то раскатывают по Красной улице в автомобилях! Ведь не просит же он невозможного: аэропланов и броневиков. Не просит и пополнений. Слава Богу, казаки ежедневно десятками являются из освобождённых станиц, с конями и оружием. Особенно много добровольцев дала Петропавловская. Но времена, когда можно было воевать без патронов, давно канули в Лету. Так что указания озаботиться захватом огнеприпасов противника «моменты», умники эти, пусть дают самим себе. Ведь это значит одно — жертвовать людьми без счёта. Всю Великую войну только этим и занимались. Известно, чем кончилось... Упадёт боевой дух у казаков — ни побед не добудет, ни дивизию за собой не сохранит.
Отвинтив крышечку фляжки, сделал несколько глотков: вода солоноватая — здешняя вся такая — и слишком тёплая, чтобы утолить жажду. Арбуза бы сейчас... По приказу станичного атамана натаскали полный дом арбузов, и теперь их блестящие чёрно-зелёные бока выглядывают откуда ни попадя, соблазняя скрытой внутри сладостной влагой... Нет, определённо раскормят его в этой Петропавловской — ни одна лошадь не выдержит. Копчёные гуси особенно хороши: нежные, сочные, душистые.
А сегодня, насипел Гаркуша — весьма сметлив и проворен оказался хорунжий, — ждут его в правлении старики: станичный сбор Петропавловской постановил подарить ему коня с седлом. Шашку кавказскую — кривую, вдеваемую в ножны вместе с эфесом по самую головку, как вот у Топоркова, только серебра побольше в отделке — уже поднесли в первый же день после освобождения. И крестным ходом встречали, и почётным стариком станицы выбрали. Побеждай он — почести были бы слаще арбузов, а так — позорище одно... Кстати, не забыть старую драгунку отправить с оказией Олесиньке на сохранение. Так оно вернее.
— Даю двое суток, чтобы оправиться. Хватит, Сергей Михайлович?
Глаз Топорков не поднял. Чего тут скажешь? Оправиться — в смысле расправить черкеску, подтянуть ремень и сбегать по малой нужде — и пары минут хватит... А вот в смысле привести в порядок — вычистить и подремонтировать коней, а казакам отмыться от въевшейся грязи, вшей передавить да выспаться — так и недели, по нынешнему состоянию, мало будет. Да разве ж начальство — хоть Эрдели, хоть Врангель, хоть кто — даст? Ну а сволочь красная не даст тем паче.
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
7 (20) сентября. Петропавловская
— Я им не задница какая-нибудь!
Жилистый кулак Врангеля с грохотом припечатал ворох телеграмм к столешнице. Подпрыгнула, зазвенев, не убранная после завтрака посуда. Остатки молока из свалившегося глиняного кувшина выплеснулись на цветастую клеёнку. В растворенном окне летней кухни показалась и тут же благоразумно исчезла вихрастая голова Гаркуши.
Остатки вчерашней злости, видно, ещё не выветрились, предположил Баумгартен. Но жалеть, что не повременил с докладом, не приходится: во-первых, телеграммы — «вне всякой очереди», а во-вторых, оперативная сводка штаба армии на 8 часов утра совершенно меняет дело. Нужно лишь переждать вспышку баронского гнева. И даже не замечать её.
Утопив взгляд в молочной лужице, полковник не видел ни ходуном ходящих тугих желваков, ни округлившихся искрящих глаз, ни размахивающих длинных рук.
— Ежели я не «первопоходник», так об меня можно ноги вытирать!? А части-то мои зачем позорить? Разве я могу им такое в приказе объявить?
В сводке живописались взятие «доблестными частями ген. Дроздовского» Армавира и «полное поражение» Армавирской группы противника. Вполне благожелательно говорилось о действиях Покровского и Боровского. А об очередной неудачной попытке их дивизии овладеть Михайловской сообщалось сухо и кратко. В приказе Деникина всем начальникам дивизий, кроме Врангеля, объявлялась благодарность и ставились новые задачи. Ему — прежняя, но с особым нажимом, чего раньше не было, на «всемерное ускорение». В личной телеграмме Романовский от себя добавил: в самом скором времени вернётся Эрдели и явится возможность «отдохнуть». Понимай как знаешь.
Временно командующий дивизией, конечно, понял по-своему: им недовольны и намекают на отрешение от должности. Каждый бы так понял, признал Баумгартен. Но далеко не у каждого такое обострённое самолюбие, как у барона Петра Врангеля. И такая вспыльчивость. Чуть не разнёс вдребезги ни в чём не повинный стол... Хотя есть чему посочувствовать: во вчерашней атаке 2-я бригада потеряла до трети состава, убитыми и ранеными выбыло до половины офицеров...
...Врангель и сам весь вчерашний вечер походил на тяжело раненного: худое лицо помертвело, губы едва разжимались, смотрел в одну точку. Разбор операции отменил.
Однако отменить постановление станичного сбора Михайловской было не в его власти. Приветливость, с какой встретил стариков, могла обмануть разве слепого. На подведённого кабардинца — хотя невысокого, но отличных форм, тёмно-гнедого, с чёрными гривой и хвостом, посёдланного казачьим седлом и со сбруей алого ремня — едва взглянул. Отобедать вместе, раз положено, стариков пригласил, но за столом сидел как чужой. И скоро удалился, сославшись на срочные дела.
Только к ночи пришёл в себя. Сосредоточенно, не перебивая, выслушал доклад Баумгартена и его аргументы: большевики часто не выдерживают глубоких охватов, впадают в панику, управление нарушается, самые нестойкие отряды самовольно покидают позиции... И после тяжёлого раздумья принял-таки его предложение: сосредоточить главную массу сил на левом фланге, нанести удар в обход Михайловской с востока и тем побудить группу противника к отходу. В операции могла участвовать только 1-я бригада: 2-й требовалось не меньше трёх суток, чтобы оправиться.
Оперативный приказ составили вместе с вызванным срочно Науменко: ему выполнять. Тактической смётки и упорства, как быстро убедился Врангель, у того обнаружилось куда меньше, чем умения нравиться. А потому пришлось разбираться в путанице свежих сводок разведки о противнике, обговаривать меры по обеспечению скрытности и надёжной связи летучей почтой, продумывать возможные варианты развития операции. Командир бригады всё тщательно записывал в полевую книжку.
За папиросами ни Баумгартен, ни Науменко ни разу не потянулись даже машинально: разрешения у некурящего барона, как сразу поняли в штабе, лучше не спрашивать. Остатки кофе из блестящей жестяной банки «Жорж Борман» сразу выскребли до дна, так что со сном пришлось бороться с помощью арбузов. Животы набили под самое горло — ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Проводили Науменко, когда уж заголосили первые петухи. И долго ещё бегали в дальний угол атаманского сада, в скрипучую деревянную уборную, по очереди... Бдительные собаки даже устали лаять.
Потому и поднялись поздно. Завтрак приказали накрыть на воздухе. Совсем лёгкий: молоко, творог и оладьи...
...Баумгартен проснулся разбитым. Горло не саднило, нос не прохудился, так что оставалось грешить на арбузы... Вдруг стало слегка познабливать, заслезились глаза. По обескровленным до меловой белизны щекам пот проложил влажные дорожки.., С трудом заставляя себя сосредоточиться на словах командующего, извлёк из бокового кармана мундира серебряные часы петербургской фирмы «Николай Линден». Пальцы слушались плохо. Десятый уже. По времени, Науменко должен начать...
— А почему из Ставрополя отправлены?
Гневного звона в голосе барона, похоже, поубавилось.
Ответил не без натуги:
— Деникин с полевым штабом отбыл на фронт. Во Вторую дивизию Боровского, как я понимаю...
— Нет бы к нам заехать! Полюбовался бы, до какой степени дивизию измотал. Да огнеприпасов бы привёз. Не-ет, тут определённо интриги... Кто-то против меня настраивает. Но я этого безобразия терпеть не стану...
Баумгартен тревожно прислушивался к себе: черепная коробка быстро наливалась тупой болью, руки и ноги слабели. Яркость солнечных пятен, шевелящихся на клеёнке, широкой резной скамейке и отштукатуренной стене, стала невыносима. Подняться из-за стола и пройти в дом — совсем невмоготу... А потому не стоит тратить силы на попытки урезонить «Пипера». Всем, кому довелось узнать его, слишком хорошо известно: мгновенно вспыхивает, мгновенно и гаснет. И не разберёшь, когда от сердца все эти бури, а когда от головы. Сам как-то сразу к ним приспособился. Перестало коробить и кидаемое презрительно слово «момент»... Хотя Романовский, даже при всей его невозмутимости — скорее всего, чисто внешней, — вряд ли будет долго терпеть такое.
— Только не надо ссориться со штабом, Пётр Николаевич...
— Вот чего никогда не боялся, так это ссориться с «моментами» ради пользы дела. На мне ведь ответственность за казаков. Ведь мне, а не им, вести их в бой... И без того казаки, сам говоришь, недовольны моим назначением... Почему же их доблесть должна идти псу под хвост из-за интриг штабных бездарей? Наш участок — самый большой, противник — самый сильный, дивизия измотана вконец, потери огромные... И хоть бы одну благодарность объявили! Тем более раз огнеприпасов доставить не могут...
По спине и ногам Баумгартена пробежала леденящая волна озноба. Страстные слова командующего загудели в ушах, как в порожней бочке...
— Вот что, Александр, ответить Романовскому нужно так...
Врангель, поостыв, заметил наконец, что начальник штаба не в себе. Не успел выспаться? Живот так расстроился? Да нет, как бы не хуже: бледный как смерть.
— Ты что, Александр? Нездоровится?
— Температура, кажется...
— Ну так померь и выпей аспирину.
— Если б ещё они у нас были, термометр и аспирин...
8 (21) сентября. Петропавловская
— Миром Господу помо-олимся-а-а.
— Го-осподи, поми-илу-уй... — Голосистый хор из дюжины казачек ладно поддержал возглашение.
К душным ароматам ладана и горящего лампадного масла густо примешались терпкие запахи, источаемые кожей чувяк и ремней, овчиной снятых папах и сукном черкесок, обильно пропитанным потом. Просторную Петропавловскую церковь, оштукатуренную и побелённую, плотно забили казаки. Женщины стоят позади мужчин. Вырядились, как на праздник: шёлковые и кашемировые платки, шерстяные кофты и юбки — самых ярких цветов. Малые дети держатся у подолов и ведут себя смирно. Взрослые сосредоточенно крестятся. Иные, опустившись на колени, истово припадают лбом к каменным плитам. Молоденький дьякон с жиденькой светлой бородкой читает Великую ектению певуче и с необычайным вдохновением. Голос чистый и высокий, почти девичий.
— Господи, поми-илу-уй...
...Не раз атаман принимался за общим столом расписывать красоту станичного храма, выстроенного в аккурат перед Великой войной вместо вовсе обветшавшей деревянной церкви. И нахваливать задушевное чтение дьякона, который теперь служит за всех: и за обоих священников, убитых большевиками, и за псаломщика, сбежавшего с этими христопродавцами. Убили за отпевание расстрелянных казаков, коих сами выбросили на свалочное место и запретили, ироды, хоронить по-людски... Пока, наконец, прямо не пригласил Врангеля посетить службу.
Пронырливый Гаркуша — к нему вернулся голос, оказавшийся зычным и весёлым, — один на один внёс ясность: казаки петропавловские гадают, отчего это начальство не заходит в храм Божий, а на иных и вовсе сомнение напало, православный ли, коль фамилия нерусская.
Возмутился про себя Врангель... До чего всё-таки дремучий народ, эти казаки! Но, поразмыслив, признал своё упущение. Что правда, то правда: работает как лошадь, замотался по фронту и не сообразил сразу, как важна популярность не только в частях, но и среди населения. Тут одним молебном по случаю освобождения станицы от большевистского ига не отделаешься. И, кстати, добрым отношением попов пренебрегать тоже не следует: газеты сюда теперь не доходят, одни только проповеди и могут очистить мозги и души от большевистской заразы, указать священные цели борьбы и новых вождей... Ведь именно эти люди, простые и необразованные, но здоровые духом и верные традициям дедов, за Великую войну принесли немалые жертвы ради России, а теперь благословили своих сынов на борьбу с большевиками. Снарядили за свой счёт, дали коней и отправили в его дивизию. Доверили ему их жизни.
Слава Богу, в дневное время, когда дьякон отпевает погибших, пропадает на позициях: ходить на отпевания было бы совсем невмоготу. С детства, со смерти брата Всеволода, не переносит отпеваний и панихид.
Прийти на субботнюю всенощную, сокращённую до будничной вечерни, время нашлось. Хоть не успел к началу, но, сразу расступившись, ему и штабным освободили место перед самым амвоном...
...Смиренность богослужения и строгие взгляды святых, устремлённые на него с недописанного иконостаса, умерили негодование и осадили злую обиду. Захотелось думать о чём-нибудь добром и светлом. О детках... Как они там в Ялте? А вдруг большевики всё же вернутся в Крым? Не дай Бог! Имя его — начальника дивизии в Добровольческой армии — наверняка уже известно этой сволочи...
Добрые мысли посещали, но не задерживались.
Мрачные, темнее икон, лица казаков, наполненные слезами бабьи глаза и тихая, какая-то загробная, печаль стариков заставляли думать об ином...
Ничего из флангового удара не вышло. Бригада Науменко, обойдя с востока балку Глубокая, сбила малочисленные заслоны «товарищей» и бросилась в тыл Михайловской. Не встретив сопротивления, достигла железнодорожной ветки Армавир — Туапсе, пересекла её у станции Андрей-Дмитриевка и устремилась к правому берегу Лабы, оказавшись в ближайшем тылу Михайловской группы. Но даже этот успех его конницы не побудил большевиков начать отход. Лишь загнули сбой правый фланг, а затем, подтянув бронепоезд, два броневика и пехоту, перешли в наступление. Науменко — во избежание, как сам объяснил, лишних потерь — предпочёл в бой не ввязываться и отвёл бригаду на исходные позиции.
Единственным успехом — впрочем, немалым — можно считать захват обоза, где нашлись винтовочные и артиллерийские патроны.
Да бригадные разведчики успели опросить жителей и ещё, пока их не порубили казаки, нескольких пленных из местных иногородних. Как выяснилось, «главковерха» Сорокина с его штабом давно уже нет в Михайловской: 4 сентября, по-большевистски — 17-го, приказал всем частям отходить на юго-восток, к Невиномысской, и исчез. Какие-то пехотные «колонны» из состава Михайловской группы снялись и ушли. Как и группа какого-то «товарища» Жлобы численностью до 20-ти тысяч: оголила фронт под Армавиром и направилась неизвестно куда. Понятно теперь, почему Дроздовскому так легко удалось взять город. И другое понятно: основные силы Армавирской группы, вопреки победным сводкам штаба армии, не разгромлены.
А тем временем из Туапсе в район Михайловская — Дондуковская подошла Таманская группа. Сами большевики называют её Таманской армией. Отрезанная от главных сил Сорокина по занятии добровольцами Екатеринодара, она двинулась на юг, на Новороссийск, от него берегом Чёрного моря дошла до Туапсе, а оттуда, повернув на северо-восток, перебралась через Кавказские горы и устремилась по шоссе на Майкоп. Покровский, как ни требовал Деникин окружить её и уничтожить, дал ей благополучно выйти к Лабе и соединиться с главными силами.
В итоге численность врага перед фронтом его дивизии удвоилась, а то и утроилась: теперь она составляет 25—30 тысяч.
Первые же бои с таманцами преподнесли неприятный сюрприз: дерутся с исключительным упорством, а управление поставлено хорошо. Почему — и гадать нет нужды: армия их состоит из иногородних, что проживают в богатых причерноморских станицах и люто ненавидят казаков, и почти все они — фронтовики... И на митингах части будто бы потребовали от командования перехода в наступление — отвоевать Кубань и восстановить в крае власть совдепов.
Кто они такие, командование это самое, и что оно решило — неизвестно. Михайловской группой какой-то «товарищ» Кочергин командует. Ну, с этим, по крайней мере, ясно одно: не немец и не еврей. А Таманской группой кто? «Товарищ» Матвеев[52] или «товарищ» Ковтюх[53]? И каковы их отношения с «главковерхом» Сорокиным, ежели нет ни малейших признаков, что они намерены выполнить его приказ об отходе?
А штаб Романовского ни черта не знает! В разведсводках — сплошь базарные слухи. Теперь будут знать: дивизионная разведка включила добытые сведения в утреннюю сводку и та уже отправлена в Екатеринодар. По крайней мере, должна быть.
Как бы штабная работа, налаженная Баумгартеном, не дала сбой без него. Рогов недурно расхлёбывает канцелярскую кашу, но в оперативных вопросах — сущий жеребёнок... А Александр, увы, слёг надолго. Вызванный вчера вечером из летучки врач, прямо чеховский тип, определил испанку[54] и запретил даже заходить в комнату больного. Вот беда!
Ежели верить медикусу, скоро вся дивизия окажется в лазарете: из-за испанки, малярии и тифов, брюшного и сыпного, из строя ежедневно выбывают десятки. Причин для распространения заразных болезней предостаточно: люди изнурены, выкупаться негде и некогда, в жилых помещениях ужасная скученность, кругом мириады комаров, и кусают, сволочи, немилосердно... Даже арбузы с дынями боком вышли: в нынешнем году их уродилась масса, но работать в поле вдоль линии фронта опасно, и хозяева свои бахчи забросили, вот казаки и объедаются до кровавого поноса... Главная же причина — непригодная для питья вода. Не только в неглубоких колодцах, что вырыты у дорог в степи, но и в артезианских, станичных, она хотя и чистая, но какая-то солоноватая. Чаще же пьют из пересыхающих речек и ериков — застоявшуюся и отдающую гнилью. Особенно много заболевших в 1-м Екатеринодарском и Корниловском конном полках, занимающих позиции вдоль балки Глубокой.
Удивительно, как сам ещё не свалился: ведь ту же воду пьёт, мотается как заведённый и спит не больше трёх-четырёх часов. Может, спасает кормление на убой? Господи, помилуй и не дай заболеть... Случись такая напасть — наверняка снимут с дивизии: под благовидным предлогом лечения.
А как не мотаться с одного участка на другой? Дивизия работает на огромном фронте. И пришлось раздёргать её не на бригады даже, а на полки. В итоге они сплошь и рядом действуют совершенно разрозненно... Ещё страшнее другое: сам он лично от боя далеко, имеет только общее руководство, что называется «от стола». Как будто он не строевой начальник, а последний «момент»... Вторая неделя пошла, как он в дивизии, а ещё не всем полкам нашёл время смотр сделать и не все казаки в лицо его видели. Но самое страшное — ни разу не водил людей в атаку. Вот позорище!
Сказано же в Строевом кавалерийском уставе: «Личность начальника имеет в коннице первостепенное значение». Ему надо в бою командовать, а не наезжать в части время от времени «на гастроли» — выступать перед строем и беседовать с офицерами на манер «главноуговаривающего» Керенского...
Дивизия должна не просто побеждать, но побеждать благодаря именно его навыкам быстро и хладнокровно разбираться в обстановке. Именно его находчивости и способности решаться на самые смелые предприятия и приводить их в исполнение. Именно его твёрдой воле и умению передать всем подчинённым, от командиров полков до каждого рядового казака, непоколебимую решимость сойтись с противником грудь с грудью, смять его конём и зарубить. И благодаря его храбрости в атаке. Личной храбрости, чёрт возьми!
Только тогда он станет для казаков богом. Только после этого — и никак не раньше! — он сможет приказывать им всё, что угодно. Уж в этом-то отношении он казаков за Японскую и Великую войны изучил предостаточно.
И ведь можно бы уже. Обзавёлся лошадью с казачьим седлом и кривой кавказской шашкой. Испокон веку вооружены такими кубанцы. Удачно, старую драгунку, с которой так много связано славных дел, отправил с оказией Олесиньке на сохранение. Дело стало за обмундированием: нужны папаха, черкеска, бешмет, чувеки... Что б никакой фуражки и никаких сапог со шпорами! Да, ещё кинжал кавказский, с серебряной отделкой. Такой кинжал может дорого стать...
Спасибо Александру: разбирается в людях и обстоятельствах. И тактичен, и убедить умеет. Объяснил между делом, как важно переобмундироваться на казачий манер. Не для себя — для казаков... И тем, кстати, показал, что воспринимает его не как временно командующего, а как начальника дивизии. А уж утверждение в должности — вопрос формальный и решится в ближайшие дни. Всё-таки исключительно повезло с начальником штаба. Поскорее бы только встал с постели.
И поскорее бы собрать, хотя бы с эскадрон, офицеров регулярной кавалерии. Первых, только что вступивших в Добровольческую армию, штаб уже прислал. Почти все они служили в Ингерманландском гусарском полку. Среди них обнаружился и корнет князь Голицын, кавалергард, младший брат старого товарища по гвардии, расстрелянного большевиками в Киеве... Назначать их в строй — глупо: казаки не примут и в бою подведут... Только погибнут зря. Самое умное — подержать при себе, поберечь... Поначалу хотя бы ординарческий взвод из них сформировать. Лишь бы не унижаться перед Романовским и Сальниковым: не хлопотать о введении новых должностей в штабе...
— ...Ещё молимся о Богохранимой стране-е нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживё-ём во всяком благочестии и чистоте-е.
— Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй...
Перекрестился машинально. Огляделся исподволь: всё больше старики. Молодых — на благодарственном молебне по случаю освобождения их было предостаточно — почти нет. И лица не такие просветлённые, как тогда. Нет той радости и воодушевления. А чего же вы хотели, господа казаки? За избавление от большевистского ига платить приходится дорого... Не только зерном, фуражом и лошадьми, но и жизнями...
И совсем не видать хохлов. Ни в храме, ни на улице — ни одного чёрного картуза с лакированным козырьком, ни одной цветной атласной рубахи, ни одной пары сапог... А ведь из полутора десятков тысяч жителей Петропавловской иногородних — больше половины. Кто не отступил с большевиками и кому посчастливилось спастись от казачьих пуль и шашек, прячутся по домам. Ежели дома не сожжены, конечно... Боятся мести казаков. Ещё бы... Станичное правление усердствует будь здоров: ежедневно выносит смертные приговоры за причастность к большевизму и тут же решает арестовать ещё кого-то. Каземат при правлении забит под завязку... А атаман за ужином все списки подсовывает, кого комендантской команде следует арестовать, а кого расстрелять. Никакой уверенности в справедливости этих приговоров нет... Но нет и нормальных судов. А тыл от враждебных элементов очищать надо, и самочинный станичный суд, как ни крути, в любом случае лучше самосуда толпы. Так что хочешь не хочешь, а приходится приказывать.
Понятно, почему петропавловские казаки особенно лютуют: совесть очищают. Ведь сам «главковерх» Сорокин — коренной казак этой станицы. Из хорошей, говорят, семьи. Окончил в Екатеринодаре военно-фельдшерскую школу и за войну дослужился до сотника. И родни у него тут до чёрта. Даже помощник станичного атамана — его младший брат. Станичниками избран, хотя в чине приказного всего-навсего. Докладывают, ужасно услужливый и много помогает полкам в доставке довольствия и фуража...
В общем, авторитет у станичников Сорокин имеет немалый. Потому-то и ушли с ним не только хохлы, но и немало часть молодых казаков, что явились по его приказу о мобилизации. И теперь — пожаловался атаман, а Гаркуша подтвердил — на гумнах и во дворах много хлеба брошено необмолоченным, от дождей уже пророс новыми побегами. Пришлось, как подсказал младший брат «главковерха», через станичный сбор распорядиться обмолотить его на долевых началах: одна доля в пользу работавших, другая — в пользу станицы. Последняя и пойдёт на снабжение дивизии...
Так что сотник Сорокин, которого в штабе армии презрительно именуют «фельдшером», немало ещё хлопот доставит. Умно поступают дивизионные разведчики, что все бумаги и слухи о нём собирают: перетряхнули дом и станичное правление, опрашивают бывших сослуживцев, соседей и всех, кто близко знал его. У Баумгартена папка целая образовалась... Не забыть, кстати, свечку поставить во здравие раба Божия Александра.
Только как бы не опоздал с выздоровлением: отношения с «моментами» из штаба армии обострились до крайности... Хотя за рамки приличия ещё не вышли. Но телеграммы, присылаемые из Екатеринодара Романовским и Сальниковым, так и дышат сомнениями в его способности командовать... Кто же задаёт этот тон? Сам Романовский? Или Сальников? Или некто, кто претендовал на должность начальника 1-й конной, кого он обошёл? Так или иначе, интриг теперь не оберёшься... Что же там у них творится, в штабе армии? Может, попросить Олесиньку справиться у Апрелева, что там и как? Умная мысль.
Возможно, Романовский уже жалеет, что дал ему дивизию. И ежели верно, что тот играет первую скрипку, не видать ему утверждения как своих ушей.
Но раз так, тем более нет нужды скрывать своё недовольство работой екатеринодарских «моментов». Не страшно, что и злость порой прорывается. Почём знать, может быть злость, стала для него лучшим лекарством против всякой дряни — тифа, инфлуэнции, малярии...
Но ежели так пойдёт дальше, ему ничего не останется, как разом покончить со всем этим и отчислиться в резерв. Вернее, в распоряжение любимой Кискиски... И никто не посмеет его упрекнуть!
Да, но стоит ли тогда тратиться на казачье обмундирование? Ведь обойдётся оно не дёшево. Здесь, в Петропавловской, говорил Александр, можно купить только сукно для черкески и козлиную шкуру для пары чувек. На Михайловскую надежды никакой: большевики наверняка разграбили все лавки. Ничего не остаётся, как покупать остальное в Екатеринодаре, где цены сумасшедшие. Да и не всё есть: вот ножей для бритвы «Жиллетт» Олесинька никак не может найти. Бриться приходится чёрт-те чем... Хорошо, бельё из старых запасов прислала. А сколько может стоить тонкая хлопчатобумажная ткань для бешметов? А лучше — шёлк... А ещё ведь за шитьё платить. Что-то, правда, Олесинька и сама может пошить...
Оля... Олеся... Олесинька... Кискиска любимая... Как же одиноко и тоскливо без тебя! Хоть волком вой.
Каждый раз, погружаясь в сон, видит её, чувствует прикосновения, слышит голос... Пробуждается — первая мысль о ней. Остаётся один — говорит только с ней, про себя, а то, бывает, и вслух... Благо наладил полевую почту: теперь можно хоть в письмах отводить душу. Да разве в письмах всё скажешь! Слетать бы к ней хоть на денёк...
А не устроить ли её в дивизионную летучку? Чтобы всё время была рядом... Но к чему мечтать об этом, раз неизвестно, сколько он сам пробудет в дивизии?
Тогда, может быть, ей приехать пока частным лицом?.. Или всё же лучше в летучку, ежели считать по деньгам?
Хотя он и временно командующий, но жалованье ему положено по должности начальника дивизии — 800 рублей. А ещё столовые, квартирные и прочие. Верно, набежит больше тысячи. Какими ещё будут выдавать — вот вопрос. Романовскими или «керенками»? Или «ермаками»[55], что печатает сейчас в Ростове атаман Краснов?.. Но цены в Екатеринодаре такие, что этих денег едва хватит на питание семьи. Фунт печёного белого хлеба, пишет Олеся, стоит уже 18 рублей. Совсем рехнулись торгаши! Это ж в два раза больше, чем в начале года... Придётся передавать с надёжными людьми не меньше 600, а то и 700 рублей. Ей едва хватит. О том, чтобы пересылать хоть сколько-нибудь тёще в Ялту, на шею которой они повесили троих детей, и речи нет... Как пошлёшь? Сомнительно, чтобы почтово-телеграфные конторы начали принимать переводы в Крым. Да и кому там нужны самодельные красновские «ермаки»?.. И в Екатеринодаре, оказывается, они ходят дешевле даже керенок. Не дай Бог, ими будут жалованье платить... Хорошо, хоть квартира за казённый счёт. Кстати, похлопотать бы о переезде куда получше.
Так, может, всё же поскорее устроиться ей в летучку? Вряд ли там платят больше 100—150 рублей. Надо узнать точно и посчитать, что лучше по деньгам: остаться ей в Екатеринодаре и жить на его жалованье или приехать к нему и работать в летучке. Всё же здесь стол бесплатный. Да ещё какой стол! Придётся, правда, в церковь чаще ходить: сама регулярно посещает службы и его за собой таскает... Даже к каждой всенощной придётся. А он-то теперь что ни ночь, так после первых петухов, еле живой, дотаскивает ноги до кровати...
Но это — ежели останется. А каковы, любопытно знать, оклады в резерве? Вряд ли даже на пропитание хватит. Разве только на хлеб с молоком. Не будет ни окороков, ни вяленой рыбы, ни копчёных гусей...
Всю жизнь, сколько помнит, аппетит был волчий. Но как ни объедался, всё оставался худым. «Кощей ты мой Бессмертный», — любит поговаривать Олесинька... Впрочем, хлебосольство Михайловской уже встало поперёк горла. Чрево-то блаженствует, а вот на душе всё тяжелее и тоскливее. Ей, как голодному волку, на месте не сидится, её тянет дальше и дальше... А дальше — другие станицы. Но и в тех нельзя задерживаться: его ждут стонущие под большевистским игом русские города. Царицын, Москва, Петербург... И многие другие, через которые пройдёт победный путь его конницы.
— ...И не введи нас во искуше-ение, но избави нас от лука-авого...
Выйдя по окончании службы на неширокую паперть, глубоко вдохнул вечерний воздух, освежённый только что пролившимся дождём. По видимости, мелкий был: даже не услышал и лужицы почти уже высохли. Ноздри защекотал острый запах увлажнённой пыли.
Потускневшее солнце, погружаясь в размазанные по горизонту тучи, подкрасило тревожной краснотой белый златоглавый храм, каменные дома вокруг — почти городские, крытые где железом, где черепицей — и высокие светло-зелёные пирамиды тополей.
Проходя через фруктовый сад в жилую пристройку — поблагодарить дьякона и попрощаться, — заметил несколько свежеструганых гробов, аккуратно уложенных между задней стеной храма и железной оградой. Не иначе, решил, загодя сколотили казаки. Ничего не скажешь — хозяйственный народ...
11 (24) сентября. Петропавловская
Её Превосходительству баронессе Ольге Михайловне Врангель
Дорогая Олесинька,
Всё время ведём бои — части совсем измотались. Со стороны штаба помощи никакой, бездарные указания и интриги. Если бы не такое время, то плюнул бы на всё и отчислился бы в резерв, — до окончания операции не имею нравственного права это сделать. Постарайся повидать Апрелева и узнай, что у них творится. Пришли мне ножи для бритвы «Жиллетт» и бумаги с конвертами. Обнимаю нежно, да хранит Тебя Бог. Люблю нежно.
Петруша
14 (27) сентября. Петропавловская
На фронте дивизии установилось нудное затишье.
А настроение Врангеля под вечер скакнуло вверх: штаб армии сподобился-таки прислать ему автомобиль — «Руссо-Балт» 1911 года.
Неизвестно у кого реквизированный, маленький и серо-коричневый, как майский жук, разбитый весь, но колёса крутятся и фонари светят. Вот только шины — рижского завода «Проводник» — старые: истёрлись и потеряли первозданный красный цвет. Запасных же всего две. И бензина кот наплакал: не больше трёх пудов в поржавевшей бочке. Одна надежда, казаки на какой-нибудь станции цистерну прихватят.
По всему, добро, как и худо с бедою, в одиночку не ходит: с шофёром передали посылку от Олеси, а в ней наконец-то — ножи для бритвы «Жиллетт». А то все щёки уже изрезал какой-то допотопной бритвой с клеймом «Эд. Брабец» на выщербленной костяной ручке: Гаркуша купил на станичном базаре аж за 15 рублей... А ещё почтовая бумага, конверты, трикотажное и батистовое бельё. А главное — письмо, а в нём много-много нежных слов...
Станичный атаман охотно уступил свой кабинет, простотой обстановки больше похожий на полковую канцелярию. Керосину снабженцы раздобыли, и «Космос» теперь вовсю сиял посреди однотумбового письменного стола. Так что письмо жены мог читать и перечитывать, не напрягая воспалённых от постоянного недосыпа глаз.
Среди почты — вот уж чего не ожидал — нашлось и письмо от Эрдели... Оказывается, тот уже в Екатеринодаре.
Читал, затаив дыхание. Взгляд торопливо перескакивал через строчки.
Очень любезное письмо. Даже слишком... 16-го или 17-го приедет в дивизию... Подменит и даст отдохнуть... Но не надолго, ибо скоро получит другое назначение... А тебя, друг мой Пипер, утверждают в должности, с чем и спешу от всей души поздравить...
Ладони вмиг повлажнели. По телу разлился жар, и застучало в висках. Перечёл внимательнее.
А как это «скоро»? И почему он узнает о своём утверждении от Эрдели?! Из частного письма! Почему не Романовский сообщил официально? Или Сальников, на худой конец... Недостойный намёк сделать или в шею подтолкнуть — за ними не задержится. Полагают, верно, он в ножки им упадёт... Ещё чего не хватало! Раз утверждают — значит, оценили. Значит, поняли, что без него не обойдутся. А раз так — он поставит свои условия. Перво-наперво, чтоб дивизию снабжали как положено. Сообразно с масштабом и активностью боевых действий...
Радость и злость нахлынули одновременно. Под их напором схватился за ручку. Перо стремительно прыгало с конца фиолетовой строки в стеклянную чернильницу и обратно... Опрокинул бы давно, не будь она прикреплена к тяжёлой металлической подставке. Не терпелось выговориться...
Дорогая моя Киська,
Спасибо за бритвы, бумагу и бельё. Вот 2 недели, как я здесь, всё это время дерёмся ежедневно, имея перед собой противника в 10раз многочисленнее и крайне упорного. Задачи Штабом Армии ставятся всё время непосильные, во всём недостаток, и всё же части дерутся отлично. Моё направление особенно неблагодарно, потери дивизии весьма высоки, и бои последних дней выбили всех командиров полков и б. часть сотенных командиров (в Корниловском полку двойной комплект — 12 командиров сотен). Дивизия работает на огромном фронте — жаль, я лишь имею общее руководство и лично от боя далёк. Тяжело морально, огромная ответственность, неблагодарная задача и в то же время самое недостойное, обидное для частей отношение Штаба Армии, ни слова благодарности, постоянное недоверие. Кто задаёт этот тон, не знает, что на духе войск он не может не отразиться. Несмотря на все трудности, думаю, с помощью Божьей, скоро операция закончится, и я буду иметь возможность слетать к Тебе. От Эрдели получил Любезное письмо, сообщает, что 16—17 приедет и освободит меня, но не надолго, ибо получает другое назначение, а я утверждаюсь в должности. Однако последнее — вопрос, я поставлю свои условия, требования отношений иных, нежели существующие ныне, и думаю, что отчислюсь в результате снова в резерв и в твоё, Киська, распоряжение.
Здесь есть летучка, очень симпатичные 2 сестры — какая-то Звегинцова и бар. Пильц, попасть в летучку тебе крайне легко, но до решения вопроса о том, останусь ли я здесь, не стоит, тем более что 80%, что наплюю на всё и уйду.
Пока кончаю...
В который уже раз отдав чернила бумаге, перо сухо царапнуло и замерло... Спал жар, утихомирились виски. В нос ударил едкий запах пота от нательной рубахи. Вчера ведь ещё собирался отдать постирать... А с чего, собственно, ты так расчувствовался, Петруша? С чего воспрянул духом?.. Вряд ли что изменится к лучшему в отношениях с «моментами». Так, может, пока не поздно, действительно послать всё к чёрту?
Или всё-таки устроить Олесю в летучку? Нет, пока не решён вопрос, останется ли он здесь, не стоит... Не 80, пожалуй, процентов, а все 99 за то, что плюнет на это безобразие и отчислится в резерв, в распоряжение командующего. Вернётся к любимой и единственной... Что она там сейчас поделывает? Готовится ко сну? Или спит уже? Время к полуночи... Когда были вместе — в Петербурге ли, на фронте — никогда не ложилась без него. Ждала...
Стук в дверь вернул Врангеля в кабинет станичного атамана.
Похоже на Гаркушу: вкрадчивый стук, но настойчивый. Поторопился, возможно, но вчера подписал приказ о назначении его ординарцем. Это на бумаге. На деле же — для выполнения обязанностей личного адъютанта. В штатном расписании дивизии таковой должности нет, а хлопотать о её введении — перед «моментами» не нашаркаешься...
Позволил войти.
— Сводки, ваше превосходительство. Не дуже и припозднились.
Глянув в оживлённые смешинкой зелёные глаза, одобрил свой выбор. Выбирать, впрочем, особенно было не из кого... Но хватит пока и того, что кубанец одинаково скор на ноги, на руки и на язык. И горбатый свои нос сует только туда, куда положено. Одно плохо: больно уж любитель на кухне повертеться. Ну, не самый большой грех... Главное, весь он — улыбчивым лицом, задорностью и сметливостью — настроение поднимает. Опрятен и надлежащий вид принял без подсказок: волосы, отросшие и выгоревшие до соломы, остриг, видавшую виды серую полевую черкеску сменил на чёрную парадную, застиранный чёрный бешмет — на ещё не ношеный алый, серебристые погоны и головки никелированных газырей блестят как новенькие... Вот, кстати, кто поможет переобмундироваться для казаков.
— Не в службу, а в дружбу, Василий... Генеральского погона Кубанского войска не найдёшь одного? Мягкий нужен, для черкески...
— Як же не найти... — В голосе новоиспечённого адъютанта удивление смешалось с обидой. — Дык отчего ж одного-то?
— Для образца. Жене пошлю, чтоб заказала. А сукно в станицах можно купить?
— Черкеску вам построить? — Загорелое до меди лицо Гаркуши озарилось радостной догадкой. — А як же! Дачку[56] добрую и сыщу.
— Подешевле только.
— Пошукаю подешевше, ваше превосходительство. И портные в станицах на все руки: утром мерку сымут, а вечером — пожалте примерять. — Воодушевление и жажда услужить так и попёрли из хорунжего.
— Дорого берут?
— Та сторгуюсь, будьте покойны.
— А где купить козлиную кожу для чувек?
— Чувяк, ваше превосходительство, — поправил, потупившись, Гаркуша. — Виноват... Найду и козла, и кто чувяки с ноговицами быстро построит. Кожаные ноговицы желаете чи суконные?
— Какие удобнее и дешевле.
— Слушаюсь. И курпеев на папаху бачил у скорняка тутешнего. И белых, и серых, и чёрных... Тильки сбегать.
— Цену прежде спроси.
— Та будьте покойны, ваше превосходительство. И шапошник добрый есть в обозе...
— Осади пока. Дай сначала жалованье получить.
— Слушаюсь.
Задержка в таком важном деле озадачила и расстроила Гаркушу, но только на миг.
— А как насчёт повечерить?
— Ужин отставить. После обеда ещё в себя не приду...
— Прикажете хочь кавун взрезать?
— Отставить, сказал.
— Виноват.
— Начальник штаба как себя чувствует?
— Совсем худо ему... — Воодушевление Гаркуши мгновенно сменилось озабоченностью. — Доктор зараз на его половине.
— Расспроси подробно. Может, лекарства какие нужны. Попрошу жену найти в Екатеринодаре и прислать.
— Слушаюсь. — Хорунжий поправил и без того аккуратный чуб. — А на завтрак чего? Як вы прикажете?
— Молока парного.
— И всё? Плотнее, чай, завтракать нужно, ваше превосходительство. На целый день ведь... Может, ещё чего? На кухне дуже интересуются.
— Ты давай-ка пореже наведывайся на эту самую кухню. А то обратно в строй переведу. Мне Санчо Пансо не нужен.
— А шо воно такэ?
— Кругом марш!
— Слушаюсь, ваше превосходительство... — Живо прикрытая дверь обрезала грустный вздох Гаркуши.
Оставшись один, Врангель углубился в сводки. Лучше бы они «припозднились»...
Два дня противник — предположительно, части Таманской группы — при поддержке сильного артиллерийского огня вёл упорные атаки Армавира, постепенно охватывая позиции 3-й дивизии. И позавчерашней ночью Дроздовский отошёл в Прочноокопскую, отдав левый берег Кубани. Переброшенный по железной дороге из Екатеринодара отряд полковника Тимановского попытался вчера атаковать Армавир, но неудачно... Покровский, напротив, добился позиционного успеха: тесня Майкопскую группу, на всём 40-вёрстном фронте своей дивизии вышел к Лабе и местами даже переправился на правый берег.
В дальнейшее его продвижение не верилось: Майкопская группа «товарищей» теперь, после взятия Армавира, наверняка будет усилена за счёт переброски частей из Таманской.
А он-то ждал их быстрого продвижения в обход Михайловской группы. Рассчитывал, что угроза полного окружения вынудит её, ослабленную беспрерывными атаками его конницы, оставить укреплённые позиции. Не тут-то было. Ну, Петруша, жди, когда рак на кургане свистнет...
— Позвольте войти, ваше превосходительство? Постучать Гаркуша постучал, но вошёл, кажется, раньше, чем получил разрешение. Обычную озорную весёлость как корова языком слизнула, взгляд и голос потухли.
— Козлом для чувяк с понедилока станут дёшево торговать в войсковой потребительской лавке в Катеринодаре. Вот, значит... А у полковника Баумгартена сыпняк оказался. Так что доктор говорит, треба в госпиталь везти. И не тянуть резину...
Леденящее осознание беды пришло не сразу. Опередила не в меру прыткая досада: ни версты ещё не проехал, ни шин новых с бензином снабженцы не раздобыли, а уж гони автомобиль обратно...
15 (28) сентября. Петропавловская
Её Превосходительству баронессе Ольге Михайловне Врангель
Дорогая Киська,
Вчера писал длинно и подробно, а потому сегодня пишу лишь несколько слов. Это письмо везёт сестра из летучки Звегинцова, жена офицера-артиллериста дивизии: она сопровождает начальника Штаба дивизии полковника Баумгартена, тяжело заболевшего тифом. Помоги его устроить. От неё узнаешь подробности про летучку. Пока ни в коем случае не устраивайся в летучку, ибо я, повторяю, едва ли останусь. Надеюсь, повторяю, быть у Тебя. Пока нежно обнимаю, да хранит Тебя Бог.
Петруша
16 (29) сентября. Петропавловская
Её Превосходительству баронессе Ольге Михайловне Врангель
Дорогая Киська!
Эрдели сообщил, что будет подмена, и я, следовательно, скоро буду иметь возможность Тебя, вероятно, навестить. Посылаю это письмо с моим ординарцем князем Голицыным. Очень прошу Тебя по размеру посылаемого погона заказать мне и прислать первой же оказией две пары генеральских погон Кубанского войска (серебро с красным ), мягких, для черкески. Купи также на две пары чувек козла, как я слышал, с понедельника будут продавать дёшево в потребительской лавке Екатеринодара. Надо переобмундироваться для казаков, но теперь ничего не достать. Матерью для черкески надеюсь разыскать здесь.
Нового ничего, сидим на месте. Мой начальник Штаба заболел тифом, просит о назначении на его место полк. Нелидова из штаба Армии или Апрелева.
Понемногу прибывают офицеры регулярной кавалерии, чему я очень рад. Пока кончаю, обнимаю и люблю. Да хранит Тебя Бог.
Петруша
17 (30) сентября. Петропавловская
— Итак, за ночь рокируемся, к семи зажмём в клещи и к вечеру расколем Михайловский орешек. Авось, не объявит Деникин второго выговора...
Нависнув над столом, полковник Дроздовский замер, пристально всматриваясь в синие и красные линии — позиции 1-й конной дивизии и Михайловской группы большевиков. Согнутое колено прочно упёрлось в жёсткое сиденье венского стула, кулаки тяжело придавили края расстеленной двухвёрстки.
В комнате потемнело, будто весь свет от лампы собрался на его лице: на чистом открытом лбу и жёстко сведённых бровях, на овальных стёклышках пенсне и носу с высокой горбинкой, на плотно сжатых губах и слегка раздвоенном подбородке. Могучая тень от коротко остриженной головы и плеч, покрытых накинутым френчем, наползла на белёный потолок.
Гость его, почудилось Врангелю, обратился в хищную птицу, что с грозным изяществом высматривает жертву с вершины скалы. Вот только пенсне с болтающимся шнурком смазывает впечатление...
Пенсне и помогло вспомнить: мелькало оно, оседлавшее этот горделивый нос, в коридорах академии. Но познакомиться не довелось: офицер в форме волынца — значит, из Киева — всегда был замкнут и держался особняком, сторонясь компаний как провинциальной пехтуры, так и столичных гвардейцев. Тем и обращал на себя внимание. А в Кишинёве, Яссах или ещё где на Румынском фронте встретиться не довелось.
Да и нынешняя встреча — верх нелепости и прихотливости случая...
...Только выехал утром на позицию, как наперерез несётся полным галопом казак с донесением. Конь в мыле, сам никак не отдышится, а в глазах — форменная паника. Оказалось, левофланговые разъезды заметили большую — до 2-х тысяч — колонну пехоты с артиллерией: движется по дороге из Армавира прямиком в тыл дивизии. По направлению это вряд ли могли быть «товарищи». Но ведь и о приходе на его участок каких-либо новых частей штаб армии не уведомлял... Ничего не оставалось, как верхом поспешить туда самому: разобраться в обстановке, предотвратить замешательство и, если потребуется, произвести перегруппировку для парирования удара.
Полчаса спустя на грунтовой дороге, спускающейся к Петропавловской, столкнулся с пылящей на рысях группой всадников. И без бинокля разглядел: казаки и при погонах. В папахах, но вместо бешметов и черкесок — защитные гимнастёрки... Оказалось — разъезд 2-го Офицерского конного полка. А подходящая колонна, как чётко отрапортовал подхорунжий, — 3-я дивизия полковника Дроздовского.
Проскакав галопом ещё пару вёрст, встретил расположившийся на привале, прямо на краю скошенного кукурузного поля, авангард дивизии — 2-й Офицерский конный полк. Офицеры — все регулярной кавалерии, в фуражках и мундирах, а нижние чины — кубанские казаки. Там же обнаружился и сам Дроздовский, взвинченный до крайности. А с ним — начальник его штаба полковник Чайковский, сослуживец по 1-й гвардейской.
Нервно обгладывая початок, Дроздовский внёс полную ясность: вчера к нему в Прочноокопскую нагрянул Деникин и, ознакомившись с обстановкой, оставил на армавирском направлении Тимановского заслоном, а ему приказал глубоко обойти Михайловскую группу с востока и атаковать её в тыл со стороны станицы Курганная. Двинувшись ночным маршем, колонна сбилась с пути, взяла много севернее и в конце концов вышла в тыл не противнику, а своим...
Чем дольше слушал, переводя взгляд с одного на другого, тем всё более удивлённое выражение придавал лицу. Конечно, мол, на войне всякое случается, но могли ведь, не разобравшись, и обстрелять друг друга... Понурый вид Чайковского подтверждал: начальник только что устроил ему разнос. И поделом: сколько помнит его — типичный «момент», дальше бумажек ничего не видит... Неясным, однако, осталось вот что: его-то, Врангеля, штаб армии почему не предупредил о задаче, поставленной 3-й дивизии?
Дроздовский по этому поводу ни малейшего удивления не выказал. И охотно принял предложение проехать в Петропавловскую: отдохнуть, отобедать и, раз уж так вышло, скоординировать свои действия.
Обсудив положение — обошлись, по желанию Дроздовского, без его проштрафившегося начальника штаба, — решили план командующего переиначить.
Во-первых, 3-й дивизии после тяжёлых встречных боёв на армавирском направлении и ночного перехода не имеет смысла топать больше 35 вёрст в район Курганной: никаких сил для атаки Михайловской не останется. Во-вторых, подобные глубокие рейды в тыл — дело конницы, а не пехоты. В-третьих, бригады 1-й конной уже имеют опыт обхода.
Итогом их трёхчасовой работы стал детальный план полного окружения Михайловской группы. Пехотные части 3-й дивизии сменяют полки 1-й конной на правом берегу Лабы и завтра в 7 утра атакуют противника с фронта. А 1-я конная, без остающейся на своих позициях на левом берегу Лабы 3-й бригады, но с приданным ей 2-м Офицерским конным полком, за ночь сосредотачивается на крайнем левом фланге и до наступления рассвета начинает движение в охват правого фланга позиции противника. С таким расчётом, чтобы к семи утра пересечь железнодорожную ветку Армавир — Туапсе и выйти передовыми полками в район станицы Курганной, где перехватить грунтовую дорогу Михайловская — Константиновская, самый вероятный путь отхода большевиков. Задача головных сотен — овладеть узловой станцией Курганная, выдвинуться к мосту у аула Каше-Хабль, по возможности занять переправу и войти в связь с 3-й бригадой.
После обеда расстались. Дроздовский собрал своих полковых и батальонных командиров в станичном училище, а он предпочёл лично объехать полки, построенные для встречи.
Выступить перед казаками, подбодрить их времени не осталось, а потому лишь здоровался и вручал командиру пакет с приказом об общем наступлении дивизии. Повезло, вернулся автомобиль, отвозивший больного Баумгартена в Екатеринодар. И не только в исправности, да вдобавок с пятью канистрами бензина и ещё двумя запасными шинами — французскими «Мишлен». Хотя и залатанными, но вполне годными. Всё это богатство шофёру удалось купить в частном гараже за хозяйственные деньги штаба дивизии.
Встретились, как и наметили, за ужином.
Дроздовский говорил больше, чем ел. И ужин незаметно перетёк в очень серьёзный разговор. И хотя на Петропавловскую уже опустились сумерки и настало время разъезжаться по дивизиям, начальник 3-й дивизии не торопился, а Врангель не подгонял его. Мелькавшую после обеда мысль поспать хоть пару часиков перед ночной операцией оставил: гневные излияния и крайняя нервозность гостя, которую он ощущал всем телом, гнали сон прочь.
С первых чисел сентября, если верить Дроздовскому, упорство большевиков на участке 3-й дивизии неожиданно возросло. И он, ввиду усталости людей и тяжёлых потерь, стал просить у штаба армии подкреплений. Романовский, хотя резервы у него были — два свежих полка, — отказал категорически, не преминув от имени Деникина упрекнуть в медлительности.
Убеждённый в преждевременности взятия Армавира, пока 1-я конная не овладела Михайловской, 5 сентября Дроздовский дважды просил либо дать подкрепления, либо перво-наперво распутать Михайловский узел. И никакого ответа. В итоге, предвидя, что удержать Армавир не сможет, был вынужден взять город хотя бы ради того, чтобы сорвать переход большевиков в наступление.
Посылая в штаб армии одну телеграмму за другой, с 6 по 11 сентября он ждал или пополнений, или обеспечения со стороны Михайловской. Но ничего не получил, кроме... директивы продолжить наступление «между Урупом и Кубанью».
Когда же 12-го большевики атаковали с трёх сторон и к вечеру почти обложили Армавир, счёл наименьшим злом, дабы не погубить дивизию в оборонительном бою на столь растянутом — 12 вёрст — фронте, отвести основные силы в Прочноокопскую. Но ведущий к городу мост через Кубань и предмостные укрепления удержал.
Спешно переброшенный Деникиным по железной дороге из Екатеринодара полуторатысячный отряд Тимановского, о чём Дроздовский даже не был предупреждён, 13-го с ходу атаковал Армавир с севера. Но без поддержки 3-й дивизии успеха не имел. Несмотря на это Деникин приказал Дроздовскому атаковать Армавир 14-го. Теперь Дроздовский без поддержки отряда Тимановского атаковал город с северо-запада, понёс серьёзные потери и также потерпел неудачу...
...Отвалившись на спинку стула и закинув ногу на ногу, Врангель жадно ловил каждое слово. К пышным гроздьям янтарного винограда, выложенным на фарфоровом блюде и уже изрядно ощипанным со стороны гостя, даже не притронулся. Отсеивать чрезмерные эмоции Дроздовского от существа дела было отнюдь не просто: как закипело раздражение в начальнике 3-й дивизии, так и кипит с самого утра. Будто вода в забытом чайнике — срывая крышку и обдавая раскалённую плиту шипящими брызгами. Следовало бы остудить перед операцией, но когда и от кого ещё услышишь такое?!
Удивительно, но взвинченность Дроздовского не передавалась ему совершенно — ведь у самого подобных претензий к штабу армии накопилось предостаточно. Напротив — погружала в ледяное спокойствие. Что редко случается, отдал собеседнику инициативу разговора. Понятно, почему не торопится Дроздовский к дивизии: не выговорился ещё, не отвёл душу. Непонятна только эта горячая откровенность... Куда же подевалась его пресловутая замкнутость?
О «втором выговоре» Дроздовский заговорил неожиданно тихо и вроде бы машинально, будто сам с собой. Тем более нарочитой показалась Врангелю многозначительность его тона.
— Выговор? За что же?
— За самовольную рокировку, Пётр Николаевич.
На имя-отчество перешли ещё за обедом. И теперь, избавленный от необходимости обращаться к Врангелю «ваше превосходительство», Дроздовский держался так, будто они в одном чине.
— Бросьте. Любой юнкер поймёт её необходимость. Достаточно посмотреть на карту...
— Не знаю, на что уж там смотрит Романовский... Только десятикратного численного превосходства Михайловской группы и исключительной выгодности её позиций он явно не видит.
— Мой штаб разведсводки в Екатеринодар отправляет регулярно.
— А мой, представьте, не получил никаких ориентировок о вашем участке. Очень симптоматично! Хотя я с первых чисел сентября убеждал Романовского, что нет у меня сил одновременно вести операцию против Армавира и обеспечивать дивизию со стороны Михайловской. В ответ — одни заверения: вот-вот Первая конная разобьёт Михайловскую группу и выдвинется к Курганной... И только теперь я вижу, какой зарез для вас — эта группа...
Продевая руки в рукава френча, Дроздовский опустился на скрипнувший стул. Взяв карандаш, стал что-то набрасывать в полевой книжке. И Врангель в который уже раз приметил: как-то не очень ловко тот действует правой рукой...
— А карты, которые рассылает штаб армии, подозреваю, при Царе-горохе составлялись. Четыре станицы совсем не нанесены, много новых хуторов и дорог... Впору самому садиться и рисовать!
Врангель отмолчался. Да и что тут скажешь? Сам-то он и не заметил, как устарели карты, составленные Военно-топографическим отделом штаба Кавказского военного округа ещё в конце прошлого века. Где же, чёрт возьми, было заметить, когда третью неделю на месте топчется...
Сколько ни всматривался исподволь в худощавое лицо Дроздовского, обтянутое сухой кожей, тёмное и от загара, и от гнева, сколько ни вслушивался в глуховатый вибрирующий голос, ничего «героического» не находил. И всё явственнее ощущал совсем некстати возникшую неприязнь к этому человеку...
Ещё утром задела атмосфера немого обожания и подобострастия, которой окружили Дроздовского его штабные, командиры частей, ординарцы, конвойцы... Так и смотрели ему в рот. И неуместное это раболепие — сам-то на дух не переносит его в подчинённых — Дроздовский воспринимает как должное. По всему чувствует себя «вождём»: в каждом движении, в каждой фразе видно стремление покрасоваться и произвести впечатление на «толпу».
И ещё одно стало питать эту неприязнь: вспыхнувшее подозрение, не видит ли Дроздовский именно в нём главного виновника того, что «Михайловский узел» затянулся так туго. Напряжённо старался уловить хотя бы намёк. И догадаться, какие оценки его действиям тот мог давать в телеграммах Деникину и Романовскому... Но, кажется, нет: никакого намёка, ничего, что умаляло бы усилия и жертвы его конницы, его способности военачальника. Напротив, полковник то и дело даёт понять, что оба они штабом армии поставлены в одинаково тяжёлое положение: задачи ставятся непосильные, пополнений и боеприпасов как не было, так и нет, управление на широком фронте — никуда не годное. Особенно показателен эпизод с Тимановским. Вот к нему бы надо вернуться, уяснить кое-что...
— Бог с ними, с картами, Михаил Гордеевич... Хотя бы ставили в известность о задачах соседей.
— До таких мелочей руки у Романовского и его присных не доходят. — Дроздовский резко захлопнул полевую книжку.
— Вам и Тимановскому эта мелочь обошлась недёшево.
— Чудовищно дорого! Говорю же, мне ни слова не сообщили ни о его подходе, ни о данном ему приказе немедленно атаковать Армавир. Четырнадцатого числа около одиннадцати дня как снег на голову свалился его ординарец. Тут только я узнал: отряд его подходит уже к Кубанской, он поступает в моё распоряжение и по окончании сосредоточения предполагает атаку города... Но я-то рассчитывал дать своей дивизии два дня отдыха — влить пополнение, заменить выбывший командный состав. Поэтому и ответил ему немедленно: в бой не ввязываться, дабы перегруппироваться и атаковать совместно, а не порознь...
— Тимановский в донесении хотя бы сослался на директиву командующего?
— Да не было у него никакой директивы! — Правая рука Дроздовского, не без труда справившись с ремешком полевой сумки, снова потянулась к винограду. — Мой офицер для связи, конечно, опоздал... Зато не опоздала оскорбительная телеграмма от Деникина! Прямое обвинение в том, что я оставил Армавир «преждевременно», да ещё «отменил» его приказание Тимановскому атаковать тринадцатого. Я как встретился с Тимановским в Прочноокопской, первым делом показал ему телеграмму. А он отвечает, что такого приказа — во что бы то ни стало атаковать Армавир именно тринадцатого — ему и не давалось. Вот так!
— Они что, не понимают таких простых вещей, как взаимодействие?
— Да ничего эти гуси не понимают! — Дроздовский глотал виноградины одну за другой, сплёвывая в кулак косточки. Острый кадык нервно ходил вверх-вниз по худой шее. — Сколько воюю, штаб армии систематически переоценивает наши силы и недооценивает противника. Что ни директива — требуют побед «во что бы то ни стало» и «минуя все препятствия». Зарылись в бумажки и совершенно не знают реальной обстановки. Где уж Романовскому понять, что лучше на два дня позже победить, чем дать бой на два дня раньше и потерпеть неудачу... Развёл бумажное море и тонет в нём. И нас утопить хочет... И утопит! Только не в бумагах, а в нашей же крови! С первого числа я потерял тысячу восемьсот человек. Три четверти первоначального состава!
— Моя дивизия — не меньше.
— Вот видите! И это при том, что большевикам гораздо легче потерять тысячу человек, чем нам сто. Если всякая неудача везде тяжела как таковая, то в нашей армии каждая неудача — шаг к краю могилы. Ведь это — потеря веры в победу и моральное торжество красных негодяев. Потеря не только людей, но и оружия. А откуда его получить? Ведь освобождение Кубани — это только начало. А впереди — вся Россия. С какими силами освобождать её?!
— Вы сказали это Деникину вчера?
— Пытался. Всё без толку!
— То есть?
— Они всё мерят на старый «добровольческий» аршин: в первом походе, при Корнилове, офицерские роты опрокидывали тысячные отряды большевиков и брали станицы атаками во фронт без поддержки артиллерии...
— Наслышан уже.
— Так ведь у Корнилова были одни добровольцы, а противник — разложившиеся толпы солдатни. А теперь он уже другой: с каждым днём эти мерзавцы всё больше походят на регулярную армию. И мы изменились, но только к худшему: в частях много мобилизованных, а самые стойкие офицеры-добровольцы безвозвратно потеряны. И в первую очередь именно благодаря таким вот атакам! По-новому уже надо воевать... А у них один герой — Казанович, начальник Первой дивизии: бьёт в лоб, всеми силами. Ни тактики, ни сбережения людей, будто их, что травы. «Первопоходник», одним словом... Как это по-русски! Суворова поминают на каждом шагу, а сами мерят способности начальника числом уложенных солдат!
— Так что же Деникин?
— А ничего. Только выговор мне объявил за медлительность действий и отмену его приказаний. Публично, при всём штабе...
— Почему же вы не подали рапорт? Изложили бы все трудности вашего положения, указали на ошибки и предвзятость Романовского...
— Я не привык жаловаться на трудности. Вполне достаточно того, что указывалось в моих докладах и сводках моего штаба. Но Деникин мои доклады назвал жалобами. Разве правильная оценка соотношения сил есть жалоба?!
— Меня это удивляет.
— А меня уже нет. Я слишком хорошо изучил людскую природу. Весь ужас в том, что Деникин становится глухим, когда говоришь ему правду о работе штаба и лично Романовского... — Пенсне колко отразило желтоватый свет лампы, надёжно спрятав глаза Дроздовского, но Врангель чутко уловил брошенный на него испытующий взгляд. — А что касается предвзятости, источник её мне прекрасно известен: я не «первопоходник».
— Так что ж с того? — пожал плечами Врангель.
Мгновенный прищур погасил искру в глазах. Низко прикрытые веками, они засмотрелись на первое попавшееся — чистый лист, заправленный в «Фейшолес-Империал». Не должен этот полковник догадаться, на какую мозоль наступил.
— А то, что Романовский выдвигает на должности только участников первого похода на Кубань. Это уже стало традицией. Нечто вроде местничества, но не по родовитости, а по «добровольческому» стажу. Интриг вокруг этого столько! Я дивизией командую лишь потому, что сам сформировал свой отряд и привёл в армию. Потому и снять меня не могут... И им остаётся только интриговать. Если бумаг в нашей армии — не меньше, чем в старой, то интриг штабных — много больше...
Дроздовский отправил в рот очередную виноградину. Сняв с губ косточки, договорил:
— Возможно, и на вашем месте, Пётр Николаевич, они хотели бы видеть кого-нибудь другого... Но среди «первопоходников» нет столь же крупного кавалерийского начальника.
От реплики Врангеля удержала та же волчья осторожность. Слишком уж прям и откровенен Дроздовский. Подозрительно откровенен. Нет ли и тут интриги? И умно ли он поступил, позволив втянуть себя в этот разговор? Повёл плечами, стряхивая оцепенение. Всё, хватит разговоров...
Попрощались и пожелали друг другу успехов у «Паккарда» начальника 3-й дивизии. За ним уже построился в колонну по три конвой — текинцы и татары в косматых островерхих папахах, на хороших лошадях. Костёр, разведённый часовыми, дал тусклый отблеск на пенсне и надвинутый на него лакированный козырёк защитной фуражки с высоко задранной тульёй.
Прежде чем приложить к козырьку ладонь, Дроздовский горько обронил:
— Где Романовский — там нет счастья...
...Грунтовая дорога была твёрдой, подъёмы — пологими, и «Паккард» шёл легко. Кутаясь в шинель и вглядываясь в прыгающий светлый кусок дороги, что выхватывали из темноты передние фонари, Дроздовский ясно ощущал: настроение его как было отравленным до разговора с Врангелем, так и осталось. Может, не стоило и огород городить? Неожиданно бесстрастным и непроницаемым оказался барон. Сухарь какой-то. Что у него на душе — поди пойми. Того и жди теперь, что Деникину и Романовскому станет известен этот разговор...
Не таким, говоря по правде, рисовал он себе бывшего конногвардейца. Оно и понятно: после академии видел-то всего однажды. В декабре 16-го, в Кишинёве, на одном из рождественских балов. Зима в Бессарабии выдалась тогда буранная...
Только что выписанный из госпиталя после тяжёлого ранения в правую руку, страшно захотел развеяться — забыть болезненные операции и бесконечные мучительные перевязки, заглушить невыносимую тоску по семье, по родному Киеву. Явился на бал и часа два простоял, подпирая стену и глазея на публику. Не заметить и не запомнить барона Врангеля нельзя было никак. Отплясывал генерал, длинный и худой, посреди залы, как хвативший лишнего поручик. Хохотал и болтал громче всех. Дам менял через танец. И в буфет, где поминутно хлопали пробки и били в потолок пенные струи шампанского, наведывался беспрестанно...
Так или иначе, отмахнулся Дроздовский от навязчивых сомнений, первый разговор получился. Если не один, а уже двое дивизионных начальников будут думать, как он, — что-то ещё можно поправить. И нужно взять себя в руки. И терпеть. Терпеть и ждать, когда придёт его время. Выдержка — это всё. А там посмотрим, что день грядущий нам готовит...
18 сентября (1 октября).
Петропавловская — Курганная
В самое глухое ночное время двинулась 1-я конная дивизия в охват правого фланга позиции Михайловской группы.
Ущербную луну завесили кисейные облачка. Проглядывая в редкие разрывы между ними, она слегка разжижала темноту. По степи вяло кружил сухой и холодный ветерок: то подгонял в спину, то задувал в лицо.
Полки шли шагом, колоннами по шести, где полевыми просёлками, где ложбиной. В авангард был назначен Корниловский конный. Две его головные сотни с четырьмя пулемётами на линейках оторвались на пару вёрст вперёд, цепочкой поддерживая с ним связь. От приказания «не курить» некоторые казаки отмахнулись: ловко прятали подожжённую цигарку в кулаке.
Врангель, выбрав место в хвосте авангарда, присоседился к штабу Науменко. Качаясь в седле, поклёвывал носом. Стрекот кузнечиков и приглушаемый невидимой пылью стук сотен копыт убаюкивали слаще колыбельной.
Где-то покрикивал тоскливо одинокий коростель...
Позади осталось два десятка вёрст. По сизой мгле, затянувшей небо на востоке, уже разливался тусклый багровый отсвет, перекрашивая степь из тёмно-серого в сиреневый.
Головной разъезд корниловцев, овладев хлипким деревянным мостиком через почти пересохшую Синюху и захватив спящим в скирде пост противника из пяти человек, вышел к ветке Армавир — Туапсе.
Перейти через одноколейку, протянутую по низкой насыпи, и перехватить пересекающую её дорогу, торную и пыльную, из Михайловской на Константиновскую сумели скрытно.
Ещё верста, и просёлок, зажатый полями подсолнечника, подступившими к самым обочинам, вывел авангард к Чамлыку.
За спиной, оплавляя мглистый горизонт, быстро взбухал багровый диск. Будто посылаемый именно им, ветер подул теперь строго с востока. Конвойцы, прищуриваясь, хмуро поглядывали на светило, но помалкивали.
Тревоги их Врангель не заметил: стряхнув с себя предрассветную дремоту, оценивал местность... Мостовая переправа через Чамлык, длиною 7 саженей, цела, и земляная дамба не осыпалась... Но ширина — 2 сажени — позволяет проходить только колонной по три... Берега — такие же болотистые и сплошь заросли таким же высоким камышом, как у Петропавловской. Похоже, вброд не переправиться. В 50 саженях левее, к югу, железный мост. Настил и опоры без видимых повреждений, насыпь довольно высокая — до 2 саженей. По нему, параллельно грунтовой дороге на Курганную, идёт одноколейный железнодорожный путь из Армавира в Туапсе...
От бегущей на север воды, жёлто-бурой из-за илистой мути, легко отрывался, курясь, прозрачный парок. Звонко плескалась рыба. Две неровные серо-зелёные стены камыша окутал сизый туман. Покачиваясь, торчали из туманной пелены пушистые метла верхушек. Над ними висели зудящие тучи комаров. Кружили и разлетались, крича, птицы, встревоженные стуком копыт по деревянному настилу.
Едва головной разъезд корниловцев овладел деревянным мостом, Науменко выслал сотню екатеринодарцев для занятия станции Курганная.
Не проскакала она широкой рысью и пары вёрст вдоль насыпи, как впереди рассветную дымку вспорол жёлтый луч прожектора. Быстро приблизились тяжёлое пыхтение и железный стук колёс — и из неё вынырнул бронепоезд. Не набирая хода и не открывая огня, угрожающе катил к переправе.
Сотни корниловцев и екатеринодарцев, развернувшись, галопом рванули назад. Перескочив мост, кинулись с дороги в высокие и густые заросли кукурузы.
Приподнявшись в стременах, Врангель торопливо извлёк из футляра «Гёрц» и настроил фокус: казаки рассыпались в линии фронтом к бронепоезду, с лошадей, укрывшихся по самые уши, не поспрыгивали... Благодаря высокой насыпи и близкому расстоянию — не более 50 саженей — до бронепоезда, по видимости, попадут в «мёртвое пространство»...
Перед самым железнодорожным мостиком бронепоезд стал тормозить. В лязг и скрип тут же вклинился дружный треск десятка его пулемётов. Густо засвистели над казачьими папахами пули, с хрустом срубая позади них окроплённые росой стебли и листья, разбивая вдребезги початки. Лишь некоторые склонились грудью к передней луке, большинство же чёрных и белых папах так же неподвижно торчали из тёмной зелени.
Секунды спустя пулемётную трескотню перекрыл оглушающий грохот орудийного залпа.
Врангель резко обернулся: не дожидаясь его приказа, 3-я конная батарея — её взводная колонна двигалась за авангардом и только что вышла на открытое прибрежное место — живо снялась с передков и открыла по бронепоезду беглый огонь. Удачно, полевые трёхдюймовки оказались от него на расстоянии действительного ружейного огня, и первые же снаряды попали в цель...
Два лёгких орудия успели ответить и сразу замолкли, как только машинист дал задний ход. Зло шипя и завешиваясь густыми клубами пара, бронепоезд отползал к Курганной, теряя куски брони и деревянные обломки разбитых вагонов.
Поглощённый скоротечным боем, Врангель упустил момент, когда со стороны Михайловской накатился гул орудийной и ружейной стрельбы. Поднёс к глазам часы-браслет: семь с минутами. Дроздовский атаковал Михайловскую без опоздания.
Под этот бодрящий гул полки, сотня за сотней, и батареи, орудие за орудием, переправлялись на левый берег Чамлыка. Хотя настил моста оказался слегка повреждённым, все прошли без растяжек — и конные колонны по три, и артиллерийские уносы[57] с пушками.
Дабы обезопаситься от повторного визита бронепоезда, скрывшегося за тощей лесополосой, Врангель приказал Науменко бросить головную сотню в преследование и взорвать полотно.
Рысью преследуя бронепоезд, сотня 1-го Екатеринодарского полка за версту до станции Курганная наткнулась на большевистский обоз. По донесению, захватила до трёх десятков телег, груженных овсом и пшеницей. Не успел Врангель подосадовать — не увлеклись бы казаки охраной добычи, забыв и про станцию, и про бронепоезд, — как подскакал другой ординарец от Науменко: замечено продвижение конницы — около полка — со стороны станицы Курганной. Не заставил ждать вестей и Топорков: показались цепи противника со стороны Михайловской.
Последнее насторожило. Несомненно, появление в глубоком тылу его дивизии стало для «товарищей» полной неожиданностью. Но пока никаких признаков, что они ударились в панику и намазывают пятки из Михайловской. Неужто атака Дроздовского не произвела на них должного впечатления? Кажется, поступит умно, ежели не станет пока подгонять в шею Науменко брать Курганную...
Послав к бригадным командирам ординарцев с приказанием произвести спешивание с батовкою[58], рассыпать людей в стрелковые цепи и занять позиции, поискал удобную высоту для наблюдательного пункта. Ни кургана, ни холмика — одни скирды торчат. Подав рукой знак штабным офицерам, конвою и прочим сопровождающим, подскакал к самой большой. Первым делом бережно уложил бинокль в футляр: хотя и по самой низкой цене куплен, в оптической мастерской Карла Гёрца на Конногвардейском бульваре, но теперь такая вещь стоит целое состояние. А уж потом спрыгнул с кабардинца и покарабкался, с хрустом проваливаясь в слегка уже потемневшую солому, наверх.
Присев на корточки, достал полевую книжку и черканул Дроздовскому: дивизия поставленную задачу выполнила. Листок аккуратно вырвал и сложил вчетверо. Ординарец от 2-го Офицерского полка, юркий молодой урядник, пряча его в пустой подсумок, скороговоркой повторил приказание вручить полковнику Дроздовскому в собственные руки и кинулся к укрытым в кукурузе лошадям.
Проследил, как тот с места в карьер сорвался к переправе... Теперь оставалось удерживать врага и ждать. Отходящих из-под Михайловской большевиков или... Тревожные мысли о неудаче Дроздовского отгонял. Но на смену им являлась ревность: не хочет ли полковник показать, что давно уже можно было взять Михайловскую силами пехоты?..
И получаса не прошло, как встречный бой разгорелся по всему фронту дивизии. В густую винтовочную стрельбу вторгались заливистые очереди пулемётов. Пули, тонко посвистывая, изредка пролетали и над скирдами...
Встав в полный рост — дать краткий отдых онемевшим ногам, — Врангель медленно, по часовой стрелке, обвёл биноклем тыл и фронт позиции... На юге — поля кукурузы и подсолнечника. Чем дальше, тем больше убранных, со скирдами. Константиновская скрыта высотами предгорной местности... А Курганная, в трёх верстах юго-западнее, видна хорошо: колокольня, пирамидальные тополя, мельницы, крыши. Через сплошное не убранное поле к ней ведут грунтовая дорога и железнодорожная ветка. На северной окраине станицы — одноимённая узловая станция. Её отчасти закрыла лесополоса... На севере — всё те же поля. В пяти верстах — смутные очертания Михайловской. Бой там, на слух, ожесточился...
Перевёл бинокль восточнее... 3-я конная и 1-я конно-горная батареи — четыре полевые и четыре горные трёхдюймовки — рассредоточились и заняли наблюдательное положение прямо на дороге, на полпути между скирдами и Чамлыком. Наводчики возятся с панорамами. Командиры ждут приказа. Связисты закончили тянуть к ним телефонную проволоку, и штабной офицер, умостившись справа от него, уже крутит рукоятку — проверяет слышимость... Не зря ругался со штабом армии: выбил-таки несколько петербургских аппаратов «Лоренц». А при одной из рекогносцировок пару дней назад казакам повезло разжиться проволокой. Так что ординарцы нынче не запарятся...
Негромко приказал открыть медленный прицельный огонь дистанционной шрапнелью по всему фронту передовых цепей противника. Вполне, решил, хватит, чтобы отбить у «товарищей» желание двигаться вперёд.
В поголубевшем небе расцвели огненно-белые разрывы. Окрепший ветер с востока отгонял раздерганные дымные облачка на Курганную...
Скоро артиллеристы сбились на стрельбу ураганами. Врангель засомневался, стоит ли им так усердствовать: цепи «товарищей» сильно растянуты и вдобавок их скрывают кукуруза и подсолнечник, а число патронов невелико, не расстрелять бы раньше времени. Без них пушки станут бесполезной и даже опасной обузой...
Ветер погнал сухой колючий песок.
На наблюдательный пункт зачастили пули. Штабные и ординарцы, расположившись на ближайших скирдах, стали зарываться в солому.
— Сховайтесь поглыбже, ваше превосходительство. Виноват... — осмелился наконец посоветовать посмурневший Гаркуша.
Врангель покривился недовольно, но ничего не оставалось, как лечь на бурку, проворно расстеленную адъютантом. Быстро разглядели, сволочи, значок начальника дивизии — высоко поднятое на пике алое полотнище с конской головой...
Наступление большевиков Топорков и Науменко остановили, но сами продвинуться вперёд не смогли...
Удушливый ветер дул всё сильнее. Песчаная пыль быстро затягивала небо бурой мглой. Солнечный диск стал тускнеть. Видимость ухудшалась: в пыльном мареве скрылась сначала Михайловская, потом и Курганная.
Врангель скользнул биноклем вдоль русла Чамлыка вправо и влево. Камыш, бесшумно раскачиваясь, клонился к западу... В перелёт их тут, должно быть, масса уток. Славное местечко для охоты. Конечно, не гирла Дона, но всё же... Ничего не любил так в детстве, как осенью, в пору перелётов, ездить в гирла. Стрелять из «берданки» отец научил, кажется, раньше, чем учителя — читать и писать. И лет в десять уже заткнул старого барона за пояс: до полудюжины уток брал... Вот бы время выкроить, пока дивизия будет отдыхать после операции... Победа нынешняя легко не достанется, так, может, соизволит Деникин дать сутки или двое. Ежели не погонит под Армавир — помочь Дроздовскому вернуть город. «Во что бы то ни стало»...
Никак вчерашний разговор не выходит из головы. Нет, неспроста его Дроздовский затеял: не душу отвести, не оправдаться за неудачи... Не иначе как с дальним прицелом. С каким же? Повлиять через него на Деникина? Возможно... Или всё проще — найти союзника против Романовского?
Насчёт Романовского хотя и прав полковник во многом, но передёргивает. Понять можно: у начальников частей в поражениях всегда «моменты» виноваты. Особенно вышестоящих штабов, обретающихся в глубоком тылу. Так было и так будет. Умно всё-таки поступил, что в своё время не пошёл после академии по Генштабу: ежели ты в тылу — на тебя всех собак вешают, ежели на фронте — ходишь в героях. Даже когда терпишь поражения и попадаешь в плен. Как Корнилов...
И вдруг мозг, словно пуля, прожгла догадка. Ну конечно! У Дроздовского нет славы «первопоходника». И вроде бы к чему она, когда собственная куда громче... Ведь у него был свой поход: из Ясс на Дон. И в отличие от Корнилова, поход — победный. И людей сохранил, и Ростов взял. И ещё помог восставшим донским казакам удержать Новочеркасск. Уж как его потом, ежели верить Баумгартену, Краснов обхаживал и умасливал... Но Дроздовскому хватило ума уйти от к Краснова к Деникину. Ясно как Божий день: Донским атаманом ему не бывать. Не быть и вторым после Краснова, и даже третьим: не донец. А покуситься на пост командующего Добровольческой армией — на такой вольт его вполне чёрт может дёрнуть! Да только екатеринодарские «первопоходники» никогда Дроздовского вперёд не пропустят. Неужто именно в этом деле ищет его поддержки? Вот проныра... Жаль, Олесиньки нет рядом: не с кем посоветоваться. Может, ты, Петруша, и сам передёргиваешь?..
Но пусть даже у Дроздовского не о собственной персоне душа болит, а о России, пусть даже намерения его — самые благие, но вот развинченные нервы до добра его не доведут. Глупо так распускаться и выворачивать себя наизнанку. С такой любовью к правде, неприятной начальству, лучше быть умным и расчётливым, чем гордым и упрямым, иначе...
Огонь на фронте 3-й дивизии будто бы чуть стих. Прислушался... Дроздовский ворвался в Михайловскую? Или иссякают винтовочные и артиллерийские патроны? У него их совсем не густо. На часах — полдень.
— Ещё цепи, ваше превосходительство! — Гаркуша, приподнявшись, возбуждённо тыкал ногайкой в сторону Михайловской.
Врангель с силой вдавил окуляры «Гёрца» в глазницы. Медленно, где перекатываясь через неправильные прямоугольники убранных полей, где просачиваясь сквозь высокие заросли кукурузы и подсолнечника, к позициям 2-й бригады Топоркова приближались новые цепи большевиков — густые, сквозь пыль едва различимые на жёлто-сером фоне. Винтовочная и пулемётная стрельба ожесточилась, пули полетели гуще. Плотнее вжался в податливую хрустящую солому...
...Топоркову с наблюдательным пунктом повезло больше, чем командующему дивизией: нашёлся какой-никакой, но бугорчик — голый и каменистый. Разлёгшись привольно на бурке и, не расчехляя свой старый, ещё с Японской войны, галилеевский 4-кратный «Цейсс», мрачно взирал на происходящее. За спиной застыли, впившись в начальника глазами и онемев, ординарцы от полков: боялись не расслышать приказания.
Оба полка его бригады — 1-й Запорожский и 1-й Уманский — развернули стрелковые цепи фронтом на север, против Михайловской. Левый фланг дотянулся до Чамлыка. Кукуруза и подсолнечник совершенно скрыли передовые цепи большевиков, только маячат кое-где головы конных командиров. Хотя дистанция сократилась уже шагов до семисот, казаки стреляют одиночными и редко: только по ясно видимым целям.
Кроша известняк, пули глухо ударяли в бугорчик. Топорков упрямо не обращал на них внимания. На что?.. Когда будет нужно, тогда и слезет. Всё равно лучше места не сыскать. Полками отсюда командовать сподручней. Поле боя просматривается не хуже глазуньи на сковороде... И начальство, чай, найдёт — не потеряет.
Казаки — молодцы: сберегают патроны. Так и надо, коли подсумки пусты. И свистки взводных правильно, что молчат. Ну, куда тут подавать команды на прекращение огня? Молчат и пулемёты. И тоже правильно: противник закрыт, а обнаруживать себя раньше времени — ни к чему. Но никто не тревожится: сбатованные лошади совсем рядом, и коноводы ни одной вырваться не дадут.
Его и самого противник беспокоил не слишком. Куда больше — собственные батареи: шрапнель лопается всё ближе к своим. Не ровен час, так и всыпят казакам по мягкому месту. Господа кадровые офицеры по-дурному приучены в артиллерийских училищах: лучше, убеждены, влепить несколько «дружеских» снарядов в спину своим, чем преждевременно прекратить обстрел наступающего неприятеля. Так что запросто могут задеть казаков. А то и лошадей...
Так ведь и заденут, коли барон допустил заминку в подходе и потерял внезапность нападения. Бронепоезд, что ли, нагнал страху? С марша бы, уступами навалиться всей двухтысячной массой на Курганную... На рассвете ещё. Красные точно проспали их набег. Повынимали бы из постелей тёпленькими... Ан нет, разбросал обе бригады лавами и цепями. Всех спешил и ввёл в бой... Неслыханное для казаков дело. Ну ладно — спешил, а зачем батовать? Стало быть, никуда дальше двигаться не намерен.
Намерен или нет, а инициативу красным голодранцам отдал вовсе. И те напирают уже с двух сторон. А кто в резерве и где он, резерв этот, — не понять. Ну а батареи кто прикрывает? Тоже не понять. А где Офицерский конный полк? Вовсе сгинул... Казаки 1-й бригады заблудились в нескошенных полях. Как дети малые. Только разноцветные сотенные значки торчат из подсолнечника вроде сорных цветов... Патронов как не было, так и нет. А штаб дивизии уселся на скирды и сидит сиднем. Ни дать ни взять — стая ворон, обожравшихся зерна...
...«Гёрц» помог Врангелю увидеть первым: цепи большевиков — такие же густые — показались и со стороны Курганной. Не прошло и четверти часа, как екатеринодарцы, развёрнутые фронтом против неё, дрогнули: то тут, то там потянулись к лошадям. Отстреливались единицы... Вспрыгивая в сёдла, отходили шагом по кукурузе. Иные, по узким прогалинам, — сразу рысью...
Приказал батареям перейти на беглый огонь. Штабной офицер, лежащий справа, взялся за тяжёлую слуховую трубку и вдруг ткнулся лицом в аппарат. Из горла вырвался хрип, на солому хлынула кровь: пуля пробила голову навылет...
Станицы сквозь уплотнившуюся пыльную завесу уже не разглядеть. Тут и «Гёрц» — сколько ни протирал Врангель объективы и запорошенные глаза — бессилен... Судя по карте, от Курганной до Михайловской тянется вдоль грунтовой дороги проволока станичного телеграфа. Явно именно по ней «товарищи», занимающие Курганную, держат связь с главными силами в Михайловской. Потому и такое хорошее взаимодействие. А у них с Дроздовским — ничего, кроме ординарцев. В 3-й дивизии есть радиостанция, да что толку, раз у его собственной до сих пор не зарядили аккумуляторную батарею. Чёрт-те что! Науменко, ещё не начался бой, предложил послать разъезд — взобраться на столб и шашкой перерубить провода. Но он отмахнулся: завтра самому телеграф понадобится... Ну и растяпа же ты, Петруша! Заслушался Дроздовского, уши развесил, а многие детали не продумал...
Не хватает Баумгартена, не хватает... Вестей из Екатеринодара пока никаких. Хоть бы Деникин временно кого прислал... Но кого? Баумгартен, когда увозили, просил назначить на его место Апрелева. Но тот может оказаться куда полезнее в штабе Романовского. Кого же тогда? Конечно, лучше бы, кого он знает лично...
Цепи, идущие со стороны Курганной, стали растягиваться вправо... Не иначе, заключил, решили охватить его левый фланг. На часах — начало второго. Стрельба со стороны Михайловской переменилась: ружейная чуть затихла, а в орудийной всё явственнее слышится уханье тяжёлых гаубиц. У Дроздовского шестидюймовых зарядов раз-два и обчёлся... Что же, огонь ведут только «товарищи»? Да где же донесение от него, чёрт возьми?!
— Конница, ваше превосходительство! С югу...
«Гёрц» сквозь мглистую завесу из пыли нашёл её не сразу... Резервная колонна, с полк, уже обогнув цепи пехоты, идёт широкой рысью через убранные поля... По видимости, в охват левого фланга. чёрт подери! Понятно без подсказок: «товарищи» нацелились на мостовую переправу через Чамлык. Вот эта угроза — уже серьёзная. Захватят мост — оставить для его прикрытия было некого — и дивизия окажется в ловушке: загнанной в угол между речкой и железной дорогой. А на той в любой момент могут появиться бронепоезда. Не со станции Курганная, так от Армавира... Чтобы спастись, частям ничего не останется, как переправляться через болотистый Чамлык. Всадники с лошадьми, ежели повезёт найти брод, с потерями, но пройдут. А артиллерия погибнет вся...
На зубах заскрипел песок. Сплюнув, выругался. В резерве — лишь четыре сотни Корниловского полка. Не сразу и нашёл их в кукурузе, у полевого просёлка, ведущего на юг, на Константиновскую. Проволоки на резерв не хватило, и пришлось посылать ординарца с приказом подъесаулу Безладнову[59], временно командующему полком, атаковать конницу противника.
Предчувствуя недоброе, наблюдал, как сотни вяло усаживаются на коней и шагом разворачивают двухшереножную лаву...
Едва перейдя на рысь, корниловцы попали под фланговый ружейный огонь со стороны приближающихся цепей. Рассыпаясь, остановились... Белоусый Безладнов крутился в седле и размахивал клинком. Глотая пыль, орал: «С-строй фронт, с-сукины с-сыны!» Его громоподобный голос широко разлетался над кукурузой. Но всё попусту...
Врангель подстроил фокус: полк врага рысит к переправе через убранные поля, пока ещё не переменяя аллюра и не обнажая шашек... Весьма уверенно рысит. И низкая насыпь железной дороги его не задержит. Теперь и командира можно разглядеть: вырвался далеко вперёд... высоко поднял шашку... подал знак перейти на галоп... Положение пиковое: до переправы «товарищам» осталось меньше трёх вёрст... Вот он — психологический момент, без какого обходится редкий бой: спасти дело может только личный пример старшего начальника.
Спешно засовывая бинокль в футляр, отдал приказание полкам рысью отходить к переправе, а батареям — сниматься. Застоявшиеся ординарцы срывались с места в карьер.
— Василий, лошадь!
Соскользнул по соломе вниз. Пружинистые ноги легко вознесли в седло. Безжалостно пришпоривая дарёного кабардинца, поскакал наперерез уже попятившейся лаве. За ним устремились Гаркуша, конвойцы и значковый казак.
Завидев начальство, корниловцы стали натягивать поводья. Некоторые прибивались к сотенным командирам — показывали решимость идти в бой.
— Молод-цы кор-нилов-цы! Впе-рё-од! За мно-ой!
Призывая казаков надрывными криками, по узкой полевой прогалине кинул галопом бурно дышащего кабардинца навстречу врагу...
Злая радость закипела, когда увидел поверх кукурузного поля: едва развёрнутая, лава «товарищей» сбавила темп... Затопталась... Преследовать или нет, ежели повернёт, не приняв атаки?
Дистанция сократилась до полуверсты.
Пора переходить в карьер. Пришпорил и потянул шашку из ножен — подать знак, — как вдруг, ещё не осознав разумом, уже почувствовал каждой клеточкой: что-то не так... Нет привычного ощущения впившихся в спину сотен пар глаз, ловящих каждый его манёвр, каждую перемену аллюра, каждый знак шашкой... Как нет и густого догоняющего топота позади. Жидкое что-то, будто охота помещичья скачет, а не полк казачий атакует.
Обернулся и не поверил глазам: лава корниловцев, не проскакав и сотни шагов, крутится на месте, ноги коней путаются в кукурузе, а за ним бросились десятка три всего. Впереди — оскалившийся Гаркуша с обнажённым уже клинком.
Похолодевшие ноги на миг потеряли стремена. Инстинктивно натянул поводья. Кабардинец послушно перешёл с галопа обратно на рысь. Только теперь заметил, как усилился ружейный огонь большевистских цепей. Не часто доводилось бывать под таким огнём...
Тонкий свист и глухие удары пуль, сухой треск разбиваемых стеблей и початков слились в одну сплошную какофонию, жуткую и беспощадную.
С визгом вывалился из седла значковый казак, уронив пику... Рухнул под Гаркушей, перекинув его через голову, поражённый пулей конь...
Почуяв своё превосходство, лава большевиков перешла на карьер... Вздела клинки... Первой её удар приняла кукуруза. Поле огласили крики «Ура!» и азартные вопли «Лови генерала!», «Лови... иво мать!..»
Вырвавшись вперёд, Врангеля настиг молоденький сотник. Потемневшее пухлощёкое лицо перекосил гнев.
— Ваше превосходительство! — закричал фальцетом. — Не место вам здесь! Уезжайте вон отсюдова! Иначе я вас уберу силой!
Врангель, опешив, рванул поводья. Это ещё что такое?! Дерзость неслыханная!
Пока поворачивал кабардинца и искал слова, жар схлынул. Сняв фуражку, вытер тыльной стороной ладони пот и пыль с разгорячённого лица, огляделся. Картина боя переменилась: батареи, взявшись в передки, потянулись к переправе, туда же, отстреливаясь, рысью отходят сотни, а какие-то, найдя брод, уже переправляются выше по реке. «Товарищи», воодушевлённые, всюду наседают. Атака его сорвалась, а лава противника увязла в кукурузе... Может, и прав этот рехнувшийся щенок: нечего ему тут дразнить «товарищей» своими лампасами... А нужно спешить к переправе — не допустить пробки.
Кабардинец обидчиво раздувал ноздри, норовил укусить за колено. С губ его слетали розовые хлопья пены...
Никак не отреагировав на дерзкие слова сотника, Врангель поскакал к корниловцам.
Те мялись, вытаптывая переломанную кукурузу. Привставая в стременах и вытягивая шеи, то и дело оглядывались на переправу и на станичников, рысью отступающих по всему фронту. Безладнов отрешённо уставился в густую гриву своего смирно стоящего тёмно-каракового жеребца. Ни досады на запылённом лице, ни вины Врангель не заметил. Пышные белые усы торчат как ни в чём не бывало... Унылая эта картина ввергла его в острое раздражение. Но все ругательства проглотил.
Да его бы и не услышали в разразившемся дробном грохоте: выкатившись вперёд лавы, пять запряжённых в тройки линеек со станковыми пулемётами — русскими «максимами» и французскими «гочкисами» — живо развернулись, и продирающихся сквозь высокие заросли большевиков секанули длинные, с горизонтальным рассеиванием, очереди... Пули куда чаще поражали кукурузу, чем людей, но на нервы атакующих подействовали: те остановились.
Подбив кабардинца почти вплотную к Безладнову, Врангель сухо приказал рысью отвести полк к мельнице, спешиться и пулемётами прикрыть переправу...
Прикрывать её корниловцам и уманцам пришлось долго: батареи перешли мост благополучно, но сотенные командиры всё-таки не обошлись без того, чтобы не создать пробку. Большевики не нажимали, ограничившись обстрелом, постепенно стихающим: то ли не рискнули преследовать, то ли сочли свою задачу выполненной. А в районе Михайловской шум боя давно затих...
Диск солнца, багровея, скатывался в пыльную мглу, забившую горизонт.
Сотни, уже переправившиеся на правый берег Чамлыка, собирались в полки. Командиры, ожидая приказа о возвращении на старые позиции, подгоняли. Но казаки не торопились, скапливаясь у двух колодцев — глубоких, со срубом и корытом, вырытых у перекрестья дорог на Михайловскую и Армавир. Доставали бадьями воду, чуть солоноватую, и жадно пили... Дав изморённым лошадям немного поостыть, поили и их. Со вчерашнего вечера ни у тех, ни у других не было во рту ни крошки, ни капли. Лошадей ещё два часа кормить нельзя, а сами грызли предусмотрительно прихваченные кукурузные початки. Вахмистры сотен занимались своим обычным после боя делом: считали потери...
Через мост на опорожнённых телегах артиллерийского обоза медленно везли последних убитых и раненых. За ними потянулись казаки арьергарда: без всякого строя, кто понуро, кто бодро, вели коней в поводу. Стоны, тоскливый скрип колёс и унылый перестук копыт по деревянному настилу звучали для Врангеля похоронным маршем. Не знал, куда спрятать глаза...
На обочинах просёлка безмолвно умирали раненые казачьи лошади, многие с раздробленными шрапнелью или пулей ногами. Некоторым ещё хватало сил оторвать голову от земли, попытаться встать. Но удавалось лишь скосить укоризненный взгляд вслед уходящим. Хозяева поснимали сёдла с уздечками, а пристрелить пожалели. Или патронов не нашлось...
На мост Врангель вступил с последним взводом уманцев. Только теперь услышал комариный зуд и ощутил на щеке свербящую боль от укуса.
На другом берегу сёстры перевязывали ещё живых, а санитары перекладывали их с телег в лазаретные линейки. Убитых накрывали холстинами. В густеющих синих сумерках ярко белели фартуки, платки и нарукавные повязки с красным крестом.
Появился наконец-то поручик-доброволец с донесением от Дроздовского. Распечатывая пакет, Врангель уже знал, что там... Кто-то за спиной зачиркал спичкой, но разобрал и без света. Начальник 3-й дивизии кратко сообщал, что его атаки успехом не увенчались, артиллерийские патроны израсходованы полностью, потери понесены жестокие, и он, дабы не умножать их, от дальнейшего наступления вынужден отказаться...
Не задавая вопросов, расписался в получении. Записку, перегнув пополам, сунул в нагрудный карман. Усмехнулся горько и неприметно... Ну что, полковник Дроздовский? Какова теперь цена вашим наполеоновским планам? Пора бы понять: какая лошадь придёт первой — не интриганами в штабных кабинетах решается, а судьбой в чистом поле...
На душе замутило. Глядеть на казаков стало тошно. Ещё несноснее была мысль, что все видят его бессилие и позор... Третью неделю крутится как белка в колесе, с ног валится от недосыпа, разругался со штабом армии — и всё псу под хвост! Казаки за ним не пошли... Но не потому же, чёрт возьми, что на нём — фуражка вместо папахи и сапоги со шпорами вместо чувяк!..
Ветер выдохся и похолодал. Замерли и стихли камышовые стены. Вода в Чамлыке почернела. Птицы, успокоившись, устраивались на ночлег.
20 сентября (3 октября). Петропавловская
Далеко за полночь, едва одолевая истому, проработали Врангель и Дроздовский в атаманском кабинете: разобрали допущенные ошибки и спланировали повторную операцию... Понесённые потери — более десятой части в обеих дивизиях — приток добровольцев и мобилизованных обещал компенсировать быстро. С Кавказской и Потаённой вот-вот должны подвезти боевые припасы. Время не терпит, поэтому назначили на 21-е.
Дроздовский, хотя и издёргавшийся вконец, горел жаждой боя. Всё сулило победу. Включая и то, что большевики даже не попытались использовать свой успех: следовательно, ослабели серьёзно...
А ни свет ни заря — телеграмма из Екатеринодара: Деникин объявил Дроздовскому выговор за изменение директивы об атаке Михайловской со стороны Курганной. И приказал немедленно возвратиться в район Армавира, где противник перешёл в наступление, сбил заслон Тимановского и овладел переправой через Кубань.
За ночь восточный ветер выдохся, пыль улеглась, и стол накрыли в саду.
Мрачнее тучи, Дроздовский комкал в кулаке телеграмму. К завтраку не притронулся.
Хотя аппетит у него, успел заметить Врангель, лошадиный: постоянно жуёт или грызёт что-то. Даже семечки подсолнечные, будто он не полковник Генштаба, а «товарищ» с рабочей окраины.
— Неудачи всех дивизий в последних боях только доказывают мою правоту... — Голос Дроздовского звучал тише и глуше обычного, обкусанные губы, скованные по бокам горькими складками, едва приоткрывались. — Говорил же Суворов, что «ближнему по его близости лучше видно»... А Деникин, даже не разобравшись на месте в причинах неудач, делает мне выговор. Без всякой вины! Что же, я ему должен объяснять, как юнкеру, что директива указывает только основную идею, но не способ выполнения?! Ведь директивы его я не изменял: Михайловскую группу с фланга обошли и со стороны Курганной атаковали.
Врангель кивал согласно, но думал о другом: а почему, любопытно знать, выговор объявлен одному Дроздовскому?
— Я что, эту несправедливость заслужил своей безукоризненной репутацией на Великой войне и своим историческим походом от Ясс до Новочеркасска?! Я привёл с Румынского фронта две с половиной тысячи человек. Прекрасно вооружённых и с большим запасом огнеприпасов. Силою мой отряд равнялся всей тогдашней Добровольческой армии, а духом был много выше... Краснов убеждал меня не присоединяться к Деникину, а наступать на север вместе с его донцами. Клялся снабдить всем необходимым. Убеждал, что я — лучшая замена убитому Корнилову... Но я считал преступным разъединять силы. Я думал не о себе, а о России. Потому и встал добровольно под начало Деникина. И тем спас Добровольческую армию от умирания... Что, в благодарность за это за всё я получил два выговора?!
Врангелю помимо привычной уже горечи послышалась истеричная обида. За минувшую ночь он склонился к мнению, что наполеоновские замашки — всё же не главное в Дроздовском. Главное — упрямая и болезненная правдивость. И вдобавок — слишком он впечатлительный и ранимый. Отсюда и ершистость. Мальчишеская какая-то... Нет, такие вождями не становятся.
— Именно этим и заслужили, Михаил Гордеевич. Вы часто встречали старших начальников, которым нравится читать правду в рапортах? Которые не завидуют подвигам подчинённых? Которые справедливы к тем, кто чужд угодничеству?
— Да ведь великая русская армия оттого и погибла, Пётр Николаевич! Оттого, что старшие начальники не хотели слушать неприятной правды. И благоволили только к тем, в чьих устах всё обстояло благополучно... А тех, кто имел смелость открыто говорить правду, затирали и удаляли. Неужели и Добровольческая армия потерпит крушение по этой же причине?
И этот вопрос Врангель нашёл риторическим. Но отвечать не стал по иной причине: его вдруг взяли сомнения, умно ли поступает, отмалчиваясь и только потягивая собеседника за язык. Не случилось бы водевиля: боялся быть обманутым другим, а обманул себя сам.
— Боюсь, к этой старой причине добавились новые. Например, отсутствие денег и снабжения...
— Денег Алексеев мог бы достать сколько угодно... И у нашей буржуазии, и у союзников. Под одно своё имя! Если бы его не отодвинули Деникин с Романовским...
— Что значит отодвинули?
— А то и значит... Ещё в конце мая, когда я привёл свой отряд в Мечетинскую, это было заметно. Отряд прошёл парадом, с музыкой. Принимал Деникин. Рядом с ним торчал истуканом Романовский. А старик Алексеев даже назад отступил, чуть не за их спины. Всем своим видом показывал, что вся власть — у них. Потом он и сам дал мне понять...
— Вы с ним встречались?
— Один раз. Представлялся... — Дроздовский снял пенсне и принялся протирать бумажной салфеткой толстые овальные стёклышки. Его глубоко посаженные серые глаза показались Врангелю чересчур большими и какими-то невидящими. — Так устроена Россия: когда талантливые вожди уходят со сцены, судьба назначает к водительству бесталанных заместителей. А их бесталанность губит великое начинание, накладывает на всё печать могилы... Поскольку утверждают они себя не за счёт самоотверженной работы, а за счёт интриг и бумагомаранья. Не согласны?
— Пожалуй. Рыба портится с головы... — Мелкими глотками Врангель отпивал парное молоко из большой фарфоровой чашки. — Так что Михаил Васильевич сказал вам?
— Что он ведает только финансами и политическими вопросами, а командование армией целиком в руках Деникина. Так они ещё в декабре разделили власть с Корниловым... Но теперь — никакого просвета: дни Алексеева сочтены и Деникин с Романовским вот-вот наложат руку и на деньги, и на политику. Если уже не наложили... С нами случилось самое страшное: мы оказались в подчинении лиц, коим не дано свершить ничего великого...
— Не бывает, чтобы совсем не было просвета...
Отставив чашку, Врангель расстегнул мундир: ему стало жарковато, хотя солнце только-только заглянуло на тенистый атаманский двор. Три здоровенных серо-жёлтых пса, уже привыкшие к нему, лежали, положив головы на когтистые лапы, неподалёку, на посыпанной песком дорожке. Ждали, когда и им перепадёт со стола. Их тёмные полуприкрытые глаза косились, следя за каждым его движением...
— Пока — один мрак. Денег и снабжения нет. С Красновым, у которого всё это можно получить, рассорились в пух и прах. А кубанские самостийники ведут себя так, будто они — римляне, а мы — нанятые варвары.
— Остаётся надеяться, что Деникин в самом скором времени расставит всё на свои места.
— Только не Деникин! — вскинулся Дроздовский. — Я рассчитывал, что сразу после занятия Екатеринодара он разгонит Раду с правительством Быча и посадит наказного атамана. Только не эту бабу Филимонова, разумеется... А он даже постеснялся въехать в город раньше них. Надо же, какая деликатность! Насколько мне известно, его об этом попросили Филимонов и Быч. Это что, политика? И Деникин не просто терпит этих родственников Керенского, но и потакает им. Тем хотя бы, что сам напускает учредительские туманы... Договорился до того, что именно Учредительное собрание должно определить будущее устройство России! Чудовищно! Того и жди — договорится до республики. Это что — тоже политика?
— Так вы, Михаил Гордеевич, считаете безосновательными его опасения оттолкнуть казаков провозглашением монархических лозунгов?
— Далее если он и прав... отчасти, то зачем оскорблять самые святые чувства тех, кто проливает свою кровь?! Подавляющее большинство моих офицеров мечтают о возрождении монархии... А зачем преследовать Шульгина за статью в защиту монархистов? И это, скажете, политика?
— Как я понял, они пытаются собрать под наши знамёна самые разные слои...
— В этом-то и вопрос — под какие знамёна? И кто собирать будет? Монархические организации как никакие другие способствуют притоку офицеров в армию. И в частях они уже ведут работу. Это большая сила... Я сам, между прочим, член одной из них. И вам, Пётр Николаевич, нельзя оставаться в стороне... — Водрузив на нос пенсне, Дроздовский требовательно глянул Врангелю прямо в глаза. Он явно ожил.
— Мне не известно о существовании подобных организаций в моей дивизии. Но в стороне не останусь...
Гаркуша как нельзя кстати нарушил их уединение: чуть прихрамывая, принёс из летней кухни пирожки и сырники. Румяные и обильно политые растопленным коровьим маслом, они помогли Врангелю убедить Дроздовского всё же перекусить перед дорогой. И псам перепало-таки.
— У нас что политика в тылу, что управление войсками на широком фронте — сплошное самоубийство...
Дроздовский и говорил, и жевал не торопясь, хотя время уже поджимало: к 11 часам 3-я дивизии должна построиться на восточной окраине станицы в походную колонну.
— И потом... Если уж к войскам Деникин и его штаб предъявляют требования, намного превышающие их силы, то почему таких же повышенных требований они не предъявляют к себе? А заодно и к тем, кто снабжает армию? Почему от них не требуют снабдить нас винтовками и сапогами «во что бы то ни стало» и «минуя все препятствия»? В работе довольствующих органов — сплошь рутина, бумажность и наплевательское отношение к войскам... До каких пор мы будем оплачивать боеприпасы кровью?
Врангель почувствовал, как пробежала по телу жаркая волна. Молоко вдруг показалось холодным. Запершило в горле, и он закашлялся.
— А с санитарной частью что творится! Ведь стон идёт... Я буквально засыпан жалобами на скверную пищу и отсутствие белья, на плохой уход и беспорядок в лазаретах. А самое ужасное — массовые случаи заражения крови... Это при современном-то состоянии хирургии! Знаете, сколько офицеров моей дивизии, получив лёгкие раны, подверглись ампутации или умерли от заражения крови? Десятки! Заносят заразу не только при операциях, но даже при простых перевязках. Это же преступление! И за это никого из врачей не наказали. Ни-ко-го!
Врангель, забыв о молоке и машинально кивая, опасливо прислушивался к собственным ощущениям. Не температура ли поднимается? Неужто испанка какая-нибудь? Или похуже какая дрянь... Срочно написать Олесиньке. Приедет ежели, чтоб привезла градусник и аспирин. Не найдёт аспирина — хотя бы антипирин...
— Знаете, Пётр Николаевич, что мне напоминает всё происходящее с нами? — Взвинченность Дроздовского вдруг уступила место тихой задумчивости. — Хирургическую операцию. Взять хотя бы мартовский переворот... Ведь он был опасной и тяжёлой хирургической операцией. Увы, неизбежной... Беда только в том, что нож хирурга оказался грязным и в тело России занесли большевистскую заразу. Теперь, чтобы спасти Россию, нужно удалить ту часть, которая поражена гангреной большевизма. И наша борьба — не что иное, как новая операция. Только вот, боюсь, как бы хирургический нож в руках нынешних наших вождей опять не оказался грязным...
С улицы донёсся шум подъезжающего автомобиля и крики бегущих за ним казачат.
Дроздовский, отставив пустой стакан, вынул часы из нагрудного кармана френча.
— Двенадцатый. Пора...
— А рапорт подать всё-таки следует... — Врангель заставил себя ободряюще улыбнуться. — Ия хочу, чтобы вы, Михаил Гордеевич, были в курсе... Я в своих донесениях постоянно указываю на недостатки снабжения, непосильные задачи и изматывание частей. Ежели угодно, покажу копии.
— Благодарю, это лишнее.
Легко поднявшись, Дроздовский первым протянул руку. Лицо его посветлело, ответная полуулыбка чуть оживила губы, горькие складки смягчились.
Вышли на переднее крыльцо. Часовые взяли «на караул».
— И вы, Пётр Николаевич, должны быть в курсе... — Дроздовский указал на поджидавший его чёрный автомобиль, добросовестно отмытый шофёром от жирной кубанской пыли. — У моего «Паккарда» лопнула шина, и пришлось ставить последнюю запасную. А у меня — лопнуло терпение. А запасного нет. Так что командующий мой рапорт получит. Надо продезинфицировать нож хирурга. Рискнём... Больше зла, чем есть, от этого не будет. А там, может, и улыбнётся счастье — спасём больную Россию.
Пожимая его костлявую кисть — показалась чуть ли не ледяной, — Врангель решил окончательно: встретятся в другой раз — тогда и поговорит вполне откровенно. А найдут общий язык — глядишь, и до совместных шагов дойдёт дело. Многое, впрочем, будет зависеть от того, как отреагирует Деникин на рапорт Дроздовского.
21 сентября (4 октября). Петропавловская
...Не говори, пожалуйста, никому, что я болею, это — лишние разговоры.
Захвати, если приедешь, градусник, антипирин и т.д. — всякую дрянь, здесь даже и термометра нет.
Киська! Не думай, что я сильно болею и оттого Тебя выписываю, но очень тоскливо без Тебя...
Пробежав глазами последние строчки, дважды подчеркнул никому. Очень осторожно: чернил осталось на донышке, нового пузырька ни в штабе, ни в атаманской канцелярии не нашлось, а хрупкий грифель простого карандаша ломался, едва надавишь... Слабо водя рукой, дописал: Обнимаю, да хранит тебя Бог. Петруша. Вложив письмо в конверт, аккуратно увлажнил клейкий край языком. Писал вчера поздно вечером, но не закончил — до того стало худо...
...Сразу после отъезда Дроздовского, только собрался на позицию, напал вдруг озноб. За ним — жар... В обед пробился сухой лающий кашель. Врач из летучки долго осматривал кожу на груди и животе, слушал, простукивал... И, посомневавшись, определил: вероятно, бронхит. Порекомендовал лежать и пить тёплое. Окончательно поставить диагноз обещал через день-два.
Что за диагноз, Врангель понял без уточнений: тиф или не тиф.
Бабки станичные, «набилизованные» Гаркушей, настояли на травах какую-то мутно-бурую жижу. Как увидел — совсем тошно стало. Послал к чёрту. Но адъютант пустил в ход всё своё красноречие и уговорил-таки выпить «лексир от всех хворей», на вкус — терпкий до горечи.
Русскую печь натопили по-зимнему — закрыв заслонку, — и всю ночь, обложенный пуховиками, он потел, как в парной. Жар и кашель едва не придушили. Ворочался с боку на бок и, кажется, ни на минуту не забылся сном.
Глаза открылись только в девятом часу. Пока натягивал бриджи и сапоги, свежая сорочка насквозь промокла под мышками и на пояснице. Угарная духота ещё не выветрилась, поэтому мундир просто накинул на плечи. Ноги истекали потом. Дрожа и подкашиваясь, еле донесли до письменного стола. В голове гудело...
А на соседнем дворе, как на грех, какой уже день стоит истошный крик домашней птицы. Удивлялся ещё: неужто хозяева режут целыми днями? Гаркуша сочувственно разъяснил: давно уж перерезали, едва цыплята подросли, но одних только курочек, потому-то молодые пивни и дерут горло — тоскуют, значит...
...Нынче тоскуют сильнее вчерашнего. Вот безобразие! Хорошо бы головы этим «пивням» посворачивать.
Глянул в чисто протёртое окно: день, как нарочно, выдался ясный, сухой и безветренный. Мучительно размышляя, стоит ли завтракать — до того муторно, что невмоготу даже смотреть на еду, — пододвинул бумаги.
Первым подвернулся очередной смертный приговор, вынесенный станичным правлением, — список в десяток фамилий. Опять пришлось браться за ручку...
А вот и сводки, поступившие за ночь из бригад. Но что в них может быть нового? Всё то же: «части вели разведку» и «противник оставался пассивен»... Набило уже оскомину...
Подвернулось письмо генерала фон Дрейера.
С Дрейером, служившим в штабе 7-й кавалерийской дивизии, познакомился в начале июля 17-го в Станиславове. Позже, вступив в командование Сводным конным корпусом, взял того к себе начальником штаба... Теперь вот прибыл в Екатеринодар и изъявляет желание продолжить совместную службу. Не сказать, чтобы душа лежала к нему: офицер Генштаба хотя и знающий, но формалист и не прочь польстить начальству сверх меры. Разве что, пока Баумгартен не выздоровел... А потом найти пристойную должность в штабе.
И вообще... Хорошо бы собрать всех, кого ещё можно, старых соратников. И назначить пока в ординарческий взвод — новых штабных должностей не нахлопочешься.
Пробудившаяся вдруг жгучая жажда погнала на кухню. Едва вышел в полутёмный коридор, как чуть не сбил с ног взбудораженный Гаркуша.
— Ваше превос-ство! Командующий! На околице зараз! Авто с конвоем... — Одна рука размахивала бруском наждака, в другой тускло сверкнул длинный узкий клинок кинжала.
Сил не нашлось ни удивиться, ни возмутиться. Да что же это, чёрт возьми, за порядки в Добровольческой армии! То целая дивизия как снег на голову, то сам командующий. И именно в тот день, когда на него насела болезнь...
— Это что ещё за паника? Посмотреть на тебя, так разъезды «товарищей» паперть заняли... Папаху, ремни и шашку. Живо!
Раздражение дало силы. Определённо, лучшего предлога отстранить его от командования и пожелать нельзя. Для лечения. Хочешь не хочешь, а подчиниться придётся... Слава Богу, зелье помогло: прокашлялся, как встал, и помягчело в гортани, бронхи успокоились. Только ноги не крепче макаронин, будто из них вынули кости, и пот льёт градом. А завтракать всё же придётся: командующих без угощения не встречают.
Конвой — полувзвод кубанцев — удивил малочисленностью. А вот то, что Деникин привёз с собой Романовского, не вызвало ни малейшего удивления. Как и добрых чувств. Из длинного, на семь мест, открытого «Форда» вышел ещё какой-то генерал-лейтенант с узкими интендантскими погонами, пожилой и грузный. Лицо и фигура смутно напомнили кого-то...
Уже рапортуя, узнал Санникова, бывшего в 17-м главным начальником снабжений Румынского фронта. Назначен недавно, почти одновременно с ним, начальником снабжения армии... Деникин и Романовский переобмундировались: облачились в кителя защитного цвета, такие же потёртые, как и прежние их гимнастёрки, и тёмные шаровары-суженки. Оба не забыли про аксельбанты офицера Генштаба. И повесили через плечо пехотные шашки. По видимости, решили покрасоваться перед казаками... Деникин, заметно, не в себе: какой-то угнетённый. Рапорт слушает рассеянно, полусогнутую ладонь держит ниже виска. Под глазами — мешки...
— Как ваше здоровье, Пётр Николаевич?
— Благодарю, ваше превосходительство, удовлетворительное.
Деникин только кивнул безучастно. Врангелю эта безучастность пришлась милее заботливости.
— Я хочу поговорить со станичным сбором. И посмотреть полк. Любой, какой стоит в резерве.
— Слушаю. Не желаете ли сначала позавтракать?
Деникин принял предложение без видимого удовольствия.
Пока в столовой накрывали, обосновались в кабинете. Командующий армией рассматривал карту так же внимательно, как и Дроздовский четыре дня назад. Подробно расспрашивал об обстановке на участке дивизии.
За расспросами, заметив настойчивый взгляд Романовского, расположившегося у приоткрытого окна, вдруг спохватился. Извинившись, поздравил Врангеля с утверждением в должности начальника дивизии. Просто и без тени лукавства.
Врангель с достоинством поблагодарил. Влажный шёлк холодил спину, будто сорочку только что принесли с мороза. Раздражало это ужасно. Старался дышать неглубоко: не раскашляться бы.
Романовский держался, как всегда, невозмутимо.
Даже старый китель, отметил Врангель, не убавил шляхетской надменности начальника штаба... Реплики вставляет в общий разговор точно. Так хороший артиллерист кладёт снаряды в пристреленное место... Лицо гладко выбрито, и холёность сохраняет, несмотря на хроническое недосыпание. Вот Санников — наоборот: сильно сдал. Уже почти старик: оплыли и опустились плечи, остатки ёжика на голове, усы и брови поседели, лоб и щёки — морщинистые и жёлтые... И на стул сел, кряхтя по-стариковски. Немудрено было не узнать. Ведь за пятьдесят уже... А сам-то ты, Петруша, на кого похож, любопытно знать? Ни побриться не успел, ни даже в зеркало глянуть... Что же, чёрт возьми, так гнетёт Деникина?
Ничего чрезвычайного, скоро понял Врангель, не привело командующего в его дивизию. Обычное дело: проведать, послушать, подбодрить. А ещё — поделиться размышлениями стратегического порядка, которые не всегда можно доверить телеграфу и даже офицеру для связи.
Только теперь, из отрывочных фраз Деникина, он узнал, что ещё 2 сентября, когда Боровский неожиданным ударом занял Невиномысскую, удалось захватить штаб Таманской армии большевиков. Среди бумаг обнаружился отданный накануне приказ «главковерха» Сорокина именно в тот день начать «решительное наступление» на Ставрополь. Но неделю спустя радиостанция штаба армии перехватила приказ того же Сорокина, из коего можно понять, что тот потерял все надежды на возвращение Кубани и намерен пробиваться к Минеральным Водам. А спустя день, в полном противоречии с этим приказом, Северо-Кавказская красная армия перешла в наступление на широком фронте. И после пяти дней упорных атак, не считаясь с огромными потерями, большевики отбили Невиномысскую. Тем самым Сорокин снова открыл сообщение своей армии по Владикавказской магистрали.
Казалось бы, она необходима ему для отхода к Минеральным Водам. Но Невиномысская группа мало похожа на арьергард, задача которого — прикрытие такого отхода. Напротив, она постоянно усиливается за счёт крупных пополнений, превращаясь в серьёзную угрозу Ставрополю.
Вопрос о стратегии большевистского командования окончательно запутали сведения разведки о возникших в большевистской верхушке разногласиях: Матвеев якобы настаивает на взятии Ставрополя, а кто-то — на отходе к Святому Кресту или Минеральным Водам. Вряд ли рядовые бойцы, кубанские иногородние, захотят отступать в прикаспийские пески только для того, чтобы неминуемо там замёрзнуть или умереть с голоду. Не исключено, растёт недовольство Сорокиным, на него давят массы и их начальники. Оттого он и мечется.
Чем закончатся их споры и колебания — неизвестно. Однако уже теперь очевидно: взяв Ставрополь, Сорокин может двинуться на север, к Царицыну, на соединение с основными силами большевиков. Или того хуже: поддавшись победному настроению, повернуть на запад и попытаться отбить Екатеринодар...
— Скорее всего, — подытожил свои размышления Деникин, — центр тяжести скоро переместится к Ставрополю. И придётся стягивать туда основные силы. Тогда полное освобождение Кубани отодвинется на неопределённый срок. Я уж не говорю о соединении с восставшими терскими казаками[60]... Вместо этого нам придётся ликвидировать угрозу нашей связи с Доном. Да ещё угрозу правобережью Кубани. Причём одновременно... Так что, Пётр Николаевич, чем скорее вы возьмёте Михайловскую, тем меньше шансов будет у Сорокина отбить Ставрополь.
Врангель не сразу нашёл что сказать, но Деникин и не дал:
— Я хорошо осведомлён, как тяжело вам и вашим кубанцам, какие жертвы принесены. И что противник перед вами исключительно силён и упорен, а вы решительно во всём испытываете нужду...
— Главное, в чём нуждается моя дивизия, — винтовочные и артиллерийские патроны.
— Я изыскиваю все возможности помочь вам. Но они, увы, крайне ограничены... И в смысле снабжения, и в смысле содействия вам со стороны других дивизий.
— Дроздовский, к сожалению, не оправдал наших надежд, — заметил Романовский.
— К сожалению... — Деникин кивнул со вздохом. — Слишком он осторожен: дивизию развёртывает медленно, силы вводит в бой по частям. Якобы для уменьшения потерь. Но потери как раз от этого и растут... И вдобавок не вполне владеет своими нервами. И когда операция кажется ему чересчур рискованной — создаёт трения с моим штабом. Но таковы все операции нашей армии, все дерутся в осином пекле. Что ж делать, если враг превосходит нас численно и гораздо лучше вооружён и снабжён...
— Не в нервах, думаю, причина, Антон Иванович, а в самовлюблённости и капризности... — Романовский поправил своего начальника с отчётливо слышимым сочувствием.
— Пожалуй... — И, посчитав сосредоточенное молчание Врангеля за согласие, Деникин довёл свою мысль до конца: — Надеюсь, в самые ближайшие дни вам поможет Покровский. По всем признакам, он сорвал наступление Майкопской группы большевиков. Она выдохлась и Майкоп вполне обеспечен. Поэтому вчера я приказал ему любой ценой перейти на правый берег Лабы и выдвинуться к Курганной. Это создаст серьёзную угрозу Михайловской группе. И тогда можно ожидать её отхода. Вы как полагаете?
— Полагаю, именно так и будет.
Ничего другого Врангелю не оставалось ответить. Разболелась от напряжения голова, и он никак не мог взять в толк: ведь в Михайловской операции они оба понесли неудачу, но к нему не предъявляют ни малейших претензий. Даже намёков никаких. А недовольство Дроздовским выставляют прямо-таки напоказ... С чего это вдруг?
Провожая гостей в столовую, поинтересовался деликатно:
— А как здоровье Михаила Васильевича, ваше превосходительство?
— С переменным успехом, — выдавил из себя Деникин, быстро отведя глаза. Полумрак коридора помешал Врангелю уловить их выражение.
Оглядывая не без удивления стол и расправляя салфетку на коленях, Деникин заметил, что после такого завтрака он сможет дня три не обедать. Шутка его, хотя и не подкреплённая улыбкой, придала разговору менее официальный тон.
Выпили за успехи армий Согласия: наконец-то перешли в общее наступление на Западном фронте и с ходу прорвали позицию Зигфрида[61]. Потом заговорили об общих знакомых: кто как вырвался из Совдепии, у кого родные убиты большевиками, кто ещё приехал в армию...
Деникин старался выбирать что попостнее. Романовский в еде себя не ограничивал, особенно налегал на оладьи с мёдом и густым абрикосовым вареньем. Но даже к лёгкому белому не притронулся. Санников же, перебрав всю полудюжину выставленных на стол бутылок и изучив незнакомые этикетки, принялся дегустировать кубанские столовые вина.
Выбрав, как ему показалось, удачный момент — первый голод все утолили и разговор наладился, — он поднял вопрос о начальнике своего штаба.
— Фон Дрейер? — нахмурившись, переспросил Деникин. — И речи быть не может. У меня есть сведения, что он выдал немцам офицерскую организацию в Москве. А те сообщили большевикам. Все были расстреляны.
— Но я не допускаю мысли... — Врангель растерялся. Голова снова запылала, и ничего, кроме дежурных и бесполезных фраз, в неё не приходило.
— Смутные времена поднимают со дна души человека всю муть. И многие страшные вещи приходится не только допускать... В них приходится убеждаться на каждом шагу.
— Но может быть, Антон Иванович, — деликатно вмешался Романовский, — назначить временно, пока не выяснятся все обстоятельства...
— Нет! В моей армии он служить не будет. — Деникин отрезал жёстко и решительно. Его недовольный вид и отметающий жест были красноречивее слов.
Поспешив сменить тему, Романовский перевёл разговор на конфликты с кубанскими властями. И в этом случае, понял Врангель, всё говорилось исключительно для него.
По словам Романовского, претензии правительства Быча стали совершенно вызывающими. Озабоченные лишь улучшением хозяйственной жизни в крае, главари «черноморцев» не проявляют никакого желания нести тяготы содержания армии. Но при этом не прочь получить в своё распоряжение половину трофеев: прежде всего хлеб, сахар, мануфактуру, обувь и металлоизделия. В итоге органы снабжения больше заняты перепиской с кубанскими властями, а не правильным распределением трофейного имущества между частями и закупками продовольствия. Потому дивизии и испытывают хронический недостаток буквально во всём.
— Так, Александр Сергеевич? — обратился Романовский к Санникову.
Начальник снабжения то ли после долгой тряски в автомобиле, то ли от спиртного быстро осоловел, и седая его голова уже клонилась на грудь. Но нашёл в себе силы вскинуть её и подтвердить кивком.
Врангель поймал себя: менторский тон Романовского стал раздражать его куда сильнее холодных, вгоняющих в озноб прикосновений влажной сорочки. Вдобавок совсем некстати вернулся-таки кашель. И чем унять — чёрт его знает... Не иначе как одному чёрту известна и причина угнетённого состояния Деникина... А не в том ли, что дни Алексеева, и верно, сочтены?
— К сожалению, войска сами часто срывают снабжение и дают поводы для конфликтов с местными властями, — продолжал невозмутимо Романовский, то ли делая вид, то ли действительно не замечая болезненного состояния Врангеля. — Трофеи, вместо того чтобы сдаваться в интендантства, расхищаются. Часты случаи грабежей. Причём казаки грабят не только иногородних, но и казаков других станиц. Вы, Пётр Николаевич, должны сугубое внимание обратить на обеспечение неприкосновенности казачьей собственности. Ведь вы командуете кубанцами.
— И что с того? — Врангель, напрягшись, старался крепко держать себя в узде. — В моей дивизии грабежей нет.
— Хорошо, если так. Но, может быть, жалобы населения до вас не доходят? Или, скажем, вам о них не докладывают бригадные командиры... — бесстрастно уточнил Романовский. — Нрав у казаков специфический: своих не выдают... Даже офицеры.
— Я казаками командовал почти всю войну. И повадки их отлично мне известны. На третий же день после приезда я повесил двух мародёров. И с тех пор, повторяю, в моей дивизии грабежей нет.
— Похвально, Пётр Николаевич... — Чутко уловив нотки недовольства в сипловатом голосе Врангеля, Романовский смягчил тон до примирительного: — Увы, этим не может похвастаться генерал Покровский: на его кубанцев поступает особенно много жалоб.
— Чтобы бороться с этим злом, следует быстрее вводить в армии нормальные военно-полевые суды.
— Делается всё возможное, — парировал Романовский невозмутимо. — Но беда в том, что не хватает военных юристов.
На какое-то время установилась пауза. Отсутствие общего разговора восполнил стук ножей и вилок. Наконец Деникин, очнувшись от своих мыслей, произнёс с горечью:
— Не только юристов... Мы боремся на три фронта: против большевиков, против самостийников и против тыловой неустроенности. А достойных людей катастрофически мало. И с каждым днём их, кажется, становится меньше... Когда гибнут — больно, но понятно: на то и война. Но когда ставят своё честолюбие выше интересов армии и России...
— Не стоит принимать так близко к сердцу, Антон Иванович... — тепло и мягко, даже с нотками нежности, произнёс Романовский. — Обычное дело: слишком впечатлительные начальники при первой же неудаче начинают изводить командование непомерными требованиями и предсказывать всякие бедствия... Давайте отправим Дроздовского в отпуск. Чем продолжительней, тем лучше. Ему не помешает подлечить больные нервы.
— Ну, это вряд ли... — неожиданно подал сонливый голос Санников. — Вряд ли, говорю, удастся убедить полковника Дроздовского взять отпуск в такое горячее время. Я хорошо знаю его по Румынскому фронту... Честнейший и храбрейший офицер.
— В таком случае, Александр Сергеевич, давайте найдём ему должность в тылу. Пусть поработает под вашим началом. Но, согласитесь, нельзя доверять дивизию неврастенику.
— Ну, знаете, Иван Павлович... — Голос Санникова разом очистился от сонливости, кустистые брови сначала удивлённо изогнулись, а потом недовольно сошлись на переносице. — Если Дроздовский как начальник дивизии плох, по-вашему... Так, может быть, вам следует с ним поменяться? Вы займёте его место, а его назначить на ваше...
— Извольте, я не отказываюсь.
Врангель не мог не отдать должное Романовскому: и тени смущения не мелькнуло на холёном лице.
Вместо начальника своего штаба смутился Деникин. Не прожевав, он поспешил произнести:
— Нет-нет, я без Ивана Павловича остаться не могу...
И сделал свой характерный отметающий жест рукой: вопрос закрыт.
Завтрак подошёл к концу.
На церковной площади, у крыльца правления, командующего армией уже ждал станичный сбор с хлебом-солью. Напротив, поднятый по тревоге, построился в резервную колонну Корниловский конный полк.
28 сентября (11 октября). Петропавловская
Всегдашнее спокойствие Безладнову изменило: в расположение полка явился начальник дивизии. Ни с того ни с сего, не предупредив ни ординарцем, ни по телефону. Пешком и в одиночку, не считая адъютанта.
— Ишь, хоробрый якой выискався... — буркнул в белые усы, захлопывая за собой дверь. С высокого крыльца хоть и не сбежал, но ленцы поубавилось.
Что «в Корниловском полку всё благополучно», отрапортовал на чистом русском языке, уверенно и чётко, а самого покусывала досада. Было отчего: и посты раззяву словили — проглядели барона, будь он неладен, и рогожковые кули с мукой-крупчаткой, ещё утром за спасибо полученные от щедрот станичников, до сих пор горой навалены у самого крыльца, а не сложены, как полагается, в бунт[62], и даже собственные усы не успел расчесать — топорщатся во все стороны, что деркачи. Теперь ясновельможность почнёт повсюды соваты нос и лаяты...
— Послушайте-ка, подъесаул... Не нужно тревожить казаков и вызывать сотенных командиров...
Голос Врангеля изумил необычной мягкостью, а взгляд — доброжелательностью.
— Слушаюсь, ваше превосходительство.
— Я просто пройдусь по квартирам и посмотрю, как отдыхает полк...
Уточнять, что отдых у корниловцев, по всему, вот-вот закончится, как и топтание на месте всей дивизии, Врангель счёл преждевременным...
...Пятый день подряд дивизионная разведка докладывает о случаях отхода колонн и обозов противника из района Михайловской по грунтовой дороге на Константиновскую и дальше куда-то на юго-восток. И лазутчики доносили, и местные жители сообщали, и разведывательные партии удостоверялись. Большевики ведут себя пассивно, даже их разъезды перестали беспокоить сторожевое охранение.
Казачьи «лексиры» помогли Врангелю одолеть инфлуэнцу. Зараза пострашнее обошла стороной. А признаки перемен к лучшему на фронте потянули к сводкам. Дабы не дать противнику скрытно сняться с позиций и оторваться, приказал начальникам боевых участков беспрерывно тревожить его набегами, а будет возможно — и частичными наступлениями.
Выбрался наконец из опостылевшей кровати, на душе затеплился просвет.
Но позапрошлой ночью, со среды на четверг, телеграф принёс из Екатеринодара весть чернее некуда: умер «верховный руководитель» армии генерал Алексеев.
Деникин, объявляя о кончине вождя, тем же приказом принял на себя звание «главнокомандующий Добровольческой армией». Получилось, прибрал к рукам всю полноту власти: и над войсками, и над Особым совещанием, и над финансами, и над всей внутренней политикой, и над международными сношениями. Что же теперь станет с армией? Неужто сбудутся ужасные пророчества «неврастеника» Дроздовского?
Мрачные раздумья, придавив тяжелее прежнего, сил не прибавляли...
Но вчера рискнул-таки сесть в автомобиль. Следовало проверить хотя бы ближайший боевой участок. Пошатывался от слабости, однако приличествующие начальнику вид и тон сохранил до конца. А вот мотор, чихнув пару раз, заглох на полдороге. Обратно «Руссо-Балт» тащили на волах... Шофёр с помощником до сих пор копаются.
Сесть на лошадь, поколебавшись, всё-таки не рискнул. А собственными ногами, чуял, сможет дойти только до Корниловского конного. Подумывал перед выходом послать к Безладнову ординарца, но не послал: глупо поднимать полк по тревоге, раз горло ещё сипит и драть его перед строем — совсем без голоса остаться...
Ясный, сухой и тёплый день по-осеннему быстро уступал место тихому и прохладному вечеру. Солнце уже прилегло на крыши, но его падающие с левого боку косые лучи ещё грели сквозь сукно мундира.
Брёл неспешно: не взмокнуть бы. Дышал полной грудью и не мог надышаться, до того опротивела вонючая духота деревенского жилья. Остывающий прозрачный воздух, слегка приправленный острым кизячным дымком, бодрил и освежал, как шампанское. Приветливо здоровался с казаками и казачками, оглядывал поверх низких плетней богатые дома и дворы, иногда посвистывал разномастным собакам, гавкавшим на него для порядка.
На десяток шагов позади, большим пальцем правой руки зацепив ремень карабина, неслышно шествовал настороженный Гаркуша. Через согнутую левую заботливо перекинул генеральскую шинель: к ночи, должно, постуденит.
В Петропавловской Врангель уже совершенно освоился. И полковой штаб, занявший кирпичный дом богатого казака на просторной, побольше церковной, площади, нашёл без подсказок...
...— Слушаюсь, ваше превосходительство... — И Безладнов, не любитель тянуться перед начальством, обмяк. Неширокие плечи его опустились, левая нога чуть согнулась в колене.
— И вот ещё что... — улыбнувшись пошире, подбодрил его Врангель. — Говорите мне о всех нуждах полка совершенно не стесняясь... Мне нужно знать чистую правду. Только тогда я сделаю свою дивизию лучшей в армии.
И добавил будто бы для себя:
— А ежели не сделаю — уйду...
Проникновенный тон и дружеская улыбка начальника дивизии побуждали к откровенности. Они быстро вернули Безладнову его всегдашнюю беспечность, и язык его развязался сам собой.
Сопровождаемые полковым адъютантом подъесаулом Елисеевым[63] — статным и одетым не без щегольства, — обходили они дворы, где расквартировали казаков.
Всюду находили порядок: висит на верёвках постиранное бельё, через коновязи перекинуты сёдла и сумы, там же повешена сбруя — просушиться на солнце, в бунтах — мешки и кули с мукой, зерновым фуражом и свежим сеном. Заходили, крестясь на иконы, в комнаты: прибрано чисто, винтовки поставлены в угол, разложенные на полу соломенные тюфяки — даже офицерам и вахмистрам кроватей и широких лавок не всем хватило — аккуратно застелены бурками, следов пьяных гулянок не заметно.
Коней корниловцы уже вычистили, вшей переловили и передавили, постригли друг друга с грехом пополам и напарились в бане всласть... Теперь, вооружившись иголками, штопают бельё и обмундирование, чинят сёдла, уздечки, пахвы и нагрудники, точат кинжалы и шашки, чистят и смазывают винтовки. Кто-то подметает двор, кто-то носит воду из колодца, кто-то стирает, кто-то моет посуду, кто-то варит в казанах мясо.
Заглядывали в конюшни: тесно и здесь, но убрано чисто, колодезной воды, зерна и сена у коней вдоволь.
И хотя люди выглядели отмывшимися, выспавшимися и весёлыми, а их наевшие бока лошади — вычищенными и отдохнувшими, Безладнов знай себе твердил одно: полк во всём терпит нужду, интенданты не доставили того-то и сего-то, все почти предметы довольствия приходится на сотенные деньги покупать в лавках, а патронами в лавках не торгуют, а без патронов и бинтов — не война, а хоровое самоубийство. Бесхитростный и правдивый, он не очень-то и нуждался в приглашении «не стесняться». Низким и грубоватым от природы голосом, горячо тыча пальцем во что-нибудь или рубя воздух ладонью, он беспрестанно, как заезженная граммофонная пластинка, повторял: «Полк во всём терпит нужду»...
Врангель слушал, не перебивал и доброжелательно улыбался. С наслаждением вдыхал бодрящий аромат сена, зерна и ремней. Ничуть не устал и чувствовал себя всё лучше.
И чем дольше слушал он Безладнова, тем доброжелательнее становились его улыбка и тон. Уже и по имени стал звать временно командующего полком... Но глаза всё чаще прятались за узким прищуром, и взгляд всё реже задерживался на порозовевшем от возбуждения лице подъесаула, соскальзывая на алый погон с чёрного цвета звёздочками, вензелем «К» и выпушкой...
Гаркуша, успевая и ловить каждое движение Врангеля — не даст ли какой знак, — и покуривать украдкой, и поглядывать завистливо на серебряный аксельбант, украшающий грудь полкового адъютанта, держался в отдалении. Слова удавалось расслышать одно через дюжину, а вот тон разговора улавливал хорошо. Ещё лучше — настроение своего начальника. Приноровился уже... С виду — казачья прямота Безладнова люба ему, но в серёдке, как пар в натопленной бане, копится недовольство...
А ещё разбирало Гаркушу любопытство: не потребует ли его превосходительство к себе того желторотого наглеца-сотника, что наскочил на него, точно жеребец, сдуревший под обстрелом, когда атака Корниловского полка захлестнулась? На другой день после неудачного рейда на Курганную прибыл с докладом полковник Науменко, и за завтраком его превосходительство рассказывал об этой выходке и сам же хохотал от души. А потом принялся выспрашивать: кто это был такой смелый офицер, что наладил его с передовой? Долго Науменко отнекивался, вроде как мужик перед станичным атаманом, да чего уж тут отнекиваться, когда полгода корниловцами командовал и должен отлично знать всех офицеров и в лицо, и по фамилиям... Кончилось тем, что его превосходительство велел-таки бригадному командиру узнать фамилию сотника. Шутейно велел, но пообещал всерьёз, что тому ничего за дерзость не будет... И вот так же всё прищуривался. То на оладьи, то на кувшин с молоком...
В длинном сарае с широкими дверями, растворенными нараспашку и чуть покосившимися, стояли ровным рядом линейки с «максимами» и «гочкисами».
— Зато у вас изобилие пулемётов... — одобрительно заметил Врангель.
— Уж сколько есть, ваше превосходительство... — В голосе Безладнова затрубила гордость. Подвоха он не учуял.
— А не уступите другим полкам? — Врангель принялся считать в уме пулемёты: ...семь, восемь, девять... — Хотя бы парочку...
— Как так уступить? — изумлённо воззрился на него снизу вверх Безладнов. И, не перехватив ещё взгляда, мотнул головой. — Ну нет!
— Да ведь у линейцев или, к примеру, запорожцев пулемётные команды — одно название. А противник у всех одинаковый. Как ни крути, Владимир, а братьев казаков надо выручать...
— Вот в бою мы их и выручим. А отдать — не-е... — и Безладнов ещё раз мотнул головой. Вышло много резче и решительнее.
Сохраняя доброжелательную улыбку, Врангель принялся его уговаривать. Даже приобнял за талию, туго обтянутую грубоватой дачкой черкески... Но чем мягче становились его увещевания, тем явственнее пробивалось в Безладнове воловье упрямство казаков-черноморцев. А грубость голоса добавляла его возражениям дерзости.
Наконец, сорвавшись, он заявил резко:
— А я хочу, чтобы мой полк был самым лучшим в дивизии! И мы свои пулемёты не от снабженцев получили, а отбили в боях... От нехай и другие полки отобьют себе!
Улыбка не сошла с бесцветных губ Врангеля...
Прощаясь, он энергично тряс Безладнову руку, благодарил за прямоту и обещал полковые пулемёты не трогать. Снова приобнял за талию... А сам щурился на ещё залитый ярко-малиновым светом запад. Безладнов же, зардевшись ярче вечерней зори, смущённо уставился на истёртые носки своих чувяк.
Гаркуша, уже приготовившийся накинуть шинель на генеральские плечи, ощутил вдруг, как ворохнулось на самом дне его души сочувствие к временно командующему полком. Чем плевки под ногами считать, лучше бы его превосходительству в очи глянул. Самому-то ему и не треба: сердит, ох сердит...
...Обезлюдевшую станичную улочку заполнили дымные сумерки. Легко шагал Безладнов обратно в штаб, довольный и разговором, и собой. Особенно тем, что отстоял пулемёты.
И чего пуще всего опасался — не случилось: не потребовал барон примерно наказать сотника Васю Зеленского. Ведь командир бригады полковник Науменко, приехав на другой вечер к ним на позицию, всё-таки выпытал, кто это пригрозил силой убрать Врангеля с передовой. Вася сам же встал и признался... Скромный такой парнишка. И стеснительный, як красна дивчина. Уверял потом Науменко, что генерал осознал свой промах и только хочет знать фамилию смелого офицера. И убеждал не бояться: наказывать его никто не собирается...
И правильно Вася сделал, что пригрозил: попади начальник дивизии в плен, его и выручить было бы некому. Вот осрамился бы славный Корниловский полк!
А всё из-за безрассудства баронского. Месяц уж умывается кровью вместе с дивизией, а не дошло ещё до вельможества: для казаков начальник в фуражке и при шпорах — не начальник. Генералину в нём через край, щоб це зрозумиты...
Из-под усов выглянула мягкая усмешка: а пулемёты отстоял-таки... твою мать!
— Не той казак, що поборов, а той, шо выкрутився, — похвалил сам себя в полный голос и расхохотался довольно.
1 (14) октября.
Петропавловская — Михайловская — Курганная
Барабанный стук и ликующий зов адъютанта вмиг вырвали Врангеля из удушливых объятий атаманских пуховиков. Показалось, дверь затрещала под ударами гаркушиного кулака.
Всех штабных сорвал с места полковник Мурзаев[64], командир 1-го Линейного полка, доложив по телефону: большевики взорвали железнодорожный мост через Лабу у аула Каше-Хабль и оттягивают части на правый берег...
...Отход колонн и обозов из состава Михайловской группы на юго-восток как начался в прошлый вторник, так и не прекращался. Передовые части оставались пассивны. А во вчерашней разведсводке штаба армии высказано предположение, что большевистское командование поменяло стратегический план: решило оставить Кубань и, прикрываясь сильными арьергардами на Лабе и у Армавира, отводить войска в общем направлении на Невиномысскую и далее в Терскую область.
В штабе 1-й конной, так и работающем без начальника, воцарилось тревожное и возбуждающее ожидание скорого перехода в наступление. Передаваясь по телефонным проводам в штабы бригад и полков и многократным эхом возвращаясь обратно, оно росло с каждым часом...
...Тускло отсвечивало слегка запотевшее окно. Глухая и холодная темень рассвета не предвещала.
Одевался Врангель, сберегая силы, неспешно, а с приказаниями торопился. На боевые участки пошло сообщение о происходящем в тылу Каше-Хабльского плацдарма. За ним — приказ доложить обстановку. Вслед — приказ переходить в решительное преследование при первых же признаках отхода противника.
Гаркуша метался как угорелый между начальником дивизии и телефонистами, обосновавшимися со своими аппаратами, ящиками и катушками на застеклённой веранде-столовой. И ещё успевал передавать приказания сворачивать штаб, сгонять повозки и грузить имущество, кормить штабных офицеров, ординарцев и конвойцев, седлать лошадей, проверить, исправен ли автомобиль. Да не забыть запасные шины и канистры с бензином и керосином.
Врангель быстро надиктовал Рогову, временно исполняющему должность начальника штаба, оперативный приказ о преследовании противника двумя походными колоннами. 1-й бригаде — ввиду отъезда полковника Науменко в отпуск командовал ею полковник Муравьёв — через Курганную, Родниковскую, Чамлыкскую и далее на Бесскорбную. 2-й бригаде полковника Топоркова — через станцию Андрей-Дмитриевку и Синюхинский хутор на Урупскую. 3-я бригада — в резерве, а полковнику Мурзаеву 1-м Линейным полком занять Константиновскую...
Едва посветлело, начальники участков наперебой стали докладывать об отходе противника перед ними. Некоторые признавались: большевики, снявшись с позиций, вероятно, ещё в начале ночи, успели оторваться и куда отходят — пока не выяснено. Раз уход их обнаружился на всём фронте, Врангель отдал приказ о переходе в наступление. Не вполне ясным, однако, оставалось положение в самой Михайловской...
...Прискакавший к подъесаулу Безладнову ординарец помимо оперативного приказа дивизии доставил ещё приказание полку: переменным аллюром двигаться на станицу Михайловскую. Час выступления — 8.00. Начальник дивизии уточнил особо: противник снялся ночью с позиций, оторвался и отступил неизвестно куда.
Хоть и туго соображалось Безладнову спросонья, и огарок сальной свечи всё норовил затухнуть, главное дошло.
— Прос-спали... твою мать!
И зло насадил деревянную гребёнку на пышный ус.
Не обращая внимание на ординарца и тут же явившегося к нему в комнату полкового адъютанта, уже в черкеске и при оружии, рывками расчёсывал перепутавшиеся жёсткие волосы. На помрачневшем худом лице знаменитые его усы побелели ярче. За них в Николаевском кавалерийском училище его прозвали «Тарасом», до того походили на усы гоголевского Тараса Бульбы.
Бросив гребёнку, откинул крышку бронзовых карманных часов: семь с четвертью. Обдумать бы не мешало положение, в двухвёрстку заглянуть... Но барон времени не оставил. Да и ни к чему теперь думать. Как и спешить: всё одно опоздали...
Неторопливо надел поверх нижней рубахи чёрный ситцевый бешмет, выстиранный и отутюженный. Степенно вышел на крыльцо. Прокричал, как протрубил:
— Трубач — «тревогу»! Сотням — «поход»!
Ординарцы от сотен, невнятной скороговоркой повторив словесное приказание, галопом понеслись от крыльца к своим командирам. Одинокая сигнальная труба, забивая петухов, разнесла над просыпающейся станицей пронзительные и будоражащие звуки. Сначала прерывистые потом резкие и в конце протяжные... Их подхватили сотенные трубачи на соседних улицах. Повторно затрубили спевшимся хором.
Слова этого сигнала, в отличие от других, из казачьих голов не выветривались: «Тре-во-гу тру-бят, ско-рей седлай ко-ня, но без су-е-ты, о-ру-жье о-правь, се-бя о-смо-три, ти-хо на сбор-но-е ме-сто ве-ди ко-ня, стой смир-но и при-ка-за-а жди-и-и».
Одеваясь наспех, выскакивали из домов и бросались седлать. На бегу перекидывали через голову ремень винтовки и шашечную портупею. Самые прыткие успевали плеснуть в лицо ковш сильно охолодавшей за ночь воды. Оседлав, торопливо стягивались на площадь, к штабу полка. Вели коней в поводу и выспрашивали друг у друга, чего случилось и откуда опасность. Пальбы не слыхать...
...В половине девятого, дождавшись от Муравьёва, Топоркова и Мурзаева донесений о начале движения колонн, Врангель оторвался от десятивёрстки и накинул шинель.
Трубы в северной части станицы давно уже смолкли. «Руссо-Балт», выстреливая назад густые сизые клубы, а вперёд отбрасывая длинные лучи, тарахтел и крупно дрожал всем корпусом.
Придерживая дверцу открытой, Рогов, вполголоса и внешне бесстрастно, уточнил обстановку: Корниловский полк с выступлением в Михайловскую опаздывает, но взвод екатеринодарцев, посланный в разведку, большевиков в станице не обнаружил. Врангель выслушал, прищурившись на свет ацетиленовых фонарей, ослепительно-белый и при пасмурном утре, и приказал ехать...
Солнце никак не могло пробиться сквозь низко нависшую серо-синюю пелену облаков. Жидкий туман медленно отползал с набитой дороги в заросли камыша и пожухшие кукурузные поля. Подъёмы встречались пологие, но «Руссо-Балт» и их одолевал с надрывом.
Следом, перемешивая пыль с туманом, шли широкой рысью адъютант, взвод ординарцев, конвой и штаб.
Всё вокруг — беспросветное небо, промозглый туман, холодный ветерок с востока, скрип и дребезжание автомобиля — нагоняло на Врангеля озноб. И даже накинутая бурка не спасала. За ознобом не заставил себя ждать и осточертевший кашель. То ли от влаги, подернувшей воспалённые глаза, то ли ещё почему, дальние предметы вокруг потеряли резкость линий. И хорошо уже знакомая боль, подкравшись незаметно, сдавила грудь.
Совсем некстати: флакон с валерьяновыми каплями — обычно они помогают — остался в чемодане, а тот везут в штабной линейке, вместе с бумагами и прочим нищим имуществом штаба. Да и как бы накапал? При подчинённых — форменное позорище. Олесинька бы что-нибудь придумала, но она, Кискиска его любимая, далеко. И теперь будет ещё дальше... Раз оказался не тиф, попросил обождать ехать к нему, а заняться закупкой на дивизионные деньги медикаментов и перевязочных средств для летучки. Тем более ей пока не удалось выведать у Апрелева, что творится в штабе армии. А вот о Баумгартене, умница, всё разузнала и в последнем письме сообщила: лежит в войсковой больнице, в сознание не приходит, и никаких признаков выздоровления. Ужасная весть! Теперь планы наступательных операций придётся разрабатывать без начальника штаба. Душевное спасибо, Антон Иванович...
Михайловская — столь вожделенная и столь дорого обошедшаяся его дивизии — была похожа на другие виденные им богатые кубанские станицы: те же две-три тысячи дворов, растянувшиеся вдоль речки, те же большие, как в городе, каменные дома, крытые черепицей или крашеным железом, те же высокие мельницы, водяные, конные или ветряные, та же просторная площадь со златоглавым храмом, те же вокруг храма пирамидальные тополя, дотянувшиеся серебристыми верхушками до позолоченных крестов.
На улицах бурлило праздничное оживление. Станичники встречали автомобиль ликующими криками. Казаки, обнажая седины, снимали папахи, размашисто крестились и кланялись, кряхтя, в пояс.
На церковной площади гудела огромная пёстрая толпа. Перед станичным правлением уже ждали с хлебом-солью длиннобородые старики в парадных черкесках и разноцветных бешметах. Колокола Покровской церкви, деревянной, но массивной и крепкой на вид, окрашенной белой масляной краской, захлёбывались в радостном трезвоне.
Отведав хлеб-соль, заговорил со стариками...
Колокольный звон, бабий рёв, голоса, собственные слова — всё стало отдаваться болью в голове. Она будто распухала, и её всё сильнее сдавливал обруч... Взгляд ни на чём не мог задержаться. Глаза, полные любви и счастья, восторженные и заплаканные лица, дерущиеся почему-то дети и рвущие на себе волосы казачки, разъезды догнавших его корниловцев и невесть откуда взявшиеся конные черкесы — всё мелькало, рассыпалось и перемешивалось, как в трубке калейдоскопа...
Большевики, не сразу уяснил, перед уходом расстреляли здесь же, на площади, нескольких стариков, включая станичного атамана. Да ещё заложников забрали: самых богатых казаков, первого священника и семью инспектора начального училища. Досталось и храму: на иконостасе прострелили губы святым и в отверстия повставляли окурки...
С высокого крыльца правления обратился к станичникам. Говорил о Великой России, о её безмерных страданиях под большевистским и немецким игом, о необходимости всем пожертвовать ради скорейшего её избавления от гнёта грабителей, насильников и осквернителей святынь... Одобрительный гул делался всё громче и дружнее, приладился к его горячим словам и подавил плач. Горло иссохло и засаднило...
Пришлось и благодарственный молебен отстоять. Совсем изнемог, но симпатии населения к армии-освободительнице и её вождям укреплять надо.
Служили с каким-то особенным воодушевлением. На редкость горячо и искренно молились казаки.
Выйдя на воздух, почувствовал облегчение: боль притупилась, и стало возможно дышать полной грудью. Отпустило и голову.
Весь Корниловский полк со своей пулемётной командой уже стянулся на площадь, оттеснив часть толпы в прилегающие улицы. Казаки довольно скалили зубы и перекидывались шутками. Пофыркивали и обмахивались хвостами лошади.
Врангель придирчиво наблюдал, как Безладнов строит резервную колонну: как-то флегматично, без огонька... А вот сотенные командиры суетятся и покрикивают сверх меры. Отдых не всем казакам пошёл впрок: позвякивают плохо подогнанные уздечки...
Но тут всё его внимание приковали красноармейцы. С полсотни их Безладнов пригнал зачем-то на площадь... Грязные, заросшие, избитые... Уже раздеты и разуты казаками: в одних белых рубахах и исподних брюках. Поникли и жмутся в кучку... Нет, не все: иные, задрав головы, озираются злобно. Бабы и мальчишки, выкрикивая угрозы и проклятия, норовят достать их камнем или плевком. Корниловцам-конвоирам волей-неволей приходится слегка осаживать особо ретивых...
Пленных на этой войне видел впервые. Казаки, дерясь за своё поколениями нажитое добро и само существование, зверели от жестокости и крови, своей и врага. И убивали «большаков» — успел вздеть руки, не успел — на месте, без всякой жалости. Нынче, предположил, радость победы и предчувствие скорого освобождения родного края смягчили их суровые сердца.
Вполголоса поинтересовался у Рогова.
Капитан, непривычно оживлённый и многословный, доложил: пленные — ездовые и прикрытие обоза, настигнутого корниловцами недалеко от станицы. И тут не все, а меньшая часть. Остальных зарубили. Три десятка повозок были так перегружены, что лошади смогли идти только шагом... Везли табак, сахар, мыло, спички, бекеши, тулупы, даже шубы собольи, хрустальную посуду и граммофоны... В общем, всё, чем красным разбойникам удалось поживиться в богатых домах и станичных лавках. Огнеприпасов, увы, нет. Зато нашлись новенькие канцелярские принадлежности, увезённые, видимо, из какого-то екатеринодарского магазина: писчая, чертёжная и почтовая бумага, конверты, клей, чернила и тушь разных цветов, ручки и перья, простые и химические карандаши, папки и регистраторы, конторские и копировальные книги, готовальни «Отто Кирхнер». И даже немецкая пишущая машина «Мерседес» с широкой, на развёрнутый писчий лист, кареткой и чёрно-красными лентами к ней...
Всё это канцелярское изобилие Рогов перечислял с такой гордостью, словно сам его и захватил. И будто бы даже, поиронизировал Врангель, в росте прибавил. Но вот с объявлением благодарности гордецу Безладнову он поторопился...
— Кор-рниловский полк, смир-рна! Шашки — вон! Слу-ушай! На кра-а-ул! — установившуюся тишину разрезал стальной шелест пятисот клинков. — Гос-спода оф-фицер-ры!
На левом фланге полка, развернув зелёное знамя — на полотнище ярко серебрились звезда с полумесяцем, — замер отряд черкесов. Одни старики: высохшие и седобородые, в тёмных, но добротных бешметах.
Безладнов, зычно рапортуя, сказал о них особо: присоединились к полку на марше, добровольцы. Все — из залабинских аулов, где большевики расстреляли сотни жителей, кого-то закопали живьём в землю, а некоторые аулы сожгли дотла.
Напрягши голос, Врангель поздоровался. Получилось и громко, и торжественно.
Начальник черкесского отряда, такой же старик, как и другие, подъехал представиться. Оказалось, это — Шевгенов, богатый и известный коннозаводчик. Поднеся Врангелю отделанный серебром длинный кинжал, почтительно обратился с просьбой далее вести в бой их сынов, а самих их отпустить в родные аулы.
Поблагодарив за службу, конечно, отпустил. Полагалось сделать ответный подарок... Расстегнул кобуру, вытащил и протянул Шевгенову свой револьвер — ничего другого под руками не нашлось. Подумав ещё секунду-другую, объявил громко, что выдаёт старикам черкесам захваченных нынче пленных и пусть их судит аульный суд.
Склонившись к самому уху Рогова, тихо велел передать Безладнову приказ: переменным аллюром двигаться через станицу Курганную в Родниковскую...
Выезжая с площади, «Руссо-Балт» миновал квадратное каменное здание нежилого вида, без хозяйственного двора. Врангель даже опешил: случайно зацепил взглядом звезду Давида над крыльцом. Глазам не поверил.
Локтем толкнул Рогова в тощий бок.
— Это что ещё за чёрт?
— Синагога, ваше превосходительство... — Из-под светлых усиков Рогова вырвался смущённый смешок. — Разве полковник Баумгартен не докладывал?
— О чём?!
— В этой Михайловской — многочисленная секта жидовствующих. Сообщениями местных жителей этот факт давно был установлен вполне достоверно.
И уже без всяких смешков доложил: секта очень быстро росла перед Великой войной, причём вступали в неё не только иногородние, но даже и казаки. И теперь в ней состоит почти 4 тысячи человек, которые живут по закону Моисея, отмечают еврейские праздники и даже совершают обрезание. Живут в станице несколько раввинов, и синагог тоже несколько, причём в одной богослужение совершают на еврейском языке, хотя сектанты ни бельмеса не понимают...
Ушам-то Врангель верил, как поверил теперь и глазам — уж достовернее некуда... Да только в голове, хоть она и прояснилась, никак не укладывалось. Ведь все эти сектанты — исконно русские люди и православные христиане... Вот так вольт совершили станичники! Рехнулись, что ли? А власти-то казачьи куда ж смотрели? Позорище это творилось в самом сердце казачьих областей юга! А епархия где была? Бездельники... А синагоги эти самые, любопытно знать, «товарищи» тоже осквернили?..
...Выйдя с площади, корниловцы колонной по три шагом шли по улице, ведущей к южной окраине станицы. Старики и бабы, нарядившиеся по-праздничному, стояли семьями у своих ворот, радостно махали руками, благодарили, желали побед... Старые казаки степенно снимали папахи.
Не стесняясь ни их, ни ехавшего рядом полкового адъютанта, ни ближайших казаков головной сотни, Безладнов ругался во весь голос и всё по-матерному. Подчинённые поглядывали и прислушивались настороженно: дело для «Тараса» привычное — материться, но чтобы прилюдно и так зло...
Осадить вставшее на дыбы возмущение подъесаул не старался и даже не считал нужным. Ведь и дурню последнему ясно: красная пехота оторвалась больше чем на 40 вёрст, а штаб и пять полков прозевали её отход и теперь преследуют переменным аллюром, то бишь всего-навсего 8 вёрст за час... А потому даже арьергарда догнать не могут! Причём по расходящимся направлениям преследуют... А штаб сводок не шлёт, и где другие полки — неведомо. Выходит, не только о противнике ни черта не знает...
Уже при выезде из станицы, перед мостиком через Чамлык, от группы стариков и баб отделилась румяная молодуха. Подперев полной грудью, обеими руками держала большое медное блюдо с поджаристыми круглыми буханками и гроздьями чёрно-синего винограда.
Не выдержав, Безладнов сорвал зло на станичниках:
— Что, дождались, сукины дети? А красных так же щедро кормили? А молодые казаки ваши где? С красными ушли?!.
...Прорвавшись сквозь клубы пыли, «Руссо-Балт» обогнал рысящую колонну корниловцев на полдороге к Курганной.
Прикрывая платком нос и рот, Врангель устало оглядывал места двухнедельной давности боя — неудачного прорыва в обход Михайловской. Справа пряталась за пологими буграми Лаба, несущая свои воды на север, в Кубань. Слева уходили под горизонт жёлто-серые и чёрные прямоугольники полей. Кукурузы и подсолнечника поубавилось.
Пелена облаков посветлела и потончала. Ветер слегка надорвал её, и через прореху проглянуло высоко поднявшееся солнце. Весело защебетали над степью птицы.
И Врангель быстро согрелся. Боль незаметно ушла...
У переезда через Армавир-Туапсинскую ветку, в полуверсте от узловой станции Курганная, его разыскали ординарцы от Муравьёва и Топоркова. По донесениям, части Красной армии Северного Кавказа, посадив пехоту на подводы, очень быстро, оставив уже Курганную, отходят на Константиновскую. Предположительно, спешат к переправам через реку Уруп у станиц Бесскорбная и Урупская. Колонны 1-й и 2-й бригад преследуют их, но пока не настигли: те сумели оторваться почти на полсотни вёрст...
Душа запела вместе с птицами. Слава Богу, высвободился из унизительных пут «Михайловского узла», вырвался со своей конницей на равнину. Теперь уж не даст спуска «товарищам»... Проснулся вдруг аппетит, дремавший все десять дней болезни.
С острым предвкушением новых победных донесений и сытного обеда подъехал в четвёртом часу к Курганной.
Станица живописно раскинулась в низине на правом берегу Лабы. Вся утопала в садах, уже густо подернутых желтизной.
Над золотистой маковкой низкой деревянной церкви, бурыми крышами и острыми верхушками пирамидальных тополей Врангель ещё издали заметил дымные шлейфы. Клубясь и чуть пригибаясь под слабым ветерком, они быстро поднимались в очистившееся небо и там рассеивались. По видимости, «товарищи», уходя, подожгли богатеев. Либо казаки пустили красного петуха местным совдеповцам.
Чем ближе к центру, тем едкий запах гари ощущался всё острее...
На церковной площади горели два богатых, под железом, дома. Оранжевое пламя, поглотив первые этажи, уже добралось до сараев с гумнами и по сухим плетням с ненасытной жадностью устремилось к соседним домам. Вопили и метались станичники с вёдрами, лопатами и топорами. Одни силились загасить пламя, другие с треском ломали плетни и оттягивали их в сторону...
Но Врангеля тут же отвлекла суета иного рода: из растворенных настежь дверей бакалейной и мануфактурной лавок вооружённые казаки деловито выносили и укладывали на подводы ящики, мешки и штуки материи. Блеснули офицерские погоны.
— Эт-то что ещё за шайка?! Ну-ка, стой! Старшего ко мне!
Перед ним предстал молодой чернявый подъесаул, раскрасневшийся то ли от азарта, то ли от спиртного. Хотя язык его заплетался, картину прояснил вполне: в станицу вошла полусотня из 1-й Кубанской дивизии генерала Покровского, которая переправилась через Лабу выше по течению.
Скидывая с плеч бурку, рывком поднялся в автомобиле.
— Как с-смеете вы гр-рабить мир-рное население?!
Гневный рык и двойные красные лампасы слегка отрезвили подъесаула, но не смутили ничуть.
— А нас большевики рази не пограбили?! Ваше превосходительство?! Ведь всё подчистую!.. Шо ни убитый або пленный — карманы до краёв карбованцами набиты. А мажары их обозные бачили? Горы добра казачьего! Даже рукомойники и те ить посымали, сволочи... Вовсе разорили наши станицы!
Перебив его топотом и поднимая пыль, на задымлённую площадь вырвался из улицы табунок неосёдланных лошадей. С гиканьем и свистом гнали его верховые казаки.
— А што до коней, дак тильки у иногородцев забираем. — Подъесаул поспешил опередить неизбежный вопрос. — Им они боле не треба. Кого уже бисы поджаривают, а кто с красными деру дал...
— Всё мирным жителям вернуть! И лошадей, и товары.
— Та як же так вернуть?! Во всём ведь нужду терпим, ваше превосходительство! — чуть не задохнулся от обиды подъесаул, руки его замахали, как крылья ветряной мельницы. — Ни обмундировки, ни харчей, ни довольствия какого... От интендантов другой месяц одни посулы. Так що добычу не заберёшь — не повоюешь...
Вынос товаров между тем продолжался с прежним усердием.
— Молчать! — сорвался на крик. — Всё вернуть! И ежели через час вы и ваши люди ещё окажетесь в расположении моей дивизии — предам военно-полевому суду. И расстреляю как мародёров!..
За обеденный стол, накрытый в доме священника, уселся без аппетита. Ел кубанский борщ с неизменными помидорами и жареного поросёнка, не чувствуя вкуса. Общий разговор не поддерживал. На предложение кого-то из штабных офицеров приказать подать вина и выпить «за Михайловскую» лишь качнул головой отрицательно.
Грустные мысли навеяли слова подъесаула из дивизии Покровского. Точнее, горькие... Конечно, понять казаков можно. Дотла разорённые большевиками, горят желанием отбить, вернуть всё награбленное. За то и воюют. Потому и смотрят на военную добычу как на собственное добро. Тем более когда части испытывают недостаток абсолютно во всём, а потому вынуждены жить исключительно за счёт местных средств и трофеев. И его дивизия — не исключение. Но ежели зло неизбежно, как положить ему предел? И где тот предел, перед которым ещё можно удержать Добровольческую армию, во всяком случае её кубанские части, от превращения в орды мародёров?..
После обеда, не разобравшись в настроении начальника, но всей душой стремясь его улучшить, Гаркуша доложил: телеграмма Покровскому о грабительских действиях его людей послана, самих их в станице и след давно простыл, лошади и товары возвращены по принадлежности, а пленных большевиков, которые в Михайловской оставлены были черкесам для суда, едва только его превосходительство отъехал, черкесы прямо на площади и перерезали.
1—2 (14—15) октября.
Константиновская — Синюхинский — Урупская
В Константиновскую, вытянувшуюся вдоль левого берега Чамлыка, Врангель въехал уже затемно. Из «Руссо-Балта» выбрался с трудом: ноги едва держали, опять страшно давило на виски, будто вместо привычной фуражки надел на голову чугунный обруч, слегка поташнивало, глаза закрывались сами собой.
В домах и на улицах — ни огонька. Не доносись из разных концов станицы злой собачий лай — подумал бы, что все жители отступили вместе с «товарищами». Собаки уже охрипли, но умолкать, похоже, не собираются... Причина разъяснилась тут же: Корниловский и Черкесский полки, которым он задолго до заката, ещё в Родниковский, приказал идти в Константиновскую и здесь расположиться на ночлег, из-за нерасторопности квартирьеров до сих пор блуждают в потёмках по улицам...
Начальнику дивизии квартиру отвели в кирпичном, под железом, доме богатого мельника из иногородних. Хозяин, плотный старик с белой окладистой бородой, уже ждал у передного крыльца, освещая ступени старым железнодорожным фонарём со свечным огарком внутри. Как увидел генеральские лампасы Врангеля, поковылял навстречу, рухнул на колени. Протягивая дрожащие руки, все норовил ухватиться за сапоги. По морщинистым щекам побежали тихие слёзы.
Гаркуша, крякнув, еле оторвал его от земли.
Сбивчивые слова старика перебивались то шумным сморканием, то хриплыми проклятиями в адрес христопродавцев, то благодарениями всем святым заступникам... Но понять удалось: двое из пяти его сынов, как пришли большевики, бежали из станицы и пропали безвестно, двое не успели схорониться — их расстреляли на его глазах, а младшего четыре с лишком месяца они с женой и невестками укрывали в подполье. Сам последние три дня и три ночи просидел, зарывшись в солому, на току. Его долго искали, но не нашли. А из других дворов красные утром мобилизовали и увели силком много молодых казаков...
В стряпной, заглушая бабьи всхлипы, гремели горшки и тарелки. По истёртому деревянному полу парадной комнаты, по кое-где засаленным и закопчённым обоям с сытой неторопливостью ползали здоровенные тараканы.
— Если только эти шалопаи сами не убежали с красными... — мрачно изрёк Рогов уже в горнице, мелко крестясь на иконы в облупившихся ризах.
И при еле живом свете каганца[65] во взгляде начальника, брошенном из-под полуопущенных век на Рогова, Гаркуша заметил недовольство. Подхватив шашку с фуражкой, поторопился выйти в сени.
Щедро заставленный стол не взбодрил Врангеля. Напротив, одолевшая в тепле сонливость и тараканы напрочь прогнали охоту перекусить. Тут ещё и Рогов, не в меру разболтавшийся сегодня, посеял тягостные сомнения: не добровольно ли молодые казаки ушли с «товарищами»?
Потому так легко оторвался даже от свежезаваренного. «Первосборного» чая ради донесений командиров бригад. Вот они-то взбодрили...
За световой день полки, оставив позади какой 40, а какой 60 вёрст, вышли на линию станица Чамлыкская — Синюхинский хутор. Пехотные и конные колонны красных с обозами спешат к переправам через Уруп, ни за что не цепляясь. Основная масса устремилась к большой переправе — самому мелкому и широкому броду — у станицы Урупская. И только одна колонна — к малой переправе у станицы Бесскорбной.
Настичь отходящего противника удалось только Топоркову: в районе Синюхинского запорожцы и уманцы опрокинули слабый арьергард, обременённый перегруженными обозами, захватили более 100 пленных, 5 пулемётов и не подсчитанное ещё число телег с разным добром.
И никакой пока ясности, попытаются большевики удержать станицы с переправами или сразу отойдут на гористый правый берег Урупа, чтобы закрепиться на командующих высотах...
Раз так, заключил, занять Бесскорбную и двух полков хватит — пришедших на ночёвку в Чамлыкскую екатеринодарцев и линейцев. Их объединить под командой Муравьёва: пусть набирается бригадирского опыта... А Топорков, наступая на Урупскую, рискует встретить упорное сопротивление. Посему заночевавшие в Синюхинском запорожцы и уманцы пойдут под его командой в авангарде. А корниловцы и черкесы составят главные силы и через Синюхинский двинутся следом на Урупскую. Хочешь не хочешь, а придётся, чёрт возьми, подчинить их Безладнову...
Тщательно слизывал загустевший душистый мёд с большой деревянной ложки. Осторожно, сдувая жирную пенку, прихлёбывал из глиняной кружки кипячёное молоко. И наблюдал, как Рогов, уткнувшись острым носом в пишущую машину, неуверенно тычет одним пальцем в чёрные клавиши — печатает оперативный приказ, как в такт приглушённым ударам сотрясается его косой рыжеватый чубчик... Как-то и не заметил, когда успел отрасти. Ничего не скажешь: до проворности дятла старшему адъютанту далеко...
Веки опять стали слипаться, будто намазанные клеем. Тяжелеющая голова клонилась на цветастую клеёнку... Еле дождался, когда Рогов выступит последний «ъ». Пером по бумаге водил, ничего уже не видя: ни фамилии своей, ни подписи...
...Подернутое дымкой небо едва заалело на востоке, когда главные силы выступили согласно приказа начальника дивизии.
В голове, по неширокой улице, ведущей к деревянному мосту через Чамлык, тихо и сонно шагал колонной по три Корниловский полк. Пролившийся ночью дождь расквасил грунт и залил выбоины, копыта чавкали и расплёскивали чёрную воду.
Боковыми улочками, перекрывая колонне путь, медленно и важно шествовали в степь, в стада, упитанные коровы. Выгнавшие их со дворов казачки задерживались на перекрёстках, сходились в группы, с любопытством глазели на родимую кубанскую часть... И обменивались замечаниями: сотни уж больно худосочны, обмундирование всё в дырах да заплатах, погоны самодельные и какой-то невиданной — чёрно-алой — раскраски...
На Безладнова напала вдруг зевота. Хрустя челюстями, жадно глотал сырой холодный воздух. Поводья распустил. Дрёма, вспугнутая прискакавшим из штаба ординарцем и трубными сигналами тревоги, отступила недалеко, уже воротилась и вот-вот, почуял, оседлает. Лениво заворочалась мысль: не вызвать ли вперёд песенников головной сотни — славной черноморской песней взбодрить себя и людей...
От одной из групп наперерез голове колонны решительно двинулась крупная пожилая казачка в овчинной душегрейке и чёрной юбке. Потрясая тонкой сучковатой палкой, она по-линейски — без малороссийских слов и мягкой певучести, — заголосила в лицо Безладнову:
— Паслухай, что я тебе скажу! Мы ждали вас как Бога, а ночью целый взвод черкесов насильничал мою дочь... И она теперь встать не может...
Судорожно дёрнувшись в седле, будто его достала пуля, командир корниловцев выматерился. В голову хлынула жаркая кровь. Потянул было поводья, но тут же и отпустил их, и его тёмно-караковый жеребец не сбился с шага. Казачка со своей палкой и своим гневом осталась позади...
Долго ещё, до самого моста, матерился он в пушистые белые усы: ругал горцев, большевиков и эту проклятую войну — выпускал пар возмущения, утихомиривал совесть... Чего же тут поделаешь? Колонну ведь не остановишь и дознание вгорячах не произведёшь: с часу на час — бой... Да и виновных всё одно не сыскать. Разве только ткнуть носом в это дерьмо командира черкесов полковника... как бишь его... Гирея. Или уж пускай сам барон разгребает... Если ещё дойдёт до него.
Дрёму с Безладнова стряхнуло, как дождевые капли с дерева, атакованного резким порывом ветра...
...Выспался Врангель прекрасно. Встал, разбуженный хриплым кукованием деревянной кукушки с отломанным носом, легко и совсем уже здоровым. Давно не ощущал в себе столько бодрости и энергии. Всем существом рвался из просторной и чистой, но затхлой горницы на воздух, освежённый ночным дождём, на солнце, ярко засветившее с самого утра, в авангард к Топоркову.
Но следовало перепроверить сводки, составленные Роговым для отправки в штаб армии: нет ли какого ляпа. Да ещё поговорить со станичным сбором: стариков нужно уважить, иначе на большое число добровольцев рассчитывать нечего. А ежели задумали записать его в почётные казаки, как петропавловцы и михайловцы, тем более глупо не огладить...
На завтрак появились его любимые оладьи — пышные и румяные — и целый кувшин густой-прегустой сметаны. Значит, Гаркуша, не позволив себе пустить это дело на самотёк, с раннего утра занял в стряпной командующую высоту и навёл там свои порядки. Спросонок жажда заставила отведать и мочёных арбузов — небольших, с чуть ввалившимися тусклыми боками. Ни в какое сравнение со свежими, но есть можно.
Пока просмотрел сводки, подписал к исполнению смертный приговор, вынесенный станичным правлением местным большевикам, и прочие бумаги, составил телеграммы, задушевно поговорил на площади со станичным сбором, время перевалило за десять...
...Просёлок нырнул в глубокую балку, заросшую по склонам низким кустарником. Лошади слегка скользили по крутому глинистому спуску, сильно размоченному дождём, и колонна корниловцев и черкесов, растягиваясь, шагала неторопливо.
Перейдя через речку Синюху, высохшую до гнилых луж, по семиаршинному деревянному мосту, поднялась к Синюхинскому хутору. Остановив полки на западной околице, Безладнов построил их в одну линию полковых резервных колонн, фронтом на восток, и спешил.
Ни от Топоркова, из авангарда, ординарец не объявился, ни приказания Врангеля, из Константиновской, не догнали. Оставалось ждать. Хотя бы посылкой разъезда — найти авангард и установить с Топорковым связь — Безладнов утруждать себя не стал.
Раз выпало время для привала, казаки и черкесы быстро прошлись по дворам и разжились — где купили, где выпросили, а где получили в подарок — хлебом, молоком и мёдом. Привязав лошадей к плетням, а то и заведя их во дворы, развели огонь, закипятили чай в котелках и стали, рассевшись вокруг костров, завтракать...
...Равнина, по которой тянулась меж скошенных полей дорога, волновалась не сильно, но ночной дождь сильно расквасил чернозёмный грунт, и «Руссо-Балт» с трудом карабкался даже на самые пологие подъёмы.
Приотстав на десяток шагов и держась травянистой обочины, широко рысил на старой штабной кобыле Гаркуша — посадка прямая, уверенный упор на повод, карабин по-горски повешен на переднюю луку дулом вниз и назад...
Почти час понадобился, чтобы одолеть 13 вёрст до хутора Синюхинского.
Вопреки карте, обнаружил Врангель, тот давно разросся до двух десятков с лишним однодворных хуторов, разбросанных вокруг пересечения почтового тракта Армавир — Майкоп с просёлком Константиновская — Урупская и речкой Синюхой.
С востока, со стороны Урупской, волнами накатывалась, то усиливаясь, то слабея, пушечная и ружейная пальба...
В самих же хуторах Врангель застал совершенно мирную картину: корниловцы и черкесы основательно расположились на привал и перекусывали. Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, Безладнов доложил: из авангарда никаких вестей не поступало и где он точно находится — неизвестно.
От начальственного повышенного тона, способного вмиг раскатиться яростной руганью, его избавил ординарец, прискакавший с донесением Топоркова. Командир 2-й бригады обошёлся без подробностей: ведёт бой с сильным арьергардом противника, прикрывающим Урупскую и переправу.
Азарт пришпорил Врангеля: всего-то в пяти-шести верстах восточнее! Решив налегке проскочить к месту боя, оставил на хуторе конвой, ординарческий взвод и адъютанта при своих вещах и лошади. В автомобиль взял одного Рогова. Безладнову приказал ждать на месте распоряжений...
После Синюхинского дорога на Урупскую стала полого подниматься на плато: здесь начиналась обширная Ставропольская возвышенность. Упрямо наматывая на шины липкий и жирный чернозём, подобный дёгтю, «Руссо-Балт» оставлял за собой глубокие, слегка вихляющиеся колеи. Шофёр с помощником, немолодые уже прапорщики в шведских кожаных куртках, ярко-рыжих и сильно потёртых на сгибах, шлемах и очках с круглыми цейссовскими стёклами, тревожно прислушивались к надрывному стуку мотора. Прижавшись боком к деревянной дверце — не стеснить бы начальника, — Рогов сосредоточенно изучал разложенную на коленях двухвёрстку.
Едва перевалили за гребень, встретилась телега, густо обсаженная казаками. Молодые, одетые в тёмно-серые тужурки с алыми лацканами на бортах и шаровары с алыми кантами, они весело переговаривались и болтали свешенными ногами, обутыми в новые сапоги. Завидев автомобиль, сразу примолкли и поджали ноги, но в грязь не поспрыгивали.
Одеты не по форме и не при оружии, сразу заметил Врангель. Приказал шофёру остановиться.
Натянул поводья и старик возчик. Высокий, смуглое худое лицо избороздили морщины, висит длинная белая борода, вылинявший и драный чекмень распахнут... Врангель пригляделся к рукавам: уж очень похож на того однорукого, что месяц назад вёз его из Кавказской в дивизию.
Казак-уманец, сопровождавший телегу верхом, одним движением и честь отдал, и извлёк из-под сбитой на затылок папахи сложенный вчетверо помятый листок.
Не вслушиваясь в его черноморскую «мову», Врангель разом проглотил серые, кое-где посиневшие от влаги, торопливые каракули:
В подсолнухах захвачено 15 скрывавшихся казаков красной армии из станицы Константиновской, которых и препровождаю.
Командир 1-го У майского полка полковник Жарков
— Дайте-ка карандаш, — перечитывая вторично, обратился к Рогову.
Наискось рассекая донесение, ровной строчкой легли на бумагу низко прибитые, но разборчивые слова с размашистыми завитушками: В главные силы. Расстрелять. Генерал Врангель.
— Пленных препроводить в Синюхинский и сдать подъесаулу Безладнову. — Листок, снова сложенный, вернулся к уманцу...
Командира 2-й бригады Врангель нашёл сразу — на сгорбившемся у самой дороги невысоком кургане, облюбованном артиллеристами под наблюдательный пункт.
Приземистая фигура Топоркова неподвижно торчала на вершине, напоминая каменного идола, каких немало сохранилось в южнорусских степях. За его спиной занимались своим делом офицеры-артиллеристы: один наносил отметки на карту, второй водил биноклем, третий кричал в слуховую трубку полевого телефона — корректировал стрельбу. У подножия выжидательно застыли ординарцы от полков.
Установленные за курганом две 3-Дюймовые горные пушки с волнообразно изогнутыми бронещитами — из 1-й конно-горной батареи — высоко задрали короткие стволы и вразнобой вели медленный огонь.
Две спешенные сотни, оставленные для их прикрытия, расположились в поле, скошенном и частью даже перепаханном, саженях в ста позади, возле артиллерийского обоза. Коноводы, не сбатовывая, укрыли лошадей за тёмными скирдами. Некоторые казаки, натаскав с ближайшей бахчи арбузов и разбив их кулаками или разрезав кинжалами, выгребали ложками сочную тёмно-красную мякоть, слегка уже трухлявую в серёдке. Многие прикорнули, привалившись к скирдам: разморило тёплое безветрие.
Изредка посвистывали пули, на излёте достигая наблюдательного пункта и орудий.
Вышел из автомобиля и, приказав шофёру подъехать ближе к прикрытию, широко пошагал к кургану. Поднялся легко, на одном дыхании.
— Господа офицеры! — негромко скомандовал Топорков.
— Вольно! Здравствуйте, господа.
Пожав Топоркову руку, извлёк из футляра «Гёрц». Прозрачный, очищенный дождём воздух помог ясно, до каждого казачьего затылка, рассмотреть лаву запорожцев: жидкая, в две шеренги, маячит в полуверсте впереди...
Слушал по обыкновению скупой доклад Топоркова и одновременно изучал позицию противника.
Красные залегли цепью по краю неширокого оврага, что тянется в полутора тысячах шагов перед фронтом, — прикрыли дорогу на Урупскую. Ружейный огонь ведут одиночный и редкий. Одни целят в штаб и батарею, другие — в лаву запорожцев. Пулемёты и пушки молчат. Число их и расположение не выяснены. Как и численность всего пехотного арьергарда. Но никак не меньше полутора тысяч. Судить по огню — атаковать не собираются. Хорошая работа батареи — шрапнель разрывается невысоко и точно, то перед оврагом, то над его невидимыми склонами, — впечатления на них не производит. Чтобы понудить их оставить позицию, 1-й Уманский полк был послан вправо от дороги — поискать обход с юго-востока. Но, тоже наткнувшись на залёгшие цепи, спешился и вступил в перестрелку.
— Конница их где?
— В станице укрыта. А то уже переправляется...
— Атаковать не пытались?
— Сперва пушками из оврага выкурю.
Едва ли такой вялый обстрел понудит «товарищей» оставить столь выгодную позицию, засомневался Врангель. Тем более среди них немало матросов: ясно различимы бескозырки и чёрные бушлаты, будь они трижды прокляты... Дымов над Урупской нет. По видимости, в планы «товарищей» не входит сдавать её.
Перевёл бинокль правее. Уманцев не видать — пропали за густо наставленными скирдами и высоким подсолнечником. Не напрасно ли Топорков раздёргал бригаду?..
Ничего не остаётся, заключил, как подтянуть главные силы, корниловцев послать в обход правого фланга, а двумя полками атаковать во фронт. И лаву повести самому. Жаль, портной в Петропавловской, как ни спешил, не успел пошить черкеску. И с чувеками — то бишь чувяками — задержка: на днях только козлиную кожу привезли и сапожник мерку снял. Из всего казачьего обмундирования — радением Гаркуши одна папаха пока готова, хорошего чёрного курпея...
...Разговор между Безладновым и его офицерами завязался крупный. Особенно горячился подъесаул Елисеев. Кулак его резко разрубал воздух, будто сжимал рукоять шашки, а не смятый в тряпку белый листок донесения полковника Жаркова с резолюцией начальника дивизии.
— Это же явное недоразумение, Владимир Арсеньевич! — протестующе звенел его голос. — Генерал Врангель просто не разобрался... Это ошибка.
— Никакого недоразумения... — вяло отбивался Безладнов, развалившись на бурке и жуя полусухую травинку. — Это пленные. И если есть приказ, о чём говорить? Расстрелять.
Полкового адъютанта поддержали сотенные командиры. Пользуясь равенством с Безладновым в чине — тоже подъесаулы — заговорили разом, призывая временно командующего полком не пороть горячку и не расстреливать таких же казаков, как они сами, а спокойно всё выяснить.
Собственно, Елисеев уже выяснил, бегло опросив пленных. Все они — казаки станицы Константиновской, мобилизованы вчера красными и насильно уведены из станицы. А едва завязался с утра бой — попрятались в подсолнечнике и сами вышли к колонне уманцев... Едва сдерживая возмущение, он ещё раз пересказал всё это своему командиру.
Но Безладнов остался глух:
— Я ничего не знаю. Мне приказано, и я исполню. — Упрямства в его голосе прибавилось.
Как-то незаметно собравшиеся вокруг казаки слушали хмуро. Кто-то в знак недовольства уже надвинул папаху на брови.
Пленные, сжавшиеся в кучку вокруг привёзшей их телеги, насторожились, некоторые побледнели. Стоящий тут же белобородый возчик опустился вдруг на колени, запричитал и, возведя глаза к ясному небу, принялся широко креститься.
— Да подождите хоть полчаса! — в отчаянии воскликнул Елисеев. — Можно же послать к генералу Врангелю офицера, всё разъяснить...
Сплюнув изжёванную травинку и резко поднявшись на ноги, Безладнов оборвал его решительно и зло:
— Отставить разговоры! Мне приказано расстрелять, и я исполню!..
...Едва Врангель оторвал окуляры от глазниц, как за его спиной удивлённо растянулись тихие слова:
— Стра-анно... Почему это наша лава возвращается?
Все схватились за бинокли.
— Да, странно... Переходит на рысь...
— Да наши ли это?
Врангель не успел навести бинокль на лаву, как вскрикнул фальцетом Рогов:
— Красные! Атака!
— К бою! — рявкнул Топорков.
Из-за края оврага широкой рысью вываливалась на ровное место плотная конная масса. Её-то и завидев первыми, запорожцы дружно развернулись и, отворачивая влево, как были, так и поскакали лавой прямо на свою батарею.
— Беглый огонь!
Зычный крик командира батареи привёл оба расчёта в лихорадочное движение. Один за другим прогрохотали выстрелы...
Лава красных оказалась не слишком внушительной: две-три сотни. И пара низких разрывов шрапнели рассеяли её центр. Но, вовремя перейдя на полевой галоп, она уже вырвалась из зоны обстрела и понеслась вслед за смешавшимися запорожцами, сокращая дистанцию и широко охватывая фланги.
Врангель оцепенел: на плечах казаков враг неминуемо ворвётся на батарею...
Матерясь, первым кинулся вниз к лошадям Топорков, за ним — его офицеры. Только заметив краем глаза, как значковый казак выдернул из земли пику с алым полотнищем, Врангель стряхнул предательское оцепенение. Открыть бы беглый огонь по бегущим, — срываясь с места, успел подумать зло, — как он сделал это в июле 17-го у Хотинских переправ. Правда, тогда разрывы над головой не остановили струсивших пехотинцев: те только прибавили в темпе. А казаки — народ такой, могут шашкой и полголовы отвалить мимоходом...
— На задки! — долетела с батареи визгливая команда.
Поздно... Паника захлестнула и развалившуюся лаву запорожцев, и орудийную прислугу. Первые всадники, отчаянно охаживая плётками лошадиные крупы и не обращая внимания на начальство, уже проносились мимо наблюдательного пункта. Лафеты, не тратя время на перевод орудий с высокой оси для стрельбы на низкую коленчатую ось для похода, номера сразу сцепили с передками, и ездовые рванули с места крупной рысью. Стоявшие в прикрытии две сотни, поддавшись стихии стадного бегства, также попрыгали в сёдла и галопом помчались в тыл.
Тщетно Врангель, Топорков и другие офицеры пытались остановить запорожцев — орали, размахивали руками, кто-то палил в воздух. Казаки, ошпаренные паникой, неслись неудержимо.
Лошади артиллерийских офицеров вырвались из рук коновода и ускакали, развевая пустыми стременами. Оставшись безлошадными, те исступлённо отстреливались из револьверов. А вырвавшиеся вперёд красные конники уже пролетали на карьере последние сажени, вздетые клинки ярко поблескивали на солнце...
Врангель кинулся к автомобилю. На бегу обернулся: офицер-артиллерист выстрелил из револьвера в первого подскакавшего, другой со всего маха опустил на его фуражку клинок, а рядом рубится, крутясь на своей гнедой и взбивая чёрную пыль, Топорков, окружённый несколькими врагами.
Споткнулся, замахал руками, но удержал равновесие... И замер в ужасе: автомобиль стоит пустой — ни шофёра, ни помощника, — работает на холостом ходу, а передние колёса по самую ось зарылись в разбухшую чёрную пахоту.
Две рыжие куртки ярко мелькали далеко впереди...
...Тела молодых казаков, распластанные в общей луже рубиновой крови, густой и ещё не остывшей, кучно и беспорядочно валялись у западной околицы Синюхинского. Сгрудившись вокруг, корниловцы сумрачно уставились на белые безжизненные лица. Тягостное молчание прервали затяжной вздох и шёпот: «Насылу росстрэлялы... Дуже тряслысь рукы...» С краю кучи лежало длинное сухое тело старика возчика: его случайно поставили рядом с константиновцами и тоже расстреляли. Чуть поодаль одиноко стояла осиротевшая подвода, кем-то уже распряжённая...
...Что есть мочи кинулся Врангель через дорогу — к кукурузному полю: высокие пожухшие заросли обещали спасение. Но до них — не меньше версты.
Справа и слева врассыпную скакали казаки, бежали вприпрыжку артиллеристы — офицеры и солдаты. В спину толкал яростный шум боя.
Обернулся ещё раз: на месте, где стояли орудия, бурлит свалка из людей и лошадей, палят винтовки и пистолеты, взлетают и падают клинки.
Встречным напором воздуха из головы выветрило все мысли. И лишь одна пульсировала бешено, в такт с сердцем: остаться в бою без лошади — верная смерть. И его этому учили, и сам он учил....
На высокой оси одно из орудий, запряжённое тремя уносами, опрокинулось при выезде с поля на дорогу. Трое ездовых соскочили с лошадей и кинулись врассыпную. Их тут же настигли и зарубили.
Опрокинулось и второе орудие, запряжённое только двумя уносами. Ездовой корня, пожилой и опытный фронтовик, живо соскользнув на землю, рывком отстегнул вагу, взгромоздился на круп к ездовому переднего уноса, и лошади, избавившись от 37-пудовой тяжести, понеслись галопом...
Откуда-то сбоку прибился к Врангелю поручик-артиллерист. Без фуражки, безусое лицо белее полотна, голос переламывался отчаянием:
— Ваше превосходительство! Лошадь! Лошадь мою возьмите!
— Нет!
— Ну как же, ваше превосходительство... Возьмите лошадь!
— Нет, я сказал!
Поручик, будто привязанный, скакал рядом, беспрестанно оборачиваясь.
— Нагоняют, ваше превосходительство!
Не останавливаясь, рывком расстегнул крючки мундира.
— Тем более... не возьму! В хутора... скачите! — слова еле пробивались сквозь сбитое дыхание. — Во весь опор... Корниловцев и черкесов сюда! И конвой... Лошадей моих...
Выпалив «Слушаю!», поручик ошалело вонзил шпоры в уже кровоточащие бока лошади и поскакал к дороге...
Оглянувшись, Врангель увидел трёх всадников: устремились прямо за ним — и полутора сотен шагов не осталось. До кукурузного поля — куда больше... Господи, спаси и сохрани!
Пока прикидывал, успеет добежать или нет, инстинкт решил за него... Встал как вкопанный и развернулся лицом к врагу. Шашки нет — оставил с вещами. Только револьвер, семь патронов всего. Но прежде хоть чуть-чуть отдышаться... Потянулся к козырьку — поплотнее натянуть фуражку, а её уже и нет: слетела, и не заметил где... Смахнул пот с бровей. Пальцы с привычной лёгкостью нашли застёжку кобуры и...
Будто молния, испепеляя, пронзила от макушки до пят. Онемевшая рука машинально — уже без надежды — ощупывала пустую кобуру, а разум никак не мог осознать... Это что ещё за... Ч-чёрт подери! Ведь сам же вчера подарил револьвер старому черкесу. Совсем вылетело... Задница, а не голова!
Беспомощность разом выжала последние капли сил. Всё в нём умерло. Жила только саднящая боль в груди — пульсировала без остановки и билась в горло, словно рвалась наружу.
Заворожённый, смотрел, как приближаются преследователи. Клинки опущены, полы защитных черкесок машут, как крылья, погон не разобрать... Ах, да ведь их и быть не может... А его-то генеральские серебряные зигзаги и лампасы, конечно, прекрасно видны. Потому и кинулись именно за ним очертя голову...
Вот на ходу нагнали бегущего солдата-артиллериста. Грохнул выстрел. Заржав, упала под одним из конников лошадь, а двое других набросились на жертву... Следующий — он.
Сапоги вросли в пахоту...
В сознание вторглись вдруг щелчки кнута и женские крики. Голова сама дёрнулась вбок: по дороге несётся, сотрясаясь и хлопая боковыми занавесками, лазаретная линейка. По мокрым спинам пары лошадей хлещет кнут, с ним ловко управляется занявшая место ездового сестра милосердия.
Силы взялись невесть откуда. Рванул наперерез линейке, но не успел... Уже не оглядываясь, погнался вслед. Полуторафунтовый «Гёрц», потяжелев до пудовой гири, тянул за шею вниз и нещадно колотил в живот. Нет, чёр-рт, не успеть... Наддал ещё... Слава Богу, грунт подсох немного и сапоги разношенные... Догнал-таки и, вцепившись в прыгающий борт, вскочил...
На носилках, установленных на правом сиденье, трясся артиллерист полковник Фокк. Грудь широко перевязана. Голову придерживает вторая сестра — значит, жив ещё...
Выхватив из его кобуры браунинг, обернулся: пара всадников отставала...
Пересохший рот судорожно заглатывал обжигающий воздух, но боль в груди словно перекрыла доступ в лёгкие. Рука, сунувшись под мундир, пыталась унять бешено колотящееся сердце...
И не отдышался, как жаркая волна ярости, отчаяния и горечи накрыла с головой...
Батарея погибла. Запорожцы — лучший полк в дивизии! — позорно бежали. И он был бессилен остановить их... Начальник дивизии он или кто?! До сих пор не смог взять в руки части... Месяц уже командует! И ведь состав сменился больше чем наполовину... Из тех трёх почти тысяч, кто встретил его недовольно и насмешливо, одни погибли, другие лежат по лазаретам и госпиталям — кто ранен, кто болен... Новые уже бойцы, при нём поступили... А Деникину с Романовским как это позорище в сводке преподнести?! Хоть сквозь землю провались...
Порывался забрать у сестры кнут и вожжи, покрикивал на коней и, забыв про бинокль, до рези в слезящихся глазах всматривался в дальний конец дороги, обрывающийся спуском в долину: не показались ли главные силы. Тщетно... Ярость, разбушевавшись, задавила отчаяние и горечь. Безладнов, задница, последний день нынче командовал! На обоз его!
Сестра — бедовая, по всему, бабёнка — махала кнутом без устали, санитарные кони не подвели, и линейка летела под уклон как на крыльях. Скоро нагнали несущийся артиллерийский унос. Двое ошалевших ездовых взгромоздились на левую, осёдланную, лошадь.
— Солдатики, дайте лошадь! — выкрикнул истошно.
Унос остановился не сразу.
Спрыгнул с линейки и сам, едва справляясь и с дрожью в руках, и с пряжками на ходящем ходуном и мокром лошадином боку, отстегнул подручную, без седла. И поскакал, охлюпью, дальше.
Крупная уносная кобыла по сравнению со строевой показалась настоящим мастодонтом. Уже через минуту тяжёлого галопа, как ни сжимал колени и ни наклонял корпус вперёд, весь зад, подпрыгивая, отбил о её широкую и будто бы каменную спину...
Только у края плато столкнулся с корниловцами, рысящими навстречу. В голове, за белоусым Безладновым, шли его конвойцы и ординарцы.
Резкими жестами подал команду «Стой!» Заставить уносную кобылу переменить ногу на галопе удалось не без труда. Соскользнул, не дожидаясь, пока встанет. Сбитой до крови спины не заметил.
Вцепившись в густую чёрную гриву, вспрыгнул на кабардинца и уже в седле выхватил из рук Гаркуши поводья и шашку: ошарашенный видом одиноко скачущего охлюпью начальника, тот замешкался. Нервный и гордый жеребец, не привыкший к такой грубости, заржал и, прижав уши, попытался укусить за колено. Усмиряя его, резко натянул поводья. С пронзительным скрежетом выдернул клинок. Никого и словом не удостоил...
Лаву разворачивал на рысях, подавая знаки шашкой и не жалея боков кабардинца. Скоро разглядел впереди хвост конной колонны противника: шагом удалялась к Урупской. Переведя лаву на галоп, осатанело кинул по стерне в преследование...
Топорков и Безладнов расстарались: к вечеру выбили красных из Урупской, захватили пленных и трофеи. Нашёлся и злосчастный «Руссо-Балт», брошенный на станичной площади.
Попавших в плен большевиков и бывших матросов Черноморского флота Врангель приказал расстрелять на месте, а кубанских иногородних — предать станичному суду. Тот свершился скоро: смертная казнь через расстрел.
Проживающим в Урупской мужикам, сочувствующим власти совдепов, старики тут же приказали всех «большаков», убитых в бою и расстрелянных, похоронить, где хотят, но только не на станичном кладбище...
Тем временем Муравьёв взял и Бесскорбную.
Но переправами — ни большой, ни малой — овладеть не удалось: красные, укрепившись на высоком каменистом гребне восточного берега, в версте от речки, оборонялись с необычайным упорством. Затемно уже Врангель отдал приказ прекратить атаки...
Совершенно вымороченный, стоял он под старыми полусгнившими ивами на берегу неширокого — меньше десятка саженей — Урупа в четверти версты от переправы. Молчал и смотрел в почерневшую воду, слегка отдающую болотом. А видел облитые послеполуденным солнцем тела, застывшие ч каких-то неестественных позах. Обескровленная плоть, глубоко разрубленная шашечными ударами, стала белее нательного белья. И белизна её на фоне вытоптанной молодой зелени, пробившейся на обочине через высохшую за лето траву, резала глаза ослепляющей яркостью.
Больше десятка офицеров и солдат зарубили красные на месте, где стояла 1-я конно-горная батарея. «Товарищи» успели всё: и своих раненых забрать, и обе пушки с автомобилем увезти, и убитых раздеть.
Верная смерть и его было настигла. В самый затылок дышала, старуха чёртова, да споткнулась... Зря только, Петруша, деньги бы потратил на курпей, сукно, козла и пошив...
На гребне время от времени заливисто стучал пулемёт. То ли для острастки пускал очереди, то ли подъёмный винт неправильно установлен — пули посвистывали где-то высоко над головой.
Часть 3
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ
10—11 (23—24) октября. Бесскорбная
устой треск винтовочного залпа окатил уже упокоенную сумерками Бесскорбную. Ещё залп... По звуку — с северной окраины, откуда уходит просёлок на Урупскую.
По просторному дому станичного атамана торопливо затопали чувяки. Рогов, выпустив из рук нож с вилкой, проворно выскочил из-за стола. Бессловесно, быстрым переглядом, получил разрешение начальника и кинулся в сени, оставив дверь распахнутой. Совсем забыл про подвёрнутую ногу, съязвил про себя Врангель. Чубчик свой рыжий от шашек, когда «товарищи» неожиданно атаковали батарею, уберёг. Никто за ним и не гнался: кому он такой нужен... Но пока нёсся стремглав к зарослям кукурузы, дважды пропахал поле острым носом. До сих пор примочки на ссадины ставит.
Допил кипячёное и уже остывшее молоко, аккуратно поставил кружку на вышитую скатерть... Нескольких секунд хватило, чтобы прикинуть положение: «товарищи», воспользовавшись ранними сумерками, сильным обмелением речки и — почём знать — ротозейством выставленных застав, переправились через Уруп ниже по течению. С целью... взять станицу? Или резануть по тылам до Синюхинских и расколоть дивизию надвое? Получается, разведка ошиблась... А ежели это всего лишь ложная демонстрация, а главный удар наносится по Урупской? А что же Корниловский полк, чёрт возьми?! По времени, уже должен выступить как раз в том направлении. Напоролся на цепи и вступил во встречный бой? Что-то не очень эта стрельба похожа на бой...
За окном, уже прикрытым ставнями, труба нервно запела «тревогу».
Дверной проем перегородил плечами Гаркуша. Из-за серебристого погона торчал короткий ствол карабина. Руки решительно протягивали фуражку — всё поле обрыскал, но нашёл-таки её — и шашку с болтающейся портупеей. Дрогнув, пламя каганца согнало с его скуластой физиономии мрачную тень и озорно блеснуло в глазах.
— Повечерить не дадут, сволочи...
...Позавчерашним ещё утром Врангель перебросил Корниловский конный полк сюда, в Бесскорбную. Вместо него отправил Топоркову, в Урупскую, 1-й Линейный.
Не успел ещё полк расположиться по квартирам в восточной её части, прилегающей к самому берегу, как разведка доложила о сосредоточении противника против Урупской. Для парирования очередной попытки большевиков отбить станицу решил создать кулак в четыре полка. И никак не меньше: если дело пойдёт удачно, Топорков на плечах отступающих сумеет переправиться через Уруп. А чтобы не вводить красных в соблазн ударить по ослабленному участку, нынче днём отправил Безладнову приказ: с наступлением темноты скрытно выйти с полком из Бесскорбной и идти в Урупскую, в распоряжение полковника Топоркова...
...Винтовочные залпы стихли. И как-то разом. Но возвратившаяся тишина дышала тревогой. Казалось, трубные звуки ещё не растаяли в быстро остывающем воздухе.
Немощёную площадь неярко освещали разведённые в углах костры. Между неогороженными рядами чахлых акаций — потугой на станичный сад — и кирпичным зданием реального училища уже построились конвой и взвод ординарцев. Ждали приказа. Самые нетерпеливые лошади, прося повода, глухо били копытом и мотали головой.
Мельком взглянув на подведённого кабардинца, Врангель приказал послать разъезд выяснить обстановку. И, не садясь в седло, принялся нервно и широко расхаживать взад-вперёд вдоль фасада атаманского дома.
Долго расхаживать не пришлось.
Начальника разъезда — молоденького урядника — весь обратный путь разбирал хохот. Но едва глянул на генерала — подавился. И доложил с уставной отчётливостью: ведя Корниловский конный полк окраиной станицы, подъесаул Безладнов вызвал вперёд песенников, а когда те запели, приказал головной сотне палить залпами в небо...
Рыком погнал Врангель офицера-ординарца следом за корниловцами:
— Полку вер-рнуться на стар-рые квартиры! Командир-ру явиться ко мне!
Напрасные страхи, тлеющие на дне души, выплеснулись клокочущей злостью. Ну, и задница этот Безладнов! Он что, рехнулся?! Вся скрытность — псу под хвост! Не иначе слишком много выпил за обедом...
В доме, без посторонних глаз, разошёлся пуще.
— Капитан, печатайте приказ!..
Рывком снял шашечную портупею. Серебряный конец ножен едва не смахнул с тумбочки горшок с цветущей геранью, только ярко-малиновые лепесточки посыпались...
— За открытие огня из винтовок в зоне боевых действий... Вставьте «неуместное»... Подъесаул Безладнов отрешается от командования полком... Я научу его слушаться начальника! И извольте успеть напечатать до того, как явится!
Не замедляя шуршащего скольжения грифельного острия по листу, Рогов робко, но всё же попытался отвести беду от Безладнова — офицера, по его мнению, вполне достойного, хотя и несколько беспечного:
— Он ведь первопоходник, ваше превосходительство...
— Так что с того? — ощерился Врангель. — «Первопоходник» — это что? Новый вид индульгенции?
— Никак нет... — Рыжий чубчик покорно склонился к полевой книжке. — А кому вступить во временное командование? В полку нет командиров сотен старше подъесаула...
Раздумье медленнее обычного, но всё же обуздало гнев. Врангель ушёл в себя. Вовремя напомнил Рогов: назначение командира кубанского казачьего полка — прерогатива войскового атамана и его штаба. Он сам, начальник дивизии, на вакантный полк может назначить только временно исполняющего должность. Умнее всего — кого-то со стороны, авторитетного и требовательного. Иначе этот возмутительный случай корниловцам впрок не пойдёт. Но кого? Отрешить, как ни крути, легче, чем назначить...
— Штаб Кубанского войска так и не нашёл, кем заместить Науменко?
— Никак нет.
— Безобразие! Работает не лучше добровольческого... Так что подыщите-ка сами. Хотя бы и подъесаула, но из другого полка. Пусть корниловцы привыкают к новой метле...
Раньше Безладнова явился Гаркуша. Теперь он протягивал крынку. Над краями колыхалась шапка белой пены, а из-под неё сбегали по глиняным бокам и прокуренным пальцам с коротко обгрызенными ногтями густые молочные струйки.
— Нэма лыха без добра, ваше превосходительство. Парное подоспело... Глечика довольно?
От его приглушённого голоса и посмурневшего лица повеяло бедою.
— Что там ещё, Василий?
Бережно поставив кувшин на стол и тщательно обтерев руку о чёрные ламбуковые шаровары, адъютант извлёк из-за борта черкески серый листок.
— Ще телеграмма. Не зашифрована...
— Ну, так что там?
— Новый штабной начальник нам назначен. Соколовский фамилия. Полковник Генерального штабу.
— А-а...
— А полковник Баумгартен девять дней тому как помер.
Рука, взявшая уже телеграмму, обвисла безжизненно...
Красная пехота атаковала Бесскорбную на исходе ночи: поддержанная артиллерией с высот правого, восточного, берега, переправилась через Уруп на две версты выше по течению. И ещё до полудня все три полка — Корниловский конный, 1-й Екатеринодарский и 2-й Черкесский — из станицы выбила.
Штаб дивизии, без паники и потерь, Врангель отвёл на 15 вёрст западнее — в один из крестьянских хуторов на Синюхе.
13 (26) октября. Чамлыкская — Бесскорбная
Третьи сутки теснился штаб 1-й конной дивизии в маленьком крестьянском хуторе, не обозначенном на карте, на перекрестье речки Синюхи и грунтовой дороги Чамлыкская — Бесскорбная. К нему прибились канцелярии и обозы 1-го разряда трёх полков с писарями, ездовыми и взводами прикрытия. Повозки и палатки заставили не только все три двора, обнесённые глухими тесовыми заборами, но и заросший бурьяном выгон.
Сами же полки стояли в голой степи на полпути между хутором и Бесскорбной, развернувшись фронтом к станице и высылая разъезды. Колодцев поблизости не нашлось, и коней водили поить, посотенно и строго по очереди, за 2 — 3 версты к ручью. Совсем мелкий, тот грозил вот-вот иссякнуть... При свете дня пушки красных, установленные на восточной околице Бесскорбной, не часто, но и без долгих передышек подкидывали то шрапнель, то гранату.
Кукуруза на не скошенных полностью полях пожухла. Пустыри выжгло зноем: жёсткая чёрно-бурая щетина бурьяна лишь чуть-чуть освежалась сизо-зеленоватой порослью едкой полыни... Безотрадный вид местности, отсутствие воды и бестолковое топтание под огнём сбили настроение казаков до уныния...
В самый полдень, по просёлку из Чамлыкской, в единственную хуторскую улочку вкатила пароконная линейка. За ней, привязанный, весело рысил неосёдланный жеребец — высокий, рыжей масти, лысый, все четыре ноги «в чулках».
Полковник Кубанского войска, правивший линейкой, начальника 1-й конной дивизии нашёл сразу: во дворе единственного каменного дома, фасад которого украшал орнамент из побелённых кирпичей.
Врангель пытливо и даже с ласковостью расспрашивал хозяина — старика иногороднего с желтоватой и по-козлиному жидкой бородкой, в смуругом пиджаке, заплатанном на локтях, и сапогах-«гармониках». Обеими руками прижимая к животу смятый картуз, тот только отнекивался, прятал глаза под кустистыми бровями и пожимал согбенными плечами:
— Худо наш брат понимает эту большевизню, ваше добродив... А с красными тикают от дурости мужицкой... Прижала жисть, как ужаку вилами...
Сноровисто остановив линейку и выпрыгнув, полковник — уже не молодой, лет 30-ти, но статный и по-юношески подвижный, как его рыжий конь, — одной левой рукой укрепил папаху, подкрутил лихо торчащие вверх кончики жёстких смоляных усов, разгладил на груди черкеску, оправил ремни. И решительно шагнул в распахнутые настежь ворота.
Но его строго уставное и подчёркнуто отчётливое представление обернулось совершенно неожиданным:
— Послушайте-ка, полковник Бабиев[66]... А где вы заказывали свою черкеску?
Мимо ушей Врангель не пропустил: новый командир Корниловского конного выделил зычным своим голосом, что назначен именно Кубанским войсковым атаманом. А вот глаза проглядели, что честь тот отдал левой рукой: их сразу приковала форменная одежда горского казака. Элегантная и броская: лёгкая черкеска цвета верблюжьей шерсти ладно, без лишних складок, облегала стройное мускулистое тело, с ней удачно сочетались чёрный бешмет и аккуратная, чёрного же курпея, небольшая папаха с ярко-алым донышком.
— Да в Тифлисе ещё, ваше превосходительство, — и Бабиев, слегка потупившись, но сохраняя положение «смирно», снова козырнул левой рукой.
На зависть эффектно и стильно одет кубанский полковник, признал Врангель. Даже с шиком... Головки газырей и рукояти шашки и кинжала — слоновой кости благородной желтизны и, по видимости, не дешёвые... Прищурившись и заходя с боков, он рассматривал черкеску совершенно открыто и с непосредственностью прямо-таки детской.
По пухлым щекам Бабиева, пряча мелкие оспины, разлился яркий румянец, взгляд глубоко посаженных серых глаз ушёл в землю. Ему эта сцена показалось и неловкой, и странной.
— Держите себя свободно, полковник... Просто я ужасно люблю кавказскую форму одежды. Но мало в ней понимаю... Почему и присматриваюсь, кто как одет. Я ведь приписан в казаки станицы Петропавловской, и станица подарила мне коня с седлом. Теперь вот хочу одеть себя в черкеску... — Подцепив щепотью полу, Врангель уже ощупывал неплотное, но мягкое дачковое сукно. Взгляд снова скользнул по слоновой кости... — Вот я и присматриваюсь, с кого скопировать... А то позорища не оберёшься. А вы так стильно одеты...
Бабиев снова откозырял, но уже молча.
Только тут Врангель заметил, как сильно изуродована его правая кисть, прижатая к ляжке: четыре пальца, раздробленные пулей или шрапнелью у основания, торчат, точно корявые сучки, и не гнутся.
Но даже это, признал, не убавляет у кубанца изящества и шика. Зато прибавляет мужества. Хотя куда уж тут прибавлять: и петличный Георгий, и целая дюжина нашивок за ранение, почти все золотистые[67]...
Перехватив оторвавшийся от земли взгляд полковника, заулыбался ободряюще. Пара секунд — и полные губы Бабиева тронула ответная улыбка.
— Послушайте-ка, а ведь время-то обеденное... Так что прошу к столу. Настоящего казачьего борща не обещаю, но с голоду не помрём.
— Благодарю, ваше превосходительство, но позвольте отбыть к полку?
Вместе со словами вырвались задор и неподдельное рвение. Не удержавшись, Врангель одобрительно похлопал Бабиева по плечу. Крепкому, как камень...
Прежде чем отпустить, тут же, во дворе, снабдил наставлениями.
— Ваш полк носит шефство нашего безвременно почившего вождя. И он должен соответствовать этой чести. В бою — только победа, в походе — скрытность и своевременность, на отдыхе — никаких обид мирным жителям.
— Слушаю.
— Большевиков, командиров и матросов выявлять среди пленных самым придирчивым образом и расстреливать на месте. Большевизанствующих мужиков отдавать для суда станичным сборам. А казаков присылать под конвоем в мой штаб. Ясно?
— Так точно.
— И знайте... Подъесаул Безладнов, бывший временно командующий, — хороший казак. И командиром сотни был хорошим. Но пока командовал полком — фамилию свою оправдал с лихвой. Славными корниловцами должен командовать офицер, у которого всё будет ладно в полку.
— Слушаю.
Серые глаза Бабиева заискрились весёлостью. И она сразу заразила Врангеля. Сохранять начальственный тон стало трудновато.
— Да, вот ещё что... В полку нет ни штандарта, ни хора трубачей, ни установленных знаков отличия. Не самое главное, разумеется... Но ежели всё это будет — доблести у полка прибавится.
— Я сделаю свой полк лучшим в дивизии!
Молодецкий вид и весёлость Бабиева окончательно очаровали Врангеля. Ни малейших признаков легкомыслия и бахвальства — только усердие и решительность. Настоящий орёл! Ощутил, как разливается по всему телу, будто от выпитого шампанского, бодрящая уверенность: кубанец этот, фамилии которого и слышать не доводилось, не подведёт. Хотя и список его послужной ещё почитать нужно, и в бою посмотреть...
19 октября (1 ноября). Бесскорбная
Утро выдалось ясным и безветренным. И пока не прервало ночного затишья на фронте.
— ...За четыре дня, с понедельника, полки трижды пытались переправиться через Уруп и закрепиться на правом берегу. И здесь, у Бесскорбной, и под Урупской. Всё тщетно... Ежели верить разведке, позиции против нашего фронта занимают какие-то «колонны». Одной командует «товарищ» Федько, другой — «товарищ» то ли Лисоног, то ли Лисобрюх...
Уголки тонких губ Врангеля слегка дёрнулись, но усмешки не вышло. Говорил не торопясь, невольно сбиваясь на доклад: ведь Науменко только час как прибыл из отпуска, и его нужно ввести в курс дела. Плавно водил туда-сюда карандашом по разрисованной карте, вдоль вьющегося мелкими петлями Урупа, мягко тыкал тупым концом в нужные пункты.
— ...Общая численность — до десяти тысяч. То есть превосходят нас раза в три. И дерутся недурно. Артиллерия пристреляла и станицы, и переправы напротив них, и всю долину. Пехота умело использует свойства местности... А казакам лаву развернуть негде: ширина долины менее двух вёрст, гребень — высокий и крутой, а наверху — не убранные до сих пор поля кукурузы. Так что атаковать приходится в пешем строю. Лихости у них, конечно, сразу поубавилось... Тем более в полках осталось всего по несколько штук патронов на винтовку. А Ставка, по своему обыкновению, высылку огнеприпасов задерживает. Зато в шею подгоняет с завидной регулярностью. Как видишь, Вячеслав, ничего у нас не изменилось... — Врангель метнул испытующий взгляд на лицо Науменко.
Командир 1-й бригады, не присаживаясь, как и начальник дивизии, застыл у противоположного края обеденного стола. Руки сведены за прямой спиной, голова чуть склонена, тонкие брови, немного выгоревшие, сосредоточенно сошлись на переносице, нижняя губа прикушена. Кивнул еле приметно, но прищуренных глаз от карты не оторвал.
— ...Я решил завтра ударить глубоко в тыл Армавирской группе...
...Минувшие дни окончательно прояснили план командования Красной армии Северного Кавказа: прочно обеспечивая левый фланг у Армавира и по левобережью Урупа, перебросить тылы на Святой Крест и двинуться на север с целью взять Ставрополь и через него открыть связь с Царицыном, с обороняющей его красной 10-й армией.
Не иначе как в соответствии с этим планом Таманская армия Матвеева была скрытно снята с позиций у Армавира, по железной дороге переброшена к Невиномысской и 10 октября всей массой — до 30-ти тысяч при 100 орудиях — нанесла удар во фронт 3-й пехотной дивизии. Несмотря на десятикратное превосходство противника, Дроздовский четыре дня удерживался на подступах к Ставрополю и даже переходил в контратаки... И только пополудни 14-го, понеся тяжёлые потери, очистил город и отступил к северу. Вместе с добровольцами ушли тысячи жителей.
Вчитываясь в оперативные сводки штаба армии, телеграфом передаваемые из Екатеринодара в Михайловскую почтово-телеграфную контору и оттуда доставляемые летучей почтой, Врангелю оставалось только недоумевать. Почему же стратеги из Ставки, предполагая возможность наступления противника на Ставрополь, не подкрепили Дроздовского? Почему заблаговременно не оттянули с северо-востока к городу 2-ю пехотную дивизию Боровского и 2-ю Кубанскую дивизию Улагая? Почему дали им увязнуть на второстепенном петровском направлении? Как же допустили такой разброс дивизий?
Теперь же Деникин, как понятно из директив, видит только один способ отбить Ставрополь: активными действиями его дивизии и Казановича, 1-й пехотной, на фронте Армавир — Урупская — Невиномысская отбросить за Кубань 20-тысячную Армавирскую группу большевиков, арьергардом закрепившуюся в междуречье Урупа и Кубани, и затем нанести удар во фланг Таманской армии.
Казановичу главком поставил задачу овладеть Армавиром и далее наступать вдоль линии Владикавказской железной дороги, между Урупом и Кубанью, на Невиномысскую. А ему — переправиться через Уруп, ударить во фланг и тыл действующих против 1-й пехотной дивизии частей противника и отбросить их за Кубань.
Казановичу главком отдал последний армейский резерв — пластунский батальон — и даже сам прибыл на участок своего любимчика. Ему же не дал ни пополнений, ни огнеприпасов.
Казанович, воспользовавшись тем, что Таманскую армию в районе Армавира сменила какая-то 1-я «колонна», куда менее боеспособная, 13-го Армавир взял и двинулся вдоль Владикавказской магистрали на Невиномысскую. Он же 14-го отбил Урупскую и Бесскорбную с большими потерями, а теперь из последних сил удерживает: подсумки у казаков почти пустые.
Уверенность, но при том и осмотрительность, с какими большевики атаковали последние двое суток Урупскую, как и пассивность их перед Бесскорбной, стали понятны Врангелю только к исходу минувшей ночи: Армавирская группа большевиков 17-го перешла в контрнаступление против 1-й пехотной дивизии, когда той осталось топать до Невиномысской меньше 40 вёрст, — и отбросила её назад почти к окраинам Армавира. Казанович едва-едва удержался в самом углу междуречья Кубани и Урупа.
Вместе с опоздавшей оперативной сводкой телеграф принёс из Екатеринодара приказ главкома: 1-я конная дивизия передаётся в оперативное подчинение генералу Казановичу.
Голова ещё осмысливала, а рукам уже не терпелось разорвать беззащитный сиреневый бланк на мелкие клочки. Его мнением Ставка, как всегда, не поинтересовалась...
Отвлекло нежданное появление в атаманском доме полковника Науменко. Мягкий приятный голос, прямой добрый взгляд, открытая и даже какая-то застенчивая улыбка кубанца — всё это прибило нахлынувшую волну раздражения. И мысль, что наконец-то можно будет действовать всеми тремя бригадами, возвратила спокойствие...
...Науменко снял с плеча плотно набитую бумагами полевую сумку. Расстегнул не глядя и не без усилия извлёк из её тесноты полевую книжку с вложенным между страницами карандашом.
— Вот сюда, — переждав, продолжил Врангель, — между станциями Овечка и Богословская. Направление удара — село Козьминское. Взять его — задача Мурзаева. Все силы «товарищей» стянуты на фронт Урупская — Армавир, и в этом районе должны быть одни заслоны... Твоя задача, Вячеслав: ещё до рассвета переправиться через Уруп напротив станицы... Батарею, извини, придать не могу: в артиллерийском парке хоть шаром покати... Прочно занять гребень. И обеспечить левый фланг Третьей бригады...
План свой Врангель растолковывал детально и раздумчиво, будто не одному Науменко, но и самому себе. А в голове, путая мысли, назойливо вертелось: дай Бог, чтобы «товарищи» решили нынче перевести дух, не сорвали бы сосредоточение бригад.
Твёрдо держа на весу полевую книжку, Науменко записывал чуть не каждое слово. Незакрытая полевая сумка осталась лежать рядом на столе.
— ...Условия местности для нас исключительно неблагоприятные: речная долина здесь шире, чем севернее Урупской. Около двух вёрст. Её восточный край переходит в гористый гребень. Высота его — двадцать саженей, а где и больше. Он господствует над всей долиной и низким левым берегом... Романовский, похоже, не видит на карте этого гребня, раз день и ночь требует «во что бы то ни стало» отбросить Армавирскую группу за Кубань...
Странным показалось Врангелю: за месячный, считай, отпуск Науменко стал худее прежнего. А вот сумка полевая растолстела так, что кожа вот-вот лопнет. Чем же он, любопытно знать, занимался в Екатеринодаре? В штабе Кубанского войска дневал и ночевал? Бумаг привёз много, и от Олесиньки письмо передал, но на вопросы — что там и как в штабе армии — отвечал односложно и как-то, показалось, уклончиво.
— ...Всё внимание приковать к линии станция Коноково — село Козьминское. Выслать разъезды к железной дороге... Ежели повезёт перехватить обоз с огнеприпасами — вывезти всё до последнего патрона...
Дожидаясь, пока Гаркуша очистит стол от карты и бумаг, а жена станичного атамана накроет завтрак, вышли на воздух. В отличие от вчерашнего, день обещал быть солнечным. Но с севера подул холодный ветерок.
— А кстати, Вячеслав... Нового командира Корниловского конного знаешь?
— По службе не встречались, Пётр Николаевич. Но видел не раз и наслышан.
— Что можешь сказать?
— Полковник Бабиев — один из лучших командиров. Кубанского казачьего войска... — без колебаний ответил Науменко.
— А полковника Соколовского? Начальником штаба ко мне назначен.
— Кажется, на младшем курсе учился такой в академии...
— Неужто Романовский ни словом не обмолвился?
— Нет. Да мы и виделись-то мельком...
Ели быстро и молча. Горка блинов, толстых и пористых, почти уже сравнялась с краями мелкого блюда, когда ординарец доставил из Урупской донесение Топоркова: пехота противника на рассвете перешла Уруп вброд в 10-ти верстах севернее станицы и развивает наступление в разрез между его бригадой и 1-й пехотной дивизией генерала Казановича.
20 октября (2 ноября).
Бесскорбная — Козьминское
За минувшие день и ночь Казанович прислал три телеграммы с требованием помощи.
Врангелю их категоричный тон не понравился. Особенно скверное впечатление произвело упрямство, с каким «первопоходник» настаивал: 1-я конная дивизия должна держаться вплотную к его правофланговым частям. И никакие доводы, что конница, занимая уступное положение, может манёвром обеспечить 1-ю пехотную дивизию несравненно лучше, на того не подействовали. По видимости, нервничает изрядно... Хороши в Ставке стратеги, нечего сказать! Разве можно подчинять конную дивизию начальнику пехотной? Да ещё «моменту», который половину службы протирал штаны в кабинетах, а кавалерией не командовал ни дня. Только что «первопоходник»... Глупость чистой воды!
Скрывать от офицеров своего штаба недовольство главным командованием нужным не посчитал. Но, оставаясь один на один с чистым листом писчей бумаги, взвешивал, не в пример прежнему, каждое слово: и в телеграммах Казановичу, и в донесениях Деникину. Не жалея ни пальца Рогова, ни клавиш пишущей машины, черкал и правил уже готовые к шифрованию и отправке в Екатеринодар оперативные сводки.
И правильно делал. Не он — пришлось-таки признаться самому себе — оказался прав в расчётах, а Казанович — в худших предчувствиях: не ограничившись утренним наступлением севернее Урупской, красные уже в сумерках переправились через Уруп в 7-ми верстах южнее станицы и быстро продвинулись почти на 2 версты к западу.
Такого сюрприза не ждал. По всему, цель «товарищей» — захватить плацдарм на левом берегу и заставить его забыть о правом да вдобавок расколоть его дивизию.
Первым порывом было прикрыть Бесскорбную заслоном — 3-й бригадой Мурзаева, — а 1-ю бригаду Науменко перебросить к Урупской и на рассвете атаковать красных, которые, скорее всего, попытаются плацдарм расширить. Но осадив себя и поразмыслив, решил не отказываться от своего плана: успешное продвижение Науменко и Мурзаева к железной дороге скорее заставит командование Армавирской группы отвести все силы обратно на правый берег, нежели контратаки на левом. А уж Топорков сумеет и двумя полками отбить возможное наступление «товарищей» на Урупскую.
Оперативный приказ на завтра подписал, едва раздирая слипающиеся веки. Мозги, чувствовал, распухли от лошадиной работы и недосыпа. Ничего так не желалось, как растянуться пластом на кровати, но нужда погнала во двор.
Выскочив как был, в накинутом поверх исподней рубахи мундире, даже замер от удивления: лицо обожгли колючая пыль и холод, в уши ударил гулкий шум деревьев. Не сразу дошло: северный ветер изрядно усилился... И несёт, чёрт его побери, форменную стужу. А у казаков ни тёплого белья, ни кожухов — строевых овчинных полушубков. Ставка, разумеется, присылкой не озаботилась. Теперь подскочит число простудившихся. Этого только не хватало! Полки и так растаяли: шашек по 450 — 500 всего... Одно хорошо: эта сволочь комарье попередохнет наконец.
В жарко натопленный дом — спасибо, Гаркуша порадел — возвратился насквозь продрогшим. Оледеневшие пальцы не сразу справились с костяными пуговицами бриджей. Оставленный за дверью ветер зло подвывал в печной трубе и свистел в оконных щелях...
...Разошёлся ветер не на шутку. Раскачивал деревья, сгибая верхушки к югу... Гнал песок, сорванные листья и обломанные ветки... Мотал флюгера, скрипел закреплёнными крыльями мельниц, стучал незапертыми ставнями... Расшвыривал необмолоченные снопы на гумнах, срывал с прищепок развешенное во дворах бельё... Загнал собак в конуры, разбудил и встревожил в конюшнях лошадей.
С очистившегося чёрного неба на его разгул взирали, помигивая, голубоватые звёзды.
К рассвету, так и не угомонившись, ветер надышал зимой: зелёная осенняя травка покрылась инеем.
Хотя быстрая вода Урупа до ледяной остыть не успела, корниловцы и екатеринодарцы, переправляясь вброд в сёдлах, поджимали ноги. За пять минут, рысью, колонны полков достигли скалистого гребня. Не спешиваясь, поднялись по крутому просёлку наверх.
Науменко, закрывшись ладонью от слепящего солнца, сверился с картой: между неровными прямоугольниками полей просёлок уходит по равнине на северо-восток и через 23 версты, между станциями Коноково и Овечка, пересекает железную дорогу на Владикавказ. За ней — Кубань-река...
Красные не попытались помешать занятию высот и даже не обстреляли, но на горизонте маячили их конные разъезды, хорошо различимые в бинокль. Надёжно укрыв в ложбинках и за бугорками лошадей, казаки рассыпались в цепь фронтом к железной дороге: екатеринодарцы на левом флаге, корниловцы — на правом.
Науменко, поднимаясь в сопровождении ординарцев на самый высокий бугор, решил остаться с корниловцами: поднять им настроение. Уж очень минорное. Особенно у офицеров. Все как один снятие Безладнова посчитали несправедливым. Хотя тот уже отбыл в родной Екатеринодар, в отпуск, обсуждение этой истории не прекратилось. Даже наоборот: становится всё более нелицеприятным для Врангеля. Встречи и разговоры «Тараса» с бароном, кто что уловил краем уха и приметил краем глаза, перебирают по косточкам... Так всегда и случается, когда подчинённым открываются вдруг мстительность начальника и ими овладевает сочувствие к безвинно наказанному.
Поговорив по душам с самыми близкими, с кем выпало хлебнуть крови и грязи корниловского похода, Науменко утвердился в первом впечатлении: конечно, казаков как воинов барон ценит и даже любит, но, по правде, понимать их не понимает. Ибо ни казачьего быта не знает, ни устоев станичной жизни, ни психологии казачьей...
Даже пожалел, что отсутствовал почти месяц: можно было бы, вероятно, как-то влиять на решения начальника дивизии, поправлять их, смягчать... Да наверняка смог бы: всё-таки Врангель, похоже, способен внять разумным доводам подчинённых. Даже когда те идут вразрез с его собственными представлениями.
А поправить следовало бы многое.
Хотя бы стремление Врангеля оставить при штабе всех до единого офицеров регулярной кавалерии. И присылаемых Ставкой, и бывших своих сослуживцев, приезжающих к нему по собственному почину. И положение в итоге сложилось возмутительное: штаб дивизии, в которую входит пять кубанских казачьих полков, сплошь состоит из офицеров-кавалеристов. Единственный офицер Кубанского войска — его личный адъютант. Да и того низвёл до денщика: хорунжий больше занят обслуживанием личных нужд, чем исполнением уставных адъютантских обязанностей.
А поскольку должностей штабных всем прибывающим офицерам-кавалеристам не хватает, оставляет их при себе ординарцами. И ординарческий взвод скоро уже до сотни разбухнет... Все они, конечно, прибывают без лошадей и седел. И строевых лошадей забирают для них из полков. Больше неоткуда... Забирают из строя и казаков: служить вестовыми при штабных офицерах. Да разве можно это делать при таком некомплекте в полках! Сотни — раза в полтора меньше положенного...
Невесёлые мысли отлетели прочь, едва глаза нашли Бабиева: новый командир корниловцев, сопровождаемый полковым адъютантом, идёт вдоль цепи, улыбается и что-то говорит укрывшимся за камнями казакам. Верно, что-то по-черноморски весёлое и ободряющее: те посмеиваются, кивают, отпускают ответные остроты... Вот кто знает казачью душу, все её закоулки и болячки, умеет взбодрить и воодушевить одним своим молодецким видом и задорной командой... Но по правде, уж очень много форсу и картинности. Даже искалеченную правую руку будто бы нарочно напоказ выставляет... Хотя сейчас вот, без лошади, форсу поубавилось.
И на расстоянии шести-семи десятков шагов Науменко вдруг почуял в фигуре и жестах Бабиева какую-то нервозность. Странно. Не привык ещё воевать без патронов? Или не любит пешего боя? Похоже, так и есть: оглянулся на укрытых за бугром лошадей, ещё раз... А кто его любит? Не без доли правды казаки пошучивают: «Без коня меня всякая баба повалит».
Врангель — тот, говорят, чаще на автомобиль оглядывается, чем на лошадь. И тем, конечно, немало теряет в глазах казачьих офицеров.
Именно этот вопрос — авторитет Врангеля среди кубанцев, — как он понял в Екатеринодаре, на удивление сильно беспокоит Ставку. Генерал-квартирмейстер полковник Сальников за время часовой беседы несколько раз как бы невзначай поинтересовался: как сложились отношения между Врангелем и офицерами дивизии, как восприняли его назначение рядовые казаки, как ему удаётся ладить со станичными властями и местным населением? Сразу почуял какой-то подвох в этих расспросах исподволь...
Романовский — случайно столкнулись в штабном особняке на Соборной площади — тот спросил безо всякой маскировки: не наблюдается ли со стороны генерала Врангеля пренебрежительного отношения к казакам и казачьим традициям демократизма, не возникло ли на этой почве неприятие его офицерами и нижними чинами? Хотя, конечно, спешил, но ответы — в общем отрицательные — выслушал внимательно. Сохранив при этом всегдашнюю свою непроницаемость, так что в мысли его задние проникнуть не удалось.
Потому и не стал докладывать об этих расспросах Врангелю. И офицерам бригады не скажет. Тыл, как водится, живёт интригами и самыми вздорными слухами. И незачем подрывать ими дух фронтовиков, пачкать тыловой грязью святое дело борьбы за освобождение Кубани... К тому же близится созыв Рады, «черноморская» группа Быча и «самостийные» газеты горячатся всё сильнее, претензии к Деникину и его Особому совещанию предъявляются всё решительнее. И всё громче раздаётся требование вывести казачьи части из состава Добровольческой армии и начать формирование Кубанской.
Увы, после смерти Алексеева нелады между добровольческим командованием и кубанскими властями стали острее...
— Разъезд возвращается, господин полковник.
Науменко плавно поднял к глазам бинокль: не просто возвращается, а широким намётом идёт по стерне — пыль развевается хвостом над степью. Тут же разглядел и причину: из грязной желтизны полей выступила длинная цепь солдатских серых шапок и шинелей...
...2-я бригада Мурзаева — 1-й Линейный и 2-й Черкесский полки — переправилась через Уруп в четырёх верстах южнее Бесскорбной, напротив села Ливонского. По крутому просёлку, ведя коней в поводу, казаки взобрались на плато. Построив полки в резервные колонны, Мурзаев переменным аллюром двинул их скошенными полями на восток — на Козьминское.
Через час из-за горизонта выглянула золотая маковка и белая пирамидка колокольни, за ней — серо-жёлтые верхушки тополей и вытянувшиеся короткой полосой бурые крыши.
Нисколько не сомневаясь, что Козьминское возьмёт, Мурзаев уже поднял шашку — подать знак развернуться в лаву... Как вдруг село закрыла густая масса конницы — несётся навстречу... Сохраняя сомкнутость в шеренгах, уже перешла на галоп. Заблестели вздетые клинки.
Линейцы и черкесы, обескураженные, стали натягивать поводья. Затоптались, взбивая чёрную пыль... Самые слабые духом поворачивали коней и сразу переводили в намёт. За ними, изредка озираясь на догоняющих красных, кинулись остальные...
Офицеры кричали «Стой!», угрожали надсадной руганью и шашками, палили в небо из револьверов... Но никто не остановился. Иные, нещадно охаживая лошадиные бока плёткой, перешли в широкий намёт и вырвались вперёд... Полки рассыпались на группки и массу одиночных всадников.
С высоченного гребня, по каменистому просёлку, кто в седле слетел, кто на мягком месте скатился.
Спускаться в долину и преследовать их красные не стали.
Мурзаев остановил линейцев и черкесов только на левом берегу Урупа. Трубачи надорвались трубить «сбор»...
...Всё вокруг нагоняло на Врангеля раздражение. И прямо-таки зимняя стужа, навалившаяся месяца на два раньше обычного... И запущенный вид церковной площади, ещё более грязной и замусоренной при свете ясного дня... И корявые, почти оголённые за ночь ветром, ветви хилых акаций...
Колючая пыль запорошила глаза. Рука уже устала похлёстывать плёткой по сапогу. Ноги гудели от вышагивания туда-сюда вдоль фасада атаманского дома. Но иначе длинное худое тело и в шинели промёрзло бы до костей. В такой холод всю жизнь, сколько помнит, только и мечтал о том, чтобы не выходить во двор.
Вдоль акаций, держа коней в поводу, стояли в две шеренги ординарцы и конвойцы — едва за полусотню. Переминались с ноги на ногу, но ледяной ветер одолевал. Понурились и лошади...
Прочтя донесение Мурзаева, ни одного вопроса ординарцу не задал. Только плеть, зажатая в кулаке, стала жёстче хлестать по голенищу.
Спустя несколько минут влетел на площадь и подъесаул-корниловец. Изящно соскользнул с коня, поправил низкую белую папаху и, уняв бурное дыхание, скупыми словами передал от Науменко: полки лежат в цепи, патроны на исходе, красная пехота атакует беспрерывно.
И его Врангель выслушал не перебивая. Посеревшее лицо передёрнула досада.
Услышав просьбу о помощи, безнадёжно ткнул плетью в сторону жидкого строя:
— Это весь мой резерв...
...На другой площади, что в восточной части станицы — потеснее церковной, — полковник Мурзаев устроил своим линейцам прохождение церемониальным маршем. Ещё на Великой войне завёл такой порядок: побежавшую от противника часть «пропускать через мат». Чтобы выбить трусость и поднять дух.
— Пер-рвая сотня, р-равнение на-право!
Смуглой кожей и чертами лица похожий на горца — сын крещёного черкеса, — немного выше среднего роста и крепкого телосложения, он грозно восседал на крупном, под стать ему, тёмно-гнедом жеребце. Ветер зло трепал разошедшиеся полы его незастёгнутого светло-серого офицерского пальто мирного времени.
Правая рука недвижимо покоилась на широкой чёрной перевязи. Легко раненная ниже плеча при взятии екатеринодарской фермы — три дня спустя на ней убило снарядом Корнилова, — теперь вот начала отсыхать. Левая старалась за обе: высоко вздетая над серой папахой, гневно потрясала увесистым кулаком.
— Трусы... вашу мать! Двадцать вёрст удирать намётом! Я вам покажу... вашу...
Мощный баритон, точно шрапнелью, засыпал отборной бранью всю площадь и ветром заносился на прилегающие дворы и улочки.
Посмурневшие и потерявшие прямую посадку линейцы нестройно шли взводными колоннами. Не отворачивая голов от обожаемого командира, стыдливо прятали глаза в лошадиных гривах.
Мурзаеву поделалось совсем тошно. Подумать только... Как зайцы, удирали его казаки широким намётом. Два десятка вёрст! А красной конницы было столько же, сколько и их: не более тысячи. И линейцы, и черкесы это видели. Орали друг другу «Стой!», но всё равно удирали, мерзавцы. Ни команды, ни угрозы — ничего не помогло... И ему пришлось бежать вместе с ними... Ни на Кавказе в Великую войну, ни в корниловском походе — ни разу не видел такого позорного бегства. Господи, что же это стряслось с казаками?! Откуда этот животный страх за свою шкуру?! Похоже, гибнет казачество... И Врангель хорош. Какого... ему понадобилось это Козьминское?! Стоит в стороне, только бессмысленная разброска сил...
...Торопливо внеся в столовую раскалённый латунный чайник с длинным носиком — поскорее отогреть начальнику душу — и убедившись лишний раз, что стол накрыт как полагается, Гаркуша вышел на переднее крыльцо перекурить. Холодина собачья, да ничего не попишешь, коли Пётр Николаевич не велит кадить табачищем в хате.
Короткими мозолистыми пальцами бережно извлёк из красно-синей пачки папиросу ростовской фабрики Хахладжева. От станичного атамана гостинец. Третьего дня только получил, а уж наполовину порожняя... Упрятал пачку поглубже в тесный карман шаровар. Тщательно переломил мундштук... Едва затянулся, блаженно жмурясь по-котиному, сладко-терпким ароматом, как сквозь шум ветра пробился быстрый стук колёс.
У крыльца замер небольшой потрёпанный экипаж в две лошади, и из него прытко выскочил молодой и стройный офицер в полевой фуражке и лёгком дорожном плаще. Рука, затянутая в коричневую лайковую перчатку, небрежно метнулась к козырьку.
— Я князь Оболенский, ротмистр... Не знаете ли вы, где генерал Врангель? — И в тонких чертах его по-девичьи красивого лица, и в мягком голосе царило нетерпение.
Хотя и задетый обращением не по чину, тоже как-никак офицерскому, Гаркуша готов уже был ответить, но ему не дали и рта раскрыть.
— Я командирован в его штаб! Из самого Армавира еду...
— Их превосходительство генерал Врангель чаювают в хате...
— Отлично! Благодарю, друг мой! — радостно выпалил ротмистр и легко взлетел по деревянным ступеням. Зазвенели шпоры.
Через миг из столовой донеслись приветственные восклицания...
Хахладжевская папироса на этот раз показалась Гаркуше отсыревшей и горьковатой.
20—21 октября (2—3 ноября).
Бесскорбная — Урупская
Прочно удерживая Урупскую, 2-я бригада Топоркова ценой тяжёлых потерь не позволила красным расширить занятый на левом берегу плацдарм. Но не более того...
До полуночи ломал Врангель разболевшуюся голову, как отбросить противника за Уруп и при этом самому не оказаться отброшенным обратно за Чамлык... Как никогда горько пожалел, что остался без знающего начальника штаба. От негодования на Ставку черкал по двухвёрстке так резко, что грифеля крошились, будто песочные. Гаркуша замучился чинить карандаши затупившимся лезвием от бритвы «Жиллетт»: шашку и кинжал наждаком точить — куда сподручнее.
Настроение не подняла даже доставленная обозным казаком из Михайловской черкеска.
От карты оторвался всего на минуту: ощупал, оглядел, подняв на вытянутых руках, сзади и спереди, приложил к груди... Из местного серого сукна, рыхловатого, но плотного и, по видимости, тёплого. И скроена недурно, вроде как по фигуре... Так, чёрт возьми, не терпится обновить её! Да ещё папаху с алым, кубанского войскового цвета, верхом... Жаль, но пусть подождут на пару в чемодане: ещё не пошиты бешмет и чувяки с ноговицами... Переобмундируется не иначе как полностью. Чтоб не предстать перед казаками посмешищем. Только нафталином не забыть пересыпать...
Отвлекаясь на стук в дверь, успел подумать: пока не потеплеет, обойдётся своей старой фуфайкой-кожанкой и буркой. Весьма предусмотрительно было прихватить их с собой в августовскую жару.
Из доставленного донесения явствовало: красные, не дожидаясь рассвета, начали спешно отходить обратно на правый берег. Что за чёрт?! Обнаружила разведка екатеринодарцев. Не может быть!
При слабом свете самодельного масляного светильника разборчивое и толковое донесение Муравьёва перечитал трижды... Нет, не похоже на ошибку. Но с чего вдруг? С чего это «товарищам» пятки намазывать?! Безо всяких видимых причин. Что у них стряслось? Ежели только Деникин в помощь любимчику Казановичу оттянул под Армавир все части со ставропольского направления... Чёрт его знает! Как бы там ни было, обстановка складывается исключительно благоприятная. И не воспользоваться ею — глупо...
Обстановка сама, и без начальника штаба, подсказала решение: сколотить ударную группу, широко сманеврировать, переправив её южнее Бесскорбной, нанести удар противнику глубоко в тыл и вынудить его к отходу. Тем более с Кавказской подошёл долгожданный обоз с огнеприпасами.
К Топоркову ординарец поскакал с приказом растянуть запорожцев и уманцев по фронту от хутора Абдурахманова до аула Урупского, имея в центре позиции станицу Урупскую. Науменко получил задачу, объединив под своим командованием все четыре полка 1-й и 3-й бригад и две батареи, с рассветом переправиться через Уруп в 3-4-х верстах выше Бесскорбной, в районе села Ливонского. Затем захватить на правом берегу командующий гребень, выдвинуться в направлении станции Овечка и, развернувшись круто на северо-запад, с ходу нанести удар в тыл группе красных, закрепившейся на гребне против Урупской.
Сам же Врангель решил переехать на автомобиле в Урупскую: оттуда начать преследование отходящих «товарищей»...
...Уруп обмелел настолько, что превратился в сплошную переправу: лошади нигде не теряли дно. И полки перешли на правый берег, к селу Ливонскому, быстро и все сразу.
Когда идущие авангардом корниловцы оседлали высокий, с крутыми склонами, скалистый гребень, чуть приплюснутый багровый шар солнца уже оторвался от восточного края чёрной равнины.
Преодолевая сопротивление пока одного только ветра, двойные колонны полков, и между ними батареи, дошли вдоль гребня на северо-запад до уровня Бесскорбной, к месту вчерашнего неудачного боя корниловцев и екатеринодарцев. Никаких признаков присутствия противника... Первым делом послав от Корниловского конного разведывательную сотню на север, в направлении села Успенского, Науменко остановил и спешил полки, приказал укрыться за буграми и в ложбинах, прилегающих к гребню. Потом написал краткое донесение Врангелю.
Хотя приказ начальника дивизии требовал действовать «стремительно» и «неожиданно», он предпочёл дать казакам и лошадям передохнуть, артиллеристам спокойно установить пушки в наблюдательное положение, а разведке точно выяснить расположение, силы и намерения противника. А пока суть да дело — собрать и послушать полковых и сотенных командиров: бестолковое хождение вдоль и поперёк Урупа всем им, чувствовал, вымотало душу... Пусть выговорятся — выпустят пар. Кстати, и гребень скрыл ударную группу от всё замечающих глаз барона.
Со своим умением нравиться и прочной репутацией начальника, позволяющего подчинённым свободно высказывать собственное мнение, Науменко вызвал бы на откровенность и самых скрытных.
Но тянуть за язык никого не понадобилось. Услышав от командира бригады предложение высказаться об обстановке, инициативой прочно овладел Муравьёв. Его маленький рост с лихвой компенсировала энергичность. Привалившись спиной к камню, заговорил горячо: по милости начальника дивизии полки толкутся на месте, как хохлы на толкучем рынке, воюют по расходящимся направлениям и потому теряют связь друг с другом... А следует собрать все шесть полков в кулак, ударить в один пункт — самый слабый у противника, — прорвать фронт и затем уж бить его по частям в хвост и в гриву, истинно по-казачьи...
Говорил Муравьёв на чистом русском языке, и отсутствие шутливых черноморских словечек делало его речь крайне серьёзной и даже жёсткой. И чем дальше, тем говорил вспыльчивее и резче. Пока, правда, без солдатских грубостей.
Остальные три десятка строевых офицеров, от подъесаулов до полковников, лежали на сухом подножии невысокого бугра, укрывшись от ветра и подставив бока солнцу. И рта открывать не спешили: с языка Муравьёва срывалось именно то, что набродило у них у всех на уме. Одобрительными взглядами и кивками ясно показывали: сочувствуют каждому слову.
И Науменко слушал не перебивая и уйдя в себя... Пока Мурзаев, сидя по-турецки и машинально поглаживая отсыхающую руку здоровой, тихо не выругался в усы:
— Гибнет казачество... его мать!
Оказавшись среди немногих расслышавших, Науменко будто очнулся: пара, однако, накопилось больше, чем полагал... А Муравьёв как был в дивизии самым языкастым, так и остался. Меры в критике начальства никогда не знал, и по его милости разговор по душам вот-вот перерастёт в митинг. А то ещё хлеще — в общее поношение Врангеля. Так что лавочку пора сворачивать.
Поднял руку, требуя внимания.
— Ну, будет тебе, Всеволод... Хотя, по правде говоря, трудно с тобой не согласиться. Ну, а теперь давайте посмотрим на всё это шире. Дело в том, что...
Его увещевания и разъяснения обстановки на всём фронте, подкреплённые мягкой улыбкой, не сразу остудили Мурьвьёва. Но именно по тому, как говорил и как улыбался командир бригады, все скоро поняли: и он разделяет мысли пусть не всегда сдержанного, но всегда искреннего, справедливого и лихого командира екатеринодарцев, отличившегося и в Великую войну, и в корниловском походе...
Точку в разговоре поставил казак, прискакавший с донесением от командира разведывательной сотни: обнаружены две цепи красной пехоты — наступают от станции Овечка.
— К бою!..
...Ординарец с донесением Науменко об удачной переправе и занятии гребня нагнал «Руссо-Балт» уже при въезде в Урупскую, около полудня.
А спустя час служебное рвение выказали и связисты: доставили из Михайловской почтово-телеграфной конторы сразу несколько телеграмм, среди которых оказалась и последняя оперативная сводка штаба армии, весьма пространная.
Врангель читал расшифровку, хмыкая и кривя усмешливо губы.
Помощь ему пришла, откуда и не ждал: ещё третьего дня Покровский, сосед справа, безнадёжно увязший, судя по прежним сводкам, во встречных боях выше по течению Урупа, в районе станиц Попутная и Отрадная, совершил прыжок — чёрт знает как ему это удалось! — аж в 40 с лишним вёрст и занял станицу и станцию Невиномысскую. И уже преследует противника на северо-запад, вдоль реки Кубань, заходя глубоко в тыл Армавирской группе красных... Понятно теперь, почему «товарищи» без боя очистили Урупский плацдарм. Понятно и то, что Покровский не балует своевременными донесениями не только соседей, но и Ставку. Деникин и с этим справиться не может?
Приказав Топоркову стягивать запорожцев и уманцев к урупской переправе, выехал на наблюдательный пункт.
Обжигающий ледяной ветер с севера налетал порывами с прежним ожесточением. Терзал беспощадно прибрежные ивы и тополя, обдирая и расшвыривая последние пожухшие листья. Высокую рябь гнал против течения с таким неистовством, будто вознамерился повернуть быстрый Уруп обратно в горы. Даже солнце, уже склонившееся к западу, будто бы похолодело, хотя лучи его ещё грели подставленную спину. Запахивая полы мохнатой бурки, Врангель в который уже раз рассматривал с наблюдательного пункта противоположный берег.
Речная долина, заросшая во многих местах камышом, упирается в высокий, до двух десятков саженей, скалистый гребень — дотянувшийся сюда отрог одного из кавказских хребтов. Его крутые, поросшие приземистым кустарником склоны перемежаются каменистыми, отвесно обрывающимися выступами, кое-где оплетаются тропинками, а в одном месте прорезаются крутым извилистым просёлком, ведущим на станцию Коноково.
Рельеф и солнце помогали и без гёрцевской оптики ясно различать цепи противника, залёгшие по крутому склону гребня: вьются дымки от костров, время от времени кто-то карабкается вверх или скатывается вниз, бликуют бинокли командиров... Хорошо обучены и дисциплинированы, сволочи: хотя патронов масса, не стреляют — терпеливо ждут атаки его казаков. Осталось недолго, «товарищи»... Уж потерпите. Но где же, чёрт возьми, Науменко?! Никаких пока признаков его наступления...
...Длинные и густые цепи противника под развёрнутыми ветром красными знамёнами уверенно шли вперёд. Перед ними, сохраняя расстояние с версту, шагом отходила жалкая лава разведывательной сотни. Никто не стрелял.
Водя биноклем по цепям, Науменко удивился: уж очень много чёрных казачьих папах. И почему-то не открывают огня, хотя дистанция прицельного выстрела давно пройдена...
Как и задумал, едва цепи красных поравнялись с полками, скрытыми в ложбине, взмахом перчатки подал знак.
Головным в атаку сорвался, сразу переходя в намёт, Корниловский конный: разомкнутым строем, тремя одношереножными эшелонами, по две сотни в каждом. Бабиев шёл во втором.
Следом, как поддержка, — 1-й Екатеринодарский, в линии колонн, готовый сразу же, как потребуется, развернуться в лаву.
Направляющая корниловская сотня вела полки точно в левый фланг красных. Завидев так близко — всего в полутора верстах — невесть откуда взявшихся казаков, те опешили: перестраивать длинные цепи или заходить плечом уже не осталось времени. Раздались будоражащие крики команд, и крайние открыли ружейный огонь — беспорядочный и неприцельный.
Корниловцы тут же перешли в широкий намёт, вздели ярко блеснувшие клинки, загикали, засвистели...
Расстояние сократилось до двухсот шагов, как вдруг красные прекратили стрельбу, побросали винтовки и кинулись навстречу. Размахивали руками, сбивались в толпы и вопили что есть мочи:
— Станишники-и-и-и!..
Казаки, не потерявшие ни одного человека, живо окружили сдавшихся... И пришёл теперь их черёд опешить: красные лезли обниматься, радостно сыпали приветствиями и остротами, кто послабее духом — всхлипывал и утирал слёзы, а кто покрепче — решительно и зло требовал прямо сейчас же вести его в бой против «комиссаров и большевистской сволочи». И никто не считал себя пленным.
Из быстрых расспросов выяснилось: все они — сплошь казаки и иногородние уже освобождённых от большевиков лабинских станиц, все были насильно мобилизованы отходившей через эти станицы Таманской красной армией. Пёстрая одежда, большей частью рабочая, наглядно подтверждала их слова: кто в ватном бешмете, кто в овчинном полушубке, кто в шинели, на ногах — опорки, чирики, солдатские ботинки и реже сапоги. Зато на головах у всех почти — потёртые от старости чёрные папахи.
Тут же нашлись и знакомцы, и даже дальняя родня...
У многих корниловцев и екатеринодарцев потеплело на душе: более полутора тысяч своих перешли, влились в родное войско! Целых два полка!
Лишь самые злые рубаки досадовали: почитай, вовсе и не было никакого боя, раз клинкам работы не нашлось, зря только обнажали их... Но сердца их быстро смягчились: сдавшиеся, богато снабжённые винтовочными патронами и пачками табака, щедро раздавали их победителям. Об одном осталось жалеть: обозов при них не оказалось...
...Ждал Врангель, ждал, уже устал ждать, и потому ожидаемое случилось как-то вдруг.
Гребень, побагровевший в лучах заходящего солнца, ожил: засуетились, забегали чёрные точки и вскоре покрыли весь склон, дружно устремившись к вершине. Будто пришёл в движение разворошённый муравейник.
— Беглый огонь! — выкрикнул торопливо.
Офицер-телефонист резко крутанул рукоятку полевого аппарата и дважды прокричал его приказ в слуховую трубку.
Над гребнем засверкали огненно-розоватые разрывы шрапнели. Дымные комки быстро относило к югу.
— В атаку!
Верхом, поднимая фонтаны брызг, кинулись казаки в мутную воду. Ветер погнал по долине крики, плеск, фырканье, ржание... Щебнистое дно лошадей с конниками держало прочно. Красные уже скрывались за гребнем, не сделав ни единого выстрела.
На одном дыхании достигая правого берега, сотни живо разворачивались в лаву и намётом устремлялись к гребню. Батареи прекратили огонь. Спустя несколько минут казаки, ведя коней в поводу, поднимались по просёлку на опустевший гребень. Многие проворно карабкались по самым пологим из тропинок.
Откуда-то с востока донёсся слабый орудийный гул: все силы отдал на борьбу с ветром и едва перелетел через Уруп. Врангель напряг слух... Вот ещё. Никаких сомнений: наступает Науменко.
Всё острее терзало желание и самому переправиться... Плеть нетерпеливо похлёстывала по мягкому чувяку. Сапоги со шпорами отныне — и Бог весть как надолго — уложены в чемодан. Как и бриджи с мундиром. И фуражка... Жалость какая, холод этот чёртов всё испортил: налетел из Совдепии и заставил поверх новой черкески надеть бурку. А то бы в самый раз покрасоваться перед казаками в обнове. Хороша чертовски! Сидит на удивление ладно. И тёплая, как шинель. А присланные Олесей газыри с головками из белой эмали, точно под Георгиевский крест, и мягкие погоны — просто отличные...
22 октября (4 ноября). Урупская — Успенское
Одновременно со шкворчащей глазуньей в столовой появилось донесение Науменко: на подступах к селу Успенскому красные сбиты, захвачены сотни пленных, десятки пулемётов и обозы, головной полк перерезал Владикавказскую железную дорогу.
Заторопившись в 1-ю бригаду, Врангель приказал подавать автомобиль. Глотал почти не жуя, остужая обожжённый язык молоком из погреба.
Но шофёр с помощником ни с того ни с сего заявили в один голос: мотор чихает и вообще требует серьёзного ремонта. Для убедительности открыли капот, какие-то железки отвинтили и разложили на замасленном куске брезента... Наплели все, заподозрил сразу, лишь бы опять не попасть на передовой в переплёт... Бездельники и трусы! Но время не терпит.
— Скажи там, чтоб седлали моего коня! — выкрикнул ожидающему у крыльца Гаркуше.
Едва начальник дивизии отошёл от «Руссо-Балта», шофёр и помощник облегчённо переглянулись за его спиной. Во-первых, переправа авто на плоту — дело рискованное, и генеральское понукание этого риска не убавит, а скорее наоборот. А во-вторых, сколько раз уже казаки переходили вброд речку, вели бой где-то там наверху, за гребнем, а к вечеру опять возвращались в Урупскую и Бесскорбную, везя на телегах убитых и раненых...
Лютый северный ветер не унимался, выстужая до смертного окоченения всё живое, что двигалось по высушенной им ровной грунтовой дороге между Урупской и Успенским. Яркое солнце, уже высоко поднявшееся в безоблачное и по-зимнему бледное небо, особых надежд на тепло не внушало.
Сопровождали Врангеля новый начальник штаба полковник Соколовский, прибывший среди ночи, Гаркуша, конвой и взвод ординарцев. Не проехали рысью и четверти двадцативёрстного пути, как повстречали несущегося намётом ординарца от Науменко: Успенское взято и по захваченному в целости деревянному мосту Корниловский конный полк уже переправляется на правый берег Кубани...
Характер равнины за Урупом изменился: поднимаясь и переходя в Ставропольскую возвышенность, она начала волноваться. Всё чаще её перерезали балки, заросшие на дне камышом, коробили перевалы и курганы. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались нивы: серые — заброшенные и заглушённые бурьяном, жёлто-бурые — припорошённые пылью после августовской уборки хлеба, чёрные — недавно вспаханные под озимые...
К Урупской тянулись одна за другой телеги с крестьянскими семьями. Убоясь казачьей мести, покинули свои станицы и хутора, отступили с красными, а теперь, опамятовавшись, возвращались домой: дальше Кубани всё одно бежать некуда. На группу конных казачьих офицеров смотрели кто с робостью, кто с усталым равнодушием...
Чем ближе к Успенскому, тем чаще попадались пленные. С головы до ног белые: раздеты до исподнего и разуты до портянок. По виду, долгое время не выходили из боев: грязные, щёки и подбородки заросли щетиной, сосульками свисают свалявшиеся волосы.
Одни понуро брели босиком по окаменевшим от мороза обочинам, застывшие до посинения и понукаемые, как скот, конными казаками. Другие, обхватив себя руками, сидели плотными группами на краю черноземных полей, напоминая стаи отдыхающих чаек. Кому-то посчастливилось найти початок или голову подсолнуха...
Острый интерес подавил брезгливость, и Врангель пытливо вглядывался в их лица, тёмно-серые от измождения, голода и пыли, часто разукрашенные кровоподтёками. Не заметил ничего, кроме тупой покорности безжалостной судьбе... Но к этим судьба ещё оказалась милостива. А вон, у обочины, лежат в беспорядке зарубленные красноармейцы, тоже раздетые и разутые. Где-то с дюжину. Сторожевая застава, по видимости...
Навстречу спешили лазаретные линейки с ранеными. Немало, чёрт возьми... Линеек и сестёр милосердия прибавилось, с грехом пополам развернули летучку в дивизионный лазарет. А вот медикаментов и перевязочных средств — кот наплакал. Щиплют, ежели удаётся раздобыть, корпию. Нет — режут на бинты заношенное до дыр бельё. Спасибо, Олеся сумела на деньги, причитающиеся дивизии, хоть что-то купить в аптечных магазинах и передать с офицерами, возвратившимися из госпиталя. И ему на днях переслала, Кискиска любимая, градусник. Упрятал, бережно обернув в чистую портянку, в чемодан. Пусть ждёт следующей заразы. Избави Бог, конечно...
Какая-то из сестёр замахала рукой, задорно поздоровалась. Вглядевшись, узнал: та бедовая, что спасла его... Вот ведь, тогда даже секунды не нашёл имя её спросить. Успел ли хоть поблагодарить?
Картинно вздёрнув подбородок, по-юнкерски отчётливо произвёл «равнение налево» и приставил прямую ладонь к виску. Расхохотались оба и тут же разминулись...
За пару вёрст до Успенского попался захваченный обоз. На взгляд — бесконечный... Заморённые лошади тянут груженные верхом телеги, тщательно укрытые брезентом или рядном.
Хорунжий с перевязанной щекой, начальник конвоя, доложил браво: всего повозочных средств две сотни без трёх и на всех почти — винтовки и всевозможные огневые припасы.
Поскорее, приказал себе Врангель, надо всё это разобрать, привести в известность и передать в дивизионное интендантство, пока казаки не растащили по своему «обнаковению».
С хвостом обоза поравнялся на железнодорожном переезде...
Величиной и богатством иногороднее село Успенское, вытянувшееся по низкому левому берегу Кубани, ничуть не уступало казачьим станицам: дворов где-то до полутора тысяч, те же мельницы, те же крытые черепицей и железом большие дома. Правда, церковь победнее, деревянная и низкая. И садов почти нет...
На западной околице уже собирались полки ударной группы. Без двух сотен Корниловского конного, переправившихся на другой берег Кубани. Полковые трубачи, перебивая друг друга, трубили «сбор». От людей и лошадей валил пар, растворяясь в прозрачном полуденном воздухе.
Настроение казаками овладело праздничное: шутили, вспоминая эпизоды недавнего боя, поддевали друг друга, хохотали взахлёб... И победа стала в радость, и трофеи богатые: не только патронташи с подсумками набили полные, но ещё в торбы и сумы патронов без счёта насыпали. Пулемётчики, так те даже опоясались пулемётными лентами. Главное же — ненавистный враг изгнан со всего левобережья Кубани, уже рукой подать до границы со Ставропольской губернией и скоро весь родимый край будет освобождён от большевиков-христопродавцев и сдуревшей от крови иногородней голоты. Полностью и навеки. И вернётся наконец жизнь казачья в мирную колею: к плугу, жене, детям...
Едва завидев значок начальника дивизии, каким-то чудом не сорванный ветром с конца пики, закричали «Ура!». Недружно и сипло.
Неподдельное ликование Врангель расслышал сразу. Усталость как рукой сняло. И полкам отдых не понадобится: для казака победа — лучший отдых перед новым боем. Скинул бурку на проворные руки Гаркуши: пускай все видят черкеску.
Полки строились резервными колоннами, посотенно, шеренги подравнивались, и сиплое «Ура!» волна за волной катилось над рядами голов, становясь всё громче и слаженнее. Кое-где полетели вверх папахи — чёрные, серые, белые...
Впервые увидели строевые казаки начальника дивизии в родной кубанской форме. Перемигивались и кивали одобрительно. Справный стал кавказец: всё, на погляд, на месте. А острог дурных нема. От кабардинец пидвел: невысокый для долговязого-то...
— Ну, прямо Николай Николаевич... — достигли ушей Муравьёва негромкие слова вставшего позади слева помощника, есаула Лебедева.
— Чего-о? — переспросил, не оборачиваясь.
— В черкеске-то, говорю, Врангель на великого князя стал похожий.
— Окстись...
Науменко, рапортуя, едва приметно и скромно улыбался.
Приняв победный рапорт, Врангель поскакал размашистой рысью вдоль строя — отдавал честь обнажённой шашкой. Круто развернул кабардинца и выехал на середину. Надрывая голос, прокричал:
— Ор-рлы-ы! Благодар-рю-у за службу Рос-с-си-и!
Троекратное «Ура!» загрохотало в его ушах громче грома небесного.
Восторг ударил в голову пенной струёй шампанского, устремившейся вслед за хлопнувшей пробкой. Разом наполнил всего и полил через край. Как же давно не испытывал подобного... Спасибо тебе, Господи, за этот миг! Самый счастливый! Миг общего упоения победой, миг полного доверия подчинённых начальнику, миг их духовного единения... На том и стоит мощь армии. И слава её подлинных вождей!
22 октября (4 ноября). Успенское
2-я бригада Топоркова, наступая левым флангом, взяла станцию Коноково. 3-ю бригаду Мурзаева Врангель сразу же, как потребовал Казанович, выдвинул на правый фланг, к станции Овечка, — поддержать пехоту. Корниловцам и екатеринодарцам приказал размещаться по квартирам в Успенском.
Село оказалось забито крестьянами, ушедшими из залабинских станиц вместе с красными. Кому-то проворности не хватило успеть на правый берег, а кто-то и отказался, пораскинув мозгами, от намерения бежать дальше: всё едино казаки нагонят. Остались, попрятавшись кто где смог, и красноармейцы из местных жителей.
Входя во дворы и дома, казаки перво-наперво обшаривали погреба, клети, сараи, гумна, риги... Найденных или гнали на околицу, или, кто больно уж противничал, стреляли тут же... Патронов-то теперь вдоволь.
В разных концах села то и дело сухо трещали одиночные выстрелы...
Квартиру Врангелю отвели в каменном доме священника. Удивился: хозяин — живой-здоровый, на пороге с иконой встречает. Не иначе, «товарищи» не нашли время расстрелять — так торопились...
Пообедал наскоро, без разносолов и компании, с одним только Соколовским.
И тут же, в уютной столовой с двумя развесистыми фикусами, засел за бумаги: прочитать сводки и отдать распоряжения по свежим донесениям. А заодно посмотреть, на что годен новый начальник штаба. И понять, как настроил его Романовский, чем затуманил мозги.
Пока что, успел заметить, самое примечательное в нём — великоватый, но стильный френч английского образца, со складками, накладными нагрудными карманами и широкими фигурными клапанами. Ещё разве что идеальный пробор, разделяющий короткие белобрысые волосики. А лицо — какое-то постное, почти без бровей. И его куда больше оживляют яркие веснушки, чем маленькие бесцветные глазки.
За два дня наступления его дивизия, считай, разбила всю Армавирскую группу красных. Взято более 3-х тысяч пленных. А главное — не меньше сотни пулемётов, многие тысячи винтовочных, пулемётных и артиллерийских патронов, необходимых дивизии как воздух. Но всё это — по первым донесениям, а в них, как водится, цифры раздуты: глаза и у победы велики.
Командовал группой, по первым опросам пленных, некий «товарищ Демос»... Кличка, разумеется, а за нею уж ежели не немец, так еврей скрывается. До того докомандовался, мерзавец, что её остатки разбежались в три стороны.
Какие-то части, переправившись через Кубань, поспешили вдоль железной дороги прямиком на Ставрополь. Другие, не переправляясь, безостановочно потекли левым берегом на юго-восток, к Невиномысской. Третьи, переправившись ниже по течению, свернули на северо-запад и двинулись правым берегом через станицу У беженскую на Армавир.
Последнее направление, сразу сообразил, самое неудачное: «товарищи» выйдут не куда-нибудь, а в тыл 1-й пехотной дивизии. Сколько их — неизвестно. Но вряд ли Казановичу хватило ума оставить для прикрытия города большие силы: воспользовавшись выходом его казаков к Кубани, весь устремился безоглядно по Владикавказской магистрали на Терек. Такова участь пехоты — закреплять пространство, очищенное от врага конницей...
— Офицер для связи вернулся от генерала Казановича, ваше превосходительство. Первая пехотная дивизия без боя выдвинулась до станции Овечки.
— Приказы нам есть?
— Никак нет. Хотя положение Армавира не может не вызывать беспокойства. Полагаю, необходимо послать бригаду для преследования колонны неприятеля, угрожающей Армавиру.
— Прикажут, тогда и пошлём.
Пусть, решил, за Армавир у Казановича голова болит. У него своя головная боль — трофеи...
Сводя донесения о трофеях, увязли в цифрах.
Сколь ни приятно это занятие, Врангеля всё настойчивее теребила тревога: не растащили бы казаки по своим сумам и повозкам, пока они тут пересчитывают.
В конце концов ничего лучше не пришло в голову, как создать в полках особые комиссии из представителей сотен. Пусть даже выборных — чёрт с ним! — лишь бы строевые доверяли им. Обязанность комиссий — распределение между казаками денег, найденных у пленных, и трофейного имущества. Всего, кроме оружия и огнеприпасов, которые должны немедленно передаваться в дивизионное интендантство. Возможно, хоть так удастся пресечь разворовывание военной добычи... Слава Богу, штабные разведчики опережают строевых казаков, и брошенные красными документы не успевают разойтись на самокрутки.
В Успенском нашлись весьма занятные. Из воззвания Сорокина, отпечатанного в виде листовки и датированного — по-большевистски — 22 октября, вычитал, что тот «раскрыл заговор» евреев, составлявших верхушку «Центрального Исполнительного комитета Северокавказской советской республики», и всех их расстрелял. Самое забавное: расстрелянные «состояли в шпионской связи с белогвардейцами»... А вот телеграмма: «Военная срочная. Из Невинки. Всем, всем революционным войскам, совдепам и гражданам». Отправлена из Невиномысской 28-го... В самых грозных и высокопарных выражениях «2-й чрезвычайный съезд советов Северного Кавказа и представителей революционной Красной Армии» объявляет «бывшего главкома» Сорокина вне закона «как изменника и предателя Советской власти и революции». И требует доставить его «живым или мёртвым для всенародного суда». Новым главнокомандующим «революционных войск Северного Кавказа» назначен Федько... Вот те на! Неужто в стане большевиков началась война между евреями и кубанцами?
— Василий Иоанникиевич, документы эти немедленно отправьте в штаб армии.
— Слушаю.
26—27 октября (9—10 ноября).
Успенское — Армавир
Нежился Врангель в победном упоении, как в море, прогретом до парного молока. Именно таким оно запомнилось ему в августе 13-го, в Ялте, за год до войны...
Настроения не испортили ни приказ Казановича послать бригаду для ликвидации угрозы Армавиру, ни приказание главкома отправить в Армавир захваченное оружие.
Вместе с оружием приказывалось прислать и пленных. Видимо, предположил, Деникин вознамерился положить конец их бессмысленному истреблению и использовать для пополнения. Одних рабочих команд или строевых частей тоже?.. Последнее неизбежно: мобилизации идут туго, а потери велики. Да и не может новое народное ополчение — противобольшевистское — состоять из одних офицеров и казаков.
Так или иначе, ему избавиться от пленных — только на руку. А вот с винтовками и пулемётами расставаться жаль. И своей дивизии пригодились бы — вооружать добровольцев и мобилизованных. Впрочем, главком разрешил оставить столько, сколько необходимо на данный момент для снабжения дивизии. Чем и воспользовался. Вернее, до него уже, самочинно, воспользовались снабженцы. Особенно расстарались полковые пулемётные команды: прибрали к рукам немалое число трофейных пулемётов да вдобавок поменяли на новые все истрёпанные и пришедшие в негодность. Вот их и отправит вместе с винтовками...
Деникин от души поблагодарил за «славное дело на Урупе», даже пожелал, чтобы его успех стал «началом общего разгрома противника». А Казанович и слова доброго не нашёл... Разве не он, Врангель, открыл его дивизии дорогу на Невиномысскую? Ну да чёрт с ним... Хуже другое: всё дальше уводит на юго-восток 3-ю бригаду Мурзаева — прикрывать свой левый фланг. А едва стало очевидно, что колонна красных, отступившаяся правым берегом вниз по Кубани, сметёт слабый заслон у Армавира, приказал спешно направить бригаду для её преследования.
Мудрым стратегом оказался временный старший начальник, нечего сказать. С конными бригадами обращается, как с собственными ординарцами: раздёргал его дивизию в противоположные направления вёрст на 50 с гаком, и ему всё мало... Неровен час, по милости Казановича останется в Успенской с одним ординарческим взводом. Одно утешение: в новой черкеске...
...Вчера утром Врангель кинул в преследование 2-ю бригаду.
Топорков упрашивал дать хотя бы день для отдыха и перековки — отказал. Ничего другого не оставалось, ибо разведка бригадная установила точно: красные, миновав станицу Убеженскую, разделились на две группы. То ли управление у них развалилось окончательно, то ли хитрость это была... Меньшая продолжила движение высоким правым берегом Кубани к Армавиру, а большая — до полутора тысяч пехоты — двинулась к Ставрополю.
Топорков за двумя зайцами гоняться не стал: повернув на север, вчера днём настиг группу пехоты на подводах в районе хуторов Горькореченских, где и изрубил. Остатки её рассеялись.
Бригаде, крайне истомлённой беспрерывными семидневными боями, Топорков дал ночёвку в хуторах.
А тем временем красные, отходившие вниз по Кубани, кинулись — не иначе как с отчаяния — на слабый заслон 1-й пехотной дивизии. Нанеся ему большие потери, отбросили к самому Армавиру...
...К шести часам нынешнего утра телеграммы Казановича с требованием срочной помощи Гаркуша уже мог складывать в стопку.
Науменко, по предписанию штаба армии, пришлось командировать в Екатеринодар, на заседания Кубанской рады. Поэтому 1-ю бригаду с двумя батареями Врангель сам повёл на Армавир, послав к Топоркову ординарца с приказом спешить туда же.
Артиллеристы устроили пробку на мосту через Кубань, но когда бело-жёлтый, будто заиндевевший, солнечный диск поднялся над возвышенностью, все сотни корниловцев и екатеринодарцев уже были на правом берегу.
Рассчитывал достичь города к началу одиннадцатого. Куда там...
Ледяной ветер с севера, из Совдепии, точно с цепи сорвался: временами переходил в форменный ураган. Не иначе сама природа, разгневавшись за что-то на Добровольческую армию, пыталась помочь «товарищам». Как ни подгонял, двойные колонны полков могли двигаться только шагом. Казаки, не получившие ещё от армейских интендантов тёплого белья, а из обозов — кожухов, закутались в башлыки, понадевали поверх обтрёпанных черкесок кто ватный бешмет, кто суконную бекешу, а кто и трофейную пехотную шинель. Сам и в бурке застыл до бесчувствия...
Около полудня колонны вошли в соприкосновение с пехотой противника, занявшей позиции перед пригородами. Уклоняясь от боя, красные бросились на северовосток, где их перехватил подоспевший Топорков. Жестоко потрёпанные, ушли на Каменнобродскую...
Угрозу Армавиру ликвидировал.
Дабы не оголять армавирское направление, 2-ю бригаду отправил на ночёвку в хутора Горькореченские, а 1-ю — в Убеженскую. Сам же в сопровождении ординарцев и конвоя поскакал обратно в Успенское, где оставил штаб...
Село уже окутали сиреневые сумерки. По обезлюдевшим улочкам, закручивая пыль, носился неугомонный ветер. Лаяли, не оставляя дворов, собаки. В доме священника светились не закрытые ставнями окна, из обеих труб вырывался сизый дымок и, низко пригибаясь, исчезал в быстро темнеющем, но пока ещё беззвёздном небе. Часовые, напялив мужицкие выворотки, собрались вокруг разведённого в затишке костра.
Эта мирная картина обрадовала ужасно. Переступая порог и жадно ловя ноздрями тёплый домашний дух, был озабочен только двумя вещами: чем отогреть окоченевшее тело и как убедить Деникина вывести дивизию из подчинения Казановичу.
Доклад начальника штаба оборвал на полуслове. Весь день Соколовский провёл подле печки — бумаги штабные с места на место перекладывал и чернила изводил, — вот он и рапорт главкому пусть сочиняет. Это у него должно хорошо получиться... Жаль, знаний и опыта маловато: Великая война помешала кончить даже основной курс академии, а гражданской ещё и не нюхал... Но исполнительность и энергия всё-таки обнаружились. Авось, они и восполнят недостающее.
Гаркуша, побагровев от натуги или спиртного, уже тащил из кухни в столовую соблазнительно парующий самовар — огромный, ведра на два. Над краном темнели отчеканенные царский орёл и медали.
— Пожалте вечерить, ваше превосходительство.
— А кроме чая нечем больше согреться, Василий?
— От це другой табак! — одобрил адъютант. — Лексир для сугрева завсегда наперёд съестного принимать треба. Зараз будет.
И уже исчезая в столовой, деловито кивнул отросшим чубом на дверь в его комнату:
— Там ще телеграмма от главнокомандующего. И письма.
Натоплено в комнате, показалось с холода, как в бане: жаром пышет от обшитого железными листами овального бока голландской печи. С наслаждением приложил ладони и тут же отдёрнул... На крышке комода, и верно, ждёт бумажная стопка.
Фитиль керосиновой лампы, поднятый сверх меры, слегка коптил. Но прикручивать не стал: свет сейчас важнее чистого воздуха.
Распутав башлык, первым делом поднёс к глазам синеватый бланк с ровно наклеенными лентами и карандашными словами, оставленными шифровальщиком поверх цифр. Главком вызывает в Армавир. На 8 утра. Зачем, любопытно знать? И почему в Армавир? Он ведь в Невиномысской, у Покровского.
Гаркуша, негромко постучав, просунул в едва приотворенную дверь алюминиевую кружку. В ней колыхалось густое красное вино... Оказалось церковным кагором — терпко-сладким и обжигающе горячим. Верно, батюшкины запасы.
По телу, выгоняя озноб, сладко полилось тепло.
Так и есть: телеграмма отправлена из Невиномысской. В третьем часу дня... Да что за наказанье — по такой дурной погоде каждый день по полсотне вёрст отмахивать! Успенское — всего-то в одном шаге от железнодорожного полотна! Мог бы поезд главкома и здесь остановку сделать, подгадать к вечеру. Неужто Деникин с Романовским полагали, что он застрянет под Армавиром?..
Спустя мгновение, взявшись за письма, он уже и думать забыл о Деникине и Армавире.
Глазам не поверил: почерк мамы на конверте. Мелкий и плохо разборчивый, ни с каким другим не спутать: ведь столько раз приходилось читать и перечитывать... А фамилия почему-то чужая, да ещё хохлацкая в придачу. Марка с трезубом и киевский штемпель на «мове». Неужто вырвалась из Петербурга? А папа?!.
Не глядя, поставил опорожнённую кружку на край комода. Вскрывая конверт, сильно надорвал от нетерпения. Короткое совсем письмо, не в пример прежним...
Нет, из Петербурга!
Осталась совсем одна... Не жизнь, а сплошной кошмар... От голода спасались распродажей коллекции — картин, фарфора, мебели, ковров, серебра... Деньги помещали в банк, но теперь банки национализированы, выдача по текущим счетам запрещена, золото и бриллианты из сейфов забрали... Остались, как и все, ни с чем... Папа исхитрился и пробрался в Псков, занятый немцами... Теперь он уже в Ревеле... Из квартиры домовой комитет угрожал переселить в подвал... Бандиты обчистили несколько квартир... Кругом аресты и обыски... Одной страшно, поэтому сама переехала в маленькую квартирку к приятельнице... Пошла работать в Музей города, в Аничков дворец... Хоть какое-то жалованье... Но купить на него можно только ржаной кофе, хлеб, похожий на землю, и ржавые селёдки... Да и то — отстояв часы в бесконечных хвостах... Сил никаких нет терпеть страх и унижения, а особенно нищету... Но границы закрыты, и паспорт большевики не дали... Открыто уехать можно только на санитарном Державном поезде — регулярно ходит между Киевом и Петроградом... А из Киева уже перебраться в Крым... Но нужно исхлопотать у Скоропадского пропуск и проезд... Тогда большевики выпустят... Если не арестуют раньше...
Тело содрогнулось вместе с душой. Строчки стали расплываться, к горлу подкатил удушающий ком.
Дата внизу — 28 сентября... Конечно, не по-большевистски. По-видимому, письмо кто-то из знакомых перевёз в этом самом «державном» поезде, а уже в Киеве отнёс на почту. И три недели оно ползло по Украйне, Дону и Кубани. Через три границы, считай... А его все письма и телеграммы? Не дошли, что ли?
Поднеся вплотную к лампе, перечитал медленнее. Нового ничего не вычитал, но прочувствовал куда сильнее: каждое слово — крик отчаяния, каждая фраза — мольба о помощи.
Кинуло в жар, лицо запылало — то ли от горячего кагора, то ли от рвущихся наружу слёз. Жажда немедленно что-то предпринять, кому-то приказать, послать телеграмму — всё, что угодно, лишь бы вытащить маму из большевистского ада, — обуяла вмиг. Но что именно, чёрт возьми?!
— Все собрались и ожидают ваше превосходительство.
Развесёлый голос Гаркуши слегка привёл в чувство.
Неужто прослушал стук в дверь?
— Без меня, скажи, пусть ужинают.
Слышно было, как адъютант, удивлённый нежданной резкостью, затоптался в нерешительности за дверью.
Но что, чёрт возьми, он может сделать? К Деникину ведь не обратишься, да и какой толк? Нет у того сношений со Скоропадским... И сам все мосты сжёг. Остался бы служить у Павла — давно бы вытащил стариков из Петербурга... Хоть за папу можно теперь быть спокойным. А вдруг мама уже арестована? И сидит где-нибудь в Петропавловке или Крестах, ждёт расстрела...
Чуть не взвыл от отчаяния.
Одна надежда — Олесинька. Пусть напишет Бибиковым в Киев, чтоб исхлопотали пропуск. А лучше телеграмму послать. А ещё лучше не Бибиковым, а прямо жене Скоропадского. Благо когда-то при знакомстве они понравились друг дружке. А примут такую телеграмму?.. Самому бы надо составить. И телеграмму, и письмо. И переслать Олесе как можно скорее. Ординарцем. Свой автомобиль отправить, ежели оказия не подвернётся...
Господи, столько раз представлял, как запылённый «Руссо-Балт» привезёт Киську любимую со станции, как она помашет рукой, увидев его, и улыбнётся своей бесподобной улыбкой — чуть насмешливой и вместе с тем застенчивой... С ума уже сошёл от тоски! И вот — на тебе! — новая причина заставляет её задержаться в Екатеринодаре...
А ежели попросить Апрелева послать военную телеграмму? Да шифром. Нет, непременно доложат Романовскому. А уж у этого он ничего просить не станет.
Чем дольше строил планы, вышагивая по маленькой комнатке — три шага всего от комода до овального железного бока печи и три обратно, — тем сильнее охватывало отчаяние. Всё, чёрт возьми, против него! И война, и разруха на железных дорогах и телеграфе, и проклятая политика, и сослуживцы, прошлые и нынешние...
Но наперекор всему маму из Петербурга вытащить надо! Ведь он, старший сын, — единственный у неё, последний из трёх... На него одного надеется она, попав в лапы зверя. Господи, ведь все эти четыре военных года она, бедная, жаловалась, что он её забывает...
А ежели эти сволочи и впрямь уже арестовали её? Ведь они сплошь и рядом берут заложниками аристократов, богачей и просто людей интеллигентных профессий. И расстреливают сотнями ни за что ни про что... Не может ведь главное военное начальство большевиков не знать фамилий тех, кто командует дивизиями в Добровольческой армии. Много там, любопытно знать, его бывших сослуживцев и однокашников по академии? Доберутся ведь до мамы, иуды. Особенно теперь, когда папа улизнул, а он начал бить их в хвост и в гриву... Господи, неужто Ты хочешь, чтобы я заплатил за свои славные победы такую страшную цену — жизнь мамы? Да за что же такое наказание?!.
Собрав волю в кулак, заставил себя выйти к ужину и напиться крепкого горячего чая с мёдом. Жар схлынул, но потёк нос. Поминутно приходилось доставать платок...
Всю ночь проворочался.
Не раз порывался вскочить, засветить лампу и перечитать письмо. Но не было нужды: память цепко выхватывала из кромешной темноты фразы — одну страшнее другой. В сознание они вторгались не мёртвыми строчками — живым голосом мамы. Слабым и умоляющим...
Усталость всё же брала своё: подкрадывался сон и мамин голос затихал. Но вместо успокоения сон приносил кошмары.
Легче было не спать. И видеть не сумбурные кошмары, а ясные картины прошлого...
...Как-то они всей семьёй прогуливались по Садовой. Весенний день выдался солнечным и тёплым. Расцветшие акации заполнили пыльный центр Ростова нежным благоуханием. Двухлетнего Всеволода, одетого в матроску, гувернантка несла на руках. Неожиданно приблизился юродивый в рубище — лохматый, грязный и воняющий псиной. Из тех, что вечно христарадничали на соборной паперти. Быстро погладил Всеволода по голове и что-то сказал маме. Слов он не разобрал, но хорошо видел, как та побледнела.
С годами картина размылась в памяти, многие детали исчезли. Но главное сохранилось: кроткий взгляд юродивого и смертельная бледность на красивом мамином лице.
Всеволод умер, когда ему едва исполнилось 11 лет. Он тяжело болел дифтеритом. И знал, что умрёт: всё говорил, вздыхая тяжело, но без слёз, какой счастливой была его жизнь, как весело было играть в саду и как жалко, что ничего этого скоро не будет... И обсуждал с мамой, кому какие передать игрушки. Особенно переживал за любимых картонных актёров, просил не оставлять без присмотра...
Ещё дни его болезни запомнились заплаканными лицами родителей и прислуги, тоскливой тишиной в доме, нарушаемой только кашлем, и нескончаемыми визитами докторов, важных и озабоченных...
Оказалось, и родители знали, что младший из сыновей умрёт в том году. Ведь тогда, на Садовой, юродивый произнёс: «Не нудь его, не неволь — проживёт только девять лет»...
Папа рассказал об этом в июне 15-го. Когда он, уже полковник, приехал с фронта в Петербург на похороны брата Николая, среднего в семье.
Тот, как началась война, пошёл работать в Красный Крест. Много ездил, обследуя лазареты и госпитали. И в Варшаве заболел желтухой. Поначалу болезнь не внушала особых опасений, но потом произошло резкое ухудшение. Врачи варшавского военного госпиталя предприняли все меры, но безуспешно.
Так случилось, что, взрослея, они отдалялись друг от друга. После смерти Всеволода Кока — так звали Николая домашние и приятели — стал баловнем всей семьи: младшему прощались многие шалости, за какие его, старшего, наказывали со всей строгостью. Не отличаясь крепким здоровьем, тот не любил ни охоты, ни верховой езды. Зато дни и ночи просиживал в тихой папиной библиотеке. К его успехам на военном поприще относился равнодушно. Говорил — не в его присутствии, разумеется, — что офицерство и армейскую службу считает пустячным делом. Не раз ловил он на себе пристальный и какой-то даже насмешливый взгляд младшего брата, наставившего прямо на него неизменный свой монокль... И детское прозвище его — Пип — в устах брата стало звучать как-то пренебрежительно.
К его поступлению в академию брат уже стал известным историком русского искусства: входил в разные общества, сотрудничал в художественных журналах, издавал книги. Мама и папа гордились им как самым талантливым и знаменитым членом семьи. Хотя тот держал себя весьма развязно. И шутил порой слишком дерзко: есть всё-таки вещи, над которыми шутить не следует... А весёлость его больше походила на незавидную лёгкость нрава. Конечно, вращение в богемных кругах, неразборчивость в знакомствах и постоянные поездки в Париж, будто бы на выставки, не могли не оставить следа...
За первые полгода войны они написали друг другу, кажется, не больше двух-трёх писем. Потом вдруг ужасно потянуло увидеться с Колей... Даже случай подвернулся, когда проезжал Могилёв. Но не довелось...
...Веки тяжелели и смыкались, выдавливая из глаз жгучую влагу.
27 октября (10 ноября). Армавир
Выставленные посты из офицеров перекрыли все подходы к станции, окружённой с одной стороны мощёной площадью и с трёх других — длинными пакгаузами.
Поезд главнокомандующего и полевого штаба Добровольческой армии — два паровоза, вагон-паровик сразу за ними, дюжина классных вагонов с переходами, закрытыми чёрными мехами, и длинные четырёхосные вагон-салон и вагон-ресторан в середине — встал на главном пути, напротив двухэтажного кирпичного здания вокзала. От трубы вагона-паровика, оборудованного паровым двигателем и динамо-машиной для отопления и освещения поезда, тянулся, пригибаясь к крышам станционных построек, дымный шлейф. Над вагоном отделения связи широко раскачивались на ветру высокие мачты с подвешенной на них медной проволокой. Кинутые на перрон провода соединили его со станционным телеграфом. У вагон-салона Деникина застыли парные часовые — кубанцы с шашками, взятыми «на караул».
Пока дежурный офицер докладывал о его прибытии, Врангель бегло осмотрелся. Хотя снаружи синяя краска кое-где облупилась с деревянной обшивки, внутри вагон-салон выглядел вполне прилично. Пол гостиной, приспособленной под приёмную, застелен не слишком дорогим, но ещё не истёртым ковром, ореховые кресла и диван не новы, но и не продавлены, бархатные тёмно-синие занавески наполовину задёрнуты, не заметно особых изъянов и на золотистой драпировке, если только их не скрыл полумрак. И очень тепло, отметил, вешая бурку на крючок.
Получив разрешение, вошёл через узкую дверь в кабинет.
Вопреки его ожиданиям, Романовский, две недели как произведённый в генерал-лейтананты, отсутствовал. А Деникин уже поднимался из-за письменного стола, освещённого бронзовой электрической лампой под круглым колпаком зелёного стекла.
— Здравия желаю, ваше превосходительство! Генерал-майор Врангель прибыл по вашему приказанию.
— Здравствуйте, Пётр Николаевич, здравствуйте. — Главком неожиданно живо двинулся навстречу, приветливо улыбаясь и протягивая руку. — Рад видеть. Ну, как ваши кубанцы?
Мундир и шаровары-суженки на нём, заметил сразу Врангель, не сменились. И те же мешки под глазами. А вот настроение совсем другое: и речь, и движения выдают душевный подъём. С чего это? И где Романовский?
Приняв рапорт, главком тут же пригласил завтракать.
По коридору, мимо дверей в три спальные купе, умывальник и клозет, через переходную площадку, со свистом продуваемую сквозь дыры в просмолённой парусине мехов, перешли в вагон-ресторан. Там их ждали: у буфета приятельски беседовали Романовский и неизвестный Врангелю генерал-майор.
Кто перед ним, догадался прежде, чем услышал фамилию. Вмиг натянулись нервы. Насколько сумел, придал себе уверенности и спокойствия, твёрдо зажав в кулак холодную рукоять черкесского кинжала.
— Знакомьтесь, Пётр Николаевич, с Борисом Ильичей Казановичем. И прошу к столу...
Сухощавее и повыше Романовского, Казанович выглядел рядом с ним осунувшимся и рано постаревшим: морщины избороздили высокий открытый лоб и впалые щёки, усы торчком и бородка клинышком, похожая на деникинскую, поседели. Однако взгляд его тёмных глаз был твёрд и тяжёл. Силу характера Врангель почувствовал и в крепком рукопожатии.
Стол, узкий и короткий, был накрыт в отделении для некурящих. Врангель, уже избалованный казачьими разносолами, нашёл его бедным: никаких тебе окороков, оладий и сырников. Нет и самовара, а лишь невысокий кофейник простенько раскрашенного фарфора. Кажется, поповского... Как нет и лишних приборов. Выходит, ждали именно его.
Повинуясь приглашающему жесту главкома, занял место напротив него, пропустив к окну Казановича... И только тут заметил третью звёздочку на погонах начальника штаба.
Деникин, весь во власти хорошего настроения, больше говорил, чем ел.
Особенно воодушевляли его решительные перемены на театрах Великой войны, что произошли за минувшие две недели: сербы взяли Белград, Турция, извечный враг России, и Австро-Венгрия, которая своими антиславянскими интригами на Балканах и спровоцировала эту войну, бесславно капитулировали. Не сегодня-завтра эта участь заслуженно постигнет и Германию, уже запросившую мира. Антанта потребовала отвести австро-германские войска Восточного фронта на государственную границу России 1914 года, эвакуировать порты Чёрного моря и аннулировать Брест-Литовский договор с большевиками. Со дня на день союзный флот должен пройти Босфор...
— Значит, немцы скоро уйдут из Крыма и Украйны?
— Союзники, Пётр Николаевич, сроков их отхода пока не установили... — При ярком свете от незашторенного окна Врангель разглядел на лице Деникина болезненную бледность и одутловатость. — Но... Да простит меня Всевышний... Не в наших интересах, чтобы немцы и австрийцы ушли с русской земли прежде, чем туда войдут войска Согласия. Иначе в образовавшуюся пустоту немедленно хлынут большевики. И вместо того чтобы получить Малороссию и Новороссию с Крымом из рук союзников, нам придётся отвоёвывать их у Красной армии...
— Понадобится, так отвоюем, Антон Иванович, — без всякого выражения обронил Казанович. Его нож и вилка, негромко постукивая, ловко расправлялись с яичницей.
— Вы, Борис Ильич, — несравненный таран для лобовых ударов... — Деникин одарил начальника 1-й пехотной дивизии долгим взглядом, полным самого бесхитростного восхищения. — Но в гражданской войне правильными политическими шагами можно добиться не меньше, чем победами на поле боя. Я уже довёл до командования союзников наше мнение: для ликвидации большевизма необходим не уход немцев, а смена их войсками Согласия...
Врангель уловил недосказанность. Ведь на Дону всё иначе — никакой пустоты: части Донской армии отлично дерутся, вышли за границы области и большевистское нашествие ей не грозит. И чем скорее уйдут немцы, тем Деникину будет проще прижать к ногтю Краснова и подчинить Донскую армию.
— А немцы ещё способны удерживать занятые русские территории? Хотя бы Украйну?
— Вы зрите в корень, Пётр Николаевич. — Деникин, лукаво прищурившись, задержал взгляд на Врангеле. — И я опасаюсь развала... Теперь, когда в самой Германии вспыхнула анархия, солдаты могут стихийно устремиться домой. Подобно нашим...
Кроме заурядного начальственного одобрения Врангель отчётливо прочёл в нём интерес. Едва ли не впервые.
— Будем надеяться на врождённую немецкую дисциплину, — заметил Романовский. Взявшись за посеребрённые щипцы для пирожных, он нацелился на серомаслянистые куски подсолнечной халвы, горкой наложенные в фарфоровую сухарницу.
— Будем, конечно... Но так или иначе, в самое ближайшее время страница истории перевернётся. И положение Добровольческой армии изменится в корне.
— Вы имеете в виду, союзники помогут нам войсками? — Врангель спешил выяснить самое важное.
— Я буду просить их о скорейшей высадке. Но когда это произойдёт — не знаю... — Деникин переглянулся со своим начальником штаба, на его лицо набежала лёгкая тень. — Покойный Михаил Васильевич, царствие ему небесное, испытывал немалый скептицизм на сей счёт... Но материально — помогут несомненно. В этом их нравственный долг.
Какое-то ещё замечание вставил Романовский, но Врангель не расслышал, вновь захваченный отчаянными мыслями. Неужто и впрямь немцы вот-вот начнут эвакуацию Украйны? Ведь Скоропадский без них ни дня не усидит... А что вместо него? Подоспеют войска союзников — начнутся военные действия, и какие уж там к чёрту «державные» поезда! А воцарятся в Киеве «товарищи» — ещё страшнее... И случиться это может уже в ближайшие недели. Что же станет с несчастной мамой? Псу под хвост пойдут все старания вытащить её... А с Крымом что будет? Ежели и туда большевики придут прежде союзников?! Срочно вывозить деток... А как?
Обслуживающий их светловолосый подпоручик — в полевой форме, но с вафельным полотенцем, перекинутой через неловко согнутую руку, — принёс свежий кофе.
— Спасибо, голубчик... — Деникин сам пододвинул чашку к краю стола. Глядя на почти чёрную густую струю, полившуюся из гнутого носика, проговорил со смешком: — Ну-с, господа, приступим к десерту. Я про Ставрополь...
В городе, по его словам, собралось от 45 до 60-ти тысяч войск противника: Таманская армия, самая боеспособная, а также остатки разных «колонн», полков и отрядов, уцелевших от разбитых групп. Вдобавок несколько тысяч раненых и тифозных... С разных мест свезены большие запасы оружия и боеприпасов.
Чтобы ни одна часть противника, ни один обоз из него не вырвались, Ставрополь должен быть окружён плотным кольцом. С этой целью на помощь дивизиям Боровского и Дроздовского, занимающим позиции к северо-западу от города, уже направлена 2-я Кубанская дивизия Улагая, до того действовавшая к северу от железной дороги Ставрополь — Петровское. Задача Улагая — отрезать красным пути отхода на север и восток. Слева от железной дороги Армавир — Ставрополь к южным окраинам двинется 1-я пехотная дивизия Казановича, справа — 1-я Кубанская дивизия Покровского, который должен перерезать пути сообщения с Пятигорском...
С трудом заставил себя Врангель вслушаться в отрывистые фразы главкома... Похоже, Ставрополь приобрёл в глазах Деникина такое же значение, какое в первом походе на Кубань имел в глазах Корнилова Екатеринодар. Да и как иначе... Раз Донскую область Краснов превратил в независимое казачье государство, а здешние «самостийники» противятся всякой попытке Деникина управлять Кубанью, важно поскорее приступить к освобождению от большевиков коренных русских губерний... Только там Деникин и Особое совещание смогут по своему усмотрению проводить мобилизации, закупки и реквизиции, собирать налоги, наконец-то наладить нормальное укомплектование и снабжение армии...
— ...Вам, Пётр Николаевич, к завтрашнему вечеру сосредоточить дивизию в станице Сенгилеевской... — Рука Врангеля, оставив щипчики в сахарнице, потянулась к полевой книжке, но остановилась на полпути: Деникин ставил задачи, а сам с купеческой степенностью прихлёбывал кофе, даже не думая приглашать в кабинет, к карте. — Замкнуть кольцо окружения с запада. Особое внимание обратите на связь и взаимодействие с соседями.
— Директива будет выслана вам после полудня, — мягко вклинился Романовский. — Какие у вас вопросы, Пётр Николаевич?
Врангеля кольнуло беспокойство: начальник штаба, хотя и избегает встречаться с ним взглядом, успевает, кажется, подмечать каждое его движение и читать мысли... Вопросов в самом деле немало. Например, что намерены предпринять Деникин с Романовским после Ставрополя? Умнее всего было бы совместно с Донской армией нанести удар по Царицыну. Или занять Новороссию и Крым, наступая на пятки уходящим тевтонам... Так или иначе, но Ставрополь из отдалённого губернского города превратился в ключ ко всей России...
— Вопросов нет. Но есть ходатайство. Раз мне даётся самостоятельная задача, прошу обеспечить свободу действий. То есть изъять из подчинения Борису Ильичу... — и, не поворачиваясь в сторону Казановича, Врангель на одном дыхании отчеканил свои аргументы, продуманные в автомобиле. Придержав главный: если «несравненный таран» Казанович соблазнится идеей, нанести по укреплённому городу лобовой удар его конницей — он останется без дивизии.
Казанович — ему сразу стало не до кофе — едва утерпел, чтобы не перебить. Возражения его были вполне ожидаемы. К своему удивлению, Врангель расслышал в его голосе нотки тревоги. Показалось, Романовский, ни на миг не теряя своей невозмутимости, склоняется к поддержке Казановича, но почему-то молчит.
Деникин в тяжёлом раздумье изогнул густые брови и поджал губы. Салфетка, подобранная с колен, безжизненно замерла в его толстых пальцах.
— Будь по-вашему, Пётр Николаевич, — объявил наконец. — Но и Бориса Ильича лишать конницы не годится.
Романовский голоса так и не подал, и в итоге Деникин принял соломоново решение: во временном подчинении Казановичу оставить бригаду полковника Мурзаева, а взамен её из 3-й дивизии передать в 1-ю конную бригаду генерала Чекотовского.
Немалых усилий стоило Врангелю не показать, насколько устроил его такой размен. Вместо нестойких линейцев и черкесов получить 2-й Офицерский конный полк с большим числом офицеров регулярной кавалерии да ещё черноморцев в придачу — об этом и не мечтал.
— А что известно о Сорокине, ваше превосходительство? — Впервые, пожалуй, он ощутил к Деникину нечто похожее на теплоту.
— Надеюсь, фельдшер этот ещё жив... И не лишит нас удовольствия повесить его на центральной площади Ставрополя. — Усмешка чуть шевельнула начавшие седеть усы главкома, но в его тоне не было и намёка на обычное добродушие.
— Разведка считает достоверными сведения, что он сидит в городской тюрьме, — ответил за главкома Романовский, прожёвывая очередной кусочек халвы. — Арестовали его таманцы. Якобы за то, что он расстрелял их командующего Матвеева.
— Так в самом деле был заговор против Сорокина? Или он всё инсценировал?
— Этого мы не знаем, Пётр Николаевич. Пока.
— Но для чего-то же он расстрелял всех евреев, верховодивших на Северном Кавказе... Что, осознал свою вину перед Россией? — допытывался Врангель.
— Если бы осознал, ему следовало расстреливать евреев не в Пятигорске, а в Москве, — мрачно заметил насупившийся Казанович.
— Может, он так и собирался поступить, кто знает... — предположил Деникин. Судя, однако, по лёгкой ироничной улыбке, ему не слишком верилось в чудесное прозрение бывшего красного «главковерха».
— Так вы что же, ваше превосходительство... — Врангель ни секунды не сомневался: его шутка главкому понравится, — торопите нас взять Ставрополь, чтобы спасти Сорокина как борца с еврейско-большевистским игом?
От дружного смеха, показалось, зазвенела посуда в буфете. Даже Казанович оттаял...
После завтрака Деникин отпустил Казановича в дивизию, а Врангеля и Романовского пригласил в кабинет. Лампа на письменном столе горела по-прежнему.
— Вот о чём, собственно, я намеревался поговорить с вами, Пётр Николаевич... — начал Деникин, усаживаясь в кресло. Рука его прошлась по лысине, а потом принялась разглаживать морщины, озабоченно пробежавшие по лбу. — Завтра открываются заседания Чрезвычайной краевой рады. Вам это известно?
— Так точно. Полковник Науменко, назначенный в делегацию от армии, позавчера отбыл в Екатеринодар.
— Ему обязательно надо там быть... Даже несмотря на предстоящую операцию против Ставрополя. Дело вот в чём... Мы предложили кубанскому правительству проект закона об управлении областями, занимаемыми армией. Основан он — чтобы вам сразу всё стало понятно — на «Положении о полевом управлении войск в военное время». То есть речь идёт о диктатуре главнокомандующего. Разумеется, мы предусмотрели некоторую автономию Кубани во внутренних вопросах... Но отнюдь не в хозяйственных, столь важных для снабжения войск...
Врангель как присел на край пухлого кожаного дивана, так и остался сидеть с поджатыми ногами и выпрямленной спиной, напряжённо ловя малейшую перемену в низком, чуть хрипловатом голосе и проникающем взгляде главкома. Романовского, вставшего у окна, совсем упустил из виду.
— ...Однако Быч наш проект отверг. И предложил свою комбинацию: Добровольческая армия и Кубань заключают договор как союзные государства, а кубанские части выделяются в отдельную армию. И мне они передаются только в оперативное подчинение. И то не раньше, чем к этому союзу присоединятся Дон, Украина и Грузия. Такой вот гоголь-моголь... Мы подозреваем, что Быч свой проект организации власти на юге вынесет на обсуждение Рады. И «черноморская» группа вполне способна протащить его...
Чем дольше говорил Деникин, тем явственнее проступала на его лице угрюмость.
— ....Чтобы не допустить худшего поворота событий, я должен выступить в Раде. И именно до начала её заседаний. Не менее важно дать кубанским начальникам, избранным членами Рады, возможность принять участие в её работе. По крайней мере, в первых её шагах...
— Отбить первую атаку самостийников... — уточнил от окна Романовский.
— Именно так...
Оставив в покое лоб, рука Деникина потянулась к нераскрытой пачке асмоловских[68] папирос «Элита».
— Вы курите?
— Никак нет.
— Я тоже. Просто так держу, для гостей... Хотя бы на несколько часов, но мне придётся проехать в Екатеринодар. Даже в критический момент операции. Так уж случились: решающие сражения на обоих фронтах совпали... Так вот, я особенно надеюсь на ваших кубанцев. Вы должны понимать: настроение рядовых членов Рады целиком зависит от положения на фронте, от побед или поражений кубанских полков... Победа на фронте даст нам победу в тылу.
— Сделаю всё возможное. А потребуется — и невозможное.
Деникин кивнул удовлетворённо. Врангелю показалось, что разговор подошёл к концу и сейчас он будет отпущен.
— А кстати, Пётр Николаевич... — Деникин спрашивал Врангеля, а взгляд его задержался на лице Романовского. — Что за инцидент произошёл у вас с генералом Покровским?
— Никакого. Мы ещё и не встретились ни разу... — Врангель ощутил, как снова натянулись нервы.
— Вот как... — Взгляд главкома испытующе упёрся было в его лицо, но тут же ушёл в сторону. Врангелю даже почудилась в нём какая-то неловкость. — А он пожаловался, что вы своим вмешательством сорвали закупки продовольствия и лошадей, которые производили его интенданты.
— Какие там закупки! — Врангель едва усидел на месте; возмущение перехватило дыхание, широкие рукава черкески взмахнули, будто крылья. — Я наткнулся в Курганной на офицеров его дивизии. Они грабили лавки и отбирали лошадей. И я выгнал их из станицы в три шеи. Может, повесить нужно было?!
Поспешно выставленная ладонь главкома отвергла формальное следование законам военного времени. Блеснуло в свете лампы массивное обручальное кольцо, туго перетянувшее безымянный палец.
— Вы поступили как должно, — и голос прозвучал вполне миролюбиво. — Увы, казачки от своих древних привычек пограбить никак не могут избавиться...
И тут же Деникин решил, что не станет, хотя и намеревался, выговаривать барону за поголовное раздевание пленных казаками его дивизии. Насмотрелись с Иваном Павловичем, возвращаясь вчера в Армавир: огромное поле было усеяно сидящими и лежащими белыми фигурами, а по дорогам плелись под конвоем такие же белые колонны — в одном исподнем.
— В следующий раз подам рапорт... — Врангель уже овладел собой.
— Речь о другом, Пётр Николаевич... — Деникин заговорил медленнее, то и дело обмениваясь взглядами с Романовским, будто выверяя каждое слово. — Если Рада пойдёт за «черноморскими» демагогами и примет постановление о создании Кубанской армии... мне ничего не останется, как увести Добровольческую армию с Кубани. В этом случае Покровский... мне точно известно... произведёт в Екатеринодаре переворот... То есть свергнет правительство и Законодательную раду. И истребит «черноморских» вожаков. А то и усядется на место Филимонова...
Деникин сделал паузу. Врангель, окаменев, ждал. Только на скулах, под обветренной кожей, медленно перекатывались желваки.
— Что за этим последует, ясно... Вспыхнет драка между казаками. Поднимут голову иногородние. Большевики хлынут обратно... И мы вынуждены будем возвращаться на Кубань и начинать всё сначала. В третий раз.
— Понимаю.
— Вдобавок мне придётся взять на себя нравственную ответственность за Варфоломеевскую ночь, которую учинит Покровский...
...Что же это за вождь, который боится брать на себя ответственность за кровь? Корнилов в прошлом августе не побоялся... А как у Деникина с ответственностью за собственные слова? О сваре с Красновым — ни звука. Зато в кубанские авгиевы конюшни, которые сам же и развёл, как щенка носом тычет... Но какая же всё-таки задница этот Покровский!
Такие мысли теснились в голове у Врангеля, пока он шёл по пустому перрону. Оба паровоза уже развели пары. Два прапорщика проворно сматывали телеграфные провода, немилосердно скрипя железной катушкой. Ветер с севера будто бы выдыхается... Неужто природа смирилась с поражением «товарищей»?
Обогнув хвостовой вагон, прямо через пути направился к автомобилю, оставленному у пакгауза. Провода, натянутые между столбами, сильно раскачивались, а кое-где висели безжизненно, оборванные.
Осторожно переступая через них, он вдруг ярко припомнил, с каким обострённым интересом всматривался в него Деникин. Впервые, это точно. Во время прежних двух встреч было по-другому: даже когда смотрел прямо в глаза, оставалось непонятным, мысли его тоже прикованы к тебе и твоим словам или унеслись куда-то. Куда вот? К молодой жене и будущему первенцу? Апрелев поведал Олесе, что та в положении. Не потому ли он на таком подъёме нынче? Любопытно, каково почувствовать себя отцом, когда давно пора быть дедом...
А может, к Филимонову с Бычом? Ясно как Божий день: с кубанской властью у Добровольческой армии — не любовь и даже не брак по расчёту, а вынужденное сожительство. Ежели Деникин — такая тряпка, что не в силах справиться с самостийниками, всё рано или поздно кончится разрывом. И разрыв этот, пока Кубань — её единственная база, станет для армии смертью... Нет, Корнилов не допустил бы такого безобразия... Слева на Ставрополь будет наступать правдолюбец Дроздовский. Непременно — или до атаки, или уже в городе — нужно с ним встретиться. Накопилось что обсудить.
За спиной Врангеля протяжно просвистел паровоз, зашипел пар, лязгнули буфера...
...Поезд неспешно набирал ход. Уплывали назад телеграфные столбы с шишечками изоляторов, торчащих рядами на поперечных перекладинах. Деникину подумалось, что они вполне походили бы на усевшихся птиц, если бы не их яркая белизна.
— Ну, как вам, Антон Иванович, наш горский казак?
Деникин медленно отвернулся от окна. Угрюмость так и не сошла с его бледного лица.
— По-моему, хорош... Не находите, Иван Павлович?
— Если вы о черкеске, газырях и кинжале — нахожу вполне. — Романовский, упёршись одной рукой в приставной столик, бегло просматривал сводки из штабов дивизий, полученные телеграфистами перед отходом. — Но что касается душевных качеств...
— А что?
— Как-то быстро он, знаете, изменился: держит себя так, словно мы у него в неоплатном долгу. По этой части он, пожалуй, и Дроздовскому не уступит... Хотя самообладания, конечно, куда больше.
— Полноте, Иван Павлович... Не будем слишком придирчивы... — Деникин глянул на Романовского с лёгкой укоризной. — Куда важнее, что он лёг казакам на душу.
Вагон всё сильнее качало на стыках. Деникин опустился на диван, глубоко провалившийся под ним. Как раз на то место, где сидел Врангель.
— Так-то оно так, Антон Иванович, но как бы это не превратилось в лишнюю пару вожжей для его честолюбия.
Романовский остался при своём мнении, но тон смягчил. Меньше всего ему хотелось испытывать на прочность душевное равновесие близкого человека. В конце концов, это его, начальника штаба, забота — брать на себя улаживание дрязг и одёргивать начальников дивизий, когда те переходят грань дозволенного. Главнокомандующего никакая грязь касаться не должна.
— Поживём — увидим, Иван Павлович... Но греха таить нечего: Покровский и Шкуро, как бы хорошо ни воевали, в любой момент способны угостить нас таким сюрпризом, что будь здоров... На них мы до конца положиться не можем. А Врангель, даст Бог, возьмёт в руки кубанскую конницу. Не только части, но и начальников.
— Будем надеяться.
Оторвавшись от сводок, Романовский ободряюще улыбнулся Деникину. Кому, как не ему, понятны тревоги главкома. Полгода висит над армией дамоклов меч: угроза альянса Скоропадского, Краснова и Быча, направленного не только против большевиков, но и против них. Теперь судьба этот меч отводит: уйдут немцы, союзники или приберут к рукам, или вовсе уберут Скоропадского и Краснова, исчезнет угроза отрыва Украины и Дона от России. Но кубанская заноза засела слишком глубоко, и вытащить будет не так-то просто. Да тут ещё проходимец Покровский в лекари напрашивается...
— Может быть, следовало, Иван Павлович... прямо сказать Врангелю, что именно Покровский предложил мне перевешать Раду?
— Да нет... Незачем ему знать лишнее.
30 октября (12 ноября). Иогансдорф
Врангель остановил кабардинца на опушке низкого редкого леса, по краям обросшего кустарником.
Ни огонька, ни звука — Ставрополь словно вымер. И саван из сумерек и тумана плотно накрыл и его, и гору, на которой он выстроен... Лишь изредка над центральной частью тускло вспыхивают разрывы шрапнели. И, опаздывая, долетают сначала хлопки, а потом, откуда-то с северной окраины, приглушённый гром орудийных выстрелов... Не иначе работают батареи Боровского... Неожиданно застучали, резко и зло, пулемёты. Это ближе — на участке Дроздовского. Странно, артиллерия красных отмалчивается...
Продрог, но никак не хотелось возвращаться в немецкую колонию Иогансдорф — к теплу и горячему чаю, — не увидев города. Досада какая! Отсюда Ставрополь должен просматриваться до центральных кварталов... Словно Град-Китеж... Хотя нет, наоборот всё: он явился освободить город, а тот вознёсся в небеса. И с погодой творится чёрте что...
...Ледяной ветер с севера выдохся. Задувший ему на смену тёплый юго-западный принёс обложной дождь. Особенно сильно он лил в самое неподходящее время — на марше или при атаке. А на утренних и вечерних зорях всё вокруг заволакивал парующий туман. Сырость оказалась не лучше стужи: проникала не только под черкеску, но даже в чувяки.
Однако идти коннице стало легче: на плоскогорье, где к чернозёму примешаны глина и щебень, овраги помельчали, а потому грунтовые дороги выровнялись и не раскисали, как на Кубани.
Красные, разбитые и подавленные, сопротивлялись слабо. Сенгилеевскую удерживать не стали и, прикрывшись конными арьергардами, отступили к Ставрополю.
Нынешним утром полки 1-й конной дивизии подошли к городу и за светлое время заняли позиции против его западной и северо-западной окраин, справа и слева от искусственно насаженного леса.
На правом фланге 2-я бригада Топоркова вошла в соприкосновение с частями Казановича в районе села Татарка. На левом — бригада Чекотовского установила связь с 3-й дивизией Дроздовского, позиции которой протянулись от северной оконечности леса к железнодорожной ветке на Кавказскую. 1-ю бригаду — её временно командующим, недолго поколебавшись, Врангель назначил не Муравьёва, а Бабиева — оставил в резерве и сосредоточил в колонии Иогансдорф, укрыв от глаз противника лесом. И сам остался с ней.
По сводкам от соседей, все дивизии после полудня сомкнули фланги, завершив тактическое окружение Таманской армии и прочих частей противника. Основные силы таманцев, если верить разведке, расположены против Дроздовского. По этой причине стык между его дивизией и 3-й внушал Врангелю некоторые опасения.
Не позже полуночи ожидалась директива Ставки об общей атаке.
Пока со станции Рыздвяная, где встал поезд Деникина, пришла одна-единственная телеграмма. Приказом по армии объявлялось: 29 октября доблестные войска генерала Покровского, продвигаясь к Ставрополю, заняли станицу Темнолесская — тем самым вся Кубанская область освобождена от большевиков. Прочитав, ощутил и радость, и досаду...
...К вечеру напор мыслей о завтрашнем бое радость вытеснил, досаду — не до конца. Надо же, как кстати! Аккурат к открытию Рады. Не об этом ли главком просил Покровского, когда ездил к тому в Невиномысскую? Теперь эта задница — герой из героев, освободитель Кубани.
Ноги совсем застыли. Нет, всё-таки эти кавказские чувяки, хотя и в галошах, не по нему. Сапоги посуше и потеплее будут. Слава Богу, успел до затяжных осенних дождей вырваться из непролазной кубанской грязи на твёрдую Ставропольскую возвышенность...
Обернулся: чуть углубившись в лес, запорожцы развели на прогалинах костры. Сгрудились вокруг них, нахохлились под шинелями и мохнатыми бурками, греются и пьют чай, зажав между ладонями алюминиевые кружки. Смирно стоят, засыпая, казачьи кони, привязанные к деревьям.
Долетела грубая ругань. По видимости, Топорков распекает какого-нибудь бездельника.
Всё, пора и самому пить чай и спать...
В колонии, поразительно чистой и богатой, разделённой прямыми улицами на кварталы, бодрствовали только посты, выставленные от 1-го Екатеринодарского полка.
В просторном, из жжёного кирпича, доме шульца[69] Врангеля ждали отведённая квартира и обещанный Гаркушей «чай»: широкий стол в парадной комнате был заставлен так, будто завтрак, обед и ужин собрались вместе. Пышные, сильно подрумяненные пироги и пиво в высоких кружках цветного стекла подавляли прочую снедь.
Предпочтение всё-таки отдал сыру, который варят здешние колонисты: янтарному, необычайно душистому, с крупными дырками. Толстая восковая корка снималась на удивление легко и чисто... Жевал с наслаждением один ломоть за другим. Пробовал, намазывая на воздушные и пахучие ломти ещё горячего пшеничного хлеба, разные сорта мёда, от золотистого до коричневого. Отогревался терпким травяным чаем с мятой.
Расслабляющим умиротворением веяло от аккуратно беленных стен и потолка, подпирающих его наружных балок тёмного дерева, ярко-жёлтых занавесок на окнах, тяжёлой полированной мебели и высоких растений в кадках, обёрнутых в разноцветные узорчатые салфетки. Витал приятный, чуть сладковатый запах. Никакой тебе вони, никакого чада от печки, никаких мух...
— Василий... — из-за стола поднимался отяжелевшим и уже полусонным, — разбудишь, как доставят приказ об атаке.
В комнате старшего сына его ждала высокая деревянная кровать, накрытая пёстрым ситцевым пологом, с десятком голубых атласных подушек и взбитым пуховиком.
— Покойной ночи, ваше превосходительство.
31 октября (13 ноября). Иогансдорф
— Тревога! Красные атакуют! — Гаркуша едва не сорвал ситцевый полог с деревянных стоек. — Подымайтесь, ваше превосходительство!
За окном, где-то на соседнем дворе, дизизионный хор трубачей заиграл «тревогу».
Напевая про себя машинально — «Тре-во-гу тру-бят, ско-рей сед-лай ко-ня...», — Врангель надел черкеску с уже появившейся сноровкой. Даже парного молока, поднесённого адъютантом в пивной кружке, успел хлебнуть. Накинув в полутёмной прихожей бурку и нахлобучив папаху, выскочил на промозглый утренний холод.
Шум боя, пробиваясь сквозь туман, накатывался с левого фланга.
У самой террасы, держа в поводу его кабардинца, Гаркуша запихивал в рот кусок вчерашнего пирога. Конвойцы, вскакивая в сёдла, подбирали под себя полы черкесок и строились на просторном дворе в колонну по двое. Высокие ворота распахнуты.
От сырости деревья и резные заборы совсем почернели, тускло блестела глазурованная черепица высоких крыш, оба конца прямой улицы растворились в тумане. Колонистов не видать — попрятались за крепкими кирпичными стенами...
Под звонкий перестук подков по ровно уложенной брусчатке выслушал Соколовского. Докладывать тому особенно было нечего: едва рассвело, противник атаковал позиции 3-й дивизии, на их участке — пока пассивен.
По всему, чего опасался — удара в стык между ним и Дроздовским, — не случилось. По видимости, красным нужна исключительно железная дорога на Кавказскую. По ней, через Тихорецкий узел, удобнее всего пробиться в Царицын и всё вывезти — раненых, больных и материальную часть.
— Бабиеву — поднять бригаду по тревоге и сместить корниловцев к левому флангу. Чекотовскому — выставить заслон на север из двух эскадронов...
Отдав и другие распоряжения по обеспечению левого фланга, рысью поскакал по узкой прогалине на наблюдательный пункт, уклоняясь от крючковатых веток...
Повеял холодный ветерок, уже с востока. Редкие листья, резные и багряные, безжизненно висевшие на ветках приземистых клёнов, зашевелились. Туман медленно сползал по склонам, обнажая неровно изломанные серо-жёлтые очертания центральной части Ставрополя и западной окраины. Уступами, окружённые облетевшими садами, поднимались в гору мокрые крыши домов, торчали недымящие коричневые трубы и безмолвные звонницы... На вершине горы величественно возвышался златоглавый собор. Господствуя над городом и окрестностями, уходила в серое небо высокая стройная колокольня...
Сколько ни водил Врангель «Гёрцем» по серой степи, ещё подернутой в низинах туманной пеленой, боя слева не разглядел. Одни только вспышки шрапнели и клочки дыма над самой линией горизонта... На слух, пальба откатывается на север...
Беспрестанно верещал полевой телефон. По докладам, Дроздовский оставил позиции у леса и предместье с монастырём и отходит вдоль железной дороги на север. Связь с ним потеряна: разъезд, высланный в его направлении, не вернулся... На их участке, против западного предместья, — никаких признаков активности противника. То же и у Казановича. А вот Покровский, стоящий против юго-восточной окраины, — атакован, но пока держится.
Соколовский быстро наносил свежие оперативные данные на двухвёрстку, расстеленную на шатком раскладном столике. Укрылся под натянутым между деревьев брезентом, однако ни одной пуговицы на защитном прорезиненном плаще не расстегнул, ни светло-коричневых замшевых перчаток не снял.
Опустив бинокль и следя за его карандашом, Врангель мучительно искал решение. По законам тактики, когда сосед отходит, должно немедленно атаковать стоящего перед тобой противника. Только так возможно облегчить положение соседа и обеспечить собственный фланг. Но это — в поле. А когда перед фронтом — укреплённый город, да ещё на возвышенности?
— Ваше превосходительство, позвольте высказать свои соображения? — Соколовский оторвался наконец от карты. Пальцы нервно подкручивали тонкий светлый ус, выдавая неуверенность. — Мы ничего не знаем о противнике перед нами. Лежат цепи, а где-то за ними, в садах предместья, укрыта артиллерия и конница... Перебежчики, принятые за ночь, — все штатские и проку от них мало. Ясно только, что за первой линией обороны расположена вторая, ничуть не слабее. И все — на высотах. Мы же у противника — как на ладони. При таких условиях... с учётом неминуемого истощения патронов, атаковать, полагаю, в пешем строю почти невозможно. А в конном — невозможно совершенно...
Врангель, не удержавшись, скривил плотно сжатые губы. Нет, «момент» выше карты не прыгнет. А каково сейчас драгуну Чекотовскому сидеть и наблюдать, будто зритель из партера, как противник бьёт его родную дивизию? А сам он как потом в глаза Дроздовскому посмотрит?
Надсадно и зло крикнул прапорщику-телефонисту:
— Приказ всем бригадным командирам: спешиться и атаковать город. Цепи рассыпать пореже. Патроны беречь и не открывать огня с дистанции более четырёхсот шагов. Чекотовскому — усилить заслон на север ещё одним эскадроном, связь с Третьей дивизией восстановить любой ценой...
Над степью повис мелкий обложной дождь, вспаивая иссушенную землю и смывая с выгоревшей ковыли толстый налёт серой пыли. Но уже часа через полтора иссяк. Сизая мгла, затянувшая небо, разрядилась и посветлела. Сквозь неё едва-едва проступил обесцвеченный до смертельной бледности солнечный диск.
Красные держались крепко. Всякая попытка казачьих цепей продвинуться пресекалась пачечным огнём. Особенно усердствовали пулемётные расчёты, будто патронов у них — что семечек подсолнечных. Батареи, напротив, осыпали шрапнелью очень экономно, но точно. Без сомнения, заключил Врангель, на колокольнях угнездились корректировщики...
Казаки залегли безнадёжно. Уж полдень миновал, а они лежали себе и вяло постреливали, сберегая патроны. Не уступил им в благоразумии и 2-й Офицерский конный полк. От Чекотовского, Бабиева и Топоркова приходили доклады, похожие как две капли дождя: противник не даёт головы поднять и нет никаких сил выполнить приказ об атаке.
А у Врангеля не осталось сил торчать истуканом на наблюдательном пункте: желание кинуть вперёд конную лаву уже разрывало.
— Перебежчиков много за ночь?
Соколовский, деликатно отойдя в сторону, раскуривал отсыревшую папиросу. По его понурому виду нетрудно было догадаться, что смысл вопроса им понят.
— Двое всего. Чудом вырвались.
Двое. Значит, позиции обороняющихся чрезвычайно плотные. И постов с секретами повыставляли, где нужно и где не нужно. На коней-то казаки сядут и лавой пойдут за милую душу... Но что это будет? Атака станет форменным самоубийством. А ежели думать о сохранении дивизии, ни во что, кроме демонстрации, она не выльется. Да проку-то в ней сейчас, в демонстрации...
— А каково положение в городе?
— Утверждают, что всё забито ранеными и больными. Заболевших тифом тысячи, и число их растёт с каждым днём. Продовольствия мало, магазины и лавки закрыты. Пропала вода... Это генерал Покровский захватил вчера гору Холодную и остановил расположенную там городскую водопроводную станцию...
— А о Сорокине что говорят?
— Что расстреляли его. Будто бы сообщение было напечатано в советских газетах.
— Прикажите дивизионной команде разведчиков: как только ворвёмся в город — без промедления занять тюрьму и привести в известность всех арестантов.
— Слушаю.
Нет, решил Врангель окончательно, никаких даже демонстраций. Шум боя с севера долетает всё слабее. Похоже, таманцы продолжают теснить Дроздовского. И каждая новая верста, пройденная ими вперёд, обернётся растяжкой их левого фланга ещё на версту... Части противника перед его фронтом, по видимости, не входят в Таманскую армию, раз остаются пассивными. Ежели так, обстановка может сложиться исключительно выгодная: удар во фланг таманцев откроет его дивизии дорогу в Ставрополь. И чем сильнее их фланг растянется, тем вернее его успех.
Только ударить кулаком, а не растопыренными пальцами. Для этого бригады Бабиева и Чекотовского следует объединить под своим началом. А бригаду Топоркова, чтобы обеспечить центр, — растянуть влево. И раз позиции дивизии наблюдаются с колоколен, растянуть скрытно — лесом, за ночь.
— Директива Ставки об общей атаке получена?
— Так точно. Но обстановке она уже не соответствует.
— Время атаки какое?
— Семь ноль-ноль завтрашнего дня.
Врангель аккуратно уложил бинокль в футляр. Глянул на небо: солнце, как ни старалось, тоже не смогло пробить белёсую пелену. Что ж, несчастье на то и существует, чтоб умный искал из него счастливый выход.
— Бригадным командирам передать приказ: вернуть полки на исходные...
Бой на севере затих, когда сумерки, перемешиваясь с поднимающимся от земли туманом, сгустились до темноты.
По сводке штаба Казановича, на его участке противник вёл себя так же пассивно, а Покровский был атакован и немного потеснён...
К полуночи до Иогансдорфа добрался офицер для связи из штаба 3-й дивизии. Обстановку передал на словах: под жестокими ударами Таманской армии дивизия отошла к станице Рождественской, в полках осталось по 200—300 штыков, полковник Дроздовский ранен пулей в ногу и эвакуирован в Армавир.
1 (14) ноября. Иогансдорф — Ставрополь
За ночь Врангель так и не сомкнул глаз. Поступившие сводки — уже из штаба главкома — окончательно прояснили печальную картину: кольцо окружения, выстроенное стратегами Ставки вокруг Ставрополя, прорвано на севере...
Таманская армия атаковала с таким ожесточением, что растаявшие полки 3-й и 2-й дивизий не выдержали и, опрокинутые, откатились на 8—10 вёрст. Из последних сил отбиваясь от наседающего противника, Дроздовский зацепился за кубанскую станицу Рождественскую, к западу от железнодорожной ветки на Кавказскую, а Боровский, к востоку, — за село Пелагиадское. 2-я Кубанская дивизия Улагая отскочила в северо-восточном направлении ещё дальше — к Дубовскому... В итоге левый фланг Таманской армии растянулся на 8 вёрст от окраины леса в направлении Ново-Марьевская — Рождественская.
Безо всякой уже необходимости водил карандашом по двухвёрстке, исчёрканной Соколовским... А самого, отгоняя сон, разгорающимся огнём жгло нетерпение: грядущим утром именно он может решить исход сражения за Ставрополь. И никто другой...
За самое тёмное время Топорков, проведя 2-ю бригаду лесом, растянул её влево и обеспечил центр позиции. 1-ю бригаду Врангель сам вывел из колонии и под прикрытием леса сосредоточил на левом фланге уступом за бригадой Чекотовского.
Благоприятствовала даже погода: поднявшийся с рассветом восточный ветер быстро отогнал туман, а дождь ещё не проснулся.
Скрытно пройдя сквозь лес, четыре полка двойными колоннами рысью устремились на север, к Ново-Марьевской. Развёрнутые в лаву корниловцы и екатеринодарцы, как веником, смели выставленное на фланге слабое охранение таманцев.
Повернув на восток, полки оказались в тылу колонны пехоты и конницы: продвигалась по дороге на Рождественскую — явно с целью довершить разгром 3-й дивизии... Не ожидавшие удара, красные бросились частью на северо-восток, частью — к Ставрополю. Казаки азартно перехватывали нерасторопных. Сопротивлявшихся рубили, сдавшихся гнали к лесу...
Выслав 2-й Офицерский конный полк заслоном к станции Пелагиада, поближе к родной дивизии, Врангель повернул три полка круто на юг — на Ставрополь. Вдогонку убегающим в город кинул Бабиева с Корниловским полком и четырьмя сотнями 1-го Екатеринодарского.
Сам же, не спешивая казаков, собрал сотенных командиров, указал цель атаки и в двух словах разъяснил, в каком порядке намерен её вести. Черноморцев и две сотни екатеринодарцев построил в двойную колонну: на случай, если понадобится охватить фланг противника.
Рысью повёл её к монастырю. Стоящий на высоком холме у самого северо-западного предместья, тот сулил выгодную позицию для занятия Ставрополя. Резерв выделять не стал: случайность, решил, маловероятна и парировать её не придётся...
Дорога, встретив балку, вильнула в сторону. Повёл колонну поперёк балки: не столь уж глубокая и заросшая. Лошади легко выбрались по глинистому склону на гребень.
С расстояния в три с лишним версты — колокольня и купола монастырских церквей стали ясно различимы и без бинокля. Будто игрушечные. Ещё вчера утром и монастырь, и предместье против него занимались Дроздовским...
Бригада Бабиева на плечах бегущих уже подлетала намётом к окраинным домикам и садам, когда засевшие в монастыре красные открыли по ней фланговый огонь из винтовок и пулемётов.
Через пять минут, как только дистанция сократилась до прицельной дальности — двух вёрст, — пули засвистели и вокруг Врангеля. С хрипом и ржанием рухнула одна лошадь, другая... Обернулся: припал к холке раненый конвоец, повалился, завизжав, из седла казак...
Поглубже натянув папаху, подал корпус вперёд и надавил коленями на тебеньки седла. Почуяв шенкеля, прыткий кабардинец в два маха перешёл на галоп.
Отрываясь, потянул шашку из ножен. Высоко поднял над головой блеснувший тускло клинок и резко махнул в сторону монастыря — ещё раз указал цель. И тут же широко махнул им вправо-влево, ещё раз вправо-влево...
Оглядываться нужды не явилось: всем существом ощутил, как переходят на намёт и повторяют этот знак — «в лаву» — полковые и сотенные командиры. Топот за его спиной густел и раздвигался широко в стороны: три правые сотни кратчайшим путём занимали свои места вправо от головной, три левые — влево, размыкались по линии фронта шеренги.
Верста до цели. Второй раз подняв клинок, дал кабардинцу шенкелей, переводя в полевой галоп.
Повинуясь знаку, плотная казачья лава, быстро переменяя аллюр с волчьего намёта на широкий и подаваясь крыльями вперёд, неудержимо и бесповоротно понеслась за ним через размякшее чёрное поле. Зацокали стальные кавказские стремена. Земля задрожала. Из-под копыт полетели сырые комья...
Монастырь приближался стремительно. Из-за светлой каменной стены, с башенкой над воротами, поднимались белая колокольня и низкие купола, синие и зелёные, пяти небольших церквей.
Семьсот шагов до цели. Привстал в стременах и как можно выше поднял клинок третий раз: «Шашки к бою!» И, переждав секунду-другую, резко махнул вперёд: «В атаку, марш-марш!»
Лава ощетинилась клинками, бросилась в карьер и огласилась гортанными криками «Ура!», гиканьем и свистом.
Чуть натянув повод, замедлил бег кабардинца до галопа и тут же очутился за спинами казаков.
Огонь красных стал беспорядочным и неприцельным: пули, тонко посвистывая, улетали куда-то над головой или зарывались в землю. Ещё секунды — и стрельба утихла. От монастырской стены побежали люди в шинелях, покатились вниз по крутому склону, кинулись к ближним садам и дворам.
Одна сотня мигом взлетела к белой монастырской стене. Другие, огибая холм и сворачиваясь, врывались в узкие улочки, рубя настигнутых. Самые стойкие красноармейцы, укрывшись в крайних дворах, отчаянно отстреливались из-за низких палисадников...
Пули звонко щёлкали о монастырскую стену, взбивая каменную крошку... Хрипела и била ногами лошадь: ей пробило шею... Прихрамывая, подошёл к ней казак и, вставив дуло винтовки в ухо, выстрелил. И присел рядом на корточки, рукавом черкески утирая со щёк то ли пот, то ли слёзы...
Санитары уже несли раненых и укладывали на мощёной площади перед монастырём, где посуше. Кто-то стонал, кто-то, стиснув зубы, переносил боль молча, кто-то просил воды... Сёстры милосердия, склонившись, аккуратно разрезали ножницами напитанные кровью бешметы, шаровары или ноговицы, споро разматывали стираные бинты.
Со слабым скрипом приоткрылись высокие зелёные ворота, и на помощь им высыпали монашки в чёрном. Одни несли свисающие полосы белого полотна, другие — пышные буханки хлеба, третьи — медные чайники с закопчёнными боками...
Разослав ординарцев с приказом спешиться, занять околицу и отвести лошадей внутрь монастыря — под защиту стен, — Врангель кинул поводья Гаркуше и, разминая затёкшие ноги, направился к воротам.
Пробилось наконец солнце. Его косые лучи осветлили бледные запрокинутые лица раненых, ярко высветили красные кресты на сером брезенте подоспевших лазаретных линеек и позолотили кресты над куполами.
Затрезвонили колокола, сумбурно и радостно...
1—2 (14—15) ноября. Ставрополь
Шум боя в городе не стихал уже третий час.
В полдень ординарец доставил в Иоанно-Мариинский женский монастырь, где обосновался Врангель со штабом, донесение Бабиева: ворвался в самый город и захватил вокзал со стоящим там бронепоездом. Победно начав «во здравие», временно командующий 1-й бригадой безнадеясно закончил «за упокой»: без подкреплений не удержит, ибо патронов почти не осталось, а красные, засев в окрестных домах, дерутся отчаянно.
Врангель отправил ему в подмогу две сотни екатеринодарцев и 1-ю конно-горную батарею. На большее не решился: разведка обнаружила подтягивание крупных сил противника к монастырю, и неизвестно ещё, как всё обернётся, — не оказался бы Бабиев в мешке. Кто обязан помочь в сложившейся ситуации, так это Ставка.
Со станции Пелагиада по телеграфу ушло на Рыздвяную донесение Деникину: бригада генерала Бабиева ворвалась в Ставрополь и заняла вокзал. Донесение завершила сдержанная просьба прислать какие-нибудь части для закрепления достигнутого успеха.
Около 6 часов вечера, когда обстрел монастыря участился, пришла телеграмма, подписанная Романовским: в распоряжение Врангеля переданы 1-й Кубанский стрелковый полк из 1-й пехотной дивизии, а также инородческий дивизион и бронеавтомобиль «Верный» из 2-й дивизии, и все они уже спешат к монастырю.
Красные помощь получили раньше и, перейдя в атаку, после жестокого боя отбили у Бабиева вокзал. Городская электрическая станция из-за отсутствия угля бездействовала, но поднимавшаяся снизу темнота не помогла корниловцам и екатеринодарцам: к 7 часам пришлось спуститься в предместье. Одно утешило Врангеля: отступили почти к самому монастырю.
Нежданно-негаданно обрадовал Топорков: атаковав по собственной инициативе, продвинулся вплотную к Старому форштадту и овладел городским питомником.
Сведя воедино данные бригадных разведок, Соколовский цифрами показал: большевистское командование произвело перегруппировку и сосредоточило основные силы против левого фланга дивизии, ослабив те, что стоят против правого. Винтовочный, пулемётный и артиллерийский огонь, обрушившийся на монастырскую стену и купола храмов из черноты ближайших садов и улочек, был убедительнее всяких цифр.
Раз так, заключил Врангель, удачу следует искать на участке Топоркова. И всё, что можно, включая обещанные подкрепления — ежели они, конечно, подойдут, — кинуть туда. Не сколотить к рассвету ударную группу, не двинуть кулаком — столь удачно начатое дело обернётся задницей.
Чекотовскому, очень кстати донёсшему, что атаки противника на 3-ю дивизию прекратились, послал приказ: спешно и скрытно, прикрываясь лесом, перебросить 2-й Офицерский конный полк на левый фланг, где поступить в распоряжение Топоркова. После недолгих раздумий туда же и тем же маршрутом отправил от монастыря и 1-й Черноморский полк: казаки оборонялись стойко и, по всему, монастырь, и площадь удастся удержать силами двух полков, даже заметно поредевших.
Стойкость прибавляли казакам и три подводы с патронами, брошенные красными во дворе монастыря, и спокойствие за лошадей, укрытых за толстыми стенами, и несуетливая работа артиллеристов 2-й конно-горной батареи, установивших четыре трёхдюймовки на площади...
В 9 часов, когда перестрелка несколько утихла и игуменья Серафима, утром у самых ворот благословившая его иконой, пригласила Врангеля к ужину, подъехал бронеавтомобиль «Верный». Керосиново-калильный фонарь высветил на его бронированном боку, испещрённом пулевыми отметинами и перечерченном рядами заклёпок, большой круг национальных цветов. Ещё не выслушав рапорт командира — невысокого крепыша с орлиным носом, в фуражке с малиновой тульёй и кожаной куртке без погон, — он решил: не медля ехать к Топоркову. Чёрт с ними, с ужином и сном! Куда важнее лично разобраться в обстановке и поставить задачи ударной группе.
Сняв папаху и согнувшись в три погибели, еле втиснулся, придавив пулемётчика. В дороге припомнилось, с какой теплотой отзывался о бронеавтомобиле Дроздовский: весь поход прошёл от Ясс, не раз выручал, хотя и ломался часто...
Красные постреливали на шум мотора и свет фонарей, но доехать удалось без приключений.
Наружу выбрался с совершенно отбитыми плечами, локтями и коленками. От тряски и бензиновой вони подкатывала тошнота. Ветер стих, но заметно похолодало. Ставрополь поглотила темнота — ни зги не видать. Но в тишине, царящей на западной, возвышенной, окраине, он сразу расслышал гул боя, идущего где-то в степи на северо-востоке от города...
В своей палатке — походной, из непромокаемого равентуха[70], — рассевшись за складным столиком и заставив карту тарелками с немецкой снедью, Топорков успевал и закусывать, и командовать. На цуки[71] не скупился, своему адъютанту и ординарцам от полков находил дело так же легко, как трактирщик половым.
Врангель нашёл его, как всегда, твёрдо уверенным в успехе. Хотя и не в меру задумчивым.
Задумчивость нагоняли бригадные разведчики, доносившие о движении войск в городе в сторону восточной, низкой, окраины. Обещанный Ставкой подход стрелков и инородцев никаких эмоций на его мрачном лице не вызвал. Но приказ начальника дивизии атаковать с рассветом и не раньше, чем соберётся вся ударная группа, — четыре конных и один стрелковый полк, дивизион инородцев, а также бронеавтомобиль, которому ещё предстоит пробежать добрый десяток вёрст до монастыря и вернуться, — принял к исполнению без вопросов и возражений...
Обратная дорога стала для Врангеля сущей пыткой: пошла вторая ночь без сна и голова уже не держалась на шее... Зевал так широко, что рот разрывался и скулы трещали... Прикорнул бы, но нещадно трясло и било непокрытым теменем, плечами и коленками о броню. Тело одеревенело и потеряло чувствительность...
До монастыря «Верный» докатил к полуночи.
Красные давно прекратили обстрел. Однако орудия 2-й и занявшей позицию тут же, на площади, 1-й конногорной батареи по очереди каждые четверть часа стреляли по городу. Шрапнель комбинировали с гранатами: хотя они дают и значительно меньшую поражаемость, зато куда сильнее действуют на нервы. Разбрасывали без всякой системы, чтобы красные не знали, над каким местом разорвётся следующая шрапнель и куда упадёт очередная граната: и это хорошо бьёт по нервам...
Из небесной черноты медленно и безмолвно сыпались снежинки, редкие и крупные.
В приоткрытые часовым ворота Врангель проходил, будто контуженный. Язык еле повернулся, чтобы скомандовать «Вольно!». Первого в этом году снега не заметил. Тепла и сухости помещения не ощутил. Отмахнувшись от гаркушиной «вечеры», велел вести в приготовленную комнату.
Вооружившись толстой длинной свечой, адъютант повёл его в игуменский флигель, соединённый с Покровской церковью.
Скрипнула маленькая дверь. Жёлто-оранжевый язычок осветил тесную каморку с низким потолком. Пригнувшись на пороге, Врангель еле распрямился. Замутнённым взглядом скользнул по голым стенам и оконцу, забранному кованой решёткой: не то келья, не то чёрт-те что...
Черкеска упала на холодный цементный пол. Последние силы ушли на то, чтобы стянуть заляпанные грязью галоши и чувяки. На узкую металлическую кровать рухнул как подкошенный, в бешмете и шароварах. И провалился в бездонный сон...
Мгновение спустя ощутил: трясут за плечо. До сознания едва пробился чей-то голос:
— Подымайтесь, ваше превосходительство!
— Что?!. Красные?!
— Ставрополь — наш!
С трудом разодрал пудовые веки. Та же толстая длинная свеча подпрыгивает в руке адъютанта. А голос — торжествующий.
— Полковник Топорков забрал город!
— Час... который?
— Дык пятый.
2 (15) ноября. Ставрополь
Слабый ночной морозец отступил, и на город только что пролился холодный утренний дождь. Кровь с серых каменных мостовых и асфальтовых тротуаров он смыл, но лежащие тут и там трупы красноармейцев и лошадей предстояло убирать победителям.
Картину разгрома и бегства довершали опрокинутые и разбитые повозки, завалившаяся трёхдюймовка с поломанной осью — постромки перерублены, замок снят — и белая россыпь печатных листовок, частью затоптанных в грязь и затонувших в лужах. Выкинутые за ненадобностью, они извещали «товарищей трудящихся Ставрополя», что «непобедимая Советская Таманская армия» никогда не отдаст город «на расправу бандам белогвардейской контрреволюции».
Где-то ещё постреливали...
— Василий Иоанникиевич, сформируйте из пленных рабочие команды и займитесь очисткой города. Людей зарыть, лошадей сжечь.
— Слушаю, ваше превосходительство. Но как, вы полагаете, быть с отпеванием? Мужики ведь крещёные...
— Ну, ежели найдёте живого священника и он согласится...
Кабардинец, косясь на трупы, нервно вздрагивал и громко всхрапывал. Не раз уже порывался отскочить в сторону, но Врангель, умело действуя поводьями и коленями, удерживал его. Рядом ехал Соколовский, позади — Гаркуша, ординарцы, конвойцы и трубачи куцей колонной по три. Без трубачей, решил, въезд его в освобождённый город будет похож не более чем на экскурсию. Размеренное цоканье подков о булыжники мостовой то и дело перебивалось нервным перестуком — лошади обходили трупы...
...Топорков не стал дожидаться ни рассвета, ни подкреплений. Как только разведка доложила об оставлении красными занимаемых позиций, кинул в атаку всё, что было под рукой, — четыре конных полка. Построив уступами, приказал за головными сотнями пустить пулемёты на линейках и по дворам не рассыпаться... Отходящие арьергарды защищали каждый дом, но казаки напором и пулемётным огнём выбивали их.
Из опросов взятых в плен младших командиров всё разъяснилось. Накануне утром, пока 1-я конная дивизия прорывала фланг Таманской армии на северо-западе, с северо-востока, от Петровского, подошли на выручку осаждённым конные и пехотные колонны красных, сформированные из ставропольских крестьян. Они ударили в тыл Улагаю и Покровскому, отбросили их от города и расширили прорыв до двух десятков вёрст. После чего Смирнов, командующий Таманской армией, отдал приказ об оставлении Ставрополя и отходе на Петровское. За вечер и начало ночи основные силы ушли...
...Многие красноармейцы лежали не раздетые. Удивившись поначалу, Врангель присмотрелся внимательнее и понял причину: сапоги и ботинки каши просят, шинели изодраны донельзя — не иначе всю Великую войну их протаскали. Конечно, казаки на рванье не позарились.
— А что это за красные угольники на рукавах у некоторых убитых?
— Это знак Таманской армии. Нашили с месяц назад по приказу Матвеева. Того самого, которого расстрелял Сорокин.
Усмешка сняла суровость с обескровленного лица Врангеля.
Не раз уже пожалел, что и Сорокина самого пристрелили. Ещё две недели назад, как показал схваченный разведчиками комендант тюрьмы. Командир одного из Таманских полков отомстил «изменнику революции»: запросто вошёл в комнату, где как раз допрашивали бывшего «главковерха», и выстрелил в упор... Что ж, ничего странного: раздоры в верхушке — закономерный итог поражений и верный признак близкого конца. Рыба гниёт с головы...
Странно другое: чего же это красноармейцы так плохо одеты? Ведь у «товарищей» — столько награбленного добра... Соколовский уже доложил: отступивший противник оставил огромные запасы военного имущества и несколько тысяч раненых и больных в госпиталях и лазаретах. В Ставрополе их больше десятка: и бывшего военно-санитарного ведомства, и Красного Креста, и Земгора[72]. А на складах Военно-промышленного комитета[73] — горы мануфактуры, сукна, обуви, подков и прочего. Даже заряженные аккумуляторы, пригодные для дивизионной радиостанции, нашлись. Главного только нет — винтовочных и артиллерийских патронов. А это ещё более странно... Неужто израсходовали все? Или предпочли вывезти вместо раненых и больных?..
Ещё в монастыре отдал самые необходимые приказания. Штаб перевести в здание железнодорожного вокзала. Взятых в плен большевиков, матросов и всех начальников вплоть до отделённых командиров — расстрелять, рядовых красноармейцев — всех в тюрьму. Для её охраны, а также складов от каждого полка отрядить по сотне. Интендантам взять на учёт всё трофейное имущество.
Сложнее всего — водворить порядок в огромном и незнакомом городе. Сам не бывал здесь ни разу и совершенно не ориентируется. А полковник Глазенап, которого Деникин ещё при первом занятии Ставрополя назначил военным губернатором, как удрал, так до сих пор его где-то черти носят.
Заехав первым делом на станцию — убедиться, что все составы под охраной, — нашёл решение. Насколько умное — будет видно: недавно прибывшего ротмистра Маньковского, сослуживца по Уссурийской дивизии, назначил комендантом города и предоставил в его распоряжение дивизион инородцев. Вопрос, справится ли... Работы по горло. Войск набьётся до 5—6-ти тысяч, а богатый город — немалый соблазн для разорённых большевиками и опьянённых победой казаков, так что мародёрства не избежать. И местные грабительские шайки наверняка не станут сидеть сложа руки. Благонамеренная часть населения озлоблена против большевиков, а простонародье, населяющее предместья, со злобой встретит их, освободителей...
Впереди поднималась светло-серая, слегка размытая туманной дымкой громада Казанского кафедрального собора — шестиглавого, с отдельно стоящей высокой и удивительно красивой колокольней. К нему от вокзала вёл в гору широкий Николаевский проспект, застроенный одноэтажными и — ближе к центру — двухэтажными домами из известнякового камня-ракушечника.
От желтовато-серых, а иногда белых и даже розоватых стен веяло, почудилось Врангелю, строгим благородством и безмолвной радостью очищения от скверны. Особенно безмолвной теперь, когда город совершенно обезлюдел. Многостворчатые двери кафе, кондитерских и чайных, всевозможных магазинов и лавок — булочных, бакалейных, молочных, мясных и колониальных, — плотно прижатые запорами и засовами, увешаны массивными замками. Ни одно из заведений не подавало признаков жизни. Но наглухо задёрнутые шторы и затворенные ставни, напротив, вызвали острое ощущение общего взгляда сотен глаз, со страхом и надеждой впившихся в него и его людей...
И страх, и надежда понятны: почти три недели владычества «товарищей» город стонал от террора и анархии. Спасибо, Баумгартен успел хорошо поставить разведку — дело своё она знает: помещения, занимавшиеся большевистскими властями и красными штабами, уже обыскиваются, документы и газеты изучаются, пленные опрашиваются. Первые — пока устные — доклады нарисовали жуткие картины. Разбитые, большевики вымещали злобу на «буржуях»: день и ночь шли самочинные обыски, грабежи и расстрелы, арестованных перед смертью жестоко пытали. Во дворе губернаторского дома нашли десятки трупов с обрубленными пальцами и выколотыми глазами: там помещался то ли «революционный трибунал», то ли что-то вроде большевистской инквизиции. Похоже, Вакулы, страдающие припадками театрального великодушия, среди «товарищей» вывелись...
Обыватели оставались невидимыми, но сами они, проезжающие посреди мостовой, были на виду у всех. Два десятка конвойцев, держа казачьи трёхлинейки наперевес, внимательно обшаривали глазами окна и покатые, крашеного железа, крыши.
— И вот ещё что, Василий Иоанникиевич... Найдите типографию. Самую крупную. Напечатать и до вечера развесить повсюду мой приказ. Впредь до прибытия губернатора принимаю на себя всю полноту военной и гражданской власти. Где он только, любопытно знать... В двадцать четыре часа населению сдать оружие. И выдать всех укрывающихся в городе большевиков.
— И предметы военного снаряжения сдать. Полагаю, босяки успели поживиться в суматохе.
— Это умно. Кстати, проверьте-ка сами охрану у складов, — и, обернувшись, приказал трубить.
Бравурные звуки «Встречного марша» пронзили тишину. Ещё полминуты — и вывели улицу из оцепенения. Захлопали ставни и двери. Десятки людей, одеваясь на ходу, выбегали наружу. Многие крестились. Одни плакали — кто тихо и просветлённо, кто горько и навзрыд... Другие торопливо совали казакам пачки папирос, буханки хлеба, деньги... Зазвенели, посыпавшись на мостовую, медные и серебряные монеты... Пожилая дама, в меховой ротонде и сбитой шляпке с перьями, спотыкаясь, кинулась к Врангелю — с неожиданной силой ухватив за стремя, истово припала пылающим мокрым лицом к руке...
Толпа росла, теснила с боков, из окон кричали, размахивали радостно руками и чуть не вываливались. Восторженные выкрики переходили в общее «Ура!», по-женски визгливое и истеричное.
Спазм перехватил горло, жаркая пелена застелила глаза, и очертания близкого уже собора размылись. Душа ликовала вместе с толпой. Ужасно хотелось спрыгнуть с лошади и обнять всех этих незнакомых людей, вырванных им из лап безжалостного зверя и ставших вмиг такими родными и близкими. И целоваться, как в Светлый праздник... Сцепив зубы, Врангель неимоверным усилием сохранял начальственное достоинство...
Двухэтажное здание по правой стороне улицы занимал госпиталь Российского общества Красного Креста: над парадным крыльцом понуро свисало со склонённого древка мокрое белое полотнище с большим красным крестом посередине. Только врачи и сёстры, не отворяя окон, смотрели на проходящую колонну всадников и окружившую их возбуждённую толпу. Раненые и больные красноармейцы — числом около пятисот, — оставленные своими товарищами, подняться с коек не могли. Многие лежали в забытьи... На широкой коричневой двери, под вывеской лазарета, чья-то рука коряво и жирно нацарапала мелом: Доверяются чести Добровольческой армии.
3 (16) ноября. Ставрополь
— Ай да Пётр Николаевич... Ай да молодчина! — Деникин, бодрый и подвижный, весь светился торжеством и признательностью. — И Ставрополь спасли, и наше дело на Кубани! Не каждый военачальник способен в один день одержать две победы на двух фронтах кряду...
Главком всего на несколько часов прибыл в Ставрополь — глянуть на город и поблагодарить начальника 1-й конной дивизии. Даже от смотра войскам отказался. Встретив Врангеля уже в салоне, приобнял, крепко и горячо тряс руку. И, взяв под локоть, потянул в кабинет. На приставном столике ждали бутылки и закуски.
— Вы только представьте... Произношу в Раде речь, убеждаю этих шкурников оставить интриги и местничество. Доказываю, что невозможна мирная жизнь на Кубани, когда красные полчища стоят у Ставрополя... Что для освобождения России нужна единая Русская армия, а не должно быть отдельных армий Добровольческой, Донской и Кубанской... Что одна только единая власть спасёт Россию, а суверенная Кубань станет лёгкой добычей большевиков... Слушают внимательно, но — каждой клеточкой чую — многие настроены ох как недружелюбно... И тут адъютант подаёт вашу телеграмму: части дивизии ворвались в Ставрополь! Как зачитал — такое началось! Кричат «Ура!», поют «Вечную память», рукоплещут, свистят, ногами топают... Я, признаться, даже испугался, что здание театра рассыпится на кирпичи, так оно дрожало...
Чувства переполняли Деникина, будто он ещё находился в зале Зимнего театра. Даже поперхнулся — покраснели глаза и выступили слёзы. Прокашливаясь, достал платок из нагрудного кармана кителя.
— ...В общем, речь можно было на этом заканчивать... Самостийники вашими доблестными кубанцами обезоружены. Во всяком случае, любезными стали до тошноты. Посмотрим теперь, как поведут себя Быч с Рябоволом[74]...
Как ни приятна была похвала, Врангеля слегка покоробило: вот что значит не просто взять город, а вовремя доложить о том начальству. Даже ежели спустя несколько часов пришлось его оставить... Зачитывал ли главком Раде вторую часть телеграммы — с просьбой о подкреплениях — вопрос, разумеется, глупый.
— Виноват, ваше превосходительство, бочка мёда не без ложки дёгтя... — Покаянный тон Врангеля совершенно не вязался с его едкой усмешкой. — Сорокина, как ни спешил, спасти не успел.
— А на что его было спасать? Посадить в клетку и стращать им господ «самостийников»?.. — Деникина разобрал мелкий добродушный смешок. Опять пришлось промокать слёзы.
Не успел Врангель подумать, неужто главком хоть на день смог обойтись без Романовского, как тот появился из противоположной двери. Тугие щёки распирала та же благодарная улыбка. Но руку пожал куда холоднее и тут же взялся откупоривать бутылку шампанского «Абрау-Дюрсо».
— «Пайпера» нет, дорогой Пётр Николаевич. Не обессудьте...
Сев в «Руссо-Балт» начальника дивизии, главком в сопровождении казачьего конвоя проехал по Николаевскому проспекту к собору и обратно. Успевал и слушать его доклад, и разглядывать посеревшие от измороси здания. Кое о чём переспросил. Особенно впечатлил его факт оставления большевиками почти 3-х тысяч непогребённых трупов и 4-х тысяч раненых и больных.
Медикаментов, предупредил Врангель, на всех не хватит: их запасы в госпиталях и лазаретах на исходе. Но многим тифозным они и не понадобятся: надежды на их выздоровление нет. Ещё хуже — с огнеприпасами: сколько ни искали на складах и в вагонах, ничего не обнаружили. По опросам пленных, последние две недели у них было всего по 30—40 винтовочных патронов, а артиллерийских — не более 10-15 на орудие. И отступившие части ничего не вывезли: якобы всё было расстреляно за две недели оборонительных боев.
— ...Моя разведка, ваше превосходительство, полагает, что мы не можем более рассчитывать на местные склады...
— Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, Пётр Николаевич, — по-свойски предложил Деникин.
— Благодарю вас. Все склады большевики исчерпали до дна. И последнее время активно налаживали доставку огнеприпасов из Царицына через Астрахань и Святой Крест.
— Даже если так — не страшно... — Деникин всё благодушествовал. — Союзный флот вошёл в Чёрное море. Со дня на день ждём первые суда в Новороссийске. Скоро всего у нас будет вдоволь...
Едва поезд Деникина отошёл от перрона, Гаркуша доложил о происшествии на Воронцовской улице: в лазарет ворвались несколько черкесов, среди которых был офицер, и, несмотря на протесты и мольбу врачей и сестёр, вырезали до полусотни красноармейцев.
Врангель не медля выслал туда офицера-ординарца с конвойцами для задержания черкесов. Но те успели скрыться. Поиски результатов не дали. Взбешённый, вызвал Маньковского. И, невзирая на его запаренный вид — набегался горе-комендант и наскакался по городу, — отчитал прилюдно. Но зло не перекипело... Конечно, ни времени, ни людей искать преступников нет. Остаётся наплевать и забыть. Но ведь теперь молва и недоброжелатели всех мастей именно на него повесят ответственность за этот возмутительный случай... Хотя, ежели подумать, разве «товарищи» к пленённым добровольцам милосердны? Офицеры — те уж точно обречены на мучения и верную смерть...
Спустя час он забыл обо всём на свете: позвонил комендант железнодорожной станции и доложил о приезде санитарным поездом из Екатеринодара её превосходительства баронессы Врангель.
5 (18) ноября. Ставрополь
За ночь на крыши и булыжные мостовые рыхлым белым ковром прочно, совсем по-зимнему, улёгся снежок. Скрыл грязь и добавил света, голубоватого и холодного.
Войдя не ранним уже утром в огромный кабинет губернатора, Врангель нашёл его хорошо прибранным, но плохо натопленным. Попробовал почему-то зябнущими руками одну и вторую голландские печи — угловые, облицованные глазурованными изразцами с синими узорами: ещё не набрали жара. Огромный двухтумбовый стол из морёного дуба — белее мостовых: накрыт свалившимися как снег на его голову и уже осточертевшими бумагами — рапортами, докладами, прошениями, ходатайствами, доносами...
...Отдых дивизии в перевёрнутом вверх дном Ставрополе показался Врангелю тяжелее переправы через Уруп.
Казаки, изнемогшие от каждодневных боёв и переходов в дождь и холод, перед городскими соблазнами не устояли. Шлялись, пренебрёгши службой, по трактирам и прочим забегаловкам, отъедались и нагружались вином и пивом, благо хозяева заведений настоящей цены с них не требовали. То шумно бахвалились друг перед другом, то горланили песни, чередуя свои старинные, тоскливые и протяжные, с нынешней городской похабщиной. Когда платить вовсе не хотелось или уже было нечем, переставали и шуметь: наведывались втихаря в винные и пивные погреба, доверенные их окарауливанию. Особенно полюбились им известные сорта местных пивоваренных заводов Профета и фирмы «Салис»: веселили душу, но с ног не валили, сколько ни пей.
На долю лошадей, напротив, выпали в Ставрополе бескормица и жажда. Подвоза фуража с Кубани интенданты организовать не смогли, только оправдывались расквашенными дорогами... Пришлось отдать приказ разбирать соломенные крыши домиков бедноты, благо в предместьях их хватало. Полусгнившую солому лошади ещё ели, а вот горьковато-солёную мутную воду из окраинных колодцев пить отказывались. Если всё-таки пили — заболевали поносом. Самые изнурённые начали падать.
Страдали желудком и те казаки, кто чаще пил воду, чем крепкие напитки.
Но дивизию Врангель ещё удерживал в узде, а вот город с населением в 70 тысяч давался в руки трудно.
Двухэтажный губернаторский дом на Николаевском проспекте, где он поселился и принимал посетителей, походил на вокзал узловой станции, на которую только что одновременно пришли пассажирский поезд и воинский эшелон: толкалась масса народа в форме и штатском, всех чинов и званий, с узлами и чемоданами, с документами и без. На лестнице выстроился хвост до самого парадного. Забили приёмную до отказа, и даже через двойную дубовую дверь проникало в кабинет несмолкаемое пчелиное гудение. Одно хорошо: Гаркуша, разом войдя в роль хозяина приёмной с письменным столом, двумя диванами и шеренгой кресел, порядок держал, как в сотне.
Все добивались возврата помещений и имущества, каких-то разрешений, удостоверений и пропусков. Заводчики, фабриканты и владельцы торговых компаний навязчиво предлагали то-то и то-то поставить на армию — разумеется, за астрономические кредиты. Как никто, досаждали хозяева магазинов, складов и ресторанов: умоляли назначить к ним караулы и сулили — чуть ли уже не совали в руки — «вознаграждение за труды». Особенно жалкий вид имели обладатели немецких фамилий.
В первый же день убедился: принимать и выслушивать всю эту пройдошливую публику — просто лошадиная работа. Пусть даже служба в Иркутской губернии что-то оставила в голове по части внутренних дел.
Вдобавок что ни ночь — очередное безобразие: потасовка между разгулявшимися казаками разных полков, грабёж неведомо кем еврейского магазинчика, обстрел какими-то бандитами казачьего патруля из-за угла, расстрел арестованных большевиков в тюрьме именно теми, кого он назначил охранять их, пьяный дебош офицеров в ресторане — не в «Германии», так в «Европе» или «Гноме»...
Слава Богу, хоть электрическая станция заработала — как-то сам собой нашёлся уголь, — и теперь центральные улицы и площади освещены. Но за уголь подрядчикам нужно платить, и ещё — жалованье рабочим. А городская управа — беднее церковной мыши: кассы казначейства и отделения Госбанка пусты, ибо «товарищи» перед уходом «экспроприировали» всю наличность. И теперь три члена управы, чудом оставшиеся в живых, ходят к нему по очереди с протянутой рукой. Будто он — барон Ротшильд...
Не Олесинька — давно бы слетел с нарезки... Её мягкая, иногда ироническая улыбка, нежный и проникновенный тон, всегда разумные слова, нежные руки и море тихой ласки как по волшебству превратили смурную и холодную ставропольскую осень в пьянящую крымскую весну.
Для порядка, разумеется, упрекнул: напрасно не дала знать заранее — выслал бы автомобиль с конвоем... Но как же можно сердиться и попрекать, когда вот они — прямо на него смотрят снизу вверх безмерно любимые глаза. Бездонные и лучистые, они сводят с ума и топят его, словно огонь свечку. Ничего, кроме конфуза, из упрёка не вышло. Будто оправдываясь, благодарил потом беспрестанно. Словами — за медикаменты и бинты, за погоны и материал для бешметов, за письма и телеграммы в Киев. Всем существом — за то, что она есть, за то, что любит, понимает и всегда готова поддержать.
Слова подкрепил крайне нужным подарком. Тут уж порадел Гаркуша: среди трофеев нашёлся вагон с зарайской обувью, так тот сам выбрал женские полусапожки и вписал, проныра, в требовательную ведомость на вещевое довольствование чинов штаба... Замечательные такие, ничуть не хуже петербургских и варшавских механических фабрик: на высоких каблучках, тёмно-коричневые, на меху и с латунными застёжками. Пришлись как раз впору. Попробуй купи теперь такие в магазине...
...Первым делом принялся просматривать фамилии и чины рвущихся на послеполуденный приём. Двухстраничный список успел нагнать тоску, когда вошёл, важно топая по паркету новыми галошами, аккуратно подстриженный и надушенный одеколоном Гаркуша. Доложил о прибытии военного губернатора полковника Глазенапа.
— Соизволил наконец-то! — Список полетел в сторону. — Подай-ка мне этого деятеля!
Но Гаркуша, оказалось, имел собственное мнение.
— Позвольте, ваше превосходительство, попросить подпоручика наперёд принять. Полковника Дроздовского тожеть адъютант... — и, не поняв выражения вмиг прищурившихся глаз Врангеля, поспешил подпустить в голос жалости: — С ночи ждёт... Всё, конешно, бесчережно норовят, но ему, до разу видать, позарез треба...
— Хватит болтать! Зови своего протеже. А губернатор и впрямь подождёт. Я его дольше ждал.
Молодой офицер, образцово подойдя и став во фронт — каблуки вместе, носки врозь, опущенная левая рука плотно прижала к ноге фуражку с малиновой тульёй — представился подпоручиком Кулаковским, адъютантом начальника 3-й дивизии.
Врангель оглядел его с нескрываемым интересом: чистое открытое лицо, светлый чубчик аккуратно уложен, сапоги блеском не уступают только что натёртому паркету, золотистый аксельбант придаёт тонкой фигуре завидное изящество. Благоприятное впечатление подпортили глаза: подведённые синими кругами и наполненные печалью.
— ...Полковник Дроздовский приказал передать вашему превосходительству... — Неслышно расстегнув полевую сумку, подпоручик протянул плотный синий конверт. — Но только для прочтения.
— То есть? — удивился Врангель.
— Михаил Гордеевич просил обязательно возвратить это ему.
— Вот как... Тяжело он ранен?
— Дзеньки Богу, нет. Пуля только поцарапала ступню. Мы отвезли его в Екатеринодар. Непременно скоро поправится.
Конверт не был ни заклеен, ни запечатан. Вместо ожидаемого письма Врангель нашёл в нём перегнутые пополам листки — не меньше дюжины. Развернул: чёрный текст, отбитый на пишущей машине. Вот оно что... Рапорт на имя Деникина. № 027. Составлен 27 сентября на станции Кубанская.
Слова «Командующему армией» перечеркнула наискосок прямая фиолетовая строчка, написанная аккуратным, уже хорошо знакомым почерком: Главнокомандующий прочитать не пожелал. И подпись, столь же разборчивая и знакомая: Генерал Романовский.
Отставив подальше от дальнозорких глаз, прочёл внимательно и не торопясь...
Всё написанное уже слышал — полтора месяца назад, в Петропавловской. Или почти всё... Про недооценку Ставкой сил противника и переоценку собственных... Про непосильные задачи и неоправданные потери... Про отсутствие пополнений и снабжения... Про безнаказанность врачей, губящих раненых... Что Добровольческая армия неминуемо погибнет, как уже погибла великая русская армия, раз старшие начальники не хотят слушать неприятную правду... И некому будет освободить Россию...
Пробегая взглядом по строчкам, поймал себя: ищет собственную фамилию. Мог Дроздовский и камушек в его огород кинуть, особенно при освещении Михайловской операции, а мог и отозваться одобрительно. Нашёл ни то, ни другое: «...Донесения одного из начальников дивизии были аналогичны моим». Однако!.. Запросто, без чина и фамилии, взял и пристегнул к себе. Так пристёгивают к коренной лошадь послабее или подурнее. Долго ли, любопытно знать, Романовский гадал, о ком речь...
— На словах что-нибудь передавал?
— Что скоро увидится с вами.
— Спасибо, подпоручик. А кстати... Я — не главнокомандующий, но хочу спросить: по какой причине ваша дивизия оставила Ставрополь?
Кулаковский вспыхнул и произнёс с вызовом:
— Никогда бы того не случилось, если бы генерал Боровский меньше пьянствовал... — От волнения в речи его пробился сильный польский акцент. — Красные имели превосходство в десять раз, а он опоздал нам помочь. Так есть, что не полковник Дроздовский сдал Ставрополь, а генерал Боровский пропил его.
Передав Дроздовскому пожелание поскорее вернуться в строй, Врангель отпустил подпоручика.
Перед тем как вернуть конверт с листками рапорта, ещё раз прочёл резолюцию Романовского, словно намереваясь запомнить её навсегда: Главнокомандующий прочитать не пожелал.
6—7 (19—20) ноября. Пелагиада — Рыздвяная
Тревожными отрывистыми свистками паровоз тщетно будил глухую ночь.
Дрожащая на столике толстая свечка уже изрядно обгорела. Врангель задул пламя, и купе — непривычно просторное благодаря опущенным верхним полкам — погрузилось в темноту. Однако видимость за окном не улучшилась. Высокий и голый — занавески отсутствовали — прямоугольник затягивала та же туманная пелена, сгущённая клубами пара от паровоза. Только из бурой она превратилась в белёсую: откуда-то из-за крыши вагона просачивался свет луны. Если бы не мягкое покачивание на рессорах, не приглушённый перестук колёс и не мелькание телеграфных столбов, подумал бы, что поезд стоит.
Поезд — громко, конечно, сказано... Всего один вагон прицепили к паровозу. Хотя и мягкий II класса, но старый, на пять купе, да к тому же холодный: водогрейный котёл испорчен. В других купе — казаки его конвоя и офицеры из роты охраны Ставки. Но раз Деникин специально за ним выслал на Пелагиаду поезд, пусть даже такой куцый, — акции его поднимаются.
Стянув чувяки с галошами и сняв поясной ремень с кобурой и шашкой, с наслаждением растянулся поверх ворсистого одеяла. Макушка и ступни упёрлись в холодные стенки. Накрылся шинелью... Жаль, нет времени вздремнуть: дорога близкая — 18 вёрст от станции Пелагиада до Рыздвяной, где его ждёт Деникин. И какого чёрта потребовалось главкому срывать его среди ночи? Что бы ни стряслось — ведь связь теперь обеспечена сносно: телеграфные линии в здешних местах хорошо развиты, и повреждённые быстро исправляются. Заработала наконец-то и дивизионная радиостанция. В общем, приказы и сводки больше, чем на полдня, запаздывать перестали.
Так что же? На фронте новая угроза? Или мерзавцы из Рады опять преподнесли пилюлю?..
...Вопреки расчётам и надеждам, взятие Ставрополя коренного перелома не внесло.
Красная армия Северного Кавказа, хотя и потеряла до 20-ти тысяч бойцов, отходила двумя трактами на Петровское организованно и не бросая огромных обозов. Арьергарды, заняв фронт по линии сел Михайловское — Дубовское, с необыкновенным упорством цеплялись за каждый хутор. Даже пытались контратаковать.
Наиболее опасным пунктом до нынешнего дня оставалось Михайловское: укрепившись там, всего в девяти верстах от Ставрополя и четырёх — от железной дороги на Кавказскую, таманские пехотные полки оправились и начали теснить обескровленные части 2-й и 3-й дивизий.
Вчера на рассвете с Рыздвяной пришёл приказ Деникина: разбить части таманцев в районе Михайловского. Пока они там, строго предупредил главком, Ставрополь не обеспечен.
Подняв по тревоге, Врангель собрал полки у монастыря. Сотни, на взгляд и по докладам, не пополнились, но и не поредели. Казаки приоделись к зиме: на плечах — кожухи и бурки, шеи обмотаны алыми башлыками.
Город покинул с лёгким сердцем. На рысях подойдя к Михайловскому — богатому и большому, до трёх тысяч дворов, селу, привольно раскинувшемуся вдоль истока речки Чла, — развернул и бросил в атаку бригаду Топоркова. Уманцы и запорожцы разметали цепи противника, залёгшие перед веткой на Петровское, и на его плечах ворвались в село. Красные кинулись на северо-восток, вдоль дороги на Дубовское — Казинское.
Отправив Бабиеву, Топоркову и Чекотовскому приказ преследовать их по пятам, перешёл со штабом в Михайловское.
Повсюду валялись зарубленные красноармейцы. Две сотни екатеринодарцев задержались в селе: неспешно обшаривали сараи и вытаскивали спрятавшихся в сене... На околице придирчиво сортировали пленных — где-то с тысячу набралось. На церковной площади интенданты вместе с полковыми комиссиями уже сновали деловито между телегами захваченного обоза.
Твёрдо вознамерившись подтянуть разболтавшиеся за время отдыха в городе тыловые службы и команды, угробил на это весь вечер. Пришлось и на благодарственном молебне постоять. Белокаменная Николаевская церковь выглядела бы совсем новой, если бы большевики варварски не повредили пулями прекрасный, в семь цветов, мраморный иконостас. Первого священника расстреляли прямо в церковной ограде.
Едва добрался до отведённого квартирьерами общественного дома, как радиостанция приняла телеграмму: приказание Деникина срочно прибыть к нему на Рыздвяную.
Пришлось поглотать всё на манер баклана, а хуже всего — в одиночестве. И винить, кроме себя, некого: не успел наглядеться после долгой разлуки, как назначил жену начальницей санитарной летучки дивизии. Гаркуша, не дожидаясь вопроса, обернулся в минуту и доложил сочувственно: раненых смерть как много, и Ольге Михайловне припало самолично перевязывать...
Тут ещё шофёр в лепёшку разбился, но убедил, что автомобиль по такой грязи не проедет. Ничего не оставалось, как на ночь глядя прогуляться четыре версты до станции Педагиада верхом. Но что поделаешь, когда главком вызывает...
Всю дорогу, почти час, одолевала сладкая дремота, нагоняемая чавканьем копыт. Неяркий лунный свет выхватывал из луж и грязи обочин белые бугорки — раздетые до исподнего трупы. Лошади всхрапывали и шарахались. Особенно пугался его кабардинец, но худо не без добра: помогал стряхивать дремоту. Давая шенкелей, поправлял папаху, озирался, всматривался в трупы: казаки или «товарищи» — не разобрать...
...Паровозные свистки разбудили в душе тревожное предчувствие. Непонятно, с чего вдруг...
Настроение Деникина переменилось к худшему: кустистые брови изломала хмурость, дымка мрачной отрешённости заволокла глаза. Отстранившись от зеленоватого света настольной лампы, он безвольно тонул в кресле.
— Противник не разбит. Мобилизует ставропольских крестьян. Тылы перебрасывает на Петровское...
Вслушивался Врангель в негромкий, более обычного хриплый и даже слегка спотыкающийся голос главкома и не мог избавиться от ощущения: всё это — прелюдия к какому-то крайне серьёзному разговору. А то и нелицеприятному. Ещё больше насторожил сидящий за приставным столиком Романовский: холёное лицо — сама невозмутимость, пальцы ловко поигрывают остро отточенным фаберовским карандашом, а взгляд словно прилип к разложенным перед ним белым листкам.
— ...Но что всего тревожнее — разведка зарегистрировала новые конные полки. Не партизанские отряды, а именно регулярные полки. И они сводятся в бригады... Мы с Иваном Павловичем уверены, что большевики положительно излечиваются от партизанщины и митингового управления. Точнее, мы сами их и лечим — тем, что бьём...
— Будем надеяться, Антон Иванович, окончательно разобьём ещё до того, как вылечим... — Романовский, подняв глаза на главкома, ободряюще улыбнулся.
Голос его удивил Врангеля необычайной мягкостью и теплотой. Даже сочувственные нотки послышались.
— Надеяться будем. Но не только... Помнится, Пётр Николаевич, вы соглашались командовать эскадроном... — Серое, без кровинки, лицо Деникина на миг посетила тень его обычного лукавства. — А корпусом согласитесь? Конным.
— Слушаю, Антон Иванович. — Врангель не шелохнулся. Только две вертикальные морщины над переносицей прорезались глубже.
— Вот и славно. Приказ Иван Павлович уже подготовил. Начальником штаба вы бы кого хотели?
Избежать заметной паузы Врангелю не удалось, и морщины пришлись как нельзя кстати.
— Полковника Соколовского... Прошу назначить его.
— Гм...
Взгляды Деникина и Романовского скрестились: искреннее недоумение и чуть разбавленное иронией сомнение сошлись и укрепили друг друга.
— Полковник Соколовский кончил только первый год в академии, когда началась война, — Романовский взял на себя труд объясниться, — и по Генштабу выше старшего адъютанта штаба дивизии не продвинулся. Причём пехотной... Так что для должности начальника штаба конного корпуса он как будто молод. Не находите, Пётр Николаевич?
Хлынувшая в душу Врангеля горькая досада быстро гасила только-только вспыхнувшее торжество, ещё хуже — мешала искать убедительные аргументы.
— Вовсе нет... Полковник Соколовский отлично зарекомендовал себя за время Ставропольской операции. Я очень доволен его работой. И казаки его приняли, как я успел заметить...
Уступать Врангель не собирался: лучше самому натаскать молодого «момента», ещё не обжёгшегося на молоке, чем выслушивать поучения старого, дующего на воду. Да вдобавок приставленного Романовским. Только соглядатаев Ставки в его штабе ещё не хватало.
— Ладно, быть по сему... — проговорил Деникин после краткого раздумья. И даже слегка прихлопнул ладонью по столу, словно призывая своего ближайшего помощника и друга пойти навстречу пожеланию новоиспечённого комкора. — Хорошо всё-таки, что начальников у нас не совдеп выбирает.
Поддержав вымученной улыбкой короткие смешки Врангеля и Романовского, продолжил:
— В корпус сводятся Первая конная и Вторая Кубанская дивизии. Немедленно снеситесь с полковником Улагаем. А кого бы вы порекомендовали начальником дивизии вместо себя?
— Полковника Науменко.
Седая голова Деникина качнулась еле заметно.
— Науменко теперь нужнее в Раде... Есть кого назначить временно исполняющим?
— Полковник Топорков. Офицер исключительной храбрости и непоколебимой твёрдости, отлично разбирается в обстановке.
— Хорошо. Теперь о вашей задаче, Пётр Николаевич... — Деникин, кряхтя, подался ближе к столу и жестом приглашая Врангеля подойти.
Не выказывая более никаких сомнений, Романовский живо вписал в проект приказа недостающие фамилии, передал его, открыв дверь в салон, дежурному офицеру и тоже склонился над картой.
— ...Преследовать противника в полосе к северу от железной дороги Ставрополь — Петровское. Отбросить за реку Калаус и перерезать его коммуникации на Святой Крест. К югу от вас будут наступать кубанцы Покровского и добровольцы Казановича. Но вот в чём беда... Вторая и Третья дивизии нуждаются в длительном отдыхе. И влитии пополнений. Поэтому основная тяжесть предстоящей операции ляжет на ваших кубанцев.
Пока обговаривали место и время сосредоточения корпуса, штаты управления и тыловых служб, ординарец принёс из ресторана кофе. Время ужина давно прошло, завтрака — не настало, так что крепкий кофе с молоком и желтоватыми кусочками пилёного сахара оказался в самый раз. Выпили по чашке, и тут подоспел отпечатанный приказ.
Подписав, Деникин с деланной строгостью погрозил стеклянной ручкой.
— И вот ещё что, Пётр Николаевич... Подтяните ваших интендантов. Они непозволительно задерживают передачу излишков трофейного имущества другим дивизиям.
— Но, Антон Иванович... — Врангель не хотел уступать и здесь. — Дело в том, что нет никакой возможности точно рассчитать потребности частей. Каждодневно убывают десятки раненых и больных, естественно — в полном обмундировании. Убитых хороним тоже одетыми. И одновременно надо одевать, обувать и снаряжать вновь поступивших.
— Но ведь к вам казаки поступают в своём обмундировании, не так ли? — Деникин построжал уже всерьёз.
— Не совсем так. За сентябрь и октябрь моя дивизия потеряла более трёхсот офицеров и двух с половиной тысяч казаков. Это почти сто процентов её первоначальной численности. А поступило около четырёх тысяч добровольцев и мобилизованных. И среди них с каждым днём растёт доля одетых и обутых в рванье. А потому в дивизионном интендантстве должен иметься запас как минимум на половину состава. Ежели не снабжать вовремя, ни раздевание пленных, ни грабежи обывателей никогда не прекратятся, а моральный облик армии никогда...
— Позвольте, Пётр Николаевич... В старых добровольческих полках, чтобы вы знали, после двух недель Ставропольской операции осталось по сто — сто пятьдесят штыков... — голос Деникина помертвел. — Настолько близки к гибели они были лишь однажды — в марте, под Екатеринодаром. А у меня нет иного способа быстро возродить, как только мобилизовать крестьян Ставропольской губернии. Тех, кого не успеет Федько... У них же, в отличие от кубанцев, нет вообще никакого обмундирования и оружия...
Врангель забыл об остывающем кофе. Желание возразить ещё подстёгивало, но все аргументы рассыпались под наполнившимся скорбью взглядом главкома.
— ...И от того, когда вы передадите излишки трофеев в армейское интендантство, зависит, как скоро я разверну пехотные дивизии в армейские корпуса. И выдвину на фронт для поддержки ваших же кубанцев.
Склонив голову в согласии, Врангель подосадовал: жаль, раньше не разгадал причину угнетённости Деникина...
— И уж коли, Пётр Николаевич, мы заговорили о моральном облике армии... Как вы могли допустить расстрел арестованных большевиков в ставропольской тюрьме? Ведь контрразведка только начала следствие по их делам...
— Виновный в бессудном расстреле мною арестован! — Выдержка не подвела Врангеля и тут: возмущение вышло в меру горячим и искренним. — Случилось так, что ко мне явился офицер, который отрекомендовался хорунжим Левиным, начальником особого отряда при ставропольском губернаторе. Я приказал ему принять в ведение тюрьму. А спустя несколько часов мне доложили, что он расстреливает арестованных...
Терпкая досада стремительно сгущалась, но он не дал ей смешать припасённые объяснения и тем более вырваться наружу: к вопросам по поводу расстрелянных в тюрьме и вырезанных в госпитале был готов.
— ...Я немедленно приказал арестовать хорунжего, но он успел расстрелять человек примерно сорок. По прибытии полковника Глазенапа я передал арестованного ему.
— И что тот?
— Обещал расследовать и наказать. Но я сомневаюсь: его собственный нравственный облик весьма незавидный. Апломба гораздо больше, чем умения разбираться в вопросах, входящих в круг губернаторской деятельности. Считает, раз он «первопоходник», так ему и закон не писан...
Едва заметив, как смущение и недовольство стали вытеснять с лица Деникина угрюмость, Врангель ужесточил тон:
— ...Пьёт сам и распустил подчинённых. Третьего дня устроили в городском театре спектакль для казаков. Так уже в первом антракте мне пришлось арестовать его личного адъютанта и двух чинов его штаба: все трое были вдрызг пьяны и отказались платить за шампанское. Да ещё, угрожая оружием, заставили буфетчика петь «Боже, царя храни»...
Будто заслоняясь от резкого, сильно осипшего голоса Врангеля, Деникин примирительно выставил обе ладони и прервал его:
— Ладно, Пётр Николаевич, я приму меры... Спектакль какой давали?
— «Мадемуазель Нитуш»...
Пройдя в вагон отделения связи, насквозь прокуренный, Врангель отправил Улагаю приказ о своём вступлении в должность командира 1-го конного корпуса и о сосредоточении всех частей к вечеру 8-го в деревне Тугулук...
На востоке пробился свет. Но туман не спешил рассеиваться, предвещая пасмурный и промозглый день.
Крепко ухватившись за холодные скользкие поручни, легко подтянулся и нырнул в черноту закрытой площадки. Споткнулся о ведро с чем-то тяжёлым, обо что-то больно ударился локтем, но тугую медную ручку нащупал сразу. Коридор, прежде тёмный, теперь худо-бедно освещался железнодорожным керосиновым фонарём-«коптилкой», без стёкол, повешенным на крюк в стенке. Прозвище своё оправдывал вполне: больше коптил, чем светил. Но ещё одно ведро — с угольными брикетами — помог заметить вовремя.
Всё же и от крохотного желтоватого язычка в душе Врангеля снова воспламенилось пьянящее торжество. Досада, однако, не испарилась.
В нос ударил едкий чад, заполнивший узкий коридор. Не иначе Гаркуша умудрился-таки раскочегарить котёл... Вот откуда взялись эти чёртовы вёдра! Но теплом пока не пахнет... Дверь в его купе почему-то открыта... А это ещё что за безобразие?!
На столике красовалась трёхногая шведская печка «Примус». Её венчала обгоревшая чугунная сковородка, на которой шкворчали кусочки сала. А на расстеленный поверх бордового одеяла свежий номер шульгинской «Россш» вперемешку навалены яйца и румяные сочники... Вот проныра! Газету, по видимости, в поезде главкома позаимствовал. А сочники где раздобыл — и чёрт вряд ли знает.
Жадно надкусил один — тёплый ещё, ароматный, но творога маловато...
А задница Глазенап, выходит, поспешил доложить о расстреле пленных. И, как водится, себя выгородил, а его обосрал. А Романовский случая не упустил — преподнёс эту кучу Деникину. А тот и впрямь, что ли, так доверчив? Доверчив или нет, но ясно как Божий день: за твоей спиной, Петруша, уже началась возня завистников... А чего же ты хотел? Зависть и интриги со стороны посредственностей — удел всякой неординарной личности. Не будешь в следующий раз таким растяпой. Случись что — сразу рапорт...
Стукнула дверь в коридоре, и через миг в купе влетел запыхавшийся Гаркуша. В зеленоватой четверти, бережно прижатой к газырям, плескалось жирное молоко.
Вознамерился было Врангель поддеть адъютанта, да осёкся: и сковородка на «Примусе», и четверть с молоком, и желтозубая гаркушина улыбка — всё исчезло с глаз, а развернулся белый лист с чёрным текстом, отбитым на пишущей машине и косо перечёркнутым фиолетовой чернильной строчкой. Издевательской и хлёсткой, как удар плетью:
Главнокомандующий прочитать не пожелал...
8—11 (21—24) ноября.
Михайловское — Дубовское — Констаптиновское
Ветер с севера подул несильный, но сырость и туман разогнал скоро. А небо наглухо затянул пепельно-бирюзовой пеленой. В тонких, но нервущихся местах невидимое солнце подкрасило её розовым.
Вместе с ветром над холмистой степью, плавно спускающейся к северу и востоку, нёсся мелкий и сухой снег. Чуть побелив её до самых краёв, он оставил темнеть многочисленные островки высокого бурьяна, широко разбросанные горбы древних курганов и искривлённые полосы дорог.
Слегка припорошённые снегом, двигались по ним шагом кони и люди — пять бригадных колонн 1-го конного корпуса...
Оставив с боями сёла Дубовское, Казинское и Тугулук, понеся большие потери убитыми, ранеными, больными и пленными, бросив часть обозов, полки Таманской армии спешили отойти за речку Калаус и закрепиться на её правом, восточном, берегу — на высотах плоскогорья и в большом селе Петровское. Но оставляемые у населённых пунктов арьергарды огрызались отчаянно и зло.
Сопротивление таманцев и стужа вынудили Врангеля дать дивизиям днёвку в Тугулуке: передохнуть, подтянуть обозы, заготовить фураж, подремонтировать телеграфные линии. Требовалось время и сформировать штаб корпуса. Как он решил, так Соколовский и исполнял безропотно: не дожидаясь, когда ещё там Ставка пришлёт кого-то, подбирал на штабные должности только офицеров регулярных войск — артиллеристов из батарей и кавалеристов из ординарческого взвода.
Сам, приказав согнать на площадь, к сельскому правлению, дубовских мужиков, держал к ним почти часовую речь. О мучениях Святой Руси под игом грабителей и насильников, о долге каждого истинно русского человека пожертвовать ради её освобождения всем достоянием и самой жизнью, о необходимости вернуть Русской земле настоящего её хозяина... Стоя без шапок, сивобородые мужики — молодёжь отсутствовала — поёживались от холода, чесали в затылках, кряхтели и переглядывались. Взгляды их были пасмурнее неба...
Ранним утром 10-го пути дивизий разошлись: 2-я Кубанская выступила на Благодатное, 1-я конная с приданной конной бригадой — в командование ею вместо заболевшего Чекотовского вступил присланный Ставкой генерал Чайковский — южнее, на Константиновское. Каждой своим маршрутом надлежало выйти к долине Калауса.
Улагаю выпало идти торным торговым трактом, Топоркову повезло меньше — просёлочными и полевыми дорогами...
Полки 2-й Кубанской, обогнув с севера село Кугульта, переправились вброд через речку того же названия, почти высохшую. И, смяв цепи красных, Благодатное взяли ещё по светлому.
Константиновское таманцы защищали до темноты, а потом без лишнего шума оставили село и по почтовому тракту, переправившись по мосту через Калаус, отошли в Петровское. Потеряв с ними соприкосновение и потому выждав недолго, шедший авангардом Корниловский конный полк без боя спустился в Константиновское. А к полуночи в него втянулась вся 1-я конная с приданной бригадой.
В ночь на 11-е, словно сорвавшись с цепи, резко и зло налетел из-за Каспия ледяной азиатский ветер, сбил куда более слабого северного собрата, очистил и осыпал звёздами уже голубеющее небо.
С рассветом дивизии выступили. Приказом командира корпуса им ставилась задача переправиться через Калаус и овладеть важнейшими пунктами на его правом берегу: Улагаю — селом Петровское, Топоркову — селом Донская Балка, расположенным у основания плоскогорья в 10 верстах южнее Петровского...
...Шли шагом, налегая грудью на ветер и щурясь на бледно-жёлтый солнечный диск, вознёсшийся над серой горной грядой. В авангард Топорков назначил свой бывший полк — 1-й Запорожский. Сам с парой офицеров штаба и дюжиной ординарцев от полков шёл между запорожцами и уманцами, строго следя, чтобы походные колонны не растягивались.
Негреющее солнце поднималось всё выше, а скаженный ветер кусал всё злее. Заполыхали багровым румянцем носы и щёки казаков, усы и туго намотанные алые башлыки посеребрил иней. Пар из лошадиных ноздрей вырывался всё гуще.
Огибая бугры, узкие полевые дороги полого спускались в речную долину.
По её дну резко и часто вилял с юга на север Калаус, сбегая с кавказских предгорий в Манычскую степь, — обросший высоким камышом, болотистый и дробящийся на рукава. Слева в него впадала Грачёвка, за летний зной пересохшая до плёсов и гниющих луж. Вдоль её левого, северного, берега тянулась железнодорожная ветка из Ставрополя на Петровское.
Долина раздвинулась в этом месте до полутора десятков вёрст. В отличие от её низкого западного края, восточный вздымался ввысь — до сотни саженей, — образуя плоскогорье, переходящее далее в бескрайние прикаспийские степи. Крутые серо-бурые обрывы, усеянные окаменевшими ракушками, походили на крепостные стены.
Из головного разъезда доложили: тот берег Калауса противником не обороняется. Перевалив по низкому переезду через одноколейку и без труда переправившись по слегка топкому дну через Грачёвку, колонна запорожцев уверенно двинулась к Калаусу.
На переезде Топорков остановил коня. Не снимая вязаных перчаток, слегка распустил заиндевевший башлык и достал из потрёпанного чехла свой старый «Цейсс»... Низкий деревянный мостик через Калаус цел. И другой, севернее, и третий... Но уж больно узкие — на телегу. Хотя и пеший, и конный, похоже, перейдут в любом месте. Да только валенки и чувяки в такую стужу лучше не мочить... А для повозок придётся поискать броды попрочнее.
Ходили волнами и золотились камышовые заросли. Брели маленькие отары овец, без пастухов... Никакого иного движения на правом берегу не заметил. Разбросанные по низине хуторки, названные Солёными, словно вымерли... Куда же запропастились красные голодранцы? Разве что на плоскогорье установили пушки. Но отсюда ни в какой бинокль не углядеть: слишком высоко... Заняли если позиции наверху — обеспечили себе господство над всей долиной.
Пока Топорков намётом догонял запорожцев, головная сотня уже вынеслась на восточный берег Калауса.
Тогда и обнаружил себя первым винтовочным залпом пехотный заслон: окопался на гребне песчаного обрывчика по обе стороны от просёлка. Головной разъезд, теряя убитых, кинулся назад.
Под редкими пулями Топорков развернул колонну запорожцев в двухшереножный разомкнутый строй. Дождался, когда переправятся уманцы, развернул и их. Указал направление — село Донская Балка. Погрозил всем и каждому увесистым кулаком: не разрываться! И скомандовал своей бывшей бригаде атаку.
А ветер стервенел всё пуще: шлифуя снежный покров, со свистом сдувал колкую порошу, закручивал и пригоршнями швырял в глаза, рвал сотенные значки и полковые флаги, задирал полы бурок и срывал башлыки.
Заслон оказался слабым. Не выдержав сокрушающего напора конной массы, красноармейцы побежали. Обгоняли их казаки, не рубя без разбору по затылкам...
Всё-таки разорвавшись, полки широким намётом отмахали за два десятка минут семь вёрст, с двух сторон обогнули небольшое озеро и ворвались в Донскую Балку с севера и юга.
Ещё засветло вся дивизия расположилась в селе, втиснутом между солёным озером и известняковым обрывом. Высокую кручу разрубили разной длины овраги, и по их дну, расходясь от трёх сторон села, вели на плоскогорье зигзаги трёх крутых дорог, больше похожих на тропы. По ним-то и отступили заблаговременно, сберегая людей и боеприпасы, полки Таманской армии...
...Петровское Улагаю досталось куда дороже.
Большое, за 3 тысячи дворов, торгово-промысловое село с трёх сторон притиснули к руслу Калауса горы, образующие угол плоскогорья, что простиралось отсюда, понижаясь, на юго-восток. Их крутые и местами присыпанные снегом серые склоны покрывали посаженные жителями дубовые, кленовые и ясеневые рощи, ровные ряды фруктовых деревьев и виноградников.
Торговым трактом из Благодатного попасть в Петровское можно было только по старому железному мосту, пешеходно-гужевому, перекинутому на каменных опорах через глубокое, до десяти саженей, ущелье, вырытое речкой. И, отдав без боя станцию на левом берегу, задешево отдавать мост, а с ним и село таманцы не собирались. В прилегающих улицах поставили линейки с пулемётами, заняли удобные позиции на склонах и, едва казаки пошли в атаку, встретили их пачечным огнём.
Пулемётных и винтовочных патронов у таманцев было вдоволь. И пули летели густыми роями, нашпиговывая подмерзший чернозём дороги, ведущей к мосту, и звонко стуча о железо настила и ограждений. Спешенные казаки не успевали выносить раненых и не рисковали оттаскивать убитых.
Заминка у старого моста заставила Улагая поискать удачу у нового — железнодорожного, построенного в двух с лишним верстах севернее, в мелком месте: проведённая через него одноколейка петлёй огибала угол плоскогорья и уходила на юго-восток, к крупному селу Благодарному. Посланные туда 1-й и 2-й Кубанский полки перешли Калаус вброд, сбили заслон таманцев и по просёлку, идущему из Никол иной Балки, ворвались в Петровское с севера.
Цепляться за дома и дворы таманцы не стали. Их отходящие пехотные части раздвоились вместе с трактом: одни, взобравшись на плоскогорье, двинулись к Благодарному, другие его пологим северным склоном — восточнее, к Камбулату...
...Донесения Топоркова и Улагая о вступлении в бой Врангель получил при въезде в Константиновское, куда он решил перенести штаб корпуса, радиостанцию и корпусную санитарную летучку. Там уже собрались полковые обозы 1-го разряда.
На околице, истоптанной за вчерашний день тысячами копыт, его встретил сельский староста — не слишком преклонных лет, по-господски плотный и осанистый, с полными бритыми щеками, мясистым носом в багровых прожилках и маленькими тёмными глазками, по-рачьи сведёнными к переносице. Одет он был на городской манер: в серую кроличью шапку и чёрное пальто с цигейковым воротом. Сопровождали его благообразного вида старики — представители сельского схода.
Поднеся хлеб-соль, староста кланялся подобострастно под колокольный трезвон, тонким гнусоватым голосом благодарил за избавление от красной нечисти и звал погостить в его доме.
Константиновским, сразу заявил авторитетно, село называется только на картах да в канцелярских бумагах, а жители, как и всю местность, именуют его иначе: Кугуты.
Весь источая преданность и готовность услужить, пока шли по присыпанной щебёнкой главной улице, объяснил охотно: ручей, что течёт по дну балки, испокон веку назывался Кугут, потому как берега его покрыты были непроходимыми зарослями куги, здешнего вида камыша. А крестьяне, добивались когда разрешения основать тут самостоятельное село, нижайше просили господина губернатора назвать его Александровским, в честь государя-императора Александра Благословенного, но приказано было именовать его Константиновским — в честь наследника и великого князя Константина Павловича...
— ...Вот и не прижилось. Так и зовут, стало быть, Кугутами. Да и станцию, что в шести верстах южнее, когда тянули чугунку на Петровское, так же прозвали. Так что Кугуты они и есть Кугуты, ваше высокопревосходительство...
Село удивило Врангеля отсутствием садов, наличием хотя и маленького, но не разграбленного почтово-телеграфного отделения, обилием всевозможных лавок, отличными, кавалерийских пород, лошадьми у крестьян.
Обстоятельно показывая свой внушительный дом, построенный из светлого камня и обставленный хотя и с крестьянской простотой, но дубовой, городской работы мебелью, староста пояснял с ещё пущей охотой и не без бахвальства, что и откуда. Камень-известняк добывается в двух каменоломнях, у села Кугульта... Вода в ручье гнилая, а потому на общественные деньги, вырученные от продажи пшеницы в Ставрополе, соорудили водопровод от источника... А мебеля приобретены в Ставрополе, где у него и своя собственная торговля заведена на Нижнем и Верхнем базарах... А ещё на общественные деньги устроили конный завод, приобретя породистых лошадок в Государственном коннозаводстве...
Отпив из поднесённого стакана — вода, и верно, оказалась чистой и притом вкусной, — Врангель встрепенулся:
— По какой цене продадите годных для строя? — Уже готов был приказать интендантам не пожалеть «ермаки» и даже последние «керенки», но закупить необходимое число лошадей для офицеров штаба и ординарцев.
Однако староста только посокрушался:
— Всех забрали и увели красные, что б им пусто было... — и его рачьи глазки без нужды забегали по комнате...
Воскресная литургия в построенной из того же светлого камня Иоанно-Богословской церкви затянулась. Служил первый священник, не тронутый большевиками... Врангель, прилёгший нынче под утро только на пару часов, еле держался на ногах, а ещё предстояло выступить перед жителями. Должны знать, кто освободил их... Не стал бы дожидаться окончания, да перед Олесей неудобно: молится сосредоточенно и как-то особенно одухотворённо, красивая и желанная до умопомрачения...
...Пока шла литургия, Гаркуша и его станичники-конвойцы по-хозяйски обходили богатые дворы: меняли своих заморённых лошадей на крестьянских, самых крепких и здоровых. Негодующие крики, слёзы и угрозы пожаловаться начальству пресекались угрожающим хватанием за рукояти кинжалов или ехидным вопросом: «Красным-то небось за спасибо отдавали?»...
...Уже спускался Врангель, бережно поддерживая жену под локоть, по скользким ступеням паперти, когда подскочил к нему прапорщик-связист, взбудораженный счастливым волнением. Молодое безусое лицо сияло ярче чистого полуденного неба, даже слёзы блеснули... Выпустив локоть жены, развернул телеграфный бланк.
Радиостанция Ставки передала, не тратя время на шифрование: англо-французская эскадра в составе двух крейсеров и двух миноносцев вошла в Новороссийскую бухту... Наконец-то, чёрт бы их побрал! Вот теперь бы в самый раз вернуться в храм и отблагодарить Всевышнего. Ну да ничего, ещё отблагодарит — за первую же доставленную из Новороссийска партию артиллерийских и винтовочных патронов...
Подняв над папахой затрепетавший на ветру сиреневый бланк, громко объявил во всеуслышание... Офицеры снимали только что надетые фуражки и папахи, крестились, поздравляли друг друга и целовались, как на Пасху. Жена, приобняв и уткнувшись лицом в плечо, расплакалась...
Мало кого удалось казакам согнать на продуваемую ледяным ветром церковную площадь: из десятка тысяч взрослых — не больше полутора. Да и то в основном баб, до глаз укутавшихся в пуховые платки и длиннополые выворотки. И совсем не заметил Врангель молодых парней. Потому говорил хоть и с подъёмом, но недолго. Вдобавок засипело горло, стало зябко в одной шинели — фуфайку-кожанку не догадался пододеть — и захотелось поскорее вернуться в жарко натопленный дом старосты.
Сидели тесной штабной компанией за богато накрытым столом, отогревались огненным борщом из кислой капусты со свининой и крепко заваренным русским чаем, с плантаций Чаквинского удельного имения... И тут порадовал даже Казанович: оставив у себя 2-й Черкесский, отпустил-таки 1-й Линейный, и полк вот-вот должен выступить на Константиновское, чтобы присоединиться наконец к своей дивизии. Вернув телеграмму Гаркуше, Врангель распорядился отправить навстречу Мурзаеву разъезд ординарцев с приказом изменить направление на Донскую Балку...
Комнату, приготовленную старостой, нашёл чисто убранной и вполне приличной: медный рукомойник и эмалированный умывальник, трюмо с большим зеркалом и широкая железная кровать с высокой спинкой у изголовья и горой розовых пуховиков. Хотя и в одно окно, и венских стульев слишком много: садись, где душе угодно, но сначала протиснись туда... Зато под белёным потолком ярко светит керосиновая лампа «Миллион» — с круглой горелкой и шарообразным, чуть матовым, стеклом. И вонью из кухни не сильно тянет.
Всё обещало долгожданный отдых и крепкий сон.
Показывая комнату, староста интересовался настойчиво, не надобно ли ещё чего. Ласково отблагодарённый генеральшей, с поклоном пожелал «её высокопревосходительству» покойно почивать.
Обеденный стол в гостиной успели убрать, и Соколовский, косясь на старосту, уже раскладывал бумаги с картами... А тот всё не уходил: принялся, опередив Гаркушу, выведывать, чего приготовить на завтрак.
Уже собрался Врангель, весь выжатый усталостью, выпроводить не в меру гостеприимного хозяина, как тот взял и дорассказал вполголоса историю села: честь-честью просили, значит, всем миром господина губернатора, а как приказано было именовать село Константиновским — обиделись крепко и стали промеж собой звать Кугутами. А 6-м году заварили кашу, да такую крутую, что прислал губернатор воинскую команду с пушкой, и та с полдюжины зарядов по селу выпустила, пока сход не выдал зачинщиков... И тех, кого из пушек убило, и тех, кого на лютую расправу и в Сибирь выдать пришлось, мужики старому режиму не простили и прошлым летом сполна душу отвели и на богатых землевладельцах окрестных, и на господине земском начальнике, и на становом приставе с полицейским урядником... Вот потому-то многие, особо голытьба, пропившие разум пьяницы, озлобившиеся фронтовики и молодняк зелёный, да ранний, — все скопом в большевики подались и с красными ушли...
— Послушай-ка, любезный, а твои-то сыновья где?
— Умерли оба во младенчестве... Одни дочери остались, — вздохнул тяжело и перекрестился староста, но тут же и похвалился: — Всех трёх за хороших людей выдал. Две в городе живут, как барыни образованные...
Крыл староста «совдепы» последними словами и винился тоном за односельчан, но глазки его рачьи, как ни прятались, произвели на Врангеля скверное впечатление: какие-то стали по-воровски хитроватые. Не сочувствует ли, толстодом гнусавый, в душе «товарищам»?..
Но испортил настроение всё-таки не староста, а Казанович. Из сводки его штаба, доставленной с телеграфа станции Кугуты уже перед полуночью, выяснилось: 1-я дивизия встретила упорное сопротивление, села Спицевское не взяла и отстала на три с лишним десятка вёрст.
Врангель впился в карту: село — десятью вёрстами южнее железной дороги, на высотах правого берега Грачёвки... Какого тогда чёрта было отпускать линейцев?! А ведь перед фронтом Казановича, ежели верить разведке, — не стойкие части Таманской армии, а «колонны» какие-то, собранные из полуразложившихся пехотных полков и отрядов. Как ни крути, «первопоходник» и «несравненный таран» — тот ещё вояка...
Победные донесения Топоркова и Улагая — о взятии сел и захвате сотен пленных, десятка пулемётов и даже одного орудия, — приправленные торжествующей улыбкой Гаркуши, прежней радости не вернули: такое сильно выдвинутое положение может соблазнить «товарищей» нанести контрудар. И точно в неприкрытый правый фланг его корпуса. Даже в тыл! И тогда весь его успех — псу под хвост... Но есть ли у них ещё силы после стольких поражений? Огнеприпасы, по видимости, есть...
Решив, что утро вечера мудреней, кинул измятую сводку поверх карты и пожелал Соколовскому спокойной ночи.
Дверь в свою комнату — лампа, хотя и пригашенная, ещё светила — открывал осторожно и затаив дыхание...
12 (25) ноября.
Константиновское — Донская Балка
Долгая ноябрьская ночь обессилила ветер...
— Тревога, ваше превосходительство! — Ни в полный голос Гаркуша звать не осмелился, ни кулаку волю не дал. — Красные!
Проворно скинув ноги с застонавшей кровати, Врангель босиком прошлёпал по холодному деревянному полу к двери. Едва приоткрыл, в узкий проем вместо вихрастой головы просунулась рукоятью вперёд шашка.
— Посты палили! На юге чи на... — Адъютанта перебила вспышка стрельбы. — Не, точно на юге. Позавтракать не дадут, сволочи!
Совсем близкая, прислушался Врангель. И где-то, вернее, на юго-восточной окраине, куда подходит дорога от станции Кугуты... Остатки сладкого сна как рукой сняло.
— Седлать коней!
— Та вже седлают.
Стрельба зачастила.
Мягко захватив длинными костистыми пальцами выглянувшее из-под ватного одеяла округлое плечо, обтянутое цветастой фланелью ночной рубашки, встряхнул слегка.
— Олесинька, поднимайся!
Дрогнули припухшие губы, ровное и едва слышное дыхание сбилось, затяжной вздох перешёл в лёгкий стон — и она вскинулась разом, отбрасывая одеяло и ловя мужа затуманенным взором.
— Что, Петруша?!
— Большевики!
К отполовиненному рукомойнику не притронулся — оставил потеплевшую за ночь воду жене. Рывком протаскивая ремень сквозь пряжку, шагнул в гостиную. Соколовский, ещё без френча и без пробора, набивает документами чемодан. Второй стоит уже застёгнутый.
— Село атаковано противником. Полагаю, подошедшим со стороны Спицевского. Численность не известна...
Паники в голосе начальника штаба, хрипловатом спросонья, не уловил.
— Приведём в известность, куда деваться...
Толкнув дверь заднего крыльца, выбежал во двор.
Конвойцы и ординарцы — три десятка всего — затягивают подпруги... Одеться мало кто успел. Утро ясное. Ветер будто бы ослаб. А холодина ужасная, чёрт её дери! Лязгнул засов — Гаркуша, уже в своём белом кожухе и при шашке, отворяет тяжёлые ворота... «Руссо-Балт» — без признаков жизни, а шофёра с помощником и след простыл. Тряпки промасленные!
— Василий! Шофёр где?
— Самому смерть как охота узнать! Виноват...
Заскочил на кухню — пустая и холодная. Угольная печь не растоплена, на конфорке — широкая алюминиевая кастрюля, полная чистой воды. Двумя пригоршнями и лицо освежил, и смочил пересохшее горло.
У двери в комнату замер на миг — не открывая, выкрикнул:
— Олеся! Умоляю, скорее...
Сорвав с крючка шинель, вылетел на переднее крыльцо.
Нервно топчут смёрзшийся снег, раздувают ноздри и дёргают головами, норовя вырвать поводья из крепкой гаркушиной руки, два коня: молодой вороной рысак русской породы, новый какой-то, и его кабардинец. Третий — светло-серый донской жеребец, тоже новый — стоит смирно, лишь покосился на торопливый топот его галош по крыльцу. Прямо красавец, крупнее и выше кабардинца, с густой длинной гривой... И даже под кавалерийским седлом!
— Что за конь?
— Полковника Мурзаева для вас гостинец. — Гаркуша прицокнул языком одобрительно. — У красных отбитый... С ординарцами прислал.
— Послушный?
— Як деревянный на плацу.
— Сам опробовал?
— А як же!
— Козла даст или закинется — башку оторву.
— Ну дак шо? — осклабился Гаркуша. — И понужней абы-шо имеется...
— Тоже оторву.
— Старосте наперёд оторвите! — Озорства в зычном голосе и зелёных глазах адъютанта сразу поубавилось. — Шо б мне всю жисть с ладони йисты, коли не мужики тутешние красных наслали...
Не вставляя ногу в стремя, Врангель запрыгнул в седло. Дончак остался недвижим. Отличный конь! А толстодома гнусавого, и верно, не видать. Ну и растяпа же ты, Петруша! Ничего не придумал глупее, как свернуть Мурзаева на Донскую Балку... 1-й Линейный — дороже любого жеребца был бы теперь гостинец. И вышло, как папа говаривал: «Не чёрт толкал — своей головой попал!» Ах ты...
Ругательство проглотил: на крыльцо выбежала запыхавшаяся жена. Волосы не прибраны, никак не попадёт в рукав шубки чёрного каракуля, пушистым белым хвостом развевается зажатая в кулачке старая шаль... В побледневшем лице и распахнутых серо-голубых глазах — сосредоточенность, но никакого страха и никаких упрёков.
Гаркуша несмело протянул руку — поддержать, коли что, генеральшу под локоть. С другого бока кинулся находчивый Оболенский... Но Врангель справился сам: передав поводья адъютанту, подхватил жену под мышки, поднял рывком и мягко усадил перед собой боком...
...Около полуночи конный разъезд из 1-й Кубанской революционной дивизии Демуса, высланный в разведку к станции Кугуты, приметил одиночного всадника. Скакал тот навстречу через скошенные поля не разбирая дороги, словно в одурении. Еле остановили... Не отдышавшись, крестьянский парнишка выпалил: в их селе Кугуты, оно же Константиновское, заночевал целый генерал, а при нём офицерье и богатые обозы, но никакого войска...
Вестника доставили в Спицевское, где собралось несколько штабов колонн и дивизий Красной армии Северного Кавказа. Долгих совещаний их командиры и комиссары устраивать не стали: счастливая возможность ударить в оголённый тыл врага и захватить штаб выпадает не часто. В ночной рейд решили бросить Тимашевский пехотный полк.
Сформированный из иногородних крестьян станицы Тимашевской и ближайших к ней хуторов, полк потерял при отходе из-под Ставрополя до половины бойцов: в строю осталось немногим более двух сотен. Крайне утомлённых непрерывными боями, только что разбредшихся по отведённым квартирам на ночёвку, их подняли по тревоге. Для верности посадили на собранные наспех по дворам телеги, запряжённые в пару, и придали батарею из двух трёхдюймовок.
Хотя за ночь ветер поутих, четырёхчасовой путь по выстуженной степи вконец измотал и застудил красноармейцев. Солдатские длиннополые шинели и репаные серые шапки с отворотами тепла не сберегали, а греться куревом запретил командир[75]... Одолев 25 вёрст — полевыми дорогами вниз в долину, потом по мосту через речку Грачёвку, и далее мимо станции по просёлку — к рассвету скрытно подошёл к Константиновскому.
Передовая цепь — до двух взводов, — согреваясь на бегу, сбила сторожевое охранение казаков и ворвалась в юго-восточную окраину...
...Полковые и артиллерийский обозы 1-й конной дивизии ещё накануне вечером получили приказание с рассветом перейти в Петровское. Поэтому ездовые, обозные и неполная полусотня прикрытия уже были на ногах и одеты, многие повозки — запряжены и выведены со дворов на улицы.
Одни, посдёргав с плеч винтовки, залегли, где пришлось, и принялись яростно отстреливаться. Другие, сталкиваясь и матерясь, гнали обозы к северной окраине. Несколько казаков, пока красные не охватили село с востока, успели вырваться и, кто в седле, кто охлюпью, сломя голову кинулись вниз к бугристому берегу долины — за подмогой: на той стороне Калауса — вся 1-я конная.
Рявкнули трёхдюймовки, поставленные на дороге в версте от села. Первые шрапнели дымно лопнули высоко над крышами.
Воодушевившись, красноармейцы поднажали, оттеснили казаков к центру и всё-таки отхватили хвосты нескольких обозов. А с ними и летучку. Доктор успел спрятаться на гумне, а медсестра, схватившись за кнут и вожжи, пыталась умчаться на санитарной линейке, да замешкалась. Вцепились и в линейку с радиостанцией... Но молодой генерал Беляев, несколько дней как назначенный начальником артиллерии корпуса, выскочив из дома в одной нательной рубахе, матом и «наганом» собрал три десятка солдат артиллерийского обоза, бросился с ними в штыковую и отбил её.
Врангель со штабом, его ординарцы и конвой вынеслись из села с северной стороны — на просёлок, поднимающийся в Благодатное.
Спустя пару минут вдогонку за ними проревел «Руссо-Балт», виляя на наледях и отстреливаясь выхлопной трубой...
...Выступив с рассветом из Донской Балки и соседних Солёных хуторов, пять полков 1-й конной дивизии — среди ночи подошёл и 1-й Линейный — и два полка бригады Чайковского полезли на плоскогорье. Казаки, ведя коней в поводу, с трудом одолевали скользкую с морозной ночи крутизну. Колонны растянулись. Изрядно отстав, почти час карабкалась 2-я конно-горная батарея: упряжные лошади дымились паром, номера натужно налегали на колёса четырёх трёхдюймовок.
Выбравшись наверх, авангардом двинулся 1-й Уманский полк. Направляющая — тракт на село Рогатая Балка.
Белесоватое солнце не грело, а лишь слепило безжалостно. Не знал жалости и скаженный ветер: дул затяжными порывами, неистово и неуёмно, валил из седел, пронизывал кожухи и бурки. Меньше мёрзли те, кто сменил чувяки на отобранные у мужиков валенки.
Походные колонны не прошли и пары вёрст — четверти расстояния до Рогатой Балки, — когда натолкнулись на стену пуль: навстречу, ощетинившись штыками, с обеих сторон от дороги уверенно шагали длинные и густые цепи красной пехоты. За ними катили пароконные линейки с пулемётами.
Ветер подталкивал красных в спину, а в казачьи лица швырял сиплые протяжные слова: «Это е-есть наш по-сле-е-едний и реши-и-ите-ельный...»
Не выдержав, казаки попятились. Но Топорков, живо раскидав ординарцев, удержал дивизию в руках: батарее — не потерять бы орудия — приказал спуститься вниз, полкам — спешиться и рассыпаться в цепи. Выполнили, вопреки обыкновению, с удовольствием: широко растянув цепи через скошенные поля, укрылись за высокими, срубленными выше колен и уже высохшими будыльями. Коноводы рысью отвели лошадей на версту, за каменистые пригорки.
Позиции на левом фланге занял 1-й Черноморский полк, на правом — Корниловский конный.
Артиллеристы, наглухо затормозив колёса, живо соскользнули в долину. Орудия чудом не опрокинулись на резких поворотах тропы.
Помня о быстро пустеющих подсумках и патронташах, огонь казаки вели редкий.
Ещё реже поддерживала их батарея, занявшая боевую позицию на холме почти у самого подножия высоченного обрыва. Задрав короткие стволы в чистое небо, горные трёхдюймовки вслепую швыряли через гребень последние гранаты. Иногда, вздымая чёрные столбы земли и дыма, они разрывали красноармейские цепи, иногда ложились опасно близко к казачьим.
Красные остановились и залегли шагах в пятистах. Азартно охотясь мушками за всем, что показывалось поверх будыльев, жали на спуск без промедления. Стрельбу то и дело ожесточали их пулемётчики. Огонь был таким плотным, что о конной атаке нечего было и думать. Казакам оставалось изредка постреливать для острастки да молить Бога, чтобы очередная граната не свалилась по ошибке им на голову.
Как вдруг по цепям вихрем пронёсся будоражащий слух: красная конница налетела на Константиновское и захватила в плен весь штаб корпуса. Вместе с самим генералом Врангелем! Кто-то не поверил: «Та брешуть...» Кто-то всполошился: «А ну как правда?..»
Слух, сколь ни был невероятен и страшен, хотя бы отчасти подтвердился тут же: запорожцы повскакивали на ноги и побежали к коноводам, а те, ломая высокий бурьян, уже неслись карьером вместе с конями им навстречу.
Тех и других зажатой в кулаке подвёрнутой плетью отчаянно подгонял есаул Павличенко[76] — временно командующий 1-м Запорожским полком. Давно не мальчишка, но ещё тонкий и изящный по-горски, знатный танцор лезгинки стоя в седле, он вскочил, не обращая внимания на посвист пуль, на пригорок, чтобы казаки в этой сумятице отчётливо видели знаки его команд. Тем проще было ему самому заметить короткий взмах руки начальника дивизии: зачем-то подзывал ещё раз. Коновод уже подскакал с его ахалтекинским жеребцом чалой масти. Перехватив брошенные поводья, взлетел в седло и поймал стремена.
В повышенным до крика голосе Топоркова прорвалась визгливость:
— Если красные из села ушли — преследовать! И барона отбить! Лучше живым... — И вдруг её сменила угрюмая сипота: — Но дуром на Спицевку не при... Береги полк.
Ничего не разглядев в чуть раскосых, задымлённых гневом глазах начальника дивизии, Павличенко вместо руки молча поднёс к чёрной папахе подвёрнутый хвост плети. Его ретивый ахалкетинец егозил под ним и просил повода. И получил наконец — наотмашь по крутому крупу.
Запорожцы, не разобравшись по сотням, с места в намёт понеслись в долину и разом исчезли за гребнем, будто сквозь землю провалились.
А Топорков, не давая ещё разгорячённым обозным казакам ни очухаться, ни зеленоватый ил счистить с чувяк и валенок, — принялся трясти их за душу: откуда напали красные, каким числом, пехота то была или конница да точно ли видел кто собственными глазами, как пленили командира корпуса...
Отвлекло «позвольте обратиться» казака 1-го Черноморского полка, прискакавшего с левого фланга. Доставленная им записка генерала Чайковского была краткой и ясной: ввиду того, что командир корпуса генерал Врангель попал в плен к противнику, он, генерал Чайковский, как старший начальник вступает в командование корпусом и приказывает немедленно начать отход к Донской Балке.
Отборная матерщина с визгом изверглась из перекошенного полковничьего рта, хлестанула по ушам ординарцев... Даже у них, давно привыкших к ругани «нашего Топорка», папахи втянулись в квадратные плечи бурок...
...В село запорожцы ворвались лавой.
Дом старосты, где ночевал штаб корпуса, оказался пуст. Принялись ломиться к соседям: видел кто или нет, что сталось с генералом?
Павличенко, волчком крутясь в седле, разрывался на части: за каким же зайцем кидаться вдогонку? Всё село перешерстить? Разъезды разослать во все стороны? Или преследовать колонну красных? Хвост её с околицы виден и без бинокля: ещё на насыпи, по которой дорога уходит на станцию Кугуты. Да только казаки и коней загнали, намётом проскакав два десятка вёрст то с горы, то в гору, и сами взмокли — исподнее впору выжимать...
Но командир корпуса тут же нашёлся сам: как ни в чём не бывало въехал рысью на церковную площадь.
Облегчённо отдуваясь, Павличенко смахнул папахой струи пота с распаренного лица — почти что перекрестился: целый и невредимый барон, и не в плену у красных, а в окружении аж трёх десятков кавалерийских офицеров-ординарцев и казаков-конвойцев, да ещё вместе с жинкой.
Укрепив папаху на голове, поскакал навстречу.
Никакого доклада Врангель слушать не стал. Бережно помог жене сойти на землю, а потом прибил дончака вплотную к ахалкетинцу, приобнял командира запорожцев и с громким чмоканьем поцеловал в пылающую щёку. Построить полк, радостно созываемый трубачом на площадь, не приказал. Запросто хлопал по плечу съезжающихся офицеров, взводных урядников и рядовых казаков. Широко улыбаясь, благодарил горячо, обещал не забыть и называл орлами.
Опасались поначалу запорожцы, что корпусной командир, озлившись на картузников[77] за дерзкий налёт, посажёную на подводы пехоту велит нагнать и шкуру спустить, но нет, хвала Богу. И радостное его возбуждение быстро передалось всем вокруг.
12 (25) ноября.
Константиновское — Донская Балка — Петровское
Аппетит у Врангеля разыгрался волчий.
Сельский староста с женой ещё не объявились, и Гаркуша вывалил на стол всё, что нашёл на кухне и в погребе: солёное сало, окорока, ошейки, копчёных гусей, вяленую рыбу...
— Раз позавтракать сволочь красная не дала, так одним заходом и пообедать треба.
Но только Врангель взял в руки нож с вилкой и нацелился на гусиную ногу, как поднесли ложку дёгтя — тревожное донесение Улагая: 2-я Кубанская дивизия, едва заняв позиции к северо-востоку от Петровского, на рассвете была атакована превосходящими силами Таманской армии и ввиду недостатка патронов положение крайне тяжёлое. Пришлось отложить гусятину до возвращения из Петровского: оставить село — создать угрозу левому флангу Топоркова.
Свою ложку дёгтя подсунул и шофёр, гордый, как индюк, собственным геройством — спасением автомобиля. На 16 с лишком вёрст до Петровского, заявил безапелляционно, бензина хватит, а обратно доехать — никак нет, а получится ли там раздобыть — бабушка надвое сказала.
Врангель только руками развёл. Тот ещё герой! Трусости их двоих с помощником и на эскадрон хватило бы. Но нюх на неустойки у чертей промасленных — феноменальный. Как у лисы на кур... Так что скорее всего Петровского Улагай нынче не удержит. Ежели только Гаркушу взять — тогда бензин точно найдётся... Да нет, не нужно его срывать: пусть остаётся рядом с Олесинькой — так на душе спокойнее. Да и должен же кто-то умять гору хозяйских окороков.
Приказал оседлать дончака, уже рассёдланного, и полувзводу ординарцев через четверть часа быть готовым к выступлению.
Тут и третью ложку приподнесли: красные, как выяснилось, добрались и до обоза штаба корпуса. И вместе с прочим имуществом прихватили старый портплед с его личными вещами. А среди них, самое обидное, были тёмно-синий костюм из английского шевиота, что одевал последний раз в Киеве, и любимый мундир с полевой фуражкой. Всю Великую войну в них проходил и только на Кубани сменил на черкеску с папахой. А главное — письма Олесиньки...
Последние приказания Соколовскому, порывисто обматывая вокруг шеи алый башлык, отдавал уже в сенях, больше похожих на городскую прихожую.
— ...Две сотни запорожцев оставить как конвой при штабе. Пока не сформируете комендантскую сотню... Село перевернуть вверх дном! — Злость хотя и запоздала, но своё взяла. — Всех, кто сочувствует большевикам, — арестовать и выпороть как следует...
— Полагаю, корпусную контрразведку необходимо усилить.
— Давно пора! Интендантам бесплатно реквизировать для казаков семьсот пар валенок. И тут же раздать. Первым — запорожцам...
— У офицеров штаба и ординарцев, ваше превосходительство, имеются только сапоги... — озабоченно напомнил Соколовский, отворяя перед начальником дверь.
— Тогда восемьсот. И ещё наложить на село контрибуцию... Сто тысяч. Что у них тут? Хлебная торговля... Конный завод, якобы разграбленный «товарищами»... Значит, двести!
На дворе царил ярко-голубой полдень.
Смирно стоящий дончак на этот раз даже не покосился на топот его галош. Благодарно похлопал его по тёплой шерстистой шее: выше всяких похвал оказался жеребец. И статен, и нрава доброго, и не тряский.
Приняв поводья из рук Оболенского, вставил ногу в стремя, легко и размашисто уселся в седло.
— Да брать сначала романовские, а уж потом «керенки». Старосту и сельское правление не трогать. Но пообещать повесить, ежели не соберут к завтрашнему утру, сволочи...
— Слушаю. — Идеальный пробор Соколовского, склонившись, выразил полное согласие и готовность выполнить все приказания столь же безупречно.
— И напишите наградной лист на Гаркушу.
— Какой?
— Для производства в сотники. Что у него там с выслугой?
— Не хватает ему на выслугу. Что-то около...
— «За боевые отличия» напишите.
— Слушаю, — пробор склонился ещё ниже...
Ветер и солнце отлакировали тонкий снежный покров, и пятнистая степь заблестела ослепительнее клинка. От обжигающего холода и нестерпимого блеска глаза заслезились. Ни с того ни с сего засаднило в горле и потекло из носа. Наглотался, предположил Врангель, ледяного ветра, когда из села выскакивали утром.
Почтовый тракт, полого спускающийся к Петровскому, замостила тонколедица, и на рысях дончак слегка скользил. Другие лошади, заметил, тоже... По-умному ежели — самое время перековать... А хватит ли, любопытно знать, у этих бездельников интендантов подков на две дивизии?
Потянув правый повод, коленкой мягко подбил дончака на кромку поля. Так же, повинуясь взмаху его руки, одетой в меховую перчатку, поступили и ординарцы...
Впереди серой стеной вставали склоны плоскогорья.
Через полтора часа пути Петровское стало вполне различимо: величиной — почти городок, тёмные и светлые крыши прижались к самым кручам, кое-где взобрались наверх... До слуха долетела разреженная артиллерийская канонада...
До села оставалось версты две, когда Врангель заметил впереди, где тракт брал левее, казака. Странная какая-то картина: замер у обочины, неестественно пригнувшись, опёрся на шашку, а другой рукой схватился за бок. То ли поднялся только что, то ли упадёт вот-вот... Лошадь стоит чуть поодаль. Может, там засада? Нет, услышал бы выстрелы...
Вытянулся казак, припадая на одну ногу, и, прекратив потирать ушибленный бок, с натугой отдал честь подскакавшим. Приоткрыв рот в изумлении, немо таращил глаза из-под мохнатого края папахи, будто что-то несусветное перед ним предстало, а не генерал.
Его гнедая кобылица, заметил Врангель, тоже явно не в себе: приседает и перебирает задними ногами, седло съехало, повод оборван... Либо на повороте поскользнулась, мелькнула догадка, либо когда горе-казак толкнул её из крупной рыси в галоп. И куда ж несла его нелёгкая?
Доложившись приказным 1-го Черноморского полка, посланным генералом Чайковским к генералу Улагаю, казак, кряхтя, достал из-за борта кожуха вчетверо сложенный листок. Подал, поглядывая с опаской.
— С чего это вдруг Чайковским?
Почерк — почти каллиграфический, но слезящиеся глаза не сразу связали серые палочки, кружочки и завитушки в ясно различимые буквы: ...командир корпуса генерал Врангель... попал в плен... генерал Чайковский... как старший начальник вступаю в командование... немедленно начать отход к Благодатному...
Бешенство удушающей волной накрыло заколотившееся сердце и кинулась в голову. Ах ты, задница! На всю Ставропольскую губернию решил раструбить, что барон Врангель в плен попал?! С бригады сразу на корпус прыгнуть?! А чёрта лысого не хочешь?! А в эскадронные командиры?!
Осаживая себя, сдёргивал с правой руки перчатку... Пошарил в полевой сумке и извлёк остро заточенный карандаш. Подумав секунду-другую, расписался, как полагается, в прочтении. А потом вывел разборчивее обычного: В плен не попадал. Приказываю наступать. Генерал Врангель. Обломил-таки тонкий грифель, размахивая хвостовую завитушку.
— Очухался, приказный?
— Так точно, ваше превосходительство.
— Тогда галопом обратно, — и протянул, не склоняясь, листок. — Вручишь тому, кто послал.
— Слушаюсь! — Черноморец и впрямь ожил.
В отличие от нервного кабардинца, дончак стойко перенёс без нужды резкие шенкеля...
Тракт пересёк железнодорожное полотно.
На переезде, разведя большой костёр, основательно расположилась сильная, до взвода, застава 1-го Лабинского полка. На чёрных кожухах ярко белели башлыки. Ветер нёс едкий дым прямо в лицо.
В полуверсте слева теснились каменные и деревянные постройки — железнодорожная станция Петровск.
Отсюда она виделась пустой и заброшенной: вокруг светлого здания вокзала с коричневой крышей — ни души. На путях — ни одного вагона или паровоза... Явилась было мысль проехать взглянуть, всё ли цело и работает ли телеграф, но Врангель тут же отогнал её. Какого чёрта там смотреть? Заранее известно: всё увели и растащили «товарищи». И что плохо лежало, и что хорошо... Сначала, Петруша, через Калаус перепрыгни, да так, чтобы обратно отпрыгивать не пришлось, а потом и «гоп» говори — размещай на станции штаб, телеграф ремонтируй...
Въезд на железный мост тоже охранялся заставой лабинцев. Трещали и бились на ветру два костра.
Село, облитое солнечным светом, поразило Врангеля ночной пустынностью. И тишина стояла бы кладбищенская, не доносись из-за гребня гул боя и не заливайся собаки за высокими дощатыми заборами. Кроме них признаки жизни подавали только печные трубы...
Узкая и кривая, но зато мощёная щебнем улочка вывела на булыжную площадь овальной формы. И только там встретили людей — разъезд лабинцев. Казаки поили лошадей прямо из устроенного посреди площади бассейна, где собиралась прозрачная вода, стекающая по трубам из горных источников. Они охотно и толково объяснили, помахивая во все стороны овчинными варежками, где почтово-телеграфная контора, где сельское правление, где больница, а где рынок и ярмарки бывают. И как подняться наверх, к позициям дивизии.
Получив разрешение ехать, направились к мосту. Посреди безлюдья подковы как-то особенно звонко цокали о чисто подметённый, хотя и не слишком ровный булыжный настил.
Площадь обступили одноэтажные, но на высоком фундаменте и с полуподвалами, дома из светлого камня-известняка. Кое-где фасады украшали по-простому нарисованные вывески торговых заведений: мануфактурный магазин Тамбиева, железо-скобяная и посудная торговля Пашкова, смешанная торговля братьев Зиберовых... А двери и оконные ставни, несмотря на понедельник и послеобеденное ещё время, заперты широкими засовами и тяжёлыми замками. Не поддалась руке ординарца и высокая дверь каменной Николаевской церкви.
В этих замках и засовах, наглухо затворенных окнах и запертых дверях Врангель остро почувствовал равнодушие... Или это страх? Отчего притаились жители? Его боятся? Или уверены, что «товарищи» вот-вот вернутся... С чего вдруг такая уверенность?
Три ординарца под командой ротмистра Оболенского, посланные на почтово-телеграфную контору, обернулись быстро: служащие на местах, два офицера из штаба 2-й Кубанской дивизии опрашивают их и просматривают ленты, аппараты в исправности. Но связи со Ставрополем нет из-за повреждений проводов — то ли ветер оборвал, то ли порубили.
— А со Святым Крестом и Минеральными Водами?
— Не догадался спросить, ваше превосходительство. — Оболенский признал своё упущение с княжеским достоинством. — Прикажете ещё раз съездить?
И тут же находчиво воспользовался и секундным раздумьем, и давней благосклонностью Врангеля:
— А вы, Пётр Николаевич, желали бы переговорить с прапорщиком Федько?
Тонкая полуулыбка на тщательно выбритом лице князя, безмятежный взгляд его ясных, как небо, глаз из-под козырька, надвинутого на самую горбинку носа, и ирония, почти приятельская, размягчили наконец Врангеля. Легко рассмеялся шутке сослуживца по Конной гвардии. Расслабившись, откинулся в седле. И эпизод с паникёром Чайковским показался опереткой, хотя, конечно, не безобидной...
Мимо низкорослых рощ и садов, без листвы довольно унылых, мимо виноградников, укрытых на зиму, встретив ещё два разъезда лабинцев, закутавшихся в белые башлыки, поднялись по каменистой дороге. Звуки боя нарастали: глуховато ухали пушки, лопались шрапнели, грохотали гранаты, рассыпалась винтовочная и пулемётная пальба. Ветер выносил из-за гребня уже раздерганные бурые дымки.
С гребня картина пешего боя, развернувшегося на спускающихся к северу и востоку склонах плоскогорья, открылась как на ладони.
«Гёрцем» водил долго: искал хоть что-то обнадёживающее. Тщетно. Единственное, что обнадёжило — проходимый вброд Калаус и надёжно обеспеченная дорога назад к Благодатному.
Прежде чем спуститься к хибаре, над которой заметил большой алый флаг, указывающий на место нахождения Улагая, достал полевую сумку. Обломанный химический грифель царапался и грозил вот-вот сломаться до основания, а потому приказание Топоркову — оттягивать полки к Константиновскому — сочинил короче некуда. Путь предстоял не близкий и опасный: вёрст 15 по дороге через плоскогорье, где вполне можно напороться на разъезд либо притаившуюся заставу, поскольку дивизии свои фронты не сомкнули... Взвесив, чей путь рискованнее, отправил десятерых ординарцев, оставив при себе одного Оболенского...
...Окаменев, наблюдал Топорков, как прекратила огонь сотня Корниловского полка, как вскакивали один за другим казаки и бежали в полный рост назад, к лошадям. Расстреляв почти все патроны, не выдержали жестокого огня.
И тут позади красных цепей из неглубокой балки, как из-под земли, вырвалась плотная масса конницы и ринулась вдогонку. На закатном солнце вздетые клинки грозно поблескивали алым.
Увидев атакующую конницу, сорвались в тыл соседние сотни.
— Коноводов! Давай коноводов! — тревожные крики заметались над полем.
Вскинутые нарастающей паникой, сотни оставляли позиции. Одни отстреливались и успевали подобрать раненых, другие бежали без оглядки, бросая станичников.
Ещё одна конная группа красных выскочила из балки и кинулась в преследование. Но красные пулемётчики, пока была возможность, гашеток с ручками не отпускали: пуля догонит скорее всадника.
А навстречу бегущим уже вынеслись из-за пригорков коноводы. Спасительный топот и цоканье пустых стремян зазвучали в казачьих ушах радостнее лезгинки. И хотя над папахами неслись истошные крики «Стой!», полки один за другим перемахивали гребень и сваливались в долину. Большинство казаков рысило, едва удерживаясь в седле на крутых изгибах. Кто-то, слетев и выпустив поводья, катился кубарем.
Топорков не пытался задержать их.
Положение обдумал и принял решение за десяток минут, пока спускался верхом. Ночевать в долине, по старым квартирам в Донской Балке и хуторах Солёных, — подставить головы казачьи под пули и шрапнель красных с плоскогорья. Где точно позиции Улагая и как складывается бой у него — неизвестно: живой связи со 2-й Кубанской нет. Как нет и приказов от командира корпуса: избежал плена благодаря его славным запорожцам и, видно, на радостях забыл о фронте...
Подсуропил же Господь начальника! Как же можно командовать конницей, разъезжая в автомобиле? Война ведь пошла такая, что фронт необыкновенно подвижен и случайностей пруд пруди. Тут только и могут выручить, что крепкие руки коновода да быстрые ноги коня... А барон более всего озабочен выступлениями перед казаками и мужиками... Потому и пренебрегает фронтом, оставаясь подолгу в занятых станицах. Все офицеры уже приметили... Солдатские комитеты, будь они трижды прокляты, те любили на митингах забираться на подводу или бочку, поставленную на попа. Барон же — сам как жердь, и ему нет нужды искать возвышение: вполне хватает крыльца станичного или сельского правления. Хлебом его не корми, а дай перед народом покрасоваться да со стариками язык почесать... Вот и гоняется за станицами и сёлами, а не за живой силой противника. И сидит в них подолгу, далеко отставая от полков. Таким манером командовать — не нынче, так в другой раз непременно попадёт красным в лапы...
Очутившись внизу, разослал ординарцев с приказанием: прикрыться заслонами и отводить полки в Константиновское.
Цепь красных конников остановилась на самом краю обрыва. Высоко вздетыми клинками и отборным матом напутствовали они отходящие по долине нестройные казачьи колонны.
Ветер спадал, разваливался на слабеющие порывы, будто где-то на плоскогорье его разрубали шашкой. Но сквозь сумеречную тишь далеко донёс высокий и звонкий, почти мальчишеский, голос:
— Мы-ы верне-е-емси-и-и-и...
...Дончак спускался по каменистой, местами скользкой дороге осторожно. Полностью доверившись ему, Врангель погрузился в себя.
Оболенский, на казачьей гнедой кобылице, держался на два корпуса позади: опасался спугнуть напавшую на начальника тяжёлую задумчивость. Причина понятна: у 2-й Кубанской дивизии — никаких шансов удержать Петровское, и вся поездка свелась к отдаче Улагаю приказа отходить на Благодатное.
Врангель будто забыл о единственном оставленном при себе ординарце. Не замечал, как быстро валится побагровевший солнечный диск за неровный горизонт, подернутый синей дымкой, как отрезало покрасневшим гребнем стихающий ветер и шум боя, тоже стихающий, как одиноко стучат копыта, как тревожно пуста дорога в Петровское...
Давно не посещали его столь мрачные и саднящие душу раздумья. А он-то надеялся, что навсегда оставил их в Петропавловской... Неужто и впрямь псу под хвост пошли все победы и жертвы минувших трёх недель? И славная операция на Урупе, и блестящее взятие Ставрополя, и удачное дело у Михайловского... Недоставало огнеприпасов, зато у казаков было отличное настроение, был огромный порыв у командиров... А теперь что от них останется? После отката на полтора-то десятка вёрст... И патронов сегодня меньше, чем вчера: в обозах обеих дивизий шаром покати, а своими «товарищи» уже не так щедро разбрасываются. А теперь ещё, отбив его наступление и закрепившись на высотах, и духом воспрянут, сволочи. Душевное спасибо за содействие, генерал Казанович... «Первопоходник» этот как ходил в героях и любимчиках у Деникина, так и будет, а ему — прыгать, будто заяц, с одного берега Калауса на другой и обратно. Как уже прыгал на Урупе... Да опять у Ставки огнеприпасы клянчить, подобно нищему на паперти... А в ответ его будут снабжать одними бездарными указаниями. Да вдобавок уже и интригами завистников... Надоело всё это ужасно... Ладно, наплевать и забыть. Наверняка уже выгружаются в новороссийском порту военные грузы, доставленные дорогими союзничками...
Со дна ущелья поднималась сырая мгла. Смешиваясь с погустевшим дымом печей, заполняла долину и окутывала Петровское. Казачьи разъезды с улиц исчезли: оставив село, перешли на левый берег.
Теперь безлюдье и тишина, нарушаемая лишь цоканием копыт и редким погавкиванием собак, показались Врангелю именно кладбищенскими. Кое-где сквозь щели затворенных ставен пробивался слабый свет. И от них ощутимо повеяло враждебностью.
Из-за гребня выглянула ущербная луна. Мертвенным светом слегка коснулась крыш, стен, заборов и щебнистого покрытия кривой улочки, ведущей к мосту.
Мягко сдавил шенкелями налитые бока и слегка пришлёпнул ладонью по крупу — дончак послушно перешёл на размашистую рысь.
Впереди из темноты чёрным силуэтом проступили высокие ограждения моста. На том берегу, где днём стояли заставы лабинцев, мерцали остатки костров.
Справа, где-то в районе железнодорожного моста вспыхнула перестрелка. Выходит, сообразил, разведывательные партии красных уже проникли в село. Чего же ты, Петруша, не догадался поделить ординарцев поровну?! Хватит уже на сегодня попаданий в плен.
Да и вообще — хватит... А мост не захвачен ли, часом? Заставы, по всему, снялись давно и ушли далеко...
Копыта только застучали по настилу, как в их перестук вторглись сухие щелчки выстрелов где-то слева и свист пуль над самой папахой. Толкнув дончака в галоп, метнул взгляд через плечо: вспышки сверкнули у выхода соседней улочки к реке. И снова пули прожгли темноту у самого уха. А мозг прожгла догадка: светлосерый конь отлично виден и даёт «товарищам» возможность пристреляться. Успеют или нет?!
Мучительно медленно уносились назад аршины настила. Грохот подков по гулкому железу перекрыл бешеные удары сердца. Сглазил коня, чёрт его задери!
Не увидел и не услышал — каждой клеточкой ощутил скачущую слева, голова в голову, лошадь: Оболенский, наддав, поравнялся с ним и гнедой прикрыл дончака.
— Ты куда?! Назад!
Ротмистр на генеральский окрик и ухом не повёл, только зубы сцепил крепче... Пули злобно защёлкали по настилу и ограждению уже где-то за спиной.
Через мгновения позади остался и мост.
13—14 (26—27) ноября.
Кугуты — Константиновское — Петровское
Дивизии вышли из боя, расстреляв почти все патроны. 2-я Кубанская заночевала в Благодатном, 1-я конная — в Константиновском. В направлении Калауса выдвинули по две сторожевые сотни.
Офицеры разведывательного отделения штаба корпуса всю ночь изучали сведения, добытые войсковой разведкой и полученные опросом жителей Петровского, сопоставляли сильно разнящиеся цифры и наименования частей, отбирали, сравнивая с прежними учётными данными, более или менее достоверные... Итог получился неутешительный: силы противника перед фронтом корпуса насчитывают не менее 15-ти тысяч штыков и сабель, все пехотные и конные полки входят в Таманскую армию.
Отделение связи — его офицеры, выставив за дверь единственного служащего, заняли телеграф — обеспечило, хоть и с перебоями, получение из Ставки приказов и сводок, отправку донесений и копий приказов командира корпуса, оперативных и разведывательных сводок и прочего. Вдобавок вчера, ещё засветло, удалось протянуть телефон к штабам Улагая и Топоркова.
Но за ночь кто-то, оставив на столбе свежие царапины «кошек», голую телеграфную проволоку перерубил. Соединили быстро, однако связь не восстановилась. Не иначе линию повредили и где-то ближе к Ставрополю. Злоумышленников Врангель приказал найти, а жителям — пригрозить суровыми карами за порчу проводов.
Плотно позавтракав и просмотрев сводки, предназначенные для отправки в штаб армии, он поехал верхом — с собой взял Соколовского, офицеров отделения связи и взвод ординарцев — на станцию Кугуты: железнодорожный телеграф, решил, понадёжнее.
Сначала решил, а потом засомневался: а умно ли делает? Что, ежели Спицевскую группу красных чёрт дёрнет совершить налёт на станцию Дубовка? Какие там силы у Казановича, кроме штаба, — неизвестно. Не дай Бог, захватят станцию и перережут ветку Ставрополь — Петровское... Этого ещё не хватало! Тогда только и останется, что у «товарищей», а не у Деникина, боеприпасы клянчить...
...Вместе с солнцем в широкую долину Калауса вернулся морозный восточный ветер. А с ним, спустившись с плоскогорья, — пехотные полки Таманской армии. Перешли через Калаус и, натолкнувшись на редкие казачьи пули, рассыпались в цепи и залегли.
Многочасовая вялая перестрелка между цепями сошла на нет, едва долину наполнили по-зимнему скорые сумерки. И казаки, и красноармейцы стали разводить костры и устраиваться на ночлег прямо на позициях...
...Чем ближе к вечеру, тем чаще то Топорков, то Улагай докладывали по телефону: полки дольше держаться не могут. И уже не просили, а требовали поскорее прислать боеприпасы.
Врангель, сам давно потерявший терпение, весь день терзал Ставку. Пытался даже вызвать Романовского или Сальникова к прямому проводу, но те, уверял дежурный, крайне заняты: завтра из Новороссийска ожидаются представители союзников. Вот-вот, обещал, освободятся... Но тут как назло вышла из строя станционная динамо-машина «Вестингауз», и единственный телеграфный аппарат «Бодо» онемел.
От отчаяния погнал ординарцев на станцию Дубовка, к Казановичу, и в Ставрополь, к Глазенапу: выпросить и доставить винтовочные патроны — хоть полсотни цинковых коробок, хоть пару дюжин, хоть сколько-нибудь...
Когда ждать подвоза огнеприпасов, не имел ни малейшего представления. Мозг рассуждал здраво: при трёхкратном численном превосходстве противника и отсутствии патронов невозможно не только продолжать наступление, но и удержать занимаемые позиции. И его вины в этом нет. Но душа строптивым конём становилась на дыбы... Потерять Константиновское — подставить под удар «товарищей» левый фланг Казановича. Не удержится «первопоходник» — возникнет угроза Ставрополю. Все его победы — псу под хвост! Начинай тогда, Петруша, всё сначала...
Отзываясь на каждое его движение, безмолвно дёргался огненный язычок самодельного светильника, заправленного зиминским лампадным маслом. Хилостью и одиночеством изводил совершенно...
Техник и офицеры отделения связи, забрав с разрешения командира корпуса все лампы и последний бидон керосина, возились уже третий час... Оказалось, лопнул приводной ремень, патентованный английский из верблюжьей шерсти. Поставили, зашив надрывы суровой нитью, старый каучуковый, чудом отыскавшийся среди хлама. Попытались запустить, но не завёлся нефтяной двигатель «Вулкан» — полезли с отвёртками и гаечными ключами в него... Над душой у них упорно стоял хмурый Соколовский, однако проку от его начальственного присмотра было немного.
Уже собрался Врангель отлучиться в домик начальника станции, где ему отвели комнату и накрыли ужин, когда Оболенский доложил о прибытии ординарца от Топоркова.
Рыжеусый урядник пышал и жаром, и холодом: взмок, проскакав все семь вёрст волчьим намётом. И было отчего гнать лошадь в полный почти мах: разведчики-запорожцы перехватили нарочного с приказом командующего Таманской армии Смирнова всем частям перейти в 6 утра завтрашнего дня в общее наступление. Измятый листок папиросной бумаги, близко поднесённый к огню, чуть не занялся в руках Врангеля, настолько поглотили его синие машинописные строчки.
Не успел ни новость осмыслить, ни урядника расспросить, как под потолком вспыхнула электрическая лампочка, вся засиженная мухами, а из комнаты телеграфа донёсся бодрый стук ожившего «Бодо».
Минут двадцать спустя конец ползущей ленты уже извивался белыми кольцами в руках Соколовского, но хмурости на его лице только прибавилось.
— Артиллерийское управление снарядило для нас транспорт с винтовочными патронами. Девяносто тысяч штук. Однако отправить его из Ставрополя пока не могут: нет исправного паровоза. Надеются, подойдёт утром с Кавказской. Тогда получим к полудню. Если отправят гужем — полагаю, не раньше вечера...
— Так передайте этим задницам: в Ставрополе свой транспорт пусть оставят! — взорвался Врангель. — К полудню мы как раз там и окажемся...
Но тут же взял себя в руки. Слетит сейчас с нареза — и корпус погубит, и репутацию. Думай, Петруша, и не пори горячку. Иначе позорища не оберёшься...
— И нефти, ваше превосходительство, всего три бочки осталось, а двига...
— Я не Нобель!
— Виноват.
— Контрибуцию собрали?
— Так точно.
— Ну так прикажите перевернуть по сёлам все керосиновые лавки. Наверняка торгаши что-то припрятали. Но платить — только по добросовестной цене. Не продадут — реквизируйте!
— Слушаю.
— И про бензин не забудьте!..
Решение нашёл, переступая порог телеграфной. Раз положение пиковое — одна только кавалерийская внезапность даст шанс избежать отхода: атаковать на час раньше и вырвать у красных инициативу. И захватить их огнеприпасы, приготовленные для завтрашнего наступления.
— Ну-ка, соедините меня с начальниками дивизий. Василий Иоанникиевич, карандаш к бою!
Расположившийся здесь же со своими катушками и аппаратами поручик крутанул рукоятку телефона. Соколовский схватился за полевую книжку...
9 полков из 11-ти Врангель приказал сосредоточить на левом фланге, объединив под командованием Улагая, для атаки Петровского. Время атаки — 5 утра. Топоркову для прикрытия Константиновского оставил бригаду — меньше 800 шашек. Зато приказал передать ему все оставшиеся в корпусе патроны: отобрать их у обозных, у тыловых команд и даже у казаков Улагая. С одними шашками, решил, злее пойдут в атаку.
Топорков, судя по глохнущему голосу, погрузился в мрачную сосредоточенность. Ни вопросов, ни возражений. Только еле расслышанное сквозь треск «слушаю»... Улагай — его голос, напротив, зазвенел, как бубен — заявил прямо: в успехе не уверен, потому как и казаки, и кони измождены донельзя, а при атаке стенки из пулемётов и винтовок никакой строй от больших потерь не убережёт.
Крепко держа себя в узде, ни слов не пожалел Врангель, ни времени, хотя счёт шёл на часы. Топоркову дал урок по тактике, объясняя, как прикрыть Константиновское, чтобы последних патронов не расстрелять. А Улагаю попытался передать хоть немного топорковской непоколебимости.
Вернув прапорщику разогретую трубку, почувствовал себя выжатым. Всё-таки командовать из штаба по проволоке куда трудней, чем самому в чистом поле: ни ты войск не видишь и не чувствуешь, ни они тебя.
Поужинал с Оболенским всухомятку, но так и не прилёг — вернулся на телеграф. Больше всего опасался теперь, как бы не перерезали проволоку земской телефонной сети между сёлами и станцией...
Рассвет задержался: спрятав сначала звёзды, а потом и зарю с солнцем, небо ровными рядами плотно застегали серо-синие барашковые облачка. Задержался и Улагай с докладом: боевой порядок построил...
...В 5 часов конные полки Таманской армии, переправившись через Калаус среди ночи, только-только начали сосредотачиваться для атаки Благодатного, а пехотные ещё не развернули цепи. Но пулемётчики своё дело знали: прикрывая тех и других, выкатились вперёд и угрожающе выставили стволы, пока холодные.
Улагай, водя по фронту биноклем, колебался недолго: упреждающая атака обречена, и думать о ней могут одни штабные писаки. Полки не только не доскачут намётом до шашечного удара, но и на 500 шагов, половину дистанции, не смогут приблизиться к красным: и людей, и лошадей подчистую выкосят пулемёты.
Разослал ординарцев с приказом спешиться и рассыпаться в лаву. Четыре полка своей дивизии сосредоточил в центре, запретив батовать лошадей и отводить в тыл дальше чем на сотню шагов. С донесением Врангелю, как и с атакой, решил повременить...
...Седьмой час тянулся вялый стрелковый бой. Нудный, как чистка пушек.
Бабиева лежание в цепи давно уже измотало всего. Особо не мёрз: лёгкая шуба из белой овчины, надетая под черкеску, нежно и тепло прилегала к телу. А вот душа стыла от безнадёжности. Папиросами только и согревал: не доставая серных спичек, новую поджигал искуренной до мундштука...
Извлёк из глубокого кармана шаровар тяжёлые часы «Зенит». Откинул железную крышку: почти полдень. Опережая стрелки, взгляд пошёл по кругу чёрных римских цифр, будто силился ускорить наступление сумерек... Хорошо бы стемнело раньше, чем братцы-казаки последние патроны расстреляют... А то, верное дело, у многих душа с говном смешается — побегут. Уж лучше лишнюю ночь на позициях помёрзнуть...
Бдительный слух не упустил: красные разом прекратили огонь. Вскочил в полный рост... Торопливо пропихивая часы обратно в карман, заметался взглядом по фронту: зашевелились цепи... Попятились! Вот одна рота, пригибаясь, отошла на несколько шагов... Вот другая... Третья... Очень слаженно отходят, гавнюки. Кажись, тоже не хотят другую ночь околевать на голом...
Корниловцы оживились, стали тянуть шеи.
Подскочив к цепи, рявкнул в затылки:
— В атаку!
Живо поднялись казаки. Перебегали, держа бесполезные винтовки наперевес и пригнувшись, от бугорка к бугорку. Подгоняли криками себя и других.
Тут-то и подали голос пулемёты таманцев: едва группы казаков выскакивали на ровное и открытое место, под разными углами обстрела точно скрещивали на них короткие очереди... Самые смельчаки, и среди них — командиры, вахмистры сотен и взводные урядники, падали, сражённые... Бегущие следом, хоронясь от пуль, утыкались носами в чернозёмно-снежную твердь и замирали. А красные цепи под прикрытием огня своих пулемётов спокойно отходили к следующим бугоркам и кустикам.
Бабиева нещадно грызли и досада, и неуёмная жажда кинуться в шашки, опрокинуть отходящего противника, прижать к топкой речке и рубить, рубить, рубить... Левая рука неловко вытащила из длинной и мягкой кобуры, висящей на левом же боку, револьвер и сунула за борт черкески. Чесалась ухватиться за рукоять и правая, беспомощная...
Таманцы, уже по всему фронту, не разрывая цепей и наставив молчащие винтовки в сторону казаков, боком двинулись к воде... И тут все как одна выскочили вперёд линейки с пулемётами, развернулись круто, вздымая копытами и колёсами снег и песок, и замерли в готовности к стрельбе. Их слаженные действия предупредили казаков понятнее слов: только осмельтесь на конную атаку — чертям тошно станет.
Бабиев с досады даже притопнул ногой, и хриплый мат будто из-под галоши вырвался.
На фронте Корниловского конного и 1-го Екатеринодарского полков, напротив Константиновского, красная пехота, не разрывая, а лишь надламывая цепи на речных извилинах и в зарослях камыша, спокойно перешла топкий Калаус. И, вскарабкавшись на низкий обрывчик, живо заняла позиции. Под прикрытием её винтовок пулемётные линейки кинулись к бродам, отмеченным ветками. Через полминуты, взбаламутив серо-жёлтую воду, они уже выскочили на сухое и грозно выставили горячие стволы...
...Осторожный и расчётливый Улагай дождался-таки своего часа.
Пехота таманцев неспешно отходила с позиций перед Благодатным к Петровскому. Конницу пропустила вперёд. Стала сворачивать цепи, стягиваясь по двум лощинам к мостам...
Тогда и кинул в атаку четыре полка своей дивизии и два полка бригады Чайковского.
Развернувшись в лавы, они сразу перешли в намёт. На пологом спуске легко разогнались до карьера.
Укрываясь за хребтом протянувшейся к берегу складки и целя на знакомые броды, казаки Чайковского широко охватили левый фланг. Поднимая фонтаны грязных брызг, перемахнули на восточный берег и круто развернулись на юг.
Угроза окружения сломила таманцев. Едва построенные на ходу колонны перед самыми мостами разметала паника. Пулемётные линейки, сшибаясь, мешали друг другу стрелять. Лишь хвостовые захлёбывались длинными очередями.
Казаки, не слыша за свистом ветра ни воплей раненых станичников, ни ржания задетых пулями лошадей, неслись неудержимо. И достали-таки клинками до репаных шапок и беспогонных плеч...
Один за другим смолкали пулемёты. Узкие мосты закупорила исступлённая давка. Кидавшиеся в глубокую воду против Петровского до крутого восточного берега доплывали не все...
Оседлав оба моста, оставляя за спиной толпы красноармейцев, покорно вздевших пустые руки, опьянённые сотни уже знакомыми улочками и дорогами взлетели на плоскогорье и очертя голову кинулись вдогонку за вожделенными обозами...
21—22 ноября (4—5 декабря).
Кугуты — Спицевское
Неделю после повторного взятия Петровского воздерживался Врангель от наступательных операций: корпус понёс немалые потери, особенно в офицерском составе, непрерывные бои изнурили людей и коней до крайности.
Размещённые по сёлам и хуторам обоих берегов Калауса, полки отогревались, отсыпались и отъедались. Сменяя друг друга, строго по очереди, поднимались на плоскогорье и вели сторожевое охранение и разведку — держали соприкосновение с противником. Тревогу ожидали днём и ночью: лошади стояли в холодных сараях нерассёдланными, казаки за крестьянский стол садились, не снимая папах и при оружии, спать на лавки и охапки соломы укладывались в черкесках и керосиновых ламп не гасили.
Выдохлась и Таманская армия. Стянувшись в разбросанные по плоскогорью сёла, к теплу и еде, и её полки отдыхали.
Силы остались только у восточного ветра: поднимаясь с восходом и спадая с закатом, он с неистощимым ожесточением нёс из-за Каспийского моря бесснежную стужу. Из докладов начальников дивизий Врангель к немалому своему удивлению вычитал, что ветер этот сильно беспокоит казаков: проносясь над Кубанью, вымораживает, а то и выдувает посеянные семена, так что пара недель такого ветра — и озимые хлеба не урождаются.
Между тем сводки корпусной и армейской разведок заставляли думать не о будущем урожае, а о новых кровопролитных боях.
Из трофейных документов и опросов пленных выяснилось: Красная армия Северного Кавказа переименована в 11-ю армию и включена в состав только что образованного большевиками Южного фронта. Хотя эпидемии тифа и испанки, вспыхнувшие с наступлением холодов, начали буквально косить её ряды, она быстро пополняется благодаря мобилизациям крестьян до 40 лет. Федько начал её реорганизацию по армейским образцам: многочисленные «дружины», «отряды» и «колонны», все отдельные роты, команды и эскадроны переформировывает и сводит в регулярные полки, а те — в дивизии. Число достоверно установленных пехотных дивизий достигло 12-ти, кавалерийских — 7-ми. Боевой элемент армии колеблется от 50 до 70-ти тысяч. Обильное снабжение вооружением и боеприпасами пошло из Царицына по Волге до Астрахани и далее по тракту на Святой Крест, который после потери Петровского стал её главной базой... Главное большевистское командование требует от Федько отбить Ставрополь, а затем наступать одновременно на Тихорецкую и Новороссийск — помочь 10-й армии защитить Царицын от донских казаков Краснова.
И шанс взять Ставрополь, всё острее чувствовал опасность Врангель, у «товарища» Федько есть. И не в последнюю очередь благодаря отставанию на два десятка вёрст «первопоходника» Казановича. Тот как упёрся в сёла Спицевское и Бешпагирское, так уже неделю не может взять их и выдвинуться к Калаусу. Хотя теперь командует 7-тысячным корпусом — 1-м армейским, — в который Деникин свёл 1-ю дивизию и 1-ю Кубанскую дивизию Покровского.
Без Соколовского поломав ночь голову над сводками и почеркав карту, заключил: неумно поступит, ежели станет дожидаться, чего там надумают «моменты» в Ставке. Ему здесь, по близости, куда лучше видно, как покончить со Спицевской группой.
Перво-наперво, дабы Таманская армия и дальше отдыхала себе на плоскогорье, решил без особых вольтов объехать «товарища» Смирнова на кривых: раз всех шпионов из местных большевизанствующих мужиков всё равно не переловить, утром отдал приказание объявить в полках, батареях и обозах о днёвке и на завтрашний день. Затем, не доверившись телефону, вызвал начальников дивизий к себе в Константиновское — пообедать.
Убедившись, что за дверью гостиной — никого, кроме Гаркуши и Оболенского, на словах приказал Топоркову, как стемнеет, скрытно стянуть в село все пять полков 1-й конной и два полка бригады Чайковского, до полуночи сосредоточить их у станции Кугуты, к рассвету выйти к Спицевскому, окружить пехотную группу красных и уничтожить. Улагаю — оставаться заслоном на фронте Николина Балка — Петровское — Донская Балка, выслав на плоскогорье дополнительные сторожевые сотни. Мелочи обговаривали вполголоса, прихлёбывая большими ложками кислые щи...
...Нефть из единственной цистерны, пригнанной из Майкопа наполовину опорожнённой, сливали уже с самого дна, а потому начальник станции динамо-машину остановил. Однако керосиново-калильный фонарь «Самосвет» в тысячу свечей — его высокая медно-стеклянная башенка со слепяще-белой сердцевиной торчала посреди длинного подоконника — тесный и низкий зал для пассажиров освещал не хуже электрической лампы. Угловая округлая печь, облицованная оцинкованным железом, едва теплилась и одолеть холодную затхлую сырость не могла. Всё же поснимав с плеч бурки и перекинув их через спинки, командиры полков, их помощники и полковые адъютанты просторно расселись по скамьям, специально для совещания составленным в четыре ряда.
Посеревшие лица совсем омертвила сосредоточенность, когда Топорков, прочно упираясь короткими кривоватыми ногами в грязный цементный пол, стал докладывать секретный приказ командира корпуса. Уложив его в несколько обрубленных фраз, тут же перешёл к своему плану.
Кто-то, схватившись за карандаш, записывал в полевую книжку, кто-то, хорошо зная его немногословие, ограничился отметками в развёрнутой на коленях карте... 1-й Екатеринодарский, 1-й Запорожский и 1-й Уманский начальник дивизии сам выводит к Спицевскому по кратчайшему, юго-западному, направлению для лобового удара. Чайковский со 2-м Офицерским конным и 1-м Черноморским полками долиной Грачёвки обходит село с севера. Бабиев, объединив под своим командованием Корниловский конный и 1-й Линейный полки, правым берегом речки Горькая глубоко обходит его с юга с целью отрезать от Бешпагирской группы красных, а чтобы бригада не заблудилась, её поведёт проводник-крестьянин, вызвавшийся добровольно... Атаковав одновременно, с восходом, бригадам взять Спицевское в клещи. Захватить и пригнать обратно как можно больше пленных. Подводы обозные с барахлом и домашней утварью забирать во вторую очередь, а в первую — с боевыми припасами...
— Полковник Бабиев! Вы уяснили ваши задачи?
— Так точно.
Командир корниловцев, усевшийся на край задней скамьи, будто отсутствовал. Опершись локтем на подоконник, понуро поглядывал то в быстро заполняемую серыми строчками полевую книжку соседа, полкового адьютанта подъесаула Елисеева, то в голое окно, наглухо занавешенное безлунной полуночной темнотой. И отозвался необычно тихо и сухо.
Его вызывающая незаметность и задела, и насторожила Топоркова. Сильнее даже, чем обеспокоила мрачная замкнутость Мурзаева: хотя командир линейцев, не сняв своего летнего офицерского пальто, и занял место на передней скамье, но сразу уставился в пол и пока не обронил ни слова.
Разрешив всем расходиться, шагнул к Мурзаеву.
— Ты чего не в себе, Александр?
Тяжело покачав обритой головой и сузив глаза до мрачных щёлок, тот выдохнул коротко и почти беззвучно:
— Гибнет казачество, Сергей.
— Ты о чём?
— Стыдно сказать... Шкурников стало больше, чем героев. — И тут же добавил, громче и злее: — А этот гвардейский штаб... его мать, только приближает погибель. Ну, сам посуди...
Ободряющих слов Топорков не нашёл. Лишь неловко тронул выше согнутого локтя высохшую руку Мурзаева, что покоилась на широкой чёрной перевязи...
...Тщательно подобрав под себя полы черкески и шубы, Бабиев не спеша намотал на искалеченную правую руку повод, а левую запустил под борт черкески — за пачкой... Не холод заставил, а совсем редкая гостья: перед самым совещанием, как вошёл в маленький вокзал, взяла ни с того ни с сего тоска — заныла в сердце, замутила душу и пошла высасывать силы... Отчего — не понять. Скоро отозвались ей раны...
Оттого, может, что загнал своего рыжего красавца жеребца? Когда вслед за отошедшими красными переправлялись через Калаус, без нужды, от одной досады, толкнул его в намёт. А тот, выносясь на берег, увяз в иле и рухнул на передние ноги, перекинув его через голову прямо в песок... Прислали заводного[78] коня — золотисто-гнедого ногайца восьми лет. В теле и выносливый, одна беда — не такой прыткий. Да и низковат...
Как почуял под собой вместо плоского неудобия скамейки ладность калаушинского седла[79], как втянул глубоко терпкий аромат тлеющего асмоловского табака — тоска отлетела прочь вместе с дымком. И уступила сердце и душу привычному — пьянящему возбуждению и щекотливой боязни перед боем. Кого-то нынче неминуемо достанет до смерти клинок или пуля. Может, кого-то близкого... Может, и самого...
Ночь выдалась хоть и непроглядная, но зато тихая и неморозная.
Доверившись толковости и благообразным сединам проводника, Бабиев и не старался сориентироваться. На полкорпуса позади ехал Елисеев, надевший поверх черкески солдатскую овчинную куртку-безрукавку. Согбенную спину константиновского мужика его пристальный взгляд не отпускал ни на минуту.
Чтобы не растягивать тысячу конников и пулемётные линейки двухвёрстным хвостом, полковые колонны по три Бабиев повёл не дорогой в затылок друг другу, а скошенными полями голова с головою: линейцы левее корниловцев на интервале в сто шагов. Ни полусотню, ни даже взвод головным дозором посылать не стал: только выдадут приближение бригады, а случись какая неожиданность — сподручнее будет атаковать всей массой.
Между двумя колоннами, намеренно отстав от Бабиева, ехал в одиночестве Мурзаев. От Бабиева отстал намеренно: весёлость командира корниловцев угнетала сильнее собственных мрачных мыслей. Так и не высказанных Топоркову...
По сухой земле, тонко прикрытой слежавшимся снежком, лошади шагали легко и почти бесшумно. Лишь пофыркивали изредка.
Небосклон за спиной посерел.
По колоннам, от головы до хвоста, шёпотом прошлось приказание: «Не курить и не разговаривать!» Каждый понял: уже под самым боком у красной сволочи.
Занялась бледно-оранжевая заря. С каждой минутой она всё отчётливее высветляла справа и в трёх-четырёх верстах впереди высокий, слегка заснеженный холм с широкой и плоской вершиной. И спящее село, кучно умостившееся на пологой покатости.
Проводник махнул в его сторону снятой рукавицей: Спицевка самая и есть...
Позади осталось почти три десятка вёрст.
Бабиев, натягивая поводья, снял и вместо шашки поднял вверх свою чёрную папаху — подал знак остановиться. Надев, поднял к глазам пятикратный галилеевский «Буш», по обыкновению висящий на шее без футляра. Устаревший и изрядно обцарапанный за десять лет: получил ещё при производстве в офицеры, в Николаевском кавалерийском училище, как бесплатный «дар царя». Давно подумывал купить 6-кратный призменный, пусть не лучшей фирмы — не Цейсса и не Гёрца, — да всё равно дорого. А просить денег у стариков родителей — до такого не унизится...
Охранение красных бодрствовало: по гребню юго-восточной околицы разгуливали меж затухающих костров пехотинцы в тулупах.
Свет от набухающей на востоке огненной полоски достал до самого дна широкой речной долины и смахнул темноту с замерших ало-чёрно-коричневых лент казачьих колонн... На гребне вспыхнула суета, защёлкали беспорядочно выстрелы.
Разглядев, что требовалось, Бабиев разозлился невесть на кого: ну вот, опоздали! Уже обнаружены, а до села — ещё четыре версты. И на плато придётся подниматься — градусов под десять — под обстрелом. Хорошо, если только ружейным. Охватить правый фланг красных и отрезать Спицевку от Бешпагирского — и по уставу, и по местности — удобнее всего взводными колоннами. И не отвечать на огонь...
Перестроив полки, сразу же, ещё в долине, перевёл их на рысь. Раздавшиеся в ширину колонны, сохраняя равнение по головным взводам и увеличив интервал до двухсот шагов, устремились на подъём.
Не прошло и минуты, как из села, будто мыши из старой, найденной на чердаке перины, стали выскакивать подводы и люди. Фигурки сливались в массу, она быстро густела и чёрным пятном вытягивалась по белому плато в юго-западном направлении, к Бешпагирскому. Выстрелы смолкли.
Бабиев — отрезать и не дать уйти! — заторопился, задёргался. Не вздевая клинка — уже не успеть вытянуть из ножен, да его и так все видят снизу, — посильнее сдавил колени, кидая ногайца в намёт. За ним перешли в намёт и колонны.
Мурзаев вперёд не рвался: одиноко скакал между колоннами на уровне головных взводов. Светлые полы пальто маленькими крылышками трепыхались на боках его крупного тёмно-гнедого жеребца.
— Вытащи мне револьвер и дай! — хрипло бросил Бабиев полковому адъютанту.
Елисеев и по одному взгляду понял бы, о чём просит старый друг: здоровая рука Коли занята поводом, искалеченная правая лежит на бедре и помочь не может.
а кобура по-черкесски повешена на левый бок. Не очень-то сподручно вытаскивать из неё револьвер на намёте, да ещё из такой длинной и мягкой. Но без этого никак. «На всякий случай, если шашку уроню», — пояснил Коля в первой же донной атаке, на Урупе.
Укрепив низкую белую папаху и прибив коня вплотную к ногайцу, не сразу, но всё же вытащил и протянул. Слабо прижав ребристую рукоятку едва гнущимся большим пальцем к мёртвому указательному, Бабиев кое-как засунул револьвер за борт черкески. Торопливо намотав поводья на правую руку, левой с трудом вытянул из ножен клинок. Крутнулся туда-сюда в седле: корниловцы не отстают, линейцы тоже.
Застывший прозрачный воздух всполошил его протяжный надрывный крик:
— В ли-инию-ю коло-онн!
Не дожидаясь исполнительной команды «марш-марш», сотни — корниловцы опередили линейцев — ускорились до волчьего намёта и слаженно развернулись.
Через четверть минуты полковые линии по шесть сотенных колонн вынеслись на плато. Спицевское — уже отрезанное — очутилось на севере.
Пешие красноармейцы и обозные телеги припустили сильнее. Бежавшие и скакавшие в хвосте приостановились, заметались и замахали руками.
— Шашки-и к бо-ою-юу!
Обнажённые и вздетые впопыхах клинки скрестились с первыми лучами светила, выглянувшего из-за гребня высокого правого берега Калаусской долины. Над крепко сбитыми, но куцыми колоннами неполных сотен розовато заблестела стальная щетина. За плечами чёрных бурок и кожухов забились алые башлыки, особенно яркие на фоне снега, словно предвещая его скорое окропление кровью.
Чёрные толпы, охваченные отчаянием, разорвались: кто-то понёсся во всю прыть дальше на юг, кто-то кинулся обратно в Спицевское.
Бабиев, толчком колен кинув ногайца в карьер, поднял клинок вертикально вверх и резко склонил в сторону самой большой и густой толпы. Знак — понятный каждому казаку, и сотенные командиры даже не стали его повторять. Но, обуреваемый злым восторгом, он зычно выкрикнул:
— В атаку!
И когда сотни бросились в карьер, придержал ногайца и, пропуская их мимо себя, прокричал протяжно и тонко, как ревели, ободряя друг друга, курды на турецком фронте:
— А-ря-ря-ря-ря-ря-а-а!
Рванув поводья, по обыкновению резко остановил коня. Искрящиеся азартом и восторгом глаза провожали летящих вперёд казаков... Всем существом уже предвкушал победу. Это его победа! Победа его полка! Так пускай братцы-казаки повеселятся, позабавятся себе вволю, пускай разживутся трофеями, возьмут у картузников всё, до чего руки дотянутся...
Сотни подвод и людей, кинувшиеся обратно в село, были окружены и отрезаны корниловцами. За теми, кто успел далеко убежать к Бешпагирскому, кинулись в погоню линейцы.
Бой закончился не начавшись.
Подводы встали. Оказались они не военного обоза, а беженские, горой набитые узлами мужицкого барахла... Крестьяне позапрыгивали на подводы, телами, как кошка котят, прикрыв своё добро. Красноармейцы — кто бросил винтовку, кто воткнул штыком в землю — пригнулись, присели и закрыли головы руками.
Корниловцы быстро растворились в этой мешанине. Одни спешились и принялись пересёдлывать коней — меняли своих приставших на свежих крестьянских. Другие, перепрыгнув с седел на телеги и спихнув хозяев на землю, шашками и кинжалами резали верёвки, суетливо потрошили узлы и запихивали самое ценное в седельные сумы. Лишь немногие сгоняли пленных в группы, выкидывали из телег барахло и укладывали в них подобранные винтовки...
1-й Линейный полк скрылся за буграми. Сметая сопротивляющихся, не обращая внимания на вставшие телеги и воткнувших винтовки в землю, без удержу гнался за бегущими. Скошенные поля, как по волшебству, заросли трёхлинейками и расцвели коричневыми прикладами...
На самом высоком из бугров остановил своего жеребца Мурзаев. Устало обмякнув в седле, сумрачным взглядом из-под мохнатого края папахи провожал свой полк, уносящийся к Бешпагирскому...
Корниловцы совсем затерялись среди повозок, беженцев и красноармейцев. Кто-то всё никак не мог оторваться от распотрошённых беженских узлов... Кто-то всё же нашёл обозные подводы с добром, награбленным в Ставрополе... Кто-то по-хозяйски добросовестно подбирал винтовки, варежками смахивал с них снег и грязь, укладывал на телеги... А кто-то поторопился погнать пленных к Спицевке, решив, что село уже, верно, взято другими полками.
К Бабиеву подскакал Елисеев. Белокожее лицо пылало, но недоброе предчувствие смахнуло с него задор.
— Мурат! — обратился по-дружески. — Надо собрать полк.
— Ну, чего там... Пускай казаки позабавятся.
Беспечность командира всполошила полкового адъютанта:
— Но красные могут похватать винтовки!
Его тревога и жёсткий прищур не слишком отрезвили Бабиева.
— Ну, если хочешь, то скачи и дай команду сотенным...
По пятнистому плато — полю незавязавшегося боя — заметалась низкая белая папаха Елисеева, пронзительно зазвенел над головами его чистый голос:
— Корниловцы, к своим значкам! Корниловцы, к своим значкам!
И в этот момент от крайних дворов и плетней Спицевки отделились одна за другой две густые цепи пехоты. И сразу же в первой глуховато застучали ручные пулемёты.
Часто и зло зажужжали рои пуль.
Такой неожиданный и близкий пулемётный огонь вмиг отрезвил казаков. Забыв про узлы, бросились к значкам... Закричали, заругались сотенные командиры... Беженцы с воплями ужаса полезли под телеги... Красноармейцы, сдавшиеся, но ещё не пленённые, кинулись на землю — истоптанную, перемешанную со снегом. Злоба и страх исказили их бледные лица, распахнутые глаза лихорадочно заметались — искали и находили ещё не подобранные казаками винтовки.
Пулемётный огонь ожесточился, его поддержал ружейный. Стреляли, не щадя своих... Пули стелились над плато всё гуще.
И ускорившие шаг цепи, и жужжащие, глухо ударяющие в подводы пули, и пылающие ненавистью взгляды пленных, и винтовки, валяющиеся тут и там, — всё страшило и подхлёстывало корниловцев нещаднее их собственных плетей. Всех обуял порыв скорее скатиться в низину, скорее выйти из-под обстрела. Но разум и без команд подсказывал: прежде нужно отогнать красноармейцев подальше от их винтовок.
Резко стегая плетьми и уже замахиваясь шашками, отрывали пленных от земли, пинками сбивали в группы по сотне и больше человек и гнали, как скот, в речную долину. Гнали и многие десятки подвод с имуществом и собранным оружием. Избавление от этой обузы спасения не сулило: бросить винтовки с полными обоймами, не снять с пленных подсумки и патронташи — и дальше гибнуть без патронов, а отпустить пленных — получить пулю в спину прямо сейчас...
Не на всех красноармейцев хватило корниловцев.
Самые бедовые и обозлённые, воспользовавшись суматохой и отсутствием поблизости казаков, кинулись к винтовкам. Не поднимаясь с колен и остервенело дёргая затворами, открыли стрельбу... По удаляющимся рысью кубанцам, по их штабу, сгрудившемуся под красным флагом с чёрной диагональной полосой, по одиноко стоящему на высоком бугре офицеру в светло-сером пальто, чей контур чётко оттеняла даже блёклая синева холодного утреннего неба...
...Шума артиллерийской пальбы со стороны Спицевского Врангель так и не услышал, хотя сразу после завтрака приехал на станцию Кугуты. Нашёл странным. Разве что поднявшийся восточный ветер относит... Серебряные часы-браслет «Лонжин» показали четверть второго. Пора уж быть и ординарцу от Топоркова.
Не усидев в пустом и прокуренном вокзале, поспешил на просёлок, уходящий по мосту через Грачёвку на юг. Деревянный настил, убедился сам, константиновские мужики подремонтировали.
Из ноздрей дончака валил густой пар, под копытами похрустывал сковавший лужи ледок. Пустил его шагом. Никак не мог нарадоваться: подаренный Мурзаевым жеребец оказался отлично выученным. И совсем смирным, как и все пленные теперь.
Показались первые повозки — лазаретные линейки с тяжелоранеными. Торопливо тряслись по смёрзшимся кочкам... Отделавшиеся лёгкими ранениями рысили верхом, в одиночку и по двое-трое. На приветствие отвечали бодро, смотрели прямо и даже улыбались в усы.
Отлегло от сердца: сразу видно, дело удачное. Но всё же многовато раненых... После Ставрополя Топорков стал воевать решительнее, а порой и безоглядно. Пересолил, похоже, и теперь: приказ его выполнял, не считаясь ни с какими препятствиями. Оттого и потерь у него больше, чем у осторожного Улагая. Зато побеждает чаще...
Вот и первая группа пленных. Сразу отметил: отобраны только шинели и сапоги. Или сдались сразу, не отстреливаясь, или казаки сжалились по случаю холода...
За третьей уже группой пленных — сотни две с половиной, привычно определил Врангель на глаз, — медленно ехала, тоскливо скрипя необитыми колёсами, кургузая повозка, накрытая брезентом. На низком облучке примостились два казака. Понуро опустив головы, молча курили самокрутки. На его приветствие ответили угрюмо и тихо.
— Как дела?
— Плохо. Командира полка убило...
Дончак замер, повинуясь вмиг натянувшимся поводьям.
Встала и повозка. Сзади из-под серой холстины безжизненно свешивались ноги: запачканные в грязи чёрные шаровары с генеральским лампасом, ноговицы и чувяки в галошах.
Снял папаху и перекрестился.
— Кого именно?
— Их высокоблагородия полковника Мурзаева...
Часть 4
ТЕРСКИЙ РАЗЛОМ
2 (15) декабря. Екатеринодар
олглый ветерок с Чёрного моря натянул над Екатеринодаром полог из беспросветной свинцовой пелены. Время от времени из неё уныло сыпала изморось. Голые фруктовые сады, опоясывающие город, каменные и деревянные стены домов, заборы и заводские трубы почернели от сырости. На ещё зелёных лужайках и газонах белели редкие заплатки из ноздреватого снежка.
Вагонов на запасных путях станции, сразу заметил Врангель, прибавилось изрядно: красно-кирпичного цвета теплушки и товарные, серые цистерны и ледники. Прибавилось и раненых: кто сам ковыляет от вагона, кого кладут на носилки... Перевязки несвежие... Многие лежат на перроне под открытым небом. По-видимому, не успевают развозить по госпиталям... А беспорядок и грязь кругом всё те же.
На площади, у самого выхода из вокзала, санитары в несвежих халатах загружали раненых на единственную карету скорой помощи и две подводы.
Пожилой извозчик, задержав сумрачный взгляд на его генерал-лейтенантских погонах, потребовал за свой парный фаэтон с верхом 10 рублей. Так и осталось неясным, сбавил тот цену при виде трёх звёздочек на серебристых зигзагах или заломил.
Зимний Екатеринодар стал больше походить на город: листва с акаций пооблетела и сквозь корявые ветви без труда просматривались крыши и верхние этажи высоких зданий в центре, купола и колокольни соборов и церквей. Однако под ногами и колёсами, точно в какой-нибудь станице, густо хлюпала жирная черноземная жижа, проступившая сквозь неплотную кирпичную мостовую.
Обнажив неприглядного вида скошенные деревянные рамы, владельцы магазинов сняли тенты, прикрывающие витрины. Кое-где в них уже были выставлены сделанные из папье-маше румяный Дед Мороз в красной шубе с мешком и белоснежная Снегурочка, усыпанная блестками.
Уличная толпа стала плотнее. Преобладали офицеры. А ещё, что неожиданно сильно задело Врангеля, — господа, одетые в дорогие пальто с меховыми воротниками и толстые, как Дед Мороз. Судя по нагловатой суетливости — крупные спекулянты.
Войсковая гостиница, занимающая второй этаж в доме войскового собрания на Екатерининской, оказалась забитой до отказа. И хотя штаб Кубанского войска о его приезде был предупреждён загодя и отдал приказание отвести номер, комендант её безнадёжно развёл руками: не только все приличные, но даже самые скромные комнаты заняты прибывшими из полков и станиц членами Рады. Беспрестанно и очень уважительно вставлял в свою речь «ваше превосходительство», клялся честью отвести первый же освободившийся номер, но дальше слов его услужливость никак пойти не могла.
В другой гостинице снять номер, пусть и недешёвый, надежды не было: и без членов Рады приезжие из Центральной России переполнили город под завязку. Вот когда пожалел, что пришлось отдать, из-за переезда жены к нему, казённую квартиру.
Ничего не оставалось, как пожить пока в вагоне на станции, вместе с ординарцами и конвойцами. Благо Управление начальника военных сообщений не настаивает на его возвращении. И, уже не сомневался, не будет: вагон I класса, с исправным отоплением, пригнали из Ставрополя в Петровское по первому же его требованию. Безо всяких отговорок и возражений, обычных, когда дело касается перевозки раненых и предметов снабжения. Попробуй-ка теперь возрази ему — командиру корпуса, с неделю как произведённому Деникиным в генерал-лейтенанты за боевые отличия. За то, что второй месяц тащит за собой весь фронт Добровольческой армии, вырывается на десятки вёрст вперёд и ещё успевает помочь отставшим соседям — наносит сокрушительные удары направо и налево во фланги и тыл «товарищей»...
...Воспользовавшись установившемся на его участке фронта затишьем, попросил у Деникина разрешения передать корпус Улагаю, только что произведённому в генералы, и прибыть в Екатеринодар.
Личной встречи потребовали отнюдь не хозяйственные вопросы. Эти во многом решились и без помощи штаба армии: огромные трофеи, отбитые у таманцев, позволили снабдить части необходимым снаряжением, худо-бедно одеть людей в зимнее, обеспечить связь, сформировать артиллерийские, интендантские и санитарные транспорты и даже создать дивизионные и корпусные запасы.
Первостепенное значение, понимал всё отчётливее, приобрело формирование кавалерии.
У казаков обнаружилась тяга в родные станицы: чем дальше от Кубани откатывается фронт, тем чаще раненые и больные требуют отправки в тыл, из отпусков опаздывают, а кто-то и самовольно покинул части. Выходит, когда Добровольческая армия двинется на Москву, они не будут драться столь же самоотверженно, а то и начнётся дезертирство. Тем более, раз уже теперь их так беспокоит урожай следующего года.
В тылу же совершенно распоясались самостийники. Ведут себя наглее Керенского. Но атаман Филимонов, произведённый Радой через чин в генерал-лейтенанты, по-прежнему не находит в себе твёрдости поставить их на место. Быч этим пользуется и гнёт свою линию: Кубань — независима от России, а потому должна иметь собственную армию[80]. И «черноморская» часть Рады, судя по газетам, его поддерживает. Все эти безобразия неминуемо подорвут боевой дух казаков.
Между тем каждый новый день убеждает: нынешнюю войну, раз манёвр, быстрота и внезапность стали играть первенствующую роль, без сильной конницы не выиграть. А потому, заключил, ставку следует делать не на казачью, а на регулярную кавалерию. Которой в Добровольческой армии нет.
Зато много офицеров-кавалеристов. Сотнями болтаются без дела в тылу или служат в пехотных полках рядовыми. И ежедневно гибнут. Ценнейшие кадры русской регулярной кавалерии — лучшей в мире! — теряются самым бездарным образом. И Ставка взирает на это безобразие с олимпийским спокойствием.
Важно, решил, как можно скорее подвигнуть Деникина к воссозданию старых кавалерийских полков. И первые же без промедления ввести в штат его корпуса. Иначе не с кем будет освобождать Москву...
...Всюду — в вестибюле и залах войскового собрания, где они с женой завтракали, и на улицах, необычайно оживлённых по случаю воскресного дня, — офицеры и обыватели горячо обсуждали газетные новости и базарные слухи. Всё вертелось вокруг политики: кого Рада выберет атаманом — Быча или Филимонова, брал взятки кубанский генерал Букретов[81], арестованный на днях, или не брал, успеют союзные войска высадиться в Новороссийске до Рождества или нет.
Потемневшая каменная глыба Зимнего театра, где заседала Законодательная рада, возвышалась над всей Красной улицей с какой-то особой многозначительностью и торжественностью. У парадных дверей важно тянулся казачий караул с шашками наголо. А вдоль тротуара, мешая движению, выстроились в два ряда крытые экипажи и автомобили.
И в штабе армии, ставшем на удивление многолюдным, царили толчея и возбуждение. Офицеров особенно волновало, поедет ли глава британской военной миссии генерал Пуль к Краснову. Всех изумила та быстрота, с какой Донской атаман, «проститутка» такая-растакая, сменил ориентацию: не успели немцы уйти, как стал клясться в верности Антанте... Неделю назад уже ухитрился заманить представителей союзников в Новочеркасск, но то была мелочь — капитаны и лейтенанты. А теперь наводит мосты, чтобы заполучить к себе самого Пуля. А заодно уламывает «бычеволов» — Быча с Рябоволом — заключить с Доном союзный договор, будто между двумя независимыми государствами. И Быч, похоже, склоняется к этому, ибо никак не желает признавать верховенства Добровольческой армии. Если же «эта сволочь» Рада выберет Быча Кубанским атаманом — жди удара в спину от всех этих «туземных вождей», мать их... В адрес Краснова, Быча и Рябовола в выражениях никто не стеснялся. И «бабу» Филимонова валили в ту же кучу.
Апрелев с глазу на глаз поделился самым свежими новостями: главком почти ежедневно совещается с Лукомским[82] и Драгомировым — ищет способы приструнить самостийников и не допустить избрания Быча, а Покровский и Шкуро прямо предложили ему разогнать Раду и правительство. У них всё готово: в станицу Пашковскую, что рядом с городом, Покровский привёл, якобы для отдыха, Кубанский гвардейский дивизион и Кубанский сводный полк, там же стоит конвойная Волчья сотня Шкуро, неся караул у его дома. Но Деникин отказался дать им карт-бланш.
От Апрелева же Врангель впервые узнал, что прямое телеграфное сообщение с Киевом прервалось ещё три недели назад, новости идут кружными путями и здорово запаздывают. Но, в общем, ясно: немцы вот-вот уберутся, Скоропадский висит на волоске, и дай Бог, чтобы войска союзников подошли к Киеву прежде банд Петлюры и большевиков...
Соборная улица, словно её и не мостили, была залита жирной и чёрной, как дёготь, грязью. Перед дверью в кабинет Деникина томилось несколько незнакомых Врангелю военных и штатских. Однако его главком принял вне очереди.
Встретил сердечно, благодарил за блестящие дела корпуса, как и прежде, просто и искренне. С производством в генерал-лейтенанты поздравил так горячо, будто не он сам подписал приказ в прошлый четверг.
Врангель усаживался за приставной столик основательно. Открывая полевую сумку, отвлёкся на миг и едва не свалил, задев грязным носком сапога, плетёную корзину для бумаг. Начать приготовился с воссоздания регулярной кавалерии...
Но разговора не получилось: услышав о его намерении разрешить целый ряд вопросов, Деникин поспешно велел обо всех нуждах корпуса сообщить Ивану Павловичу. Правда, тут же пообещал во всём, что от него зависит, помочь. Главкому явно было некогда. Поинтересовавшись настроением казаков, он удовлетворился самым общим ответом и, похоже, ни о чём более расспрашивать не намеревался.
Врангель не дал установиться паузе.
— Антон Иванович, прошу отвести корпус в ваш резерв. Трёхмесячные непрерывные бои измотали части до последней степени. Погода в районе действия установилась морозная и ветреная. Люди и кони отказываются работать. Противника преследуют шагом, а атакуют рысью. Нужна хотя бы неделя для отдыха, а главное — для перековки лошадей. Ведь уже лёд кругом...
— Не знаю, Пётр Николаевич, право... А как же без ваших кубанцев взять Святой Крест? Там ведь неисчислимые запасы... И Терек ждёт помощи... — Деникин с сомнением покачал головой. — Нужно посоветоваться с Иваном Павловичем.
— И ещё, если позволите... Та ожесточённая борьба, которая развернулась теперь здесь, в Екатеринодаре, когда на фронте идут кровопролитные бои, наносит непоправимый ущерб нашему делу. И послабление местным демагогам чревато последствиями: всякую попытку найти с ними компромисс они принимают за проявление слабости главного командования...
Деникин, откровенно нахмурившись, повернул голову к зеркалу. На консоли стояли французские часы «Шарль Лерой» — красного дерева, с резьбой, увенчанные бронзовым трубачом. Врангель успел проследить за его озабоченным взглядом: ещё немного — и стрелки сомкнутся на 12-ти.
— .. .Я считаю, одного вашего окрика будет достаточно, чтобы в корне пресечь выступления самостийников. Поверьте, Антон Иванович, я хорошо знаю казаков: жёсткие дисциплинарные меры сразу отрезвляют их и приводят к покорности...
— Лучше, Пётр Николаевич, поверьте вы мне... В сложившейся ситуации насильственные меры не годятся. К положительному результату они не приведут.
Приподнявшись как-то неуклюже, Деникин через стол протянул руку на прощание. На лицо его снова возвратилась улыбка, такая же добродушная.
Разочарования Врангеля она не смягчила. Закрывая за собой тяжёлую дубовую дверь, чересчур резко дёрнул ручку. Хотя и успел в последний миг придержать, чтобы не хлопнуть. Вдогонку ему часы принялись звонко и, показалось, насмешливо отбивать полдень...
Беседа с Романовским, перед самым обедом, вызвала одну только досаду.
Начальник штаба говорил с ним, как никогда, любезно, никуда не торопился, внимательно слушал, уточнял, даже помечал что-то карандашом в блокноте, но глаз от бумаг и телеграмм, наваленных ворохами на столе, почти не отрывал. И от решительных ответов уклонялся: и обещаний не давал, и отказывать не отказывал. Хотя предложением приступить к формированию регулярной кавалерии заинтересовался. Во всяком случае, сразу включил его в уже созданную, как выяснилось, при штабе комиссию по изучению организации конницы.
— Задержитесь на недельку, Пётр Николаевич, и дайте свои предложения комиссии. Заодно и отдохнёте.
— Как прикажете. И последнее, Иван Павлович... Представления офицеров и казаков корпуса к награждению залёживаются в штабе по два-три месяца. И это несмотря на неоднократные мои напоминания. В результате многие достойные люди выбывают из строя, так и не дождавшись заслуженной награды. В том числе и убитыми.
На этот раз, не без удовлетворения отметил Врангель, невозмутимость изменила начальнику штаба: надменные губы недовольно поджались, рука тупым концом карандаша отбила по столу нервную дробь.
— Я разберусь. Но заметьте, что ваше представление к производству Науменко, Улагая и Топоркова в генерал-майоры было удовлетворено без промедления.
— Благодарю...
И уже ничего, кроме раздражения, не вызвала беседа с новым генерал-квартирмейстером полковником Плющевским-Плющиком. Спасибо, Апрелев загодя предупредил о его особой близости к Романовскому: несколько лет перед Великой войной оба служили в Главном управлении Генштаба, с Петербурга ещё дружат семьями, генкварт смотрит начальнику штаба в рот и каждое утро к половине девятого бегает к нему на Гимназическую с докладом.
То поправляя никелированное пенсне, посаженное на мясистый, с красными прожилками, нос, то подкручивая кончики тёмных кошлатых усов, будто проверяя, на месте ли они, Плющевский-Плющик добросовестно вникал во все беды и нужды корпуса. И хотя держался он не без напыщенности, обычной для «моментов», Врангель всё же разглядел за ней отзывчивость и искреннее желание оказать возможную помощь. Тем сильнее поразило полное отсутствие в нём самостоятельности... Похоже, генкварт — третье лицо в штабе главкома! — даже боится её. Иначе к чему поминутно оговариваться: «как решит Иван Павлович», «что скажет Иван Павлович», «как посмотрит Иван Павлович»...
Выйдя от Плющика, сразу устремился в отделение связи. Раздражение дошло до кипения... При таком наплевательском отношении Ставки остаётся одно: полкам приступить к перековке прямо на передовой. И немедленно, пока затишье.
Приказ диктовал телеграфисту напористо и громче, чем следовало бы. Поймав на себе озадаченный взгляд дежурного офицера, сбавил тон...
Уже смеркалось, когда он шагнул, даже не застегнув шинели, за порог штаба. Ещё немного, чувствовал, и слетит с нарезки. Целый день — псу под хвост... Ни одного вопроса «моменты» не решили! А на фронте люди его корпуса платят кровью за все эти штабные безобразия.
По-мальчишески сбежав по ступеням каменного крыльца, приостановился и несколько раз вдохнул полной грудью.
Ничуть не остудили ни холодный влажный воздух, ни даже роскошный вид поданного по приказанию генерал-квартирмейстера, чтобы отвезти его на вокзал, автомобиля. И откуда это у Плющика взялось столько инициативы-и смелости?! Или успел испросить соизволения Ивана Павловича? Чёрт знает что!
Гаркуша, открывший уже дверцу, не понял, чему чертыхается начальник. И настроения не уловил: худющее лицо как неживое, длиннополая шинель нараспашку, садиться медлит и смотрит не пойми куда.
— А до Рождества, ваше превосходительство, в Катеринодаре завсегда такая мокреть.
Мотор приглушённо рокотал, из выхлопной трубы вырывался сизый удушливый дым. В ярко-белом свете передних фонарей поблескивала, падая в чёрную жижу, редкая изморось.
4 (17) декабря. Екатеринодар
Накануне выборов Кубанского войскового атамана Врангель до полуночи засиделся у Драгомирова, в особняке пивовара Ирзы на Екатерининской улице. Назначенный Деникиным после смерти Алексеева председателем Особого совещания при главкоме, тот переехал сюда, в освободившуюся квартиру покойного. Здесь же разместились канцелярия и некоторые отделы Особого совещания.
Драгомиров не сомневался в избрании Филимонова.
— Казаки, Пётр Николаевич, — с профессорской основательностью рассуждал он, сухо покашливая, — с молоком матери впитывают убеждённость, что войсковым атаманом непременно должен быть военный. И притом в генеральском чине. А штатских они и за людей-то не считают... Так что Букретов как кандидат был для нас опаснее Быча.
— Думаете, на нём можно поставить крест? Ведь генералов у нас редко осуждают.
— Ну, если и выйдет на свободу, то не скоро. Следствия по делам о взятках и вымогательстве — штука волокитная.
— А по чьему приказу он был арестован?
— Военного прокурора Кубани полковника Лукина. Неделю пришлось уламывать Филимонова, чтобы он дал прокурору такое указание. Да и то... Письменное дать струсил, смелости хватило только на устное.
— Улик не нашлось?
— Когда дело касается снабжения армии, улики всегда находятся... — наставительно покачал пальцем Драгомиров. — Быч ещё не раз пожалеет, что назначил его своим товарищем по ведомству продовольствия и снабжения. «Линейцы» не преминули воспользоваться и теперь самого Быча обвиняют в злоупотреблениях.
Драгомиров боролся с прилипшей простудой по-стариковски: обмотал горло шарфом из верблюжьей шерсти, закутался в тёмно-синий стёганый халат, упрятал ноги в толстые шерстяные носки и войлочные тапочки, втиснулся в вольтеровское кресло, пододвинутое почти вплотную к жаркому изразцовому боку проёмной голландской печи, и в довершение всего прихлёбывал горячий чай с малиновым вареньем.
Бронзовая люстра висела низко, абажур из плотной зелёной материи, с кистями, поглощал изрядную долю света электрических лампочек, и успокаивающий полумрак нагонял на старого кавалериста дрёму.
Врангель, вольготно рассевшись на обитом гобеленом диване с высокой спинкой, потягивал голицынский красный мускат. Хотя и тёплый, но с тонким и возбуждающим букетом... Его стараниями — до того соскучился по сладкому — от горки слегка подгоревших кексов с изюмом остались на блюде одни сухие крошки. А к чаю не притронулся: едва скинув шинель, сразу согрелся в протопленном сверх всякой меры помещении. Но приходилось мириться с привычками хозяина и преть в черкеске. И удивляться, как не засохли ещё в этой духоте цветы, расставленные на широких подоконниках.
— Умно сделано. Одним выстрелом убиты два зайца...
— Выстрел мог быть и убойнее, если бы Шульгин не уехал в Яссы.
— Зачем?
— Союзники пригласили на совещание относительно планов помощи нам. Жаль... Его перо пригодилось бы сейчас как нельзя кстати.
— Но Деникин, кажется, хотел закрыть его «Россию». Разве нет?
То ли недоумение Врангеля стало тому виной, то ли напавший кашель, но сонливость с распаренного лица Драгомирова отступила.
— С чего ты взял? Это правительство Быча требовало закрыть газету... Алексеев и Деникин хотели погасить конфликт. Пригласили Шульгина на беседу и меня с Романовским... Ну, Деникин попенял ему слегка за выпячивание монархизма. Но Шульгин тут же заявил, что раз так — больше писать не будет...
— Его излюбленный вольт.
— И очень эффектный, доложу тебе. Как это Шульгину да не писать?! А кто даст отпор Краснову и Бычу? Кончилось тем, что Антон Иванович махнул рукой и сказал: «Пишите, что хотите!»
— Жаль, что он не поступил подобным же образом, когда Покровский и Шкуро предложили ему произвести переворот.
— Не-ет, Пётр Николаевич, дело обстояло иначе... — Драгомиров задержал на собеседнике оценивающий взгляд: удлинённое лицо Врангеля затушевала тень от абажура, и он не столько увидел, сколько почувствовал, как бродит в бароне раздражение. — Разогнать Краевую раду и правительство Покровский и Шкуро предложили Филимонову. Чтобы он всю власть сосредоточил в своих руках... А Филимонов, конечно, запаниковал и сразу помчался к Романовскому. Тот доложил Деникину, а потом вызвал Покровского и от имени главкома категорически воспретил всякие выступления.
— Вот как... Разумеется, не мародёру Покровскому водворять порядок на Кубани... — процедил Врангель. — Но разве не сам Деникин обязан взять на себя одиум[83] разгона местных демагогов? Иначе какой же он главком...
— Не горячись, Пётр Николаевич, ты не на фронте... Многие обвиняют командование в попустительстве сепаратизму «черноморской» группы... Мы с Лукомским как-то сказали ему об этом прямо. А он тут же поставил вопрос ребром: если мы убеждены, что переворот разрубит гордиев узел, он завтра же прикажет Корниловскому полку разгромить кубанское правительство... И мы, чтоб ты знал, оба ответили «нет». Сам посуди... Разогнать Раду — хватит одного полка. А как потом усмирить станицы, выбравшие своих представителей в Раду? Тут не хватит и всей армии. Да вдобавок она расколется на добровольцев и кубанцев...
Приподнявшись с дивана, Врангель взял с круглого чайного столика и поднёс к глазам полупустую бутылку. Слишком близко — золотистые и чёрные надписи на красной этикетке расплылись. Но важно было не прочитать, а уйти из-под пристального взгляда старого кавалериста, не подать виду, сколь неожиданным и неприятным стало для него открытие: Деникин не одинок в своей слабости.
— А компромисс возможен?
— Боюсь, что нет. Самостийники руками и ногами держатся за «суверенитет» и «союз равных». Хуже того — отдельным пунктом включили в проект конституции края создание Кубанской армии.
— Скверно.
— Толку-то от этих компромиссов... — бросил в сердцах Драгомиров: разочарование в голосе Врангеля и смутило, и раздосадовало его. — Да пойми ты, Пётр Николаевич... Диктатура устанавливается одной лишь силой. Если она есть... А если нет, тогда и остаётся вести переговоры и искать компромисс... И заключать соглашение. Однако таким соглашением может быть установлено всё, что угодно, но только не диктатура.
Эта мысль поразила Врангеля беспощадной логикой и ясностью формулировки. Какое-то время она металась в его сознании, приживаясь и укореняясь, пока Драгомиров откашливался и промокал батистовым платком капли пота, обильно выступившие на высоком круглом лбу и седых висках.
— Ежели так, не на Филимонова надо ставить... А надо искать более решительного человека.
— Уже нашли.
— Кого же?
— Науменко. Хотя он из старейшей черноморской фамилии, но крепкой российской ориентации. Для начала нам, надеюсь, удастся протолкнуть его в правительство, на место управляющего военными делами. То бишь в походные атаманы.
— Но ведь у походного атамана власти кот наплакал...
— Не скажи. Если самостийники на деле возьмутся за создание армии, походный атаман станет ключевой фигурой.
Врангель сам удивился, насколько мало он задет. Хотя главком и Романовский в очередной раз с ним не посоветовались... Всё же не лёг Науменко на душу: писанину предпочитает бою, а дешёвую популярность — справедливой строгости начальника. Протолкнут в «министры» — не самая страшная будет потеря для корпуса: Топорков отлично командует 1-й конной.
— Так вы допускаете, Абрам Михайлович, что Деникин всё-таки уступит им и разрешит формирование?
Драгомиров с тяжким вздохом стал выгребаться из кресла. Показывая тем самым, что пора на покой.
— Пока добровольческие полки воюют под Ставрополем, а Ставка расположена в Екатеринодаре... — произнёс устало, запахивая халат плотнее и затягивая пояс, — они просят у нас разрешение. А как только мы уйдём на север — обойдутся без него.
Хозяин счёл необходимым проводить гостя до передней. Внимательно наблюдал, как тот ловко, будто делал это всю жизнь, надевает поверх серой черкески полевую шинель и аккуратно насаживает на голову кубанскую папаху чёрного цвета.
— Антон Иванович, кажется, имеет на тебя серьёзные виды...
— То есть? — Врангель чутко уловил в тоне Драгомирова и многозначительность, и сомнение.
— В плане того, чтобы объединить в твоих руках всю кубанскую конницу. На худший случай... Если самостийники оторвут Кубань от России, хоть какая-то будет гарантия, что удастся удержать казаков на фронте.
Врангель без видимой необходимости снял папаху и принялся разглаживать алое донышко.
— Боюсь, Абрам Михайлович, при такой политике в тылу... никаких гарантий на сей счёт быть не может.
Теперь Драгомиров отозвался не сразу: отвлекли замигавшие вдруг каплеобразные лампочки двух бронзовых бра. Не ослабляя прищура, перевёл пристальный взгляд на гостя.
— Ну... тогда ты первый останешься без войск.
Врангель только руками развёл. Загар давно сошёл с его худого вытянутого лица, обнажив обычную бледность, и в потускневшем до тёмной желтизны электрическом свете оно приобрело какой-то тифозный оттенок.
8 (21) декабря. Екатеринодар
— Поздравляю, Вячеслав! Ужасно рад за тебя.
Дружный звон сдвинутых хрустальных бокалов перекрыл благодарные слова Науменко. Бешмет алого батиста, новая тёмно-серая черкеска, ладно пошитая из тонкого сукна фабричной выделки, с чёрно-алыми погонами Корниловского конного полка и богато отделанный серебром горский кинжал необычайно шли высокой и тонкой фигуре виновника торжества.
Поначалу Науменко собирался устроить небольшой банкет в Войсковом собрании. Само собой, пригласить и Врангеля, удачно прибывшего с фронта: вместе отметить заодно и производство в генералы. Но, дабы укрыться подальше от глаз и ушей тыловых сплетников, переиначил: предпочёл по-семейному отобедать у близких родственников. В их одноэтажном каменном доме, выстроенном перед войной в конце Крепостной улицы, почти на самом берегу Кубани, близ пристани.
По-станичному обильный стол, старых устоев казачья семья, большая и дружная, и прошлогоднее цимлянское привели Врангеля в доброе расположение духа. Но даже привезённая из Темрюка дивная чёрная икра, паюсная и зернистая, не заставила забыть о деле. Извинившись перед стариками и оставив жену отбиваться от расспросов любопытных казачек, удалился с Науменко.
Их провели в пустующую комнату старшего из сыновей, служившего в 1-й конной дивизии и погибшего в сентябре под Михайловской.
Поговорить было о чём...
...Избрание войсковым атаманом Филимонова и сформирование им нового правительства под председательством «линейца» Сушкова, куда Науменко вошёл начальником Военного управления, по существу — походным атаманом, вызвали эйфорию в штабе Добровольческой армии. Все наперебой уверяли друг друга, что наконец-то создалась благоприятная обстановка для урегулирования отношений с Кубанью.
Но Врангелю эти настроения показались чересчур оптимистичными. И на то были веские причины.
Филимонов победил лишь с незначительным перевесом: в его урне насчитали 275 голосов, в урне Быча — 247.
И в тот же день Рада почти единогласно приняла в третьем чтении конституцию, разработанную «черноморцами». И хотя называлась она «Временным положением об управлении Кубанским краем» и предварялась декларацией о «неразрывной связи с Россией», каждая её статья юридически закрепляла самостоятельность Кубани.
Дальше — больше: при избрании Законодательной рады[84] в неё прошло всё активное ядро «черноморской» группы...
...Науменко сразу подтвердил его худшие предположения:
— Быч хоть и штатский, но он ведь опытный администратор. Вся Кубань знает, что он работает сутками напролёт и не трус... А Филимонов малодушен и бремени власти предпочитает комфорт и почести... общем, Бычу помешало только одно: его враждебность к Добровольческой армии.
— А арест Букретова разве не подмочил его репутацию?
— Да нет, пожалуй... Всё же сразу поняли, что это интриги Филимонова. Так что у «линейцев» против него только один козырь и был... Ведь углубления розни с добровольцами мало кто хочет, а разрыва — просто боятся.
— Так почему же, ежели боятся, за конституцию эту самую проголосовали?
С большой фотографии, висящей на стене и хорошо освещённой даже неяркой пятисвечовой лампочкой, задорно смотрел молодой скуластый сотник. Траурная лента прикрыла один погон. Напротив, над аккуратно застеленной кроватью, висела поверх ковра кавказская шашка: обтянутые чёрной восчанкой ножны, потускневшего серебра головка, сильно потёртый ремённой темляк.
— Видите ли, Пётр Николаевич... Казаки с молоком матери впитывают народоправство...
— Да погоди ты, Вячеслав, про молоко... — нетерпение подхлестнуло Врангеля. — Ты мне вот что объясни... Как это в один и тот же день можно выбрать атаманом сторонника союза с Добровольческой армией и принять конституцию, которая устанавливает независимость Кубани? Позорище какое-то, а не народоправство!
— Пётр Николаевич, поймите... Казаки ещё и потому горой стоят за самостоятельность войска, что считают это лучшим способом защититься от большевистской анархии и разбоя. А с другой стороны — избежать разорения, которым чревато для них пополнение и снабжение армии. Идя на Москву, она же будет расти и требовать всё больше...
Сидел Науменко на слегка расшатанном венском стуле прямо, как в седле, расслабленно положив руки на круглый одноногий столик, покрытый белой кружевной салфеткой. То и дело поправлял округлый чубчик, окружённый с двух сторон высокими залысинами, — будто собирал разбежавшиеся мысли. Лицо его осунулось. Со свежестью сошло и доброе выражение. И говорил не то что нехотя, а как-то замедленно и раздумчиво, голосом тихим и ровным, словно опасался потревожить душу погибшего.
— Ты о чём?
— Ну, как же... Ведь Кубань, считайте, единственная база армии. Где ещё взять людей, лошадей, зерно, мясо? Весь смысл куцей автономии, которую Драгомиров с Лукомским навязывают краю, в том и состоит, чтобы изъять из ведения кубанского правительства мобилизации и снабжение армии... И к чему это приведёт? Хозяйства казаков лишатся большей части рабочих рук... Подрядчики скупят все по низким казённым ценам, как в прежние времена... А население останется с одними бумажными деньгами. А они прямо на глазах превращаются в конфетные фантики... А казаки как были, так и есть казаки: и большевиков ненавидят, и добра своего жалко...
— Хотят и рыбку съесть, и на мель не сесть. Так, что ли?
— Деникин и его Особое совещание хотят того же, по-моему.
— Ну, хорошо, а новое правительство... этого...
— Сушкова.
— Да, Сушкова. Оно сумеет радикально улучшить отношения между Кубанью и главным командованием?
Науменко, пожав неширокими плечами, ответил не сразу. Второй уже месяц крутясь в Екатеринодаре как белка в колесе и задыхаясь в чаду политической кухни, он сам того не желая приходил к заключению: улучшение этих отношений зависит прежде всего от Деникина и его ближайших помощников. Слишком много набралось примеров тому, что они не желают считаться с вековыми устоями жизни казаков, с их войсковыми установлениями и психологией... Взять хотя бы сформирование 1-го конного корпуса: Ставка включила в него девять кубанских казачьих полков, а назвала только «конным», а не «Кубанским». Гордость офицеров и казаков была уязвлена. Иные до сих пор обиду в частных письмах высказывают... Стоит ли говорить Врангелю неприятную правду?
— Боюсь загадывать, Пётр Николаевич. Будем надеяться, во всяком случае... Но пока война с большевиками во всероссийском масштабе не завершится, поводы для ссор будут возникать ежедневно. Сами же знаете, что такое в нынешних условиях снабжение армии...
— Знаю, к сожалению... А в вопросе о Кубанской армии как он себя поведёт, Сушков этот?
— Видите ли, далеко не всё зависит от правительства... Есть ещё депутаты Рады, представляющие население... А для станичников войсковая власть без собственной вооружённой силы — всё равно что казак без лошади. Ведь у Донского войска есть армия... А Кубанское чем хуже? Наконец, покойный Корнилов обещал, что у нас будет своя армия.
— Но ведь обстоятельства изменились. Разве нет?
— Скорее не обстоятельства, а люди... — Науменко посмотрел Врангелю прямо в полуприкрытые верхними веками иссера-жёлтые глаза: они излучали живейший интерес и требовали полной откровенности. — Алексеев и Корнилов были для кубанского казачества настоящими вождями. И Деникина казаки знают... Но кто такие Лукомский с Драгомировым? Они для простых станичников — досужие перелёты, и не больше. Прибежали на Кубань в поисках приюта... А держат себя с казаками, как патриции с плебеями. А кто дал право Шульгину оскорблять казаков? Называть их «туземцами», а членов Рады — «парламентариями в черкесках»?
— Да Бог с ним, с Шульгиным... Давай-ка вернёмся к Деникину. Почему, по-твоему, он до сих пор не сподобился наладить отношения с кубанскими властями?
— Боюсь, по правде говоря, он попросту не способен... Он же совершенно не учитывает казачью психологию. Ведь народоправство у казаков в крови, а революция дала им возможность впервые построить свою власть... И пока его грубые попытки подмять Кубанское войско только и ведут к тому, что казаки начинают видеть в нём не освободителя, а реставратора старого режима...
— Но разве не Добровольческая армия освободила Кубань?
— Но состоит-то эта армия из кого? На десять тысяч добровольцев приходится тридцать тысяч кубанцев. Вот казаки и считают, что добровольческая власть — государство без народа и территории...
— А как же Черноморская и Ставропольская губернии?
— Две губернии — ещё не вся Россия. К тому же и они освобождены от большевиков при участии самих казаков. Нашей же дивизией... Разве нет?
Врангель кивнул едва приметно. У него возникло вдруг смутное ощущение: разговор этот он уже вёл когда-то с кем-то...
— А сам ты, Вячеслав, как бы развязал этот узел? Ежели бы стал, предположим, войсковым атаманом...
Короткий смешок Науменко, тихий и смущённый, Врангель истолковал как признак полного отсутствия в нём подобных честолюбивых намерений. Не заблуждаются ли Деникин с Драгомировым в его способности заменить Филимонова?
— Не скажу, Пётр Николаевич, что это просто... Ну, переименовать в «Кубанские» все части, которые сплошь состоят из кубанских казаков. И в первую голову — ваш корпус... Далее приступить к формированию из третьеочередников конных и пластунских частей для службы в тылу. Ведь порядок поддерживать нужно... Вот и была бы Кубанская армия. И казаки бы не чувствовали себя обделёнными, и самостийники потеряли бы главный козырь.
— Да, но как при этом не разрушить единое командование?
— А первым же приказом все части Кубанской армии, действующие на фронте, передать в подчинение главкому...
— А как быть с офицерами регулярных войск, которые окажутся в этих частях? Ежели они не согласятся служить в казачьей армии?
— Конечно, безболезненно этот процесс не пройдёт, но что-то можно придумать... Вас, например, не мешкая принять в коренные казаки.
Глубокая задумчивость и открытый взгляд Науменко отметали всякие подозрения в недомолвках и лицемерии. Скорее, заключил Врангель, генштабист и потомок вольных запорожцев не всегда договариваются между собой в его душе. Хотя мысли высказывает весьма неглупые... Энергии бы ему побольше и решительности. И честолюбия. А то что-то не похоже, чтобы он ужасно радовался свалившейся в одночасье высокой должности... Больше, по всему, рад зачислению в постоянные списки Корниловского конного полка. Иначе зачем цеплять на новую черкеску — очень красивого, кстати, покроя — генеральские погоны именно Корниловского конного, с чёрными звёздочками?.. Нет, всё-таки плохо Деникин с Драгомировым разбираются в людях.
— Послушай-ка, Вячеслав... А кто бы, по-твоему, мог в будущем заменить Филимонова?
— Не знаю, кто мог бы... Знаю, кто хочет. — Науменко даже поморщился брезгливо. — Выскочка Покровский. По всем станицам рассылал своих офицеров и огромные деньги швырял... Чтобы сходы выносили приговоры за его избрание войсковым атаманом. Некоторые горячие головы в Раде даже поддержали его поначалу, но потом, слава Богу, опамятовались. Как можно?! Он же — чистый Бонапарт по повадкам...
— А чего же ты от него хочешь? Он привык парить под самыми облаками.
— Имейте в виду, Пётр Николаевич... — Науменко не поддержал шутки. — Покровского кто-то здорово настраивает против вас. Он уже заявлял своей лавочке: Врангель — немецкий барон, а не казак, и потому казаков обижает. Будьте с ним настороже...
Мгновенный прищур скрыл от Науменко мелькнувший в глазах Врангеля недобрый огонёк.
— Наплевать и забыть. Сам-то он какой казак?.. Слушай-ка, Вячеслав, что-то уже бокалов жажда просит... — Прихлопнув ладонями по коленям, Врангель резко поднялся. — А кто, любопытно знать, вступит в командование отдельной Кубанской армией? Ежели она будет создана... Не походный ли атаман?
Совершенно не в лад нарочито озабоченному тону глаза его уже смеялись.
Аккуратно приставляя стул к стене, Науменко попытался, но не сумел сохранить серьёзность: сухие губы, чуть прикрытые маленькими усиками, сами собой растягивались в широкую улыбку, бесхитростную и слегка смущённую.
— Как положено по старой обыкновенности. А вам что, Пётр Николаевич, было бы зазорно состоять в моём подчинении?
— Ну, отчего же... Ты же — не адвокат Керенский и не прапорщик Крыленко.
Рассмеялся, тихо прикрывая дверь в комнату погибшего сотника, один Науменко.
— А кстати, Вячеслав, где ты шил черкеску? Я собрался вторую заказывать, парадную...
9 (22) декабря. Екатеринодар
Только что отморосил недолгий дождик.
Выйдя из штаба армии, Врангель глянул на медленно плывущие мохнатые серые тучи, поколебался и всё-таки повернул к Зимнему театру: потянуло просто прогуляться по Красной. Несмотря даже на грязь и непогоду... На ногах, давно заметил за собой, и думается лучше, и нервы быстрее успокаиваются.
Миновал тёмную прямоугольную глыбу театра, прошагал ещё два квартала, до перекрёстка трамвайных путей, повернул обратно... Пока шёл, трижды встретил похоронные процессии: после отпевания в соборе везли на военное кладбище офицеров Кубанского войска. Всё скромно и даже бедно — никакого катафалка и никаких венков. Неказистая рабочая лошадёнка, мешая копытами густую грязь, тянула простую телегу. На крышке некрашеного деревянного гроба покоилась фуражка с алым околышем. За телегой брели с десяток родных, женщины — в чёрных шерстяных платках. Несколько казаков из войскового музыкантского хора с привычной слаженностью играли похоронный марш.
Каждый день эти пронзительно-тоскливые звуки доносились из разных концов города...
С утра нынче, планируя день, не собирался заходить к Драгомирову. Но прогулка не помогла придумать ничего лучше, как обратиться именно к нему: ведь ни один из вопросов, ради которых он бросил фронт, Романовский с Плющиком так и не решили.
Да и весь штаб армии произвёл на него скверное впечатление. Отделы, отделения и службы множатся и расползаются по городу — он разбух уже до размеров штаба фронта. И безнадёжно тонет в море бумаги: больше сотни офицеров занимаются исключительно писаниной и вычерчиванием схем. Беспрерывно заседают всевозможные комиссии: пересматриваются уставы, разрабатываются положения, составляются штаты.
Комиссия по организации конницы, где собралась почти дюжина полковников, армейских и Генштаба, увязла в малозначащих изменениях в штатах. Одного заседания ему хватило, чтобы твёрдо решить: воду в ступе пусть толкут без него...
Всю ночь потом, вдохновляемый приступами раздражения, сочинял докладную записку об организации инспекции конницы — особого органа для воссоздания кавалерийских полков. Жирно зачёркивал и переписывал, попутно кляня раздвоившиеся перья и пишущую машину «Мерседес», виноватую только в том, что осталась в Петровском.
Детально и со знанием дела обсудив его записку, члены комиссии — тут он вынужден был отдать им должное — единогласно поддержали её. И передали Романовскому. Прошло уже пять дней, а ответа всё нет...
Драгомиров совсем расхворался: гнусавил, трубно сморкался и надрывно кашлял, багровея и задыхаясь.
Хотя старался не потерять обычную свою бравость: облачившись в мундир, принимал посетителей в председательском кабинете.
— Наберись терпения, Пётр Николаевич... — не отмахнулся, но и горячего сочувствия не выказал. Копия записки присоединилась к другим бумагам, лежащим на столе, поверх неё легли очки в оправе из накладного золота. — Теперь самое важное для нас — сдвинуть с мёртвой точки «донской вопрос».
Подступившее разочарование Врангель спрятал без труда. Откинувшись на спинку кресла и упёршись локтями в жёсткие подлокотники, он исподволь оглядел кабинет. Обставленный тяжёлой дубовой мебелью, обитой грубой, чёрного цвета кожей и не украшенной даже резьбой, он показался тесным и по-казённому унылым. Даже нагоняющим тоску... Подавил и тяжёлый вздох. Ещё в августе за этим двухтумбовым столом работал старик Алексеев. Жаль, чёрт возьми, не успел попасть к нему: глядишь, меньше было бы сейчас интриг и нервотрёпки...
— Каким же образом? Краснов сам не уйдёт.
— Как сказать... Пуль, доложу тебе, без околичностей предложил свалить Краснова. Но Антон Иванович счёл это излишним... Нас вполне устроит, если Краснов подчинит главкому Донскую армию. И согласится на объединение в наших руках снабжения обеих армий. И ещё признает за нами право проводить мобилизации казачьего и иногороднего населения... И, конечно, распоряжаться донским хлебом и углём...
— Краснов слишком честолюбив, чтобы пойти на такие уступки.
— А куда ему деваться?.. Не уступит — не получит от союзников ни одного патрона. Не сегодня-завтра Пуль переговорит с ним лично... — Драгомиров снова погрузил хлюпающий и покрасневший нос в скомканный платок.
Врангель заподозрил вдруг, что хозяин кабинета неспроста перевёл разговор на Краснова. Нет ли тут намерения убедить его, что включение в состав армии донской конницы сделает излишним воссоздание регулярной кавалерии?
— Надеюсь, Абрам Михайлович, вы не считаете, что донцы в конном строю дерутся лучше, чем гусары и драгуны?
— Вовсе нет, — недовольно буркнул в усы Драгомиров. — Речь о другом... У нас сразу появятся тысяч сорок конницы. И мы сможем перебрасывать её на любое направление...
Задребезжал звонок настольного телефонного аппарата «Сименс и Гальске». Сняв с никелированных вилок массивную слуховую трубку, председатель Особого совещания слушал долго и сосредоточенно, иногда прерывая собеседника ещё более недовольным бурчанием. Но и его было достаточно, чтобы Врангель догадался: Краснов и Пуль никак не могут прийти к согласию относительно времени и места переговоров.
Не успел Драгомиров положить трубку на вилки, как напал кашель. Пришлось Врангелю подождать ещё.
Белёсый свет, проникающий через оконное стекло, уже слегка померк, и всё в кабинете приобрело сероватый оттенок: мебель, бумаги на столе, отёкшее лицо Драгомирова. Потускнела белая эмаль Георгиевских крестов, подрагивающих на его шее и груди.
— Я слишком хорошо знаю казаков, Абрам Михайлович. Донские мало чем отличаются от кубанских... Москвы с ними не освободишь. Поэтому я и поднимаю вопрос о возрождении старых полков.
— В первую очередь небось Конной гвардии? — Драгомиров сумел выдавить из себя подобие лукавой улыбки.
Она и помогла Врангелю уклониться от прямого ответа.
— Там видно будет...
Но Драгомиров, похоже, никакого и не ждал, разом погрузившись в свои мысли. Его частому и тяжёлому дыханию вторил глухим стуком маятник настенных часов. Пухлые пальцы одной руки комкали платок. Другая взялась было за дужку очков, но потом потянулась к ребристому колёсику выключателя настольной лампы. Металлический щелчок — и вспыхнул зелёный, похожий на шляпку гриба, стеклянный абажур, одутловатое лицо осветлилось мучной бледностью, ярко заблестели воспалённые глаза и белая эмаль крестов.
— Возможно... — отстранившись от света, он заговорил наконец, — ...возможно, ставка на казаков отчасти ошибочна. Михаил Васильевич, царствие ему небесное, высказывал такие опасения... Но Деникин слушает одного только Романовского. А тот гвардию не жалует. Сам знаешь, гвардию у нас и прежде не очень-то любили...
— Зато стремились во всём ей подражать. Особенно офицеры провинциальных пехотных полков... — съязвил Врангель.
Драгомиров намёк понял, но пропустил мимо ушей.
— Я, конечно, переговорю с Лукомским по существу твоей записки. Да и с Романовским... Однако мне вот что кажется... Как только возьмём Царицын и выйдем на широкую московскую дорогу, сама жизнь заставит Антона Ивановича прислушаться к твоим доводам.
— А что, есть уже конкретные соображения насчёт Царицына?
— Они были ещё у Михаила Васильевича... — Драгомиров, тяжко вздохнув, помрачнел. — Он ведь в глубине души так и не согласился с планом Антона Ивановича первым делом освободить весь Северный Кавказ, создать здесь базу и только потом двинуть армию на Волгу. Последние недели три не раз возвращался к этому... Уже когда с постели не вставал и одного меня принимал с докладами... Особенно опасался, что на Тереке мы ввяжемся в тяжёлую борьбу с горцами и опоздаем с переброской основных сил на царицынское направление...
— Но Деникин слушал одного Романовского... — Усмешка, скользнувшая по блёклым губам Врангеля, вышла непозволительно злой.
— М-да... Но не забывай, что Краснов своей самостийностью и германофильством путал нам всю стратегию. Пойти тогда на Царицын означало отдать ему Кубань... Вообще, не могу я что-то приладиться к этой гражданской войне... Изволь тут, когда стратегию на каждом шагу приходится приносить в жертву политике...
Хмурость сузила круглые глаза Драгомирова до щёлок, но Врангелю хватило и одного его сильно севшего голоса: он наполнился горечью, сожалением и, почудилось, даже растерянностью. Уже готов был открыть рот, но одёрнул себя: не часто старый кавалерист, даже при всём добром и покровительственном к нему отношении, балует такими откровениями, так что дослушать — важнее, чем высказаться...
— ...Ну, теперь-то, когда борьбу на востоке возглавил адмирал Колчак, стратегический план может быть только один: соединиться с ним на Средней Волге и нанести совместный удар по центрам большевизма. И сейчас самое время повернуть хотя бы часть сил на Царицын. Донцы вплотную подошли к городу...
Кашель помешал Драгомирову закончить мысль. Потом ему потребовалось достать из ящика стола свежий платок.
— Об успешном перевороте в Омске мне говорили в штабе.
Врангель хотел всего-навсего заполнить паузу, но тут же пришлось пожалеть, ибо Драгомиров, стряхнув с себя мрачную сосредоточенность, резко сменил тему:
— А в Киеве как всё перевернулось, тебе говорили? Вот, перед твоим приходом, доставили сводку... — И, водрузив на нос очки, потянул к себе одну из бумаг...
Фонари ни на Екатерининской, ни на Красной не горели, и сырая темень почти без остатка поглотила дома и прохожих. Сквозь неё тускло, но уютно и заманчиво проглядывали разноцветные окна, не закрытые на ночь ставнями, — жёлтые, оранжевые, зелёные... Где-то над крышами ветер гнал гулкий звон колоколов. Из кофеен, шашлычных и чайных через растворенные двери и форточки вырывались пьяные крики, разноголосое пение и разухабистый перебор тальянок. Рысили, разбрызгивая черноземную грязь, крытые экипажи.
Боль, прокравшись в голову, обнаружила себя первыми, пока ещё слабыми, толчками. Словно желая рассеять её, отогнать холодом, Врангель снял папаху. На ходу с силой потёр высокий лоб и мягко пригладил короткие, изрядно поредевшие волосы на темени... Не помогло.
И на душе саднило всё ощутимее... Почему же, чёрт подери, судьба стала так немилосердна к нему?! Ведь не далее как вчера Апрелев убеждал его и показывал телеграммы: французы и англичане, чтобы не допустить в Киев большевиков, пошли на немыслимое — на признание правительства Скоропадского. И твёрдо гарантировали: немцы для сохранения порядка останутся в Киеве, пока туда не придут войска Антанты. А нынешним утром штаб армии получил из Одессы радио об уходе немцев из Киева. Ещё 1 декабря! И Скоропадский исчез в тот же день. С ними сбежал, конечно, задница... Ворвавшись в город, петлюровские банды учинили резню русских офицеров. По сводке, убит и граф Келлер, один из лучших кавалерийских начальников русской армии... Союзники, наобещав с три короба, на деле и пальцем не шевельнули.
Дошли до жены Скоропадского и Бибиковых письма, отправленные Олесей, или пропали, успели они оформить и отправить в Петербург документы для выезда мамы на Украйну — неизвестно. Что теперь с ней станет, страшно подумать... Слава Богу, за деток теперь можно быть спокойным: уж Крым-то союзники ни большевикам, ни петлюровцам отдать не должны. Вдобавок там уже формируются части Добровольческой армии.
Олеся, как пришла весть об уходе немцев, загорелась съездить в Ялту. Хоть и тоска заест без неё, но зато тревог меньше: фронт чрезвычайно подвижен, то и дело рвётся, и потому санитарная служба стала слишком опасной — никакого сравнения с Великой войной. Уже получен пропуск и забронирован билет на пароход Ространса[85]. Послезавтра, во вторник, Киську его любимую поезд умчит в Новороссийск...
Чтобы развеяться, привести в порядок мысли и прогнать боль, снова решил дать крюк: прогуляться до Зимнего театра, а потом вернуться на Екатерининскую, в войсковую гостиницу.
Третий день, как перебрались с женой из купе в просторный номер: члены Краевой рады после выборов атамана начали потихоньку разъезжаться. Но в первую же ночь пожалели об этом.
Часов в 10 вечера явилась ватага подвыпивших офицеров, затопали коридорные и официанты, в зале первого этажа сдвинули и накрыли столы, и пошёл самый бесшабашный разгул. Вдобавок в зал ввели хор трубачей и песенников Кубанского гвардейского дивизиона. Горластых, как те молодые петухи, оставшиеся без курочек. До середины ночи двухэтажный дом войскового собрания сотрясался от пьяных воплей и перестука доброй сотни подкованных каблуков по полу. Дошло и до стрельбы...
Никак, пришло в голову, отмечают победу Филимонова на выборах, но комендант пояснил: «банкеты» эти — еженощные, и начались, как только открылась Рада. «Председательствует» на них обыкновенно генерал Покровский, а компанию ему составляют Шкуро, только что произведённый в генералы, и другие старшие офицеры кубанских конных частей. Нагулявшись, Покровский поднимается в номер и заваливается спать, а Шкуро со своими «волками» до утра носится верхом по улицам с песнями, гиканьем и свистом. Когда отсыпается — никому не ведомо. Разве только на заседаниях Рады.
И действительно, вчерашней ночью разгул повторился в точности. Стреляли, правда, чаще. Закончилось всё трагично: один офицер убил другого.
И подобное, убедился сразу после переезда в центр города, происходит в каждом ресторане и мало-мальски приличной кофейне: прибывшие с фронта и проживающие в тылу офицеры, кубанские и добровольческие, сорят деньгами, напиваются до бесчувствия и дебоширят. Сам любитель — в гвардейском прошлом — покутить, поразился распущенности, с какой вели себя офицеры. А развесёлая какофония, сопровождаемая по ночам этот безудержный кутёж, после не смолкающего целый день похоронного марша показалась форменным кощунством. И все эти безобразия происходят под носом у штаба главкома и Кубанского атамана, о них знает весь город, от них страдают беззащитные обыватели. Но ровным счётом ничего не предпринимается, чтобы прекратить их. Рыба гниёт с головы... А что ещё думать, коль Деникин и Филимонов закрывают глаза на распущенность и разврат своих прямых подчинённых?
Прикинув, без труда подсчитал: ежели обед — из трёх блюд с бутылкой вина — на двух человек отнюдь не в первоклассном ресторане обходится теперь в 90—100 рублей вместо довоенных 4—5-ти, то подобные «банкеты» должны стоить тысячи. Откуда же берутся деньги у этих кутил в погонах? Ведь даже его — генерал-лейтенанта и командира корпуса — основной месячный оклад после декабрьского повышения не дотягивает и до 3-х тысяч. И те выплачивают с задержкой.
Спасибо, Драгомиров доходчиво объяснил причины хронического безденежья: Краснов скаредничает и потребное для армии число донских денежных знаков отпускать отказывается, свои печатать негде, ибо нет подходящих станков и бумаги, а союзники и отечественные богачи скупы, как жид после погрома. В результате срываются закупки лошадей, продовольствия, тёплого белья, медикаментов и всего прочего. А даром никто ничего не даёт: ни казаки, ни кооперативы, ни заводчики, ни торговцы.
Цены между тем всё растут и растут.
Жена, пока пропадал в штабе, прошлась по магазинам и ужаснулась: всё дорожает не по дням, а по часам. Считать с конца августа, когда они приехали на Кубань, — цены удвоились. За буханку простого пшеничного хлеба просят уже рубль, а за французский хлеб — полтора, фунт хорошей говядины стоит уже 2 рубля, дюжина яиц — 14, фунт коровьего масла — 22, а копчёная курица — все 50. Сахарный песок по продовольственным карточкам давать перестали, а у спекулянтов он стоит аж 45 рублей!
Получается, чтобы прожить в Екатеринодаре, только на питание им двоим требуется больше тысячи в месяц! И это — без всяких ресторанов и без кухарки, ежели Олесе готовить самой. А ещё одежда и обмундирование. А ещё квартира и дрова — самое дорогое в городах... А придётся, случись что, деток с Олесиной матерью, да гувернантку с няней в придачу, привезти из Крыма, так расходы возрастут втрое! Не иметь армейского продуктового пайка и бесплатной казённой квартиры хотя бы в две комнаты — никакого генеральского жалованья не хватит... А в Ростове и Новороссийске, говорят, всё гораздо дороже... Цены несутся вскачь, будто их пришпоривают. Будто торгаши от лёгкой наживы совсем голову потеряли, как во время атаки иные конники теряют от страха... Привыкли за войну, мерзавцы, одной спекуляцией барыш наторговывать. А власти, что кубанские, что добровольческие, не способны укоротить не только языки демагогам в Раде, но и руки спекулянтам. Хотя бы ввели твёрдые цены на продукты первой необходимости. Иначе этому безобразию конца не будет...
Впереди запели трубы, зазвенели бубны и загрохотали тарелки. Что-то бравурное и, показалось, очень знакомое.
Пройдя ещё с полсотни шагов, наткнулся на серую толпу. Собравшись у перекрёстка, она глазела с любопытством на распахнутые окна небольшого углового особняка. Из них вырывались яркий свет, клубы табачного дыма и пьяное пение, смахивающее на рёв диких зверей. А под ними, прямо на тротуаре, надрывался хор трубачей, наряженный в алые черкески. Несколько хористов, самые маленькие и юркие, отплясывали «казачка» — легко кружились и ходили вприсядку, с посвистом и прихлопыванием.
Чуть поодаль, держа коней в поводу, стояли в развязных позах казаки. Кто в бекеше, кто в шинели, у кого-то алый башлык небрежно накручен вокруг шеи, у кого-то перетянут крестом на груди, но на всех — широкие папахи волчьего меха. А с верхушек бунчуков, прислонённых к стволу акации, свисали пушистые волчьи хвосты. На пике, косо воткнутой в лунку, тяжело шевелился на ветерке не сразу различимый в темноте значок начальника — напитанное сыростью небольшое чёрное полотнище с серебристой волчьей головой, застывшей в страшном оскале.
Что это за орда такая, сообразил сразу: «волчья» сотня — личный конвой Шкуро, начальника Кубанской партизанской бригады, — уже успела прославиться свирепостью на фронте и безобразиями в тылу. Но всё же поинтересовался у ожидавшего тут же лихача.
— Та це ж батька Андрий Григорич Шкура гуляить, — уважительно пробасил тот.
Он-то надеялся, что убийство одного из собутыльников вернуло кутилам если не совесть, то страх. Не перед тряпками-начальниками, так хотя бы перед Богом... По всему, напрасно: лишь сменили место...
С беззвёздного неба посыпалась, бесшумно падая в грязь, изморось. Сворачивая к гостинице, Врангель поймал себя на каком-то странном, чуть не с оттенком ревности, любопытстве... Наслышан уже предостаточно о геройствах и Покровского, и Шкуро, не единожды находился совсем рядом с ними, но лицом к лицу судьба пока не столкнула. А не мешало бы... Ведь только у этих двоих достаёт решимости пойти на самые крутые меры против кубанских самостийников ради сохранения единства России и армии. Даже на военный переворот! Или ради одних только собственных честолюбивых замыслов?
С партизаном Шкуро более или менее ясно: гражданская война разбудила в нём нравы его предков-запорожцев, но удаль его обратилась по большей части на пьянки и грабежи. Так что он вряд ли способен что-то перевернуть, кроме пары столов в ресторане. А вот Покровский что за птица?
10 (23) декабря. Екатеринодар
Совершенно подавленным поднимался Врангель по крутым ступенькам усыпальницы Екатерининского кафедрального собора. Будто под серой гранитной плитой склепа, подле которого он минут пять простоял в одиночестве, покоились вместе с прахом генерала Алексеева все его надежды на Добровольческую армию. Те, что три с половиной месяца назад привели его на Кубань...
За ночь погода переменилась: беспросветная хмарь, на прощание обильно полив город затяжным дождём, рассеялась, и тёплый черноморский ветерок уступил город морозному затишью. И теперь в яркую голубизну возносилось, слепя и уже согревая, солнце. Сапоги скользили по обледенелому асфальту тротуаров. Дворники, похоже, и не собирались посыпать их песком.
И тихий солнечный полдень, и людское оживление на Красной только обостряли вынесенное из усыпальницы ощущение могильного холода. Мрачные мысли, в отличие от туч, никак не рассеивались...
Екатеринодар осточертел вконец. Обыватели, а с ними и офицеры по-прежнему перемывали кости атаману Филимонову, Бычу и Раде, пережёвывали старую жвачку о неизбежном якобы перевороте, смаковали подробности беспутства Шкуро и «подвигов» его «волков», возмущались ростом дороговизны и исчезновением из продажи то мыла, то спичек, то масла, то сахара, а теперь вот и керосина... Город, по всему, совсем позабыл о фронте, словно тот проходил где-то по реке Москве, а не по Калаусу. Всего в трёх сотнях вёрст... Никто не требовал самопожертвования от себя — все надеялись, что спасение от всяческих зол и бед принесёт кто-то другой. От армии ждали геройства и побед, от властей — порядка и низких цен, от Антанты — помощи войсками и снабжением.
Между тем, как выяснилось из откровений Драгомирова, начали оправдываться худшие опасения насчёт политики союзников в «русском вопросе»...
...Веру умудрённого жизнью Алексеева в их готовность честно исполнять союзнический долг подточила ещё Великая война. А за первый год гражданской её вытеснил желчный стариковский скептицизм: а пойдут ли они вообще на материальные и людские жертвы ради возрождения Великой России? Ведь вместо ожидавшихся миллионов Добровольческая армия получила от французов и англичан сущие копейки. Миражом оказался и Восточный фронт против немцев и большевиков, о воссоздании которого на Волге они завели пластинку в начале лета.
Уже после смерти основателя Добровольческой армии от прибывших в Екатеринодар представителей Антанты стало известно: ещё год назад, вскоре после большевистского переворота, Франция и Великобритания заключили секретное соглашение «о зонах действий» в России. Граница между зонами была проведена от Босфора через Керченский пролив к устью Дона и далее по его течению до Царицына. Деникин счёл эту линию «очень странной», ибо она не имеет смысла ни с точки зрения стратегии, ни с точки зрения доставки снабжения. И совершенно не считается с главными оперативными направлениями — к Москве. Скорее — тут Врангель не мог с ним не согласиться — она предназначена служить интересам оккупации России и эксплуатации её природных богатств. Французы, судя по всему, зарятся на уголь Донбасса, руду Кривого Рога и хлеб всей Украины, англичане — на хлеб Кубани и нефть Баку и Грозного.
Теперь-то ясно, сколь наивны были его надежды на скорейшее занятие союзными войсками Киева. До чего же легко верилось в то, во что так хотелось верить, и каким же горьким стало разочарование...
Почитать газеты — так Пуль, поднимая бокалы на банкетах, не устаёт выражать «вечную благодарность» союзников «за спасение в 14-м году», обещать присылку крупных сил Антанты и выражать уверенность в скором разгроме большевиков... Но разгромили пока только кубанцев: не успев приехать в Екатеринодар, офицеры британской миссии, помешанные, как все англичане, на футболе, первым делом сформировали команду, вызвали на матч местную команду «Виктория» и, конечно, наваляли ей голов от души.
А готовы ли у них планы переброски войск и доставки снабжения на юг России — Деникин с Романовским до сих пор пребывают в неведении. Что же до огнеприпасов и винтовок, в последние три недели отправленных Ставкой на фронт, так их, оказывается, доставили в Новороссийск не союзники, а не кто иной, как Эрдели. На болгарском пароходе под французским флагом... И всё это — русское имущество, и хранится оно в Румынии, на складах бывшего Румынского фронта. Но из лап французов, которые распоряжаются складами, Эрдели его вырвал с, неимоверным трудом.
По всей видимости, заключил, вопрос о снабжении армии союзниками решается в худших российских традициях: скоро только сказка сказывается, а дело совсем не делается, потому что нескоро бумаги пишутся...
...В штаб армии лучше бы не заходил.
От Романовского по-прежнему никакого ответа на его докладную записку. Но к этому он был готов.
А вот другая новость ударила обухом по голове.
Всю неделю собирался, всё откладывал и выкроил наконец-то время проведать нынче после обеда Дроздовского. Не получится серьёзного разговора — так хоть поздравить с производством в генерал-майоры.
Адъютант Плющика и адрес городской больницы дал, но тут же предупредил: очень плох, и врачи неохотно пускают к нему. Рана загноилась, сделано уже несколько операций, но без успеха. Чтобы облегчить страдания от болей, ему постоянно колют морфий. Поэтому он подолгу находится в забытье. А когда приходит в сознание, просит перевезти в Ростов, в клинику профессора Напалкова: верит, что тот сотворит чудо... Хотя здешние доктора полагают, что даже ампутация всей ноги не даст шансов на выздоровление. На днях должны всё же перевезти: атаман Филимонов обещал предоставить свой вагон...
Настроение лишь немного подняли дотошные расспросы и восторженные взгляды корреспондента «Вольной Кубани», отставного есаула в тёмно-синей черкеске и с огромными рыжими усами. Как клещ вцепился в вестибюле войскового собрания... Пригодилась всё-таки записная книжка, куда он самолично перед отъездом в Екатеринодар аккуратно выписал из сводок цифры пленных и трофеев, захваченных дивизией, а потом и корпусом. Весьма внушительные и лестные цифры: миллионы патронов, тысячи людей, сотни пулемётов, десятки орудий... Не пропустить бы только, что там этот клещ понапишет...
Часы-браслет, лежащие под рукой, уже натикали 11. Второй час пошёл, как вернулись с женой после ужина в кофейне «Роскошь». Маленькой, в деревянном домике на Штабной улице, но уютной, а главное — недорогой... Освободившись от поясного ремня, кинжала и черкески, сразу откинул тяжёлую крышку секретера, обтянутую изнутри зелёным сукном, закапанным кляксами. Вчера ещё собирался написать письмо детям...
Внизу, в общем зале, как и прошлой ночью, стояла тишина. Извлечённый из картонной коробки, почти уже со дна, листок почтовой бумаги «Сочевка» и взятая с полочки стеклянная ручка лежали забытые... Не придумал и первой фразы, как одолело вспыхнувшее вдруг желание перечитать черновик своей записки — убедиться, что всё изложено ясно и толково. Так, что и глупец поймёт, сколь необходима инспекция конницы... Почему же Романовский отмалчивается? И до каких пор, чёрт возьми, ему торчать здесь, дожидаясь, когда тот соизволит сообщить своё решение?! Тем более Олесинька завтра утром уезжает...
И при ярком свете люстры с трудом вчитывался в собственные, исчёрканные местами, фиолетовые строчки: то и дело виделись совсем другие — ровные, чёрного цвета, настуканные пишущей машиной...
Цепкая память многое сохранила из рапорта Дроздовского. Резкого и болезненно правдивого... И оказавшегося к подателю безжалостно пророческим... Почему так подробно написал Дроздовский о плохом уходе за ранеными, о небрежности врачей и массовых случаях заражения крови? Почему с таким жаром говорил тогда, в Петропавловской, о безобразиях в санитарной службе? Неужто предчувствовал свою судьбу?
А ежели как раз наоборот: Бог предупреждает человека о том, какая смерть его ожидает, но сам человек не может понять этого предупреждения? Не может по своей самонадеянности и гордыне...
За спиной зашелестел атласный халат. Прохладные полуобнажённые руки мягко обвили шею. Темени нежно коснулся шёпот:
— Петрушенька, давай ты позволишь бумагам отдохнуть от тебя.
За шёпотом подоспели губы, тёплые и настойчивые. Вдоль позвоночника пробежал сладкий озноб, голова затуманилась. Куда там «Пайперу»...
...Попавшихся в сонном вестибюле войскового собрания двух подпирающих друг друга донских полковников в широких шароварах Гаркуша даже взглядом не удостоил. Перемахивая через три ступеньки и придерживая шашку, взлетел на второй этаж. Пальцы цепко сжимали папаху и вложенный в неё запечатанный конверт.
Записка Романовского была краткой, как телеграмма: противник отбросил части 1-го конного корпуса к Торговой, в связи с чем главнокомандующий приказал спешно вернуться в корпус и восстановить положение.
29 декабря (11 января 1919 г.). Петровское
И верил, и не верил своим глазам Врангель: в понятных только шифровальщику группах цифр, слабо пропечатанных на желтоватых полосках телеграфной ленты, ещё влажной от клея, — приказ Деникина о его назначении командующим Добровольческой армией... Но приходилось верить ушам: в гостиной, где отобедали всего пару часов назад, торопливо стучали по деревянному полу подбитые каблуки, звенело стекло бокалов, позвякивали приборы и сипел строгий полушёпот Гаркуши — наставлял вдову полицейского пристава, когда и чего подавать. Получалось чёрт-те что — то ли продолжение обеда, то ли начало ужина.
Есть повод выпить и за Деникина: наконец-таки обломал Краснова. 26 декабря они встретились на станции Торговая. Как уж они там торговались — неизвестно... Но 27-го Деникин издал приказ о своём вступлении, по соглашению с Донским и Кубанским атаманами, в главное командование всеми вооружёнными силами, сухопутными и морскими, действующими на юге России. Потому-то и стал вакантным пост командарма Добровольческой.
Торжественная суета в столовой мешала думать. Прикрывая дверь, не удержался и заглянул: почерневший от древности буфет — нараспашку, высокие узкие бокалы разрисованного хрусталя, мельхиоровые ножи с вилками и бумажные салфетки уже ждут на своих местах. К керосиновой лампе добавились зажжённые свечи, и стеклянные бусы, что опоясывают худосочную рождественскую ель, заблестели всеми цветами. Оболенский бережно расставляет тёмно-зелёные бутылки «Пайпера» с золотистыми этикетками... Корпусные снабженцы, каким-то чудом найдя в Ставрополе на казённом винном складе — странное дело, но «товарищи» не разграбили, — прислали ящик к Рождеству. Остатки берег к Новому году.
От плотно закрытой двери проку оказалось мало: не суета подчинённых мешала — собственное возбуждение. Ноги, налившись жаркой силой, легко и пружинисто вышагивали по комнате. По крашеным стенам металась, размахивая широкими книзу рукавами, длинная тень. Старая лампа с коротким стеклом, подвешенная низко над овальным столом, даже покачивалась... Молодец, Петруша! Три месяца всего, как встал под знамя Добровольческой армии. Соглашался на эскадрон — получил дивизию, а ныне — уже командующий армией. 40 тысяч вооружённых людей в подчинении! Теперь детище Алексеева и Корнилова — в его руках. Не только детище, но и дело... И самые злые языки не повернутся сказать, что выдвинулся благодаря титулу, связям и раболепию перед начальством. Блестящие победы — они и только они помогли обскакать не в меру зазнавшихся «первопоходников».
Всё в нём пело.
И запел бы в голос, не будь риска уронить начальственное достоинство: на ухо медведь наступил, и ещё в детстве все старания матери обучить его музыке и пению окончились полным позорищем. Хотя слушать любил, особенно вальсы и марши. Само собой, напевал про себя во время танца. В компаниях лишь подтягивал, и чем громче драли горло другие — тем смелее. Случалось и запеть машинально дома. В приподнятом настроении — обычно «Как ныне сбирается вещий Олег...», в мрачном — «На сопках Маньчжурии». Но сочувственно-ироничный взгляд жены и без помощи слов быстро обучил натягивать повод. Пора бы и теперь...
Заставил наконец ноги остановиться. Аккуратно, чтобы не закоптил, прибавил фитиль. Развернул двухвёрстку, уже изрядно потёртую на сгибах. Не присаживаясь, крепко упёрся обеими руками в стол.
Всмотрелся... Сине-красная линия фронта извивается по ровным и почти безводным Караногайским степям между речками Калаус и Кума, вместе с ними сбегая с Кавказских предгорий в Кумо-Манычскую впадину. Участок его корпуса дугой выгибается на три десятка вёрст вперёд в направлении Благодарного. Южнее прогибается назад участок 1-го армейского корпуса: Казанович по обыкновению задерживает весь фронт...
...Две недели назад группа войск Таманской армии — более 30-ти тысяч штыков и сабель — неожиданно, вопреки уверенным предположениям разведки, перешла в наступление против 1-го армейского корпуса. Численно уступая таманцам в пять раз, тот понёс тяжёлые потери и, не удержавшись на высотах правого берега долины Калауса, отскочил на левый. Дальнейший отход Казановича к Ставрополю создавал угрозу всему фронту.
В который уже раз Врангелю пришлось предлагать Ставке свою помощь. Получив одобрение Деникина, подчинил Топоркову наименее измотанные и уже перековавшие лошадей полки из обеих дивизий, приказал сосредоточить их в районе Петровского, 21-го на рассвете выдвинуться в направлении села Александрия и, выйдя таманцам в тыл, атаковать их.
Сложилось более чем удачно: главком как раз намеревался свозить миссии союзников на фронт Казановича — показать части 1-го корпуса, но положение их было таково, что осмотр грозил обернуться конфузом, а потому передумал и привёз в Петровское, где готовился к наступлению Топорков...
Погода подвела: восточный ветер прекратился, и сразу потеплело. По утрам стояли туманы, заморосили дожди, вместе с растаявшим снегом они расквасили дороги до непролазной грязи.
Но не подвёл Топорков: бросив увязшие тяжести и часть орудий, хотя и медленно, всё же выдвинулся, ударил, отсёк группу Таманской армии от её штаба в Благодарном, взял сёла Александрия, Сухо-Буйволинское, Шишкино и Медведское, захватил огромные обозы и до тысячи пленных. Остальные, потеряв пути отхода на Святой Крест, бросились на юг и юго-восток. Казанович получил возможность вернуться на прежнюю линию.
Вечером того же дня Деникин объединил наступающие на Святой Крест 1-й конный корпус, 1-й армейский корпус Казановича и отряд Станкевича в армейскую группу под командованием Врангеля. Задачу поставил в самом широком масштабе: удерживать фронт Маныч — Петровское, овладеть Святым Крестом, главной базой 11-й армии, куда подвозятся из Астрахани огнеприпасы, и в дальнейшем действовать в направлении на Георгиевск, в тыл Минераловодской группе красных. С фронта на неё давил наступающий вдоль Владикавказской магистрали 3-й армейский корпус Ляхова[86].
Для преследования противника, отходящего на Благодарное, Врангель направил 2-ю Кубанскую дивизию, придав ей, для увесистости кулака и для уверенности самого Улагая, бригаду из 1-й конной. И не ошибся: безостановочно гоня остатки таманских полков, Улагай разбросал их и 24-го овладел Благодарным. И тем пробил во фронте 11-й армии брешь в 40 вёрст и открыл путь на Святой Крест...
...Назначение воспринял без особых эмоций. Да и временное оно, увы... Куда больше обрадовала телеграмма Олесиньки из Ялты: доехала благополучно, детки здоровы, в Крыму безопасно.
А вот первые донесения Казановича насторожили: какие-то пустые и холодные отписки. «Первопоходник» этот, избалованный Ставкой и теперь, конечно, задетый за живое, способен на любую интригу, лишь бы скорее выйти из-под его подчинения...
Так что всякие мысли приходили, но только не о скором повышении в должности.
Да и не с чего было прийти подобным мыслям. Директивы и сводки из Екатеринодара никакой реорганизации не предвещали. Деникин с Романовским предварительно запросить его согласие, как это полагалось бы, не удосужились. Другие корпусные командиры — Ляхов, Казанович и Боровский — старше и годами, и «добровольческим» стажем. Разве что командуют хуже... Но это ещё не основание ждать от Ставки непредвзятого отношения.
Да и сам приказ о назначении его командармом Добровольческой — бочка мёда с ложкой дёгтя. И даже не одной...
Временно, якобы для того чтобы он смог завершить операцию армейской группы по занятию района Святой Крест — Минеральные Воды, Деникин возложил командование Добровольческой армией на Романовского. Неужто не доверяет до конца? Или всё это — интриги сердечного друга Ивана Павловича?
Соколовский — тут и гадать нечего — штаб командарма не потянет. Значит, кого-то подберёт сам Романовский... Кого? И не здесь ли, чёрт возьми, зарыта собака: ежели временное командование продлится хотя бы две недели, Романовский успеет полностью сформировать штаб из своих прихвостней. Только этого не хватало!
Командиром 1-го конного корпуса назначен Покровский, а сформированная им 1-я Кубанская дивизия, на которую поступает масса жалоб на грабежи, включена в состав корпуса взамен 2-й Кубанской Улагая. Добросовестный и честный Улагай ещё как-то держал своих казаков в узде и благотворно влиял на других начальников, а мародёр Покровский того и гляди весь корпус распустит. И все усилия по борьбе с грабежами — псу под хвост...
Оставить бы Соколовского начальником штаба корпуса — присматривать за Покровским, — но мерзавец этот, конечно, потребует сохранить свой прежний штаб. Начинать с открытого конфликта глупо. Так что самое умное решение — назначить Соколовского начальником штаба одной из дивизий. В конце концов, это его потолок.
Одно утешение — начальником 1-й конной дивизии вместо Науменко, так и не покомандовавшего ею ни часа, назначен генерал Шатилов[87], старинный приятель. Познакомились в Петербурге, когда Павел служил в лейб-гвардии Казачьем полку, а подружились в Японскую кампанию. Дополнительный курс Академии Генштаба тот кончил двумя годами раньше, а Великую войну всю провоевал против турок на Кавказском фронте. Хотя и суховат, и скрытен, и в бою чересчур осторожен, но друзьям предан и казачью конницу знает отлично. А почему, любопытно знать, он так поздно поступил в Добровольческую армию? Вот кого бы взять в начальники штаба, но нужно ещё посмотреть, как будет командовать на нынешней войне...
О чём же Деникин договорился с Красновым в Торговой? Что решили о снабжении, о донском хлебе и угле — в приказе ни слова. И какие теперь установлены отношения с Доном — поди догадайся... Не получилось бы хуже, чем с Кубанью: Дон сохранит не только полную автономию во внутреннем управлении, но и самостоятельную армию. А ежели вдобавок командующим Донской армией останется Денисов[88] — ставленник Краснова и ненавистник Добровольческой армии, — хлопот не оберёшься: оперативное взаимодействие чёрта с два удастся наладить...
Руки начали было складывать карту, но остановились. Взгляд заскользил по крутым изломам берегов Каспийского моря... Удивительно, до чего оно похоже очертаниями на лошадиную голову. А над самым лбом — губернский город Астрахань. Туда ведёт из Святого Креста почтовый тракт. Жаль, не всю 11-ю армию удалось выгнать на него...
За декабрь, подсчитал штаб главкома, 11-я армия сократилась со 100 тысяч бойцов до 40. Состояние их, по опросам пленных и перебежчиков, совсем плачевно: заболеваемость испанкой и тифом — до половины боевого состава, лошади встали, патронов и обмундирования нет, денег не платят. Таманцы — иногородние станиц и сел Таманского отдела, добровольно пошедшие воевать против казачьей власти, — сохраняют завидную стойкость. Но основная их часть полегла под Ставрополем и на Калаусе, а остатки растворились в массе ставропольских мужиков, весьма богатых и мобилизованных насильно. Поэтому настроение подавленное и снова началось митингование, на сторону добровольцев переходят уже целыми частями или распыляются.
На Астрахань — деваться некуда — направится по тракту группа, отошедшая к Святому Кресту. Это 10 тысяч.
Примерно 20 тысяч отходят к Минеральным Водам. Когда добровольцы и восставшие терские казаки возьмут их в клещи, им останется или сворачивать на Владикавказ и уходить по Военно-Грузинской дороге в Грузию, или отступать на Моздок — Кизляр. А оттуда по почтовому тракту через безводные пески, вдоль каспийского побережья — на ту же Астрахань.
И у Маныча задержалась 10-тысячная группа из ставропольских конных и пеших частей. Сил ликвидировать её пока нет.
Какую же задачу главком поставит армии после взятия Святого Креста и Минеральных Вод?
Конечно, освободить Терскую область и взять Владикавказ.
А дальше?
Прикажет гоняться за остатками Минераловодской группы по горам? Занять западное побережье Каспия с Кизляром и Петровск-портом? Взять Грозный? Неизвестно ещё, как встретят армию горцы... Грузия — это известно точно — держится крайне враждебно. Деникин и с нею не сподобился наладить отношения.
Долго ещё, чёрт возьми, наступать спиной к Москве?! Хороша стратегия! Глупость чистой воды...
На север надо поворачивать армию — на Великокняжескую: именно оттуда идёт кратчайший путь на Царицын. И именно в Царицыне зреет серьёзная угроза: в 10-й армии, по данным разведки, будто бы формируются из донских иногородних крупные конные части. Потому-то, возможно, группа генерала Мамантова[89] и не может шестой месяц взять город...
Манычская группа из ставропольцев, несомненно, отойдёт за Маныч. А там установит связь с 10-й армией и прикроет царицынское направление, как того требует главное командование большевиков. Мало того — может соблазниться и ударом по Тихорецкому узлу.
Так что надо спешить, пока она не сорганизовалась, не закрепилась на станциях и в станицах, расположенных по железной дороге Тихорецкая — Царицын и большаку Ставрополь — Царицын, не наладила взаимодействие с 10-й армией. И пока части Донской армии ещё стоят под самыми стенами «красного Вердена», как уже окрестили Царицын болтуны-газетчики.
Главным направлением стало царицынское. И никакое другое. А Деникин, вместо того чтобы ударить кулаком именно туда, растопыривает пальцы между Чёрным и Каспийским морями: ещё в начале декабря перебросил 3-ю дивизию в район Юзовки для прикрытия Донецкого каменноугольного бассейна. Теперь она и приданные ей части сведены во 2-й корпус Май-Маевского[90]. А части, оперирующие на черноморском и азовском побережьях, — в Крымско-Азовский корпус Боровского. Оба корпуса насчитывают, по сводкам, до 15-ти тысяч — больше трети всей армии!
Разумеется, нужен уголь для паровозов и пароходов, нужно обеспечить левый фланг Донской армии, нужно укрепиться в Крыму и на юге Екатеринославской губернии... Да мало ли что ещё нужно! Но всё это — задачи второстепенные. А первоочередная — соединиться с адмиралом Колчаком на Волге. И с фронта Царицын — Саратов двинуться в совместный поход на Москву.
Умнее тут ничего не придумать.
Время-то уходит: Ленин с Троцким тоже не сидят сложа руки.
Или Деникин медлит нарочно... Дожидается, когда 10-я армия отбросит донских казаков от Царицына? Чтобы «трон» под Красновым зашатался сильнее, а то и вовсе рассыпался... А не пересаливаешь ты, Петруша, в поиске интриг везде и всюду? Почём ты знаешь, что на уме у Деникина? Вернее, Романовского...
Стук в дверь не дошёл до сознания — только зазывный голос Гаркуши:
— Треба «по коням» командовать, ваше превосходительство... — В узкий проем приоткрывшейся двери втиснулись потемневший чуб, горбатый нос и довольная ухмылка, полная неровных жёлтых зубов. — А то шампанское дуже потеплеет.
Поощрительно похлопал адъютанта по крепкому плечу, накрытому серебристо-алым погоном с новенькой, третьей, звёздочкой: на Рождество пришёл приказ главкома о производстве представленных офицеров корпуса в следующие чины.
— Слушаю, господин сотник.
Гаркуша и замлел от радости, и глаза свои зелёные от смущения спрятал. Пока все рассаживались шумно, украдкой тернул рукавом черкески под носом...
Крепко зажав щепотью тонкую стеклянную ножку, Врангель встал и высоко поднял наполненный до краёв бокал. Редкие пузырьки, отрываясь, цепочкой проскакивали сквозь бледно-золотистый столбик на поверхность.
— Выпьем, господа, за славных кубанских орлов...
Едва произнёс первые слова тоста, как лёгкая грусть сладко защемила сердце. Боевая жизнь строевого командира, лихая и задорная, уходила, как молодость, безвозвратно. Всё — отскакался верхом, откомандовался эскадронами, полками и дивизиями в широком поле... Осталось только сиднем сидеть в тесном вагоне да отдавать приказы одной бездушной проволоке.
Говорил, воодушевляясь от слова к слову, но не радостные лица вокруг стола, не белая скатерть, уставленная бутылками и блюдами с мясными и овощными закусками, виделись ему, а выгоревшая ковыльная степь, бескрайняя и голая, прорезанная балками и покоробленная пологими курганами... Бесшумно падает изморось... Расквашенная черноземная дорога, покрытая белёсыми пятнами луж, исчезает в слепой пелене... Вся ископычена ушедшей вперёд конницей...
8 (21) января 1919 г. Мариевка
Вечером 4 января Улагай взял Святой Крест.
С продвижением армейской группы на Георгиевск связь с нею оборвалась: инженеры и связисты не успевали восстанавливать электрические, телеграфные и телефонные линии. Поэтому Врангель перенёс штаб ближе к Ставрополю — на станцию Мариевка: отсюда проволочная связь с корпусами, через Армавир, была более или менее устойчивой.
Помещения для жилья на маленькой станции не нашлось, но трясти квартирьеров он не стал: со дня на день ожидал взятия Ляховым Минеральных Вод, а своими войсками — Георгиевска. Так что сформированному только третьего дня штабному поезду скоро переезжать на Владикавказскую магистраль. А в какой пункт — подскажут директивы главкома: если сворачивать основные силы на царицынское направление — в Тихорецкую, а то и в Торговую, если продолжать преследование на владикавказском — в Минеральные Воды.
Позавчера Шатилов после тяжёлого боя взял Георгиевск и перерезал железную дорогу на Владикавказ, перехватив пути отступления Минераловодской группе красных. И тем предрешил участь городов Кавминвод: за вчерашний день части Ляхова без особого труда заняли Ессентуки, Кисловодск и Минеральные Воды. На очереди Пятигорск.
— ...Пятигорск, Пётр Николаевич, будет в наших руках уже сегодня, не иначе: противник позиций не удерживает, деморализован и потерял всякое подобие войсковой организации. Остатки группы, прорвавшиеся из района Минеральных Вод, бегут вдоль железнодорожного полотна на Прохладную. Бросают всё — вооружение, обозы с боеприпасами и имуществом, тысячи раненых и тифознобольных. От Прохладной поток раздваивается — на Моздок и на Владикавказ. Пора, думаю, переводить штаб на станцию Минеральные Воды...
Генерал Юзефович[91] произносил каждое слово отчётливо и тихо. За приставным столиком — карточным, красного дерева, с сильно потёртой полировкой — сидел недвижимо и ровно. Так же ровно стоял над толстой свечой высокий язычок пламени. В желтоватом свете татарское широкоскулое лицо генерала ещё больше посмуглело и залоснилось. Длинные и густые чёрные брови изогнулись сосредоточенно. Узкие, чуть раскосые глаза, подсинённые сильно набрякшими мешками, смотрели прямо. Выражение их было неуловимо.
В другой раз Врангель не пожалел бы времени на обстоятельный разговор с новым начальником штаба, но бронхит напрочь выбил из седла. Голова раскалывалась, и густой низкий голос Юзефовича гудел в ней, как удары близкого колокола. В пересохшем горле будто застрял свернувшийся ёж. А из груди, разрывая гортань, пробивался сухой лающий кашель.
Ещё сильнее досаждал угар. Чтобы протопить вагон как следует, Гаркуша угля не жалел и чугунную печку под водогрейным котлом раскалил докрасна. И угар проникал в его купе сквозь две закрытые двери. Временами Врангель даже подумывал, что именно угар от печки — причина и головной боли, и кашля.
И уже совсем душил прогорклый запах табака, наносимый ровным и глубоким дыханием Юзефовича. От курения тот воздерживался, но это не помогало: табачным дымом, казалось, провоняло всё его крепко сбитое тело, френч, ремни и рыжеватой кожи папка с бумагами...
...К лёгкому покашливанию по утрам давно притерпелся. Завтракая, размягчал горло чаем с травами. А лихорадочная работа и победное воодушевление удерживали болезнь где-то на дальних подступах.
Но в минувшую пятницу всё сломалось.
В полдень пришёл приказ главкома, объявляющий о смерти генерала Дроздовского в Ростове 1 января... А к вечеру простуда скрутила-таки: засаднило в горле, потёк нос и стал накатывать волнами жар.
Пришлось достать из чемодана заветный градусник. Как ни стряхивал его, верхний столбик ртути[92] упорно подбирался к 38°С.
Гаркуша среди ночи кинулся за участковым врачом в ближайшее к станции село Старомарьевское. Но того, выяснилось, увели красные. Тогда без церемоний вынул из постели фельдшера, давно, ещё до Великой войны, отправленного на пенсию.
Старик утешил: бронхит. А боялся испанки...
За добросовестный осмотр и не самый страшный диагноз заплатил 40-рублёвую «керенку». Но от советов — посидеть в тепле, попарить ноги с горчицей, пополоскать горло, за неимением борной кислоты, раствором поваренной соли и подышать, за неимением камфоры, паром только что сваренной картошки — отмахнулся.
Вчера утром сам запретил себе покидать вагон: температура подскочила аж до 39°С, и заныли суставы. Порошки антипирина, запиваемые горячим молоком, выжимали обильный пот, но облегчения не приносили...
Настроение подняло назначение Юзефовича начальником его штаба. Не столько даже персона стала приятным сюрпризом, сколько процедура: генерал-квартирмейстер Плющевский-Плющик в очень любезном тоне телеграфно запросил его согласие.
Виделся с Юзефовичем лишь мельком, в Петербурге. Но слышать доводилось немало и только хорошее: дело знает и чванливости «моментовской» поменьше, чем у прочих. Искать добра от добра не приходилось, и он ответил утвердительно. Тем более своей кандидатуры пока нет.
Хорошая репутация Юзефовича подтвердилась сразу: ещё из Петровской почтово-телеграфной конторы говорил с ним по прямому проводу о формировании штаба, и его доклады и ответы понравились лаконичностью, ясностью и прямотой.
Сюда, на станцию Мариевка, тот прибыл вместе с супругой вчера утром. И первая же личная встреча укрепила положительное впечатление: живой ум, завидная эрудиция, работает как лошадь. Особенно подкупила рассудительность.
А послужной список дорисовал картину: из литовских татар, перед Великой войной служил в Главном управлении Генштаба — там они и познакомились с Романовским, — а в 1914—1915 годах состоял начальником штаба у великого князя Михаила Александровича, когда тот командовал Кавказской туземной конной дивизией. Случайного человека, нисколько не сомневался Врангель, младшему брату императора, склонному к необдуманным поступкам и любителю покрасоваться под пулями, дать не могли. Требовался генштабист с опытом и твёрдым характером, а главное — уравновешенный. Возможно даже, не обошлось без одобрения вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, всей душой переживавшей за сына — благородного сердцем, но слабого характером... Не иначе, в довесок к достоинствам Юзефович имел руку при дворе.
И весьма притом состоятелен: выгодно женился на вдове действительного статского советника Вере Михайловне Станкевич, имеющей собственный дом на Ново-Исаакиевской, в двух шагах от казарм лейб-гвардии Конного полка.
Одна беда открылась: чрезмерно пристрастен к курению. Пришлось, перейдя предварительно на имя-отчество, попросить воздерживаться в его вагон-салоне. Тот принял к исполнению без тени неудовольствия.
И весь вчерашний день и половину ночи, ничем не обнаруживая желания достать из нагрудного накладного кармана серебряный портсигар, Юзефович просидел — то в салоне, то в купе — с кашляющим Врангелем. Обстоятельно докладывал о положении на фронте, о разработке штатного расписания штаба Добровольческой армии и выделении кредитов на его формирование, характеризовал офицеров, намеченных к занятию вакантных должностей, делился екатеринодарскими новостями.
Сам же Юзефович невольно и добил остатки доброго настроения Врангеля.
Сначала обмолвился, что пост командующего Добровольческой армии Деникин прежде всего предложил Романовскому. Но тот отказался, предпочтя вступить в должность начальника штаба главнокомандующего Вооружёнными силами на юге России. И таким образом остаться рядом со своим другом... Выходит, подосадовал Врангель, он вовсе не являлся единственным и бесспорным кандидатом.
А потом и сочувствием по поводу того, что план воссоздания регулярных кавалерийских полков и инспекции конницы, предложенный Врангелем, положен под сукно. Против — самолично Деникин: не желает главком восстанавливать старые полки. Возражает даже против образования их «ячеек», особенно в коннице. Опасается якобы, что из-за нехватки чинов развернуть «ячейки» в полнокровные полки не удастся. И тогда каждый новый полк обратится в мозаику из десятка старых, неуправляемую и небоеспособную...
...— А вы не находите, Яков Давыдович, что Ляхов мог бы самостоятельно взять Владикавказ? Всё-таки десять тысяч... Да и терцы поднялись поголовно.
— Нет, Пётр Николаевич. — Юзефович качнул головой на манер китайского фарфорового болванчика. — Третьему армейскому корпусу с такой задачей не справиться: сформирован меньше месяца назад и многие его части — ополченского типа. Стойкостью не отличаются. И управление хромает...
— Противник разбит, бежит без оглядки, а мы преследуем его всеми силами... Будто Ленин с Троцким сидят во Владикавказе, а не в Москве.
— Конечной целью Северокавказской операции Ставка считает освобождение Терской области и западного берега Каспийского моря вплоть до Махач-Калы, то есть порта Петровск. — Юзефович словно не заметил вспышки Врангеля, его толстые короткие губы под густыми, без признаков седины, усами ни на толику не воспроизвели язвительную усмешку начальника. — И не иначе как по её завершении Ставка планирует начать переброску нашей армии на север.
— На какое направление?
— По разговорам, на царицынское.
— План операции уже разрабатывают?
— Не знаю. Мне, во всяком случае, не поручали.
Говорил Юзефович бесстрастным голосом, сохраняя непроницаемый вид и в подборе слов не затрудняясь. Взгляд его чёрных и будто бы немигающих глаз никогда не уходил в сторону. Такая прямота также показалась Врангелю чрезмерной. И настораживала против воли: ежели он близок к Романовскому, то нет ли в его прямоте двойного дна? Не похоже... Неужто Юзефович настолько умён, что не заразился утвердившимся в штабе главкома предвзятым отношением к нему? Или слишком честен? Такое случается. Но только не с теми, кто имел при дворе руку...
— А в Ставке ясно представляют положение под Царицыном?
— Вполне: сводки из штаба Донской армии поступают ежедневно. И сам Краснов уже просит нас помочь как можно скорее. Пока на фронте не появились войска союзников...
Кашель чуть не задушил Врангеля...
Час спустя пришла шифрованная телеграмма о прибытии завтрашним утром поезда главкома на станцию Минеральные Воды, и Врангель приказал немедленно переводить штаб туда...
Худые белые ноги, разрисованные вздувшимися синими венами, уходили в обжигающую горчичную жижу. Она колыхалась вместе с вагоном и нагоняла на Врангеля тошноту. Развалившись на продавленном диване купе, он бдительно следил, как Гаркуша, засучив рукава черкески и перекинув розовое махровое полотенце через плечо, осторожно подливает из котелка в цинковый таз парующий кипяток...
Обожгло-таки ступни — вскинулся, расплёскивая жёлтую жижу на блёклый джутовый ковёр.
— Сварить меня решил, ч-чёрт вихрастый?!
— Терпите, Петро Николаич, — ласково увещевал кубанец, — атаманом будете...
9 (22) января. Минеральные Воды
Обида душила и раздирала грудь больнее кашля.
— В Ставке, Пётр Николаевич, считают, что никто лучше вас не использует преимущества конницы в нынешней маневренной войне. Поэтому, думаю, и решили подчинить вам кубанские и терские конные части, предполагаемые к включению в Кавказскую армию...
— Терские ещё надо сформировать! — оборвал Врангель Юзефовича и тут же пожалел: резкость ни к чему. Смягчив, насколько возможно, севший до свистящего шёпота голос, кончил разговор: — Благодарю, Яков Давыдович. Вы можете быть свободны.
С опаской прислушиваясь к боли, слабо занывшей где-то под сердцем, попытался откинуть голову — отдохнуть, собраться с мыслями... Не получилось: спинка гостиного кресла, скрипучего, с вылинявшей гобеленовой обивкой, оказалась слишком низкой. Пришлось перебираться на полку купе, хотя и надоела, пусть и мягкая, смертельно. Как стал раздражать и весь его поезд... Паровоз — отживший свой век двухцилиндровый «Компаунд», тихоходный и потрёпанный, — всего один. Вагоны все II класса и устаревшие: на пять купе и с открытыми переходными площадками. В вагоне-столовой, принадлежавшем Международному обществу спальных вагонов, оказалась неисправной кухня. Вагон-салон — Александровского завода, явно из бывшего инспекторского поезда Министерства путей сообщения — на кабинет и приёмную не разделён и меблирован каким-то старьём. Что хуже всего — нет вагона-паровика, который топил бы и освещал весь поезд в пути и во время стоянок. Можно бы наплевать и забыть, но ведь в нём ещё жить и работать чёрт-те сколько. До самой Москвы...
...Как ни понукали машиниста, штабной поезд прибыл на станцию Минеральные Воды только к полудню: у Курсавки и у моста через речку Куму, жёлтую от глиняной мути, ремонтировали полотно. Поезд Ставки опередил на три с лишним часа, и главком сразу уехал на автомобиле в Кисловодск, к Ляхову. Обратно его ждали не раньше вечера.
Гаркуша, отправленный за врачом, снова нашёл — в приёмном покое станции — только фельдшера, из кубанцев, но тот сам чихал и кашлял во все стороны. Потому пригодился лишь на то, чтобы объяснить, где «шукать ликаря».
Участковый врач железной дороги, действительно, отыскался в самом дальнем пакгаузе, забитом красноармейцами, умирающими от испанки и тифа. Сравнительно молодой, бритоголовый, со значком Киевского университета на лацкане сюртука, он валился с ног от усталости. Но напоенный в вагоне-столовой крепким ароматным чаем — повар не поскупился на цейлонский Высоцкого, — приободрился.
Пока тот задумчиво слушал через каучуковый стетоскоп его лёгкие и осматривал кожу на груди, Врангель решил, что глупо представать перед главкомом в расклеенном виде. И поручил Юзефовичу самому встретить Деникина, передать извинения, что из-за сильной простуды не может явиться лично, и доложить обстановку.
Юзефович встретил и доложил. И, вернувшись уже в темноте в вагон Врангеля, сообщил: рано утром, перед отъездом, главнокомандующий сам зайдёт к нему.
И передал последние новости: войска, оперирующие в Крыму и Донецком каменноугольном районе, предполагается объединить в армию, присвоив ей название «Добровольческая» и назначив её командующим генерала Боровского. А их армию переименовать в «Кавказскую», оставив в ней только казачьи части...
...Стянув сапоги, — осторожно, чтобы не растревожить боль, Врангель прилёг поверх байкового одеяла. Стоящую на столике лампу «Молния» — высокую, с круглым фитилём — гасить не стал. И напрасно: не прошло и пары минут, как ярко вспыхнула электрическая лампочка под розовым матерчатым колпачком. Это означало одно: городская электростанция заработала. И теперь поезд, подключённый к трансформаторной будке сразу по прибытии, мог обходиться во время стоянки без дорогих свечей и чреватых пожаром керосиновых ламп.
Тошнотворный розоватый свет резал воспалённые глаза даже сквозь плотно сомкнутые веки и мешал сосредоточиться. В мозгу, в такт с сердцем, горячо билась одна-единственная мысль: завтра же отказаться от должности командующего этой самой казачьей «Кавказской» армией и попросить корпус или даже дивизию — чем меньше попросишь, тем больше дадут, — но в составе Добровольческой армии.
Объединить под своим началом всех кубанцев и терцев — значит повесить себе на шею их атаманов, этих туземных вождей в черкесках, их правительства, где протирают штаны одни болтуны и казнокрады, и самостийников всех мастей. Интриг тогда не оберёшься... Хуже того — попадёшь в унизительную зависимость от всей этой сволочной и пройдошливой публики: пополнение и снабжение армии окажется целиком в их грязных лапах. Стреножат как пить дать.
И далеко, Петруша, ты дойдёшь с такой армией?
Донские казаки за полгода не сумели взять ни Царицына, ни Воронежа. И причина как на ладони: шкурники эти горазды воевать только за собственные станицы. Попытался Краснов вывести их за пределы области — так они и за свои станицы воевать перестали, мерзавцы. А что станет с кубанцами, ежели уже сейчас — едва очистили край от большевиков — почти треть их, по прикидкам Ставки, уклоняется от мобилизации? А мобилизовать иногородних запретила эта задница Рада.
Так что не дальше Харькова и Саратова. Это в лучшем ещё случае.
Ежели только приободрить богатой добычей — на манер Стеньки Разина... Нет! Казаков, с их неуёмной жаждой пограбить и безразмерными обозами, и за сто вёрст нельзя подпускать к большим городам Центральной России. Не приведи Господь! Это же будет форменное позорище: на другой день после освобождения вешать освободителей, да ещё на соборной площади, как раз во время благодарственного молебна... Не навешаешься, Петруша.
Да разве только в этом дело... Освобождение Москвы — долг и привилегия Добровольческой армии, последнего детища Алексеева и Корнилова.
До чего же осточертели фокусы «моментов» Ставки! И двух недель ведь не прошло после назначения его командармом Добровольческой. А теперь получается, что сняли. Точно так: сняли!
И как объясниться с Деникиным, как убедить? Ни физических сил, ни душевных...
Боль всё же не пощадила: дождавшись приступа кашля, резко сдавила, будто тисками, ходящую ходуном грудь. Неужто опять начались эти ужасные сердечные спазмы?! Их только не хватало... Пальцы судорожно расстегнули, чуть не пооборвав пуговицы, ворот бешмета, холодная ладонь легла на пышащую жаром липкую кожу...
Спасительная мысль пришла раньше облегчения. А почему, собственно, название «Добровольческая» должно быть кем-то монополизировано? Тем более пьяницей Боровским...
Мгновенно забыв про боль, вскинулся. Удачно, Гаркуша не убрал со столика ни бумагу, ни чернильницу с ручкой — нет нужды тащиться обратно в кабинет. Не может достойно сказать, так напишет... Только не закусывай удила, Петруша! Не вываливай все аргументы разом — придержи самое важное для личного свидания.
Сквозь первые фиолетовые строчки, лёгшие на бумагу, проступила вдруг приплюснутая сверху голова Шульгина: усы развеваются, как на ветру, рот от уха до уха растянут в ухмылку, весёлую и издевательскую... Вот посмеялся бы, увидев, с каким рвением, как за шашку, схватился генерал Врангель за перо... Жаль, всё не возвращается — заболел, по слухам, испанкой и застрял в Одессе...
Врачу, явившемуся с намерением, коль скоро стала отходить мокрота, поставить генералу банки перед сном, пришлось подождать. Но Гаркуша не дал ему заснуть в салоне за старыми газетами: и чаем цейлонским ещё раз напоил, и ужином накормил, и про тиф страхов наслушался...
Наконец командующий освободился. Первая банка уже присосалась к белой худой спине, когда в дверь купе деликатно постучал Юзефович.
Переданное начальнику штаба письмо в заклеенном конверте сопроводила настоятельная просьба: непременно передать его главкому до утреннего свидания.
10 (23) января. Минеральные Воды.
— Для каждого русского патриота слова «Добровольческая армия» столь же священны, сколь и имена генералов Корнилова и Алексеева. Уже год ведётся под её знаменем героическая борьба с большевиками на юге России. И многие офицеры предпочли это знамя сомнительным знамёнам украинской и прочих армий. Поэтому моё решение твёрдо: встав под знамя Добровольческой армии, я пойду под ним до конца борьбы. В любой должности...
Деникин сосредоточенно всматривался в необычно подвижное лицо Врангеля, сидящего на диване напротив. И вслушивался в почти обеззвученный воспалением голос. Его тёмные глаза, слегка прищуренные, светились не обычным лукавством, а добрым участием, почти состраданием. Но сквозь него всё же проступило лёгкое недоумение. Возникнув при чтении письма, зачем-то написанного бароном и переданного через Юзефовича с час назад, оно никак не рассеивалось.
Врангель же, весь во власти нервного возбуждения и безудержного кашля, его не замечал. А вот сочувствие Романовского, не уронившего пока ни слова, просто било в нос. Не иначе, решил, напускное... По его холёной физиономии никак не скажешь, что ему ведомы хвори. И взгляд, как всегда, отводит. Определённо предпочитает любоваться занавесками.
— ...Хоть в должности дивизионного начальника. Но непременно в составе родной Добровольческой армии.
Кустистые брови Деникина чуть приподнялись. Недоумение проступило и в грубоватом голосе:
— Я, Пётр Николаевич, разделяю чувства, владеющие вами. Но судьба так судила, что вы не можете оставить ваших кубанцев... Благодаря именно вашим блестящим действиям мы победно завершаем Северокавказскую операцию. Вами сформирован лучший наш корпус. Так кому же, как не вам, вести казаков дальше?
— Да разве в моей персоне дело, Антон Иванович? Для казаков сохранение священного наименования «Добровольческая» имеет куда большее значение, чем сохранение меня в качестве старшего начальника.
— Право, не знаю... — Деникин, тяжело шевельнувшись в заскрипевшем жалобно кресле, развёл руками. — Ведь почти все неказачьи добровольческие полки войдут в состав армии генерала Боровского. И потому мы с Иваном Павловичем решили, что именно ей принадлежит преимущественное право именоваться Добровольческой.
Романовский счёл необходимым поддержать главкома немым кивком.
Из деликатности он старался не задерживать взгляда на лице Врангеля: сильно исхудавшее и бледное, всё покрылось испариной. Болезнь, как резинка с бумаги, стёрла с него свежесть... Глаза то прикрываются верхними веками, то резко округляются, блестя с лихорадочной яркостью. Белки красноватые... Кашель — хриплый и надсадный... Длинные костлявые пальцы комкают носовой платок. Следов крови, слава Богу, не видно.
И поневоле ему приходилось — в ожидании, когда закончится этот разговор, затеянный исключительно ради удовлетворения честолюбия барона, — рассматривать видавшую виды мебель из довольно безвкусного гарнитура купеческого стиля. Да ещё гадать, какой сюрприз преподнесёт нынче своенравная кавказская погода. Увы, уже наступивший, судя по времени, поздний зимний рассвет невидим из-за потёртых плюшевых занавесок...
— Казакам священное имя «Добровольческая» не менее дорого, чем офицерам и солдатам регулярных частей... А ежели... — Врангель даже слегка хлопнул себя ладонью по лбу, словно его только что осенило. — Ежели сохранить его за обеими армиями? Но только добавить к нему наименование по району действия? Пусть будут две Добровольческих армии — Кавказская и, скажем, Таврическая...
Кустистые брови Деникина, морщиня голый лоб, поползли наверх. Рука машинально взялась за белую бородку. Недоумение, а отнюдь не просветление, разлилось по его лицу настолько явственно, что Врангель наконец-то заметил его. Как и взгляд, метнувшийся в сторону Романовского. В поджавшихся губах начальника штаба мелькнула тень сомнения. И её, уловил Врангель, вполне хватило, чтобы перечеркнуть все его старания.
— Ну, что ж, мы подумаем, посоветуемся... — Деникин ещё раз глянул на Романовского. — Но в этом случае вы не откажетесь командовать армией?
— Разумеется, нет. — Врангель не ощутил ни малейшего предчувствия победы.
— Тогда два слова о вашей задаче. Разгром противника полный — и тактический, и моральный. Посему от вас требуется неотступное преследование. Невзирая на ненастье и страшное утомление... Терскую область с Владикавказом освободить не позже конца января. И сразу начать переброску войск на царицынское направление.
Врангель тщательно промокнул лицо. Тщательнее, чем требовалось: не пот прошиб — мысли смешались. Нежданно-негаданно слышал главное: Царицын. Наконец-то! Ещё один поход — всего-то неполных четыре сотни вёрст по Сальским степям — и протянет руку Колчаку. И армия его окажется в центре общего антибольшевистского фронта. Тем более обидно, что не будет она носить имя «Добровольческая»...
— Одиннадцатая армия, Антон Иванович, действительно разгромлена. Так, может быть, разрешите уже сейчас начать переброску хотя бы двух дивизий в район Торговой?
— Нет. В этом случае вы неизбежно ослабите нажим. И дадите противнику возможность зацепиться за Терек и Сунжу. А нам важно поскорее занять нефтепромыслы Грозного... — Деникин сделал заметную паузу. — Есть обстоятельство, которое заставляет нас торопиться к Каспию... Позвольте не говорить откуда, но нам достоверно известно: английское командование в Баку готовит экспедицию для занятия Петровска. Цель — установить полный контроль над Каспийским морем. Случись такое — мы надолго потеряем бакинскую нефть. А одной грозненской нам не хватит дойти до Москвы...
Пожелав Врангелю скорейшего выздоровления, Деникин с Романовским покинули его вагон.
Блёклый рассвет притушил электрические фонари.
После жарко натопленного вагон-салона командующего армией Деникин всем телом ощутил холод. Но шинель только накинул на плечи: поезд Ставки — на соседнем, главном, пути. Оба паровоза уже под парами...
По узкой платформе, едва припорошённой за ночь влажным снежком, шёл неторопливо и вразвалку. Сапоги оставляли чёткие грязные следы.
Недоумение сменилось мрачным раздумьем: брови сдвинулись и вертикальные морщины на переносице прорезались глубже, достав до края серой папахи. Не дороговато ли приходится платить за назначение Врангеля командующим армией? Вполне заслуженное назначение. Но корпусные командиры, хотя и подчинились, позволили себе поворчать недовольно. Причина одна: не первопоходник.
Дальше всех пошёл, как на лобовой таран неприятельской позиции, импульсивный Казанович: пригрозил отставкой. Бог даст, примирится... Иван Павлович, спасибо, предупредил, что станут будировать. Но сам против назначения барона не возразил... А кого другого? Никто же, кроме него, не сумеет удержать в руках необузданных начальников кубанской конницы. Эх, нет Маркова...
Как нельзя кстати почувствовал Деникин ободряющее прикосновение друга: рука Романовского, затянутая в лайковую перчатку, мягко взяла под локоть...
...Ещё засветло дежурный передал Врангелю телеграмму: приказ главкома ВСЮР о назначении его командующим Кавказской Добровольческой армией. В неё включались все войска, действующие на 250-вёрстном фронте от Дивного до Нальчика. Армия Боровского получила название Крымско-Азовской Добровольческой.
12 (25) января. Минеральные Воды
Устилая на десятки вёрст все тракты, шоссе и просёлки трупами людей и лошадей, сломанными повозками и брошенным имуществом, части бывшей Минераловодской группы 11-й армии неудержимой волной катились на восток. Большинство — вдоль железной дороги на Моздок, к Каспийскому морю. Некоторые свернули от Прохладной южнее — на Владикавказскую ветку.
По сводкам разведки, отступающий противник совершенно разложился, потерял управление и обратился в толпы. Порой, однако, упорство висящих на загривке казаков и смертельная усталость помогали большевистским командирам какие-то толпы останавливать, возвращать им облик войсковых частей и заставлять принимать бой, отчаянный и обречённый.
В преследование на Владикавказ — Грозный Врангель кинул 3-й армейский корпус Ляхова. 1-й конный корпус Покровского — на Моздок — Гудермес — Кизляр.
— ...На Гудермес — Кизляр отходит самая многочисленная группа: до двадцати тысяч. В её составе — восемь или девять бронепоездов, которые прикрывают огромные обозы. Поэтому на вашем направлении, генерал, красные ещё способны на сопротивление. Близкая гибель придаёт им мужества... Ваша задача: используя преимущества конницы, обходными манёврами и ударами во фланг отрезать этой группе пути отступления к Кизляру и окружить в районе Моздока. Вот здесь... — Костлявый палец Врангеля глухо постучал по расстеленной на столе десятивёрстке. — Никто и ничто не должно уйти через Кизляр по прикаспийскому тракту в Астрахань, — палец метнулся к северу, — на соединение с основными силами их Двенадцатой армии. Равно как и через Гудермес в Петровск. Вопросы есть?
— Никак нет. Задачу понял. Но окружать, ваше превосходительство, смысла не вижу: справа от полотна течёт Терек, а переправ, кроме деревянного моста у Моздока, никаких. Так что только и нужно, что прижать к реке. Кто не сдастся — пойдёт раков кормить.
Ни ровный, чуть глуховатый голос Покровского, ни открытый взгляд, ни безупречный манеры не давали Врангелю ни малейших оснований заподозрить нового подчинённого в затаённой враждебности. С первой минуты встречи держит себя независимо и спокойно, тон уверенный. И никакого намёка на фальшивое угодничество перед старшим начальником. Значит, незаурядного ума и отменной выдержки мерзавец.
— Выбор тактических приёмов — за вами. Но пленных постарайтесь взять как можно больше. Они крайне необходимы для пополнения армии. Вдобавок кто-то должен расчистить пути и вокзалы, похоронить тысячи умерших от тифа.
— Ясное дело. Да только сперва имеет смысл тщательно отфильтровать большевиков. Их там тучи собрались — со всего Северного Кавказа.
— Разумеется. И ещё, генерал... — Врангель закашлялся, сплюнул в скомканный платок. — Всё трофейное имущество должно немедленно браться на строгий учёт и передаваться в армейское интендантство. В целости и сохранности.
— Слушаю, ваше превосходительство. Только...
Бледно-голубые, будто выцветшие, глаза Покровского невозмутимо выдержали пронизывающий взгляд Врангеля, устремлённый на него сверху вниз, но поперёк выпуклого лба, чуть прикрытого тёмно-каштановым, сильно поредевшим чубчиком, пролегли хмурые морщины. Он едва заметно переминался с ноги на ногу — лишь полы черкески пошевеливались.
— Что?
— ...Только разрешите сперва создать нужный запас в корпусном интендантстве. На Кубани мобилизованные и добровольцы поступают раздетыми и разутыми. Даже без лошадей. А ведь терские казаки беднее кубанских. Пленные — так и те лучше обмундированы и обуты.
Нет, заключил Врангель, спокойствие Покровского — напускное. И даётся ему не без труда. И смутился, и голос завибрировал при намёке на грабежи его казаков. Нервничает, по всему, изрядно... Ну, а чего же ты хочешь, Петруша? Ведь он предупреждён о твоём к нему отношении. Недоброжелательном, мягко говоря... Или это простое нетерпение? Неужто так торопится догнать свой корпус? Директиву ночную уже получил, с театром военных действий ознакомился и в карту начальника, как иные, носом не утыкается. Скорее всего, успел поработать со своими операторами или расспросить кого-то из штабных, кто хорошо знает Терскую область. Откажется или нет, ежели предложить ему остаться пообедать?
— Разрешаю. Прошу садиться.
— Благодарю. — Покровский аккуратно и легко присел к приставному столику, твёрдой рукой придержанная шашка чуть слышно ткнулась концом ножен в ковёр. — А чтобы трофеи не расхищали, так я, ваше превосходительство, держусь того мнения, что нужно поскорее наладить денежный вопрос. Суммы на снабжение отпускаются недостаточные. И жалованье уже третий месяц не платится. Так что семьи офицеров бедствуют.
— Третий?
— Так точно. Вот и приходится жить добычей, отнимаемой у большевиков.
— Я приму меры.
Ещё с четверть часа ушло на согласование назначений в штаб 1-го конного корпуса. Протянутую на прощание руку Покровский пожал с тем же достоинством и дверь за собой прикрыл бесшумно...
Не удержавшись, Врангель чуть отодвинул бордовую плюшевую занавеску: Покровский быстро удалялся к своему поезду. Широкая спина, обтянутая чёрной черкеской, ярко выделялась на фоне свежего снега... Определённо незаурядная личность. Хотя и мерзавец! С такой превосходительностью вышагивает, будто уже взял и Моздок, и Кизляр... Паровоз под парами... А вагонов-то — больше, чем у командующего армией...
Покровского обернуться не потянуло. Его короткие и кривые ноги, перешагивая через рельсы разъездных путей, энергично раскидывали полы черкески. Руки, а с ними и шашка болтались широко и свободно. Пара дюжих кубанцев в лохматых бурках не отставала от обожаемого комкора...
Прервавшись на короткое время для обеда, Врангель поспешил за рабочий стол: дел по горло. Бронхит, слава Богу, отступил. Лишь лёгкий кашель ещё упорствует... Да и глупо теперь болеть: весь тыл армии обратился в сплошной тифозный барак, а ведь скоро уже, через неделю-другую, разворачивать дивизии на север. И перебрасывать их придётся через станции, города и сёла, переполненные тифозными — «товарищами» и заразившимися от них местными жителями. Эдак заболевшими части потеряют изрядное число бойцов ещё до начала операции против Царицына...
...Сыпной тиф выкашивал отступающую 11-ю армию куда с большей свирепостью, чем вырубали казаки. Холода, скученность, измождение и плохая организация медицинской помощи привели к невиданной эпидемии. Вывозить больных из-за паники и отсутствия транспорта красные не успевали. В результате в городах Кавминвод остались тысячи тифозных. Забили до отказа все городские и терские войсковые больницы, госпитали и частные курортные клиники, вокзалы и расположенные поблизости жилые дома и хозяйственные постройки. Брошенные за отсутствием паровозов и угля сотни теплушек, санитарных и товарных вагонов с больными и ранеными закупорили станции. Врачи и сёстры заразились сами или разбежались, ухода не было, и всех их, лежащих в жару и бреду, ждала неминуемая смерть. Умершие по несколько дней валялись среди живых. Не холод и ветер, так зловоние задушило бы всю округу. Кто мог, выбирался в одном белье на свет Божий и бродил, шатаясь, — выпрашивал у жителей поесть или хотя бы воды. Обессилев и потеряв сознание, падали и валялись на улицах, умирая в муках.
В бой со страшной заразой Врангель кинулся энергично и зло. Будто с новым противником, грозящим отобрать почти уже добытую победу. И кинул всё, что было в его распоряжении: медико-санитарный отдел штаба армии и персонал лазаретов и летучек. В помощь им приказал мобилизовать всех местных врачей и фельдшеров, а заодно и повивальных бабок с ветеринарами. Очистить от больных вокзалы и вагоны. Продезинфицировать их хорошенько, реквизировав в аптеках и на складах все запасы карболовой кислоты и хлорной извести. Приспособить для лечения тифозных гимназии, училища, пакгаузы и даже кинематографы.
Удивился, поймав себя на чём-то вроде сострадания к поверженному противнику... Но копаться в себе не стал. Важнее другое: не водворить порядок, не изолировать больных и не обеспечить уход за ними — значит позволить заразе перекинуться на его армию. И тогда все усилия по развёртыванию и пополнению частей пойдут псу под хвост...
...С нынешнего утра стали поступать доклады о выполнении.
Первым делом рабочие команды из пленных очистили от больных и умерших здание вокзала и станцию Минеральные Воды. Продезинфицировали на совесть: едкий запах хлора проник даже в его вагон-салон. Трупы, не разбирая, кто православный, а кто нет, всю прошлую ночь телегами свозили за город, где вырыли огромную яму...
Странно, однако... Бумаги читает и резолюции пишет без передыха. Уже в глазах темно, давно и за окнами потемнело, и заботливый Гаркуша дважды напоминал насчёт «повечерить», а из головы никак не выходит встреча с Покровским. С чего это вдруг? И не столько обрывки разговора всплывают в памяти, сколько встаёт в глазах колоритная его фигура.
И ведь не разглядывал особенно: холодное мерцание выцветших глаз из-под тёмных густых бровей отвлекало от всего прочего. И прямой, твёрдый взгляд... В нём читалось столько силы воли и достоинства, будто он и не был устремлён снизу вверх. И держал себя с какой-то вызывающей независимостью, точно не стоял перед ним человек, по всем статьям выше него: и должностью, и нравственным обликом, и происхождением, наконец. Манеры, в общем-то, безукоризненные. Разве что этот взгляд исподлобья...
Острый какой-то взгляд, колючий. Точнее, колющий, как кинжал. Взгляд хищника. Слабовольных, по видимости, он должен легко подчинять себе, на слабонервных — наводить ужас... А ведь верно! Всем внешним видом — хмурым лбом, крючковатым носом, сутуловатыми плечами, широкой грудью — Покровский смахивает на хищную степную птицу. Жадную до крови и безжалостную.
Неужто и суть его такая же? Это вдобавок-то к уму, сильной воле, честолюбию и энергии. Такой к булаве кубанского атамана пойдёт по трупам... Раз так — ни в коем случае нельзя подчинять ему все кубанские части. Глупо и опасно... А не потому ли, кстати, Романовский с Деникиным при назначении Покровского командиром 1-го конного корпуса вывели из его состава 2-ю Кубанскую дивизию Улагая?
Ладно, наплевать и забыть... Хотя нет, Петруша. Ежели мерзавец этот прячет камень за пазухой — не наплюёшься.
16 (29) января. Минеральные Воды
— Вопросов ни у кого нет, господа генералы?.. Тогда все свободны. — Деникин закончил совещание, как и начал: буднично и суховато, без обычного добродушия. — Мы с Иваном Павловичем возвращаемся в Екатеринодар...
Морозные сумерки почти окутали небольшую, но хорошо обустроенную станцию. Лишь кое-где их жидкую синеву разрывал жёлтый свет не закрытых ставнями окон. Сизый дымок из печных труб медленно поднимался к ветвистым верхушкам высоких пирамидальных тополей, тесно обступивших каменные и деревянные станционные постройки, к слабо мерцающим звёздам...
Спускался Врангель по узким решетчатым ступенькам вагона, ничего не замечая. Нога в сапоге, коснувшись тонкой наледи на каменной плите низкой платформы, заскользила — судорожно вцепившись в ещё не отпущенный поручень, удержался. От макушки до пят прожёг озноб. И от него вспыхнула вдруг, прорвавшись сквозь маску спокойствия, горючая смесь из разочарования, обиды и злости, что копилась в нём все полтора часа совещания. Так огонь в бикфордовом шнуре догорает до капсюля... Порыв студёного ветра с гор ополоснул вспыхнувшее лицо, но горькую усмешку не смягчил.
Постовые казаки с шашками наголо, задрав подбородки, старательно смотрели мимо командующего армией...
...Прибыл Деникин в Минеральные Воды после полудня. Со слов дежурного офицера, кроме непременного Романовского, он привёз с собой председателя Особого совещания генерала Драгомирова.
Выслушав рапорт Врангеля о взятии Покровским Моздока и захвате восьми красных бронепоездов, главком пригласил его на 3 часа дня к себе на совещание. Вместе с Юзефовичем. К этому времени подъехал из Прохладной и Ляхов, высокий бравый старик в черкеске, уже неделю как назначенный главноначальствующим Терско-Дагестанского края, но оставленный пока в должности командира 3-го армейского корпуса.
Врангель почуял неладное, едва вошёл в кабинет главкома и увидел Драгомирова: забился старый кавалерист, сложив руки на коленях, в угол дивана, насуплен, глаза прикрыл очками. И взгляд Романовского упорно ускользал, прятался в бумагах, и никак не удавалось его перехватить.
А первые же слова Деникина повергли его в изумление: главным фронтом Вооружённых сил юга стал Донецкий...
Не оставляя кресла и даже не поворачивая головы к повешенной карте, Деникин в самых общих чертах ознакомил приглашённых с последними изменениями в обстановке и своими дальнейшими предположениями.
Украинская республика социалистов Винниченко и Петлюры, по его убеждению, уже рассыпалась. Быстрее гетманства Скоропадского. И большевистские войска Советской Украины стремительно распространяются на юго-запад и юг: 21 декабря взяли Харьков, а третьего дня — Екатеринослав. Со дня на день возьмут и Киев. Но главная их цель — Донецкий каменноугольный бассейн. Бронштейн-Троцкий в своих приказах-воззваниях прямо-таки вопиет: без Донецкого бассейна Советская республика как «крепость мировой революции» не устоит.
Входящий в Крымско-Азовскую Добровольческую армию 2-й армейский корпус Май-Маевского, занимая главными силами район Юзовки, с трудом, но прикрыл основные пути, ведущие от Харькова и Екатеринослава к Донецкому бассейну. Умело отбивается от превосходящих сил петлюровских гайдамаков, местных повстанческих банд и двух большевистских дивизий. Выдерживал бы их напор и дальше, если бы не внезапно начавшийся отход Донской армии.
Казачьи полки выдохлись и разлагаются: одни оставляют позиции и расходятся по домам, другие откатываются к Северскому Донцу и Салу. 8-я и 9-я красные армии, наступая безостановочно, продвинулись за три недели где на сто вёрст, а где и на двести. Создалась угроза Ростову и Новочеркасску. И если в ближайшее время не произойдёт перемен к лучшему, Май-Маевский ради прикрытия Ростова вынужден будет оставить Каменноугольный район.
Причин разложения Донской армии много. Но над всеми довлеет моральная: слишком переусердствовал Краснов, рисуя казакам красочные картины скорого прихода к ним на помощь войск Согласия... Между тем надежды на поддержку союзных армий давно уже подорваны. Если не потеряны вовсе. Рассчитывать приходится только на русские силы.
Не отдать большевикам Донецкий каменноугольный бассейн и спасти от гибели Донское казачье войско — такую стратегию диктует обстановка, изменившаяся коренным образом. Поэтому части Кавказской Добровольческой армии, по мере очищения Северного Кавказа от красных, предполагаются к скорейшей переброске на Донецкий фронт. Их первоначальная задача — поддержать Май-Маевского и левый фланг Донской армии. В дальнейшем, выставив по линии Маныча слабый заслон на царицынском направлении, армия главными силами развернёт наступление на Харьков...
Врангель с неимоверным напряжением внимал каждому слову главкома. Но чем дальше, тем меньше понимал его логику... На смену изумлению быстро пришло разочарование, за ним — колкое раздражение. Ведь и недели не прошло, как Ставка предложила Юзефовичу разработать план одновременного наступления против Царицына и Астрахани! Цель операции — занятие Нижней Волги и установление связи с армиями адмирала Колчака.
Тотчас засадили людей за работу. Благо Романовский с Плющиком догадались пересылать ежедневные оперативные и разведывательные сводки штаба Донской армии. Юзефович торопил операторов и тряс разведку. У отдела военных сообщений почти готов график переброски на Торговую. Этапные коменданты и интенданты уже заготавливают продовольствие и фураж на станциях Владикавказской магистрали... А он подгонял в шею командиров корпусов — быстрее добить 11-ю армию у Моздока и Владикавказа. Спешить заставляла критическая обстановка под Царицыном: преследующие донцов красные с каждым днём всё ближе к железной дороге Лихая — Царицын. Вот-вот отрежут группу генерала Мамантова от её базы — Новочеркасска, и тому, хочешь не хочешь, придётся от Царицына отступить...
Врангель исподволь окидывал взглядом присутствующих. Драгомиров, заключил, смирился с резкой переменой в деникинской стратегии... На Ляхова навалились новые заботы. И горцы, по-восточному упрямые и мстительные, создадут их ему немало... А непроницаемый Юзефович упёрся взглядом куда-то в сияющую на столе Деникина лампу и прежде него, командующего, рта не раскроет... Рассчитывать, понял, кроме как на себя — не на кого. А потому надо действовать, совершенно не считаясь с чьими-то авторитетами и самолюбиями...
И когда главком пригласил высказываться, сразу попросил разрешения.
Говорил горячо, но в узде — не слететь бы с нарезки — держал себя крепко. Без широких листов десятивёрсток не обошёлся: поднимал под самый потолок и демонстрировал всем. Получилось — в пику Деникину... Они стали главными его козырями: победоносное продвижение к Москве сибирских армий адмирала Колчака задерживается угрозой его левому флангу со стороны 10-й красной армии и войск, которые входят в состав 12-й армии и базируются на Астрахань. Поэтому освобождающиеся части Кавказской Добровольческой армии нужно перебрасывать в район станции Торговая. И в дальнейшем, по сосредоточении главных сил, действовать вдоль железной дороги на Царицын. Это меньше 400 вёрст по Сальским степям, которые подсохнут уже через месяц-полтора... Разгромить 10-ю армию и взять Царицын, а за ним и Астрахань — значит отрезать от Совдепии весь Северный Кавказ с Нижней Волгой и Каспием, лишить её хлеба и нефти, а главное — сомкнуть фронт с сибирскими войсками. Кроме того, в Поволжье коренные русские люди дадут хорошие пополнения — и многочисленнее, и надёжнее нестойких казаков и горцев...
Деникин смотрел в стол, слушал молча и, показалось Врангелю, без малейшего интереса. Будто знал уже всё, что он скажет. Только пухлые пальцы беззвучно барабанили по бумагам.
Защищать стратегический план Ставки взялся Романовский. На доводы он оказался чуть щедрее главкома: харьковское направление как кратчайшее к Москве должно почитаться главнейшим, а первоочередная задача — обеспечить за ВСЮР жизненно необходимый Донецкий каменноугольный район и как плацдарм будущего наступления, и как источник снабжения углём железных дорог и черноморского транспорта.
Обращался Романовский фактически к одному Врангелю, но даже при этом избегал встречаться с ним взглядом. А потому от резонёрства начальника штаба на Врангеля, как никогда, повеяло холодком.
Юзефович ограничился тем, что лаконичными фразами повторил мысли командующего.
Сухо поблагодарив всех, Деникин подвёл черту: он оставляет в силе своё решение перебросить части Кавказской Добровольческой армии на Донецкий фронт...
... — Пётр Николаевич!
Врангель обернулся на оклик: ускоренным шагом его догоняет Романовский. Без папахи, шинель накинута на плечи...
Жестом отпустив сникшего Юзефовича, повернул навстречу. Сошлись между вагоном-столовой поезда штаба армии и вагоном отделения связи Ставки.
— Я хотел переговорить с вами, Пётр Николаевич... Вас, я чувствую, не убедили наши с Антоном Ивановичем доводы. Не так ли?
— Законы стратегии даже большевики, кажется, не отменяли.
— Напрасно вы так... Антон Иванович не раз просил союзников направить войска на фронт Донской армии. Хотя бы немного. Хотя бы для поддержания морального духа казаков... Начальники британской и французской миссий нас обнадёживали, а потом перестали. Но до минувшего воскресного дня мы ещё надеялись, что два-три английских батальона вот-вот прибудут на Донецкий фронт...
Теперь Романовский, приподняв голову, смотрел прямо в глаза Врангелю, спокойно и открыто. Из высоких узких окон, занавешенных лишь наполовину, выливался в густеющую синеву жёлтый свет.
То ли электрический свет растопил обычную холодность в взгляде Романовского, то ли что-то иное... Ещё сильнее удивил Врангеля его мягкий и доверительный тон. Даже нотки извинения почудились.
— А что же изменилось за воскресенье?
— Мы получили радиограмму из Константинополя, от генерала Мильна. Это главнокомандующий британскими войсками на Востоке... Так вот он ответил без обиняков: правительство решило никаких войск на наш фронт не посылать. Вот так.
Врангель на миг потерял дар речи, глаза округлились.
Романовский прочёл в них не только изумление, но даже толику недоверия. И почти детской растерянности... И с чего это, подумал против воли, некоторые находят у барона сходство с Николаем Николаевичем? Кроме роста и манерности — ничего общего.
— Мерзавцы, а не союзники... — только и нашёл что сказать в сердцах Врангель.
— Увы. Впрочем, в англичанах хотя бы то хорошо, что они откровеннее французов.
— Но ежели рассчитывать приходится исключительно на русские силы... Так тем более первым делом нужно соединиться с Колчаком. — Врангель быстро овладел собой. — Взяв Царицын, мы поможем и Колчаку, и Краснову. Разве нет?
По узкой — чуть более сажени — платформе, отдавая честь, боком проходили мимо них офицеры. Романовский сбавил голос до полушёпота, отчего тот стал ещё доверительнее.
— Взятием Харькова, Пётр Николаевич, мы поможем Колчаку не меньше, чем взятием Царицына. А то и больше...
— Выходит, все наши намётки по операции против Царицына — псу под хвост?
— Ну отчего же... Царицынское направление никто оставлять не собирается. Лишь заслонимся на какое-то время, пока не воспрянет духом Донская армия...
— А ежели Десятая отбросит Мамонтова и сразу нажмёт на Торговую? Ведь в ней за сорок тысяч. Да прибавьте сюда десять тысяч Ставропольской группы... Это насколько же «слабым» мне потребуется держать заслон на Маныче?
Разговор складывался не просто.
Ещё труднее, отдал себе отчёт Романовский, сложился бы у Антона Ивановича. За завтраком попытался было убедить его ещё до совещания объясниться с Врангелем с глазу на глаз. Ведь этот честолюбец в мыслях своих наверняка уже принимает победный парад на какой-нибудь царицынской площади. Разъяснить ему: первоначальный стратегический план — движение главными силами на Царицын — стал невыполним. Ибо нет уже той линии германско-украинско-донского фронта, подходившей к Курску и Воронежу, из коей он исходил... Успехом попытка не увенчалась. И упрекнуть в малодушии Антона Ивановича никак нельзя: слишком остро переживает уход Казановича в отставку. Служить под началом «выскочки» Врангеля герой «Ледяного» похода отказался наотрез... И пришлось вместо него командиром 1-го армейского корпуса назначить генерала Кутепова — начальника требовательного и даже сурового, но не слишком тонкого тактика. Увы, больше некого...
— Пока, Пётр Николаевич, мы не можем быть одинаково сильными всюду, где это необходимо. Да и Царицын не удастся взять так же легко, как Ставрополь. Ведь Северо-Кавказская красная армия — по сути, каша из партизанских частей разного калибра. Помимо Таманской группы Ставрополь обороняли свыше ста полков и отрядов. А потому и не было должного взаимодействия, фланги и тылы всё время обнажались, что и помогло вам. Десятая же армия куда больше походит на регулярную...
— Я внимательно читаю сводки вашего штаба.
— Есть ещё одно обстоятельство, Пётр Николаевич...
Мы не распространяемся о нём в наших сводках. Но оно, может быть, — самое главное... Застряв в Каменноугольном районе, а тем более начав операцию против Царицына, мы долго ещё не получим надёжного тыла.
— То есть? — Врангель почувствовал, как слова Романовского, а особенно этот тёплый, прямо-таки дружеский взгляд обволакивают его и умиротворяют, точно пеленают и убаюкивают младенца.
— Нынешний наш тыл — казачьи области. Хотя и богатые, но не подвластные нам. Сами знаете, сколь не просты наши отношения с их выборными учреждениями... Так что нам как воздух необходимы южнорусские и центральные губернии — Екатеринославская, Харьковская, Воронежская, Тамбовская... Только там мы станем полными и неоспоримыми хозяевами. И именно там нас ждут коренные русские люди... А если мы ввяжемся теперь в бои за Царицын, да ещё, не дай Бог, потеряем Каменноугольный район, Кубань надолго останется нашим единственным тылом. И весьма неблагодарным... Точнее, тылом вашей армии...
Романовского перебила гулкая дробь электрического колокола: предупреждение сторожам и рабочим о выходе поезда со станции.
Врангель повернул голову: из дымных труб обоих паровозов поезда главкома уже валят чёрные клубы, но на семафоре, справа от главного пути, ещё горит красный фонарь — сигнал «Стой». Из-под паровоза вырвалась шипящая струя белого пара. За ней, слизывая с платформы тонкую наледь, — вторая. Злое их шипение привело в чувство: нет, чёрт возьми, не в пелёнки его кутают — в смирительную рубашку!
— То есть Кубань как база нам теперь не годится. Так? А ради чего тогда мы потеряли от Екатеринодара до Минвод сорок тысяч офицеров и казаков?
— Убитыми — тринадцать, Пётр Николаевич. Если быть точным.
— Но лучших!
— Что поделать... Такова нынешняя война.
На высоком столбе семафора погас красный фонарь и ярко вспыхнул белый: «путь свободен».
Часть 5
КИСЛОВОДСКОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ
25 января (7 февраля).
Георгиевск — Прохладная — Моздок — Наурская
о справа, то слева к двухколейному железнодорожному полотну прижимался грунтовый большак на Кизляр. По-над ним тянулись от столба к столбу провисшие провода.
Вконец разбитый, он ещё хранил страшные следы беспорядочного отступления 11-й армии: торчали дышла и задки обозных телег и лазаретных линеек, валялись разломанные короба и выпотрошенные тюки, застряли в глубоких колеях походные кухни и орудия с упряжью. Чаще других попадались полевые и горные 3-дюймовки, с многих даже не сняты замки. Винтовок, пулемётов и цинковых ящиков с патронами нет — казаки собрали подчистую. Успели и закопать трупы красноармейцев, убитых или умерших. А вот павшие лошади, без седловки и с уже вздувшимися животами, ещё валялись.
Вокруг них бродили лохматые собаки. На лязгающий и пыхтящий по низкой насыпи поезд, подняв головы, принимались дружно лаять. На безмолвные колонны пленных, бредущие по обочинам, только поглядывали настороженно.
Пленные еле волочили ноги. Без обуви, воротники запахнутых шинелей подняты, непокрытые головы опущены. Их и не охраняли толком: два-три верховых казака, терцы или кубанцы, гнали толпу в тысячи две, а то и побольше. Больные, выбившись из сил, приседали передохнуть. Посидев малое время, одни поднимались и, шатаясь, брели дальше, другие валились в грязь. И оставались лежать... Ни прочие пленные, ни казаки-конвоиры внимания на них не обращали.
На второй колее замерли брошенные красными составы. Без всяких признаков жизни: над порожними вагонами ни дымка, паровозные топки потухли, тендеры пусты: остатки угля выгребли жители ближних селений.
На станциях и разъездах, напротив, царило оживление: дымили костры и трубы кухонь, мелькали синие башлыки терцев, катили санитарные линейки, полоскалось на ветру развешенное на верёвках бельё. На Солдатской казаки сколачивали скамейки и таскали охапки соломы в теплушки и товарные вагоны: готовили для перевозки людей и лошадей.
Теперь Врангель из окна вагон-салона мог собственными глазами видеть то, о чём ежедневно и еженощно читал в донесениях командиров и сводках корпусных штабов...
...1-й конный корпус Покровского, преследуя красных параллельно, отмахал долиной Терека 350 вёрст за 12 дней и Кизляр взял. Обескровленные остатки 11-й армии его не обороняли: её очередной командующий, Левандовский[93], приказал отходить на Астрахань. Вместе с ними оставили город и недавно подошедшие на помощь из Астрахани свежие части 12-й армии, не установленные пока разведкой. В кизлярском почтово-телеграфном отделении разведчики нашли обрывок телеграммы, подписанной каким-то «чрезвычайным комиссаром Орджоникидзе[94]»: «...Оставшиеся верными рабоче-крестьянской России товарищи предпочтут умереть на славном посту смерти в астраханских степях».
Передовые полки корпуса кого-то настигли и дорубили уже на Астраханском тракте, в холодных песках. А разъезды вышли к Брянской пристани, что на самом берегу Каспийского моря, севернее устья Терека.
Трофеи свои Покровский ещё подсчитывает: по последней сводке, взято 8 бронепоездов, почти 200 орудий и 300 пулемётов, 100 вагонов с мукой, 9 тысяч комплектов обмундирования и до 30-ти тысяч пленных, многие из которых валяются в тифу.
3-й армейский корпус Ляхова продвигается куда медленнее. Черкесская конная дивизия генерала Султан-Келеч-Гирея, кинутая в преследование долиной Сунжи на Грозный, неожиданно встретила сопротивление ингушей: их вооружённые отряды прикрыли отступление нескольких тысяч красных. Подтянув из Прохладной резерв, Ляхов предъявил съезду ингушского народа, заседающему в Назрани, ультиматум: сдать оружие, очистить Владикавказ и восстановить снесённые станицы терских казаков. Но ингуши — судя по всему, намеренно — тянули с переговорами, задерживая продвижение Черкесской дивизии к Грозному. Тем временем ингушские и чеченские аулы, вооружившись поголовно, поднялись на защиту большевиков.
Главком, получив от разведки сведения о формировании англичанами отрядов из горцев для захвата нефтепромыслов, всё торопил с занятием Грозного. И в конце концов возложил эту задачу на Покровского. Тот повернул 1-ю конную дивизию Шатилова от станицы Калиновской круто на юг. Переправившись на правый берег Терека, Шатилов по грунтовой дороге через район промыслов стремительно вышел к городу и, сломив после кровопролитного двухдневного боя сопротивление чеченцев и большевиков, взял вчера Грозный.
Владикавказ оказался орешком покрепче. 1-я Кавказская казачья дивизия Шкуро уже пятый день как дерётся за него. Ворвалась в заречную часть города. Беспрерывно, даже ночью, чередует артобстрелы с атаками, но выбить красных и ингушей из центральной части не может. 2-я Кубанская пластунская бригада генерала Геймана подступает к Владикавказу с севера, но с оглядкой: её тыл и фланг находятся под ударом со стороны равнинных ингушских аулов.
Чего Ляхов добьётся переговорами — неизвестно, и Врангель уже готов был направить к Владикавказу свою бывшую дивизию. Одно удерживало: слишком большие потери понёс Шатилов при занятии Грозного.
Получив вчера вечером донесение Покровского о взятии Кизляра, поспешил проехать к нему. Поблагодарить казаков и подтянуть перед переброской, да и самому развеяться...
...Впереди вскрикнул паровозный свисток. Вагон-салон дёрнуло, лязгнули буфера. Только что налитый кофе плеснуло через край чашки на мельхиоровый поднос. Но хода машинист не сбавил.
Вошедший спустя несколько минут Гаркуша — убрать со стола остатки завтрака — доложил: двое пленных кинулись под поезд.
Врангель, не выпуская из плотно сомкнутых губ костяную зубочистку, вернулся к окну. Раздвинул пошире занавески. Взялся было за медную ручку оконной рамы, но от намерения впустить свежий воздух отказался: слишком холодно — просквозит. Мимо проплывала уходящая под горизонт, на северо-восток, плоская степь — бурая, редко где присыпанная снегом. Голые сады и неровно очерченные поля чаще покрывала чернота пожарищ...
Мягкое покачивание вагона на рессорах, приглушённый перестук стальных колёс и мелькание картин за окнами благотворно не подействовали: камень, так больно давящий на душу, не полегчал.
Уже больше недели прошло после совещания у Деникина, а врезавшиеся в память детали с каждым днём становились только яснее и беспощаднее. Особенно — отсутствующий взгляд главкома, упёртый в стол... Даже на карту не соизволил взглянуть ни разу... И весь вид — постный какой-то и бесцветный... Пухлые пальцы с толстым обручальным кольцом нетерпеливо барабанят по столу, словно подгоняют его, торопят заканчивать... И оскорбительное безразличие к его неоспоримым доводам...
Каждая такая деталь, навязчиво преподносимая болезненно цепкой памятью, подобно потоку воздуха, что устремляется в печь через широко открытое поддувало, снова и снова воспламеняла горечь и злость. Даже победные донесения и сводки не могли притушить...
Виделись уже предостаточно, и почти не осталось сомнений: Деникин — и в Минеральных Водах, и прежде — хотя и слушал его, но не слышал. Ровным счётом ничего не слышал...
Да и способен ли Деникин прислушаться к мнению, отличному от собственного? По видимости, вся тяжёлая карьера пехотного офицера из провинции приучила слышать только самого себя... А как иначе? Поднимался из самых низов, пробивался наверх сквозь армейскую толщу, косную и ровняющую всех под один ранжир... Разумеется, и сам не мог не закоснеть во взглядах на жизнь и на людей. И вот теперь, достигнув вершин военной иерархии благодаря исключительно труду и знаниям, цепко держится за свои взгляды — те, что раз усвоил когда-то, что оправдали себя и подняли так высоко. А потому с ходу отвергает всё, что им не соответствует, выходит за их узкие рамки.
Вдобавок провинциальная армейская среда и мелкобуржуазный образ жизни насквозь пропитали Деникина пагубным душком либерализма. А ещё — предубеждением против гвардии, против «аристократии» и «двора». Против таких, как он — барон Врангель. Пусть даже совершенно бессознательным предубеждением... Но разве это меняет дело?
И теперь, когда Деникину досталось наследство Алексеева и Корнилова — не просто командование войсками, а воссоздание Российского государства на юге! — тот растерялся. Оттого и мечется между военными и гражданскими делами, тонет в водовороте политических интриг. А главное — не может сделать верного выбора и боится совершить ошибку. По видимости, сам понимает: не находит в себе сил и твёрдости нести тяжкую ношу, что свалилась ему на плечи. А хуже всего — не доверяет никому. И в несогласии ближайших помощников, в особом их мнении видит одно только соперничество. Да ещё ущемление своего достоинства... Исключение — один Романовский, и то лишь в силу слепой личной привязанности...
Неужто государственный корабль, с такими жертвами снаряженный Корниловым и Алексеевым, обречён затонуть из-за ограниченности и бесталанности их заместителей? Из-за того, что прихотью судьбы именно они поставлены у штурвала? Неужто и впрямь так устроена Россия? И в этой вечной беде — её неумолимый рок?..
А не слишком ты усложняешь, Петруша? Может, не баронство твоё и не конногвардейское прошлое всему виною? И не громкие победы, и даже не широта и смелость стратегического мышления... Может, всё проще?.. Может, Деникин просто-напросто хочет первым вступить в Москву? Ведь возьми Москву адмирал Колчак — что светит главкому Вооружённых сил юга? Вряд ли даже пост военного министра. Так, командующего войсками Одесского военного округа, самого маленького... В лучшем случае — Кавказского. Ежели быстро и без большой крови вернёт Закавказье в состав России... И то, и другое — не Эльбрус...
На узловой станции Прохладная семафор, подняв оба крыла до горизонтального положения, властно потребовал остановиться. Начальник военных сообщений предупредил загодя: на одноколейке от Прохладной до Моздока ещё не отремонтирована блокировочная система сигнализации. А дальше, до самого Кизляра, она так забита брошенными составами, что разгрузить её не хватает ни разъездных путей, ни паровозов...
Встретил комендант — молодой есаул-кубанец с подвешенной на несвежей перевязи левой рукой. Отрапортовал бодро и толково: генерал Ляхов выехал на своём поезде в Беслан для переговоров с ингушами. Дезинфекция проведена полностью. Все помещения — оба пассажирских зала, багажное отделение, депо, пакгаузы и казарма железнодорожников — забиты ранеными и больными. Пришлось занять даже прилегающие к станции домики и деревянные бараки для рабочих. Казаков из частей Шкуро, эвакуированных с передовой, с каждым днём привозят всё больше. Лежат они вперемешку с пленными, поскольку тех и других кладут на освободившиеся места умерших. Сестёр милосердия и санитаров не хватает, а денег — платить жалованье вольнонаёмным — ни копейки. Поэтому для ухода за больными приходится использовать поправившихся красноармейцев.
Приняв рапорт, осмотрелся. Запасные пути заставлены теплушками и товарными вагонами. Двери открыты на всю ширину — проветриваются после дезинфекции. Подъезжают и отъезжают санитарные линейки: подвозят новых раненых и больных. Бабы таскают серые цинковые тазы и, встряхивая, развешивают на длинных, протянутых меж деревьями верёвках исподние рубахи и кальсоны, ещё парующие после кипячения. У дымящих походных кухонь толпятся санитары с чайниками и котелками — разносят обед выздоравливающим, кто уже может есть. Аромат свежесваренной пшённой каши смешался с хлорной вонью...
Конвойцы между тем, установив деревянные подмостки, бережно скатили автомобиль с платформы. Потом разгрузили из вагона и поседлали коней...
«Руссо-Балт» с натугой объезжал, мешая колёсами бурую грязь, брошенные орудия и повозки.
Справа от дороги, где-то за фруктовыми садами и рядами укрытых виноградников, бежал, тоже к Каспийскому морю, Терек. Вдоль его противоположного, правого, берега тянулся невысокий хребет. Склоны, где пологие, а где крутые, заросли дремучим лесом. Белые лучи невидимого светила временами пробивались сквозь дырявый облачный покров, гонимый тёплым западным ветром, и тогда голубоватую зелень хвои, разбавленную серыми островками лиственного леса, осветляли скользящие по склонам солнечные пятна. За Терским хребтом вздымались мрачные и величественные нагромождения крутых отрогов Главного Кавказского хребта. Покрывающие их вечные снега, потускнев, слились с бирюзовыми облаками.
Но дивные кавказские красоты не отвлекали Врангеля от большака — от всего, что по нему двигалось и что двигаться уже не могло.
Вблизи, из автомобиля, расшатавшиеся колонны пленных являли картину ещё более ужасную: босые ноги разбиты в кровь, шинели грязны и изодраны, все покачиваются, точно пьяные... Но особенно поразили лица: землистого цвета, измождённые, с провалившимися воспалёнными глазами. У иных проступили черты голого черепа. Почти все, похоже, больны и обречены на смерть. И безропотно ожидают её... Или, дойдя до предела человеческих страданий, молят о её скором приходе. Как те двое несчастных, что бросились под его поезд...
Каждая колонна оставляла после себя сотни умирающих. Кто-то прилёг на бок, поджав по-детски ноги, кто-то упал на спину, раскинув руки, кто-то уткнулся лицом в грязь...
Всё чаще попадались на обочинах незакопанные трупы красноармейцев: тоже босые, но в одном белье.
— И как только казаки не боятся тифозных раздевать?.. — Скорее сильное недоумение заставило Врангеля высказать свою мысль вслух, чем намерение обратиться к кому-то с вопросом.
— Это не раздетые, ваше превосходительство. — Первым отозвался ротмистр Маньковский, назначенный на днях начальником контрразведки штаба армии. — Это раненые и тифозные, что лежали в лазаретах и санитарных поездах. Их так напугали слухи о жестокости казаков, что они выскакивали и бежали в чём были...
К 2 часам полудни «Руссо-Балт», сопровождаемый конвоем и полувзводом ординарцев, докатил наконец до Моздока.
Вплотную к белёным домикам, крытым тёсом или соломой, подступили сады, огороды и овчарни. Северную окраину обогнула железная дорога, южная упёрлась в петляющий Терек.
По грязной и разбитой улочке подъехали к мосту.
Серая вода быстро уносилась вперёд, омывая наносный щебень неровно изрезанного берега и каменные опоры, оставшиеся от моста... Едва передовые части Покровского обошли Моздок с севера, толпы красных в панике кинулись на правый берег: шоссе, уходящее на юг, на Владикавказ, обещало спасение. Но деревянный настил не выдержал и обрушился, увлекая за собой сотни людей. Утонули и многие из тех, кто пытался потом спастись вплавь...
Глянув на дышащий холодом поток, Врангель поморщился: припомнил доклад Покровского по прямому проводу. Увлёкшись подробностями взятия Моздока, тот заметил: «Вид тонущих оживил речной пейзаж». И наверняка сам рассмеялся своей низкопробной остроте...
Чем дальше к востоку, тем чаще в низинах, прилегающих к Тереку, попадались мелкие озёра и тем обширнее становились окружающие их заросли камыша. Фруктовые сады перемежались ровными посадками раскидистых тутовых деревьев.
В станицах, через которые пролегла дорога — Стародеревской и Галюгаевской, — жизнь возрождалась: звонили колокола, прогуливались статные казачки, вырядившиеся по-праздничному, торговали лавки. Задорно скакали казаки — в полном обмундировании и вооружении спешили к станичному правлению, месту сбора...
Отогнувшийся было к югу Терек снова подступил к железнодорожному полотну. Зажимаемая ими с двух сторон грунтовая дорога привела в станицу Наурскую.
Здесь, в этой сужающейся к востоку горловине, красные в последний раз оказали Покровскому упорное сопротивление: приняв бой, задержали 1-й конный корпус на два дня. Бронепоезд, ворвавшийся на станцию с тем же названием — Наурская, — неожиданно был атакован ротой китайцев. Из тех, кого завезли во время Великой войны в качестве рабочих. Перебив команду, паровоз и платформы с орудиями взорвали. Потом уже, взяв станцию и станицу, Покровский короткими ударами безостановочно гнал остатки красных к Кизляру. О потерянном бронепоезде доложил лишь после того, как возместил его восемью трофейными...
От станции, сразу заметил Врангель, по шоссированной подъездной дороге спешило в станицу несколько телег, с верхом нагруженных мебелью, мешками, ящиками и коробками. Без сомнения, все — мародёрского происхождения. Приказал шофёру свернуть к станции...
На запасных путях замерли брошенные большевиками поезда. Охраны к ним никакой не приставили, и жители не только Наурской станицы, но и Мекенской, лежащей в шести верстах восточнее, взломав двери товарных вагонов, беспрепятственно расхищали грузы. От казаков не отставали крестьяне из окрестных сел и горцы из затеречных аулов. Взрослым помогали дети. В повозки перегружалось всё без разбора: мешки с мукой и сахаром, тюки с обмундированием, штуки сукна и ситца, всяких размеров деревянные ящики с сельскохозяйственными орудиями, картонные коробки с хрусталём, посудой, обувью и штатской одеждой, шкафы, диваны, столы, кресла, стулья... Всё это туго перетягивалось верёвками.
Все торопились: на следующей станции — Терек — вчера загорелся один из составов, и от огня взорвались артиллерийские снаряды, погруженные вместе с разным добром. Вагоны обгорели до железных остовов, вокруг валяются сотни обугленных тел, среди них — женские и детские... Страшные рассказы побывавших там подгоняли сильнее опасений, что вот-вот могут появиться караулы.
Лошади, ослы и мулы развозили в разные стороны перегруженные телеги и арбы. Спеша убраться подальше от станции, хозяева на плети и кнуты на скупились. Завидев какое-то начальство, заторопились пуще...
Вызванный комендант — уже пожилой войсковой старшина Терского войска, с круглым, побитом оспинами лицом — больше моргал беспомощно, чем докладывал. Напор гневных тирад Врангеля сметал все его оправдания, не щадя ни лет, ни офицерского достоинства. Замершие за спиной генерала адъютант и три конвойца ему не сочувствовали. Как и пара верблюдов, привязанных к тутовому дереву неподалёку, у водонапорной башни тёмно-красного кирпича: обвешанные шерстяными сосульками, с поникшими горбами, они лишь водили равнодушно челюстями.
Послав разделанного под орех терца выставлять караулы, Врангель по шпалам главного пути прошёл к санитарным эшелонам.
К ним, забитым покойниками, никто, кроме рабочих команд из пленных, не приближался. Где-то в одном из вагонов, по словам коменданта, лежат умершие врач и несколько сестёр. Немногих живых, найденных среди трупов, уже перенесли в дальний пакгауз, превратив его в тифозный барак...
Все ворота пакгауза были распахнуты. На примыкающей к нему высокой платформе, у больших весов, стояли в ряд, прислонённые к серой деревянной стене, полотняные носилки. Тут же сидели на ящиках санитары в белых фартуках. Покуривали, лениво переговаривались и наблюдали за разгрузкой.
Пленные, в драных шинелях, подпоясанных верёвками, и разбитых ботинках с подвязанными подошвами, через силу двигая руками и ногами, безмолвно вытаскивали из вагонов жёлтые, с синеватым оттенком, тела, окоченевшие в разных позах, и наваливали, будто дрова, в вагонетки. И по уложенным прямо на щебень рельсам узкоколейки медленно и натужно откатывали за территорию станции, к неглубокому песчаному карьеру. Скидывали, не наклоняя и не открывая бортов... Не смолкающий с раннего утра ржавый скрип чугунных колёс насквозь пропитал сырой холодный воздух...
Потянув за ручку приоткрытую дверь, Врангель заглянул в приземистую будку стрелочника. На полу затхлой полутёмной комнатки, всего в пять-шесть квадратных аршин, лежали вповалку, тесно прижавшись друг к другу, красноармейцы. В хороших шинелях и сапогах. На серых рукавах тускло краснели угольники таманцев.
Склонился к ближнему: лицо восковое, глаза открыты, но стеклянные какие-то... И, кажется, не дышит...
— Есть кто живой?
Ни слова в ответ, ни стона... Этот точно мёртв. Следующий — тоже... И другие, всего восемь... Ни пятен крови, ни ран, ни перевязок. Значит, умерли от тифа.
В дверях, подперев папахой перекладину и застив свет, встал Гаркуша.
— Ваше превосходительство, пойдёмте скорей отсюдова... — перекрестился торопливо и мелко. — Хата дуже заразна...
В дальнем углу шевельнулись. Пригляделся: неужто жив ещё кто-то?.. Нет, не человек — подняла голову собака.
Адъютант отступил от порога, и света прибавилось: беспородная, рыжеватая, облезлая, с заострённой по-лисьи мордой. И страшно худая — рёбра торчат. В круглых, ярко блестящих глазах — пронзительная человеческая тоска. Даже мольба... А хозяин всё-таки жив: бессознательно ища тепла, одной рукой слабо прижимает собаку к груди.
— Ну, пойдёмте уже в автомобиль, ваше превосходительство... — Гаркуша из-за порога завёл ту же пластинку.
Пригнувшись, вышел на свет и воздух.
— Бегом за санитарами, Василий. Один ещё дышит. И вели там накормить...
— Кого-о? — Глаза и рот Гаркуши распахнулись от удивления. — Виноват...
— Собаку его, сказал, пусть накормят.
И, поправив алый башлык, пошагал, сосредоточенно глядя под ноги, назад к «Руссо-Балту». Через самую грязь.
— И на что псину кормить?.. — бурчал посмурневший Гаркуша, спеша к пакгаузу с тифозными. — Ей-то с чего голодуваты? Вона мясного кругом...
8 (21) февраля. Кисловодск
— Крепитесь, Петро Николаич, ще трохы осталося... — приговаривал Гаркуша, чуть кряхтя и отворачиваясь — не дышать бы на командующего табачищем. — Полежите себе с недельку и сдюжите его, клятого... Бог не без милости, а казак не без счастья...
Длинное сухое тело сотрясал озноб. Ноги подламывались. Каждый нажим на верхнюю ступеньку выдавливал последние капли сил из одеревеневших мышц и отдавался разрывом боли в голове. Вот-вот, казалось Врангелю, башка разломится, а чёртовой лестнице нет конца... Правая рука помогала плохо: негнущиеся пальцы скользили по отполированным перилам, на ощупь — сделанным из льда. Под левую, согнутую в локте, крепко поддерживал адъютант.
Прочные дубовые ступени, покрытые янтарным лаком, высокое округлое окно, исторгающее резкий свет, узкая металлическая кровать с низкими ярко-белыми спинками, застеленная белым же больничным бельём и единственной худосочной подушкой — всё проплыло, будто в тумане.
Как стащил с него сапоги Гаркуша, как вместе с супругой генерала Юзефовича они переодели его в чистое бязевое бельё, как уверенными и мягкими движениями она остригла машинкой голову, сбрила опасной бритвой короткие усы, положила на лоб мокрое вафельное полотенце и сунула под мышку градусник — едва доходило до сознания. Веки отяжелели и не поднимались. Налившееся жаром и болью тело почти перестало чувствовать прикосновения. В ушах шумело, и звуки доходили словно сквозь вату...
...Только после нанесения жестоких ударов по равнинным аулам, где ингуши вместе с большевиками отчаянно дрались за каждую саклю, и выражения съездом ингушского народа покорности конники Шкуро и пластуны Геймана 28 января в ходе кровавого уличного боя ворвались в центральную часть Владикавказа. Взорвав Атаманский дворец с хранившимися там огневыми припасами, красные оставили город.
Всё побросав, трёхтысячная толпа, а с ней много комиссаров и членов совдепов кавказских городов, двинулась по Военно-Грузинской дороге, надеясь найти спасение в независимой Грузии. Шкуро кинулся в преследование, изрубил, кого догнал, и в запале вторгся на её территорию вёрст на 40. Вместе с остатками красных резво побежали к Тифлису и прикрывавшие границу части молодой грузинской армии. Ставка забеспокоилась, забросала телеграммами, и Врангелю пришлось осадить не в меру ретивого начальника дивизии.
Другая ушедшая из Владикавказа группа — свыше 10-ти тысяч — попыталась пробиться к Каспийскому морю долиной Сунжи, но её успел перехватить Шатилов.
1-я конная ещё гонялась за красными, зажатыми в долине между Владикавказом и Грозным, дорубала и брала в плен, а по Владикавказской магистрали уже двинулись на север эшелон за эшелоном освободившиеся кубанские полки.
Полное очищение Северного Кавказа от большевиков и захват неисчислимых трофеев немного сдвинули камень с души Врангеля. Подняли настроение и писания корреспондентов. Екатеринодарские и ставропольские газеты с прежней нерегулярностью, но всё же доставлялись в штаб армии. Просматривал их теперь с обострённым интересом: имя его замелькало. А в статьи о победных операциях его войск вчитывался с пристрастием. И вдумывался... Конечно, всё приукрашено сверх меры, попадаются и чистой воды глупости, но каждая строчка захлёбывается от восторга и победного упоения. И имени его всегда сопутствуют самые восхищенные эпитеты и велеречивые характеристики. Иные борзописцы дошли до того, что стали величать его «Мюратом[95] в черкеске». И лестно, и смешно... Лучше бы почаще напоминали обществу и обывателям о его близости к Корнилову, о подвигах в Великую войну. Начиная с атаки под Каушеном.
В общем, на душе полегчало и настроение поднялось. Но, странно, пропал, как раз через три дня после возвращения из Кизляра, обычный неуёмный аппетит. И в тело вселилась нудная вялость.
А в прошлый четверг, 31-го, вечером уже, в груди занялся вдруг жар, а в голове — ноющая боль. Решив, что возвращается осточертевший бронхит, схватился за градусник. 37,2°С показались ерундой, но на всякий случай проглотил перед сном два порошка антипирина.
Температура, однако, не падала до нормальной даже по утрам. Едва выходил из купе в ванное отделение, головная боль напоминала о себе. Разливаясь волнами ото лба к затылку, донимала потом целый день... А вечерами ещё и познабливало. Но лошадиная работа вынуждала наплевать на все недуги и перемогать их на ногах: переброска частей армии на Донецкий фронт буксовала, как его заезженный «Руссо-Балт» на раскисшем кубанском просёлке.
Дезинфекция всех брошенных красными составов затягивалась до бесконечности... Этапные коменданты и железнодорожники не успевали оборудовать нужное число крытых товарных вагонов для перевозки конницы — устроить стойла, установить скамьи и застелить пол соломой... Паровозов и угля не хватало... Продовольствия для казаков и фуража для лошадей интенданты, оправдываясь отсутствием денег, заготовили едва две трети от потребного... Казаки, наконец, отправлялись воевать за пределы Кубани без особой охоты... Всё это он предвидел. Как неизбежное зло.
Но чтобы уже оборудованные и загруженные эшелоны, с исправными паровозами и тендерами, полными угля и воды, сутками торчали на станциях от Невиномысской до самой Тихорецкой — такое и в дурном сне не являлось... Почти поголовно, прежде чем ехать выручать Войско Донское — своего «старшего брата», — кубанцы возжелали денька три-четыре передохнуть в родных станицах. И, само собой, облегчить разбухшие до безобразия обозы: раздарить родителям и жёнам, расставить по комнатам и разложить по скрыням и сараям всё добро, что отбили у красных.
А верить последнему докладу контрразведки штаба армии — так дело обстоит ещё хуже: рядовым казакам-кубанцам слишком хорошо известно, что избранные ими члены Краевой рады болтают на заседаниях только об «устройстве родного края» и не призывают идти спасать от большевиков Дон, а тем паче всю Россию. Как и то, что сами донские казаки за пределы своей области выходить не желают. В полках заворчали открыто: «А мы на что должны кидать ридну неньку Кубань?»
Положение на фронте Донской армии тем временем стало катастрофическим: за считанные недели она растаяла наполовину — теперь едва превышает 20 тысяч — и отхлынула за Дон. И красные уже в полупереходе от железной дороги Лихая — Царицын...
Поэтому собравшийся 1 февраля в Новочеркасске Большой войсковой круг выразил недоверие командующему армией генералу Денисову. У Краснова сдали нервы, и 2 февраля он подал в отставку. Деникин, приглашённый на Круг противниками Краснова, поспешил в Новочеркасск.
Наконец-то свершилось то, на что так надеялись главком и его окружение. И новым атаманом будет выбран глава донского правительства генерал Богаевский. Твёрдый будто бы сторонник Добровольческой армии. Да ещё «первопоходник»... Открытым пока остаётся вопрос, кого же назначат командующим Донской армией...
Антипирин не помог: в понедельник после полудня температура скакнула к 39 °С. Каждое движение стало болезненно отдаваться во всём теле. Замучила и жажда: остывший ведёрный самовар выпил чуть не до дна. В довершение ко всему напал страшный озноб — только что зубы не стучали.
До вечера на ногах не устоял.
Знакомый уже участковый врач дотошно расспросил о самочувствии, посмотрел горло, прижимая обжигающе-ледяным шпателем обложенный язык, послушал сердце и лёгкие, помял и постукал впалый живот, посчитал пульс. Особенно долго изучал при ярком свете настольной электрической лампы кожу на груди. Порекомендовав для понижения жара пить побольше клюквенного морса и прикладывать ко лбу мокрое полотенце, с диагнозом спешить не стал.
Утром во вторник расспросы и осмотр мало что прояснили: температура не падает, беловатый налёт ещё сильнее обложил язык, но кожа на груди — чистая, рвота и носовые кровотечения не появились, селезёнка не припухла настолько, чтобы стало возможно её прощупать, кишечник не расстроился.
Следующим утром тщательнее и дольше прежнего осматривал кожу на груди и животе, старательно давил и растягивал её холодными сухими пальцами: между сосками высыпало несколько бледно-розовых, с булавочную головку, пятнышек. Пропадая при надавливании, они ещё ярче проступали после... Откланялся, опять не сказав ничего определённого, но его моложавое бритое лицо затенила хмурость.
И только в четверг, когда верхний столбик ртути подобрался к 40°С, кожа стала суше и приобрела желтоватый оттенок, а сыпь погустела и распространилась на живот, вынес наконец приговор: Exanthematicus...
Заявив Юзефовичу, что железнодорожный вагон, даже такой комфортабельный, — не лучшее место для больного сыпным тифом, настойчиво порекомендовал, почти приказал по-военному, перевезти больного на какую-нибудь из групп Кавказских минеральных вод. Лучше всего — Кисловодскую. Во-первых, в зимнее время — самый тихий и солнечный из здешних курортов, хотя в феврале воздух и очень влажен. Но зато — чистейший горный, ибо ветра свободно проносят его через город. А во-вторых, углекислый источник Нарзан — питьё и ванны, — как никакой другой, поможет организму, явно ослабленному переутомлением, быстрее одолеть смертельно опасную инфекцию. И прописал пить порошки каломели и хинина, которых и в аптечном пункте приёмного покоя станции, и в аптечке штаба не было и в помине.
Юзефович переговорил по прямому проводу с Ляховым. И квартирьеры 3-го корпуса за полдня подыскали и реквизировали два свободных особняка в самой благоустроенной части Кисловодска: один — под жильё командующего, другой — под его штаб.
Нынче, как только рассвело, штабной поезд — для увеличения скорости ему добавили второй паровоз, пятиосный товарный — перешёл с главного пути на Минераловодскую ветку. Обогнув наполовину заросшую лесом гору Бештау, проскочив Пятигорск и лежащие дальше к западу, в голой степи, Ессентуки — их станции были забиты жёлтыми вагончиками местного сообщения, — покатил по самому берегу стремительно бегущего навстречу мутного Подкумка. Узкой речной долиной, оставляя слева округлые холмы, а справа — обрывистые скалы, то надрывно пыхтел на подъёмах, то легко нёсся на спусках. И скатился наконец в Кисловодское ущелье, одолев 57 вёрст за час с четвертью. Удачно, мосты через Подкумок и его притоки от боёв не пострадали.
«Руссо-Балт» шофёр подкатил по низкой платформе, единственной на станции и очищенной от публики, к самой переходной площадке вагона. Десяток шагов от купе до автомобиля Врангель кое-как сумел пройти без посторонней помощи. Застеленные лихорадочной влагой глаза ещё пытались вглядеться в окружающее: как мираж в пустыне, колыхались и струились очертания низкого вокзала и стоящего напротив, через маленькую площадь, трёхэтажного, светлого камня, курзала Владикавказской железной дороги...
Рёв мотора и дёрганье на подъёмах и спусках шоссированных и мощёных улиц, покрытых в тенистых местах тонкой наледью, доконали окончательно. На старые и новые гостиницы и водолечебные заведения центра города, промелькнувшие с обеих сторон, и на особняк, против которого остановился вынувший всю душу автомобиль, глаз даже не поднял...
...Двухэтажный особняк стоял в середине широкой Эмировской улицы, что начиналась от маленькой площади перед галереей источника Нарзан и поднималась по террасе горы Крестовая, примыкая юго-западной стороной к Нижнему парку.
Выстроенный из светлого мраморовидного известняка, добываемого недалеко в горах, и не уступающий соседям архитектурной затейливостью, он имел полтора десятка комнат. От мостовой его отделяли кованая чугунная ограда растительного орнамента и разросшийся фруктовый сад: голые ветки достали до высоких окон второго этажа. Между цветниками, присыпанными потемневшими опилками и кое-где безжалостно истоптанными, пролегли дорожки из серой гальки.
Особняк разграбили — сначала красные, а потом и казаки Шкуро: исчезли ковры, шторы, зеркала, бронза, мельхиор, хрусталь, фарфор, посуда, столовые приборы... Остались на своих местах выпотрошенные комоды и шкафы, столы без скатертей и кровати без белья — самые тяжёлые предметы дубовой мебели в стиле «ренессанс» московского производства. В гостиной и столовой каким-то чудом сохранились бронзовые люстры с лампочками. На кухне, в полуподвале, ещё большим чудом уцелели лёдоделательная машина ревельского завода «Франц Крулл» и вместительный шкаф-ледник. А в кладовке нашёлся даже старый электропневматический пылесос «Благо»: без одного колеса, деревянный корпус треснул, но двигатель работает. Главное, в исправности оказалось всё, что нужно для лечения в зимний сезон: центральное водяное отопление, электрическое освещение, водопровод, идущий из горного источника, две ванны с колонками-водонагревателями, печь с прачечным котлом и американского типа, без доступа дождевых вод, канализация.
Владельца особняка, сдававшего состоятельным курортникам и его, и свои дома в Ребровой балке, большевики взяли в заложники и расстреляли.
У широкой калитки сразу выставили парный пост.
Уголь стараниями коменданта города успели подвезти рано утром. И теперь инженер и рабочий с водоэлектрической станции, разогрев котёл и пустив по трубам воду, сгоняли воздушные пробки. В просторном сухом подвале с ними толклись два конвойца, которым Гаркуша пригрозил не дать ни ложки каши, пока не освоят все премудрости водяного отопления.
В подвале обнаружили горку сухих поленьев, и повар вагона-ресторана, молодой и всегда румяный толстяк, сноровисто растопил стальную «английскую» плиту — с широким навесным колпаком, «пирожной печью» и котлом для кипячения воды. Колпак оказался особенно кстати: чад, устремляясь под него, уходил в дымовую трубу, а не распространялся по всему дому.
Три казачки расположенной поблизости Кисловодский станицы, нанятые загодя квартирьерами, уже заканчивали прибираться: протёрли всюду пыль, чисто вымыли окна, лестницы, паркетные и плиточные полы. Старик стекольщик, вынув осколки нескольких разбитых на первом этаже стёкол, вставил целые. Связисты повесили на стену в гостиной, на место похищенного телефона, аппарат петроградского завода «Эрикссон». На двух телегах доставили со станции взятые из штабного поезда съестные припасы, посуду, столовые приборы, бельё, занавески, керосиновые лампы и разную мелочь.
К полудню подъехали пятеро врачей, много лет практикующих частным образом на Кисловодской группе и владеющих водолечебницами и санаториями. Почти год лечили они раненых и больных красноармейцев и всякого рода комиссаров, благодаря чему ужасы расстрелов и грабежей обошли их стороной. Тем с большим рвением взялись они за лечение командующего белой армией. Один успел до приезда больного прислать из своего санатория разборную больничную койку на колёсиках, ночной столик и два табурета; все — железные и выкрашенные в белый цвет. Другой — предметы ухода за больными: термометры, клеёнки, надувные резиновые подушки и матрацы, подкладные судна, пузыри для льда и прочее. Третий привёз с собой белые халаты, передники и фартуки.
Авторитетом, но не внешней важностью, выделялся среди них профессор Ушинский. Маленький и пожилой, но ещё крепкий и очень подвижный, он быстро вертел облысевшей круглой головой и цепко схватывал взглядом всё вокруг. И беспрестанно улыбался ободряюще. К другим врачам подчёркнуто уважительно обращался «коллега», ко всем остальным — очень ласково «голубчик» и «голубушка». Из нагрудного кармана его безукоризненно выстиранного и отутюженного халата торчали, как газыри, и холодно блестели никелем шпатель и воронка стетоскопа.
Едва войдя в гостевую спальню на втором этаже, куда поместили больного, он шёпотом потребовал немедленно вынести гобеленовое кресло и снять уже повешенные шёлковые шторы. И пустился в пояснения: обивка, занавески, шторы и вообще все ковры запыляют воздух и служат прекрасным убежищем для бактерий и платяных вшей, поскольку... Пропуская мимо ушей медицинские учёности, Гаркуша легко вспрыгнул на подоконник, живо снял с багета шторы и, скомкав, вынес вместе с креслом; настенный ковёр ещё раньше вынесли грабители.
Изнурять больного длительным осмотром и устраивать консилиум никто из врачей необходимым не посчитал: правильность предварительного диагноза, увы, была слишком очевидной. Спустившись в гостиную, быстро пришли к единому мнению относительно методов лечения. Каломель из-за вредного воздействия ртути на расшатанные нервы отвергли единодушно. Договорились об очерёдности дежурств.
Много дольше, даже отдав должное её навыкам сестры милосердия, Ушинский растолковывал Вере Михайловне Юзефович, как ухаживать за больным, у какого аптекаря что заказать и купить, какую диету соблюдать, как и чем дезинфицировать всё и вся... Поначалу он энергично возражал даже против её присутствия в комнате больного и настаивал на присылке двух медицинских сестёр, уже перенёсших сыпной тиф и тем избавленных от опасности заразиться. Но Юзефович ещё в поезде решил иначе: рядом с командующим должны находится только те, кого он знает лично. Начиная с его жены. Сошлись на том, что приходящие медицинские сёстры будут ей помогать и заменять лишь на время сна, а сама она ни в коем случае не будет видеться с трёхлетней дочерью.
Ещё энергичнее запротестовал Ушинский, едва Юзефович обмолвился насчёт вознаграждения за труды. Коллеги поддержали его один решительнее другого.
Прислуге и стекольщику за работу и стекло Юзефович заплатил из денег командующего: вчера тот вложил ему в руку потёртое коричневое портмоне, туго набитое кредитками — остатки ноябрьского и декабрьское, последнее, жалованье со всеми прибавками. Ещё раз пересчитав «керенки» и донские «ермаки» — 5 тысяч без четвертной, — занёс расход в записную книжечку. Траты на лечение обещали быть немалыми и требовали строгого отчёта.
До обеда медсестра успела наголо постричь ординарцев и казаков конвоя. Пришлось и Гаркуше, как ни отшучивался и ни сокрушался, расстаться со своим любовно отрощенным на донской манер, на левую сторону, вихрастым чубом.
После стрижки, мытья в ванной и обеда он лично уложил папаху, башлык, черкеску, бешмет, бриджи и ремни начальника в резиновый мешок от моли. Два конвойца повезли их в физиотерапевтический институт «Азау», занимающий первый этаж «Гранд-отеля» на Голицынском проспекте, — дезинфицировать в паровой камере. Другие занялись обустройством караульного помещения в полуподвальной комнате для прислуги.
А Гаркуша, переобувшись в неодёванные чувяки на дратвяной подошве, — старушка мамаша построила и прислала к Рождеству, — в который уже раз бесшумно обходил особняк. Проверял запоры на окнах и недоверчиво щупал закрашенные кремовой масляной краской шершавые рёбра чугунных батарей, установленных под узкими подоконниками. Хоть и обжигало ладони, а всё же одолевали сомнения: русские и голландские печи посолиднее будут...
Перед самой полуночью пришла шифрованная телеграмма с приказанием Деникина: генералу Юзефовичу командовать Кавказской Добровольческой армией от имени генерала Врангеля, не объявляя войскам о его болезни.
Доложить её командующему не успели: впал в беспамятство.
9 (22) февраля. Кисловодск
Обритая голова глубоко ушла затылком в низко положенную и слабо надутую подушку. Из белизны наволочки поднимаются серо-жёлтого оттенка крутой голый лоб, тонкий удлинённый нос — горбинка и кончик его заострились — и резко очерченный, с неглубокой ямочкой, подбородок. В него уткнулся край клетчатого верблюжьего одеяла, покрытого вторым — ватным. Плотно сомкнутые веки едва виднеются в затенённых провалах глазниц. Сухая пожелтевшая кожа туго обтянула впавшие щёки и выпершие скулы. Потускнели и почти пропали обмётанные губы. Глубоко прорезались морщины — продольные над переносицей и овальные вокруг рта...
Юзефович, не приближаясь, рассматривал лицо командующего и не узнавал. Без усмешки, ироничной или саркастической, без ярких живых глаз, то прищуренных, то округлившихся, без быстрого проникающего взгляда, когда насмешливого, а когда серьёзного и даже жёсткого, но никогда рассеянного, оно стало незнакомым и чужим. Будто надели на него маску боли и страдания.
Недвижимо и длинное тело. Не слышать частого, едва различимого в полной тишине дыхания — можно усомниться, жив ли ещё.
Нет, ничем лежащий на больничной койке не напоминает того человека, под чьим началом прослужил уже месяц: чаще — импульсивного и резкого в словах и жестах, реже — окаменевшего снаружи, но терзаемого переживаниями изнутри... И успел привыкнуть. И даже проникся симпатией. Хотя и несколько настороженной: как и предупреждали в Ставке, честолюбия и тщеславия в бароне хоть отбавляй.
Но всё же, справедливости ради, отношение к нему многих чинов Ставки иначе как предвзятым теперь не назвал бы. Откуда же это могло пойти? Завидуют победам и растущей популярности в войсках? Вполне вероятно... Судя по всему, тут играет роль и заносчивость, которой заразились молодые участники первого, корниловского, похода на Кубань. «Первопоходников» в разбухающей Ставке всё больше и больше, и пренебрежение их ко всем, кто вступил в Добровольческую армию позже, даже старшим чинами, становится небезобидным. На себе испытал... Одно утешает: Деникин и Романовский — выше этого мальчишества. Во всяком случае, из личных бесед с ними в Екатеринодаре вынес именно такое впечатление.
Будь по-другому — воспользовались бы болезнью командующего, раз тот не разделяет стратегию Ставки, и назначили временно исполняющего должность. Но кого? Если по старшинству, то Ляхова. Но у того другая задача — умиротворить горцев. Самого его, начальника штаба, нельзя: только месяц, как вступил в ряды добровольцев, и для опьянённых славой и вседозволенностью начальников кубанской конницы он, как ни горько признавать, — пустое место. А больше и некого... Не Покровского же, по которому давно военный прокурор плачет. Так что выход из затруднительного положения, в какое поставила главкома болезнь Петра Николаевича, сделал бы честь и царю Соломону. Нашёл его и подсказал Деникину, вероятнее всего, Романовский — большой мастер подстилать соломку. Если судить по разъяснениям, которыми тот по прямому проводу сопроводил приказание главкома...
Солнечный прямоугольник вытянулся по тускло заблестевшему либавскому линолеуму, разрисованному под паркет. Но до койки, поставленной изголовьем к окну посреди комнаты, не достал. На ночном столике, втиснутом в угол справа от двери, теснились пузырьки разной формы с голубыми, серыми и жёлтыми хвостами аптекарских ярлыков. К ножкам его приникли два табурета. Через выходящие на юго-запад, к Нижнему парку, окно и балконную дверь, отворенные настежь для проветривания, свободно проникал студёный горный воздух, прозрачный и напоенный сыроватой свежестью леса.
Так велели врачи: поддерживать температуру не выше 14°С и как можно чаще проветривать, выкатывая койку или укрывая больного вторым одеялом. И никаких ярких цветов, никакого громкого шума и света в глаза. Ранним утром, когда начальник штаба приходил с докладом, горела одна настольная лампа, поставленная на пол позади больного. Металлический колпак сильно пригнули, и освещались только полукруг на полу и низ батареи водяного отопления...
...Ещё не рассвело, Юзефовичу в кабинет позвонила жена: Пётр Николаевич пришёл в себя.
Штаб армии расположился совсем неподалёку — в трёхэтажном отеле-пансионе «Затишье», на той же Эмировской улице. И через пять минут он уже поднимался по лестнице, крепко зажимая пальцами угол своей старой, довоенной ещё, кожаной папки. Больного поили молоком — жена Вера Михайловна одной рукой приподнимала ему голову, другой аккуратно наклоняла прижатую к нижней губе чашку. Потом какао... Глотал вяло, с перерывами, без аппетита.
Переждав, доложил телеграмму главкома, обстановку на фронте армии и выполнение графика проезда эшелонов с частями по Владикавказской магистрали. Очень кратко: активного фронта как такового уже нет, а о бестолковщине, тормозящей переброску, естественно, умолчал. Не отрывая головы от подушки и полуприкрыв глаза, командующий внимал с физически ощущаемым напряжением. Вопросами, как раньше, ни разу не перебил. Почти парализованный слабостью, только и смог, что выдавить пару слов одобрения.
После его ухода, как сообщала дважды звонившая жена, Пётр Николаевич то дремал, то бодрствовал... Даже пытался заговаривать с ней и адъютантом. Всё предписанное врачами строго выполнялось.
А час назад — очередной звонок: впал в беспамятство...
...И до сих пор не пришёл в себя. Лежит недвижимо.
Без малейшего скрипа — все петли в доме хорошо смазали — отворилась дверь, и вошла Вера Михайловна. Пышные чёрные волосы туго затянуты белым платком, нос и рот прикрыла марлевая повязка. Взглянула на мужа с кроткой укоризной: дескать, напрасно повязку не надел. Мягким жестом показав, что ему лучше уйти, неслышно — в красных верёвочных тапочках — прошла к окну. Его и балконную дверь прикрыла так же плавно и бесшумно. Сложив из марли салфетку, обильно смочила её слабым спиртовым раствором борной кислоты, отжала... Склонилась к больному и стала протирать ему губы. Нежно, как младенцу... Потом, с лёгким усилием отведя подбородок, — обложенный язык и покрывшиеся тёмным налётом зубы.
Не жены послушался Юзефович — врачей: категорически запретили подолгу находиться в комнате больного. В дверях столкнулся с Гаркушей, зажавшим между ладоней оранжевый резиновый пузырь со свежим льдом.
Ещё не спустился на первый этаж, в нос ударила тошнотворная вонь карболки: дезинфицировалась очередная смена белья.
Шагая через сад к калитке, окончательно решил донимавший его со вчерашнего вечера вопрос: не спрашивая позволения командующего, немедленно отправить баронессе Врангель, в Ялту, телеграмму. Составить поделикатнее, но правды не утаивать.
10 (23) февраля. Кисловодск
Остро-кислый запах карболки, как ни проветривали, быстро заполнял коридор, Комнаты первого этажа и норовил заползти на второй: в просторной ванной, в двух больших жестяных баках, постоянно мокло в карболовом растворе постельное и носильное бельё командующего. Меняли его дважды, а то и трижды в день. В отдельном тазу, придавленные крупными голышами, дезинфицировались надутые подкладные судна из мягкой оранжевой резины, меняемые куда чаще.
После карболки бельё ещё и кипятилось.
Интенданты штаба армии приобрели за казённые деньги три телеги сосновых дров, и прачечный котёл паровал часами. Одну за другой закладывали в него и партии белья всех, кто жил или подолгу находился в доме, — четы Юзефовичей, Гаркуши, медсестёр, прислуги и нескольких конвойцев. Их верхнюю одежду и обмундирование, а также одеяла, которыми укрывали больного, возили на дезинфекцию в институт «Азау».
В ванной же первого этажа то и дело зажигалась колонка и лилась нагретая вода: все мылись, не жалея ни мочалок, ни мыла, ни кожи.
Не меньше прачечного котла и колонки трудился, испуская лёгкий дымок, и старый чугунный утюг, набитый тлеющими углями: в одной из комнат устроили гладильную, и две нанятые казачки, сменяя друг друга, с утра до вечера тщательно проглаживали всё продезинфицированное. Плотные швы — по несколько раз.
Война со вшами, разносящими сыпной тиф, и грязью затихала только на ночь. Уход за больным не прерывался ни на минуту.
Во избежание пролежней Вера Михайловна — помогали ей медсестра и дежурный врач, а то и Гаркуша — поворачивала его с боку на бок и энергично протирала камфорным спиртом спину, крестец и поточные бугры. Чистую простыню, постелив, с той же целью тщательно расправляли, убирая малейшие складки.
Диету, предписанную врачами — жидкую и питательную, — соблюдали строго: куриный и говяжий бульоны, какао, козье молоко, кумыс, сметана, сильно измельчённые варёные яйца и размоченный в молоке творог. И постоянно поили водой источника Нарзан. Даже когда больной находился в беспамятстве: приподнимали голову и столовыми ложками вливали в рот — глотал инстинктивно.
Каждые четыре часа, днём и ночью, бережно катили койку в ванную комнату второго этажа. Эмалированная под фарфор ванна уже была налита водой Нарзана, подогретой до 24°С. Иногда чистой, иногда разводили хвойный экстракт. Со всеми предосторожностями, укладывая спиной на полого скошенную стенку ванной и поддерживая голову, больного погружали по самую шею: сбить жар, успокоить нервы и предупредить помрачение сознания.
Гаркуша одной рукой подливал из большого кувшина холодную воду — следовало остудить до 20°С, — а другой топил градусник, вделанный в деревянный корпус. Поминутно доставал и смотрел, насколько опустился ртутный столбик. И снова устремлял взгляд на серо-жёлтое, безжизненное лицо командующего. В надежде на чудо: вот сейчас глаза откроются и сверкнут добрым гневом. И весело зачертыхается оживший рот: «Студень из меня решил сделать, чёрт вихрастый?!» Жаждал этого чуда, как ничего другого...
За положенные восемь минут, пока тело больного охлаждалось, медсестра успевала вымыть его.
Переложив на туго надутый резиновый матрац, вытирали досуха, растирали спиртом, укладывали на идеально расправленную простыню, плотно укутывали верблюжьим одеялом и катили койку обратно.
Потом тщательно протирали карболовым раствором и ванную, и фарфоровые, разрисованные под розовый мрамор, плитки стен, и пол, выложенный большими, серыми и красными, квадратами пирогранита.
Между ванными замачивали простыню в холодной воде Нарзана и, тщательно отжав, оборачивали ею больного.
Резиновый пузырь со льдом, постоянно меняя подтаявший на свежий, со лба не убирали.
Кормление, смена белья и любая процедура заканчивались одним: все спешили к умывальнику. Руки мылили и тёрли до красноты. А при первой возможности выходили в сад — подышать чистым воздухом.
Комнату больного проветривали каждые два часа.
Минувшей ночью сильно подморозило, и днём, несмотря на слепящее солнце, воздух прогрелся не слишком: прибитый к дереву с северной стороны дома термометр Реомюра[96] показал -10°. Поэтому, не полагаясь на второе одеяло, койку, прежде чем открыть окно и балконную дверь, на время проветривания стали выкатывать в коридор.
Гаркушу Вера Михайловна старалась призывать к себе в помощь пореже: на его плечи легла доставка воды из источника Нарзан, аптекарских товаров и диетических продуктов...
...Первая его попытка — в ближайшем магазине гастрономических и бакалейных товаров, на Воронцовской улице, — купить какао и виноградный уксус едва не закончилась битьём хозяина.
Толстый армянин в несвежем белом халате только глаза выпучил, блеснув белками, на 50-рублёвку кубанского правительства. Отказался брать и «ермака». И заявил нагло, что продаст, так и быть, за «керенки», хотя другим продаёт за одни только мелкие романовские... Мускулистая рука, засунув перегнутые пополам кредитки обратно в карман шаровар, сама потянулась к старой ногайке, торчащей из-за голенища. Добро не к шашке... Убоявшись всё же гнева командующего — ведь доложат, как поправится, — скрепя сердце Гаркуша отдал за фунт развесного какао и полуфунтовую жестяную банку немецкого какао-масла 40-рублёвую «керенку».
Да как же можно, одёрнул себя уже на улице, жалеть гроши для такого замечательного человека! Настоящий ведь — и по разуму, и по справедливости, и по виду всему — военный начальник. Не то что прочие, которые командовать не умеют, а берутся — только петушатся да тоску нагоняют... И сам хотя не казачьего происхождения, а казаков уважает. И фасона пусть генеральского с избытком, зато зазря не обложит и отходчивый. А уж полюбит кого, так полюбит. Сотника дал до сроку... Вот ведь выпала счастливая карта оказаться у кого на службе...
Но перед дверью следующего, винно-бакалейного, магазинчика снова заскребло на душе: жаль всё-таки грошей командующего, выданных под отчёт генералом Юзефовичем. Как своих кровных жаль. Нипочём ведь не скажешь, что Пётр Николаевич богатый очень, хоть и барон, и генерал. Не бралась бы тогда Ольга Михайловна летучкой заведовать, сама бы раненых не перевязывала... Имение-то его, где-то там на севере, в нищей Минской губернии, гляди, победнее батькиного надела будет. Всё ж таки Кубань-матушка есть Кубань...
На Пятницком базаре, спустившись в Старый город, воспрянул духом: братья-терцы оказались не столь привередливыми. За «ермака» один охотно продал четыре ощипанные курицы и ведро кумыса. Сюда и решил ходить за продуктами: хотя базарным днём здесь установлена пятница, но всё, что угодно привозят на продажу каждое утро.
А со стариком водовозом сторговался и вовсе недорого. Наполнив бочку в водопродажной, работающей в галерее Нарзана, тот живо привёз её прямо к заднему крыльцу. И побожился доставлять по бочке рано утром и после обеда — и на ванны, и на питьё...
...К исходу седьмого дня болезни — несмотря на порошки хинина, процедуры и заботливый уход — состояние больного ухудшилось: температура подскочила до 40,3°С, пульс участился до 90 — 100 ударов.
Неспадающий жар породил кошмары: в состоянии дремоты стал тихо стонать и бормотать бессвязно. То и дело впадал в беспамятство: дёргал и вертел головой, скидывая пузырь со льдом, по мышцам рук и ног пробегали судороги.
Пока Вера Михайловна придерживала его за плечи, пышащие сухим жаром и покрытые сыпью, дежурный врач, прислонив ухо к слуховой воронке стетоскопа из слоновой кости, дольше обычного вслушивался в шумы в сердце и лёгких. Слегка отвернув голову, сдерживал дыхание: от тёмного налёта на зубах больного тянуло зловонием...
11 (24) февраля. Кисловодск
Боль сдавила грудь раскалёнными тисками и прожигала насквозь. Ни вдохнуть, ни выдохнуть... Прежние сердечные спазмы, прицепившиеся после контузии, в сравнении с этими адовыми муками казались теперь игривыми щипками. Что-то подобное испытывает, верно, в свои последние минуты одинокий охотник, когда медведь, насев всей своей многопудовой тушей, кровожадно раздирает когтями грудную клетку...
Впрочем, в этих мучительных спазмах нашёл уже то хорошее, что отгоняли они жаркие и сумбурные кошмары, возвращали к живым людям... Таким бесконечно дорогим и милым. Самоотверженная их заботливость трогала до слёз. Только не наворачивались слёзы: тело иссушилось от жара и превратилось во что-то подобное египетской мумии...
Но едва боль отпускала, наваливались и душили другие мучения: и в голову прежде не Приходило, сколь ужасна и невыносима полная физическая немощь при совершенно ясном сознании. Немощь такая, что не было сил даже дурные мысли отогнать.
Иные разрывали сердце кровожаднее медведя...
Неужто всё закончится этой койкой?
Неужто Царицын так и останется недостижимой мечтой? И его победным путём пройдёт кто-то другой?..
О старике Алексееве газеты сообщили, что умер от тифа. Наврали... То ли медикусы сохранили свою тайну, то ли просто проявили деликатность к вождю... В его случае это будет правдой...
Деникин, любопытно знать, сочтёт его достойным лежать в усыпальнице Екатерининского собора? Рядом с основателем Добровольческой армии...
Дроздовского положили... Несмотря на все нелады и конфликты. Не иначе решили не обижать офицеров его дивизии. Тех, что он привёл с Румынского фронта...
А после победы что?.. Неужто оставят в Екатеринодаре?.. Едва ли... В Москву перенесут или Петербург... А ежели всё-таки оставят?.. Этого ещё не хватало. Не самое счастливое место в его жизни — Екатеринодар... Пришёл туда, не зная куда, и чего искал — не нашёл...
То ли в ушах, то ли в душе гулко застучали подкованные сапоги... Сначала слабо, потом отчётливее... Что это за стук?.. Да это же его собственные шаги... Ноги сами ведут его... И откуда это сила в них взялась? Вниз ведут, по крутым каменным ступеням... Это же усыпальница! Всё ниже и ниже... Пахнуло плесенью и холодом...
Жгучий озноб пробежал вдоль позвоночника, и сердце, стиснутое болью, заколотилось вдруг бешено, как у лошади, сорвавшейся с места в карьер. И отогнало от сознания подступающий мрак...
Нет-нет, это другой холод — свежий, сладкий и оживляющий: окно отворили...
Поднять пудовые веки, хотя и появились вроде бы силы, боялся: ослепляюще-белый потолок, с круглой лепниной вокруг пустого крюка для люстры, давил могильной плитой...
За что же, Господи?! За что Ты караешь меня? И Олесиньку, и деток, и маму... Где же Твоя милость?!
13 (26) февраля. Кисловодск
В отличие от зим прежнего, мирного, времени Кисловодск, как и другие города Кавказских минеральных вод, переполнили тысячи приезжих — аристократия, финансисты, промышленники, чиновники и интеллигенция из обеих столиц и крупных городов Центральной России. Ещё прошлой зимой сняли особняки, дачи, номера в гостиницах и комнаты в санаториях, пансионатах и домах мещан, иногородних и казаков. Не всем посчастливилось дождаться падения Терской советской республики, но всем пришлось поголодать из-за большевистского запрета свободной торговли. Поэтому рестораны и кофейни, крупные винно-гастрономические магазины на Голицынском проспекте, Тополёвой аллее и Воронцовской улице, все булочные и кондитерские, все бакалейные, молочные, мясные и овощные лавки работали по-летнему: как открылись после взятия города Шкуро, так и не закрывались ни на один день.
И на Пятницкий базар каждое утро из ближайших станиц и аулов привозилось всё, чем богаты местные жители. Крики людей и живой птицы, жаркие и ленивые споры продавцов с покупателями, мелькание синих казачьих башлыков и высоких горских шапок, румяные и смуглые женские лица, полуприкрытые белыми и тёмными пуховыми платками, — всё будило в Гаркуше сладкие ощущения довоенной станичной жизни, сытной и покойной. Спешил, но не мог отказать себе в удовольствии пройтись между рядами в сопровождении двух конвойцев, перекинуться с кем-нибудь шутками и попробовать самое на вид вкусное. Покупал молоко и кумыс, творог и сметану, яйца и коровье масло, говядину и кур. С приглянувшимися молодухами не торговался.
С бакалейщиками — русскими, армянами и грузинами — наоборот. Навалившись широкой грудью на высокий прилавок, перво-наперво интересовался с простодушной певучестью: «А яка тут скыдка для вызволытилив вид большевицкого игу?» Какао — в порошке и кубиках, уже последние пачки — пришлось-таки покупать по бешеным ценам. Пилёный сахар, соду, уксусную эссенцию, мыло и мыльный порошок — ещё по божеским. Всё одно, на мыло уходила уйма денег: требовалось его чуть не на сотню. Ведь даже самое вонючее — керосиновое и скипидарное, для стирки очень грязного и требующего дезинфекции белья, — вздорожало до 15 рублей за фунт.
Радушнее других встречали его каждый день три аптекаря-еврея. Едва завидев низко надвинутую на брови чёрную аловерхую папаху и торчащий из-под неё орлиный нос, вопрошали, не уступая в нежности дверному колокольчику: «Ах, зачем господин офицер так редко заходит?» И растягивали дрогнувшие губы в улыбку.
Красные выгребли из аптек всё, что нашли, но и припрятать торговцы аптечным товаром ухитрились немало. Нашлось всё: карболовая и борная кислота, камфорный и чистый спирт, марганцовка и перекись водорода, гигроскопичная вата и марля, хвойный экстракт, тальк и рисовая пудра, вазелин и вазелиновое масло, высшего сорта зелёное медицинское и олеиновое мыло петроградских заводов «Якорь» и «Мартинелли», сироп из клюквы и шиповника... И продавали всё дешевле, чем другим покупателям: первыми пронюхали, для кого. А федосеевский лечебный портвейн № 51 отдавали почти даром — по 25 рублей за бутылку.
Расхваливали и навязывали ещё какие-то порошки от вшей, но Гаркуше они показались подозрительными. И оказался прав: доктора сочли их в лучшем случае бесполезными.
И хотя от прежнего обилия и разнообразия аптекарских товаров остались одни воспоминания, самое необходимое — иногда по пузырьку или коробочке с одной аптеки — найти удавалось. Не находил в ближайших двух — сразу загорался злой решимостью весь город обегать и перевернуть, но добыть. И добывал.
Хоть так совесть успокаивал.
Терзать стала нещадно, вроде вцепился в загривок злющий волкодав: не уберёг Петра Николаевича от заразы, и с каждым днём ему всё поганее... И как теперь Ольге Михайловне в очи глянет? Вот кто совсем не высокородничает. И генеральше Юзефович, важной, как барыня, с ней не четаться... За одни зарайские полусапожки столько раз спасибо сказала, сколько ему за всю жизнь услышать не довелось. Так в Петровском купил ей на свои деньги гостинец на Рождество — резиновые предохранители для высоких каблучков, в аккурат для тех полусапожек. Месяц с лишком возит в седельной суме. Но как теперь дарить? Не до каблучков ей станет, сердешной...
Набегавшись по базару, лавкам и аптекам, торопился в особняк. Бережно выгружал на кухне из вещевых мешков, своего и конвойцев, бутылки с молоком и кумысом, кульки и свёртки с прочим съестным. Передавал доктору аптекарские товары. И сразу навязывался генеральше Юзефович с помощью. Если была в ней нужда — живо переобувался в домашние ноговицы и менял чёрную черкеску на белый докторский халат.
Если нет, перво-наперво спускался в подвал: проверял, исправно ли работает котёл водяного отопления, мерил глазами угольную горку и поленницу — прикидывал, не пора ли интендантам привезти ещё угля и дров. Потом, тихо шлёпая по полу чуть влажными шерстяными носками, обходил весь особняк — по второму этажу крался бесшумно, как вор — и щупал батареи... И только убедившись, что греют жарко, спускался в кухню, где бережно извлекал из шкафа-ледника солёное свиное сало и кинжалом нарезал толстые ломти — бело-розовые, с широкими багровыми прожилками мяса...
В ночное время, самое беспокойное, в его помощи нуждались больше: менял в пузыре подтаявший лёд на свежий, выносил подкладные судна, переворачивал командующего во время протирки камфорным спиртом, закутывал в мокрую простыню, катил койку и подливал в ванну холодную воду Нарзана...
Пренебрегая указанием Ушинского почаще выходить в сад и дышать свежим воздухом, первые пару дней только выскакивал на полминуты перекурить. Доставал из пачки надкуренную папиросу, поджигал торопливо. Глубоко затянувшись два-три раза, гасил о мозолистую ладонь и прятал обратно в пачку.
Потом потянуло через дорогу — в Нижний парк: без всякого дела прогуляться до источника Нарзан... Но какие могут быть прогулки? Вчера впервые за неделю нашлось полчаса забежать в штабную конюшню: проведать Черномора — вороного, взятого в Константиновском, — и коней командующего. Стоят, бедные, понурившись...
Но нынче с покупками управился быстро, выпал ранним вечером свободный час, и генерал Юзефович разрешил отлучиться по личному делу...
До войны, в летние сезоны, старый казённый парк был самым оживлённым местом в городе. Теперь шумела одна только резвая Ольховка, прорываясь по своему тесному каменистому ложу.
Едва не сбежал по дорожке, виляющей между высоченными старыми деревьями, на засыпанную мелким гравием центральную аллею. Остановился, осмотрелся и пошагал дальше... С наслаждением вдыхал полной грудью. Светлые стволы тополей уже чуть-чуть позеленели. Но весной пока не пахло — одной только стылой сыростью. И чем ниже, тем острее.
Окутанный сумерками парк и бодрил, и угнетал запустением... Много деревьев было порублено и вокруг пеньков густо валялись светлые, ещё свежие, щепки. Цветники заросли сорной травой. Горбатые деревянные мостики через речку расшатались. Кумысный павильон стоял заколоченный. Круглые беседки все загажены. Столики, расчерченные на чёрно-белые квадраты для шашек и шахмат, перекосились или совсем повалены.
Возле большой эстрады для духового оркестра задержался перекурить... Пустую сцену под высокой деревянной раковиной и поставленные полукругом скамейки, кое-где сломанные, засыпали прошлогодние, почти сгнившие листья...
Длинная галерея источника Нарзан, построенная из светло-жёлтого песчаника, с высокими округлыми окнами и остроконечными башенками выглядела хотя и красивой, но давно заброшенной. Стены и фундамент избороздили извилистые трещины, стёкла кое-где побиты, фонтан перед главным фасадом замусорен.
Зашёл внутрь: темно, сыро и безлюдно. В гулкой пустоте жёстко хрустела под ногами осыпавшаяся с потолка штукатурка да звонко струилась вода из кранов. Сложив руки ковшиком, набрал воды. Пил большими глотками.
Невесть с чего тоска схватила вдруг за сердце. И тут же залетела в голову шальная мысль: подняться по Голицынскому проспекту — широкой пешеходной аллее, перекрытой повреждённым трельяжем — в Железнодорожный парк, примыкающий к станции. И даже заглянуть в курзал... Днём его светлое здание, с башнями и серо-голубой железной крышей, величественно возвышалось над центром города. По вечерам там заманчиво мигали разноцветные огни. И как ветерок с гор ни относил её, ушей достигала-таки музыка из ресторана, волнуя молодую кровь...
Смахнул капли с газырей. Нет, пора уж возвращаться к Петру Николаевичу... Да и жалованья обер-офицерского по теперешним временам ни на какие ужины не хватит. Это ведь не в доме станичника повечерить...
14 (27) февраля. Кисловодск
Из Екатеринодара, приглашённый начальником санитарной части штаба главкома, приехал профессор Юревич, известный бактериолог. Не один, а вместе с новым и очень сильным микроскопом берлинской фирмы «Отто Гиммлер» и походным набором лабораторных принадлежностей для анализа выделений и извержений человеческого тела.
Прямо с поезда, с необыкновенной тщательностью вымыв руки и отказавшись даже от чая, дотошно расспросил Ушинского и осмотрел больного: сыпь распространилась уже на руки, ноги и подбородок, температура подобралась к 41°С и не спадает несмотря на все принимаемые меры, язык стал бурым, и на нём, а также на дёснах появились тёмные корки, дыхание учащённое и затруднённое, пульс перевалил за 100 ударов, хотя и полон. На внешние раздражители реагирует всё слабее, а помрачения сознания участились и стали продолжительнее.
По всем признакам, строго предупредил Веру Михайловну, со дня на день на смену тихому бреду придут приступы сильнейшего психического возбуждения. И это особенно опасно: случается, тифозные вскакивают с постели, начинают буянить и выбрасываются из окна. Чаще ночью.
Подкожные впрыскивания камфары для поддержания слабеющего сердца одобрил, но в минимальных дозах и только до начала приступов: при тифе камфара сама способна провоцировать эти приступы и даже доводить их до судорог, сходных с эпилептическими. А когда начнутся — давать, для укрепления сердечной деятельности, красное вино по столовой ложке три раза в день. Хинин же отменил: при очень высокой температуре его действие резко слабеет, а побочные эффекты усиливаются. Строго-настрого запретил оставлять больного без надзора хотя бы и на минуту. По ночам велел дежурить в комнате больного по двое. Всем, кто за ним ухаживает, — обязательно надевать марлевые повязки и резиновые перчатки, а также полоскать рот слабым раствором марганцовки.
И засел в отведённой ему комнате за анализы...
...Высокий, седовласый и высохший до густой сети морщин старик, немного неловкий в движениях, Юревич сразу лёг Гаркуше на душу: и рассудительностью тихой медленной речи, и строгим взором поверх овальных стёклышек позолоченного пенсне, и всеми своими учёными причиндалами, уложенными в неподъёмный дорожный сундук. Потому и не пропускал мимо ушей долетавшие обрывки его разговоров с Ушинским. Среди чудных и потешных латинских слов проскакивали и людские... А уж наставления его в пересказе генеральши Юзефович старался запомнить, как статьи уставов.
Всё тешил себя надеждами на скорое выздоровление командующего, всё отгонял страшные мысли, словно от комаров откуривался... А почуял, что состояние Петра Николаевича знаменитости не понравилось, — руки и ноги похолодели, как будто пуля просвистела над самым ухом.
И уразумел наконец из профессорских разговоров, почему заразился один командующий, а из них, кто днями и ночами рядом были, — никто. Виной всему — недолеченная контузия, недосып и крайнее переутомление нервов. Одно только хорошее питание и помогало ослабленному организму бороться с инфекцией и оттянуло начало болезни.
В другой раз обрадовался бы, краем уха услыхав такое, как всякой честно заслуженной похвальбе... Да теперь-то радоваться нечему: с каждым днём, несмотря на питательную пищу, командующий тощает, а худые, со слов строгой знаменитости, умирают от тифа чаще тучных, и избежать смертельно опасного истощения могла бы помочь детская мука «Нестле», но по нынешней разрухе её ни за какие деньги не купить.
Переспросил у генеральши Юзефович диковинное название и кинулся сразу, твердя про себя, чтобы не вылетело из головы, к оставшемуся непоколоченным толстому армянину...
...Обиды первой встречи и след простыл, и хозяин гастрономического магазина встречал теперь Гаркушу как родного и товар отпускал задешево. А вчерашним вечером сам доставил в особняк пять бутылок французского лечебного вина «Сен-Рафаэль», головки сыра трёх сортов и по большому, фунтов по шести, пакету изюма и кураги. И деньги отказался не только взять, но даже записать в долг. И страстно умолял ни у кого ничего не покупать: его товар — самый свежий и наилучшего качества, и он просто умирает от желания быть поставщиком «его высокопревосходительства», которому от себя и всей своей семьи, и всех своих близких и дальних родственников, и здесь проживающих, и в Ростове, и в Нахичевани, и в Нагорном Карабахе, желает скорейшего выздоровления и возвращения на поле брани за освобождение Великой России от грабителей и насильников. Опять же вот-вот подвезут фазанов и живую стерлядь...
Суровые часовые с обнажёнными шашками у особняка и отеля-пансиона на Эмировской, серо-коричневый автомобиль, днём и ночью раскатывающий вверх-вниз между ними, почтово-телеграфной конторой на Воронцовской и железнодорожной станцией, где как встал, так и стоит на втором пути поезд из двух паровозов и классных вагонов, охраняемый караулами кубанцев, обилие офицеров в курзале и «Гранд-отеле» — всё это бросалось в глаза и гнало волны обывательских пересудов. В том числе — о расквартированном в городе большом штабе и приехавшем на лечение высоком начальстве. Скоро зазвучали фамилия, титул и чин.
И куда теперь Гаркуша ни входил, цены для него снижались и без намёка на скидку: до всех торговцев дошло, кому покупается. Стали привечать и самого — дарить между делом что-нибудь нужное и даже в довоенные времена не дешёвое: кто одеколон, кто мыло от перхоти, кто целебную мазь «Радикаль» от геморроя, частого среди кавалеристов...
Принимая вчера из рук Гаркуши листок с перечнем покупок и суммой потраченных денег командующего — опять подозрительно небольшой, — Юзефович засомневался: не позволяет ли себе кубанец, не в меру разбалованный Врангелем, что-то попросту отбирать у владельцев торговых заведений? Поддавшись сомнениям, спросил сурово: «Это что же, сотник, всюду цены растут, а в Кисловодске падают?» — «Не могу знать, ваше превосходительство. Плачу, скильки просют». Не отведённые зелёные глаза, напрочь потерявшие былую весёлость, вполне удостоверили честность адъютанта...
...Детской муки «Нестле» у армянина не оказалось. Но сокрушался он и разводил руками недолго, поклявшись достать из-под земли.
И когда, обежав три аптеки, Гаркуша купил-таки, почти задаром, дюжину пар резиновых перчаток и через час вернулся, две ярко раскрашенные картонные пачки были преподнесены ему с торжественностью, достойной булавы Кубанского атамана.
15 (28) февраля. Кисловодск
Судороги оживили лицо командующего.
— Линейцев с-сюда!.. Лошадь мне!.. Лошадь...
Рот, как у выдернутой на берег рыбы, открывался широко и резко, но слова с трудом прорывались через иссушенное жаром горло. Голова моталась из стороны в сторону и пыталась оторваться от упругой подушки. Елозили, ища опору, локти. Забились ноги, скидывая одеяло. Только веки не размыкались...
Гаркуша мягко давил ладонью на его грудь, прижимая тело к койке, другой рукой пытался удержать на пылающем лбу пузырь со льдом. Про резиновые перчатки и не вспомнил.
— Лошадь мне-е...
Хриплый крик оборвался стоном...
...Три огромных чёрных всадника настигают — и полсотни шагов не осталось... Сверкают вздетые уже клинки, и полы шинелей машут на ветру, точно крылья. А линейка лазаретная уносится вдаль, и топот её коней затихает... Не догнать — пуды грязи налипли на обессиленных ногах, и нипочём не стряхнуть их... Да вот же он — прямо перед ним хлопает брезент, трясётся и подпрыгивает деревянный борт, только руку протянуть... Еле-еле достал, вцепился... Нет, выскользнул шершавый борт из негнущихся пальцев. И совсем пропала линейка, будто и не было её... А позади топот копыт нарастает, грохочет уже подобно грому, и жаркое лошадиное дыхание толкает в спину... Ноги запутались, и потерял равновесие. Лицом пропахал черноземную жижу, растянулся на дороге. А над головой свистит уже, рассекая воздух, клинок... Да нет, никакой это не свист... Это — скрип, тягучий и тоскливый. Им пропитан весь воздух. Откуда этот чёртов скрип?.. A-а, это колёса скрипят — вагонетки едут к песчаному карьеру... Бесконечная лента вагонеток. И все набиты серыми трупами. Доехала одна, другая... Выгружать некому, и трупы сами поднимаются и перелезают через борта, медленно и неуклюже... Глазницы пустые. И спрыгивают вниз... Ноги повели туда... Всё ближе и ближе край... Сейчас откроется глубокое дно карьера. Вот открылось: горы из трупов... Так и тянет прыгнуть... Но мешает, не даёт идти какая-то собака... Рыжая и худющая. Виляет радостно хвостом, повизгивает и кидается на него, сильно толкая лапами в живот. Норовит подпрыгнуть и лизнуть... Лизнула-таки, и успокоительная прохлада разлилась по лицу. Всё пропало в сыром тумане... И выплыла из тумана Большая Садовая. Красивые светлые фасады, густые акации, широкая мостовая — всё залито слепящим светом. Покачиваются на ветерке белые кисти... И у всех чудесное весеннее настроение... Раскланиваются мужчины, приподнимая над головами соломенные шляпы-канотье. Целуются дамы, сталкиваясь раскрытыми светлыми зонтами. Улыбаются в усы извозчики в кафтанах, и лошади их радостно цокают копытами по брусчатке. Дети резвятся, не обращая внимания на увещевания и окрики родителей и гувернанток... Один двухлетний Всеволод, одетый в чёрно-белую матроску, смирно сидит, насупившись, на руках у гувернантки, и мама поправляет панамку на голове брата... А ему не терпится скорее спуститься в городской сад. Там — множество павильонов и будок со всякой всячиной, аттракционов и качелей. Есть и бесплатные, и ужасно хочется покачаться, а ещё больше — пострелять из духового ружья в любимом тире... Но мама не обращает на него внимания, зачем-то взяла Всеволода на руки и говорит с ним, смеясь... И не торопится сворачивать в сад. Не нравится ей там: слишком мало деревьев и тени, слишком много пыли, гама и простой публики. Папу призывать на помощь бесполезно: весь поглощён обменом приветствиями со знакомыми. А попадаются они на каждом шагу, и шляпа папина без устали поднимается над облысевшей головой и опускается обратно, поднимается и опускается, поднимается и опускается... А перед мамой откуда-то взялся юродивый в лохмотьях, наставил на него свой палец, кривой и грязный, и что-то шепчет ей. Слов не разобрать... Мама бледнеет как смерть, и от этих неслышных слов и её меловой бледности мороз продирает по коже... Да это же не мама, это — Олесинька! А на руках у неё Наташенька, дочурка пятилетняя. Вцепилась ручонками в шею, один из бантиков, торчащих из-под панамки, развязался, а Киська не замечает. Смотрит на него, а в огромных серо-голубых глазах — крик боли, немой и страшный... Глухой треск винтовочного залпа где-то рядом, ещё треск... От души развлекаются в тире любители пострелять... Но почему залпами?.. Да это же матросы расстреливают арестованных позади агентства РОПиТа... И валяются посреди мола, раскинув руки, офицеры. Трое, пятеро... Не сосчитать... Целый курган из расстрелянных офицеров. И растекаются из-под него во все стороны кровяные струйки. Белая кипящая пена смывает их, а они всё текут, они всё шире, сливаются в потоки, стекают в море, и свинцовая вода вокруг мола уже покраснела... Никакого кургана, а лежит один: длинный и худой, уткнулся ничком в серый бетон, задралась пола новенькой парадной черкески, открыла ярко-красный генеральский лампас... Кто-то очень знакомый... Да не он ли это сам?.. Пригляделся, но нет уже тела. А на месте этом стоит здоровенный матрос. Спина широченная, чёрная, бескозырка сбита набок, и длинные белые кудри бьются на ветру вместе с чёрными ленточками... Оборачивается медленно, ужасно медленно... Неужто Вакула? Так и есть! Но что-то не похож на себя: ни добродушия на крупном лице, ни злорадства. Застывшее лицо, восковое какое-то, и глаза остекленевшие... Нет, ожили. Засветилась печаль... «Ты жив ещё, матрос?» — Не отвечает. — «Или зарубили тебя донцы прошлой весной?» — Смотрит молча. — «Или добровольцы расстреляли?» — Молчит, а печаль в глазах всё ярче... — «А может, под шашками моих кубанцев лёг у Ставрополя или на Калаусе?» — «Нет, ваше превосходительство. Я тоже от тифа помер»... И смыла высоченная стена бушующей воды и чёрного Вакулу, и серый мол. И ушло с ней море, одна бескрайняя голая степь осталась... Никого вокруг. И ничего. Сыпет безмолвная изморось... Расквашенная черноземная дорога уходит за горизонт. Солнца нет, и непонятно, в каком направлении она уходит... Цинковое небо отражается в белёсых лужах. И между лужами — глубокие следы копыт. Вся дорога ископычена... Это конница его прошла. И уже далеко впереди. Ушла и забыла о нём... А где же казак с его значком? Где ординарцы, где конвой? Лошади его где?!..
...Вера Михайловна уже спешила с отжатой простыней.
— Лошадь мне!
16 февраля (1 марта). Кисловодск
— Яков Давыдович... Я знаю, за что...
Вспухший бурый язык еле-еле шевелился в пересохшем шершавом рту. Подрагивали обмётанные губы, выпуская почти беззвучные слова. Взгляд из-под полуприкрытых глаз бесцельно рассеивался поверх одеяла.
— ...За что Бог... карает меня...
Юзефович, забыв предостережения врачей, наклонился ближе. Нахмурился вопросительно, но смолчал.
— ...За честолюбие... Всё... принёс... в жертву ему...
— Лежите спокойно, Пётр Николаевич. Вам нельзя волноваться, — только и нашёл что сказать.
С тревогой глянул на жену: отойдя к ночному столику, та аккуратно смачивала плотную марлевую салфетку раствором борной кислоты. Глаза спрятала.
— Боже милосердный... Обещаю тебе...
Дрогнув, серо-жёлтые веки приоткрылись шире, обнажив пожелтевшие белки. Замутнённый взгляд с трудом достал до потолка.
— ...Никогда больше... не буду таким честолюбивым... Ежели не умру...
Влажная марля нежно коснулась уголка рта.
17 февраля (2 марта). Кисловодск
— Петруша... Ты меня слышишь? Петруша...
Сколько ни звала Ольга Михайловна, сколько ни сжимала в ладонях сухую и жаркую кисть мужа, не узнал и не отозвался...
...Многочасовая пароходная болтанка, мытарства ночного ожидания товарно-пассажирского поезда на вокзале в Новороссийске, толкотня, грязь и вонь вагона III класса так не измучили, как извели переживания за мужа.
На Кавказской встретил Оболенский, подъехавший составом из паровоза и двух вагонов, посланным за ней Юзефовичем. Но в тиши и покое спального купе боль в душе заныла сильнее. Молодой князь — его тонкое и красивое лицо осунулось и посерело — на все расспросы о состоянии мужа, отводя взгляд, отделывался общими словами и уверениями в самом скором выздоровлении. Чем горячее были эти его уверения, тем меньше верило им чуткое сердце.
Кисловодск встретил её пасмурно. Падал редкий мокрый снежок и тут же таял в грязи.
Пока ехала в знакомом «Руссо-Балте», пока здоровалась со встретившими её, мало кого узнавая, крепко держала себя в руках. Но в лучистых глазах и мягком голосе металась тревога.
Когда же спешно поднялась к мужу, обмерла от страха: Петруша лежал как мертвец. И только застывшая на лице маска мучительного страдания да частое дыхание свидетельствовали о ещё тлеющей жизни.
Не переменив дорожного платья и даже не зайдя в отведённую ей комнату, как присела на табурет, так и не могла подняться...
...Вглядывалась в сильно исхудавшее серо-жёлтое лицо, гладила нежно, освободив из-под одеяла, безжизненную руку, изрезанную ярко проступившими фиолетовыми венами, и глотала слёзы.
— Петруша, слышишь меня?.. Петруша, милый, отзовись...
Дважды муж начинал постанывать и слегка покачивать головой, веки подрагивали и чуть приподнимались, но взгляд потухших глаз оставался бессмысленным, а выражение лица — безучастным... Готова была сидеть и звать до бесконечности, но Ушинский, решительно взяв её под локоть, увёл вниз, в гостиную, — поить валерьянкой и учить правилам предосторожности при уходе за тифознобольными...
Солнечный прямоугольник на линолеуме, перекашиваясь и сворачиваясь, сместился в левый угол комнаты и там исчез. Чистое небо посинело, и льющийся в приоткрытое окно воздух похолодел и повлажнел.
Пока жена Юзефовича с медсестрой замачивали и выжимали простыню в ванной комнате, Ольга Михайловна обтирала лицо мужа влажной марлей. И вода Нарзана оказалась животворнее её умоляющих слов: медленно разомкнулись веки, и в глазах задрожал слабый огонёк.
— Киська... — Пересохший язык и обмётанные губы слушались плохо. — Прошу... тебя...
Замерла от неожиданности. Вспышка радости смешалась с леденящей оторопью: ни малейшего удивления её приездом! Ни обычных нежных слов после долгой разлуки, ни вопроса о детях...
— Петруша, ты узнаешь меня?
— Перевези... в Петербург...
— Что перевезти, Петруша? — не договорив, уже поняла.
Гримаса ужаса исказила лицо, но её тут же подавила вымученная улыбка.
— После победы... Меня... Или в Москву...
Сглотнула подкативший к горлу жаркий слёзный ком, но все слова повылетали из головы. Наконец, усилием воли удерживая улыбку, произнесла как можно мягче:
— Хорошо, Петруша... Как скажешь, так и сделаю. Но давай ты сначала освободишь их от большевиков... И Москву, и Петербург.
Веки снова плотно сомкнулись. Но уголки губ чуть дрогнули, будто он попытался улыбнуться в ответ, да не нашёл сил. Значит, всё слышит Петруша и осознает. Так и есть — губы снова зашевелились.
— Я знаю... за что Бог... карает меня... за моё...
Еле слышимые слова угасли.
И через считанные секунды вдруг вспыхнули до крика:
— Уходи, Олесинька!.. Уходи!
Больной заметался в бреду.
Вера Михайловна с медсестрой вошли как раз вовремя. Подоспел, с чистым судном, и Гаркуша. Никогда ещё не стоило таких усилий обернуть командующего в мокрую простыню...
...Да чего же сладка солёная влага морских брызг! И какое это блаженство — холодный ветер с моря... И бушующие волны, и сверкающие брызги, когда они вздымаются фонтаном, падают, разбиваются о мол и разлетаются во все стороны подобно шрапнели. Только не смертоносной, а оживляющей... Но тогда прочему тревога и страх кругом? И в шуме ветра, и в ударах волн, и в крике чаек... И что это за вопли звериные? Точно орда Мамаева кинулась на крепостную стену...
Нет, не орда — чёрная толпа вопит и колышется на набережной... «В воду кровопивцев! В воду!» Ветер хлещет этими воплями по щекам и по сердцу. Выхода на набережную с мола нет — перекрыта толпой... А посреди мола лежат, раскинув руки, офицеры. Трое, пятеро... Больше... Целый курган из мёртвых тел в офицерской форме. И растекаются из-под неё во все стороны кровяные струйки. Белая кипящая пена смывает их, а они всё текут, они всё шире, сливаются в потоки, стекают в море, и свинцовая вода вокруг мола уже покраснела... Ялта и серая гористая стена равнодушно взирают на разведённую в воде кровь, гонимую волнами к берегу... А Олесинька-то, бедная, как очутилась посреди этого кровавого кошмара?! Губы трясутся. Глаза обезумели. Давится словами... «Ты должна уйти, Олесинька!» — «Всё кончено, Петруша». — «Ты должна уйти!» — «Я останусь с тобой». — «Уходи, Олесинька!»... Уже кричит в полный голос, как никогда не смел кричать на неё, Кискиску любимую и обожаемую, а она хватает его за руки, пытается обнять, прижать к себе, дрожит вся, вот и слёзы брызнули в три ручья. Холодные и солёные, как морские капли... Ледяная волна накрыла с головой и чуть не сбила с ног... Какое же блаженство — прилипший к телу мокрый бешмет... Один стоит на сером плоском хребте пустого мола. Никого вокруг. Только чайки белые мечутся, и чёрные волны остервенело бьются в мол и ревут, ревут... Рёв их рассыпается на людские выкрики, сиплые и радостные. Кричат казаки его дивизии — приметили его значок, высоко поднятый на пике: трещит и полощется на лютом ветру... Строятся посотенно на околице. Валит пар от людей и лошадей. Выравниваются живые прямоугольники. И сиплое «Ура!» волна за волной катится над рядами чёрных и белых папах... Всё громче и слаженнее. Папахи полетели вверх... «Лошадь мне!»... «Лошадь мне!» И чего горло дерёт?! Вот же — стоит Гаркуша и держит под уздцы серого дончака. Стучит копытом дончак в заиндевевшую траву, дёргает головой нетерпеливо, пофыркивает. Позвякивает уздечка... А адъютант бледен как мел. И нет в глазах ни обычного задора, ни даже радости... Ведь победа! «Ты чего это, Василий, сам не свой?» — «Та занедужил, Петре Николаич». — «Так возьми мой градусник и померь температуру. И “лексира” своего напейся» — «Слушаюсь». А голос глухой, мёртвый... Рысит под ним серый дончак, подкидывает мягко в седле... Сорвал с плеч тяжёлую бурку и кинул на руки адъютанту. Скачет размашистой рысью вдоль строя, чёткими движениями отдаёт честь обнажённой шашкой... Разворачивается дончак, выезжает на середину. «Ор-рлы-ы! Благодарю за службу России!» — «Ура-а-а!» — «Вперёд, кавказские ор-рлы-ы!» — «Ура-а-а!» Громче ветра, громче волн, громче грома небесного грохочет музыка славы... До слёз упоительная и жаркая музыка, невыносимо жаркая...
18 февраля (3 марта). Кисловодск
Не посмотревшись в высокое зеркало, только вчера купленное и повешенное в передней на место похищенного, Гаркуша оправил черкеску и ремни, прошёлся — как делал всегда, прежде чем надеть кубанку — пятерней по тёмному ёршику, подрастающему на месте былого чуба. Тронув машинально батарею, толкнул дубовую дверь парадного крыльца.
Тусклый матовый шар электрического светильника отхватил у глухой полуночной тьмы лишь низкие гранитные ступеньки, начало дорожки и голые ветки ближайших деревьев. С тонких сосулек, свисающих с кованого козырька, падали сверкающие капли, звонко разбиваясь о терракотовые плиты отмостки.
Беззвёздное небо источало тёплую сырость.
У калитки маялись на часах два конвойца. Жёлтый свет уличного фонаря, изогнувшего чугунную шею прямо над их папахами, только сгустил сумрачность на усатых лицах. Подтягиваясь, вопросительно глянули на адъютанта командующего. Но Гаркуша, спрятав повлажневшие глаза, молча прошёл мимо.
И быстро, не разбирая луж, пошагал по пустой Эмировской улице к штабу. Там, на просторном дворе отеля-пансиона, шофёр уже должен заводить «Руссо-Балт»: генерал Юзефович передал приказание по телефону. Ехать — на Базарную площадь, в Николаевский собор. Полунощницу, верно, отслужили, и нужно успеть, пока священники не отошли ко сну. Командующий умирает...
...Как впал больной в полное беспамятство в пятом часу пополудни, так уже и не приходил в себя: глаза открыл ещё раз-другой, но никого не узнал. Перестал и отзываться. Временами резко пробивался бред: то упрашивал кого-то уйти, то приказывал подать лошадь, то отдавал команду развернуться в лаву, то спорил с кем-то.
В одиннадцатом часу верхний столбик ртути прочно обосновался наделении 41,5°С. Бред стал громче и отрывистей. Пульс начал скакать, превращаясь в нитевидный, и считался уже с трудом. Язык почти почернел. Исходящий от кожи жар ощущался на расстоянии. Реакция на громкие оклики и причинение боли — ещё более вялая, чем прежде... По всем симптомам, подступил кризис и организм всё слабее сопротивляется убивающей его инфекции.
Каждый час профессора ненадолго поднимались в комнату больного: считали пульс и слушали сердце, мерили температуру и проверяли рефлексы. И спускались обратно в гостиную, тихо обмениваясь фразами на латыни.
Разговор быстро иссякал. Ушинский нервно мерил гостиную короткими шагами, толстые пальцы терзали никелированный стетоскоп, а лицо сковала безнадёжность. Юревич, протирая платком то пенсне, то покрасневшие от недосыпа глаза, сидел, ссутулившись, на диване и, открыв толстый блокнот, по многолетней привычке описывал симптомы. Иногда, перелистав назад, просматривал старые записи наблюдений. Никаких спасительных советов там найтись не могло, но разум никак не желал смириться с собственным бессилием.
К кофе не притрагивались, едва ли замечая, как Гаркуша менял остывший на горячий.
Перед самой полуночью в очередной раз поднялись наверх. Больного только обложили пузырями со свежим льдом. Проверили рефлексы: тело на раздражители почти не реагирует...
Как раз подъехал, покончив с самыми горящими штабными делами, Юзефович. Едва вошёл в гостиную, понял без слов: надежду на выздоровление командующего профессора потеряли. Ушинский, обречено разведя руками, подтвердил: «Больной едва ли доживёт до утра».
Кто-то должен был взвалить на себя тяжкий крест сообщить страшную весть баронессе Врангель. И двух часов не прошло, как с трудом убедили её уйти к себе и хоть немного поспать, теперь же приходилось будить. Вызвался Юревич... На стук ответила сразу. Но когда вышла уже через минуту — прилегла не раздеваясь, — и умоляющие глаза, необыкновенно большие на бледном осунувшемся лице, впились в тусклые стёклышки его пенсне, он дрогнул: не стал отнимать последнюю надежду.
Услышав, что следует, вероятно, готовиться к худшему, окаменела на мгновение, потом нетвёрдой походкой прошла в комнату мужа. Через несколько минут спустилась, скользя рукой по перилам, в переднюю. Кончик носа покраснел ярче искусанных губ, глаза набухли от слёз и смотрели мимо всех, но глухой голос звучал уверенно: пора послать за священником — исповедать и причастить Петра Николаевича.
Позвали Гаркушу. Он как предчувствовал: отправленный отдохнуть, остался, не гася люстры, в пустой бильярдной и задремал в кресле.
Юзефович отдал приказание кратко и тихо, будто в доме лежал уже не больной, а покойник. У Гаркуши задрожал подбородок...
«Руссо-Балт» привёз батюшку меньше чем через час. Пожилой, дородный и сивобородый, он неспешно вышел из автомобиля и окинул взглядом два ряда светящихся окон. Опасливо сторонясь плохо различимых веток, прошёл через сад. Так же неспешно, щурясь на яркую трёхламповую люстру и принюхиваясь к тошнотворному за паху карболки, снял в передней чёрное драповое полупальто с барашковым воротником, давно не новое, и полуглубокие нескользящие галоши. Поправил перед зеркалом наперсный крест. Достав из-под чёрной рясы платок, обтёр морщинистый лоб и громко высморкался. Жизнь научила: Господь, конечно, хранит верных служителей своих, но когда зовут в дом, где лежит заразный больной, даже барон и генерал, нельзя торопиться, уставать, часто и глубоко дышать и потеть. Ибо заразный яд всяко горазд проникать в тело.
По лестнице поднимался ещё неспешнее.
Гаркуша, отчаянно подталкивая его взглядом в оплывшую чёрную спину, насилу одолел греховное желание ускорить батюшкин подъём. Хорошо, руки заняты: с одной свисала большая холщовая сумка с дароносицей, потиром, лжицей и прочим необходимым, другая бережно прижимала к груди икону, в два слоя обёрнутую в белое полотно. Да и ноги что-то ослабели... Понятно отчего: носится как собака целыми днями и не спит почти...
Чудотворную икону Божьей Матери собственными руками взял с аналоя и велел поставить в комнате безнадёжно больного протоиерей, едва Гаркуша объяснил причину приезда.
Пока медсестра, тихо позвякивая стеклом, убирала пузырьки с ночного столика, а Гаркуша устанавливал на него, попрочнее прислонив к стене, тёмную и потрескавшуюся икону, батюшка, не подходя близко к койке, внимательно вглядывался в лицо болящего — землистое, неподвижное, искажённое физическими муками.
Худшие его предположения сбылись: увы, слишком поздно явился он с благодатной помощью. Генерал — в крайнем изнеможении, в помрачённом сознании и, по всему судя, уже при последнем издыхании. И встретить смерть ему суждено без напутствования Святыми Тайнами. Увы, так обыкновенно и случается, когда на явление священника к постели болящего, а в особенности со Святыми Тайнами тела и крови Христовой родные смотрят как на предвестие смерти, и потому до последних минут малодушно тянут с приглашением.
С укоризной глянул из-под кустистых бровей на двух женщин. Которая из них баронесса, не разобрал: обе в тёмно-синих платьях, белых фартуках и косынках сестёр милосердия, обе спали с лица.
А быть может, и не их в том вина. А тех вон двух осанистых господ в белых халатах, что встали поодаль, у самой двери, не приложившись к его руке... Известное дело: многие врачи не веруют в Бога, а потому до последнего возражают против приглашения священника к одру пациента. Ибо пребывают в заблуждении, что его явление может ухудшить состояние болящего и помешать лечению. Не ведают, грешники, что творят... Ведь священник несёт не весть о приближающейся смерти, а спасающую Божественную благодать, врачующую немощи и очищающую грехи, которые служат причиною болезней. И несёт упование на всесильную помощь Бога, которая для поддержания жизни имеет гораздо более значения, чем искусство врачей. Часто притом весьма сомнительного свойства искусство...
Так что иного выбора и нет, кроме как прибегнуть к «глухой» исповеди: прочитать над умирающим одну разрешительную молитву и затем предать его воле и суду Божию... Хотя нет, утешил себя, и большой беды в том, что душа его, готовящаяся перейти в загробный мир, не дождалась благодати, преподаваемой в Святых Тайнах. Ибо отдавший жизнь в борьбе против врагов веры Христовой получит прощение Божие, каких бы греховных стремлений и увлечений он не сделался данником по слабости своей человеческой...
Гаркуша, быстро принеся медную лампадку и поставив её перед иконой, уже чиркал отсыревшими спичками. Забывшись, Ушинский двинулся к нему — перехватить руку, — но вовремя одёрнул себя: хоть и вреден чад для лёгких больного, но сейчас не он устанавливает порядки в этой комнате.
Оранжевый язычок робко затеплился под тёмным ликом Богородицы.
Пока батюшка доставал из сумки свёрнутую епитрахиль, все вышли. Надев и оправив её, начал скороговоркой:
— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Пётр, вся согрешения твоя… — и запнулся: глаза умирающего открылись...
...Чету Юзефовичей и профессоров Ольга Михайловна пригласила пока переждать в её комнате. А Гаркуша пошлёпал вниз — к тихо задребезжавшему телефону.
Послушав, не сразу нацепил трубку на вилку. Следовало подняться и доложить начальнику штаба, но не мог: подступившие слёзы прожигали глаза изнутри. Сцепил челюсти до боли в крепких зубах... Дежурный офицер сообщил: пришла телеграмма с приказанием главнокомандующего покрыть все расходы на лечение генерала Врангеля из ассигнований, отпускаемых на содержание штаба армии... Вот была бы радость! Потому как от жалованья Петра Николаевича последние романовские пятёрки и десятки остались. А теперь? Только и пригодятся казённые, что на отпущение грехов, отпевание и похороны... Да где же твоя справедливость, Господи?..
Молитва затягивалась. Ушинский, встревожившись, вышел в коридор. Плотно закрытая дверь не пропускала ни единого звука.
Уже выходили за ним остальные, когда дверь открылась и представший перед ними батюшка объявил тихо и торжественно:
— Раб Божий Пётр пришёл в себя и в полном сознании был исповедан и разрешён от грехов. Прошу всех зайти...
Профессора быстро перекинулись тревожными взглядами: осознание происходящего может стать последним ударом для сердца, надорванного борьбой с инфекцией. Ушинский от порога шагнул было к койке, но и тут вовремя одёрнул себя...
Полуприкрытые глаза больного смотрели осмысленно и спокойно. Медленно обведя вошедших, остановились на Ольге Михайловне. Губы дрогнули, и по ним лёгкой тенью скользнула полуулыбка. Кому-то она показалась извинительной, кому-то ободряющей...
Батюшка же, не теряя времени — сознание умирающего в любую минуту может снова помрачиться, — готовился к причащению запасными Святыми Дарами: затянул шнурками поручи, извлёк из сумки и расстелил на ночном столике вышитый покровец, поставил на него деревянную дароносицу, рядом — латунный потир...
Сноровистые руки всё сделали быстро, и замершую комнату наполнил его низкий проникновенный голос:
— Причащается раб Божий Пётр честнаго и святаго тела и крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... — Едва разлепившиеся губы приняли с посеребрённой лжицы кусочки просфоры, размоченные в сильно разбавленном водой кагоре, — ...во оставление грехов своих и в жизнь вечную...
С последним словом молитвы веки умирающего сомкнулись...
От денег батюшка отказался.
На прощание его тёмные кустистые брови победно вскинулись в сторону профессоров. Их мрачный вид истолковал по-своему: сокрушило-таки безбожников превосходство целительной силы Святых Тайн над медицинскими средствами. И ошибся: оба, не обсуждая вслух, припоминали теперь частые в их практике случаи, когда тяжелобольные приходили в сознание, снова будто бы все понимали и связно говорили, но следовало за этим не выздоровление, а скорая — часа через два или три — смерть.
Батюшка же, выйдя за калитку, поспешно достал из сумки тёмно-зелёный шкалик с уксусом, выкрутил тугую пробку и, презрев любопытство часовых, шофёра и Гаркуши, несущего следом икону, приложился к горлышку. Тщательно выполоскал рот, сплюнул в мокрую пожухшую траву под оградой и, подобрав полу рясы, с опаской шагнул на широкую подножку «Руссо-Балта»...
Уличные фонари погасли, и сырая тьма подступила к самому дому.
18—19 февраля (4—5 марта). Кисловодск
Наступающая ночь, судя по быстро выползающим из парка белёсым клубам тумана, обещала быть сырее прошедшей.
Закрыв окно и балконную дверь — так же бесшумно, как она проделывала это все минувшие десять суток, — Вера Михайловна осторожно сняла с умирающего ватное одеяло. Отнесла в ванную комнату: пригодится ещё или нет, но пора уже везти на дезинфекцию. Вернувшись, взяла с ночного столика серебряные карманные часы мужа. Стрелки показывали начало шестого. Время мерить температуру.
Встряхнув градусник и надев перчатки, отвернула край верблюжьего одеяла, чуть приподняла, взяв за локоть, безжизненную руку и вложила его под мышку. Пальцы, одетые в резину, не почувствовали, но глаза, хоть и слипались, перемену заметили: волосы и кожа повлажнели... Легко стянув перчатку, тыльной стороной ладони коснулась лба: покрыт едва ощутимой испариной. Хотя и пышет жаром по-прежнему... Или уже не так?..
Еле дотерпела, пока прошло пять минут: верхний столбик ртути остановился на 39,3°С. Растерялась от неожиданности: встряхнуть посильнее и померить вторично или скорее звать профессоров? Или будить Ольгу Михайловну?..
...Сразу после причастия сознание командующего снова помрачилось. Уже не метался — обессилел совершенно. Но бред перешёл в крики: беспрерывно извергались команды, имена, ругань...
Ольга Михайловна попросила оставить её с мужем одну. Просьбу исполнили без возражений.
Гаркуша, вынеся один табурет в коридор, сел ждать у самой двери — оказаться под рукой, когда свершится страшное... Пригнувшись низко и упёршись небритым подбородком в кулаки, напряжённо прислушивался. Самые громкие выкрики командующего иногда проникали через дверь, плач Ольги Михайловны — если она плакала — нет. Пару раз почудилось собственное имя... Тяжёлую голову то и дело затуманивала дрёма. Чтобы отогнать сон, до боли прикусывал язык или принимался нещадно тереть кулаками чесавшиеся глаза. Но всё же едва не свалился с табурета. Тогда стал отлучаться на минуту в ванную: ополаскивал лицо ледяной водой из крана. Помогала бороться со сном и напавшая вдруг жажда: пришлось сбегать вниз на кухню и наполнить опустошённую фляжку.
Трижды подходила неслышно генеральша Юзефович. На её немой вопрос он только пожимал широкими плечами.
В пять утра постучались вместе: давно пора менять судно и протирать спину камфорным спиртом.
Бред угас, командующий совершенно изнемог и лежал недвижимо. Не хватало только сложенных на груди рук и горящей свечки... Но дыхание, хотя частое и тяжёлое, не замирало.
Изнемогла и Ольга Михайловна: трёхчасовое ожидание смерти — с минуты на минуту — высосало остатки физических и душевных сил.
Ближе к шести проснулся Ушинский, решивший не вызывать на смену себе другого врача и остаться ночевать в гостиной. Разбудил Юревича. Осмотр произвели с обычной внимательностью: никаких перемен к лучшему. Единственно возможной переменой к худшему могла стать только смерть, но не приходила и она.
И лишь после позднего обеда им удалось убедить баронессу прилечь...
...Махнув рукой на марлевую повязку и перчатки, Ушинский слушал сердце и лёгкие больного. Шумы ему не понравились. Но и расслышать их было трудновато: мешал громкий и частый стук собственного сердца. Никак не успокаивалось... То ли оттого, что взбежал, как в студенческие годы, по лестнице, то ли от предчувствия редкостного успеха.
А Юревичу не понравилась беспечность коллеги. Но между хмуро сведёнными седыми бровями и верхним краем белой повязки ярко светились торжеством выцветшие стариковские глаза.
Причин торжествовать было две. По всему телу больного, ото лба до лодыжек, выступил обильный пот, и дыхание стало свободнее. А верхний столбик ртути, будто изнемогший за эти дни не меньше тех, кто ухаживал за больным, едва осилил деление 39°С. Кризис разрешился победой организма!
Первые часы наступившего понедельника принесли новые симптомы победы: температура упала до 38°С, рефлексы пробудились, пульс поредел до 80 ударов и помягчел, дыхание успокоилась и стало глубже...
Страдальческая маска, сковавшая лицо больного, потеряла прежнюю резкость черт.
Наконец разлепились веки и лицо оживил осмысленный взгляд.
— Оля... ты как... тут?..
Ложка за ложкой больной жадно глотал холодную воду Нарзана. Судорожно дёргался острый кадык, мельхиор тонко звякал о зубы...
Изгнав тишину горестного ожидания, в доме воцарилась счастливая суета.
С помощью Гаркуши переодев командующего в сухое, Вера Михайловна палкой топила в баке с раствором карболовой кислоты его нательную рубаху и кальсоны. Едкий запах пота, перебивший даже карболку, показался благоуханнее любимых парижских духов «Пино».
Повар, с мучными следами от пальцев на толстых румяных щеках, энергично месил тесто — на утро.
Сбежав по каменной лестнице в кухню, Гаркуша залюбовался огромным пухким комом, но, опамятавшись, тут же вылил в себя, черпанув из бака, две кружки воды и кинулся менять лёд в пузырях. Отворил дверцу шкафа-ледника... Один вид ровных прозрачных кубиков прогнал меж лопаток волну озноба. Ошалевший от радости, даже не обратил внимания. Вдобавок запереживал: не купил, раззява, свежих дрожжей. А ведь предлагали! И даже какие-то сухие, заграничные, — год, набрехали, не портятся... Да и мяса бараньего, гляди, не хватит на пирог, затеянный генеральшей Юзефович. Зато, верное дело, поутру подплывут обещанные армяном стерляди и подлетят фазаны...
— За-ме-ча-тель-но! — продекламировал по слогам Ушинский, бодро спускаясь по лестнице. Стетоскоп никак не находил привычного просторного кармана, пока профессор, уже войдя в гостиную, не сообразил, что впопыхах не надел халат... — Температура спадёт за три-пять дней. Но! Любое волнение или погрешность в диете, и она, Ольга Михайловна, может снова подскочить. Ещё как может...
В гостиной с запахом карболки боролась валерьянка.
Воодушевлённые, профессора накинулись теперь на баронессу: и нервы её успокоить, и наставить, как ухаживать за мужем дальше. Мензурку бурой жидкости выпила безропотно. Вжавшись в угол дивана и прикладывая платок то к носу, то к глазам, лишь слушала и кротко кивала. И цветастый гобелен высокой спинки, и белый батист ярко оттеняли её посеревшее, без единой кровинки, лицо.
— Выздоровление после сыпного тифа, Ольга Михайловна, голубушка... — встав прямо перед ней, Ушинский подкреплял свои внушения энергичными жестами коротких рук, — есть самый опасный период. Извольте иметь в виду. Организм крайне ослаблен... Край-не! А потому могут начаться осложнения. И весьма серьёзные...
— Без осложнений, как правило, не обходится. — Юревич, на две головы возвышаясь из-за его плеча, мягко, но веско подтверждал напористые слова коллеги.
— Верно. Осложнения серьёзны и многочисленны: самое частое — дольчатое воспаление лёгких. А оно чревато... Так что требуются длительный отдых, пища самая питательная и постоянное наблюдение за лёгкими и сердцем. По-сто-ян-но-е!
— Если появится кашель — точно поставить диагноз...
Нарочито не замечали её сочащихся слезами глаз. Знали прекрасно: мысли о грядущих заботах успокаивают нервы — и потрясённые горем, и взвинченные нежданным счастьем — не хуже валерьянки.
— А чтобы кашель не появился, голубушка, Петра Николаевича отсюда надо увезти. Как только на ноги встанет, так и увезти. Долгое время, видите ли, бытовало заблуждение, что в здешнем климате чахоточным становится лучше...
Страх перекосил миловидные черты баронессы, и Ушинский, спохватившись, замахал на неё руками:
— Нет-нет, ну что вы! Ни о какой чахотке и речи нет! Помилуйте! Просто начнутся уже скоро весенние дожди, и воздух Кисловодска станет положительно вреден для лёгочных и сердечных больных. Значит, увеличится риск осложнений и для Петра Николаевича...
— На море нужно ехать.
— Конечно, на море. Лучше всего — на восточное побережье Крыма, где сухой степной воздух.
— А в Ялту? — нашла всё же силы выдохнуть хоть слово.
— Нет-нет, голубушка. В Ялте воздух много влажнее. Тогда уж в Сочи. Вот Сочи теперь замечательно подошли бы...
— Да. Именно весной, — худой длинный палец Юревича строго закачался над лысиной Ушинского, — но никак не летом.
— Конечно. Так что как окрепнет — сразу ехать. И в будущем Пётр Николаевич должен оберегать себя от всего, что вызвало предрасположенность к тифу. Физического и умственного переутомления, сильных душевных волнений, недосыпания... Медицина, конечно, позаботится, но исцеляют натура и здоровый образ жизни.
— Напитками алкогольными не злоупотребляет? — строго поинтересовался Юревич.
— Нет, — наконец-то улыбнулась. — Давно уже отговорила...
— Замечательно! В общем, мы, Ольга Михайловна, голубушка, понимаем: пожить для себя Петру Николаевичу не удастся. Но поберечь себя для России — возможно вполне. А теперь — спать. И не просыпаться как можно дольше. Да, ещё мензурочку...
У самых дверей комнаты, передавая ей хрустальный графин со свежей водой Нарзана, Гаркуша нашептал ободряюще:
— Та не слухайте вы их, ваше превосходительство. Чай, в столице-то доктора ещё лучше будут...
Через несколько минут, обходя крадучись второй этаж и ощупывая батареи, явственно расслышал из-за её двери сдавленные рыдания.
А ещё минуту спустя в коридоре первого этажа, на полпути между кухней и ванной, его ухватил за широкий рукав черкески Ушинский. Пристально взглянув в залитые лихорадочным блеском шалые глаза, поинтересовался самочувствием.
— Та живой пока, — отмахнулся сотник.
— Вот что, голубчик... И вам надо как следует выспаться. Но прежде померьте-ка температуру...
Чёрно-синяя пелена, затянувшая небесный свод, слегка посветлела на востоке. Посветлели сверху и лесистые горы, и голые холмы, обступившие Кисловодск. Жидкий туман медленно рассасывался и скатывался сквозь могучие деревья Нижнего парка в долину Ольховки.
А на западе — за горами, покрытыми серо-зелёным пятнистым ковром вековых лесов, за мрачными скалистыми вершинами — уже переливалась перламутром под первыми лучами восходящего светила двуглавая снеговая корона Эльбруса...
Суета постепенно улеглась, окна одно за другим погасли, и дом наполнила хрупкая рассветная тишина.
ЭПИЛОГ
4 (17) апреля 1919 г. Екатеринодар
Секретно
Главнокомандующему Вооружёнными Силами
на Юге России
Командующий Кавказской Добровольческой Армией
4-го апреля 1919 года
№ 82 г.
Екатеринодар
РАПОРТ
Прибыв в Екатеринодар после болезни и подробно ознакомившись с обстановкой, долгом службы считаю доложить следующие мои соображения:
1. Главным и единственным нашим операционным направлением, полагаю, должно быть направление на Царицын, дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака.
2. При огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям невозможны.
3. После неудачной нашей операции на Луганском направлении мы на правом берегу Дона вот уже около двух месяцев лишь затыкаем дыры, теряя людей и убивая в них уверенность в своих силах.
4. В ближайшем месяце на севере и востоке России наступает распутица и, вопреки провокационному заявлению Троцкого о необходимости перебрасывать силы против армии адмирала Колчака, операции в этом районе должны приостановиться и противник получит возможность перебросить часть сил на юг. Используя превосходство сил, противник сам перейдёт в наступление от Царицына, причём создастся угроза нашей базе.
5. Необходимо вырвать наконец в наши руки инициативу и нанести противнику решительный удар в наиболее чувствительном для него направлении.
На основании вышеизложенных соображений полагал бы необходимым, отказавшись от активных операций на правом берегу Дона, ограничиться здесь лишь удержанием линии устье Миуса — ст. Гундоровская, чем прикрывается жел. дор. Новочеркасск — Царицын. Сокращение фронта на 135 вёрст (0,4 фронта, занимаемого ныне до Гундоровской) даст возможность снять с правого берега Дона находящиеся здесь части Кавказской Добрармии, использовав их для действий на главнейшем направлении. В дальнейшем, наступая правым флангом, наносить главный удар Кавказской Добрармией, действуя от Торговой вдоль железнодорожной линии на Царицын, одновременно конной массой в две-три дивизии обрушиться на Степную группу противника и по разбитии её двинуться на Чёрный Яр и далее по левому берегу Волги в тыл Царицына, выделив небольшую часть сил для занятия Яшкульского узла и поднятия сочувствующего нам населения Калмыцкой степи и низовья Волги. Время не терпит, необходимо предупредить противника и вырвать у него столь часто выпускаемую нами из рук инициативу.
Генерал-лейтенант Врангель
ПОСЛЕСЛОВИЕ
8 (21) мая 1919 г. генерал П.Н. Врангель был назначен командующим Кавказской армией, действующей на царицынском направлении. По-прежнему считая главной задачей ВСЮР соединение с армиями Верховного правителя адмирала А.В. Колчака в районе Саратова для последующего совместного наступления на Москву, он был убеждён, что главный удар должна наносить именно его армия в направлении Царицын — Саратов. Поэтому в ходе операции по занятию Царицына он постоянно предъявлял претензии штабу главкома по поводу недостаточного, на его взгляд, снабжения и пополнения армии.
Когда же в июне армии Колчака под ударами красных армий Восточного фронта отошли за Урал, Врангель изменил свою точку зрения: он предложил главкому ВСЮР А. И. Деникину сосредоточить в районе Харькова группу в составе трёх-четырёх конных корпусов (подразумевая, что сам будет командовать ею) для нанесения удара в направлении на Москву.
Но Деникин отверг его предложение и после взятия Царицына издал 20 июня (3 июля) директиву (так называемую «Московскую»), согласно которой главный удар на московском направлении через Харьков — Курск — Орёл — Тулу наносила Добровольческая армии генерала В.З. Май-Маевского. Кавказской же армии ставилась задача наступать на Москву через Саратов — Пензу — Нижний Новгород — Владимир. Врангель счёл эту директиву «смертным приговором» ВСЮР: армиям предстояло наступать на Москву по трём расходящимся направлениям.
Деникин расценивал претензии Врангеля и его предложения по стратегическому плану как результат, во-первых, опасения, что подчинённые ему войска, численно уступая противнику, потерпят поражение на саратовском направлении, и, во-вторых, стремления «первым войти в Москву».
Постепенно стратегические разногласия Врангеля с Деникиным переросли в политические. Хотя сам Врангель не разделял радикальных взглядов монархически настроенных офицеров и не считал, что следует немедленно провозгласить целью ВСЮР восстановление монархии, он стал центром притяжения правых, монархических сил. Консервативные круги генералитета, помещиков, крупной буржуазии, церковников и общественных деятелей, недовольные «непредрешением» Деникина и его ставкой на партию кадетов, стали выдвигать Врангеля как альтернативу Деникину.
Осенью Врангель сблизился с А.В. Кривошеиным, сподвижником П.А. Столыпина и лидером правого Совета государственного объединения России. И согласился с ним в следующем: хотя из-за антимонархических настроений крестьян и казаков «монархию в России лучше восстановить на пять лет позже, чем на пять минут раньше», но кадетов из Особого совещания следует удалить, а власть сосредоточить в «правых руках», в связи с чем желательна и смена главкома ВСЮР.
Между тем продвижение Кавказской армии, состоящей в основном из конных полков Кубанского казачьего войска, к Саратову красными армиями Юго-Восточного фронта было остановлено.
Стремясь переломить ситуацию на фронте, Врангель требовал от штаба главкома усилить снабжение и пополнение его армии. Одной из причин срыва снабжения и пополнения было нежелание кубанских казаков воевать за пределами своей области и преобладание «самостийных» настроений в органах власти Кубанского края (среди «черноморцев» — вплоть до разрыва отношений с Деникиным и отделения от России).
Поскольку главком, его штаб и Особое совещание оказались бессильны решить «кубанский вопрос», Врангель начал открыто критиковать Деникина. И быстро перешёл рамки дозволенного военной дисциплиной: он стал распространять среди командного состава и общественных деятелей свои рапорты, в которых неудачи Кавказской армии объяснялись ошибочной стратегией Деникина, его неумением «устроить тыл» и наладить отношения с Кубанью и, наконец, плохим снабжением и пополнением его армии.
Врангель жёсткими мерами пытался бороться с грабежами, пьянством, спекуляцией и мздоимством военных и гражданских чинов. При этом он обвинял Деникина в потворстве этим явлениям, разлагающим армию.
В итоге отношения между Деникиным и Врангелем приняли характер конфликта.
Тем не менее в ноябре они нашли общий язык по «кубанскому вопросу», когда отношения с кубанскими казачьими властями обострились до предела. Выполняя директиву Деникина о «наведении порядка» на Кубани, объявленной «тыловым районом» Кавказской армии, Врангель провёл необходимую подготовку операции. Но сам постарался остаться в тени, поручив её выполнение генералу В.Л. Покровскому, командиру 1-го Кубанского конного корпуса, входившего в состав Кавказской армии. Покровский ввёл в Екатеринодар свои части, арестовал лидеров «самостийников» и повесил одного из членов Рады.
Когда после поражений под Орлом и Курском Добровольческая армия стала отступать, Деникин под давлением правых генералов и политиков 26 ноября (9 декабря) 1919 г. снял Май-Маевского и назначил на его место Врангеля.
Врангель вступил в командование Добровольческой армией, когда она уже сдала Харьков. Ознакомившись с обстановкой на фронте и с состоянием её войск, он доложил Деникину рапортом от 9 (22) декабря:
«...Наше настоящее неблагоприятное положение явилось следствием главным образом двух основных причин:
1. Систематического пренебрежения нами основными принципами военного искусства; и
2. Полного неустройства нашего тыла...
...Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в паутину и, желая всё удержать и всюду быть сильными, оказались всюду слабыми...
...Беспрерывно двигаясь вперёд, армия растягивалась, части расстраивались, тылы непомерно разрастались. Расстройство армии увеличивалось ещё и допущенной командующим армией мерой «самоснабжения» войск.
Сложив с себя все заботы о довольствии войск, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами, используя их попечением самих частей и обращая в свою пользу захватываемую военную добычу.
Война обратилась в средство наживы, а довольствие местными средствами — в грабёж и спекуляцию.
Каждая часть спешила захватить побольше. Бралось всё, что не могло быть использовано на месте — отправлялось в тыл для товарообмена и обращения в денежные знаки. Подвижные запасы войск достигли гомерических размеров — некоторые части имели до двухсот вагонов под своими полковыми запасами. Огромное число чинов обслуживало тылы...
...Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов...
...Население, встречавшее армию при её продвижении с искренним восторгом, исстрадавшееся от большевиков и жаждавшее покоя, вскоре стало вновь испытывать на себе ужасы грабежей, насилий и произвола.
В итоге — развал фронта и восстания в тылу...
...Вот горькая правда. Армии как боевой силы нет...»
Исходя из сложившейся обстановки, Врангель выбрал наиболее рациональное направление отхода — в Крым. Однако Деникин, опасаясь разрыва с казаками, приказал отводить Добровольческую армию на Дон. Выполнение этого приказа стоило ей лишних потерь.
В ситуации, когда армии ВСЮР отступали, а в тылу нарастали развал и паника, Врангель попытался склонить командующих армиями (Донской — генерала В.И. Сидорина и Кавказской — генерала В.Л. Покровского) к отстранению Деникина. И для этого предложил провести совещание командующих. Однако Сидорин во время их личной встречи высказался против, мотивировав тем, что казаки откажутся подчиняться главнокомандующему с баронским титулом, а Деникин запретил созыв совещания.
Поскольку Врангель столь открыто обнаружил свои намерения занять пост главкома ВСЮР, Деникин 20 декабря (2 января 1920 г.) снял его с поста командующего Добровольческой армией и свернул её в Добровольческий корпус, командиром которого назначил генерала А.П. Кутепова. Врангелю же главком приказал ехать на Кубань и Терек для формирования новых казачьих корпусов.
Прибыв в Екатеринодар, Врангель обнаружил, что точно такой же приказ отдан и кубанскому генералу А.Г. Шкуро, поэтому он отказался от выполнения возложенной задачи. И получил новую: организовать оборону Новороссийска. Но вскоре после его приезда туда генерал А.С. Лукомский был назначен Черноморским генерал-губернатором, ведению которого подлежали и вопросы укрепления района Новороссийска. Потому Врангель счёл, что и эта возложенная на него задача отпала.
14 (27) января он получил из Одессы предложение главноначальствующего и командующего войсками Новороссии и Крыма генерала Н.Н. Шиллинга занять должность его помощника по военной части. Деникин сначала согласился на это назначение. Однако уже 25 января (7 февраля) Одесса была оставлена, а Шиллинг переехал в Севастополь. Речь теперь могла идти только о поездке Врангеля в Крым. Хотя с разных сторон, включая представителей союзников, на Деникина оказывалось давление, он не дал согласие на назначение Врангеля командующим войсками в Крыму.
В этой ситуации Врангель принял решение оставить армию. 27 января (9 февраля) подал прошение об отставке и уехал в Крым.
В Севастополе командование Черноморского флота, обещав Врангелю поддержку, убедило его в необходимости заменить Шиллинга, совершенно дискредитированного после поражений в Новороссии и позорной эвакуации Одессы, при которой ни войска, ни беженцы вывезены не были. Положение в Крыму осложнялось мятежом 1-го Симферопольского добровольческого офицерского полка (командир — капитан Н.И. Орлов), который вспыхнул на почве недовольства старшими начальниками. Встретившись с Шиллингом, Врангель предложил передать ему военную власть в Крыму «при полном разрыве с Деникиным».
Однако генерал Я.А. Слащов, командир 3-го армейского корпуса, единственной боеспособной силы в Крыму, поддержал Шиллинга и одновременно ликвидировал «орловщину». И Шиллинг отверг предложение Врангеля.
Всё кончилось тем, что Деникин 8 (21) февраля уволил Врангеля в отставку и потребовал от него покинуть территорию ВСЮР.
Прежде чем уехать, Врангель отправил Деникину многостраничное письмо. Среди прочего он писал:
«...Ещё в то время, когда Добровольцы победно двигались к сердцу России и слух Ваш уже улавливал перезвон московских колоколов, в сердца многих из Ваших помощников закрадывалась тревога. Армия, воспитываемая на произволе, грабежах и пьянстве, ведомая начальником (В.З. Май-Маевским. — С.К.), примером своим развращающим войска, — такая армия не могла создать Россию. Не имея организованного тыла, не подготовив в тылу ни единой укреплённой позиции, ни одного узла сопротивления и отходя по местности, где население научилось её ненавидеть, Добровольческая армия, начав отступление, стала безудержно катиться назад.
По мере того как развивался успех противника и обнаруживалась несостоятельность Вашей стратегии и Вашей политики, русское общество стало прозревать. Всё громче и громче стали раздаваться голоса, требующие смены некоторых лиц командного состава, предосудительное поведение которых стало достоянием общества, и назывались начальники, имена которых среди всеобщего падения нравов оставались незапятнанными. Отравленный ядом честолюбия, вкусивший власть, окружённый бессчётными льстецами, Вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти...
...Вы видели, как таяло Ваше обаяние и власть выскользала из Ваших рук. Цепляясь за неё, в полнейшем ослеплении Вы стали искать кругом крамолу и мятеж...
В Новороссийске за мной велась недостойная слежка, в официальных донесениях новороссийских органов Контрразведывательного отделения Вашего Штаба аккуратно сообщалось, кто и когда меня посетил, а генерал-квартирмейстер Вашего Штаба позволил себе громогласно в присутствии посторонних офицеров говорить о каком-то «внутреннем фронте в Новороссийске во главе с генералом Врангелем».
Успешно распространяемые Вашим Штабом слухи о намерении моём «произвести переворот» достигли и заграницы...
Не имея возможности принести посильную помощь защите Родины, потеряв веру в Вождя, в добровольное подчинение которому я стал в начале борьбы, и всякое к нему уважение, я подал в отставку и выехал в Крым «на покой». Мой приезд в Севастополь совпал с выступлением капитана Орлова. Выступление это, глупое и вредное, но выбросившее лозунгом «борьбу с разрухой в тылу и укрепление фронта», вызвало бурю страстей.
Исстрадавшиеся от безвластия, изверившиеся в выкинутых властью лозунгах, возмущённые преступными действиями её представителей, Армия и общество увидели в выступлении Орлова возможность изменить существующий порядок вещей. Во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все. Капитан Орлов объявил, что подчиняется лишь мне.
Прибывший в Крым после Одессы генерал Шиллинг, учитывая положение, сам просил Вас о назначении меня на его место. Командующий флотом и помощник Ваш генерал Лукомский поддержали его ходатайство. Целый ряд общественных групп, представители духовенства народов Крыма просили Вас о том же. На этом настаивали представители союзников. Всё было тщетно. Цепляясь за ускользавшую из Ваших рук власть, Вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов и, уступая «самостийникам», решили непреложно бороться с Вашими помощниками, замышлявшими, как Вам казалось, «государственный переворот»...
Теперь Вы предлагаете мне покинуть Россию. Предложение это Вы передали мне через англичан. Переданное таким образом подобное предложение может быть истолковано как сделанное по их инициативе в связи с моей «германской ориентацией», сведения о которой столь усердно распространялись Вашими агентами. В последнем смысле и истолковывался Вашим штабом Ваш отказ в назначении меня в Крым, против чего англичане будто бы протестовали.
Со времени увольнения меня в отставку я считаю себя от всяких обязательств по отношению к Вам свободным и предложение Ваше для себя совершенно необязательным. Средств заставить меня его выполнить у Вас нет. Тем не менее я решаюсь оставить Россию, заглушив горесть в сердце своём.
Столь доблестно Вами начатая и столь недостойно проигранная борьба приходит к концу. В неё увлечены сотни и тысячи лучших сынов России, не повинных в Ваших ошибках. Спасение их и их семей зависит от помощи союзников, обещавших эту помощь Вам.
Кончайте же начатое Вами дело, и если моё пребывание на Родине может хоть сколько-нибудь повредить Вам защитить её и спасти тех, кто Вам доверился, я, ни минуты не колеблясь, оставлю Россию».
Это письмо Врангелем и его сторонниками было размножено типографским способом и затем широко распространялось в армии, в тылу и за границей.
Перед самым отъездом в Константинополь Врангель успел получить ответное письмо Деникина от 25 февраля (9 марта):
«...Ваше письмо пришло как раз вовремя — в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены...
Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше рассеяло его окончательно. В нём нет ни слова правды, Вы это знаете. В нём приведены чудовищные обвинения, в которые Вы не верите. Приведены, очевидно, для той же цели, для которой множились и распространялись предыдущие рапорты-памфлеты. Для подрыва власти и развала Вы делаете всё, что можете.
Когда-то, во время тяжкой болезни, постигшей Вас, Вы говорили Юзефовичу, что Бог карает Вас за непомерное честолюбие...
Пусть Он и теперь простит Вас за сделанное Вами русскому дело зло».
20 марта (2 апреля) в Константинополе Врангель был приглашён на встречу с командованием британских сил в Турции и Черном море. Там ему сообщили, что Деникин, эвакуировав остатки ВСЮР из Новороссийска в Крым, решил оставить свой пост и назначил военный совет из старших начальников для выборов себе преемника, причём пригласил на него и Врангеля (Деникин сделал это под давлением британской военной миссии). Англичане, гарантировав поддержку, предложили Врангелю вернуться в Крым и вступить в главное командование ВСЮР. Однако выставили условие: прекращение вооружённой борьбы с большевиками и заключение с ними мира.
Врангель принял это условие и 22 марта (4 апреля) на британском броненосце «Император Индии» прибыл в Севастополь.
Появившись на заседании военного совета, он ознакомил старших начальников с ультиматумом британского правительства. Хотя поначалу на пост главкома претендовал Кутепов, а Сидорин был против Врангеля, это обстоятельство склонило совет остановиться на кандидатуре Врангеля. В тот же день Деникин издал приказ о назначении Врангеля главкомом ВСЮР.
Одним из первых приказов Врангель возложил на себя всю полноту военной и гражданской власти, став фактически диктатором. Во главе созданного им правительства он поставил Кривошеина, а начальниками центральных управлений назначил, за редким исключением, опытных бюрократов с дореволюционным стажем и правыми убеждениями.
Стремясь извлечь уроки из поражений Колчака и Деникина, он придавал первостепенное внимание укреплению дисциплины в армии, налаживанию её отношений с населением и проведению реформ и мер, которые хотя бы частично удовлетворили интересы крестьян и рабочих. Этот курс получил название «левой политики правыми руками».
Подводя итоги деникинского командования и выводя из этих итогов свою стратегию и политику, Врангель так заявил в апреле корреспондентам крымских газет:
«...О причинах наших бывших неудач. Причины эти чрезвычайно разнообразны. Резюмируя их, можно сказать, что стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась.
Вместо того чтобы объединить все силы, поставившие себе целью борьбу с большевизмом и коммуной и проводить одну политику, «русскую» вне всяких партий, проводилась политика «добровольческая», какая-то частная политика, руководители которой видели во всём том, что не носило на себе печать «добровольцев» — врагов России.
Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией, и Азербайджаном, и лишь немногого не хватало, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии и кровью своей на полях сражений спаяли связь с регулярными частями. В итоге, провозгласив единую, великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разъединили все антибольшевистские русские силы и разделяли всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований.
Я вижу к воссозданию России совершенно иной путь...
...Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа».
В отличие от прямолинейного Деникина, Врангель продемонстрировал способность трезво учитывать реальную ситуацию в России и произошедшие после 1917 г. изменения, умение отбрасывать идеи и взгляды, которые показали свою несостоятельность, и готовность идти на компромиссы со всеми военно-политическими силами, могущими быть союзниками Белого движения в борьбе против большевиков. Ему приписывали фразу: «Хоть с чёртом, но против большевиков!»
В течение апреля—мая он решительными и жёсткими мерами укрепил дисциплину в частях и реорганизовал остатки ВСЮР в Русскую армию (считая, что название «Добровольческая» дискредитировано в глазах населения). Начальником своего штаба он назначил генерала П.Н. Шатилова. Несколькими приказами запретил самоуправство и насилие в отношении мирного населения, прежде всего — самочинные мобилизации и реквизиции.
Чтобы покончить с казачьей «самостийностью», навязал казачьим атаманам и правительствам, оказавшимся в Крыму «без народов и территорий» два договора, по которым присвоил себе всю полноту власти над казачьими войсками. А также снял с должности и отдал под суд командира Донского корпуса генерала Сидорина.
С целью привлечь на сторону Русской армии крестьян, Врангель первым из вождей Белого движения решился на аграрную реформу. Сломив сопротивление помещиков, 25 мая (6 июня) он издал «приказ о земле», по которому крестьяне получали за выкуп часть помещичьих земель, уже фактически захваченную ими. Размер выкупа был установлен очень большим (это было сделано как в интересах помещиков, так и ради пополнения казны), и на его уплату предоставлялась рассрочка в 25 лет. Крестьяне земельный закон Врангеля встретили одобрительно, говоря: «Наконец-то белые и о нас вспомнили...» Однако к выкупным платежам отнеслись резко отрицательно.
Наконец, Врангель попытался привлечь в союзники Н.И. Махно и добиться того, чтобы Украинская повстанческая армия поддержала Русскую армию в борьбе с большевиками.
Он пошёл и на перемену национальной политики: попытался наладить сотрудничество с украинскими организациями и Грузией. Более того, он стал допускать возможность воссоздания России как федерации.
Будучи монархистом и считая евреев одними из главных виновников гибели России, он противодействовал монархической и погромной агитации в армии и тылу. «Всякое погромное движение, всякую агитацию в этом направлении я считаю государственным бедствием и буду с ним бороться всеми имеющимися у меня средствами, — заявил он в печати. — Всякий погром разлагает армию. Войска, причастные к погрому, выходят из повиновения. Утром они громят евреев, а к вечеру они начнут громить остальное мирное население». Считая недопустимым «натравливать одну часть населения на другую», он в октябре запретил «всякие публичные выступления, проповеди, лекции и диспуты, сеющие политическую и национальную рознь».
Однако его компромиссы и уступки демократическим силам были в значительной степени тактическими и больше формальными, чем по сути.
Во внешней политике Врангель переориентировался с Великобритании, которая настаивала на прекращении военных операций ради удержания Крыма как «нового Гибралтара», на Францию, требовавшую перехода в наступление ради поддержки польской армии, вторгнувшейся на Украину.
Однако несмотря на все усилия его самого и его представителей в Европе и США, Врангелю не удалось получить ни крупного иностранного займа, ни значительных сумм в валюте, которыми располагали российские учреждения за границей.
В результате казне хронически не хватало денег, не на что было закупить необходимое количество оружия, боеприпасов, снаряжения, топлива и т.д. Единственным источником получения денег стал печатный станок, но форсированная эмиссия ничем не обеспеченных бумажных денежных знаков вела к стремительному росту цен и обнищанию населения, включая офицеров, чиновников и интеллигенцию. А части Русской армии хронически недополучали жалованье, продовольствие и обмундирование.
Уклонение Франции и Великобритании от бескорыстной материальной помощи не дало правительству Врангеля возможности как замедлить падение рубля, так и наладить снабжение Русской армии. И это привело Врангеля к окончательному разочарованию в союзниках: «Изнашивается оружие, иссякают огнеприпасы... Без них мы бессильны. Приобрести всё это нет средств... Хватит ли сил у нас дождаться помощи, придёт ли эта помощь и не потребуют ли за неё те, кто её даст, слишком дорогую плату? На бескорыстную помощь мы рассчитывать не вправе. В политике Европы тщетно было бы искать высших моральных побуждений. Этой политикой руководит исключительно нажива».
25 мая (6 июня) 25-тысячная Русская армия вышла из Крыма и, разгромив полуразложившуюся 13-ю красную армию, заняла северные уезды Таврической губернии и продвинулась в направлении Екатеринослава и Таганрога. Однако все попытки Врангеля и его штаба развить успех ни к чему не привели. Уже совершенно разорённые, крестьяне не хотели продолжения войны и поэтому не оказали армий поддержку, на которую рассчитывал Врангель: уклонялись от мобилизаций и отказывались продавать лошадей, хлеб и продукты за обесцененные бумажные деньги. Поэтому наладить пополнение и снабжение армии не удалось.
В таких условиях части Русской армии вопреки всем запретам главкома опять начали проводить насильственные мобилизации, бесплатные реквизиции и просто грабить жителей. При этом естественное недовольство и сопротивление крестьян трактовалось как «большевизм» и сурово каралось. Всё это вызывало у населения ещё большую ненависть к власти Врангеля и Русской армии.
В итоге Русская армия пополнялась в основном пленными красноармейцами, насильно поставленными в строй. Во многих полках их число доходило до 80%.
Попытки занять Кубань, Екатеринославскую губернию и часть Правобережной Украины окончились неудачей. Кубанские казаки в массе своей не поддержали высаженный в августе десант под командованием генерала Улагая, и он потерпел поражение. А Махно отверг предложенный союз, заключил договор с большевиками и его отряды развернули боевые действия против частей Русской армии.
28 октября войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе перешли в наступление. За пять дней Русская армия потеряла всё, что ценой больших потерь заняла и удерживала в течение почти пяти месяцев. Из отступавших частей массами дезертировали и сдавались как насильно мобилизованные таврические крестьяне, так и рядовые казаки. Части, состоявшие преимущественно из пленных красноармейцев, целиком переходили на сторону Красной армии. В итоге отступившая в Крым Русская армия потеряла в Северной Таврии около 20 тыс. бойцов — почти половину кавалерии и две трети пехоты.
В Крыму сразу начался голод, вызванный мизерностью запасов и бешеным ростом цен. В городах исчезла мука, у пекарен на холоде стояли бесконечные очереди. Всё это дополнялось отсутствием света и топлива, давно закрытыми больницами и столовыми. Состоятельные люди спешно «ликвидировали дела», покупали по бешеным ценам билеты на пароходы и уезжали в Константинополь. Основная масса населения ожидала прихода Красной армии, пребывая в уверенности, что с присоединением Крыма к России, пусть даже большевистской, жизнь улучшится. Даже среди интеллигенции, чиновничества и офицерства стало распространяться мнение: «Хуже, чем при Врангеле, всё равно не будет».
В сложившейся ситуации укрепления Перекопа уже ничего не решали.
Начав операцию в ночь на 8 ноября, части Южного фронта к 11 ноября взломали оборону Русской армии на перешейках. 10 ноября, когда стало ясно, что войска уже не могут оказывать сопротивление, Врангель отдал приказ об эвакуации: оторваться от противника и стремительным маршем двигаться к портам.
Он сделал всё возможное для вывоза наибольшего числа чинов армии и беженцев: погрузка прошла в относительном порядке, и более чем на 100 судах, при помощи французов и американцев, в Турцию были эвакуированы почти 75 тыс. офицеров, казаков, солдат и чиновников, а также около 60 тыс. гражданских лиц.
В Турции своими главными задачами Врангель считал сохранение армии как боеспособной силы и создание опирающегося на эту силу органа, который мог стать российским правительством в изгнании. Тем самым он обеспечил бы себе роль одного из лидеров антибольшевистской эмиграции.
Армия, сведённая в три корпуса, была размещена в лагерях и содержалась за счёт денежных средств Франции. За зиму 1920/21 гг. командованию удалось путём суровых мер и организации регулярных занятий, а также отсева тех, кто разочаровался в Белом движении, восстановить дисциплину и боеспособность частей. В марте 1921г. Врангель сформировал Русский совет как «преемственный носитель законной власти».
Однако страны Запада полагали, что дальнейшая политическая и материальная поддержка Белого движения бесперспективна, поскольку приносит одни убытки. Французское правительство, опасаясь сохранять столь грозную силу на Босфоре (в этом с ним было солидарно британское) и не желая более нести расходы, постепенно сокращало выдачу пайков и периодически угрожало её полным прекращением. А его представители в Турции всеми мерами подталкивая офицеров, солдат и казаков к переходу на положение гражданских беженцев и отъезду в другие страны (вплоть до Южной Америки для работы на плантациях). И даже к возвращению в Советскую Россию.
Не признало Русский совет и большинство эмигрантских организаций, поскольку считали вооружённую борьбу с большевистской властью в России проигранной окончательно, а самого Врангеля — слишком правых взглядов и дискредитированным, чтобы возглавлять эмиграцию.
Попытка Врангеля получить в своё распоряжение российские казённые деньги, хранившиеся в иностранных банках, окончилась неудачей. В феврале 1921 г. в Париже по инициативе прибывшего из США русского посла Б.А. Бахметева состоялось совещание русских послов, на котором присутствовали посол во Франции В.А. Маклаков и другие. Исходя из «факта совершенного уничтожения регулярной военной силы» (выражение Маклакова), рассматривая Врангеля всего лишь как одного из беженцев и считая необходимым всякое продолжение его правительством деятельности за границей «немедленно пресечь» (выражение Бахметева), они отвергли его претензии. Сохранив за собой контроль за остатками казённых сумм, они образовали Совет послов, а при нём — Финансовый совет, который должен был выделять деньги на помощь беженцам исключительно через Земгор.
Наконец, казачьи атаманы и правительства, поддавшись на уговоры союзников и соблазнившись их обещаниями щедрой финансовой помощи, разорвали договорные отношения с Врангелем и вышли из его подчинения.
Чтобы сохранить остатки армии, Врангель вынужден был во второй половине 1921 — первой половине 1922 гг. перевезти их в Болгарию и Югославию. Русский совет прекратил существование. В марте 1922 г. он переехал в Сербию, где поселился вместе с семьёй и штабом в городке Сремские Карловцы, недалеко от Белграда.
Между тем ещё в декабре 1921 г., Врангель, прибегнув к помощи своего секретаря Н.М. Котляревского, начал писать воспоминания о Гражданской войне. Объёмный, около 50 авторских листов (в виде двух переплетённых машинописных экземпляров), труд был завершён уже в декабре 1923 г., однако участие Котляревского наложило на текст печать сухой казёнщины.
Для Врангеля главным мотивом их написания была необходимость отстоять в глазах эмиграции свою позицию в конфликте с Деникиным. Однако он не спешил издавать их: выжидал, пока Деникин не завершит работу над своими «Очерками русской смуты», 1-й том которых вышел в Париже в 1921 г.
В эмиграции Деникин и Врангель ни разу не встретились, хотя и воздерживались от резких выступлений в адрес друг друга. Однако их окружение продолжало яростно спорить о совершенных ошибках и причинах поражения Белого движения на юге. Проденикински настроенные военные и общественные деятели обвиняли Врангеля в подрыве власти Деникина, а сторонники Врангеля упрекали Деникина в том, что тот упорно отклонял предложения своего более способного подчинённого и во всех его действиях склонен был видеть лишь намерение занять пост главкома ВСЮР.
На Балканах из-за отсутствия у штаба главкома средств части армии постепенно были переведены на «трудовое положение»: офицеры, солдаты и казаки группами или в частном прядке устраивались на работу, чтобы обеспечить своё существование. Многие начали покидать части и разъезжаться по разным странам.
В крайне стеснённом материальном положении оказался и Врангель с женой Ольгой Михайловной и четырьмя детьми — Еленой, Петром, Наталией и Алексеем (младший сын родился в Сербии).
В сентябре 1924 г., когда военнослужащие Русской армии расселились по разным странам и стали зарабатывать на жизнь собственным трудом, оставшиеся без войск штабы превратились в подобие объединений однополчан, и повсюду, где жили бывшие офицеры, возникали различные военные организации, Врангель создал Русский общевоинский союз (РОВС). По его замыслу, РОВС должен был позволить ему сохранить в своих руках централизованное руководство всеми военными организациями, оградить офицерство от влияния различных политических сил и, по мере возможности, поддерживать его мобилизационную готовность. Врангель, сохранив за собой звание главнокомандующего Русской армией, стал председателем РОВС.
В ноябре 1924 г. Врангель приезжал в Париж, где встретился в том числе и с вёл. кн. Николаем Николаевичем. Итогом их переговоров стало вступление последнего в «верховное» руководство Русской армией и всеми эмигрантскими военными организациями (не непосредственно, а через Врангеля как главкома). В его распоряжение поступили все денежные ресурсы, в его ведение перешли финансовый и контрольный отделы штаба армии. Если Врангель видел в этом шаге средство сплочения военной эмиграции, то вёл. кн. Николай Николаевич прежде всего рассчитывал опереться на РОВС в борьбе против вёл. кн. Кирилла Владимировича, объявившего себя «императором всероссийским».
Однако лучше них использовал эту комбинацию в своих интересах генерал Кутепов, живший в Париже, где и находилась канцелярия РОВС. Благодаря близости к вёл. кн. Николаю Николаевичу он без ведома Врангеля создал внутри РОВС подчинённую только ему структуру («внутреннюю линию»), которая развернула разведывательную и диверсионную работу на территории СССР (и очень скоро оказалась под контролем ОГПУ). Опираясь на монархические элементы военной эмиграции, враждебно настроенные к Врангелю, он активизировал интриги против него и добился того, что вёл. кн. Николай Николаевич изъял из ведения Врангеля многие военные организации.
Один за другим покидали Врангеля старые соратники, переходя на сторону Кутепова.
Кончилось тем, что Врангель порвал отношения с Кутеповым.
Всё далее отстраняясь от монархистов, Врангель считал своим долгом оказывать материальную помощь офицерам, насколько позволяли остатки казны, и уберегать их от участия в авантюристических акциях против СССР. Он был убеждён: соотношение сил таково, что эти авантюры могут привести лишь к неоправданным потерям и дискредитации РОВС. С большой настороженностью он относился к тем, кто приезжал из СССР и пытался установить контакты с эмигрантами, выдавая себя за представителей неких подпольных организаций, ведущих борьбу против большевиков (благодаря этому ему удалось уберечь себя и своё окружение от вовлечения в «Трест» — провокационную операцию ОГПУ).
Между тем в 1925 г. в Берлине был опубликован 4-й том «Очерков русской смуты», в котором Деникин довёл свои воспоминания до начала 1919 г. О его усиленной работе над следующим томом (о событиях 1919 — начала 1920 гг.) Врангель узнал из первых рук. Деникин, проживавший тогда в Венгрии, обратился к генералу А.А. фон Лампе, начальнику 2-го (германского) отдела РОВС (Венгрия входила в сферу его деятельности) с просьбой помочь получить из архива Русской армии документы за период до марта 1920 г. Врангель, хотя и понимал, что Деникин вряд ли отойдёт от своих взглядов на причины, суть и последствия их конфликта, не счёл себя вправе препятствовать работе бывшего начальника. По его распоряжению просимые материалы были Деникину переданы.
Предстоящий выход 5-го тома «Очерков» ставил Врангеля в сложное положение: его собственные воспоминания, опубликованные позже «Очерков», могли быть оценены эмигрантской массой как попытка оправдаться, а недругами всех мастей (от социалистов до монархистов) — использованы как лишний повод позлословить на его счёт.
В том же 1925 г. Ольга Михайловна с детьми переехала в Брюссель, а Пётр Николаевич со слепнущей матерью, баронессой Марией Дмитриевной, остался в Сремских Карловцах.
«Подлая игра» Кутепова (выражение Врангеля) привела к тому, что вёл. кн. Николай Николаевич в конце 1925 г. решил прекратить с марта 1926 г. финансирование Русской армии, включая главкома и его штаб (при этом суммы, выделяемые Кутепову, возросли). Уведомление об этом Врангель получил 18 января.
28 января он писал жене в Брюссель: «Из Парижа сведения самые грустные — происки и подлая игра как никогда. Враги готовятся справлять тризну по мне и Армии...» Спустя два дня написал подробнее: «Вот 4 месяца как я живу в мучительной неопределённости, в неуверенности даже за завтрашний день. Личной жизни нет, кругом подлые сплетни, зависть, злоба. Ни одного светлого луча, если не считать дружной поддержки нескольких помощников — старших начальников. Лампе, Абрамов, Витковский, Барбович, Зборовский... в этом деле показали редкое единодушие, исключительное понимание обстановки, полную готовность ради пользы общего дела отказаться от всего личного...
Мне трудно писать обо всём том, что происходит. Приходится убеждаться, что без меня малодушие и лицемерие Н.[иколая] Н.[иколаевича] безграничны».
В такой тягостной атмосфере Врангель принял решение опубликовать воспоминания. Он рассчитывал упрочить свой авторитет, обосновать свою позицию в конфликте с Деникиным и тем ответить критикам и, наконец, поправить финансовое положение семьи. Своей матери он сказал тогда: «Я хочу, чтобы знали, что они написаны до деникинских записок, а не то, чтобы я оправдывался как бы на его обвинения».
И зимой 1926 г. он приступил к их редактированию. «...Когда уехала семья в Бельгию, я тогда оставалась с сыном одна, — писала позже старая баронесса Врангель генералу фон Лампе, — и вот в долгие зимние вечера он просил меня читать их ему вслух, чтобы он мог бы в виде слушателя обратить на многое внимание в них... Самые главные изменения были сделаны им именно тогда... Многое было им... написано в пылу возмущения, он смягчился, и, слава Богу, ничего исторического (Здесь и далее подчёркнуто М.Д. Врангель. — С.К.) не пропало. Это его душевное, и только. Я строчка за строчкой знаю, что он вычёркивал... Он многое смягчил в своих исправлениях, он или густо зачёркивал, или вырезал и, во всяком случае, был бы определённо против, чтобы их расшифровывали».
С весны 1926 г. через доверенных лиц Врангель начал искать возможность опубликовать перевод воспоминаний в иностранном издательстве. Узнав, что ими заинтересовалось берлинское издательство «Новак», он поручил фон Лампе вступить в переговоры о финансовых условиях и сроках издания.
Врангель хорошо знал Александра Алексеевича фон Лампе: летом 1919 г. тот служил в штабе Кавказской армии. Назначенный в 1920 г. военным представителем главкома Русской армии в Германии и проживая в Берлине, он сохранил преданность Врангелю. Имея опыт журналистской и издательской работы, в 1925 г. он затеял издание мемуарно-документальной летописи «Белое дело».
Собирая материал доя первого сборника, он попросил Врангеля прислать отрывок из воспоминаний. Тот выслал ему в Берлин оглавление всей книги и отрывок, в котором описывалась смена главкома ВСЮР в марте 1920 г. Посетовав, что присланный текст составляет менее одного печатного листа, фон Лампе попытался убедить начальника прислать побольше: «...Ваше первое появление в печати было бы по наружному виду обставлено более нарядно». И далее: «Почему Вы остановились на заглавии «Воспоминания»? С точки зрения читателя и витрины, это очень тяжёлое заглавие! Даже такое, как, например, «Ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.» опять-таки с подзаголовком «Воспоминания» — привлекло бы читателя более. Это, конечно, моё личное мнение...» Однако Врангель отказался: «...Ничего более дать не могу, кроме присланной главы».
В августе же издательство «Новак» через фон Лампе предложило схему выплаты гонорара, по которой его размер зависел от реализации тиража. Врангель назвал эти условия «неприемлемыми»: «Мне не столько важен размер будущих возможных поступлений, сколь размер суммы, выплачиваемой при выходе издания. Не откажите выяснить, возможно ли рассчитывать на более выгодные условия».
В октябре 1926 г. основанное в Берлине русское издательство «Медный всадник» выпустило I сборник «Белого дела», куда присланный Врангелем текст вошёл под названием «Март 1920 года (Из воспоминаний)». Одновременно тот же «Медный всадник» опубликовал 5-й, последний, том «Очерков Русской смуты» Деникина. Врангель прочитал обе книги в Брюсселе, куда приехал к семье из Сербии 5 ноября.
Между тем фон Лампе уже начал переговоры с «Медным всадником» о выпуске полного текста воспоминаний, искал издателей во Франции, продолжал переговоры с «Новаком» относительно финансовых условий.
Врангеля особенно волновал исход переговоров с «Новаком»: «Благодарю за переговоры о немецком издании моих воспоминаний. Что может составить в цифрах уплата за первую тысячу? Во что может обойтись перевод и что очистится мне единовременно при выходе издания?»
Тогда же у него появилась возможность издать воспоминания в США. 15 декабря 1926 г. в ответ на просьбу фон Лампе скорее выслать текст в Берлин для «Медного всадника» и перевода на немецкий он сообщил: «Посылка рукописи моих воспоминаний задерживается... я получил сведения, что приобретение воспоминаний американским издательством обусловливается, чтобы труд не появился на рынке на другом языке до заключения сделки, дабы американское издательство могло, публикуя о предстоящем выходе, упомянуть, что воспоминания доселе нигде не появлялись. Жена выезжает в Америку 29 декабря, где и должна заключить сделку, о чём меня телеграфно уведомит... Вы сами понимаете, я не могу не учитывать требования американских издательств».
С финансовой точки зрения он рассчитал верно: публикация в США была наиболее привлекательной, поскольку экономический кризис в Европе сильно ударил по издательскому делу, особенно по русским издательствам. Выпуская книги мизерными тиражами, они влачили жалкое существование, ибо эмигрантская масса жила на грани бедности и просто не имела возможности покупать литературу. В январе 1927 г., объясняя причину задержки переговоров с издательством «Новак», фон Лампе писал Врангелю, что «разговоры и переговоры идут очень медленно», «всё становится сложнее по причине безденежья», немецкие издательства «сидят без денег», а издатели полагают, что воспоминания бывшего русского главнокомандующего «не имеют непосредственного интереса для немцев».
Осенью 1927 г. «Медный всадник» отказался издавать воспоминания Врангеля.
Задержка с изданием имела для него одну положительную сторону: прочитав 5-й том «Очерков русской смуты», он внёс в текст изменения, усиливающие его аргументы в споре с Деникиным.
Между тем, преодолевая огромные трудности, фон Лампе продолжал выпускать в Берлине сборники «Белое дело». Главной проблемой была финансовая. Настойчивые обращения к русским предпринимателям и состоятельным аристократам, даже к тем, кто находился в дружеских отношениях с Врангелем, редко заканчивались положительным результатом. Основным источником средств было страховое общество «Саламандра», директор которой Н.А. Белоцветов несколько раз по личной просьбе Врангеля ссужал фон Лампе деньги на издание «Белого дела». К концу 1927 г. поступления денег прекратились, и фон Лампе писал Врангелю: «...Хотя у меня всегда дело висело на волоске, но всё же теперь опасности, что он оборвётся, стало как-то больше!»
В этой ситуации у Врангеля родилась мысль издать воспоминания в «Белом деле». Ускорить публикацию, даже в ущерб финансовым интересам, заставляло его распространение в эмигрантской среде 5-го тома «Очерков» с критикой его взглядов и действий летом 1919 — весной 1920 гг. Наряду с упрёками и обвинениями, которые в трактовке Деникина выглядели вполне справедливыми и аргументированными, 5-й том стимулировал широкое распространение слухов и вымыслов, подрывавших авторитет и достоинство Врангеля.
В частности о том, что генерал И.П. Романовский, бывший начальник главного штаба ВСЮР и близкий друг Деникина, застреленный неизвестным офицером 5 апреля 1920 г. в здании русского посольства в Константинополе, был убит по личному приказанию Врангеля (имя убийцы — поручика М.А. Харузина — станет известно только в 1936 г.). Фон Лампе записал в своём дневнике: «Живущая в Брюсселе кучка: вдова Романовского, Маркова и др. по-прежнему будирует и винит ПН в причастности к убийству Романовского... Горе не рассуждает, но не глупо ли это? Кому нужна была ликвидация отставного (Здесь и далее в дневнике и письмах фон Лампе разрядка и подчёркивания сделаны им самим. — С.К.) Романовского, кроме мальчишек, «мстивших» ему и сами не зная, за что именно?» И далее: «...“Деникинские круги”, близкие Деникину, и по сей день в Брюсселе упорно распространяют старую преступную легенду о том, что Романовский был убит по распоряжению ПНВ... и пренебрегать этой ежедневно повторяемой клеветой не так просто».
Ходил среди подобных «кучек» и рассказ жены генерала Юзефовича про обет, данный Врангелем во время болезни: если не умрёт — не быть таким честолюбивым и не приносить всё в жертву своему честолюбию. Сама она называла его «Божьим надувальщиком».
Несомненно, Врангелю с его обострённым честолюбием «пренебрегать» подобными нападками было просто невозможно.
Наконец, годы войны, тяжких испытаний и напряжённой борьбы, а также перенесённый сыпной тиф не могли не сказаться на его здоровье. Возможно, и это обстоятельство заставило его ускорить издание воспоминаний, чтобы защитить свою честь, отстоять свои взгляды и хоть как-то обеспечить жену и четверых детей.
Вместе с тем он жил неумирающей надеждой на скорую гибель большевизма. И не только надеялся, но и пытался продолжать борьбу. Через самых преданных ему людей он активно искал средства на создание организации, которая могла бы вести разведывательную и контрразведывательную работу против СССР. Но при этом не имела бы ничего общего с кутеповской «внутренней линией» и тем самым была бы ограждена от проникновения в неё советских агентов.
1 октября 1927 г. фон Лампе приехал в Париж, где на железнодорожном вокзале Сен-Лазар встретился с Врангелем и его женой. Он отметил в дневнике, что семья Врангеля всеми мерами пытается улучшить своё материальное положение: «Ольга Михайловна при мастерской шляп своей сестры Треповой открыла модный отдел и работает там вместе со старшей дочерью Еленой, только что закончившей своё учение». Особенно бросилась ему в глаза перемена, произошедшая с начальником: «...Его настроение на этот раз показалось мне мало энергичным, не в пример всегдашним нашим встречам — пассивным», от «многих дел и дрязг... он в стороне не только на словах, но и в душе... это не тот ПН, каким я привык его видеть! Н.Н. Чебышев и П.Н. Шатилов спорили со мною и говорили, что я ошибаюсь в оценке ПН-ча. Дай Бог, чтобы правы были они. Я боюсь влияния Ольги Михайловны, которая год тому назад уже говорила мне, что Петру Николаевичу надо начинать жить для себя...»
Во время встречи Врангель и фон Лампе обсудили очень острый вопрос финансирования «Белого дела». Итог обсуждения фон Лампе резюмировал в своём дневнике так: «У ПН нет выходов на тех, кто мог бы дать деньги на «Белое дело»...»
Либо во время встречи в Париже, либо в одном из писем после неё Врангель поднял вопрос об издании полного текста воспоминаний в «Белом деле». Спустя месяц фон Лампе записал в дневнике, что герцог Лейхтенбергский «в вопросе печатания воспоминаний ПН в «Белом деле»,., протестует против такого способа...» Поделился он идеей издать полный текст в «Белом деле» и с Белоцветовым, от которого зависело финансирование издания, однако тот вообще ничего не ответил.
17 декабря Врангель направил фон Лампе письмо, где впервые прямо высказался за то, чтобы выпустить его воспоминания в V сборнике «Белого дела»: «Конечно, с точки зрения выгодности для меня лично такой способ издания, быть может, и менее благоприятный, но, с одной стороны, от русского издания в настоящих условиях я вообще едва ли какую-либо материальную выгоду получу, с другой — приобретение «Белым делом» моих воспоминаний должно привлечь внимание к этому изданию и, быть может, облегчить дальнейшее его существование... Быть может, под издание моих воспоминаний «Белое дело» могло бы получить уже сейчас часть средств от таких лиц, как Фальц-Фейн, да и тот же Белоцветов... Одновременно я буду стремиться издать мои воспоминания на иностранном языке, хотя бы и в сокращённом виде, что единственно может мне принести материальную выгоду».
Однако фон Лампе сомневался в возможности издания воспоминаний целиком в «Белом деле». Поэтому в ответном письме, уклонившись от обсуждения этого вопроса, он сделал упор на финансовые трудности: «...Пока оснований рассчитывать на выход пятого сборника мало. У меня, как я уже писал, есть средства на подготовку материала и на содержание редакции (это — я!) для пятой книги, но 3 000 марок на типографию нет, как пока нет и горизонтов в этом направлении...»
Одновременно всё более туманной становилась перспектива издать воспоминания на немецком языке. Переговоры с «Новаком» затягивались по причине, которую фон Лампе так объяснил в письме баронессе М.Д. Врангель: «Немцы стали (а может и были) копеечниками, и у них на первом плане материальный расчёт издания!»
Между тем в январе 1928 г. здоровье Врангеля ухудшилось. Он заболел гриппом, который протекал в тяжёлой форме.
В начале февраля фон Лампе приехал из Берлина в Париж для встречи с Кутеповым. В Париже он неожиданно для себя получил письмо от Врангеля: «Весьма сожалею, что Вы проехали в Париж, минуя Брюссель. У меня к Вам ряд вопросов, которые желательно было бы выяснить до поездки Вашей в Париж. Во всяком случае прошу Вас на возвратном пути задержаться в Брюсселе на 3—4 дня».
14 февраля фон Лампе приехал из Парижа в Брюссель, где нашёл главнокомандующего поправившимся: тот почувствовал себя значительно лучше, стал выходить на улицу, хотя ещё «не был вполне здоров». Прежде всего Врангель обсудил с ним финансовые проблемы своей будущей организации: денег не было и не предвиделось. Однако он готов был, по словам фон Лампе, «ждать много лет, но не просить денег у русских капиталистов в эмиграции».
Однако это было не главное, ради чего Врангель пригласил фон Лампе к себе. «Центр тяжести моего пребывания в Брюсселе, — записал фон Лампе в дневнике, — это вопрос об издании записок ПНВ... Оказывается, это и была причина моего вызова... Поэтому я с места занялся чтением записок и отмечанием того, что, по-моему, надо было переделать. Надо сказать, что записки написаны довольно сухо, в особенности часть вторая — Крым. Что касается до выпадов против Деникина, то они сильно смягчены и даже знаменитое письмо (Письмо Врангеля, написанное Деникину в феврале 1920 г. — С.К.) не приведено целиком и перед ним есть замечание о том, что оно во многом носило следы раздражения и личный характер. Это мне весьма понравилось.
Не знаю, будет ли большой интерес к этим запискам, но согласен с тем, что издавать их надо теперь или никогда... Я поставил перед ПН дилеммы, что воспоминания пишут бывшие люди, что он выставит себя под удары критики и обвинения в тенденциозности и замалчивании того или иного, и убеждённо высказался, что эти вопросы решить может он один. Между прочим, сильно ЗА печатание мать ПН, но она рассуждает так, что, мол, надо отвечать на обвинения...
Много описаний военных операций также не делает книгу лёгкой для чтения... Словом, «но» немало, но я высказал готовность выпустить мою пятую книгу в увеличенном объёме и передать её всецело запискам ПН, если они мне достанут денег, несмотря на то что от гонорара ПН уже отказался.
ПН хочет взять заимообразно в остатках от ссудной казны (Ценности Петербургской ссудной казны, вывезенные из Крыма в ноябре 1920 г., были распроданы, и вырученные суммы пошли на содержание Русской армии. — С.К.) с тем, чтобы пополнить из выручки. Я не преминул указать на гадательность большого тиража, оценивая его при нормальном для «Белого дела» 300-экземплярном тираже в 500 книг для записок. ПН думает о 1 000! Но, конечно, он прав. После того как отказался «Медный всадник», на русском языке больше печатать негде, и «Белое дело» как журнал, несколько скрывая физиономию автора и принося ему этим вред, в то же время всё-таки даст возможность появления записок в свет!..
Я начал читать и нашёл, кроме мест, нуждающихся в переделке, — прямые ошибки: армия Юденича отошла в Латвию, а не в Эстонию, начальник штаба Шиллинга Чернов, а не Чернавин...
Должен ещё отметить и готовность ПН вычёркивать положительно всё — временами уже я его удерживал от этого... Но карт-бланш он мне всё же дать не согласился... ПНВ вычеркнул из своих записок всё лишнее о Государе... И это правильно, так как он не был к нему так близок, чтобы иметь правильное суждение».
Работа шла очень напряжённая и поглощала всё время. Фон Лампе очень жалел, что за три дня — 15, 16 и 17 февраля — пропустил многое, что хотел бы посетить в бельгийской столице. Но утешал себя шуткой: «Вероятно, публика думает, что мы с ПН готовим мобилизацию, а не мемуары».
Во время коротких перерывов на еду Врангель несколько раз с благодарностью говорил ему: «Кроме строевых начальников, только вы один поняли моё трудное материальное положение и пришли мне на помощь. А остальные всё время требуют денег».
Хорошо зная придирчивость пограничников и таможенников к русским эмигрантам, фон Лампе предпочитал отправить текст в Берлин почтой. Но Врангель нервно и категорически настаивал: «Немедленно везите с собой. И прошу сообщить о провозе рукописи через границу, не доезжая до Берлина».
22 февраля фон Лампе выехал в Германию, увозя с собой отредактированный и сокращённый первый машинописный экземпляр. «На границе, — записал он в дневнике, — немцы заинтересовались записками ПНВ, которые я вёз в отдельном пакете, но тут же и пропустили их». Переехав границу, тут же телеграфировал Врангелю: текст довезён в полной сохранности.
Уже после смерти Врангеля, оглядываясь на дни, проведённые вместе с ним в Брюсселе, которые оказались их последней встречей, фон Лампе отмечал в одном из писем: «...Вдруг в феврале он настоял на моём немедленном приезде в Брюссель, на спешной нашей совместной работе над корректурой записок и на немедленном отвозе их мною в Берлин! Все мои указания, что не надо спешить, Пётр Николаевич решительно отвергал и торопил меня всё время!.. По-видимому, у Петра Николаевича было какое-то неосознанное предчувствие, что торопиться надо... Во время корректуры он выбросил всё о некоторых личностях и в том числе о Деникине... Выброшена была Vs всей работы...» И в другом: «В Брюсселе я говорил Петру Николаевичу то, что записки сухи и что продажа пойдёт вяло. Он, почти соглашаясь, нервно настаивал на их печатании. Я не мог ему отказать. Я добился того, что они были названы просто «Записки» — это лишает их претенциозности».
1 марта Врангель закончил работу над предисловием и, высылая его фон Лампе, официальным письмом передал редакции «Белого дела» право на издание «Записок» на русском языке.
А 18 марта он заболел.
Узнав об этом из письма Котляревского, фон Лампе написал Врангелю 26 марта: «Грипп опять уложил Вас в кровать!.. Видимо, рецидив того припадка, который был до моего приезда... Все дела по изданию пишу Ник. Мих. (Н.М. Котляревскому. — С.К.), чтобы не досаждать Вам неприятными и назойливыми мелочами...»
Одной из таких «неприятных и назойливых мелочей» была острая нехватка денег на издание «Записок».
В середине марта фон Лампе встретился с проезжавшим через Берлин Белоцветовым. «...Мне с ним пришлось вести так тяготящий меня всегда разговор относительно субсидирования «Белого дела», выставив мотив, что с авансами, добытыми деньгами и кредитом мне нужно для выпуска двух книг Врангеля, кроме имеющихся 7 000 марок, ещё три. Прямого отказа не было, но согласие откладывается до 2-го апреля, когда в Берлине соберутся главы “Саламандры”».
Кроме того, фон Лампе сообщил Врангелю, что общий объем двух частей составит 592 страницы и что целесообразно всё-таки издать их раздельно: «Я приказал сделать примерную книгу, чтобы посмотреть, что получится, и вышла книга толще моих двух нормальных взятых вместе... Вид нехороший, слишком толсто!» И предложил издать сначала 1-ю часть, а затем 2-ю. Врангель не согласился с таким вариантом, настаивая на публикации «Записок» полностью и сразу — в одной книге или двух. В письме Котляревскому от 26 марта фон Лампе уточнил свою позицию: «Я согласен с ПН... Всё время дело летописи висит на волоске и всё время... он не рвётся. В этих только видах можно было пойти на решение: выпустить одну первую часть, а потом, в порядке же рвущегося волоска, дожить и до второй части».
В начале апреля стало ясно, что на «Саламандру» рассчитывать не приходится. «Факт напечатания «Записок» ПНВ на него (Белоцветова) не только не производит никакого впечатления, но, как мне порой кажется, встречается им просто неодобрительно... Денег не даёт, и приходится искать деньги на издание двух книг «Записок» в другом месте». Котляревскому, который известил, что больной Врангель «всё время интересуется положением дел о печатании “Записок”», фон Лампе сообщил: «...Белоцветов — «Саламандра» — заявил, что в связи с ухудшением дел нет возможности просубсидировать издание «Записок» в «Белом деле»...» Однако, писал он далее, «мысль опубликовать «Записки» ПН засела во мне колом».
Между тем состояние Врангеля резко ухудшилось.
13 апреля фон Лампе получил от Котляревского из Брюсселя очень тревожное письмо, датированное 11 апреля: «Ужасное горе! Сегодня выявилось, что у П.Н. туберкулёзный процесс левого лёгкого в очень сильной активной форме. Анализ мокрот показал наличие большого количества туберкулёзных палочек. Температура очень высокая. Если Господь смилуется, то, как только температура немного понизится, увезём в горы».
В следующем письме, написанном в 11 часов дня 16 апреля, Котляревский сообщил: «За вчерашний день произошло очень большое ухудшение. Температура даёт огромные колебания с 39 на 36,2 и обратно 39. Вчера были явления характера мозгового. Врачи считают положение чрезвычайно опасным и считают, что благоприятный исход болезни будет чудом. Какое страшное, ужасное горе!»
Это известие повергло фон Лампе в шок. «Главнокомандующий умирает... Всё рушится, заменить некем...» — записал он в дневнике.
Несмотря на мучительные боли и потери сознания, Врангель, решая самые важные дела, о «Записках» не забыл. По словам Котляревского, он «за три недели уже чувствовал, что умирает, и совершенно сознательно отдавал приказания на случай смерти».
Во-первых, он внёс последние поправки в текст. Они были продиктованы Котляревскому, который записал их и затем, уже после смерти генерала, перепечатал и выслал в Берлин фон Лампе. При этом Врангель категорически настаивал, чтобы больше «никаких изменений внесено не было, исключая редакционно-литературных исправлений».
Во-вторых, отдал распоряжение снять со счёта в банке и выдать фон Лампе 1 000 долл, из средств, оставшихся от реализации Петербургской ссудной казны. Эти деньги должны были быть выданы в форме беспроцентной заимообразной ссуды с погашением половины через год и второй половины к 1 января 1930 г. из средств, полученных от реализации тиража.
В-третьих, приказал после выхода в свет обеих частей «Записок» уничтожить как оставшийся в Брюсселе полный вариант текста, так и экземпляр, увезённый фон Лампе в Берлин. При этом он оговорил, что некоторые отрывки из текста должны быть сохранены в его личном архиве. Придавая исключительное значение тому, чтобы никто и никогда не увидел сокращённой им Vs части текста, он взял с Котляревского честное слово, что оба машинописных экземпляра будут сожжены.
20 апреля Котляревский писал фон Лампе: «Здоровье П.Н. не лучше, сердце работает хуже, очень большая слабость. Вопрос лёгких сейчас не на первом плане, главное — деятельность сердца и нервное возбуждение».
25 апреля 1928 г. генерал Врангель скончался.
Получив в тот же день телеграмму о смерти главнокомандующего, фон Лампе, переживая страшное горе, записал в дневнике о намерении «всё бросить и уйти из РОВС». «Но «Записки» издать я должен!!»
Похоронен генерал Врангель был в Брюсселе, на кладбище в Юккль-Кальвет (в октябре 1929 г. прах его перевезли в Белград, где перезахоронили в русской церкви Св. Троицы).
Между тем среди соратников генерала Врангеля возникла мысль, что после его смерти «Записки» могут быть изданы в полном, первоначальном варианте. За это, в частности, высказался философ И.А. Ильин, тесно сблизившийся с Врангелем в эмиграции. В письме Котляревскому фон Лампе попытался осторожно прозондировать почву: «Мне кажется, что он не прав и мы должны раньше всего считаться с тем, что Пётр Николаевич сам вычеркнул многое... Как Вы думаете об этом?» Котляревский ответил категорично: «Главнокомандующий в предсмертном распоряжении, мне данном, вновь повторил, чтобы никаких изменений внесено не было... Поэтому о предложении Ивана Александровича... (о напечатании всех вычеркнутых Главнокомандующим мест), не может быть и речи».
Одновременно Котляревский потребовал от фон Лампе поскорее возвратить ему машинописный текст «Записок» со всеми присланными дополнениями и исправлениями для сожжения согласно предсмертной воле главнокомандующего.
Дать деньги на издание «Записок» согласился промышленник А.О. Гукасов, но только в виде ссуды. 16 мая фон Лампе с горечью писал одному из своих близких друзей: «Я хочу... хоть часть денег получить не ссудой, а жертвенно... Право же, покойный Главнокомандующий... денег не имел — он отдал свои воспоминания даром, в то время как даже при моей оплате он должен был получить 1 200 — 1 300 марок. Я нищий, имеющий заработок в 150 марок в месяц... — отказался от редакторского гонорара, чтобы только записки вышли...»
Тогда же фон Лампе обратился к генералам Е.К. Миллеру и А.Г. Барбовичу, возглавлявшим в Париже и Белграде Комитеты по увековечиванию памяти генерала П.Н. Врангеля. Эти комитеты собирали пожертвования эмигрантов, и он попытался убедить Миллера и Барбовича, что издание «Записок» станет лучшим памятником покойному главнокомандующему. Те лишь неопределённо пообещали выделить что-то из денег, оставшихся от похорон.
19 июля 1928 г. типографией было закончено печатание V сборника «Белого дела». 1-я часть «Записок» вышла в свет.
Чтобы издать V и VI сборники, фон Лампе выдал типографии «Зинабург и КО» два векселя на общую сумму 4 530 марок, обязавшись вернуть долг из выручки от продажи тиража. На подготовку к печати VI сборника денег немного не хватало, и он обратился за помощью к барону В.Э. Фальц-Фейну.
24 июля он пожаловался в одном из писем: «С записками П.Н. Врангеля, исполняя его предсмертную просьбу, я буквально кинулся в воду, издавая две книги... Они стоят 11 000 марок. Пять я достал, пять должаю под будущий тираж (а если он не оправдает надежд?), а одной мне и посейчас не хватает! Что стоило бы тому же Юсупову помочь, благо он был в дружбе с П.Н. Врангелем, ведь это только 6 000 франков... И как я выплыву — не знаю. Знаю только одно, что первый том я издал, издам и второй...»
К десятым числам сентября фон Лампе закончил подготовку к печати VI сборника. В дневнике он записал: «Исполняется задача, возложенная на меня заветом покойного Петра Николаевича. Выполнил её как мог... Не могу не отметить, что решительно все, кто получил книгу, благодарил меня и высказывался о ней в самой лестной форме».
Однако радость фон Лампе была омрачена полученным из Франции отказом Фальц-Фейна пожертвовать деньги на издание «Записок». После чрезвычайно напряжённого труда у него сдали нервы: «Все говорят о значении записок Врангеля и никто не даёт ни копейки... Сволочь!»
Для выплаты долгов, которые составили 9 400 марок, фон Лампе необходимо было продать примерно 1 150 экземпляров каждой части «Записок». Ещё раз обращаясь к генералу Миллеру за помощью и, приводя эти цифры в письме от 15 сентября, он отмечал: «ПН считал, что 1 000 пар продастся легко. Я смотрю на это пессимистичнее». С горечью и возмущением высказался он о тех, кто «числил себя друзьями покойного главнокомандующего», имел приличное состояние в эмиграции, но отказался пожертвовать деньги на издание: «...Все состоятельные люди признают необходимость издать «Записки», но все отказались принять в деле материальное участие! Такова физиономия имущей эмиграции».
VI сборник «Белого дела» со 2-й частью «Записок» вышел в свет 25 сентября 1928 г.
За несколько дней до этого, полностью завершив свою работу и ожидая из типографии тираж, фон Лампе писал генералу А.П. Архангельскому: «Должен Вам честно сказать, что, заканчивая дело по изданию «Записок» Главнокомандующего, я чувствую громадное моральное удовлетворение. Конечно, нужно было бы сделать лучше, но далеко не всё доступно. Во всяком случае, дело сделано и записки вышли в свет!! Завет Петра Николаевича исполнен! Но какие с все состоятельные эмигранты — все в один голос говорили мне о ценности записок и ни один не пришёл на помощь материально!»
Исполнив завет Врангеля — издав его «Записки», — фон Лампе оказался перед жестокой необходимостью выполнить и его предсмертную волю — уничтожить полный оригинальный текст. Такой участи оригинала он противился всей душой.
Когда фон Лампе писал предисловие «От редакции», он счёл невозможным как умолчать о сокращении первоначального текста на 1/8 объёма, так и сказать правду о предстоящем его уничтожении: «...В феврале 1928 года, то есть за два месяца до своей безвременной кончины, генерал Врангель принял решение окончательно подготовить свою рукопись к печати. Для этого вся работа была вновь пересмотрена Главнокомандующим, совместно с редактором летописи, находившимся тогда в Брюсселе, и была сокращена примерно на 1/8 своего объёма... Кроме того экземпляра рукописи, который был передан в летопись, существовал второй, в котором сохранено всё то, что было изъято из рукописи во время переработки её в феврале 1928 г. Экземпляр этот хранился в личном архиве генерала Врангеля». Глаголы прошедшего времени «существовал» и «хранился» опережали события, но иного способа сказать правду он не нашёл.
Упоминание в предисловии о существовании и сокращении полного оригинального варианта «Записок» вызвало сильное недовольство матери покойного главнокомандующего. Баронесса Врангель выговорила фон Лампе: «Я знаю, что он взял слово с Ник. Мих., что по напечатанию не только черновик, но и Ваш экземпляр самим Ник. Мих. должен быть уничтожен, настолько он не хотел, чтобы до рукописи касались, и я очень надеюсь, что Н.М. волю покойного свято исполнит. Да и на что нужен черновик — это его интимное, раз он так его зберегал... Вы указываете, где хранится 2-й экз., или вернее черновик, с теми исправлениями, которые он именно не хотел, чтобы видели интересующиеся ими... По счастью, несмотря даже на предисловие Ваше, оно будет сокрыто ото всех... Но сколько породит толков его исчезновение, не будем же мы рассказывать, что он просил уничтожить».
В ответном письме от 21 августа фон Лампе попытался аргументировать свою позицию: «Что касается до второго экземпляра, то Н.М. писал мне о выраженной Петром Николаевичем воле уничтожить и второй экземпляр, и манускрипт, находящийся у меня. Воле Петра Николаевича, конечно, надо покориться, и я верну манускрипт, как меня о том просил Котляревский, но, будь я на месте Н.М., — я в своё время протестовал бы против такого решения Петра Николаевича: он недооценивал своего исторического значения — его манускрипты обязательно должны были бы храниться в его архиве, в подлиннике. Когда будут изучать его записки, то будет важно установить, что он сам вычеркнул... Котляревский писал мне, что оба манускрипта будут уничтожены, но что часть вычеркнутого, точно указанная Петром Николаевичем, будет сохранена. Поэтому я в своём предисловии и употребил выражения: «существовал второй (экземпляр)», «экземпляр этот хранился в личном...», так как это соответствует действительности, а писать о предположенном уничтожении я не хотел». Утверждая далее, что на месте Котляревского он сумел бы убедить Врангеля сохранить полный текст записок, фон Лампе ссылался на случаи, когда ему удавалось при помощи веских аргументов убеждать своего бывшего начальника изменять уже принятое решение.
Общий тон этого письма свидетельствует о неподдельной горечи близкого Врангелю человека, вызванной бессилием изменить что-либо и спасти для истории и потомков часть текста, которую автор обрёк на небытие.
В ответ он получил от старой баронессы письмо, полное обвинений в намерении нарушить волю её сына. Протестуя против них, фон Лампе писал в Брюссель 25 августа: «...Я не собираюсь нарушать волю Главнокомандующего. Я вышлю всё, что у меня. Я протестовал бы против распоряжения Петра Николаевича. Котляревский должен был протестовать, тем более что Пётр Николаевич приказал кое-что сохранить... Что же касается моей мысли, что манускрипты вообще нужны в архивах, то это есть настоящая историческая точка зрения — для характеристики наших больших русских людей много дало бы и то, что они сами сокращали. То же самое и наоборот — очень интересно для характеристики и то, что и когда было ими добавлено...»
31 октября 1928 г. в Брюсселе оба машинописных экземпляра «Записок» были сожжены.
Увы, рукописи горят...
Понятны мотивы генерала Врангеля, его стремление не усугублять междоусобицу в среде военной эмиграции, его страстное желание быть и остаться «всегда с честью», сделать себя неуязвимым не только для злословия современников, но и критики потомков.
Понятна и позиция родных и близких генерала, для которых исполнение его предсмертной воли было святым долгом.
Но более понятна и достойна сочувствия «настоящая историческая точка зрения» фон Лампе. Как никто другой, он отдавал себе отчёт: не строчки вычёркиваются и не страницы сжигаются — часть жизни и души «большого русского человека».
Вопреки расчётам Врангеля, сам факт выхода «Записок» был воспринят как ответ на «Очерки русской смуты» Деникина и явился поводом к возобновлению полемики на страницах эмигрантской печати между их сторонниками и противниками. Многие современники сочли, что «Записки» имели главной целью не объективный показ истории Белого движения на юге, а исключительно оправдание его борьбы против Деникина.
В июле 1928 г., связи с выходом 1-й части «Записок», генерал А.П. Кусонский написал фон Лампе: «Пока я, лишь просмотрев книгу, скажу следующее. Хотя воспоминания написаны до появления V т. Деникина, но они уже заранее как бы полемизируют и оправдываются перед Ан. Ив. Задача эта неблагодарная, ибо, сколько ни делал стратегических и пр. ошибок Деникин, всё же в истории Врангель — Деникин каждый мало-мальски беспристрастный человек всегда станет на сторону Деникина и осудит Врангеля. Критика же Деникина в воспоминаниях для теперешнего читателя, оглядывающего поход белых беспристрастно и более глубоко, будет, я думаю, неприятна». Отвечая своему другу, фон Лампе не обошёл молчанием больную для него тему: «Я не буду останавливаться на вопросе «Врангель — Деникин» — я на это держусь иного, чем Ты, взгляда. Не полемизировать же нам по этому вопросу! Скажу только немного: оба они принадлежат истории — ПН скончался, АИ умер политически... И потому я рад, что суд истории теперь имеет показания обеих сторон. Свидетели тоже найдутся...»
Ныне, когда могилы двух главнокомандующих более не разделены океаном, а история, как и предсказывал когда-то Деникин, «подводит итоги их деяниям», всё настойчивее напрашивается одно предположение. Возможно, оно приходило в голову и фон Лампе, но он не осмелился ни высказать его в письме, ни даже доверить дневнику. А именно: главным мотивом, которым руководствовался Врангель при сокращении и уничтожении части «Записок», касавшейся их конфликта с Деникиным, было возникшее в какой-то момент ощущение своей неправоты. Горечь и тяготы изгнания не могли не умерить его честолюбия. Понимая, что не судят только победителей, и предчувствуя близкий конец, он не мог если уж не осудить, то хотя бы не упрекнуть себя.
В 1918—1919 гг. каждый из них — Деникин и Врангель — отстаивал свой путь освобождения России от большевизма, каждый только себя считал способным добиться победы.
Поражение им выпало одно на двоих.
Москва — Красновидово — Алушта
2000—2004
ОБ АВТОРЕ
КАРПЕНКО Сергей Владимирович родился в 1955 г. в Астрахани. В 1978 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт. Кандидат исторических наук. Преподаёт историю России XX в. в Российском государственном гуманитарном университете. Главный редактор журнала «Новый исторический вестник». Автор научных, научно-популярных и художественных книг о Гражданской войне. Составитель 16-томного собрания мемуарных произведений «Белое дело».
Роман-хроника «Последний главком» печатается впервые.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1878 г.
15 августа (cm. cm.) — в г. Ново-Александровске Ковенской губ. в семье барона Николая Егоровича Врангеля и баронессы Марии Дмитриевны родился старший сын Пётр.
1879 г.
Переезд семьи Врангелей в Ростов-на-Дону.
1896 г.
Окончил Ростовское реальное училище.
Поступил в Горный институт.
1897 г.
Переезд семьи Врангелей в Санкт-Петербург.
1901 г.
Окончил Горный институт.
Сентябрь — вступил вольноопределяющимся в л.-гв. Конный полк на должность рядового.
1902 г.
Октябрь — после сдачи испытания на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище произведён в корнеты и зачислен в запас гвардейской кавалерии.
Назначен чиновником для особых поручений при Иркутском генерал-губернаторе, уехал в Иркутск.
1904 г.
Февраль — с началом войны с Японией добровольно вступил в армию, зачислен во 2-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска в чине хорунжего, а затем переведён во 2-й Аргунский казачий полк.
Декабрь — произведён в сотники.
1905 г.
Сентябрь — произведён в подъесаулы.
1906 г.
Январь — переведён в 55-й драгунский Финляндский полк с переименованием в штабс-ротмистра.
Август — прикомандирован к л.-гв. Конному полку.
1907 г.
Март — переведён в л.-гв. Конный полк поручиком.
Август — поступил в Академию Генерального штаба.
1 октября (cm. cm.) — сочетался браком с Ольгой Михайловной Иваненко, фрейлиной их императорских величеств, дочерью камергера Высочайшего двора.
1909 г.
Родилась дочь Елена.
1910 г.
Июнь — окончил по I разряду основной двухгодичный и дополнительный одногодичный курсы Академии Генерального штаба.
1911 г.
Родился сын Пётр.
1912 г.
Май — окончил одногодичный курс Офицерской кавалерийской школы, назначен командиром эскадрона.
1913 г.
Август — произведён в ротмистры.
1914 г.
Родилась дочь Наталия.
Август — награждён орденом Святого Георгия IV ст.
Сентябрь — назначен начальником штаба Сводной кавалерийской дивизии.
Декабрь — назначен флигель-адъютантом к императору.
Произведён в полковники.
1915 г.
Апрель — награждён Георгиевским оружием.
Октябрь — назначен командиром 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска.
1916 г.
Декабрь — назначен командиром 2-й бригады Уссурийской конной дивизии.
1917 г.
Январь — произведён в генерал-майоры за боевые отличия.
Назначен временно командующим Уссурийской конной дивизией.
Март — назначен начальником Уссурийской конной дивизии.
Июль — назначен временно командующим 7-й кавалерийской дивизией.
Назначен временно командующим сводным конным корпусом.
Награждён солдатским Георгиевским крестом IV ст.
Сентябрь — назначен командиром 3-го конного корпуса, но от службы отказался и уехал в Петроград.
Ноябрь — уехал к семье в Ялту.
1918 г.
Май — июнь — поездка в Киев.
Август — приехал в Екатеринодар и вступил в Добровольческую армию, назначен временно командующим 1-й конной дивизией.
Сентябрь — назначен начальником 1-й конной дивизии.
Ноябрь — назначен командиром 1-го конного корпуса.
Произведён в генерал-лейтенанты.
Декабрь — назначен командующим Добровольческой армией.
1919 г.
Январь — назначен командующим Кавказской Добровольческой армией.
Май — назначен командующим Кавказской армией.
Ноябрь — назначен командующим Добровольческой армией.
Декабрь — зачислен в резерв главкома ВСЮР в связи с расформированием Добровольческой армии.
1920 г.
Февраль — уволен в отставку, выехал из Крыма в Константинополь.
Март — вернулся в Крым, назначен главнокомандующим Вооружёнными силами на юге России.
Апрель — вступил в должность главнокомандующего Русской армией.
Ноябрь — с остатками Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию.
1922 г.
Март — переехал из Константинополя в Сербию, где поселился в г. Сремские Карловцы.
1924 г.
Родился сын Алексей.
Сентябрь — создал Русский общевоинский союз.
1926 г.
Ноябрь — вслед за семьёй переехал в Брюссель.
1928 г.
25 апреля — умер от туберкулёза лёгких.
Примечания
1
Генерал-лейтенант Духонин Николай Николаевич (1876—1917) с сентября 1917 г. занимал должность начальника штаба верховного главнокомандующего, 1 ноября принял на себя обязанности главковерха. За отказ вступить с немцами в переговоры о перемирии 9 ноября был отстранён большевистским Совнаркомом от должности. 19 ноября приказал освободить из заключения в г. Быхове генерала Л.Г. Корнилова и его сторонников, за что 20 ноября был убит толпой матросов на железнодорожной станции Могилёв. После этого выражение «отправить к Духонину», означавшее «убить», стало популярным среди революционных солдат и матросов.
2
Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ) осуществляло почтово-пассажирские и грузовые перевозки по внутренним российским и заграничным линиям Чёрного и Балтийского морей.
3
Мазепа Иван Степанович (1644—1709) родился в православной шляхетской семье недалеко от г. Белая Церковь.
В 1687 г. был избран гетманом Малороссии. Принял активное участие в походах Петра I на Азов, чем приобрёл его расположение и доверие. С 1705 г. стал предпринимать тайные шаги, «направленные на установление союза со шведским королём Карлом XII, «освобождение Малороссии от московской власти» и создание самостоятельного украинского государства под верховенством Польши. В 1708 г. открыто перешёл на сторону Карла XII. После поражения шведов в Полтавской битве вместе с Карлом XII бежал в Бендеры, где вскоре умер.
4
По договору, заключённому 27 января 1918 г. в Брест-Литовске между Центральной радой Украинской народной республики и странами Четверного союза, первая обязывалась до 31 июля поставить Германии и Австро-Венгрии 60 млн пудов хлеба, 3 млн пудов живого веса рогатого скота и другое продовольствие.
5
Вольтом в кавалерии называлось движение лошади по кругу направо или налево.
6
Официальное наименование части Польши, присоединённой к Российской империи на Венском конгрессе в 1815 г.
7
Палеонтология — наука, изучающая животный и растительный мир прошлых геологических периодов. Петрография — наука, изучающая горные породы земной коры.
8
В соответствии с Уставом о воинской повинности, разработанным при военном министре Д.А. Милютине и утверждённым Александром II в 1874 г., была введена всеобщая личная воинская повинность для мужчин в возрасте от 21 года до 43 лет. Срок службы составлял 18 лет: 5 — на действительной и 13 — в запасе. Студенты имели отсрочку до 27 лет. Выпускники высших учебных заведений, пожелавшие по собственной воле, без жребьёвки (число лиц призывного возраста значительно превышало число потребных армии и флоту, поэтому проводилась жребьёвка), пойти на военную службу, относились к вольноопределяющимся 1-го разряда, для которых был установлен льготный, сокращённый, срок службы: 1 год действительной и 12 лет в запасе.
9
При переводе офицера из гвардейской части в армейскую и наоборот чин переименовывался в соответствии с Табелью рангах.
10
До 1927 г. в России применялись старые русские меры длины: верста, сажень, аршин, вершок. 1 верста = 500 саженям, 1 сажень = 3 аршинам, 1 аршин = 16 вершкам. 1 верста = 1,06680 км, 1 сажень = 2,13360 м, 1 аршин = 0,711200 м, 1 вершок = 4,41500 см.
11
«Земгусарами» в насмешку называли служащих Всероссийского земского союза и Всероссийского городского союза, которые в годы войны носили полувоенную форму: защитные френчи, расшитые чёрными шнурами на груди, синие или чёрные бриджи, фуражки с чиновничьей или офицерской кокардой, гусарские погоны большого размера с вензелями «ВЗС» или «ВГС».
12
С 1907 по 1917 г. П.Н. Врангель с семьёй жил в многоквартирном офицерском корпусе л.-гв. Конного полка по адресу: ул. Ново-Исаакиевская, 26 (ныне — ул. Якубовича, 26).
13
Четверной союз — военно-политический блок, противостоящий в Первой мировой войне Антанте. В него входили Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария.
14
Околоточный надзиратель — низший чин городской полиции.
15
С января по август 1906 г. штабс-ротмистр П.Н. Врангель был прикомандирован к Северному отряду генерала Орлова, участвовавшему в подавлении крестьянских выступлений на территории Прибалтики.
16
В Германии в ландштурме числились все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, способные носить оружие и не состоящие в действующей армии, резерве или ландвере. В военное время они призывались и зачислялись в пехотные полки ландштурма.
17
В начале XX в. произошло сближение России с Францией и Великобританией, вызванное как общностью экономических интересов, так и обострением экономических и геополитических (на Балканах и Ближнем Востоке) противоречий России с Германией и её союзницей Австро-Венгрией. Эти факторы оказались сильнее того обстоятельства, что российской императорской власти и верхам бюрократии консервативная германская монархия политически и идеологически была много ближе, чем французская и английская демократии. В 1907 г. Россия присоединилась к Антанте (от фр. Entente — Согласие) — антигерманскому союзу Франции и Великобритании, созданному в 1904 г.
18
Кочубей Василий Леонтьевич (1640—1708) — генеральный писарь Малороссии, сподвижник гетмана Мазепы. Предпринял несколько попыток донести Петру I о намерениях Мазепы отделить Малороссию от России. Но Мазепа хитростью сумел сохранить доверие Петра I. Убеждённый в ложности доносов Кочубея, Пётр I приказал провести следствие. Под пытками Кочубей заявил, что доносы его — ложные, после чего он был обезглавлен.
19
От фр. convenances — условности, приличия.
20
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель, автор популярных исторических романов «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» и «Рославлев, или русские в 1812 году».
21
Драгомиров Абрам Михайлович (1868—1956) — из дворян Черниговской губернии, окончил Пажеский корпус в 1887 г. и Академию Генштаба в 1893 г. С началом Первой мировой войны был назначен начальником Сводной кавалерийской дивизии, с ноября 1914 г. командовал Сводным кавалерийским корпусом. За бои во время Галицийской битвы был награждён орденами Св. Георгия IV и III ст. С апреля 1915 г. — командир 9-го армейского корпуса, в августе 1916 г. был произведён в генералы от кавалерии и назначен командующим 5-й армией, с апреля по июнь 1917 г. — главнокомандующий армиями Северного фронта. С начала 1918 г., живя в Киеве, по заданию генерала М.В. Алексеева занимался вербовкой офицеров и отправкой их в Добровольческую армию. В августе 1918 г. прибыл на Дон и был назначен помощником «верховного руководителя» Добровольческой армии генерала М.В. Алексеева. С октября 1918 по сентябрь 1919 г. — председатель Особого совещания при главкоме Добровольческой армии и ВСЮР. С сентября по декабрь 1919 г. — главноначальствующий и командующий войсками Киевской области. В Русской армии генерала П.Н. Врангеля занимал должность генерала для поручений. В ноябре 1920 г. в составе Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию. В эмиграции жил сначала в Югославии, в 1931 г. переехал во Францию и поселился в Париже. С 1924 по 1939 г. — генерал для поручений при председателе РОВС.
22
На территории, занимаемой Добровольческой армией и Вооружёнными силами на юге России в 1918 — 1920 гг., действовал юлианский календарь (старый стиль). Разница между ним и григорианским календарём (новым стилем) в XX в. составляла 13 дней.
23
Бумажные денежные знаки достоинством 20 и 40 руб., выпущенные Временным правительством осенью 1917 г. и прозванные по имени его председателя А.Ф. Керенского.
24
По правилам железнодорожной сигнализации, действовавшим в России до и во время Гражданской войны, оптические сигналы (фонарь, диск, флаг) означали: красный — «Стой», зелёный — «Тише», белый — «Путь свободен».
25
Турлучные дома — построенные из переплетённого и замазанного глиной турлука (хвороста) и крытые соломой.
26
«Мартовским переворотом» сторонники свергнутой монархии называли события 2—3 марта 1917 г.: 2 марта в результате Февральской революции Временный комитет Государственной думы сформировал Временное правительство, а император Николай II подписал манифест об отречении от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, который 3 марта отказался от власти в пользу Временного правительства.
27
Апрелев Георгий (Юрий) Петрович (1889—1964) — окончил Пажеский корпус в 1908 г. и Николаевскую военную академию в 1913 г. Участвовал в Первой мировой войне в рядах л.-гв. Кирасирского полка, ротмистр. В декабре 1917 г. вступил в Добровольческую армию, участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе, был тяжело ранен. С августа 1918 г. в чине полковника служил в штабе Добровольческой армии. В 1919 г. командовал Сводно-Уланским полком, с января 1920 г. — 2-м Сводно-кавалерийским полком, в марте был эвакуирован на Балканы. В эмиграции жил в Югославии, на Дальнем Востоке и во Франции. Служил директором Кадетского корпуса в Версале.
28
Красная армия Северного Кавказа была сформирована большевиками в начале июля 1918 г. в Кубанской области и Ставропольской губернии из войск Кубано-Черноморской советской республики (бывшая Юго-Восточная революционная армия, созданная в начале 1918 г.). В неё вошли части 39-й пехотной дивизии, вернувшейся с Кавказского фронта, отряды местной Красной гвардии и моряков-черноморцев, полков и отрядов, сформированных из иногородних кубанских крестьян, прежде всего фронтовиков и молодёжи. С 3 августа по 3 октября 1918 г. ею командовал Сорокин Иван Лукич (1884—1918), казак станицы Петропавловской. Он окончил Кубанскую войсковую фельдшерскую школу, и участвовал в Первой мировой войне на Кавказском фронте в рядах 1-го Лабинского полка (в 1917 г. — есаул). После Февральской революции примкнул к партии эсеров, вернулся на Кубань и в начале 1918 г. организовал казачий революционный отряд. С февраля — помощник командующего Юго-Восточной революционной армией, с апреля — помощник главнокомандующего войсками Кубано-Черноморской советской республики, в июне—июле командовал Ростовским боевым участком.
29
Пластунские — пешие батальоны Кубанского казачьего войска. Название произошло от слова «пласт» (лежащий пластом человек). Первоначально в Черноморском казачьем войске пластунами называли разведчиков, занимавших в камышах и плавнях Кубани выдвинутую дальше сторожевых постов линию засад с целью предотвращения внезапного нападения горцев.
30
Эрдели Иван Георгиевич (1870—1939) окончил Николаевское кавалерийское училище в 1890 г. и Академию Генштаба в 1897 г. Участвовал в Первой мировой войне; с марта 1917 г. — командир 18-го армейского корпуса, с июня — командующий 11-й армией, был произведён в генералы от кавалерии, с июля — командующий Особой армией. За участие в выступлении генерала Л.Г. Корнилова был арестован и заключён в тюрьму в Быхове, в ноябре был освобождён и уехал на Дон, где принял участие в формировании Добровольческой армии. В 1-м Кубанском («Ледяном») походе командовал Отдельной конной бригадой, в июне — августе 1918 г. командовал 1-й конной дивизией, с апреля 1919 г. — главноначальствующий и командующий войсками Терско-Дагестанского края (Северного Кавказа). В ноябре 1920 г. в составе Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию. Жил в Париже.
31
Покровский Виктор Леонидович (1889—1922) окончил Павловское военное училище в 1909 г. В 1912 — 1913 гг. учился в Петербургском политехническом институте в классе авиации, в ноябре 1914 г. окончил Офицерскую воздухоплавательную школу в Севастополе. Участвовал в Первой мировой войне; в 1915 г. — лётчик 2-го Сибирского корпусного авиаотряда, с января 1916 г. — командир 12-го армейского авиаотряда. В 1918 г. в чине капитана сформировал на Кубани добровольческий отряд, действовавший против советских войск в районе Екатеринодара. 24 января был произведён войсковым атаманом Кубанского казачьего войска А.П. Филимоновым в полковники и назначен командующим войсками Кубанского края, в марте был произведён в генерал-майоры. С июня — командир Кубанской конной бригады, с августа — начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии, с января 1919 г. — командир 1-го конного корпуса, с февраля по август — командир 1-го Кубанского конного корпуса, был произведён в генерал-лейтенанты, с декабря 1919 г. по февраль 1920 г. — командующий Кавказской армией ВСЮР. В мае 1920 г., не получив командной должности в Русской армии генерала П.Н. Врангеля, эмигрировал. Жил в Париже, Берлине и Софии, активно боролся против демократических кругов казачьей эмиграции. Был убит 9 ноября 1922 г. в Болгарии при попытке полиции арестовать его.
32
Улагай Сергей Георгиевич (1875—1947) происходил из черкесского рода, породнившегося с кубанскими казаками.
Окончил Николаевское кавалерийское училище в 1897 г. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. В марте 1917 г. был произведён в полковники, в июне назначен командиром 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. После Октябрьского переворота уехал на Кубань, где организовал отряд из кубанских казаков. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе, командовал Кубанским пластунским батальоном, был тяжело ранен. В июле 1918 г., вернувшись в строй, принял командование 2-й Кубанской казачьей бригадой, затем переформировал её во 2-ю Кубанскую казачью дивизию, в ноябре был произведён в генерал-майоры. С марта по октябрь 1919 г. — командир 2-го Кубанского корпуса, в июне — августе командовал конной группой Кавказской армии под Царицыном, был произведён в генерал-лейтенанты. В январе 1920 г. принял командование полуразложившейся Кубанской армией и отступил с ней вдоль Черноморского побережья на Туапсе, в марте был перевезён в Крым. В августе 1920 г. руководил десантной операцией частей Русской армии из Крыма на Кубань, после неудачи которой, в сентябре, вышел в отставку. В эмиграции жил сначала в Югославии, затем переехал во Францию. На жизнь зарабатывал тем, что создал из казаков цирковую труппу, с которой гастролировал по Европе и Америке. Умер в Марселе.
33
Филимонов Александр Петрович (1866— 1948) — казак станицы Григорополисской, окончил 3-е военное Александровское училище в 1886 г. и Александровскую военно-юридическую академию в 1907 г. Служа по военно-судебному ведомству, занимал различные должности в Московском и Одесском военно-окружных судах, с августа 1908 г. — помощник военного прокурора Кубанского казачьего войска, с июля 1911 г. — атаман Лабинского отдела. В апреле 1917 г. вошёл от Лабинского отдела в кубанское правительство и был избран его председателем, 12 октября был избран войсковым атаманом Кубанского казачьего войска. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе. В ноябре 1918 г. был произведён в генерал-майоры, в 1919 г. — в генерал-лейтенанты. Из-за разногласий с генералом А.И. Деникиным по поводу политики главного командования в «кубанском вопросе» 10 (23) ноября 1919 г. был вынужден сложить с себя полномочия. В начале 1920 г. выехал за границу. В эмиграции жил в Югославии.
34
С петровских времён до 1917 г. чинопроизводство (система повышения офицеров по служебной лестнице) в гвардии как элите вооружённых сил России отличалось от остальных частей и военных учреждений, включая Генеральный штаб. Среди прочего эта система отличалась ускоренным производством в следующий чин, в том числе и за счёт того, что в гвардии отсутствовал чин подполковника и капитан (в кавалерии — ротмистр) производился сразу в чин полковника.
35
Кубанское казачье войско, образованное в 1860 г., исторически сложилось из двух частей: «линейных» и «черноморских» казаков. «Линейцы» — великороссы, потомки донских казаков, переселённых в последней четверти XVIII в. в районы верхнего и среднего течения Кубани по Кавказской линии. Они населяли менее зажиточные восточные отделы области (отдел — административно-территориальная единица Кубанской и Терской казачьих областей) — Кавказский, Лабинский и Баталпашинский. «Черноморцы» — малороссы, потомки запорожцев, переселённых в 90-е гг. XVIII в. в районы нижнего течения Кубани и Черноморского побережья по Черноморской кордонной линии. Они населяли более зажиточные западные отделы области — Ейский, Екатеринодарский и Темрюкский. В соответствии с социальным и национальным составом казачьего населения области Кубанская краевая рада делилась на две политические группы: «линейцев» — сторонников союза с Добровольческой армией и восстановления «единой и неделимой» России и «черноморцев» — сторонников «самостийной» (автономной) Кубани, считавших, что Кубанский край должен быть либо частью самостоятельного казачьего государственного образования на юго-востоке России, либо войти в будущую, «освобождённую от большевиков», Россию на федеративных началах.
36
Быч Лука Лаврентьевич (1870—1945) — казак станицы Павловской, окончил Юридический факультет Московского университета, с 1900 г. служил в Восточном обществе транспорта по Волге и Каспийскому морю, занимал пост директора Бакинского отделения, в 1912 г. был избран бакинским городским головой. После Февральской революции был назначен Временным правительством начальником снабжения Кавказской армии. После Октябрьского переворота вернулся на Кубань и в ноябре 1917 г. был избран первым председателем кубанского краевого правительства. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе. Возглавлял «черноморскую» политическую группу. В ноябре 1918 г. оставил свой пост из-за разногласий с командованием Добровольческой армии. В начале 1919 г., избранный Кубанской краевой радой главой кубанской делегации на мирной конференции, выехал в Париж. В Россию не вернулся. С 1922 г. жил в Чехословакии, преподавал в эмигрантской Украинской сельскохозяйственной академии, занимал пост её ректора.
37
«Момент» — полупрезрительное прозвище, данное армейскими офицерами в адрес офицеров Генштаба с намёком на то, что они лишь ловят удобный момент для собственного чинопроизводства или награждения.
38
Науменко Вячеслав Григорьевич (1883—1979) — казак станицы Петровской, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1903 г. и Николаевскую военную академию в 1914 г. Участвовал в Первой мировой войне, в 1917 г. — начальник штаба 4-й Кубанской казачьей дивизии. С ноября г. — начальник полевого штаба войск Кубанской области, участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе, в марте г. был произведён в полковники, с июня по ноябрь — командир Корниловского конного полка, в ноябре был произведён в генерал-майоры. С февраля 1919 г. — походный атаман Кубанского казачьего войска, с ноября 1919 г. по февраль г. — командир 2-го Кубанского конного корпуса, в апреле 1920 г. с остатками Кубанской армии был перевезён из района Сочи в Крым. В Русской армии генерала П.Н. Врангеля командовал 1-й конной дивизией, с октября — конной группой. В ноябре в составе Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию, где был избран Кубанским атаманом. Участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии; занимал должность начальника Главного управления казачьих войск. После войны переехал из Германии в США, занимал пост Кубанского атамана до 1958 г. Умер в Нью-Йорке.
39
В русской регулярной кавалерии и казачьей коннице в соответствии со Строевым кавалерийским уставом 1912 г. употреблялись следующие аллюры (разные виды движения верховой лошади с различной скоростью): шаг (верста за 10 — 12 минут), рысь (верста за 5 минут), галоп (верста за 3,75 минуты), полевой галоп (верста за 2,5 минуты) и карьер — ускоренный до сильной степени галоп, когда лошадь движется в полный мах (до версты за первую минуту движения). Переменным аллюром называлось комбинированное движение: 5 минут шагом, 10 минут рысью. В казачьих войсках юга России галоп назывался намётом (волчьим намётом), полевой галоп — широким намётом.
40
Жарков Евгений Павлович (?—1919) — кубанский казак, окончил Николаевское кавалерийское училище, участвовал в Первой мировой войне, в 1917 г. — войсковой старшина 2-го Уманского полка. В Добровольческой армии командовал 1-м Уманским полком, был произведён в полковники. Умер в марте 1919 г.
41
Правильно: чувяки (казаки-черноморцы произносили «чувяки», казаки-линейцы — «чевяки»). Чувяки — мягкие выворотные полуботинки из козлиной кожи, которые носили на Северном Кавказе горцы и горские казаки. Чувяки надевали поверх ноговиц, которые прикрывали голень наподобие гетр, охватывая ступню перемычкой-петлёй. Ноговицы шились из сукна или кожи, часто украшались тонкими полосками шитья (золотистого и т.д.). В дождь и грязь на чувяки надевались галоши.
42
Муравьёв Всеволод Вениаминович (?—1924) — кубанский казак, окончил Николаевское кавалерийское училище, участвовал в Первой мировой войне в рядах 2-го Полтавского полка, войсковой старшина. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе в рядах 1-го конного полка. С августа 1918 г. — командир 1-го Екатеринодарского полка, с марта 1919 г. — командир 1-й бригады 1-й конной дивизии, был произведён в полковники, с октября командовал 1-й конной дивизией, в декабре был произведён в генерал-майоры. С января по май 1920 г. командовал 1-й Кавказской казачьей дивизией, летом переправился из Крыма на Кубань для организации восстания против Советской власти, осенью командовал отрядом в повстанческой Армии освобождения России генерала М.А. Фостикова, действовавшей на Кубани. В её рядах отступил в Грузию. В эмиграции жил в Болгарии. Был убит в Варне.
43
Ремонт (ремонтирование) — установленный законами способ комплектования конского состава войсковых частей путём покупки лошадей у населения по рыночной цене. Из расчёта 10-летнего срока службы лошади в мирное время каждый кавалерийский полк русской армии ежегодно получал 10% штатного количества лошадей.
44
Околоток (околодок) — санитарная часть полка, где перевязывались и лечились легкораненые и больные, которых не отправляли в лазарет, но от службы освобождали.
45
Летучие санитарные отряды (в просторечье называемые «летучками») в годы Первой мировой войны создавались на фронте Российским обществом Красного Креста и другими общественными организациями с целью содействия учреждениям военно-санитарного ведомства в оказании первой медицинской помощи раненым и больным.
46
От фр. ramolli — человек, старчески расслабленный и близкий к слабоумию.
47
Топорков Сергей Михайлович (1881—1931) — казак станицы Акинтиевской Забайкальского казачьего войска. Участвовал в Русско-японской войне, за боевые заслуги был произведён в офицеры. Участвовал в Первой мировой войне в рядах Татарского конного полка, командовал Чеченским и Татарским конными полками Кавказской туземной конной дивизии (в просторечье именовалась «Дикой»), в сентябре 1917 г. был произведён в полковники, С июля 1918 г. — командир 1-го Запорожского полка, с августа командовал 2-й бригадой 1-й конной дивизии, в декабре был произведён генерал-майоры. С апреля 1919 г. — начальник 1-й Терской казачьей дивизии, в мае был произведён в генерал-лейтенанты, с июля — командир 4-го конного корпуса, в декабре 1919 г. — январе 1920 г. командовал резервом главкома ВСЮР, выбыл из строя по ранению. В 1920 г. эмигрировал, жил в Белграде, с 1923 г. — член кубанского правительства, затем — помощник Кубанского атамана. Умер в Белграде.
48
Острога (укр.) — шпора.
49
Тренчик — ремень для закрепления концов скатанной шинели.
50
Генерал-лейтенант Боровский Александр Александрович (1875—1938) вступил в Добровольческую армию в ноябре 1917 г., участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе, с июня 1918 г. — начальник 2-й дивизии, с ноября — командир Крымско-Азовского корпуса, с января по май 1919 г. — командующий Крымско-Азовской Добровольческой армией.
51
Котильон — французский танец, в конце XIX — начале XX в. состоявший из кадрили, между фигурами которой вставлялись другие танцы (мазурка, вальс, полька) и игры. По ходу его между танцующими и играющими передавались записки — «амурная почта».
52
Матвеев Иван Иванович (1890—1918) — матрос Черноморского флота, участвовал в Первой мировой войне, член партии большевиков с февраля 1917 г., с января 1918 г. командовал отрядом моряков, с которым участвовал в боях против немцев и австрияков под Николаевом и Херсоном, с мая — командир 4-го Днепровского пехотного полка, с которым был переброшен в район Анапы для обороны черноморского побережья. 27 августа в Геленджике на военном совете был избран командующим Таманской армией. 8 октября был расстрелян по приказу И.Л. Сорокина за отказ выполнить директиву об отводе армии в район Невиномысской.
53
Ковтюх Епифан Иович (1890—1938) — из семьи батрака, участвовал в Первой мировой войне, в 1916 г. окончил школу прапорщиков, в 1917 г. был произведён в штабс-капитаны, член партии большевиков с 1918 г. В июле — августе 1918 г. руководил обороной Екатеринодара от Добровольческой армии, затем командовал 1-й колонной Красной армии Северного Кавказа, в октябре — декабре командовал Таманской армией. С октября 1919 г. — начальник 48-й Таманской стрелковой дивизии, затем — 50-й Таманской стрелковой дивизии. В августе — сентябре 1920 г. — начальник гарнизона Екатеринодара.
54
«Испанка» — название гриппа (или инфлуэнции, как преимущественно именовали эту болезнь в России в конце XIX — начале XX в.), пандемия которого в 1918 — 1919 гг. охватила весь мир.
55
С лета 1918 г. Ростовская экспедиция заготовления государственных бумаг печатала денежные знаки Всевеликого войска Донского. На знаках 100-рублёвого достоинства был изображён памятник Ермаку в Новочеркасске, почему их так и прозвали.
56
Дачка — сукно для черкесок, производившееся станичными мастерскими.
57
Уносом в артиллерийских частях русской армии называлась пара лошадей, запряжённая в орудие или повозку с огнеприпасами. Обычно запрягались три, реже два, уноса в одно орудие. Левая лошадь в уносе запрягалась в хомут и седлалась (на ней ехал ездовой), правая лошадь — нет.
58
Батовка — принятый у казаков способ связывать верховых лошадей, оставляемых в поле или позади цепей во время пешего боя, таким образом, чтобы они удерживали друг друга: лошади ставились в ряд, через одну головами в противоположные стороны, и повод каждой привязывался к пахве соседней.
59
Безладнов Владимир Арсеньевич (?—1920) родился в Екатеринодаре, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1912 г. Участвовал в Первой мировой войне; в июле 1917 г. служил во 2-м Екатеринодарском полку Кубанского казачьего войска, подъесаул. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе. Летом 1918 г. — командир сотни Корниловского конного полка, в сентябре — октябре временно командовал полком. В 1919 г. был произведён в войсковые старшины, в конце 1919 — начале 1920 г. — командир Корниловского конного полка. В марте 1920 г. при капитуляции Кубанской армии на черноморской побережье сдался в плен красным. В августе 1920 г., во время десантной операции Русской армии на Кубань, был расстрелян вместе с другими офицерами Кубанского казачьего войска, сдавшимися в плен.
60
В марте 1918 г. на территории Терской области была образована Терская советская республика (центр — Владикавказ). Её Совнарком, в который вошли большевики, меньшевики-интернационалисты и левые эсеры, проводил в жизнь декреты центральной Советской власти: отменил частную собственность на землю, леса и недра, приступил к передаче земли «нетрудового пользования» крестьянской бедноте и горцам, национализировал промышленные предприятия. Большинство терских казаков вместе с зажиточными иногородними крестьянами выступило против земельной реформы. Весной в станицах шла активная подготовка вооружённого восстания и продолжались стычки казаков с горцами. Разоружение властями нескольких станиц Пятигорского отдела привело в начале июня к вспышке казачьих восстаний и налётам казачьих отрядов на города. В течение июля — августа антибольшевистское повстанческое движение охватило всю Терскую область. Большевики вели активную пропагандистскую работу, не без успеха раскалывая казачество на богатых и бедноту, а войска Терской советской республики, в состав которых помимо частей из красногвардейцев и рабочих входили отряды казаков, чеченцев и ингушей, беспощадно подавляли сопротивление повстанцев.
61
26 сентября войска Антанты перешли в генеральное наступление, нанеся удар между Реймсом и Верденом. 27-го они прорвали германскую оборонительную линию у Сенн-Кантона и Камбре, а 28-го — во Фландрии.
62
Бунт — укладка продовольственных продуктов (кулей с зерном, мукой и т.п.) на открытом воздухе, применявшийся в русской армии: на платформу из брёвен или брусьев клали доски, и уложенные на них кули сверху и с боков прикрывали брезентом или рогожами.
63
Елисеев Фёдор Иванович (1892—1987) — казак станицы Кавказской, окончил Оренбургское казачье училище в 1913 г., участвовал в Первой мировой войне в рядах 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего войска, был произведён в подъесаулы. В марте 1918 г. стал одним из организаторов антибольшевистского восстания казаков в Кавказском отделе. С сентября 1918 по май 1919 г. служил в Корниловском конном полку: командиром сотни, полковым адъютантом, помощником командира. Затем командовал Корниловским конным и 1-м Лабинским полками. Зимой 1919—весной 1920 г. при отступлении Кубанской армии в район Сочи командовал 2-й Кубанской казачьей дивизией. После капитуляции содержался в лагерях и тюрьмах, бежал из екатеринбургской тюрьмы в Олонецкую губернию и летом 1921 г. перешёл границу с Финляндией. В 1920 — 1930-х гг. как участник и руководитель ездил с группой казаков по странам Европы и Азии, где демонстрировал джигитовку. Участвовал во Второй мировой войне, воюя в рядах Французского Иностранного легиона против японской армии в Индокитае. Перед войной закончил писать свой труд (5 тысяч страниц) по истории полков Кубанского казачьего войска с начала XX в. до окончания Гражданской войны, представляющий собой отчасти научное исследование, отчасти воспоминания, отчасти художественную прозу. Переехав в 1946 г. в США, выпустил на ротаторе более 90 брошюр, рассылая их по подписке, а старикам, живущим в богадельнях, — бесплатно.
64
Мурзаев Александр Константинович (?—1918) — казак станицы Ярославской, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1910 г. Участвовал в Первой мировой войне; служил в 1-м Линейном генерала Вельяминова полку Кубанского казачьего войска, в 1917 г. — войсковой старшина, был награждён Георгиевским оружием. Участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе в рядах Кубанского пластунского батальона. С лета 1918 г. командовал 1-м Линейным полком, осенью командовал 3-й бригадой 1-й конной дивизии.
65
Каганец — самодельное подобие лампадки или ночника: черепок, наполненный деревянным маслом, с тряпочкой, скрученной в фитиль.
66
Бабиев Николай Гаврилович (1887—1920) — казак станицы Михайловской, окончил Николаевское кавалерийское училище в 1908 г. Участвовал в Первой мировой войне; в 1917 г. — войсковой старшина (подполковник), командир 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска. С марта 1918 г. служил в войсках Кубанского края и в Добровольческой армии, в сентябре был произведён в полковники, с октября — командир Корниловского конного полка, в январе 1919 г. был произведён в генерал-майоры, с января по май — начальник 3-й Кубанской дивизии, в июне был произведён в генерал-лейтенанты, с августа — командующий конной группой Кавказской армии. В апреле 1920 г. с остатками Кубанской армии был эвакуирован из района Сочи в Крым и назначен начальником Кубанской казачьей дивизии, в июле — августе командовал Конным корпусом, затем своей дивизией, с октября — конной группой в составе Кубанской казачьей дивизии, 1-й конной дивизии и Терско-Астраханской бригады. 30 сентября (13 октября) погиб в бою против 2-й Конной армии Ф.К. Миронова у с. Шолохово (Северная Таврия).
67
Золотистые нашивки внизу рукава означали полученное в бою тяжёлое ранение.
68
Производства табачной фабрики В.И. Асмолова в Ростове-на-Дону.
69
Шульцем в немецких колониях назывался староста.
70
Равентух — толстая льняная ткань, род парусины.
71
Слова «цук» и «цукать» (от нем. zuck — понукание к движению), широко применявшиеся в военной среде, означали: замечание, делать замечание, поторапливать, подгонять.
72
С началом Первой мировой войны Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов, объединявшие органы земского и городского самоуправлений, взялись за санитарное и медицинское обслуживание армии, её снабжение продовольствием и предметами снаряжения, размещением беженцев и т.д. Поскольку функции двух союзов совпадали, в июле 1915 г. для координации их работы был создан центральный объединённый орган — Главный комитет по снабжению армии, получивший название «Земгор». На местах были созданы подчинённые ему губернские, уездные и городские комитеты.
73
Центральный и местные Военно-промышленные комитеты были созданы в мае — июне 1915 г. по инициативе торгово-промышленных кругов. Они занимались распределением военных заказов, снабжением предприятий, «работающих на оборону», топливом и сырьём, поставками в армию предметов снаряжения и довольствия.
74
Рябовол Николай Степанович (1881?—1919) — казак станицы Динской, учился в Киевском политехническом институте, затем служил в акционерном обществе Кубано-Черноморской железной дороги, в 1913 г. или в начале 1914 г. был избран председателем правления дороги. Участвовал в Первой мировой войне: был мобилизован и служил в инженерных войсках. С октября 1917 г. — председатель Кубанской законодательной рады, являлся одним из лидеров «черноморцев». Во время работы Южно-Русской конференции 14 (27) июня г. в 2 часа 30 минут ночи был убит неустановленными лицами в военной форме в вестибюле гостиницы «Палас-отель» в Ростове-на-Дону.
75
Тимашевским пехотным полком осенью 1918 г. командовал Ковалев Михаил Прокофьевич (1897—1967) — уроженец станицы Брюховецкой, участвовал в Первой мировой войне, окончил школу прапорщиков, в 1917 г. — штабс-капитан. В начале 1918 г. вступил в Красную армию, командовал Тимашевским партизанским отрядом, затем полком, бригадой и дивизией.
76
Павличенко Иван Диомидович (1889—1961) — казак станицы Шкуринской. Службу начал казаком в 1-м Запорожском полку. Участвовал в Первой мировой войне; в 1915 г. окончил 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков, в 1917 г. — сотник 1-го Запорожского полка. В Добровольческую армию вступил в июне 1918 г., перейдя от красных вместе с полком, в ноябре был произведён в есаулы. С января 1919 г. — командир 1-го Запорожского полка, был произведён в полковники, в июле был произведён в генерал-майоры, с октября командовал 2-й бригадой 1-й конной дивизии. В марте 1920 г. был эвакуирован, жил в Сербии, в августе вернулся в Крым и был назначен начальником 3-й Кубанской казачьей дивизии. В ноябре г. в составе Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию. В эмиграции жил в Югославии, в 1945 г. переехал в Бразилию.
77
Презрительное прозвище «картузники» кубанские казаки дали жившим с ними в станицах иногородним крестьянам, которые всю жизнь носили чёрную куртку, чёрные штаны, вобранные в сапоги, атласную рубашку, подпоясанную шнуром с бахромой, а на голове — чёрный картуз (род невысокой суконной шапки с лакированным козырьком).
78
Заводными в кавалерии назывались лошади, состоявшие в запасе при казачьих полках для замены усталых и больных, а также для немедленного восполнения убыли конского состава.
79
Известные на всю Россию сёдла, произведённые в мастерской кубанского мастера Калаушина.
80
10 ноября Л.Л. Быч выступил в Краевой раде с докладом о политике кубанского правительства. Он убеждал депутатов, что в условиях начавшейся большевистской анархии распад России был неизбежен, а создание на её территории самостоятельных государственных образований — Кубани, Дона, Украины, Грузии и других — стало актом самосохранения, единственно верным шагом. И предложил пойти дальше: заключить между ними союз для борьбы с большевиками. Для начала — между Кубанью и Украиной. В качестве высшего органа власти избрать коллективный Верховный совет, создать единое верховное командование и образовать общий фронт. При этом каждый член союза формирует собственную армию, выделяя часть её в подчинение верховному командованию, а именно А.И. Деникину. После победы над большевиками воссоздание России, по его убеждению, возможно будет только в форме Всероссийской федерации, куда Кубанский край войдёт как её полноправный член. А форму правления — республика или монархия — народ изберёт сам: на Учредительном собрании нового созыва, без большевиков.
81
Букретов Николай Адрианович (1876—после 1922) — из горских грузинских евреев-кантонистов, окончил военно-училищные курсы Московского пехотного юнкерского училища в 1895 г. и Академию Генштаба в 1903 г. Был приписан к Кубанскому казачьему войску. С апреля 1912 г. — старший адъютант штаба Кавказского военного округа. Участвовал в Первой мировой войне: с октября 1915 г. — командир 90-го пехотного Онежского полка, в декабре был произведён в генерал-майоры, с июля 1916 г. — начальник 2-й Кубанской пластунской бригады. В январе 1918 г. командовал войсками Кубанского края, в марте — июле руководил подпольной антибольшевистской организацией в Екатеринодаре. Входил в «черноморскую» группу. В Добровольческой армии и ВСЮР командной должности не получил. В декабре 1919 г. был избран Кубанской радой войсковым атаманом Кубанского казачьего войска, был произведён в генерал-лейтенанты. В апреле 1920 г. вступил в командование Кубанской армией, отступившей в район Сочи. После её капитуляции сложил с себя полномочия и уехал в Грузию.
82
Генерал-лейтенант Лукомский Александр Сергеевич (1968—1939) вступил в Добровольческую армию в ноябре 1917 г., с августа 1918 г. — 3-й заместитель председателя Особого совещания и помощник командующего Добровольческой армией, с октября 1918 г.— начальник Военного управления при главнокомандующем Добровольческой армией (ВСЮР), с октября по декабрь — председатель Особого совещания при главкоме ВСЮР, с декабря 1919 по феврале 1920 г. — председатель Правительства при главкоме ВСЮР, с апреля по ноябрь 1920 г. — военный представитель главкома ВСЮР при союзном командовании в Константинополе.
83
От лат. odium — здесь: невыносимость.
84
По конституции, принятой Кубанской краевой радой 5(18) ноября 1918 г., власть концентрировалась в руках не атамана, а Законодательной рады: именно ей надлежало принимать законы в перерывах между сессиями Краевой рады, перед ней же, а не перед войсковым атаманом, было ответственно правительство.
85
Российское транспортное и страховое общество (Ространс), созданное в 1844 г., осуществляло перевозки почты, пассажиров и грузов между всеми русскими портами Чёрного моря.
86
Ляхов Владимир Платонович (1869—1920) окончил Александровское военное училище в 1889 г. и Академию Генштаба в 1896 г. Участвовал в Первой мировой войне;.в 1917 г. — командир 1-го Кавказского армейского корпуса, генерал-лейтенант. С ноября 1918 г. — командир 3-го армейского корпуса Добровольческой армии, с января по апрель 1919 г. — главноначальствующий и командующий войсками Терско-Дагестанского края. Был убит в апреле 1920 г. в Батуме.
87
Шатилов Павел Николаевич (1881—1962) окончил Пажеский корпус в 1900 г. и Академию Генштаба в 1908 г. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах; с декабря 1916 г. — командир 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска, с июля 1917 г. — генерал-квартирмейстер штаба Кавказского фронта, был произведён в генерал-майоры. За поддержку генерала Л.Г. Корнилова был арестован, содержался в Тифлисской тюрьме, по освобождению из которой в декабре 1918 г. вступил в Добровольческую армию. С января 1919 г. командовал 1-й конной дивизией, в мае был произведён в генерал-лейтенанты и назначен командиром 3-го (4-го) конного корпуса, с июня — начальник штаба Кавказской армии, в ноябре — декабре занимал должность начальника штаба Добровольческой армии. 8 марта (24 апреля) 1920 г. был назначен генералом П.Н. Врангелем помощником главкома ВСЮР, с июня — начальник штаба главкома Русской армии, в ноябре был произведён в генералы от кавалерии. В эмиграции жил в Константинополе, затем в Париже, с 1924 по 1937 г. — начальник 1-го отдела РОВС.
88
Денисов Святослав Варламович (1878—1957) — казак станицы Луганской Области войска Донского, окончил Михайловское артиллерийское училище в 1898 г. и Академию Генштаба в 1908 г. Участвовал в Первой мировой войне; в 1917 г. — командир 11-го Донского казачьего полка, полковник. В апреле 1918 г. стал одним из организаторов восстания донских казаков, командовал Заплавской, потом Южной группами донских ополчений, был произведён в генерал-майоры. С мая 1918 г. — командующий Донской армией и управляющий Военным и морским отделом Всевеликого войска Донского, в феврале 1919 г. был снят с должности Большим войсковым кругом. В эмиграции жил в Константинополе, Германии и США.
89
Генерал-лейтенант Мамантов (Мамонтов) Константин Константинович (1869—1920) с мая 1918 по февраль 1919 г. командовал Восточным (Царицынским) фронтом Донской армии.
90
Май-Маевский Владимир Зенонович (1867—1920) окончил Николаевское инженерное училище в 1888 г. и Академию Генштаба в 1896 г. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах; с июля по декабрь 1917 г. — командир 1-го гвардейского корпуса, генерал-майор. В 1918 г. вступил в Добровольческую армию, с декабря — начальник 3-й пехотной дивизии, с февраля 1919 г. — командир 2-го армейского корпуса, в марте был произведён в генерал-лейтенанты, с мая по декабрь — командующий Добровольческой армией, главноначальствующий Екатеринославской и Харьковской губерний. С апреля 1920 г. состоял в резерве чинов при Военном управлении ВСЮР, в Русской армии генерала П.Н. Врангеля командной должности не получил. Умер в Севастополе во время эвакуации.
91
Юзефович Яков Давыдович (1872—1929) окончил Михайловское артиллерийское училище в 1893 г. и Академию Генштаба в 1899 г. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах; летом — осенью 1917 г. командовал 26-м армейским корпусом, был произведён в генерал-лейтенанты. С января 1919 г. начальник штаба Кавказской Добровольческой армии, с мая — начальник штаба Кавказской армии, с июля по декабрь 1919 г. — командир 5-го кавалерийского корпуса. С апреля 1920 г. руководил строительством укреплений в Северной Таврии и на Перекопе, с июня — генерал-инспектор конницы Русской армии, в сентябре был назначен начальником формирования 3-й Русской армии в Польше и выехал из Крыма в Европу. С 1921 г..жил в Эстонии.
92
В применявшихся в России в конце XIX — начале XX в. медицинских термометрах небольшой столбик ртути (верхний) отделялся воздушным пузырьком от её основной массы (нижнего столбика) для сохранения максимального показания при понижении температуры (отсюда их название — «максимальные»).
93
Левандовский Михаил Карлович (1890— 1937) — офицер русской армии, участвовал в Первой мировой войне, в 1917 г. штабс-капитан, в 1918—1920 гг. входил в партию эсеров-максималистов, в феврале 1918 г. вступил в Красную армию, с августа — народный комиссар по военным делам Терской советской республики, командовал Владикавказско-Грозненской группой войск, в январе — феврале 1919 г. командовал 11-й армией. Далее в 1919 — 1921 гг. командовал дивизиями, армиями и группами войск Красной армии на Кавказе.
94
Орджоникидзе Георгий Константинович (1886—1937), член партии большевиков с 1903 г., с апреля по декабрь 1918 г. являлся Временным чрезвычайным комиссаром юга России, с декабря 1918 по июнь 1919 г. — председатель Совета обороны Северного Кавказа.
95
Мюрат Иоахим (1771—1815) — король Неаполитанский, маршал Франции, командовал конницей в армии Наполеона, участвовал во всех крупных битвах. Наполеон отзывался о нём: «Нет на свете генерала, более способного к командованию кавалерией, чем Мюрат».
96
В конце XIX — начале XX в. в России широко употреблялись спиртовые термометры французского физика Р. Реомюра (не совсем точные) со шкалой, разделённой на 80° (1°R = 1,25°С).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

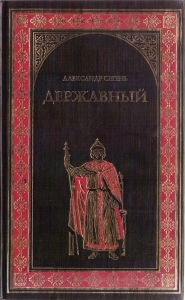


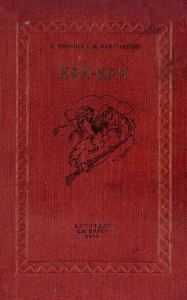

Комментарии к книге «Врангель. Последний главком», Сергей Владимирович Карпенко
Всего 0 комментариев