Сергей Плохий Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России
От автора
Распад Советского Союза в 1991 году продемонстрировал всему миру, что СССР и Россия — это вовсе не одно и то же, хотя, используя эти названия как синонимы, западная пресса десятилетиями приучала читателей к обратному. Политические события на постсоветском пространстве показали, что отождествлять СССР с Россией было неправильно не только в отношении неславянских республик бывшего Союза, но и относительно украинцев и белорусов, ближайших восточнославянских родственников россиян. Все три новых независимых государства проявили свой характер по-разному и выбрали собственный путь непростых посткоммунистических преобразований. После длительного периода политической нестабильности и экономического хаоса Россия выбрала вариант сильного государства с явной склонностью к авторитаризму и взяла на себя роль региональной супердержавы. Беларусь, пережив короткий период демократического развития, остановилась на пути реформирования политической и экономической системы и начала практиковать неосоветскую идеологию и жесткий авторитаризм с элементами культа личности. Украина, страна, наиболее демократическая из всех восточнославянских государств, после долгого колебания между Востоком и Западом взяла курс на Европу. Аннексия Россией Крыма и развязанная ею война в Донбассе перечеркнули формировавшийся десятилетиями, если не столетиями, миф о двух братских народах.
Советские историки часто писали о Киевской Руси как о колыбели трех братских народов. Следуя этой логике, восточные славяне, подобно строителям Вавилонской башни, первоначально составляли одну древнерусскую народность, которая говорила на одном языке. И только вследствие монгольского нашествия этот древнерусский народ разделился, а его развитие пошло разными путями, что в конце концов и привело к формированию трех современных наций. Российские имперские историки, а вслед за ними и часть современных российских политиков, придерживались и придерживаются иной точки зрения: история Киевской Руси принадлежит единой неделимой российской нации, а украинцы и белорусы — ее подгруппы, их культура — варианты российской культуры, а языки — диалекты русского языка, а не отдельные языковые и культурные феномены. Украинская национальная историография, наоборот, рассматривает Киевскую Русь как изначально украинское государство и утверждает, что различия между россиянами и украинцами, и довольно существенные, были заметны еще в те времена. Этот взгляд имеет определенную поддержку среди белорусских историков, которые ищут истоки своей нации в истории средневекового Полоцкого княжества. Кто же из историков прав? Где находятся истоки трех современных восточнославянских наций? Именно эти вопросы я ставил перед собой, исследуя происхождение современных Украины и России[1].
В этой книге я исхожу из того, что киеворусский проект создания одной идентичности все-таки оказал глубокое влияние на будущие идентичности всех этнических групп в составе киевской державы. Я рассматриваю восточных славян послекиевского периода как многочисленную группу личностных сообществ, которые имели и развивали собственные идентичности. Количество домодерных восточнославянских сообществ, возникших на руинах киевской державы, менее семидесяти двух — числа народов, на которые Господь разделил человечество, дав дерзким зодчим Вавилонской башни разные языки. Но явно больше количества народностей или этносов, насчитанных как поборниками существования одной древнерусской народности, так и теми, кто заявляет, что три отдельных восточнославянских народа существовали с самого начала. Подход, который я использую в исследовании исторических корней современных украинцев и россиян, основывается на идентификации и реконструкции утраченных структур групповой идентичности. Меня особенно интересуют те типы идентичностей, которые можно интерпретировать как более-менее далеких предшественников модерных идентичностей современных наций. Я исхожу из предположения, что не существует этноса или народа без личностной идентичности; найти корни такой идентичности означает, по сути, показать корни самого́ народа и нации.
Эта книга является частью более обширной работы, которая впервые вышла на английском языке, а затем — в переводе на белорусский и украинский языки, и охватывает период от принятия христианства в Киевской Руси до середины XVIII века, когда на сознание восточнославянских элит начали влиять идеи модерного национализма. В данное издание включены главы, охватывающие период ХVІІ и первую половину XVIII веков. Идея написания этой книги возникла вследствие разочарования тем, как домодерную историю восточных славян рассматривают в современной исторической литературе. В университетских учебниках и массовой литературе по этой тематике до сих пор преобладают концепции, сформированные на рубеже ХIХ-ХХ веков и связанные с «примордиалистскими» попытками найти современную нацию далеко в прошлом. Моя книга ставит под сомнение попытки «национализировать» восточнославянскую историю от имени современных наций и показывает развитие домодерных идентичностей, которое выходит за пределы привычной восточнославянской триады.
В этой книге я нередко объединяю привычные для постсоветского читателя категории этноса, народа и нации и использую вместо них термин «этнонациональный». Я также разделяю нации на модерные и домодерные, употребляя понятие «домодерная нация» рядом с понятием «этнос» как одним из главных терминов своего исследования. Я использую этот термин для обозначения домодерных сообществ, которые приобрели многие (но не все) характеристики модерной нации. В разные времена нации очерчивали на основе культуры, языка, религии, территории и государственности, если ограничиться наиболее очевидными факторами[2]. Итак, определяя различие между домодерными сообществами и модерными нациями, я вместе с тем не уклоняюсь от употребления термина «нация», который встречается в некоторых раннемодерных источниках, когда я анализирую домодерную историю восточных славян. Достаточно последовательно я использую термин «нация», когда речь заходит о событиях начала ХVII века, и считаю, что русское и московское сообщества того времени — первые восточнославянские группы, которые приобрели характеристики домодерных наций. Они представляли собой тип сообщества, которое преимущественно ограничивалось только элитой, но уже выстроило идентичность, отдельную от концепции лояльности правителю или династии (или же параллельную ей).
Политические и церковные элиты, занимавшиеся проектами создания идентичности, оставили немало текстов, которые проливают свет на развитие этнонациональных идентичностей. Эффект этих проектов можно оценить благодаря влиянию, которое они оказали на идентичности сообществ. И здесь начинают возникать проблемы. Во многих случаях сложно оценить меру этого влияния из-за недостатка источников. Хотя я и старался обращать как можно больше внимания на проявления этнонациональной идентичности рядовых членов восточнославянских сообществ, книга часто сосредотачивается на элитах и попытках элит сконструировать и воплотить этнонациональные проекты.
Когда речь заходит об «идентичных текстах», продуцированных элитами, стоит напомнить, что политические и религиозные институты, с которыми эти элиты были тесно связаны, как правило, поддерживали идентичности, которые легитимизировали их существование и представляли их идеологии. Было бы ошибкой в этом отношении трактовать этнонациональные идентичности отдельно от политических, религиозных и прочих типов лояльностей, сконструированных и поддержанных раннемодерными институтами и сообществами. В этой книге речь идет главным образом об этнических и национальных идентичностях, но другим типам, а именно — религиозной, политической и социальной — также уделено внимание, как правило, в связи с формированием первых двух. Судя по всему, до конца XVIII века этнонациональные идентичности занимали второстепенное место в сравнении с другими типами идентичности и лояльности, такими как семейная, клановая, групповая, региональная, династическая и религиозная. Однако же это не означает, что к этому периоду этнонациональной идентичности не существовало или что она не влияла на формирование коллективного и индивидуального самосознания в домодерных обществах.
Из-за того, что в центре внимания этой книги оказываются архитекторы и творцы идентичности, главной аналитической категорией выступает «проект создания идентичности» (identity-building project). Анализируя восточнославянские идентичности, я показываю, как они конструировались посредством различных инициатив, в ходе которых возникали «резервуары» коллективной памяти, образов и символов. Первый такой пример — русский проект киевского периода, послуживший основой для большинства более поздних проектов, которые развивали восточнославянские элиты, в частности, это московский проект, с которым по другую сторону монгольской границы конкурировал русский проект украинских и белорусских элит. Во второй половине XVII века в Восточной Европе зародился проект создания модерной российской идентичности с открытой границей меж его имперским и национальным компонентами. Он приобрел вполне конкретные признаки в первые десятилетия ХVІІІ века, во времена Петровских реформ. Где-то в то же самое время происходило формирование украинской казацкой идентичности, которая легла в основу украинского модерного национального проекта. Русская идентичность, которая развивалась в Великом княжестве Литовском, заложила почву для белорусского национального проекта XIX века. В конце XVIII века из книжного церковно-славянского кокона вышли первые литературные произведения, написанные на языках, приближенных к современным русскому и украинскому.
Оговариваемые в этой книге исследовательские вопросы в большей мере порождены историографической традицией. Каждый очерк я начинаю, анализируя различные взгляды на тот или иной вопрос, а в выводах — резюмирую мое понимание историографических проблем, изложенных в начале. В историографической части особое внимание уделено взглядам российских и советских историков, которые до сих пор имеют значительное влияние на восточноевропейские и западные интерпретации истории региона. Я детально останавливаюсь на сильных и слабых сторонах каждой историографической концепции, но моя цель — не определять победителей в историографических дискуссиях, а выйти за границы национальной парадигмы, которая определяла направление историографических дебатов моих предшественников, и представить свежий взгляд на предмет. Определенный способ оценить адекватность историографической традиции — проверить ее предположения и выводы на основе источников, что и является главным элементом моего исследования. Поэтому читателя ждут обширные цитаты из многих исторических источников.
Затронутые в книге провокационные вопросы, — например, кто имеет бо́льшие права на киеворусское наследство, — специалистам могут показаться упрощением и анахронизмом. Но эти вопросы до сих пор не утратили актуальности, они фигурируют в публичных дискуссиях о домодерной истории восточных славян и зачастую помогают разобраться с «историографически корректными» вопросами, которыми и занимаются специалисты. Задолго до того, как я начал писать эту книгу, национальные историографические нарративы были поставлены под сомнение в специальных исследованиях отдельных периодов восточнославянской истории. Например, дискуссии о древнерусской народности укрепили концепцию одной русской народности, а исследования раннемодерных Беларуси и Украины поставили под сомнение существование отдельных украинской и белорусской народностей в XVI — начале XVII столетий. Но доныне не осуществлялась систематическая попытка переоценить целую историографический парадигму. Другая моя цель (притом рискованная) — предложить новую схему развития восточнославянских идентичностей и таким образом заложить основу для реконцептуализации домодерной истории России, Украины и Беларуси. Надеюсь, что обе эти попытки стимулировать новые исследования истории восточнославянских идентичностей и дадут в результате новую синтезу истории восточных славян.
И напоследок несколько слов об издании книги, которое вы держите в руках. В него были включены главы, касающиеся, в первую очередь, раннего модерна, где основное внимание уделено украинско-российским отношениям. Хотя история белорусских идентичностей представлена здесь почти исключительно в контексте формирования протоукраинских и протороссийских национальных итдентичностей, вступление и выводы к данной книге дают широкое представление о роли белорусской составляющей в истории нациесозидания восточных славян.
Было ли «воссоединение»?
Немногие события в раннемодерной истории восточных славян привлекали столько внимания или вызывали столь острые дискуссии, как Переяславский договор, заключенный в январе 1654 года между украинским гетманом Богданом Хмельницким и московскими боярами. Когда президент Украины Леонид Кучма, старательно пытаясь угодить своему российскому коллеге Владимиру Путину, подписал в марте 2002 года указ о праздновании 350-летия Переяславской рады, которая с украинской стороны подтвердила достигнутые договоренности, оппозиция немедленно обвинила президента в раболепии перед Россией. Указ повлек за собой ожесточенную дискуссию в научных кругах и медийном пространстве. В январе 2004 года украинским властям пришлось сократить масштабы торжества, к большому сожалению российской делегации, которую возглавлял президент Владимир Путин, прибывший в Киев на празднование «года России в Украине»[3].
«Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого на подданство». Неизвестный автор 1910 г
Что же такого в Переяславском договоре вызвало негодование многих украинских политиков и научных деятелей и обеспечило одобрение со стороны российской политической и научной элиты? В основе разногласий лежит не столько само событие или твердые исторические факты, сколько его толкование, в частности в Российской империи ХIX века и ее государстве-преемнике — СССР. Не случайно критики президента Кучмы обвинили его в возрождении советской традиции праздновать «воссоединение Украины с Россией». Такой официальной формулой советская историография после Второй мировой войны описывала Переяславский договор. В советское время это событие праздновалось дважды. Впервые в 1954 году под звонкие фанфары были проведены масштабные мероприятия, которые сопровождались передачей полуострова Крым с российского подчинения в украинское. ЦК КПСС утвердил «Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией», которые вплоть до конца существования Советского Союза определили интерпретацию российско-украинских отношений. В 1979 году, во время приближения 325-летия Переяславской рады, ЦК КПУ утвердил программу торжественных мероприятий, повторив трактовку этого события, выдвинутую в 1954 году[4].
Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией
Парадигма «воссоединения» стала первым конструктом советской историографии, который профессиональные историки Украины отправили в утиль, когда в конце 1980-х годов начали пересматривать коммунистическое наследие. Хотя в президентском указе 2002 года и не были указаны сроки «воссоединения», сама мысль о праздновании события, наполненного приобретенным в рамках советской национальной политики значением, не могла вызвать широкий резонанс в Украине. Но если абстрагироваться от современной политической жизни, то действительно ли в Переяславе произошло воссоединение? А если и произошло, то кто с кем воссоединялся и на каких условиях? Ниже мы рассмотрим эти вопросы с перспективы конструирования и эволюции восточнославянских этнонациональных идентичностей первой половины ХVII века.
От войны к альянсу
В течение рассматриваемого периода произошел ряд событий, которые установили между московитами и русинами более тесный контакт, чем когда-либо ранее. Условия для первой встречи этих двух восточнославянских сообществ, которые в то время очень отличались друг от друга, породило Смутное время — крупный политический, социальный и экономический кризис, охвативший Московию начала ХVII века, — два десятилетия гражданских неурядиц и чужеземных вторжений. Ничто не предвещало такого поворота событий в 1589 году, когда московские правители удачно надавили на восточных патриархов и добились повышения московской митрополии до статуса патриархата. Впервые в истории в официальном московском дискурсе Москва позиционировалась как третий Рим. Кроме того, создание патриаршего престола в Москве положило конец расколу в православном мире, который инициировала в середине ХIV века Флорентийская уния[5].
Московия вернулась в объятия других православных народов, в то время как московский царизм, казалось, находился на вершине могущества.
Первые сигналы надвигающихся бед появились в 1598 году, когда умер последний царь из династии Рюриковичей, Федор Иванович, не оставив после себя наследника. На этот раз ситуацию смогли урегулировать: на Земском соборе новым царем выбрали Бориса Годунова. Но урегулирование оказалось временным: в начале 1600-х годов, когда экономика и общество Московии дестабилизировались по причине нескольких лет неурожая, массового голода и народных волнений, Годунов неожиданно умер (в апреле 1605 года) — как раз тогда, когда в Украине бывший монах из Московии, Григорий Отрепьев, который выдавал себя за покойного царевича Дмитрия (сына Ивана Грозного), собрал из местного населения войско и перешел границу Московии, направляясь в Москву. В сопровождении польских и русских советников и войск Лжедмитрий вскоре вошел в Москву и занял царский престол. К удивлению многих московитов, он не очень интересовался православными богослужениями и окружил себя католическими и протестантскими советниками, а также женился на польке католического вероисповедания. Неодобрительное поведение Лжедмитрия вынудило группу московских бояр совершить переворот, свергнуть самозванца и посадить на царский престол своего лидера Василия Шуйского. Почти сразу после воцарения Шуйский столкнулся с массовым восстанием под предводительством Ивана Болотникова, политической опорой которого была Черниговщина, пребывавшая в то время в составе Московского государства. В 1608 году на русских землях Речи Посполитой появился еще один претендент на московский престол, так называемый Лжедмитрий ІІ, чьи войска, которые по большей части состояли из украинских казаков, продвинулись далеко вглубь Московии.
Федор Иванович
Борис Годунов
Лжедмитрий I
Речь Посполитая в 1609 году официально отправила свое войско в Московию, а в следующем году во время очередного переворота Шуйского свергли с престола. После этого власть перехватили семь бояр, которые предложили престол польскому королевичу Владиславу при условии, что он примет православие. К тому моменту войска Речи Посполитой уже заняли Москву, потому воцарение польского королевича на московском престоле казалось уже решенным фактом. Однако в это время московскую корону возжелал сам польский король Зигмунт ІІІ, не обещая при этом принять православие. Московские элиты могли представить чужака на своем престоле, но не могли смириться с мыслью об общем с соседней страной неправославном монархе. При таких обстоятельствах московский патриарх Гермоген возглавил оппозицию против польского короля и начал активную агитационную кампанию против чужеземной оккупации. Своими призывами он помог сформировать коалиционные силы под командованием провинциальных лидеров Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, которые осенью 1612 года изгнали войско Речи Посполитой из Москвы. В следующем году Земский собой избрал новым царем Московии юного Михаила Романова, отец которого, митрополит Филарет — бывший сторонник обоих Лжедмитриев и королевича Владислава — находился в польском плену. Когда династический кризис был преодолен, а на престоле уже восседал новый царь, началось медленное восстановление Московского государства, общества и идентичности[6].
Василий IV Шуйский
Михаил Романов
Кроме всего прочего, Смутное время стало уникальной возможностью для массовой встречи представителей двух частей Руси — польско-литовской и московской — пусть не при самых благоприятных условиях, зато впервые за много десятилетий и даже веков. Украинские казаки, которых часто сопровождали их семьи, пересекали московскую границу в рядах армий претендентов на московский престол, а под знаменами Зигмунта ІІІ в Московскую Русь приходили украинско-белорусские шляхтичи. В состав войска Лжедмитрия І входило более двадцати тысяч украинских казаков, а в войске Лжедмитрия ІІ их было около тринадцати тысяч. Они дошли до центральных регионов Московии, а некоторые даже до Белоозера на севере. Встреча двух Русей происходила не только в форме убийств и грабежей, но и через создание новых семей. После завершения походов некоторые казаки оставались на московской службе, создавая для органов власти проблему их социальной и религиозной ассимиляции. Такие «встречи» длились на протяжении Польского похода 1618 года и Смоленской войны 1632–1634 годов[7].
Присоединение к Речи Посполитой Смоленщины и Черниговщины, которые большую часть XVI века принадлежали Московии, создало новую ситуацию и дало возможность обеим сторонам сравнивать.
В середине XVII века в Украине вспыхнуло восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, которое обусловило еще одну великую «встречу» московитов и русинов. Как и многие казацкие восстания этого периода, восстание 1648 года началось с вооруженного выступления в Запорожской Сечи. Оно отличалось от других тем, что Хмельницкий в самом начале сумел заручиться поддержкой традиционного врага казаков — крымских татар. Объединенное казацко-татарское войско оказалось непобедимым для войск Речи Посполитой. В мае 1648 года польская армия потерпела два сокрушительных поражения и полностью отдала Приднепровье в руки казаков, восставших крестьян и горожан. Жертвами народной войны, разгоревшейся летом, стали тысячи поляков, евреев и русских шляхтичей, — все эти категории населения в глазах мятежников ассоциировались с польским гнетом. Польское королевство осталось без регулярного войска, а созванное осенью 1648 года ополчение вскоре потерпело поражение. Казаки в сопровождении татар (которые не разбирали, где русин, а где не русин, когда доходило до грабежа и выкупа) дошли до Львова и Замостья, пустив волну паники вплоть до Варшавы на западе. Сейм, созванный для выборов нового короля после внезапной смерти Владислава IV в мае 1648 года, отдал предпочтение кандидату, которого поддерживал Хмельницкий, — брату покойного короля Яну Казимиру. Казаки отступили. По крайней мере, временно.
«Встреча Хмельницкого с Тугай-беем». Ю Коссак 1885 г
Военные действия возобновились летом 1649 года. Казацкое войско, подкрепленное десятками тысяч восставших крестьян, окружило отряды Речи Посполитой в городе Збараж на Волыни. А вблизи города Зборов войско под командованием Хмельницкого напало на главные силы Речи Посполитой, которые под предводительством самого короля шли на помощь осажденным, заставив королевское войско обороняться. Новая победа казацкого войска казалась неминуемой, но крымский хан, которому было выгоднее затянуть военный конфликт в Речи Посполитой и которого не устраивала решающая победа одной из сторон, решил заключить перемирие с королем. Дальнейшие переговоры завершились компромиссом. Зборовское соглашение признавало существование нового казацкого государства (которое в историографии получило название Гетманщина), но ограничивало территорию, подконтрольную казачеству, и сокращало численность казацкого войска до сорока тысяч (некоторые очевидцы оценивали величину казацкого войска, стоявшего под Зборовом, в 300 тысяч). Со своей стороны, Речь Посполитую также не устраивали достигнутые договоренности, навязанные королю при неблагоприятных обстоятельствах.
«Битва под Зборовом». Ю Коссак 1897 г
Итак, возобновление войны было только вопросом времени. Следующая крупная битва состоялась летом 1651 года под Берестечком на Волыни. Казаки и их союзники татары снова имели хорошие шансы на победу, но хан снова предопределил результат битвы, на этот раз просто сбежав с поля боя. Брошенные на растерзание вражескому войску, казаки потерпели крупное поражение. Хмельницкий сумел восстановить силы к осени, собрав новое войско, которое сошлось с коронными и литовскими войсками около города Белая Церковь в Приднепровье. Заключенный договор существенно урезал территорию Гетманщины и казацкий реестр, но казацкое государство сохранилось. В 1652 году Хмельницкий нанес новый удар, разбив силы Речи Посполитой под селом Батог на Подолье. А в следующем году произошла битва казацкого войска при поддержке крымских татар с армией Речи Посполитой у села Жванец, которая не была решающей[8].
Осенью 1653 года Хмельницкий со старшиной пришли к выводу, что им нужен другой могущественный союзник. Татары сыграли важную роль в первых казацких победах, но оказались ненадежными. Мало того, цена, которую Гетманщина заплатила союзнику, измерялась десятками тысяч украинских пленников, забранных в Крым в рабство. Хмельницкому пришлось считаться с антитатарскими настроениями своего народа, который начал убегать с Украины, пересекая московскую границу и оседая в Слободской Украине. Формально приняв османский сюзеренитет в тяжелый 1651 год, Хмельницкий не получил из Стамбула никакой военной поддержки. При таких обстоятельствах гетман оживил переговоры с царем, призывая московскую власть вступить в войну с Речью Посполитой. Переговоры между Московией и казацким гетманом привели к заключению в январе 1654 года Переяславского договора и установке московского протектората над Гетманщиной — именно эти события стали известны в имперской России и советской историографии как «воссоединение»[9].
Парадигма воссоединения
Истоки парадигмы воссоединения, господствовавшей в советской историографии российско-украинских отношений на протяжении многих десятилетий, прослеживаются, по меньшей мере, до конца ХVIII века. После второго разделения Польши в 1793 году императрица Екатерина II отчеканила памятную медаль по случаю инкорпорации польско-литовской Руси в состав ее империи, на которой была вытеснена надпись «Отторженная возвратихъ»[10]. Имелось в виду возвращение территорий, которые когда-то принадлежали Рюриковичам и «российскому» государству. Подобного этатистского подхода к вопросу «воссоединения» в ХIХ веке придерживался и российский историк Михаил Погодин, который возглавлял панславистское движение. Он утверждал, что сквозным мотивом российской истории было возвращение тех частей Русской земли, которые были отняты, начиная со времен Ярослава Мудрого, западными соседями. Первым ученым, интегрировавшим этатистский и национальный элементы парадигмы возвращения/воссоединения, был Николай Устрялов, который в обзоре истории России утверждал, что все восточные славяне представляют собой единую российскую нацию, а также указывал на стремление разных частей Руси к объединению. Идеи Устрялова, высказанные впервые в 1830-х годах, задали направление интерпретации отношений России с ее восточнославянскими соседями многим поколениям российских историков. На рубеже ХIХ — ХХ веков видоизмененная версия тезиса Устрялова стала стержнем идеи Василия Ключевского о природе всероссийской истории[11]. Пантелеймон Кулиш, написавший «Историю воссоединения Руси», не только перенял эту мысль, а и популяризировал новый термин — «воссоединение». Это же касается и русофильской историографии Галичины ХIХ века, но большинство украинских историков во главе с Михаилом Грушевским отбросили парадигму «воссоединения». Они рассматривали Украину как отдельную нацию, которая вела свое происхождение из Киевской Руси: она не отчуждалась от других наций, а следовательно, не испытывала необходимости в «возвращении» или «воссоединении» ни с одной из других частей[12].
«Портрет историка Михаила Петровича Погодина». В Перов, 1872 г
Ранние советские историки соглашались с Грушевским в вопросе восприятия России, Украины и Беларуси как отдельных наций и придерживались принципа раздельности их исторических нарративов всех периодов, кроме времен Киевской Руси и революции 1917 года. Однако в 1930-е годы данный принцип был пересмотрен, а в интерпретацию Переяславской рады были возвращены элементы давнего имперского подхода. Вместо толкования договора как плода российской имперской политики отдали предпочтение формуле «меньшего зла», согласно которой присоединение казацкой Украины, осуществленное Московией, считалось лучшей альтернативой, чем подчинение ее Османской империи или Польскому королевству. В послевоенные годы, когда классовый дискурс пришел в упадок, а в советских исторических трудах заново всплыл русскоцентричный национальный подход, понятие «присоединение» полностью отбросили, а взамен вернули понятие «воссоединение». Для описания Переяславской рады выдумали новую формулу «воссоединение Украины с Россией»[13]. Эта старая-новая парадигма учла советское толкование украинской истории как отдельного предмета и принимала положение о том, что к середине ХVII века существовали две отдельные восточнославянские национальности. Однако попытка объединить дореволюционные и послереволюционные историографические концепции столкнулась с противоречием. Как Украина могла воссоединиться с Россией, если, согласно официальной версии, в Киевской Руси не было россиян, украинцев и белорусов?
Николай Устрялов
Михаил Грушевский
Советские историки неохотно поднимали подобные вопросы, тем не менее, либеральная оттепель 1960-х годов создала атмосферу, в которой возникла возможность полуофициального отрицания парадигмы воссоединения. Оно предстало в форме статьи «Присоединение или воссоединение?», написанной украинским историком Михаилом Брайчевским в 1966 году. Намереваясь опубликовать свою статью в советском научном журнале, Брайчевский совершил попытку развенчать парадигму воссоединения, обратившись к классовому дискурсу марксизма 1920-х годов. Он также указал на противоречие между русскоцентричной парадигмой и декларациями Коммунистической партии о равенстве советских наций. Коллеги Брайчевского из Академии наук УССР на первых порах поддержали его позицию, а один из них посоветовал ему ознакомиться с работой белорусского историка Лаврентия Абецедарского, который также поставил под сомнение корректность понятия «воссоединение», хотя и в более мягкой форме. В любом случае, статью Брайчевского в СССР так и не опубликовали, она бытовала в самиздате, а на Западе была издана в 1972 году. Автора статьи в 1968 году уволили из Института истории Академии наук УССР, после чего он проработал два года в Институте археологии (1970–1972), однако оттуда его тоже выжили и на протяжении шести лет препятствовали поиску работы. Между тем летом 1974 года Институт археологии АН УССР организовал обсуждение статьи за закрытой дверью. Излишне говорить, что коллеги Брайчевского, в частности те, кто первоначально поддержал его, теперь торжественно осуждали взгляды, которые партийными вождями были признаны националистическими[14].
Пантелеймон Кулиш
Михаил Брайчевский
Научное обсуждение содержания и исторической роли Переяславского договора возобновилось только в конце 1980-х годов вместе с приходом гласности. Большинство украинских историков отбрасывали парадигму воссоединения, выдвигая для обозначения восстания Хмельницкого и последствий этого события вместо понятия «воссоединение» альтернативные термины «украинская революция» и «национально-освободительная война». Оба термина акцентировали внимание на национальных признаках восстания. Не менее решительно отвергали понятие «воссоединение» и концепцию, которую оно воплощало, белорусские специалисты по раннемодерной истории Восточной Европы[15]. Их российские коллеги были куда более лояльными к давним имперским и советским интерпретациям Переяславского договора. Авторы книги о раннемодерной политике России, изданной в 1999 году, и далее утверждали, что Россия в 1654 году вмешалась в польско-украинский конфликт, так как стремилась объединить три братских народа[16]. Один из лучших российских специалистов по дипломатической истории данного периода, Лев Заборовский, выступил с обоснованием дальнейшего употребления термина «воссоединение», утверждая, что в исторических источниках периода прослеживается желание украинского населения объединиться с Московией. Впрочем, Заборовский не возражает, чтобы восстание Хмельницкого называлось «национально-освободительной войной», если считать, что эта война была направлена против поляков[17]. Также не готов был избавиться от термина «воссоединение» Борис Флоря, по мнению которого этот термин отражает интерпретацию Переяславкого договора московской властью[18]. Очевидно, терминология «воссоединения» сохранила твердые позиции в российской историографии. Что же получается, еще не время прощаться с этим старым, проверенным термином и подходом? Переходя к более подробному рассмотрению московско-русских отношений первой половины ХVII века, будем сохранять данный вопрос в поле зрения.
Конец династии
Рецензируя работу Сергея Платонова, посвященную московским литературным памятникам Смутного времени (1890), Василий Ключевский отметил, что Платонов, слишком сильно увлекшись текстуальным анализом, полностью проигнорировал политические идеи, отраженные в памятниках. Согласно Ключевскому, который, со своей стороны, увлекался конституционализмом как альтернативой монархическому правлению последних Романовых, памятники пестрили идеями, близкими к его конституционным убеждениям: они будто бы утверждали первенство подданных над династией и отстаивали принципы конституционного правления в раннемодерной России[19]. Платонов, который затмил Ключевского как ведущего авторитета российской историографии в первые десятилетия ХХ века, и чьи труды о Смутном времени до сих пор входят в перечень самых авторитетных исследований по этой теме, учел критику, но не принял соображения Ключевского о конституционных стремлениях авторов памятников. Позже он рассматривал конец ХVI — начало XVIII столетия в истории Московии как период стечения трех кризисов: династического, социального и национального[20]. Среди современных историков наибольшее одобрение в исследованиях Платонова получило его выделение династического кризиса как одной из главных причин Смуты[21].
Сергей Платонов
Начиная с середины ХV века Московское государство не знало ничего, что могло бы сравниться с гражданской войной, которая разгорелась из кризиса престолонаследия в Смутное время. Этот кризис решить было сложнее, чем кризис ХV века, потому что государство стало полностью независимым и не имело покровителя, который мог бы урегулировать подобный конфликт. Государство включало в себя большее количество разнообразных земель, часть которых имела собственную традицию суверенитета. Кроме того, борьба за царский престол велась в условиях прерывания главной династической ветви Рюриковичей, что еще больше усложнило ситуацию. Желание московских элит восстановить власть потомков Рюрика, по крайней мере частично объясняет появление претендентов на московский престол, поголовно утверждавших, что напрямую происходят от царей этой династии. Прерывание мужской линии Рюриковичей нарушило и частично делигимитизировало династическую мифологию, которая связывала московских правителей с римским императором Августом и служила краеугольным камнем исторической идентичности Московии. Например, в летописи, написанной около 1626 года, которую приписывают князю И. М. Катырёву-Ростовскому, сообщалось «о корени великих князей Московскых, и о пересечении корени царскаго от Августа царя, и о начале инаго корени царей»[22]. Этот же автор прослеживал разницу между наследственным царем Иваном Грозным, который был «за свое отечество стоятелен», и выборным царем Борисом Годуновым, который «о державе своей много попечение имел»[23]. Рюриковичи ненадолго вернулись к власти в результате воцарения представителя боковой линии рода, Василия Шуйского. Не удивительно, что его сторонники всячески отмечали рюриковское происхождение нового царя как преимущество, выводя его родословную через Александра Невского и св. Владимира от императора Августа[24]. Однако правление Шуйского долго не продлилось, после чего к власти приходили цари не из Рюриковичей.
Рюрик в «Царском титулярнике». 1672 г.
Быстрая смена царей на московском престоле привела к тому, что в сознании того времени образ правителя отделился от образа государства. Автор Карамзинского хронографа по случаю воцарения Василия Шуйского отмечал: «На Москве вора Гришку [Отрепьева] Ростригу убили, а на Московском государьстве учинился государь царь и великий князь Василий Ивановичь всеа Руси»[25]. Этот отрывок позволяет читателю сделать вывод, что цари и даже династии могут приходить и уходить, а Московское государство остается. Элита, боясь внутреннего предательства и вражеского нападения, делала государство, а не конкретного правителя, главным объектом своей лояльности[26]. То, что государство рассматривали как институт, отдельный от поста царя, было новым шагом в политической мысли Московии. Политические, исторические и литературные памятники, которые появились во времена Смуты или сразу после нее, дают целый спектр названий, которыми современники обозначали свое государство. На рубеже ХVI–XVII веков Московию, как правило, называли словом «государство», которое имело два значения: с одной стороны, правление царя, а с другой — его территориальные владения[27]. Кроме термина «Московское государство», раннемодерное государство также называли «Московское царство», «Российское государство», «Российское царство» и «Российская держава». Все эти термины употребляли взаимозаменяемо. Когда же авторы писали о территории и населении, они пускали в ход такие термины, как «Россия», «вся Россия», «Великая Россия», «Руская земля» или «Российская область». Семантическое различие между этими терминами и теми, которыми обозначали Московское государство, заметно по такому предложению в рассказе того времени о намерениях мятежников под предводительством Ивана Болотникова (1607): «Всех людей прелстят Росийския области, и Московского государства да доступят»[28]. В данном конкретном контексте «Росийская область» обозначает территорию и население, а «Московское государство» — политический институт.
Патриарх Гермоген
Другое важное понятие того времени — «земля». К началу XVII века оно заняло важное место рядом с термином «государство». С одной стороны, термин «земля» использовали как синоним «государства», о чем свидетельствует такой отрывок из «Новой повести»: «Посреди нашея великия земли, сиречь посреди нашего великаго государства»[29]. С другой стороны, под ним понимали московское общество в целом как категорию, отдельную от правителя и центральной власти[30]. Новые политические обстоятельства и новые правила публичного дискурса ставили царя в большую, чем ранее, зависимость от воли земель в вопросах избрания и дальнейшей реализации своих полномочий. Один из авторов того времени осудил Лжедмитрия І, в частности за то, что он «внезапно и самодвижно воздвигся кроме воли всеа земли и сам царь поставиcя»[31]. В 1606 году патриарх Гермоген утверждал, что царь Василий Шуйский действовал против мятежников, так как это было его «государево и земское дело»[32]. Бытовало даже предположение, что землей можно управлять (или же она будет самоуправляться) без царя. Хотя такой взгляд и отклонялся от общей нормы, все же появился специальный термин «земледержцы» для обозначения членов боярского совета, который взял на себя власть в Москве в 1610 году[33].
Постановка «земли» на ведущее место в нарративах того времени отражала к тому же усиление роли институции, которая в предыдущие десятилетия находилась, в лучшем случае, на заднем плане, — земского собора[34]. Земскому собору было доверено выбирать новых царей, когда династия Рюриковичей прервалась. Мало того, во времена Смуты выборы на земском соборе рассматривали как единственный легитимный способ посадить на престол нового царя, из какой бы династии он ни происходил. То, что представителя династии Рюриковичей, Василия Шуйского не выбирали на таком соборе, весьма повышало его легитимность в глазах некоторых подданных[35]. На земских соборах было представлено все непосполитое общество, в частности бояре, духовенство, служивое дворянство, мещане и даже казаки. Идея «земли» была ближайшим пунктом к понятиям «нация» и «отчизна», которого достигла Московия в начале XVII века. Кроме того, «земле» приписывались сверхъестественные способности, как недавно отметила Валери Кивельсон: «Голос земли понимали как воплощение божественного выбора»[36]. В контексте всего государства при помощи данного понятия можно было побуждать местные сообщества ставить перед собой «всероссийские» цели, как случилось в случае движения, которое привело к восшествию на престол Михаила Романова. Однако в вольной интерпретации это понятие могло поощрять регионализм, вплоть до отсоединения. Если пренебрегали мнением какого-либо конкретного региона, местные элиты могли обосновать свое право восстать во имя земских интересов. Согласно рассказу голландского купца Исаака Массы, население Северщины (которая охватывала Чернигов и близлежащие земли) обосновывало свое восстание против Василия Шуйского тем, что москвичи (жители Москвы) беспричинно убили легитимного венчанного царя (Лжедмитрия I), не посоветовавшись с ними[37].
Исаак Масса. Ф Халс, 1626 г.
Кузьма Минин
Как правило, термин «земля» употребляли для обозначения какого-либо отдельного региона Московского государства или всей территории Московского царства, однако, учитывая политическую раздробленность, он также мог выходить за пределы Московии. Речь идет о провозглашении в 1611 году отдельной Новгородской державы («государства») под шведским протекторатом. В договоре, заключенном между Новгородом и Швецией, было оговорено возможное присоединение «Московского и Владимирского государств» к Новгородскому государству[38]. В некоторых документах того времени фигурировали ссылки на Казанское государство и упоминания о Владимирском государстве[39]. При таких обстоятельствах ссылки на «всю землю» и «рускую землю» приобретали «сверхгосударственное» значение, которое существовало в ХV — начале XVI века. Они настаивали на идее культурного единства политически раздробленного географического пространства. Достаточно выразительны в этом смысле упоминания в московских литературных памятниках о видении Кузьмы Минина: ему явился св. чудотворец Сергий, которого в XIV веке считали «покровителем Московского царства и всей Российской земли»[40]. Давнее сверхгосударственное значение терминов «вся земля» и «вся Россия» обретает новую жизнь в сказании Авраамия Палицына. Он писал о восстании на пограничных землях, к которым принадлежали Рязанщина, Северщина, Смоленщина, Новгород и Псков. Рассматривая восстание на Черниговщине (Северщине), он проводил параллели с Новгородом, поскольку оба региона были недавними достояниями Московского царства: «Севера же внят си крепце от царя Ивана Васильевича последняго Новугороду розгром бывший, и таковаго же мучителства не дождався на себе, вскоре отлагаются от державы Московския, занеже много зла содеяша всей Росии, егда возводяще Ростригу на царьство Росийское, и конечне отчаяшася братства християнского, и приложишася к Полскому королевству в работу»[41]. Следовательно, среди причин Смуты, которые вынуждали некоторые регионы искать чужеземной протекции, Палицин усматривал региональные обиды и незащищенность от несправедливостей, которые оказывал московский центр. Случай Северщины казался Палицину примером регионализма, а не поисков государственности, по его мнению, Северщина была частью «всей Росии».
Границы московской идентичности
Если жителей Чернигова (или Новгорода) не считали чужаками или неверными в Московии, то где же тогда московиты начала XVI века проводили границу между собой и «другими»? В поисках ответа на этот вопрос начнем с выяснения того, как московиты представляли сами себя, а источниками нам послужат литературные памятники первых десятилетий XVIІ века. Вырисовывается довольно запутанная картина. С одной стороны, и церковные, и светские писатели считали себя частью московского, или российского народа. С другой стороны, чтобы описать себя и свой народ, они в основном использовали термины, состоящие из прилагательных («московские люди» или «руские люди»), тогда как соседей обозначали существительными («лях», «немец» и др.). Существительное «русин», которое использовали в древних московских текстах и бытовало в Беларуси и Украине для обозначения местного населения, кажется, совсем не фигурирует в московских текстах начала XVIІ века. Термин «народ», который иногда всплывает в московских литературных памятниках того времени, не имеет значения «нация» или «этнокультурная общность», как это было в Украине и Беларуси; он попросту означает множество людей.
Существительные, используемые московитами для обозначения себя, обычно имели не этнонациональный (этноним «Русь» редко использовали для этого), а политический («москвич») или религиозный («православные», «христиане») характер.
Но вернемся к терминам «московские» или «руские люди». Первый обозначал или жителей Москвы, или жителей всего Московского государства. Понятие «руские люди» обычно охватывало все население Московии вместе с жителями земель, утраченных после 1600 года. Например, в официальных московских документах и исторических нарративах украинцы и белорусы (подобно литвинам) фигурировали как «иноземцы», в то время как прилагательное «руские» последовательно использовали для обозначения жителей территорий, которые отошли к Речи Посполитой, а именно Смоленщины и Черниговщины[42]. Однако в рассказах о Смутном времени московские писатели проводили четкую границу между подданными Речи Посполитой и Московии. Допустим, Авраамий Палицын, описывая осаду Троице-Сергиевой лавры, различал «польских и литовских людей», с одной стороны, и «руских изменников», с другой[43]. Несмотря на то что в составе войска Речи Посполитой и войск претендентов на престол было достаточно много русинов (в частности запорожских казаков), московские авторы никогда не называли их «рускими людьми» или «православными христианами», вместо того звали поляками, литвинами или польскими и литовскими людьми. Именно поэтому «Карамзинский хронограф» вспоминает о «чужеземце-литвине Иване Сторовском»[44]. Запоржцы были единственной группой, которую московские писатели выделяли из общей категории «польских и литовских людей», но не на этнонациональной, а на социальной основе[45]. В обращениях к московскому населению (даже в случае Смоленска, который Великое княжество уступило Московии только в начале XVI века) также придерживались различий между «рускими» подданными московских царей и русинами, входившими в состав вторгшейся армии. Скажем, в грамоте в Смоленск, написанной в апреле 1608 года, Лжедмитрий IІ выделял жителей Смоленска, которых называл «нашими прирожденными людьми», от «наших ратных литовских людей и казаков»[46].
«Осада Троице-Сергиевой лавры». В. Верещагин. 1891 г.
Религиозный критерий, который проводили московские авторы, усиливал разграничение между подданными Московии и подданными польско-литовской Речи Посполитой. Как уже было отмечено, для описания своего народа писатели чаще всего использовали религиозно окрашенные самообозначения, вроде терминов «православный» или «христианин». Поэтому неудивительно, что после 1610 года именно религиозный, а не политический (государственный или национальный) дискурс стал ведущим орудием мобилизации московского населения на борьбу против присутствия чужеземцев на территории Московии. Как мы отметили, стимулом к началу сопротивления был протест патриарха Гермогена против намерений Зигмунта III помешать избранию Владислава новым московским царем и самому взойти на престол. Некоторые исследователи этого периода указывали, что присутствие католиков и протестантов в окружении Лжедмитрия I и несоблюдение с его стороны православной набожности вызвали недовольство новым царем, подрывали его легитимность в глазах московитов и окончательно легитимировали восстание, которое в конечном итоге привело его к смерти[47]. Эти же факторы сыграли еще большую роль в отклонении претензий Зигмунта на престол. Если условием вступления на престол Владислава было принятие православия, то Зигмунт не имел намерений отрекаться от католической веры. Перспектива присяги католическому правителю вызывала протест в Москве, который озвучил сам патриарх. Этот протест задал тон пропагандистским мероприятиям, которые переопределили политический, социальный и международный конфликт как конфронтацию между истинной верой и ересью, отметили московскую политическую независимость, самоуверенность, ксенофобию и ненависть к захватчикам.
«Портрет Сигизмунда III Вазы», Я. Трошель. 1610-е гг.
Поскольку религия стала основным источников вдохновения для московитов в данном, по сути, политическом и социальном конфликте, то именно религиозная независимость символизировала для них образ «другого». Как врагов истинной веры изображали не только католиков и протестантов, но также православных русинов и православных московитов, которые поддерживали чужеземных претендентов на московский престол. Еще осенью 1606 года патриарх Гермоген осудил как неправославных сторонников Болотникова, которые захватили «Северскую Украину» и вступили на территорию Рязанщины. Не считая их чужаками или представителями другой веры, он все же отлучил захватчиков от Православной церкви за то, что убивали «братию свою православных крестьян». По словам Гермогена, они «отступили от Бога и от православные веры и повинулись сатане и дьявольским четам. […] Тако ж святыя иконы обесчестиша, церкви святыя конечно обругаша, и жены и девы безстудно блудом осрамиша, и домы их разграбиша, и многих смерти предаша»[48]. Гермоген призвал «православных крестьян» к битве против Болотникова за «святыя божия церкви и за православную веру и за государево крестное целование»[49]. Несмотря на то что в ходе войны происходили острые схватки между православными единоверцами (этот факт признавали некоторые писатели), жертвы с царской стороны были признаны мучениками за веру. «Казанское сказание», в котором отображена битва между правительственными войсками и тульскими мятежниками, так описывает ужасные последствия схватки: «Великому полю покрытися мертвыми телесы единоверными, не бысть бо тогда на той брани ни единаго иновернаго, но все едина Русь межь собой побишася. Тут же и воем начального князя Бориса Петровича убили, за истинную православную веру мученически пострада»[50]. В то время как власть царя теряла былую неоспоримую легитимность и уже не была единственным объектом лояльности, а «земля» еще не утвердилась как отечество (термин до сих пор означал в основном наследственное имущество или знатное происхождение), религия стала первостепенным источником легитимности и ценностью, за которую стоило бы умереть. В результате, все обращения к московскому населению в защиту режима содержали призывы к обретению православной веры и церкви Божией.
Если московских писарей не затруднило найти орудие дьявола среди своего народа, то подать в таком свете неправославных чужаков было проще простого. Согласно Авраамию Палицыну, защитники Троице-Сергиевого монастыря отказались сдаться войску Речи Посполитой (которое состояло в основном из православных русинов), так как капитуляция для них была равносильна предательству Православной церкви и подчинению «новым еретическим законом отпадшим христианскиа веры, иже прокляти бышя от четырех вселенских патриарх». В данном контексте противников называли не иначе как «латине» и «иноверные»[51]. Если в московских текстах Лжедмитрия І принято было называть еретиком, то польские короли обычно фигурировали как иноверцы. Подчинение такому правителю означало потерю истинной веры и любых надежд на спасение. Автор «Новой повести» критиковал тех, кто «не восхотеша<…> от християньска рода царя изобрати и ему служити, но изволиша от иноверных и от безбожных царя изыскати и ему служити»[52]. По мнению писаря, примкнувшие к врагу «от бога отпали и от православныя веры отстали, и к нему, сопостату нашему королю, вседушно пристали, и окаянными своими душами пали и пропали»[53]. Присоединиться к чужакам или поддержать немосковского претендента на престол было равносильно разрыву с православием. Писари пренебрегали фактами, которые противоречили их убеждениям. Например, осенью 1608 года военачальник Речи Посполитой Ян Петр Сапега попросил ростовского митрополита Филарета (Романова) заново освятить православную церковь, оскверненную во время военных действий, но таких эпизодов тщательно избегали в ведущем московском нарративе о вторжении иноверцев[54].
Ян Петр Сапега
Чувство протонациональной солидарности, безусловно, существовало в Московии начала ХVII века, однако ему не хватало собственных средств словесного выражения. Оно нашло возможность реализации не столько в дискурсе вокруг династии и государства, сколько в религиозном дискурсе. Сложность ситуации удачно описала Нэнси Колман. С одной стороны, она убеждена, что «московиты действительно были частью крупного социального образования, которое мы назвали бы обществом, не только потому, что модерный российский национализм ведет свое начало из этого исторического контекста, а и через объединяющие принципы, которым его наделяет русский язык, православная вера, и (более всего) политическое подчинение, а также бюрократическая структура империи». С другой стороны, для определения московского «национального» сознания, по ее мнению, «ключевым принципом <…> [был] религиозный, а не социальный: писатели из среды элиты подавали общество как божественную христианскую общность, а не сплоченное политическое сообщество единого народа»[55]. Этот вывод особенно подходит для взглядов, которые были высказаны авторами после 1613 года. Практика использования религиозного дискурса, присущая московским книжникам, показывает, как именно московские элиты представляли себя на протяжении и после Смутного времени. Более чем когда-либо они ограничивали истинную «русскость» территорией своего царства и считали свое государство последним оплотом православия.
Несмотря на то что московские элиты сталкивались с определенными проблемами, пытаясь выразить свою этнонациональную идентичность в первые десятилетия ХVII века, вне всяких сомнений, что в источниках того времени эта идентичность заметнее, чем в текстах предыдущих периодов московской истории. Этот тезис подкрепляет утверждение Валери Кивельсон о существовании в ХVI — начале ХVII века московской «нации» или широкой политический общности. Это утверждение основано главным образом, если не исключительно, на документах, касающихся Смуты[56]. В долговременной перспективе исторический миф о Смутном времени с его антипольскими обертонами сыграл важную роль в формировании модерной российской национальной идентичности. Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин, которые возглавили народное ополчение, отвоевавшее Москву, стали образцами патриотизма в российских исторических представлениях. Выбор Михаила Романова положил начало основополагающему мифу династии Романовых, которую будто бы избрал русский народ. Эту тему иллюстрирует популярность оперы «Иван Сусанин» (первоначальное название — «Жизнь за царя»), в которой был воспет русский крестьянин, павший от рук поляков, но не предавший будущего царя[57]. Было ли Смутное время настолько ключевым для развития раннемодерной русской национальной идентичности, насколько об этом твердит традиционная российская историография? Безусловно, таким оно и было, но не обязательно в том смысле, который был описан Сергеем Платоновым и другими[58].
Иностранная интервенция не столько приблизила, сколько изолировала Московию от других восточных славян и мира в целом, укрепив чувство политической и культурной солидарности внутри Московского царства. Смута показала, что политические, социальные и культурные узы, которыми Иван ІІІ, Василий ІІІ и Иван ІV связали разные регионы и социальные группы Московии, были достаточно прочными, чтобы удержать крупную социально-политическую встряску. Вместо того чтобы распасться на десяток или больше удельных княжеств, Московское государство пережило беды данного периода с относительно небольшими территориальными потерями. Более весомым является тот факт, что оно сохранило целостность при остром династическом кризисе. Центральное место, которое традиционно для московской идентичности занимал царь, временно стало вакантным или спорным, однако идентичность сама по себе не распалась, найдя новые опоры для поддержки своей сложной структуры. В результате, система была восстановлена, новый царь занял престол. Тем временем московиты усвоили отличие между постом суверена («государь») и подвластным ему государством. Благодаря этому различению они сумели сберечь первое и восстановить второе, а главную роль в этом процессе сыграла «земля».
Осажденная крепость
Большинство российских исторических рассказов о Смуте были написаны ретроспективно — во время правления Михаила Федоровича, первого царя из дома Романовых, и его отца митрополита Филарета, который в 1619 году вернулся из польского плена в Москву и стал четвертым патриархом Московским[59]. В это время происходило осмысление того, что же нарушилось в царском государстве и привело к тяжелым временам. Все московское общество залечивало раны, полученные за годы затяжных беспорядков, междоусобной войны и чужеземного вторжения. Пустовали села и целые города; церкви и монастыри лежали в руинах[60]. Кто же был виновен во всем этом? Безусловно — «руские изменники», также обвиняли и западных соседей Московии: поляков, литовцев, шведов и русинов, которые приложили руку к разрушению и унижению «Руской земли». Мирный договор со шведами Московия подписала в 1617 году в Столбове, но польский королевич Владислав не отрекся от претензий на московский престол, поэтому в 1619 году между Московией и Речью Посполитой разгорелся новый конфликт. Согласно исходному Деулинскому перемирию, которое положило конец девяти годам непрекращающейся войны, Черниговщина и Смоленщина отошли к Речи Посполитой. Следующая война 1632–1634 годов, перед которой с российской стороны стояла цель вернуть потерянные земли, завершилась военным фиаско для ее инициаторов.
Владислав IV Ваза
Не удивительно, что первой реакцией московского государства и общества на события начала ХVII века стал подъем антизападных настроений и рост культурной изолированности, в частности отчуждение от православного мира. В обществе, которому недоставало светской лексики для выражения всей горечи своего унижения чужеземными захватчиками, религиозный дискурс вмещал сочетание страха и высокомерия, с которым московиты воспринимали своих реальных и вымышленных врагов. Московиты были твердо убеждены в том, что их версия православия была единственно истинной верой, а остальных представителей православного мира воспринимали в худшем случае как еретиков, в лучшем — как грешников. Даже «руские люди» не считали христианами бывших подданных царя, заселивших земли, которые аннексировала Речь Посполитая во время Смуты, так как они служили неправославному правителю[61]. В текстах того времени «христианский народ государьства Московского» характеризовали как жителей нового Иерусалима, а западное и восточное христианство противопоставляли как тьму и свет, фальшь и истину, позор и честь, рабство и свободу. Православный царь воплощал положительную сторону этих дихотомий[62].
Деулинский договор
Ни в одной другой сфере идея Московии как последнего оплота православного христианства не была выражена сильнее, чем в отношении к чужеземцам, которые жили на территории Московского государства. В 1628 году патриарх Филарет запретил им нанимать себе слуг из местного населения, чтобы те не терпели ограничений в соблюдении православных практик. Особенное пренебрежение среди всех христиан было уготовлено для католиков. Адам Олеарий, посетив Москву в 1630-х годах в составе гольштайнского посольства, отметил, что хозяева были готовы иметь дело с представителями всех вероисповеданий, даже с протестантами и мусульманами, однако оказывали нетерпимость к католикам и евреям. Тем не менее, и относительно протестантов терпимость была очень ограниченной: Олеарий записал, что после пребывания их посольства в доме одного крестьянина, тот позвал священника заново освятить иконы, так как их осквернило присутствие чужаков[63]. У протестантов в Москве было две церкви, у католиков — ни одной. Им не позволялось даже принимать священников в собственных домах. Исключение было сделано единожды, в 1630 году для французов, в надежде получить их поддержку во время войны с Речью Посполитой, которая вот-вот дожна была вспыхнуть. Хотя в официальном православном дискурсе (в русле традиции Ивана Грозного) протестантство рассматривалось как ересь, худшая, чем католичество, реальные политические потребности, в частности поиск союзников для войны с преимущественно католической Речью Посполитой, вынуждали московскую власть относиться к протестантам предпочтительнее, чем к католикам. Официальная Москва придерживалась несколько шизофренической политической линии вплоть до 1643 года, когда под давлением патриаршего двора и московских купцов, которые не только заботились о благочестии, но и ухватились за возможность устранить коммерческих конкурентов, было решено закрыть имеющиеся протестантские церкви[64].
Адам Олеарий. Портрет работы Ю. Овенса. 1669 г.
Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию…». Издание 1906 г.
Итак, московское общество отгородилось от мира и неустанно обороняло границы своей политической и культурной идентичности. Желание реформировать и модернизировать войско, чтобы снова столкнуться с Речью Посполитой и вернуть потерянные территории, вынуждало Московию приглашать западных специалистов, но их держали на расстоянии от царских подданных. Чужеземцам было легко поступить на службу к царю, но сложно ее оставить и почти невозможно интегрироваться в московское общество — только если они были готовы принять православие. В подобном положении оказалась татарская элита в ХVI веке[65]. То же касалось и представителей западных стран, которые вступали на московскую службу. При помощи системы платежей и привилегий правительство поощряло обращение в православие, вызывая упреки временных посетителей, например Олеария, за то, что представители западных стран с готовностью принимают православие по материальным соображениям. В 1621 году английское правительство обратилось к царю с просьбой не позволять его английским служителям менять веру. Москва же ответила, что она никого не вынуждает так поступать, но царь не может сдержать тех людей, которые желают стать православными[66]. В отличие от Поволжья, где действительно вынуждали татар принимать православие, на западных специалистов, которые вступали на московскую службу, не давили напрямую, но взамен создавали материальные стимулы, как и на востоке. Для татар или немцев, которые желали влиться в московскую элиту и стать полноценными членами московского общества (на практике это означало заключить брачные связи с московской клановой системой), обращение в православие не имело альтернатив. Религия не только обеспечивала языком раннемодерный российский национализм, но и определяла процедуру превращения в русского.
Государство щедро вознаграждало готовность новообращенных пройти процесс повторного крещения, особенно когда в московское православие обращались особы знатного происхождения.
Обращение оказалось в эпицентре большой дискуссии, развернувшейся в московском обществе после окончания Смуты. Вопрос был не в том, принимать ли новообращенных, а в том, нужно ли заново проходить процедуру крещения немосковским христианам (католикам, протестантам и даже православными), чтобы стать воистину православными. Христианский обычай запрещал повторное крещение, но только в том случае, если кандидатов на обращение считали христианами. Московский дискурс того времени, используя термин «христианин» только касательно православных подданных московского царя, ставил под сомнение веру других христиан, а то и открыто ее запрещал. Вопрос повторного крещения чужеземцев впервые вызвал дискуссию в 1620 году, когда недавно интронизированный патриарх Филарет использовал его против бывшего смотрителя патриаршего престола Ионы. Филарет обвинил Иону, который принял двоих обращенных через миропомазание (оба были выходцами из Речи Посполитой и были католиками или протестантами). Филарет настоял, чтобы их заново окрестили, тем самым заложив основы официальной позиции Церкви, утвержденной на церковном соборе. Фактически новая политическая линия Москвы абсолютно не признавала неправославных христианами: их предыдущее крещение считали недействительным[67].
Датский принц Вальдемар Кристиан. Ю. Сустерманс, XVII в.
Как и следовало ожидать, отношение к неправославным как к нехристианам повлекло за собой весомые проблемы для московского двора на международной арене, поскольку это мешало Романовым заключать родственные связи с чужеземцами и создавать международные альянсы. В начале 1640-х годов в Москву прибыл датский принц Вальдемар, чтобы жениться на дочери царя Ирине. Он согласился придерживаться православного обряда, но отказался от повторного крещения. Протестантские богословы из свиты принца попытались убедить своих московских коллег в незаконности предлагаемой процедуры, воспользовавшись греческим словарем, чтобы объяснить значение слова «baptismо» московитам, однако они возразили им, что словарь — это не священный текст. Царю не терпелось укрепить отношения Московии с Данией, поэтому он попытался ускорить брак, но наткнулся на сопротивление патриарха Иосифа. Партия, которая поддерживала брак, обратилась за помощью к одному из самых прогрессивных интеллектуалов Московии князю Семену Шаховскому, который написал целый трактат с богословскими и историческими доказательствами в пользу того, что, в крайнем случае, брак можно заключить даже без повторного крещения принца. Шаховского обвинили в ереси и отправили в ссылку[68]. Брак так и не состоялся — показательный пример изоляционизма Московии и московской «набожности» того времени. Как уже известно, протестантские церкви столицы были закрыты в 1643 году. С точки зрения правящих элит Московии, внешний мир, который охватывал даже ее чужеземных союзников, состоял из нехристиан и был одержим дьяволом. Единственными истинными христианами были россияне-московиты, то есть полиэтнические православные подданные московского царя.
Вызов Руси
К моменту встречи польско-литовской Руси с ее московским побратимом в русле Смутного времени в обоих сообществах существовало четкое ощущение обособленной идентичности. Уже шла речь о том, что психологическая травма, которую получили в это время московиты, только усилила их отчуждение от польско-литовской Руси. Русины и сами чувствовали себя не менее отчужденными от московитов — и те, которые служили в казацких отрядах, и вояки армий Зигмунта ІІІ или королевича Владислава. Силой, которая удерживала поляков, литовцев и русинов (католиков, протестантов и православных христиан) и отделяла их от подданных московского царя, стала верность общему королю и отечеству — Речи Посполитой. Польско-литовская Русь недвусмысленно воспринимала московскую Русь как «другого», для которого был зарезервирован термин «Москва» в противовес термину «Русь», который использовали только для обозначения себя. Такое разграничение прослеживается в многочисленных украинско-белорусских текстах данного периода, в частности в летописях, где Русь и Москву обозначено как отдельные славянские нации[69].
В то же время польско-литовская Русь осознавала единство «русской религии», которая охватывала обе русские общности. Религиозная борьба вокруг Брестской унии и все большая конфессионализация религиозной и светской жизни в Речи Посполитой обратили внимание православного лагеря на существование православного русского государства на востоке. Князь Константин Острожский предложил допустить Москву к участию в переговорах по поводу церковной унии. Львовское братство присылало письма и посыльных в Москву царю, с просьбой о финансовой поддержке своих проектов. Так же поступало и Виленское братство. К концу ХVII века наступление сторонников унии и проуниатская политика польского двора в большей степени, чем раньше, активизировали симпатии православной общины к Московии. Власть Речи Посполитой произвела попытку покончить с этой тенденцией, обвиняя православных в предательстве, привлекая их предводителей к суду и задерживая делегации, направлявшиеся в Москву. Жалобы православного населения на гонения против их церкви в Речи Посполитой ухудшали шансы королевской семьи утвердиться на московском престоле. Православные русские епископы Гедеон Балабан и Михаил Копыстенский, подписавшие обращение в Московию, в котором указывали на связь Лжедмитрия І с иезуитами, были обвинены в измене. Подобное обвинение навлек на себя Мелетий Смотрицкий, опубликовав в 1610 году антиуниатский «Тренос»[70].
Гедеон Балабан
Что именно происходило в помыслах русских православных во время Смуты? Как они согласовывали свою противоречивую благосклонность к польско-литовскому отечеству с одной стороны и к православной вере с другой, ведь она распространялась и на московскую Русь, которая вела войну с Речью Посполитой? На этот вопрос позволяет ответить Баркулабовская летопись, которая была составлена в начале ХVII века на территории нынешней Беларуси. Ее православный автор создал текст, который демонстрирует сложную картину противоборства различных идентичностей и лояльностей в русской среде Речи Посполитой. Среди окружения Лжедмитрия I в Москве он, в отличие от авторов московских повестей, вспоминает не только поляков и литвинов, но также русинов и волынян. Он с откровенной жалостью описывал резню 1606 года, во время которой погибло огромное количество сторонников Лжедмитрия из Речи Посполитой: «Плачливе и страшно было слышати о таковой злой пригоде тых людей учтивых», — однако обвинял в этой расправе не московитов, а поляков и литвинов, которые якобы спровоцировали их, поправ «руские церкви».
«А то за великие прикрости литовские и насмеванье полское сталося им, иж был збудовал царь Дмитр ку воли жоне своей на Москве костел полский и мниши служили службе божую, а з руских церквей великое насмеванье чинили, попов московских уруговали, з них ся насмевали, — мели то собе за великую кривду и великое зелживости своей, не хотячи у царству своем, абы была вера ляховитинская; бо в них того от веков не бывало»[71].
Ассоциируя себя с русинами в войске Лжедмитрия, автор одновременно с пониманием относится и к своим московским единоверцам, которые противостояли католикам полякам и литовцам. Он не был единственным русином, которого волновал конфликт лояльностей. Религиозный аспект конфронтации Речи Посполитой с Московией по крайней мере отчасти объясняет, почему авторы Львовской и Острожской летописей освещали всю историю вмешательств Речи Посполитой в московские дела как исключительно польскую инициативу, которая не имела ничего общего с польско-литовской Русью[72].
Поскольку нет никаких сведений о протестах православных русинов против войны, как и никаких воспоминаний о значительных случаях их религиозно мотивированных побегов в Московию, можно предположить, что большинство русинов усмирили свои претензии, не задев при этом благосклонность со стороны Речи Посполитой. Особенного внимания в этом смысле заслуживает стихотворение «Trynografe» (1625) — написанное на польском языке преподавателем православной коллегии в Вильно, посвященное смерти князя Богдана Огинского. Огинский был русским аристократом, происходил от св. Владимира, принимал активное участие в жизни Виленского православного братства и в 1608 году подписал протестацию в защиту прав Православной церкви. Кроме того, он занимал высокие административные должности в Речи Посполитой, в частности трокского подкомория и дорсунского старосты. Из стихотворения мы узнаем, что во время похода на Московию его выбрали ротмистром, и в этом статусе он в полной мере проявил свою преданность Речи Посполитой как отечеству:[73]
Великие Луга, Кропивная и Днепр — свидетели тех дней, Когда их залило кровью бояр, закидало телами стрельцов, Его общая единая вера не держала, Не спасала от Марса даров, которые рука раздавала. Для него неприятель отчизны был Бога врагом, Уважал крест и веру, Церкви Божей порог; Не по вере, а по мере — отчизны границу Он готов был Московскую землю скрутить в дугу.Не было ли приятие двух лояльностей проблемой не так для самого Огинского, как для православного интеллектуала, написавшего стихотворение? Вполне вероятно. Однако есть веские основания считать, что стихотворение относительно точно отражает взгляды князя, известного среди современников, о чем можно судить по данному источнику, яко «руснака», и он сам считал себя одним из проводников православной Руси. Для того чтобы уладить конфликт своих лояльностей, Огинский и его единоверцы четко разграничивали религиозную и политическую идентичность.
Петр Конашевич-Сагайдачный
По мнению православного духовенства, сбалансировать две лояльности было возможно, воздерживаясь от набегов на православные церкви на чужих землях. Например, Кассиан Сакович восхвалял гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного (который в 1618 году возглавил одно из самых сокрушительных казацких нападений на Московию) — за то, что тот запрещал казакам нападать на православные церкви во время Молдавского похода[74]. Сакович умалчивает, согласился ли Сагайдачный на подобные условия в Московии, но Мелетий Смотрицкий позже написал, что казацкий гетман каялся за свое участие в походе на Московию перед патриархом иерусалимским Феофаном[75]. Авторы московских источников не сомневаются, что для такого покаяния были весомые причины, в любом случае православные русские шляхтичи и казаки бок о бок со своими неправославными побратимами не щадили не только московских военных, но и мирное население. Действия одного из них — казацкого предводителя Андрея Наливайко, который сажал на кол московских дворян и брал в плен женщин и детей, — вынуждали Лжедмитрия ІІ издать указ о его казни[76]. Нет оснований пренебрегать заявлениями в московских документах о том, что казаки грабили сокровища православных церквей, которые считали законной добычей, невзирая на принадлежность церквей к определенной конфессии и вероисповедание воинов, занимавшихся таким мародерством[77].
Возможно, казакам и рядовым воинам армии Речи Посполитой, которых еще не мобилизовали вокруг религиозных лозунгов, было легче пренебрегать конфессиональной принадлежностью церквей, чем лидерам православной шляхты, которые уже были вовлечены в борьбу вокруг церковной унии.
В то время, когда русская православная элита размышляла на тем, как сбалансировать свою лояльность к Речи Посполитой с лояльностью к Православной церкви, к которой принадлежали враги их польско-литовского отечества, а простой народ попросту пользовался правом завоевателя во время походов на московские земли, группа православных интеллектуалов начала разрабатывать идею, проторившую путь к концепции, которую в ХІХ веке назовут «воссоединением Руси». Эта идея базировалась на представлении о династической, религиозной и этнической родственности двух «русских народов». Истоки трех элементов в русском дискурсе прослеживаются до письма львовского православного братства, отправленного в 1592 году царю с просьбой о милостыне. В письме было восстановлено употребление терминов Великая и Малая Русь, которые стали важнейшим элементом нового дискурса русского единства. Аргументация письма опиралась на идеи религиозного единства Московии и польско-литовской Руси, в частности было использовано представление о «роде російском», или «племени», во главе с московским царем, потомком святого Владимира[78].
С тех пор в письмах в Москву православные русины, пытаясь придать убедительности своим обращениям за финансовой и другими формами помощи со стороны царя и патриарха, постоянно использовались все три элемента «объединительного» дискурса — династический, религиозный и этнический.
Идея этнического родства двух «русских народов» приобрела особое значение в произведениях новой православной иерархии, которую патриарх Феофан освятил в 1620 году. Польские власти не просто не признали новых иерархов, но и поставили их вне закона, поэтому они не имели возможности занять престолы в своих епархиях, а потому не покидали территории Приднепровья. Они не гнушались никакой помощью, которой могли заручиться, в частности поддержкой Московии, и даже рассматривали возможность выезда на территорию этого православного царства — позже епископ Иосиф Курцевич реализовал этот план. Знаменитая «Протестация» православной иерархии (1621) утверждала, что русины разделяли «одну веру и набоженство, одно происхождение, язык и обычаи» с Московией[79]. Автор Густинской летописи (которую, возможно, составил в 1620-е годы архимандрит Киево-Печерской лавры Захарий Копыстенский) предложил библейскую родословную славянских народов, в которой московиты были упомянуты рядом с Русью и названы «Русь-Москва»[80]. Наиболее красноречиво идею этнического родства двух «русских народов» высказал Иов Борецкий — только что избранный митрополит Киевский. В августе 1624 года он написал письмо царю Михаилу Федоровичу, в котором сопоставил судьбу двух «русских народов» с судьбой библейских братьев Вениамина и Иосифа. Борецкий призвал московского царя (Иосифа) помочь его гонимому брату (Вениамину). «Последи же и о нас, росийскаго ти племени единоутробным людем» — писал митрополит, обозначая термином «росийский» одновременно и русинов, и московитов[81].
Иов Борецкий
Более тщательный анализ текстов православных русских авторов, написанных в первые десятилетия ХVII века, свидетельствует, что этнический мотив играл важную, но все же вспомогательную роль в письмах из Львова и Киева в Москву, главный акцент был сделан на религии. Однако для нашей темы он составляет особый интерес, поскольку он был одним из первых примеров применения раннемодерной национальной терминологии в отношениях между одной и другой Русью.
Реакция Московии
Как же отреагировали московские элиты на идеи, которые выдвинули русины, обращаясь за помощью к царю? Как и следовало ожидать, учитывая опыт Смуты, дальнейшие военные конфликты с Речью Посполитой и общую склонность московского общества к изолированности, ответ был абсолютно лишен энтузиазма. Филарет не использовал в переписке титул патриарха Великой и Малой России, который ему в 1622 году приписал русский епископ Исая Копинский. В письмах к православной общине Речи Посполитой он осмотрительно выставлял себя патриархом «всеа великие Росии» (вместо патриарха всей России) — наверное, чтобы не спровоцировать негативную реакцию со стороны власти Речи Посполитой. Царь вел себя так же. В 1643 году московские послы заверили польских дипломатов, что термин «всея Руси» в его титуле не имеет ничего общего с польско-литовской «Малой Русью»[82].
Святой Владимир
Взамен двум сторонам удалось достичь взаимопонимания в вопросе киевского происхождения московской правящей элиты. Московская дипломатия вела ожесточенные войны с польско-литовскими властями, чтобы получить признание Романовых наследниками Рюриковичей. Однако русские православные иерархи не то по неведению, не то из политических соображений по большей части не обращали внимания на смену династии и воспринимали Михаила Федоровича как наследника св. Владимира. Несмотря на серьезный династический кризис Смутного времени, святой Владимир оставался популярной фигурой в московском политико-религиозном дискурсе. Пытаясь убедить королевича Владислава принять православие, патриарх Гермоген в письме к нему от 1610 года вспоминал св. Владимира как второго императора Константина. Позже, в 1625 году, Семен Шаховской использовал такое же сравнение в наброске письма царя персидскому шаху Аббасу, которого московские власти также пытались обратить в свою религию[83]. Можно предположить, что призвание русинов к наследию св. Владимира устраивало Москву. Когда в 1640-х годах митрополит Могила (не слишком благосклонный к Московии) попросил царя помочь сделать «раку на мощи прапрадеда [св. Владимира]» в Софийском соборе, Москва не отказала. Точный ответ царя неизвестен, но есть сведения о том, что московские ювелиры в 1644–1645 годах по приказу царя работали по заказу Могилы в Киеве[84]. Очевидно, обе стороны достигли согласия в вопросе о киевском происхождении московской династии и государственности.
Тем не менее, это согласие не слишком ослабило подозрительное отношение Московии к религии русских соседей. Реагируя на вызовы Реформации и Контрреформации, православные русины пытались реформировать свою религиозную жизнь, в силу чего и искали поддержки Константинополя и Москвы. Русинов разочаровала модель реформ, которую предлагал Константинополь, так как им казалось, что патриарх Кирилл Лукарис попал под чрезмерное влияние протестантских идей. В то же время они не получили никакой поддержки в Москве, где их считали опасными еретиками. Типичным проявлением такого отношения был прием, который московская власть устроила русскому богослову Лаврентию Зизанию, который, составив православный катехизис, в 1626 году прибыл в Москву с просьбой издать его. Зизания в Москве фактически взяли под стражу. Его обвинили в соблюдении еретических и неправославных взглядов, и он решил пойти на уступки в вопросах, которые вызвали сомнения в чистоте его православной веры. Это не спасло уже изданный катехизис — почти весь тираж был сожжен по требованию патриарха Филарета. Поскольку православную веру русинов не считали истинно православной, и даже христианской, московские власти запретили ввозить православную богословскую литературу из Руси, а некоторые книги даже сжигали[85].
Кирилл Лукарис
Лаврентий Зизаний
Отношение лидеров московской церкви к православным русинам полностью проявлялось в их настоянии на повторном крещении православных верующих из Речи Посполитой. Православный собор 1620 года принял «Указ како изыскивати и о самех белорусцах», в котором постановил заново крестить не только католиков и протестантов, но и православных русинов, которые жили в Московии. Согласно «Указу» православных русинов, крещенных обливанием водой вместо тройного погружения в купель, как было принято в Московии, следовало перекрещивать — так же как и католиков, протестантов и униатов. Этот принцип был распространен и на тех, кто не знал, как их крестили, или причащался в неправославных (в частности униатских) церквях. Принять в лоно православия через миропомазание разрешалось лишь тех, кого крестили троекратным погружением в купель (без миропомазания). В результате «Указ» привел к массовому перекрещиванию православных русинов, которые пересекали московскую границу и поступали на царскую службу на протяжении 1620–1640-х годов. Перед повторным крещением новообращенные должны были читать (или, если они были неграмотными, читали им) текст присяги, которая очень напоминала присягу при поступлении на царскую службу. Новообращенный обещал в случае необходимости принести в жертву свою жизнь ради православной веры и здоровья царя. Он также клялся не оставлять Московское государство, не возвращаться к своей прежней вере и не предавать свою новую страну[86].
В соответствии с «Указом» и связанной с ним политики православных русинов рассматривали не просто как «иноземцев», но и как нехристей или неполноценных православных (даже тех, чей чин крещения считали безупречным, допускали к лону московской церкви только после осуществления акта покаяния). Как же реагировали на это люди, которые, вопреки законам Церкви, принимали второе крещение? Протестовали ли они или призывали прийти в себя своих единоверцев-христиан и братьев, происходивших из «российского рода»? Нам неизвестны такие факты. Как и в случае с представителями западных стран, вознаграждение, которое получали русские новообращенные во время перекрещивания от царской власти, затмевало христианскую совесть тех, кто знал, что это сомнительная практика. Такое впечатление производят сведения о массовом повторном крещении почти семисот казаков, которые поступили на московскую службу в 1618–1619 годах. Большинство из них московские писари записали в «табель о рангах» как «черкасов» (так называли украинских казаков) и назначили им вознаграждение, соответствующее их статусу. Но как только казаки поняли, что неправославные получают за полное перекрещение в два раза большее вознаграждение по сравнению с тем, что платят православным, которые вливаются в лоно церкви через миропомазание, более половины казаков признали себя неправославными «поляками». А если учесть, что московские писцы не различали католиков и униатов, то заявления казаков легко принимали на веру. Кроме того, назвав себя «поляком», можно было получать более высокую плату за поступление на царскую службу, потому что шляхтичам, которых московские писцы обычно записывали как «поляков» или католиков, платили более щедро, чем рядовым казакам. Один бывший «черкас» даже назвал себя шляхтичем иудейской веры и происхождения, и московские власти так и записали его после крещения. Похоже на то, что казаки (из-за которых и был принят указ 1620 года, который даже иногда называли «Указом о крещении латинян и черкасов») не гнушались перекрещиванием, пока им хорошо платили за него. Мало того, многие из них поступали на московскую службу из-за того, что ранее женились на русских женщинах, с которыми повстречались во время войны, потому признание их православными, осуществляемое местной церковью, одновременно подтверждало их брак, следовательно, и вхождение в московское общество, иногда в дворянском ранге[87].
Повторное крещение украинских казаков в Московии красноречиво свидетельствует о том, что пока русские православные иерархи получали милостыню, акцентируя в письмах к царю и московскому патриарху религиозное родство, сама московская власть вовсе не считала, что они одной веры. Даже православные русины, крещенные должным образом, в глазах московитов были запятнаны своим подданством неправославному правителю и ежедневными контактами с неправославными людьми (конечно, русины не вызывали священников заново освящать иконы в своих домах после каждого визита неправославного гостя, в отличие от московского крестьянина, которого описал Олеарий). Как и коммунистические правители Советского Союза в послевоенные годы, православные правители Московии после Смуты пытались поддерживать своих «единоверцев» на Западе, одновременно защищая собственное население от их пагубного влияния. То, что считали желанным с точки зрения внешнеполитической программы, было абсолютно нежелательно с внутреннеполитической стороны. Скажем, московская власть, вынуждая православных русинов проходить повторную процедуру крещения в собственном государстве, активно собирала информацию об их преследовании в польско-литовской Речи Посполитой, предлагая помощь и убежище православным монахам и священникам, которые пересекали московскую границу. Она даже попробовала использовать эту тактику, чтобы в годы Смоленской войны сделать из украинских казаков, которые были ее врагами, союзников[88].
Как же в таком случае быть с тезисом об этническом родстве, который использовало львовское братство, и его библейской интерпретацией, предложенной митрополитом Борецким в притче об Иосифе и Вениамине? В этом вопросе православные русины имели еще меньшие шансы быть услышанными, чем в вопросе о религиозном единстве. Несмотря на то что в вопросе православия две Руси расходились, они по крайней мере говорили на одном религиозном языке. Когда же возникал вопрос о национальной принадлежности, московитам не хватало языка и лексики, чтобы уладить этот вопрос. В московском языке того времени не было терминов не только для обозначения таких русских явлений, как «церковное братство» и «униаты», а и для понятия «нация». Как уже было отмечено, термин «народ», который использовался для перевода данного понятия на русский язык, в русском языке обычно означал попросту группу людей. В официальной московской переписке русинов преимущественно обозначали при помощи политической, а не социальной или религиозной терминологии, поэтому они фигурировали как поляки или литовцы. Московские писари, которые вели переговоры и дискуссии с Лаврентием Зизанием, называли его русский язык «литовским». Исключение делали только для казаков, которых называли «черкасами», но это была скорее социальная, чем этническая или национальная характеристика.
Несколько иная ситуация проступает в церковных текстах. В них, что видно из указа 1620 года, для обозначения русского населения Речи Посполитой использовали термин «белорусы». Но был ли это этнический термин, как можно подумать на основании современного использования слова «белорусы»? Определенно нет. То, что его использовали вместе с термином «черкасы», указывает на то, что он не охватывал украинских казаков. Контекст, в котором термин фигурирует в церковных документах, подсказывает, что «белорусами» прежде всего называли православных русинов. Так же называли и униатов, по утверждению Татьяны Опариной, однако по большей части они оказывались в категории «поляков» — так называли шляхту или католиков и протестантов из Речи Посполитой любого национального происхождения. Итак, «белорусы» — это был этноконфессиональный термин. Его важной функцией было отделение восточнославянского населения Речи Посполитой от их польских и литовских соотечественников. Одновременно он отделял это население от восточнославянских жителей Московии. Создание специального термина для обозначения русского населения Речи Посполитой, отношение к этому населению как к неполноценным христианам и эксклюзивное использование термина «россияне» для подданных московского царя — все эти факты указывают на то, что, хотя московские элиты признавали русинов как отдельную от поляков и литовцев группу, они проводили четкие политические, религиозные и этносоциальные границы между собой и своими западными родственниками[89].
Национальное сознание казачества
В первые месяцы 1648 года казацкий сотник Богдан Хмельницкий повел людей, известных московским элитам как «черкасы», в дерзкое восстание против Речи Посполитой. Первое время казаки опирались на помощь крымских татар, но вскоре их восстание получило мощную поддержку широких масс населения, а потом и шляхты тех земель, которые и сегодня входят в состав Украины. В долговременном плане восстание привело к перекройке политической карты Восточной Европы и существенно повлияло на нациеобразующий процесс в регионе, став важной вехой в формировании модерной украинской идентичности и тем самым повлияв на развитие отдельных идентичностей и в России, и в Беларуси[90]. Что же можно сказать о последствиях восстания для конструирования национальных идентичностей в кратковременной перспективе? Действительно ли можно считать его «национально-освободительной войной украинского народа», как предлагают некоторые современные украинские историки?
В первых реляциях о восстании его воспринимали таким, каким оно на первых порах и было — казацкими беспорядками. Такое представление разделяли и предводители восстания, и люди, которые пытались его подавить. Жалобы казачества составляли стержень требований, с которыми выступали мятежники. Учитывая то, что правительство сначала планировало подавить это восстание русских православных казаков при помощи отрядов, которые состояли преимущественно из других русских православных казаков, ни одна из сторон конфликта не имела оснований апеллировать к обособленной этнонациональной или религиозной лояльности участников[91]. Ситуация кардинально изменилась, когда восстание перешло в ряды лояльных к правительству реестровых казаков, а победы казаков над польской регулярной армией в мае 1648 года дали толчок народному восстанию, которое вскоре приобрело выраженные этнические черты, обернувшись, главным образом, войной против поляков и евреев. Эти две этнические категории были связаны с религиозными (католики и иудеи) и социальными (землевладельцы и арендаторы) признаками, хотя зачастую к полякам причисляли полонизированных русских шляхтичей. Предводители восстания воспользовались новыми обстоятельствами и беспрецедентными возможностями, которые были открыты ими для позиционирования себя как лидеров православной Руси. Таким образом, в июне 1648 года Хмельницкий в письмах начал обращаться к властям с требованиями, касавшимися защиты прав Православной церкви в таких далеких от казацких земель местах, как город Красностав на крайнем западе украинской этнической территории[92]. Под конец 1648 года казацкие отряды достигли польско-украинской этнической границы и неожиданно (с военно-стратегической точки зрения) остановились. Объяснение подобных действий следует искать в культурной плоскости. Хмельницкий сумел взять украинские земли под контроль отчасти благодаря тому, что, как отметил в июне 1648 года коронный подканцлер Анджей Лещинский, «вся Русь бежит от нас к нему и настежь открывает перед ним врата городов»[93]. Такая встреча никак не была гарантирована казацкому гетману на польской территории.
Также обеспокоили подканцлера Лещинского вести о том, что Хмельницкий якобы титуловал себя «князем киевским и русским». Переписки того времени полнятся слухами об этом[94]. Однако действительно ли Хмельницкий и руководство казацкого восстания замышляли восстановление русской государственности в ее старокиевских границах, или, возможно, такие слухи отражали только помыслы самой польской шляхты? До нас не дошло ни одного аутентичного документа, в котором Хмельницкий величал бы себя «князем русским». Впрочем, особого внимания заслуживает тот факт, что после побед 1648 года гетман устроил себе триумфальный въезд в Киев. Там его приветствовал иерусалимский патриарх Паисий, которого привезли в Киев по приказу гетмана. Патриарх величал гетмана титулом illustrissimus princeps. В феврале 1649 года Хмельницкий заявил польским послам, что он «пан Киева», тогда же он обозначил западную границу своей «земли и княжества» пределами этнической русской территории: города Львов, Холм, Галич. Кроме того, гетман сказал польским послам, что рассчитывает на поддержку крестьян до Люблина и Кракова и ставит перед собой цель — освобождение всей русской нации (narod weś ruski) от польской неволи. Хмельницкий не забыл подчеркнуть религиозное измерение войны, заявив: «А що первей о шкоду й кривду свою воював, тепер воювати буду о вiру православную нашую»[95].
Хмельницкий был не совсем в трезвом состоянии, когда объявлял перед польскими посланниками свою новую политическую программу. Он ни разу не повторил ее в официальных документах, но польский отчет, в котором зафиксированы угрозы со стороны выпившего гетмана, не оставляет сомнений, что идея создания Киевского княжества на украинских этнический территориях действительно теплилась у лидеров восстания, среди которых на тот момент была не только казацкая старшина, но и достаточно много русских шляхтичей. Идея Киевского княжества, которое охватывало бы территорию Галиции, была ближе к модели, которую отстаивали авторы панегириков в адрес раннемодерных русских князей, чем к идеям русской шляхты ХVII века, представлявшей свою отчизну в пределах четырех восточных воеводств Польского королевства, среди которых не нашлось места Галиции. Казацкий вожак оказался действительно амбициозным, но знал о географических ограничениях для своих русских планов (по крайне мере настолько, насколько выложил их польским послам). Похоже, казаки, как и князья, и шляхтичи, считали, что северная граница их государственного образования проходит по границе между Польской короной и Великим княжеством Литовским. Хотя, по их мнению, сформированное баталиями Берестейского периода восточнославянское население Великого княжества было частью русской нации[96], политические реалии времени требовали осторожности: желая избежать войны на два фронта и рассчитывая на нейтральность князя Януша Радзивилла — командующего польскими войсками, Хмельцкий предпочитал подавать восстание как внутреннее дело польского королевства. Если казаки и пересекали литовскую границу, то только для того, чтобы подстрекать тамошнее население к восстаниям и этим связать руки литовским войскам, которые были вынуждены подавлять народные волнения, а не наступать на русские земли Короны. С самого начала казацкая дипломатия пыталась убедить московского царя отправить войска на Смоленск, чтобы открыть литовский фронт, свидетельствуя этим, что, во всяком случае, на то время казацкий гетман не интересовался Беларусью[97].
Януш Радзивилл
События второго года восстания принесли казакам признание их автономной государственности в положениях Зборовского договора (1649)[98]. По множеству мнений, этот договор можно было считать триумфом мятежников, который они разделили с русскими шляхтичами. В пределах нового казацкого государства русская православная шляхта имела возможность достичь некоторых главных целей своей религиозно-политической программы, которые не были бы достигнуты без казацкого вмешательства. Среди таких целей были особые права для православной церкви (иудеям, униатам и членам католических религиозных орденов было официально запрещено находиться на территории Гетманщины). Должности в королевской администрации казацких воеводств были зарезервированы для шляхтичей из русско-православного рода. Таким образом, самый важный пост киевского воеводы достался Адаму Киселю, одному из глав русской шляхты и автору обращения, в котором Волынское, Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводства были обозначены как части одного историко-административного региона. Русско-православная шляхта, конечно же, не руководила новым государством единолично, но в нем нашли себе место немало ее представителей: православный шляхтич Иван Выговский достиг должности генерального писаря при Богдане Хмельницком, а после его смерти в 1675 году стал гетманом[99].
Адам Кисель
Иван Выговский
Выговский или, скорее всего, один из его писарей из русской шляхты написал стихи на заключение Зборовского мира, которые прославляли казацкого гетмана в традициях, основанных еще Кассианом Саковичем. В стихах Хмельницкий и его семья изображены как наследники св. Владимира.
С сынов Владимирских Россия упала — С Хмельницких при Богдане на ноги встала, —писал этот неизвестный автор[100]. Вот так казачество и его гетмана заново присоединяли к мифу Саковича о казацко-княжеской Руси, но 1630-е годы все же не прошли бесследно: в стихах упомянут и митрополит Петр Могила, чья эпоха повлияла на мышление нового поколения православных интеллектуалов. Казацкого гетмана славили за выполнение для русского общества функций, которые ранее приписывались Петру Могиле. Например, автор ставил в заслугу Хмельницкому заботу об «обчем добре Российского народа», а также освобождение из неволи их матери-церкви, чтобы вернуть ее «сыном росийскимъ». Русь (или, в греческой форме, «Россию») в стихах показано как государственное образование во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которого представляли не менее могущественным властителем, чем король Польши (Ян II Казимир):
В росийскомъ роде польская булава, В народе пол(ь)скомъ росийская слава. Когда король Казимер єсть в Польше Иоанъ, В Руси єсть гетман Хмелнитцкий Богдан[101].Несмотря на то что в стихе внимание в первую очередь уделено гетману и Войску Запорожскому, когда дошло до этнонационального дискурса, главным героем стала «Россия», которая фигурировала рядом с другим национальным образованием — Польшей. Конфликт между Русью и Польшей и его мирное разрешение — такой лейтмотив стиха, в котором восстание интерпретируется преимущественно в государственно-национальных терминах.
Ян II Казимир. Р Шульц. Около 1658 г.
Не только казацкие интеллектуалы, а и сам Богдан Хмельницкий в письмах королю Яну Казимиру представлял войну как конфликт между Русью и Польшей. В просьбе, отправленной королю в феврале 1649 года от имени Войска Запорожского, гетман просил вернуть «рускому народу» церкви, которые были отобраны униатами. «Названия унии чтобы не было», — писал гетман, потому что ее не существовало, когда «объединилась Русь с Польшей» (то есть во время подписания Люблинской унии 1569 года). Он также настаивал, чтобы киевский воевода был назначен из людей «русского народа [и чтобы он] придерживался греческого закона»[102]. В феврале 1652 года Хмельницкий предупредил короля о возможном новом восстании и расколе среди «Руси», отметив, что такие события могут быть только «на погибель Руси, или на беду полякам»[103]. На самом деле этнонациональный фактор не действовал изолированно, а по большей части тесно переплетался с языком политического, правового, социального и религиозного дискурса, находя в нем свое выражение.
Тот факт, что этнонациональная трактовка конфликта попала в переписку лидеров восстания и произведения русских поэтов, конечно, еще не означает, что в глазах элит национальный ракурс преобладал над правовой, социальной и религиозной интерпретацией восстания[104].
Переплетение различных факторов в мышлении казацкой старшины хорошо иллюстрирует записка казацкого полковника Силуяна Мужиловского царю в 1649 году, в которой автор объясняет причины восстания. Мужиловский преподносил войну как конфликт между казаками и поляками («ляхами») по поводу ущемления поляками казацких свобод и православной веры. Согласно Мужиловскому, поляки сожгли город Корсунь, разрушили православные церкви и убили православных священников, потому что, по их мнению, «од ваших Русі здрада вщинаєтс(я)». Казаки же, в свою очередь, заключили перемирие с поляками при условии, что новоизбранный король [Ян II Казимир] будет «руским королем»; если он не сможет выполнить это обещание, война возобновится[105]. Это означало, что король должен отстаивать интересы не только Польши и Литвы, а и Руси. На Руси король якобы разрешил казакам сберечь за собой все, что они завоевали мечом. Ожидания Мужиловского, несомненно, сформировались под влиянием желания русской шляхты видеть Русь равным партнером Речи Посполитой и трактовки Хмельницким и его окружением восстания как национальной войны.
Дальнейшее течение восстания и изменчивость военной фортуны существенно изменили взгляды казачества на казацкое государство, его географическое пространство и правовой статус, но представления о Руси как о нации с особой территорией, которую защищают ее собственные военно-политические институции, сохранялось в сознании казацких элит нескольких поколений.
Православный альянс
Миссия Силуяна Мужиловского в Москву в начале 1649 года установила прямую дипломатическую связь между Московией и новым казацким государством, Гетманщиной — связь, которая в конечном итоге привела к Переяславскому договору 1654 года. Как и само восстание Хмельницкого, это событие оказало революционное влияние на политическую ситуацию в регионе и процесс генезиса восточных славян. Однако наша задача заключается не в том, чтобы как можно глубже заглянуть в долговременные последствия сделки, а в том, чтобы выяснить, был ли этнонациональный фактор с самого начала частью дипломатических расчетов, а если был, то как он повлиял на дальнейший ход событий.
Контакты между мятежниками и московской властью начали формироваться летом 1648 года по инициативе казацкого гетмана. С самого начала он просил Московию объединить с казаками усилия в войне против Речи Посполитой. Ситуация повторилась накануне Смоленской войны 1632–1634 годов с одним отличием — теперь казаки, а не царь искали поддержки у «единоверцев». После поражения 1634 года Московия стала вести себя осторожнее. Кроме того, призрак нового восстания под предводительством казаков мог забрести и на территорию Московии, спровоцировав новое Смутное время, что отбивало у московитов охоту открыто ввязываться в конфликт. Поэтому они использовали компромиссную тактику: казаков и мятежников, которые хотели пересечь границу, радушно принимали в Московии (однажды казацким войскам даже позволили осуществить внезапное нападение на Великое княжество Литовское с московской территории), но царь не начинал новую войну с Речью Посполитой. Только в 1651 году Московия, наконец, созрела для отказа от политики невмешательства в дела Речи Посполитой. Началась подготовка созыва земского собора, который одобрил бы вступление в войну, но поражение казацкого войска под Берестечком отложила эти планы. В 1653 году, не сумев договориться о военной помощи с Османской империей и теряя поддержку крымского хана, Хмельницкий настоял, чтобы московские правители, наконец, определились. Осенью на специально созванном земском соборе было решено принять Хмельницкого и казаков «с городами их» (то есть территорией Гетманщины) под «государскую высокую руку». В Украину отправилось посольство под руководством боярина Василия Бутурлина, чтобы принять присягу старшины и рядового казачества. В январе 1654 года посольство встретилось с Хмельницким в Переяславе. После недолгих переговоров, не совсем удовлетворивших казацкую сторону, был созван совет, который должен был формально утвердить подчинение казачества царю.
Историки до сих пор расходятся во мнениях касательно правового содержания Переяславского договора. Было ли соглашение вообще? В конце концов, в Переяславе не было подписано ни одного документа, а условия подчинения царь утвердил намного позже в Москве. А если это был договор, то какой именно: личная уния, реальный союз, альянс, федерация, конфедерация, вассалитет, протекторат или прямая инкорпорация? Как эта договоренность соотносится с предыдущими, такими как Зборовский договор 1649 года с королем или договорами, заключенными Московией с ранее инкорпорированными территориями и народами[106]?
Наибольший интерес для нас заключается не в самом правовом статусе Переяславского договора, а в дискурсе, который сопровождал его подготовку и легитимизировал его заключение. Если вовлечение Московии в войну с Речью Посполитой было главной целью казацкой дипломатии, то к каким доводам прибегли Хмельницкий и его сподвижники, чтобы убедить царя выставить войска против Речи Посполитой? Письма Хмельницкого царю, его придворным и воеводам дают достаточно информации, чтобы ответить на этот вопрос. Они свидетельствуют о том, что с самого начала переписки летом 1648 года важное место занимал религиозный мотив. В письмах гетмана царь представлен, прежде всего, как первый из православных правителей, обязанный помогать своим братьям — православным христианам в борьбе против католических притеснений их церкви. Кроме того, Хмельницкий пытался заманить царя в конфликт, рисуя перед ним перспективу создания огромной православной империи, которая охватывала бы не только казацкую Украину и польско-литовскую Русь, но и православные Балканы и Грецию. Все православные христиане, утверждал Хмельницкий в разговоре с бывшим секретарем патриарха Филарета, — греки, сербы, болгары, молдаване и волохи, — хотят объединиться под властью московского царя[107]. Хмельницкий также обещал царю восстание в Беларуси: как только Московия отправит свои войска на фронт, гетман отправит письма «к белорусским людем, которые живут за Литвою» в Орше, Могилеве и других городах, которые поднимут там к восстанию двухсоттысячную силу[108]. Если же царь откажется принять Войско Запорожское «под свою высокую руку», Хмельницкий угрожал в безвыходной ситуации заключить союз с мусульманами — турками и татарами. Поскольку потенциальный альянс казаков с «неверными» будет обращен, прежде всего, против Московии, такие угрозы осенью 1653 года повлияли на московскую власть и вынудили ее принять окончательное решение[109].
Такими были заявления казаков. Как же московская власть реагировала на призывы к конфессионной солидарности со стороны людей, которых она после Смуты не считала полноценными православными, даже полноценными христианами, и даже заново крестила, когда они пересекали московскую границу? Как бы это ни было странно после того, что мы узнали о религиозных настроениях московитов предыдущего периода, Москва середины XVII века эти призывы слышала и даже приветствовала. Фактически именно общий православный дискурс заложил основы Переяславского договора. Как это случилось? Во-первых, даже после Смуты православие было мощным оружием во внешнеполитическом арсенале Московии. Уже говорилось о том, что во время Смоленской войны Москва использовала православные связи и риторику, чтобы переманить на свою сторону запорожских казаков. Во-вторых, в середине XVII века Московия вступила в союз с казацкой Украиной, придерживаясь уже совсем иных взглядов на православие сравнительно с теми, которые господствовали сразу после Смутного времени. Под руководством нового энергичного патриарха Никона она пыталась предстать перед православным миром. И киевское христианство, которое когда-то осудил патриарх Филарет, теперь оказалось необходимым как мост к этому миру. Никон, к кому нередко апеллировал Хмельниций, благосклонно относился к установлению московского протектората над казаками. Его слово стало очень весомым при московском дворе, и именно он выступал за московское вмешательство в войну ради защиты православной веры[110]. Впрочем, отношение Московии к православному населению за пределами царства начало меняться еще до интронизации Никона в 1652 году.
Важным стимулом изменений стала дискуссия вокруг брака датского принца Вальдемара с великой княжной Ириной Михайловной. Как уже было сказано, это событие положило конец карьере приверженца киевской учености Семена Шаховского, но одновременно оно побуждало московскую церковь налаживать отношения с православным населением за пределами Московии. Дискуссия с лютеранским пастором дала московским интеллектуалам понять, что им не хватало богословской подготовки. Церковь нуждалась в реформе, к которой призывали не только в столице, но и в регионах. В провинциях набирало сил движение ревнителей благочестия, а с началом царствования Алексея Михайловича в 1645 году представители этого движения приобрели влияние даже при дворе. Такие новые условия требовали кардинального пересмотра установившегося в Москве православного мировоззрения, и в когда-то отброшенной греческой науке теперь видели решение проблемы. Но где можно было найти достаточно полиглотов, чтобы перевести тексты с греческого языка? Взгляды московских реформаторов обратились к ученым монахам Киева. Осенью 1648 года царь написал письмо православному епископу Черниговскому с просьбой прислать в Москву монахов, которые смогут перевести Библию на славянский язык. Летом следующего года по благословению киевского митрополита Сильвестра Косова в Москву прибыли монахи Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий, которые стали основателями русской колонии (позже к ней будут принадлежать такие светила, как Симеон Полоцкий). В течение 1648–1649 годов в Москве был издан и переиздан ряд киевских трудов, в частности православное вероисповедание («Собрание короткой науки об артикулах веры»), составленное под руководством Петра Могилы и утвержденное на соборе восточных патриархов. Московские православные мужи пытались догнать своих заграничных единоверцев. Рассчитывая на просвещение из Греции, они положили начало «киевизации» московского православия[111].
Восшествие близкого к реформистским кругам Москвы митрополита Никона на патриарший престол укрепило влияние тех сил в московской церкви, которые были готовы искать образцы в Киеве. В 1653 году, на последних переговорах с дипломатами Речи Посполитой перед Переяславской радой, поляки утверждали, что московитов и православных русинов фактически нельзя считать единоверцами, потому что московская вера так же далека от русского православия, как и от униатства или католичества. За двадцать лет до этого московские послы, скорее всего, охотно бы согласились с поляками, но на этот раз они возразили. Они также не обращали внимания на обвинения польской стороны, якобы Хмельницкий отрекся от православия и принял ислам, а взамен выставили право царя защищать свободы своих единоверцев как главное оправдание своего вмешательства в дела Речи Посполитой[112]. Когда осенью 1653 года Земский собор окончательно утвердил решение вступить в войну с Речью Посполитой, оно было обосновано не только защитой чести московского царя, которую запятнали чиновники Речи Посполитой, наделав ошибок в его титуле (одна из них заключалась в том, что царя Михаила Федоровича Романова ошибочно назвали Михаилом Филаретовичем по монашескому имени его отца), а и защитой «православной християнской веры и святых божиих церквей»[113]. Московское посольство, отправленное к Хмельницкому, редко упускало возможность посетить на своем пути русскую православную церковь или принять участие в богослужении. Навстречу ему выходили не только казаки, но и мещане, во главе которых шествовали священники, встречая посольство пространными барочными речами и молитвами. Само заключение Переяславского договора сопровождала торжественная церковная служба. В официальной речи царский посол Василий Бутурлин вспоминал не только московских святых, покровительству которых он приписывал успех всего дела, но и святых Антония и Феодосия Печерских и высокочтимую в Киевской митрополии святую Варвару, чью мощи хранились в одном из киевских монастырей[114].
Если в Переяславе и произошло некое воссоединение, то только православное, провозглашенное в многочисленных речах и заявлениях, но еще сполна не воплощенное. Фактически это было даже не религиозное воссоединение (которое произойдет в институционном, литургическом и других измерениях лишь в конце XVII — начале XVIII века), а только декларация примирения. После бурной борьбы против унии в Киевской митрополии и травматических лет Смутного времени в Московии две стороны согласились возобновить отношения. Тем самым церковные деятели предоставили политическим элитам общий язык, который был необходим, чтобы начать диалог между двумя раннемодерными нациями, уже тогда очень отличающимися друг от друга.
Переяславские разногласия
Стояли ли за «воссоединением» еще и этнические мотивы? Или они полностью отсутствовали в переговорах казачества с царем? Хотя Хмельницкий и описывал некоторые элементы восстания при помощи этнонациональной терминологии, он и его писцы ни разу не установили, казалось бы, естественной связи между двумя русскими народами-нациями. В письме к воеводе Семену Болховскому летом 1648 года Хмельницкий сетовал на то, что «наша Рус православниї християне» подвергается гонениям, но, предпринимая попытки втянуть царя в казацко-польский конфликт, гетман не обращался к теме этнического родства между двумя частями Руси; вместо этого призывал царя добиваться польского престола, который в то время был вакантным[115]. Эта дискурсивная особенность сохранилась в его дальнейших письмах в Москву[116]. Изменилось только название, которым он обозначал свою страну. Если сначала он называл ее Русью (это же название гетман использовал в письмах к польскому королю), то с весны 1653 года начал использовать название «Малая Русь», приняв религиозно-институциональную терминологию. В январе 1654 года он даже внес соответствующее изменение в официальный титул царя, обратившись к нему не как к «всея Русии самодержцу», а как «всеа Великия и Малые Русии самодержца»[117]. Царь принял такое изменение своего титула[118]. Начало новой войны с Речью Посполитой освободило его от обязанности придерживаться заявления московских послов в 1634 году о том, что польская Малая Русь не имеет ничего общего с царской «всей Русью». Теперь царь претендовал и на Малую Русь. Соответственно и его титул был изменен, во избежание двусмысленностей 1634 года.
Приняли ли царь и его московское окружение, согласившись на формулу «Великой и Малой Руси», идею их этнического родства как важный элемент своей концептуализации событий того времени? Имеющиеся источники свидетельствуют, что это крайне маловероятно. Московские элиты продолжали мыслить не просто преимущественно, а почти исключительно в династических терминах. Они видели в казацких землях просто-напросто еще одну часть вотчины царя. В декабре 1653 года царская канцелярия обратилась к воеводам, отправленным в Киев, как «его царского величества отчины великого княжества киевского бояре и воеводы». В письме к самому Богдану Хмельницкому в апреле 1654 года Алексей Михайлович назвал Киев своей вотчиной. С тех пор его полный титул содержал упоминания о Киевском и Черниговском княжествах[119]. Нам неизвестно, как Богдан Хмельницкий реагировал на такие проявления царского патримониального мышления. Также нет уверенности в том, какое значение гетман вкладывал в термины «Малая Русия» и «Великая Русия», потому что даже после Переяславского соглашения в письмах к царю он только изредка называл свою родину «Русь» или «Россия»[120]. Еще одна трудность заключается в том, что большинство писем Хмельницкого в Москву сохранились не в оригинале, а в московских переводах «с белоруского письма». В этих переводах поражает отсутствие упоминаний о «русском народе», права которого Хмельницкий ревностно защищал в польскоязычных письмах к королю. Русские авторы того времени, как нам известно, свободно использовали термин «народ», который имел одинаковое значение в русском и польском языках. Неужели Хмельницкий сознательно избегал этих упоминаний в письмах в Москву, заменяя их такими формулами, как «весь мир православный росийский Малой Росии», что расходилось с тогдашней украинской практикой[121]? Или термин потерялся в переводе? Обе версии говорят о понятийных проблемах коммуникации между сторонами.
Итак, этнонациональный диалог вряд ли был возможен между русскими и московскими элитами. Как показали переговоры в Переяславе, недостаток понимания в этом плане был не единственным различием между двумя сторонами. Острый кризис вызвал, скажем, отказ Бутурлина присягнуть от имени царя по сохранению казачьих вольностей и свобод. Бутурлин сделал все возможное, чтобы заверить казацкую старшину, что царь не только сохранит, но и расширит их свободы, но отказался принять присягу от имени своего суверена. Хмельницкий оставил посла в церкви ждать результатов своего совещания с полковниками. Когда Бутурлину сообщили, что польские короли присягают перед своими подданными, боярин продолжал настаивать на своем. Он ответил собеседникам, что представляет православного царя и самодержца, а польский король не был ни одним, ни другим. А следовательно, этих двух монархов просто нельзя сравнивать[122]. Хмельницкий и полковники, в конце концов, должны были согласиться. Казаки приняли присягу на верность царю, не получив присяги со стороны представителей своего нового суверена. Это был беспрецедентный случай в казацком опыте. Хотя польский король и отказывался подписывать с ними соглашение и признавать их равными в ходе переговоров, польские делегаты присягали от имени Речи Посполитой во время всех сделок, которые они заключали с казаками. Если бы было иначе, казаки никогда не клялись бы в ответ. А в Переяславе они поступили так. Это было их первое знакомство с миром московской политики.
Бутурлин не лгал: цари действительно никогда не присягали на верность своим подданным. В Переяславе царские представители применили относительно новых подданных своего суверена правила степной дипломатии — набор принципов, которые Московия унаследовала от Золотой Орды и применяла в отношении своих восточных соседей и вассалов. Как пишет Андреас Каппелер, эти принципы предусматривали наличие «лояльного правителя» и «слабый протекторат, скрепленный присягой», вследствие чего «закладывались отношения подданства», к которым Россия «в дальнейшем каждый раз апеллировала», а вторая сторона «рассматривала это в лучшем случае как личное, непродолжительное подчинение»[123]. И действительно, если казацкая элита рассматривала присягу и службу царю как условное («повольне» на их политическом языке) подчинение правителю, дальнейшие отношения с которым будут зависеть от желания каждой из сторон соблюдать свои обязательства, московская дипломатия воспринимала клятву в качестве доказательства вечного подчинения. Ведь текст обычной присяги содержал такие слова: «А от Московскаго государъства измѣннымъ дѣломъ не отъехати, и ни которые порухи не учинити и измѣны»[124]. Дальнейшие события убедительно показали, что ни одна из сторон переяславских переговоров до конца не понимала, в какие именно отношения она вступает.
Рождение России
Тесное взаимодействие национальной и имперской идентичностей в модерном русском сознании всегда сбивало с толку обозревателей русской жизни и привлекало внимание историков России. Это сочетание, которое отличало русскую идентичность от идентичностей западноевропейских имперских наций, парадоксальным образом описал Джеффри Хоскинг в одной из своих рецензий: «Британия имела империю, а Россия была империей — и, фактически, до сих пор является ею»[125]. Хоскинг выделил одно возможное объяснение специфики русского имперского опыта: мол, в отличие от Британской и других западноевропейских империй, Российская империя была не морской, а сухопутной[126]. Однако географию нельзя считать единственным объяснением особенностей русской национальной идентичности. Ричард Пайпс считает, что феномен русской идентичности можно объяснить тем, что в России «становление национального государства и империи произошло одновременно, а не последовательно, как у западных государств»[127]. Если суть действительно в этом, то где искать момент истории, когда началось становление национального государства и империи? Говоря об империи, множество историков указывают на эпоху Петра І (1689–1725) — основателя модерного русского государства[128] и в то же же время первого правителя Московии, который провозгласил себя «императором всероссийским», ознаменовав начало истории России не просто как независимого государства, но и как империи. Большинство университетских преподавателей утверждает, что Московия стала империей раньше — во времена Ивана Грозного[129], но для их студентов изучение русской имперской истории все равно начинается с эпохи правления Петра.
Джеффри Хоскинг
Ричард Пайпс
С какого бы века мы не начали отсчитывать историю Российской империи — от Иоанна ІV или Петра І, — важно отметить, что сочетание национального и имперского дискурсов в России зафиксировано именно в последние десятилетия XVІІ века, то есть накануне эпохи Петровских реформ. Именно в это время Московия, еще не открывшись Западу и не будучи известна как Россия, впервые стала восприимчивой к новым людям и идеям только что присоединенной Гетманщины, в частности ее религиозной и интеллектуальность столицы — Киева. Сложное переплетение понятий национальности и имперской государственности, сложившееся при встрече киевской и московской элит, окажется неимоверно важным для формирования русской имперской идентичности. Это переплетение создало путаницу в мыслях самих восточных славян, не говоря уже об ученых, которые исследовали их историю и политическую культуру. Именно это сочетание идей будет основной темой этого раздела. Рассмотрим его в хронологических рамках периода 1654–1730 (от Переяславского соглашения до конца Петровской эпохи и воцарения Анны Иоанновны).
Московия движется на запад
Переяславское соглашение стало переломным моментом в истории отношений Московии с близким и далеким Западом. В 1654 году царская Московия начала свое движение на запад, которое позднее продолжат Российская империя и Советский Союз: сначала силой армии, а после — мощью политического и культурного влияния. В конце XVІІ века границы Московии проходили вдоль Днепра; век спустя они уже пролегали чрез Неман и Днестр; в ХІХ веке была присоединена Варшава, а российские войска вступили в Париж. В середине ХХ века Красная Армия взяла Берлин и Прагу. Лишь крах советского блока и развал Советского Союза в 1991 году, казалось, положили конец экспансии России на запад, а ее западная граница передвинулась назад к линии московских рубежей перед 1654 годом[130].
Во время экспансии Россия изменила мир, но коренным образом изменилась и сама.
После Переяславского соглашения большая часть современных Украины и Беларуси осталась вне Московии. Взрыв российско-польского конфликта 1654 года превратил Беларусь в поле боя между московской, польско-литовской и украинской казацкой армиями. Согласно условиям российско-польских соглашений 1667 и 1668 годов Речь Посполитая сохранила контроль над всеми белорусскими землями, исключая Смоленщину, которая отошла Московии. Прямые соприкосновения московитов с другими восточными славянами часто ограничивались контактами с русинами, которые заселяли территорию Гетманщины, теперь зависимой от Московии. Отношения царского правительства с Гетманщиной можно обозначить, воспользовавшись названием статьи Ганса Иоахима Торке, как «брак не по любви»[131]. Это выражение метко характеризует природу российско-украинских отношений во второй половине ХVІІ века, во всяком случае, «брак» обеих сторон, провозглашенный в январе 1654 года в Переяславе, отнюдь не был счастливым и безоблачным. Поначалу его затмила конкуренция за Беларусь, а после у казаков возникли обоснованные подозрения, что царь изменяет им со злейшим врагом — польским королем. И действительно, в 1656 году между Московией и Речью Посполитой было заключено Виленское перемирие за счет Гетманщины. Однако казаки продолжали вести войну с королем, заключив союз с двумя протестантскими государствами: Семиградьем и Швецией. Нельзя сказать, что Московия была счастлива со своим новым казацким партнером. Некоторые влиятельные московские государственные деятели, такие как руководитель Посольского приказа в 1660-х годах Афанасий Ордин-Нащокин, считали установление протектората над Гетманщиной ошибкой и вместо этого настаивали на том, что нужно улучшать отношения с Речью Посполитой, отказавшись от помощи казачеству. Андрусовское перемирие (1667), которое включало положение о переходе Киева в состав Польши, было преимущественно плодом его советов и идей.
Афанасий Ордин-Нащокин
Хотя конструкторы московской внешней политики ориентировались то на Гетманщину, то на Речь Посполитую, сама Московия и ее элиты все более втягивались в европейскую политическую жизнь. Тем самым они приоткрывали двери для проникновения западных идей и культуры в свой ранее изолированный мир. Во время царствования Алексея Михайловича при дворе впервые появляется театр и балет. Западная мода распространилась так, что в 1675 году пришлось запретить европейскую одежду и прически специальным указом. Алексеев сын и наследник престола царь Федор (правил в 1676–1682 годах) был учеником Симеона Полоцкого, любил западную живопись и графику, заказывал портреты для своего двора. Вестернизация высокой культуры Московии продолжалась при регентстве царевны Софьи (1682–1689) и достигла пика при Петре І. Во время его правления произошла великая трансформация Московии по западному образцу — процесс, который оказал влияние на целый нациесозидающий проект в России и на то, как московская элита воспринимали себя и внешний мир[132].
А. Кившенко 1880 г. «Патриарх Никон предлагает богослужебные книги».
Хотя сложно не согласиться с мыслью Макса Окенфуса о том, что московскому обществу в целом были чужды гуманистические идеи, занесенные учеными киевлянами, нельзя недооценивать киевское влияние при формировании официальной российской идеологии, культуры и идентичности во второй половине XVІІ — в начале XVІІІ века[133]. Киевляне первыми приспособили западные религиозно-политические идеи к обстоятельствам православия начала XVІІ века. Именно они стали основоположниками протонациональных взглядов, интерпретировав народ-нацию не как побочный продукт династии и государства, а как отдельное самодостаточное явление. Частенько выпускникам Киевской коллегии, впоследствии академии, не приходилось даже переезжать в Москву или Петербург, чтобы стать частью общеимперского обмена идеями. Скажем, черниговский архиепископ Лазарь Баранович успешно хлопотал перед царем о финансовой поддержке своих публикаций и сбывал их на территории Московии, не покидая Украину. Десятки ученых, которые получили образование в Киево-Могилянской коллегии, начиная с Епифания Славинецкого, который в 1653 году основал греко-латинскую школу в Москве, до Симеона Полоцкого, наставника царских отпрысков, инициатора создания славяно-греко-латинской академии в Москве, и Феофана Прокоповича, активного участника реформ Петра I, пребывали на передовой линии вестернизации и трансформации России, ее общества и представления о себе самой в переломные моменты истории. Киевляне, бесспорно, помогли Петру если не оформить его идеи, то хотя бы выразить их, создав дискурс, который популяризировал и легитимировал его политические предприятия.
Симеон Полоцкий
Самый большой наплыв вышколенных в Киеве интеллектуалов на московскую, а после имперскую государственную службу произошел после Полтавской битвы (1709), которая обернулась катастрофой для Украины. Раздраженный попытками царя Петра еще больше ограничить автономию Гетманщины, Иван Мазепа (гетман в 1687–1709 годах) воспользовался случаем, который представился во время большой Cеверной войны, и в 1708 году присоединился к армии шведского короля Карла XІІ, которая вторглась в Украину. За гетманом пошла только часть казацкой старшины, но поражение объединенного войска Карла и Мазепы в Полтавской битве в июле 1709 года возобновило сильный российский контроль над Левобережьем. После Полтавы мало что изменилось в Киеве и Гетманщине: светская и религиозная элиты поспешно изменили свою политическую ориентацию, общественную позицию и дискурс, отрекшись от старых лояльностей и актуализировав новые. Украинцы умело приспособили свои взгляды к требованиям московского государства и общества. Однако они получили образование при других обстоятельствах, поэтому все равно сеяли провокационные идеи в сознание своих читателей. На протяжении дальнейших десятилетий они будут способствовать формированию того, как Россия будет воспринимать свое прошлое, свою роль в мире и свое предназначение как модерной нации. Стоит ли говорить, что во время этого процесса киевляне и сами трансформировали свою идентичность, а также образ и, отчасти, представление о своем отечестве[134].
Исследование эпохи Петра I
XVІІІ столетие — древнейший период российской истории, в который готовы углубиться большинство исследователей национализма, пытаясь найти источник русской национальной идентичности. Даже самые смелые из них вынуждены считаться с модернистским подходом, согласно которому, перефразировав выражение российского министра внутренних дел Петра Валуева, «не было, нет и быть не может нации до появления национализма»[135]. Поэтому историки высказывают разные предостережения, чтобы оправдать поиск элементов идентичности, которая, согласно установленному мнению, не могла существовать в эти «древние» времена. Традиционный подход к этой теме хорошо обобщил во вступительных абзацах своей пионерской работы «Национальное сознание в России XVІІІ века» Ганс Роггер:
«Большинство исследователей соглашаются, что национализм — относительно недавний феномен, поэтому любое употребление этого термина для событий до XVІІІ века не обосновано. В то же время только несколько передовых стран — Англия, Франция, возможно, Голландия, — могли претендовать на него. У россиян, отстающих в этом, как и во многих других аспектах, в XVІІІ веке не было национализма, который бы заслуживал именоваться подобным образом. “Настоящий” русский национализм появился не раньше XIX века»[136].
Исследование Роггера не оставило никаких сомнений насчет «национального сознания» в России XVІІІ века после Петра, но именно его царствование, а более всего десятилетия, непосредственно предшествовавшие ему, долгое время были весьма туманными для большинства исследователей российской истории. Ситуация начала изменяться относительно недавно.
Например, Джеффри Хоскинг присоединил раскольническое старообрядчество к обсуждению российской национальной мифологии, видя в нем причину, которая была «в некотором роде более губительной для единения национальной идентичности», чем разрыв между Россией и Западом[137]. Проводя сравнительное исследование европейских видов национализма, Лия Гринфельд присовокупила Петровскую эпоху к общему рассмотрению «русского национального сознания». Этим же путем пошла Вера Тольц в новаторской работе о становлении русской нации. Однако Тольц соблюдала осторожность: «Вначале следует отметить, что в XVІІІ веке в России не было нации. Впрочем, понятия, отражавшие, чем является Россия, особенно сравнительно с Западом, впервые стали разрабатывать в XVІІІ веке»[138].
Какие же допущения и гипотезы появились в новейшей историографии по поводу петровских «зародышей» русской национальной идентичности? Особенно достойны внимания рассуждения Лии Гринфельд. По ее мнению, XVІІІ век стал свидетелем становления национального сознания в России, потому как она создавала приют и давала новую идентичность массам дворянства и образованных недворян, которые переживали кризис своей старой идентичности и искали новую. Гринфельд считает заслугой Петра І, а также Екатерины ІІ «укрепление идеи нации среди российской элиты и пробуждение в ней мощного чувства национальной гордости». Она считает, что идея нации «предусматривала фундаментальное переосмысление российского государства (уже не как собственности царя, а как общей ценности, безличной patrie, или отечества, в котором каждый его член владеет равноценной частью и к которому каждый естественным образом привязан)». Изучая официальные документы Петровской эпохи, Гринфельд искала в них случаи употребления и значения терминов «государство», «общее благо» и «отечество». Согласно ее выводам, употребление таких (частенько западных) терминов сигнализировало появление в России новых, национальных понятий и идей. В то же время Гринфельд отметила спорный характер этого процесса, потому как Петр и далее воспринимал государство как часть себя и не давал своим подданным возможности развить чувство индивидуального достоинства, вместо этого предлагая им ощутить гордость за то, что они являются подданными великого императора. Кроме того, исследовательница подхватила мысль Ганса Роггера про значимость Запада как явления, в оппозиции к которому формировалась тогдашняя русская идентичность[139].
Некоторые мысли Гринфельд развила Вера Тольц, также рассматривая Петровскую эпоху. Главный тезис Тольц заключался в том, что Петровские реформы одновременно «заложили основы и факторы ограничения для дальнейшего возникновения нации в России» и конструирования ее национальной идентичности. Говоря об основах создания нации и национальной идентичности, Тольц обращает внимание на секуляризацию государства и системы образования, а также на возникновение идеологии государственного патриотизма, которая взлелеяла лояльность имперских подданных к своему государству. Препятствиями к возникновению нации стали консолидация в руках Петра самодержавной власти, укрепление института крепостничества и дальнейшее географическое расширение империи. Тольц отметила, что к моменту восхождения Петра на престол традиционная русская идентичность, которая держалась на православии, уже распадалась. Перенимая эстафету от Хоскинга, она присовокупляет к анализу старообрядческий раскол, обратив внимание на оппозиционное отношение раскольников к секуляризации государства и их глубокую неприязнь к Западу. В отличие от Гринфельд, Тольц сосредотачивается не столько на дискурсе эпохи, сколько на реформах Петра І, которые изменили характер и структуру российского общества, тем самым внеся вклад (по большей части в отдаленной перспективе) в конструирование русской национальной идентичности[140].
Юрий Шевелёв
И Гринфельд, и Тольц немалое внимание уделили роли, которую в петровском реформировании российской политической жизни, высокой культуры и науки играли выпускники Киево-Могилянской академии. В обоих исследованиях они представлены как трансляторы новых западных идей и кадров, которые помогли расшатать старую московскую культуру. Кто же были эти киевляне на имперской службе, какой идентичности придерживались и как осуществили свою интеллектуальную «пересадку» с киевской почвы на санкт-петербургскую? Эти вопросы первым в научных кругах поставил Юрий Шевелёв, рассматривая жизнь и творчество действительного петровского идеолога, выпускника, а со временем ректора Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича. В 1954 году под псевдонимом «Юрий Шерех» Шевелёв опубликовал статью про Феофана Прокоповича как писателя и проповедника киевского периода[141], в которой подверг сомнению традиционный в исторической науке о России способ интерпретировать Прокоповича только как идеолога Российской империи. Опираясь в большей степени на рассмотрение трагикомедии «Владимир» (1705), Шевелёв доказывает, что должным образом понять ее автора можно только если учесть его произведения киевского периода, ведь именно в это время Прокопович зарекомендовал себя как местный патриот, а его тогдашние сочинения входят в золотой фонд украинской литературы. Шевелёв отметает выводы как Петра Морозова и Николая Тихонравова, так и советского литературоведа Григория Гуковского, — все они считали, что фигура Владимира символизировала образ Петра. Скепсис Шевелёва нашел поддержку в трудах Алексея Соболевского, а более всего — Ярослава Гординского[142], по мысли которых Владимир, наоборот, олицетворял образ Ивана Мазепы, а не русского царя.
Феофан Прокопович
Алексей Соболевский
Через почти четверть столетия ко взглядам Шевелёва вернулся ведущий западный специалист по Петровской эпохе Джеймс Крейкрафт. В статье «Новый взгляд на киевский период Прокоповича» он доказывал, что в течение киевского периода Прокопович одновременно был «не только поборником украинского национализма, но и своеобразным зачаточным идеологом петровской империи»[143]. Фактически же Крейкрафт привел мощные доказательства другого тезиса, полностью отрицающего первый. Приняв во внимание «всероссийские элементы» в произведениях Прокоповича, написанных до 1709 года, Крейкрафт проследил их до «Синопсиса» 1674 года, вписав киевский период творчества Прокоповича в контекст российской имперской мысли. Он утверждал, что всероссийских взглядов Прокопович придерживался еще в своих киевских трудах.
«Синопсис». Титульный лист издания 1680 г.
Иной подход к выяснению места этого писателя в русской культуре предложил Макс Окенфус, указав на «огромный культурный разрыв между Феофаном и большинством тогдашних россиян» и представив Прокоповича как фигуру, глубоко укорененную в гуманистическую и классицистическую культуру киевского сообщества ученых[144]. Прокопович, разумеется, имел не одну идентичность, исследователи правильно указывают на разнообразие культурных ценностей, а также этнонациональных и политических лояльностей в его произведениях. Благодаря хорошему образованию и таланту он умел метко выражать и формулировать эти лояльности. Поэтому, вместо того, чтобы выискивать, во что «на самом деле» верили или не верили Прокопович и другие киевляне в Петербурге, куда более продуктивно рассматривать их произведения и декларации как проявление целого спектра политических и культурных идентичностей, которые принимала и поддерживала новая имперская элита.
В этом разделе я собираюсь достичь двух целей. Во-первых, указать на источники многих понятий, которые распространились в петровские времена еще в период до 1654 года, и тем самым поместили эпоху Петра в контекст более древних идентичностных проектов. Это то, чем пренебрегает большинство историков, изучая Петровскую эпоху с точки зрения ее влияния на дальнейшие процессы. Во-вторых, исследовать взаимосвязь между национальными и имперскими элементами «общероссийской» идентичности, рассмотрев вклад киевских интеллектуалов, осевших в Киеве и Петербурге.
«Славеноро́ссийский» проект
В октябре 1663 года Иван Брюховецкий, один из наиболее образованных и в первое время наиболее промосковский гетман, издал универсал к населению Правобережья, призывая «братию нашу милую» оставить польского короля и присоединиться к московскому царю. Обосновывая свой призыв, он использовал исторические, династические, религиозные и национальные аргументы, которые устанавливали прямую связь между русской нацией (российский народ) и «российским» монархом в Москве. Он писал:
«Не только все соседние народы, но и сами ваши милости, братия наша милая, должны признать то, что пребываете в явной слепоте и видимом заблуждении, когда, русское наименование на себе неся от предков своих, склоняетесь не к тому монарху, которого блаженной памяти святой и равноапостольный российский предок [святой Владимир] к вере греческой христианской весь народ наш российский привел, но, отступив от единоверного православного монарха, русью будучи, склоняетесь к иноверному, к ляшской стороне, которая именем и верой не является»[145].
Иван Брюховецкий
Комплекс идей, которые пронизывают попытку Брюховецкого связать русскую нацию с российским царем, красноречиво отображены в первом «учебнике» по «русской истории», который получил название «Синопсис». Эта книга впервые была напечатана в 1674 году в Киеве под руководством архимандрита Киево-Печерского монастыря Иннокентия Гизеля (поэтому долгое время ее считали продуктом Гизелевых интеллектуальных усилий), а к середине XІХ века выдержала уже девятнадцать изданий и репринтов, став популярнейшим историческим произведением домодерной Российской империи[146]. Имя настоящего автора до сих пор неизвестно, но первые три издания (1674, 1678 и 1680–1681 годов) считаются «авторскими». Первое издание увидело свет в самый неспокойный год в истории Киева и Печерского монастыря. В 1674 году московское войско при поддержке левобережных казацких частей переправилось через Днепр и напало на османскую армию и протурецки настроенных казаков, во главе которых был гетман Петр Дорошенко. Взяв было в осаду Чигиринскую крепость, казацко-московские силы получили отпор и вынуждены были отступить. Ожидая нападения османских сил на Киев, они до конца года упрочняли киевскую крепость. Иннокентий Гизель и монахи Печерского монастыря предполагали, что придется отправлять свои ценности на сохранение в Московию. Ситуация усугубилась, когда Речь Посполитая выдвинула Москве требование отдать ей Киев, как предписывало Андрусовское перемирие между двумя государствами[147].
«Трубы словес проповедных» Лазаря Барановича. Издание 1674 г.
Трудно представить, как монахи продолжали заниматься издательской деятельностью при таких обстоятельствах, но в тот тяжкий год они смогли издать как минимум шесть книг и памфлетов, и то, те из них, которые не носили сугубо религиозный характер, содержали откровенно промосковские взгляды. Среди книг была программа спектакля «Алексей человек Божий», который студенты Киево-Могилянской коллегии играли с посвящением царю Алексею Михайловичу: «знамение верного подданства чрез благородную молодежь студенческую». Программу напечатали по просьбе московского воеводы Киева Юрия Петровича Трубецкого. Кроме того, монастырская типография выпустила два издания «Труб словес проповедных» Лазаря Барановича, одно из которых содержало подборку гравюр, сделанных специально для него. Книга была посвящена царю, который выделил бумагу для ее печати, и предназначена для московского рынка[148]. Автор «Синопсиса» пошел тем же самым промосковским путем. Заглавие этой книги обещало рассказать читателю не только о жизни князя Владимира, но и о «наследниках благочестивого государства его российского, аж до пресветлого и благочестивого государя нашего царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великой, и Малой, и Белой Руси самодержца»[149].
Иннокентий Гизель
Почему киевские монахи так благосклонно относились к московскому царю? Очевиднейший ответ на этот вопрос содержится в сценарии студенческого спектакля, на котором составитель большими буквами написал «православный монарх». Гизель и его подопечные явно хотели остаться на территории православного царства. Возможность подданства католическому королю или, еще хуже, мусульманскому султану казалась им возмутительной. В то же время, хоть Гизель и поддерживал идею подчинения Киева царю, ревностно отстаивал независимость Киевской митрополии от Москвы (и сохранения ее под эгидой константинопольского патриарха). Поэтому монахи Печерского монастыря хотели видеть своим защитником царя, а не московского патриарха. Печерский монастырь (более того, в некотором роде, и всю Киевскую метрополию) можно рассматривать как транснациональную корпорацию XVІІ века со штаб-квартирой в подчиненном Москве Киеве, но с имуществом, персоналом и инвестициями вне Московского царства в Речи Посполитой и Османской империи. Для лиц, которые стояли за изданием «Синопсиса», оптимальной политической программой было тесное сотрудничество между Московией и казачеством под протекцией православного царя и потенциальный альянс с Речью Посполитой против турок. Но в ситуации, когда поляки требовали возвращения Киева, а турки стояли в непосредственной близости к городу, монахам приходилось убеждать царя не отдавать Киев Речи Посполитой и защитить его от турецкого нападения. Этой цели они собирались достичь, изображая Печерский монастырь как драгоценнейшую жемчужину в киевской короне, которая заслуживала особенного внимания и протекцию со стороны царя. Кроме того, признание особенной роли Киева и Печерского монастыря в русской религиозной истории предполагало признание их особенного статуса и прав в православном царстве. Автор «Синопсиса» изображал Киев колыбелью русской династии, государства, нации и религии. Православную тематику усиливала радикально антиисламская позиция автора, который описывает вторжение мусульман в «православно-российский край» и пишет о столкновении «православного воинства» с «басурманами»[150].
Киево-Печерская Успенская лавра, 1911 г.
Особенный интерес для нас представляют взгляды анонимного автора на энтонациональную историю мира в целом и Руси с Московией в частности. С одной стороны, эти взгляды глубоко укоренены в древнюю традицию летописания, которая выискивала библейское происхождение наций и предлагала читателю легендарные истории про раннее расселение славян. С другой стороны, автор проявляет беспрецедентную в русском летописании озабоченность идеей нации («народа»). Эта идея возникает в «Синопсисе» рядом с идеями династии, государства и религии как одна из основных тем исторического нарратива. Обширное заглавие книги информирует о концептуализации прошлого, к чему автор прибегает, размещая народ-нацию как предмет исторического нарратива перед династией Рюриковичей, киевскими князьями и «благочестивым государством» святого Владимира. Первая часть заголовка такая: «Синопсіс, или краткое собраніе от различных Лѣтописцев о началѣ Славенороссійскаго Народа и первоначальных Князех Богоспасаемого града Кіева, о Житіи Святаго Благовѣрнаго Великаго Князя Кіевскаго и Всея Россіи первѣйшаго самодержца Владиміра»[151].
Что же это за «славеноро́ссийский народ», речь о котором идет в «Синопсисе»? Анонимный автор прослеживает происхождение этого народа в прошлом вплоть до расселения славян, о котором ему известно из русских и польских летописей. Используя составной термин «славеноро́ссийский» (в украинском переводе Ирины Жиленко — «славеноросский»), автор делает акцент на славянском происхождении и характере «русских народов» и их принадлежности к более широкой славянской семье. В частности, зависимо от контекста, славеноро́ссийский народ охватывал поляков и других славян. Однако его ядро находилось в Киеве. Кроме русской нации, которую автор называет «русским» или «ро́ссийским» народом, в состав славеноро́ссийской нации входили и московиты. Тогдашние польские и русские летописи и полемические произведения иногда включали их в семью «русских народов», но никогда откровенно не воспринимали как часть одной с русинами нации («народа»). Обе ветви Руси назывались частями одной славеноро́ссийской нации, исторический и духовный центр которой, согласно «Синопсису», был расположен не в «царственной» Москве, а в первой столице этой славеноро́ссийской нации и государства — в Киеве. Понятие славеноро́ссийского народа-нации предполагало намного более тесную близость между русинами и московитами, чем это допускалось прежде. Факторами, которые поддерживали и укрепляли этот интеллектуальный конструкт, были историческая традиция, укорененная в Киеве, православная религия и существование общей державы в виде православного царства. Его также укрепляла этногенеалогическая легенда, которая выводила всех славян и славенороссов в частности из семейного древа библейского Мешеха (в восточнославянской традиции «Мосоха»), Яфетового сына и праотца московской нации («Москва-народ») и всех «славеноро́ссов»[152].
Представив читателям «славеноро́ссийский» народ-нацию, автор «Синопсиса» все же не избавился от влияния тогдашних политических и культурных реалий, а также господствующей до того времени историографической традиции. Посему при случае он выделил Москву и Русь («Русь», «россы») как отдельные нации рядом с поляками, литовцами и прусами. Он также придерживался древней традиции перечислять народы с помощью территориальной терминологии (эхо когда-то господствовавших региональных идентичностей) рядом с нациями, которые соответствовали им по культурным и политическим критериям. Поэтому рядом с Москвой и Русью он разместил волынцев — «народ» начала XVІ века, который фигурировал в раннемодерных списках славянских наций и за счет копий долгое время кочевал из одной летописи в другую. Благодаря авторитету «Синопсиса» волынцы попали даже в написанную в XVІІІ веке работу Алексея Манкиева[153]. В то же время анонимный автор попытался согласовать или обновить некоторые древнейшие историографические легенды и понятия. В частности, опираясь на киеворусскую легенду о том, что славяне называли себя по месту поселения, он утверждал: несмотря на то, что название московской нации происходило от «Мосоха», «царственный» город был назван по имени Москвы-реки. Как пример топографического происхождения названий славеноро́ссийских народов он приводил запорожских казаков («запорожцы»), которые называли себя так по Запорожью, в котором поселились, а донские казаки («донцы») — по названию реки Дон[154]. Авторская идея славенороссийской нации, кроме того, соответствовала новым историографическим понятиям, которые влияли на киевские интеллектуальные круги во второй половине XVІІ века. Эти понятия несли на себе глубокий отпечаток польского представления о сарматизме и идей раннемодерного панславизма. Поэтому на страницах «Синопсиса» славеноро́ссийская нация представлена как часть сарматского общества речепосполитских наций[155]. Обосновывая антиисламский союз православного царства с преимущественно католической Речью Посполитой, автор «Синопсиса» не был слишком озабочен сокрытием польских корней своих интеллектуальных конструктов.
Джованни Ботеро
«Синопсис» развивал древнюю традицию летописания Киево-Печерской лавры, которая зародилась еще в княжеские времена. В придачу к русским источникам, среди которых был Киево-Печерский Патерик, автор присовокуплял и западные источники, в частности «Le relationi universali» Джованни Ботеро и польские летописи, важнейшей из которых была работа Мацея Стрийковского[156]. Применив метод вырезки и вклейки, чтобы сочетать все свои источники, автор (в манере средневековых летописей) свалил в кучу противоречивые теории своих предшественников, не предложив никакого удовлетворительного объяснения[157]. Таким образом из этой беспорядочной свалки разных, частенько противоречивых понятий и интерпретаций в «Синопсисе» возник единый московско-русский нарратив — предварительный проект новой нации, которую задумали киевские ученые. Третье издание «Синопсиса» содержало рассказ о Куликовской битве (1370) — основополагающий миф для раннемодерной Московии. Сочетав этот рассказ с мифом русского народа-нации — историей киевских князей и крещения Руси, автор «Синопсиса» помог создать общий «славеноро́ссийский» исторический нарратив. Интересно, что этот нарратив не содержал главного мифа Гетманщины. На страницах первого киевского «российского» учебника истории не было упоминаний о восстании Хмельницкого. Переяславска рада, очевидно, не казалась автору «Синопсиса» такой важной, как его последователям.
Куликовская битва. А. Ивон. 1859 г
Согласно новому нарративу, отечеством славеноро́ссийского народа-нации была страна «Ро́ссия». Понятие одной нации («народа»), которая объединяет русинов и московитов, было революционным компонентом, который автор «Синопсиса» внедрил в сферу раннемодерной славянской этнологии. Понятие национального единства русских земель и народов, укорененное в традиции, которую основали авторы Киевской Руси, теперь было проговариваемо на новом интеллектуальном уровне и введено в обиход общественного дискурса при новых политических и религиозных обстоятельствах. Его стали развивать после того, как столетие отдельного существования и отличных друг от друга опытов фактически создало два очень разных политико-культурных произведения на землях бывшего Киевского княжества. Хотя славеноро́ссийская нация представлялась в рамках русской интеллектуальной традиции, она охватывала не всю Русь, а лишь те ее части, которые присоединились к Московскому православному царству. Вместо этого она включала Московию, которая не была частью представляемой географии раннемодерной Руси. Следует отметить, что, с точки зрения автора, слияние царской Руси-Гетманщины с царской Московией еще не было завершено. Православное царство/империя имело две столицы: Киев, который упомянут как «царственный град» даже в контексте событий второй половины XVІІ века, и Москва[158]. Оно также имело два духовных центра — пристанища двух русских митрополитов: киевского и московского. Еще в нем было две силы: царская армия и Войско Запорожское («силы его царского пресвѣтлаго величества… и многіи полки Войска Запорозкого»)[159].
Князь Дмитрий Михайлович Голицын
Как же московиты восприняли идеи, которые высказал автор «Синопсиса»? Коммерческий успех книги свидетельствует, что она им понравилась. Книга попала в библиотеки самых влиятельных лиц Российской империи, в частности Петра І и Дмитрия Михайловича Голицына (бывшего киевского губернатора), но обращали ли они внимание на ее протонациональную идею? Не очень. Во время ее выхода в свет московская придворная историография, которую репрезентируют, например, произведения Федора Грибоедова, автора «Истории о царях и великих князьях земли Русской» (1669), безнадежно застряла в донациональной эпохе, концептуализуя русскую и московскую историю прежде всего с помощью династической терминологии[160]. В первое время «Синопсис» в Московии воспринимали как, мягко говоря, не совсем национальный продукт. Составители Новгородской Забелинской летописи время от времени называли его «летописец с печатного полского»[161]. Самый выдающийся российский историк XVІІІ века Василий Татищев критиковал «Синопсис», среди прочего, за использование в нем «польских басен»[162]. Но и киевский вариант старославянского языка произведения был не до конца понятен московскому читателю. В конце концов, московские издатели «Синопсиса» в начале XVІІІ века не только заменили его церковнославянский шрифт на современный «гражданский», который ввел в обиход Петр І, но и изменили оригинальное название «Синопсис, или Краткое собрание из разных летописцев» на более понятное «Синопсис, или Сокращенная история, собранная из разных авторов»[163]. Петербургские издатели также планировали убрать из текста украинизмы, изменив, к примеру, украинское слово «вежа» на русское «башня», но по финансовым причинам проект не осуществили[164].
Василий Татищев
Книгу, которую в Киеве рассматривали как историю народа-нации, образованные петербургские читатели восприняли как историю государства. В каталоге библиотеки Стефана Яворского — бывшего киевлянина, а после Рязанского митрополита и фактического главы имперской Церкви — издание 1718 года было записано как «Синопсис, или История о российстем народе», в то время как петербургские составители этого же издания внесли его в свой реестр как «Синопсис, или Краткая история о Российском государстве»[165]. Не удивительно, что руководитель петербургского издательства Михаил Петрович Аврамов был известен как коллекционер документов по «истории российского государства», а не российской нации. Именно историю российского государства Петр І приказал написать в 1708 году Федору Поликарпову[166]. К тому же внимание русских и московских читателей привлекали совершенно разные темы. Московские читатели интересовались тем, что касалось непосредственно российской истории. К примеру, Яков Головин, один из читателей книги, написал на полях «Синопсиса»: «Некоторые исторические факты поданы очень хорошо: скажем, о вторжении и покорении, которые совершил Мамай, и другие»[167]. «Синопсис», конечно же, не был полным изложением истории России и российского государства, в котором нуждалась тогдашняя образованная элита, посему Татищев имел все основания жаловаться, что книга «весьма кратка» и что в ней «многое нуждное пропусчено»[168]. В «Ядре российской истории» (впервые издано в 1770 году) Манкиев попытался заполнить пустоты, дополнив информацию из «Синопсиса» изложением московской истории. Ту же цель поставил пред собою в «Кратком Летописце» (1760) Михаил Ломоносов — еще один автор, на которого произвел впечатление «Синопсис»[169].
Как бы по-разному ни читали «Синопсис» в Киеве и в российских столицах и провинциях, с его помощью историю Киева сделали неотъемлемой частью имперского российского нарратива. Первоначальные трудности с принятием национальной идеи «Синопсиса» в Московии отчасти связаны с тем, что древняя династическая, а позже государственноцентрическая парадигмы намного лучше, чем нациецентрическая парадигма, обслуживали интересы многонациональной империи. Но эта идея, разумеется, совпадала со взглядами и интересами киевлян, которые находились на имперской службе, пытались получить себе нишу в империи и установить особые отношения с ее правителями, используя «славеноро́ссийскую» национальную парадигму.
Киевская «Ро́ссія»
Согласно киевским текстам конца XVІІ — начала XVІІІ века, с московитами киевских русинов объединяло не только членство в одной нации-народе, но и имя собственного дома, который они, к удивлению читателей позднейших эпох, называли «Ро́ссия». В Украине традиция использования термина «Русь» в его греческой форме «Ро́ссия» и производных от нее вариантов (скажем, «российский») для обозначения русских земель тянется как минимум с 1590-х годов[170]. В письме 1592 года, которое львовское православное братство передало московскому царю через проезжих греческих иерархов, как этнокультурная категория было использовано понятие «род российский», связывавшее польско-литовскую и московскую Руси[171]. Впрочем, обычно в тогдашних русских и польских произведениях термин «Ро́ссия» (польское «Rossyja») употребляли для обозначения исключительно польско-литовской Руси. Именно этим смыслом в «Треносе» 1610 года Мелетий Смотрицкий наделяет термины «народ российский» и «российская земля»[172]. Такое употребление приобрело особенную популярность во времена Петра Могилы. В стихах, написанных в 1633 году по случаю его въезда в столицу, были многочисленные упоминания про «Ро́ссiю»[173]. Неизвестный автор польскоязычного панегирика в честь Могилы «Mnemosyne slawy, prac i trudо́w» назвал его «российским Фебом» («Feb rossyjski») и возвеличивал его за защиту «милой России» («miła Rossyja»), что похоже на упоминания польскими авторами «милой Польши» («miła Polska»)[174]. «Россия» Петра Могилы наверняка охватывала земли Киевской метрополии, но не московские территории, которые официально получили такое название во времена Петра І. Кроме того, в стихах, написанных в канцелярии Богдана Хмельницкого в 1649 году, польско-литовскую Русь называли «Россией», а ее жителей — «россиянами»[175]. Хотя в переписке с Москвой Могила титуловал себя «митрополитом Малой России», в других случаях он использовал титул «митрополит всей России». Это касается и его преемника на митрополитском престоле Сильвестра Косова, которого в стихотворных эпитафиях называли главой «всея России», и именно «Россия вся» оплакивала его кончину[176].
Мелетий Смотрицкий
Традиция, начатая Могилой, — употреблять термин «Россия» преимущественно, а порой исключительно к землям Киевской митрополии — возобновилась после Руины вместе с возрождением Киевской коллегии при гетмане Иване Самойловиче (1672–1678), который воскресил практику регулярных пожертвований в ее пользу[177]. Павел Баранецкий, автор опубликованного в 1687 году польскоязычного панегирика «Trybut» в честь Самойловича, не только упоминал «памятки Могилы» («Mohiły pamiątki») и «Могилянскую музу» («Mohileańska muza»), но и в духе времен Петра Могилы использовал термины «Rossyja» и «Rossyjacy» для обозначения русских земель и их населения[178]. Будущий глава имперской Церкви в польскоязычном стихотворении «Полярная звезда российского неба» («Arctos caeli Rossiaci», 1690) тоже писал о «Могилиных музах» («Mohiły muzy») и употреблял «Rossyja» и «Rossiaci» касаемо русских (немосковских) земель и народа[179]. А Варлаам Ясинский (1690–1707) титуловал себя не просто митрополитом Киевским и Малой Руси, но «митрополитом Киевским и всея России» или «митрополитом киево-российским»[180].
Сильвестр Косов
Петр Могила
Иван Самойлович
Варлаам Ясинский
К терминологии, основанной на слове «Россия», прибегали в своих латиноязычных произведениях и вышколенные в Киеве казацкие авторы. Например, составители латинских «Pacta et Соnstitutiones» (1710) для обозначения Украины и украинцев использовали такие термины, как «patriam Rossiacam», «gente Rossiaca», «filiis Rossiacis» и «liberam Rossiacam»[181]. Использование этих терминов применительно к Украине становится особенно очевидным при отсылках к Киеву как митрополитскому центру «России»: «Metropolis Urbs Rossiae, Kiiovia, caeteraeque Ucrainae civitates» (XXV). Термины «Украина» и «украинский» (Ucraina, Ucrainensibus) часто употреблялись в тексте этого документа как синонимы терминологии, базировавшейся на слове «Россия». Это же касается терминов, производных от этнонима «Roxolani»: «Roxolana patria nostra» (XXVI), «incolis Roxolanis» (XXIX), «Roxolane patriae, Matris Nostrae» (XXXII) и т. д. Термин «Parva Rossia» (Малая Русь) встречается в «Pacta» только дважды: один раз касаемо юрисдикции Церкви, второй — касаемо отечества казаков («Parva Rossia, patria nostra»). Для обозначения северного соседа авторы «Pacta» пользовались терминами Moskovitico Imperio и «iugo Moscorum»[182].
В конце XVІІ века «Россия» крепко утвердилась в киевских текстах как термин для обозначения русских земель в целом. Несмотря на влияние могилянской традиции на употребление этого термина в киевских церковных кругах, «Россия» могилянских авторов 1630—1640-х годов по географическому содержанию весьма отличалась от «России» киевских писателей последних десятилетий того же века. Как уже было сказано, к концу XVІІ века территория, которая находилась под юрисдикцией Киевской митрополии, сократилась до границ Киевской епархии. Также «Россия» киевских писателей стала ограничиваться территорией Гетманщины — это обстоятельство дало киевлянам возможность изображать гетмана Мазепу светочем «России». Речь идет о трагикомедии «Владимир» (1705) пера Феофана Прокоповича, ректора Киево-Могилянской академии и одного из главных идеологов Петровской эпохи[183]. В прологе к произведению наследником всероссийского наследства Владимира Великого названо гетмана Мазепу, а не царя Петра. Именно Мазепе, по мнению Прокоповича, «строєніє сего отчества Владимирового по царю от бога врученно єсть, і Владимировими ідяй равними єму побідами, равною в Росії ікономією, лице єго, яко отчеськоє син, на тебі показуєш»[184]. Согласно с Прокоповичем, Владимирову вотчину Бог даровал не царю, а через царя Мазепе. Поэтому не удивительно, что Прокопович причислил Мазепу к «славою цветущим российским светилам»[185].
Можно ли считать, что настоятельное использование авторами из Киевской академии терминологии, основанной на слове «Россия», отражало их желание уравнять в статусе Москву и Киев, обеспечив последнему автономию? Хотя эту возможность нельзя отбрасывать, с ретроспективной точки зрения более очевидным представляется то, что эта практика облегчила интеграцию киевского духовенства и его протонационального дискурса в имперскую церковь и дискурс. Четкое указание на это находим в проповеди, которую Прокопович провозгласил в присутствии Петра І в июле 1706 года, то есть за год до написания «Владимира», по случаю царского визита в Киев. Обращаясь к Петру, Прокопович называл его «царем и правителем всей России» и «истинным наследником» Владимира[186]. 24 июля 1709 года, через некоторое время после Полтавской битвы, Феофан Прокопович, на то время префект Киево-Могилянской академии, встречает царя-триумфатора в киевском соборе Святой Софии проповедью «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе»: он поздравляет «всероссийского монарха» с великой победой, возвеличивает «воинство российское» и предостерегает Россию от таких предателей отечества, как побежденный гетман Мазепа[187].
Две «России» Феофана Прокоповича
Лучшего источника для изучения трансформации древних идентичностей и формирования новых лояльностей среди киевских элит Российской империи, чем произведения Феофана Прокоповича, одного из ведущих представителей новой России, найти трудно. Его сочинения отображали процесс формирования новой всероссийской имперской идентичности и помогали создать новые политические и культурные лояльности для ее элит.
Проповеди Прокоповича не только проливают свет на конструирование новых лояльностей, которым занимались политические элиты империи, но и привлекают внимание как особенный литературный жанр, бывший одним из самых эффективных трансляторов идей элиты широким слоям общества.
Благодаря этому мы имеем возможность делать некоторые осторожные выводы насчет их распространенности среди населения в целом[188].
Феофан Прокопович. Парсуна. Середина XVIII в.
Как «Россия» Прокоповича до Полтавской битвы отличалась от его же «России» после 1709 года? Ответить на этот вопрос можно, сопоставив то, как он использует этот термин в трагикомедии «Владимир», посвященной гетману Мазепе, и в проповеди по случаю полтавской победы, провозглашенной в присутствии Петра І в июле 1709 года. Сначала выясним географические границы России Прокоповича 1705 года. В эпилоге к трагикомедии важными центрами его России предстают Киев и Днепр, Киево-Печерская лавра и Киево-Могилянская академия, но «Россия» не ограничивается только столичным городом. Прокопович в эпилоге также выражал радость по поводу возобновления Переяславской епархии, тем самым расширяя границы своей России на этот город и епархиальный центр, который подчинялся киевской митрополии. Непрямое упоминание о митрополите Варлааме Ясинском подтверждает мысль, что, говоря о России, Прокопович фактически имел в виду территорию Киевской митрополии. Как отмечалось ранее, «российским светочем», о котором Прокопович опосредовано упоминал в пророчестве святого Андрея, был гетман Мазепа, чьи достоинства он рассмотрел более детально, чем достоинства самого митрополита. «Над всіми же сими храминами, — писал Прокопович о церквях и строениях Киева и Переяслава, — зиждитель Іоанн [Мазепа] славимий начертан зрится»[189]. Поэтому можно уверенно предполагать, что Россия Прокоповича охватывала не только пространство Киевской митрополии, которая к началу XVІІІ века существенно уменьшилась, но и остальную Гетманщину: например, Черниговскую епархию, которая была неотъемлемой частью казацкого государства. Говоря о «России», Прокопович в первую очередь имел в виду эти земли, которые были домом для «российских» церквей. В трагикомедии студенты Киевской академии названы «благородными российскими сынами», а зрителей, которые посетили спектакль «Владимир», — людьми «российского рода».
Был ли Прокопович одиноким киевским интеллектуалом, который ограничивал понятие «Россия» территорией Киевской митрополии или Гетманщины?
Сам факт, что он сделал это в трагикомедии, которую прилюдно ставили в Киеве, свидетельствует, что он употреблял этот термин и толковал его значение привычно для тогдашних образованных кругов Гетманщины. Прокопович не предлагал ничего особенно нового, как свидетельствует написанный в том же 1705 году, когда появился и «Владимир», панегирик Мазепе рукою Яна (Ивана) Орновского. Мазепа здесь назван «российским Камилом» («swego Kamilla Rossija wynosi»)[190].
Совсем иной образ России предстает в сочинениях Прокоповича, написанных после Полтавской битвы. Как и в трагикомедии «Владимир», в проповеди, посвященной победе Петра, он часто обращается к России как к своему собеседнику. Говоря о военных победах царя, Прокопович восклицает: «О силы, о славы твоея, Россие!» — и призывает ее праздновать полтавскую победу: «Торжествуй, о Россие!»[191]. Россия, начиная с полтавской проповеди, имеет другие географические границы, нежели Россия в трагикомедии. Упоминая в проповеди о победах российских войск, Прокопович заявляет: «Вся, яже многим градом и народом отъяша, дароваху России»[192]. В другом месте проповеди перечислены земли, которые Россия получила в результате военных походов. А вот как Прокопович описывает географические границы власти российского монарха:
«Начен от реки нашей Днепра до брегов Евксиновых на полудне, оттуду на восток до моря Каспийскаго или Хвалинскаго, даже до предел царства Персидскаго, и оттуду до далечаших пределов едва слухом ко нам заходящаго царства Китаехинскаго, и оттуду на глубокую полунощь до Земли новой и до брегов моря Ледовитаго, и оттуду на запад, до моря Балтицкаго, — даже паки долгим земным и водным протяжением прийдеши к помянутому Днепру. Сия бо суть пределы монарха нашего».4
В проповеди сказано, что «пределы» царства монарха — это в то же время границы «Российской монархии», «Российского государства», а значит, России. Итак, в полтавской проповеди Прокопович отходит от предыдущего толкования этого термина касаемо киевского церковно-административного образования или казацкого государственного образования и закрепляет его за территорией всего Московского государства, которая охватывает и Гетманщину.
Поскольку термин «Россия» в проповеди 1709 года закреплен за всем пространством, подвластным царю, земли, которые в трагикомедии Прокопович называет «Россией», теперь получают название «Малая Русь». Этого термина не было в пьесе[193]. Согласно проповеди, Мазепа пригласил Карла XІІ в Малую Россию: «Коварным наущением и тайным руководительством от проклятаго зменника воведен есть внутр самую Малую Россию»[194]. Саму территорию Малой Руси «служители диавольскии» собирались очистить от православной веры, введя вместо нее церковную унию — это было типичное обвинение против Мазепы в российской пропаганде 1708–1709 годов, которое Прокопович должным образом повторил в проповеди[195]. Вот так Россия трагикомедии превратилась в Малую Россию проповеди, а термины «Россия» и «российский» начали употреблять для обозначения восточнославянских образований. Проповедь называет армию Петра, которая стояла под Полтавой и в состав которой входили казацкие полки, «российским воинством», не отличая казаков от регулярных московских войск. Исход битвы стал причиной «общей всероссийской радости»[196]. Эта формулировка предполагает, что жители Малой Руси радовались победе так же, как монарх и все его царство.
Разным в сочинениях Прокоповича 1705 и 1709 годов было не только обозначение территориальных границ России, но и толкование ее связей с персоной царя. Во «Владимире» Россия предстает автономной от монарха, даже независимой, связанной с ним через гетмана. А в 1709 году — это уже государственное образование, напрямую связанное с личностью монарха. Вспоминая эпизод Полтавской битвы, когда вражеская пуля попала в царскую шляпу, Прокопович пишет, что «ея же [головы Петра] вредом вся бы повредилася Россия»[197]. По мнению Прокоповича, Россия была благословенной, потому как имела такого царя, как Петр («О благополучная о царе твоем Россия!»). Россия будто бы переживала смешанные чувства, наблюдая, как Петр непосредственно рвется в гущу боя. Она радовалась и боялась: «Возрадовася и купне вострепета Россия, узревши сие»[198]. В стихах, присоединенных к проповеди, Прокопович призывал Россию прославлять царя: «Тебѣ же, монархо державний, / Что в дар твоя Россия принесет и кия / Воспоет пѣсни?»[199]. Так Россия проповеди 1709 года не только изменила свои границы, но и лишилась контекстной автономии и абсолютной приоритетности в иерархии социальных, религиозных и политических лояльностей, которую имела в трагикомедии «Владимир». Измена монарху в этом контексте была равноценна предательству России. Именно в такой позорной роли Мазепа, светоч России из трагикомедии «Владимир», предстает в проповеди 1709 года. «Лжет бо, сыном себе российским нарицая, враг сий и ляхолюбец. Хранися таковых, о Россио, и отвергай от лона твоего»[200].
Стефан Яворский
Прокопович не был одиноким писателем и проповедником, который события под Полтавой рассматривал сквозь всероссийскую призму. Еще один продукт киевского образования, митрополит Стефан Яворский, приурочил к событиям 1708–1709 годов в Гетманщине не только хвалебные проповеди, но и стихотворение о предательстве Мазепы («In vituperium Mazеpae»), в котором бывший гетман изображен как ядовитый и лукавый змей-отступник. Построенное как плач матери-России, осуждающей предавшего ее сына, стихотворение написано от имени всей России, и нет никаких сомнений, какую именно Россию автор имеет в виду[201]. В еще одном произведении о событиях 1708–1709 годов, «Слове о победе над королем шведским», Яворский создает образы Православной церкви и России, которые поют гимны в честь Петра. Яворский, как и Прокопович, считал Мазепу предателем всей России, а не только малороссийской отчизны. Однако он оказался в замешательстве — чем было царево государство: «российским» или «великороссийским» образованием? Простого ответа не существовало, поэтому Яворский, говоря о царском государстве, использовал оба названия[202]. Употребляя термин «Россия», Яворский толковал его в более широком, всероссийском значении, чем также способствовал возникновению путаницы с неаккуратным использованием одного слова для обозначения и российского государства, и казацкой Украины. Если светские элиты Гетманщины, которые писали на русском, польском или российском языке, четко отличали свою родину — Украину или Малую Россию — от Московии, которую все чаще называли Великой Россией, то в киевских поэзиях и проповедях, написанных в торжественном стиле, сохранялась древняя могилянская традиция использовать термин «Россия» так, словно за пределами Киевской митрополии не было никакой другой России. Подменяя значение этого термина, Яворский, а пуще его Прокопович, открывали путь к смещению лояльности (а значит, идентичности) от Гетманщины, ее церковных и гражданских образований к российскому царю и его государству.
В течение большей части своей петербургской карьеры Прокопович настоятельно продвигал идею одной объединенной российской нации, для обозначения которой использовал термины «российский народ», «российский род», «россияне» и «российстии сынове». Как и многие его современники, Прокопович употреблял термин «народ» в двух значениях. Первое охватывает все население царских владений. Обычно Прокопович говорил и писал о «народе» как общности, которая должна быть благодарна своему правителю, потому как главными его заботами были ее счастье и процветание. Чаще всего, когда Прокопович говорил о «народе» в этом первом понимании, он имел в виду элиты общества, но иногда — и «простой народ», состоявший из низших социальный слоев[203]. Второе значение термина «народ» касалось этнокультурной и политической организации мира, который состоял из наций, государств, стран и царств. Все эти термины у Прокоповича были взаимозаменяемы (поэтому для него Казанский ханат был «народом»[204]). В отдельных случаях Прокопович для обозначения «народа» как субъекта международных отношений употреблял термин «нация»[205]. В проповедях Прокоповича попадаются упоминания о чужеземных («иностранных») и российских («российстиих») народах, но в большинстве случаев он писал все же об одном российском народе[206]. По его мнению, мир состоял из политических обществ (народов-наций), а в России был только один российский народ-нация. Славеноро́ссийская нация автора «Синопсиса», которую неясно привязывали к более широкому славянскому миру, уступала народу-нации, который главным образом ограничивался территорией Московского государства. Такой взгляд хорошо координировался с миропониманием Самуэля Пуфендорфа, чьи сочинения в переводе киевлянина Гавриила Бужинского на весьма славянизированный русский язык хорошо знал Прокопович[207].
Самуэль Пуфендорф
В проповеди 1709 года в честь полтавской победы Прокопович использовал термин «народ» («народы», языци») только для обозначения чужеземных государств или тех, которых завоевали московские монархи. Он не упоминал ни великороссийского, ни малороссийского народов, ни российского народа-нации, вместо этого говоря о российском войске («воинство») и мощи («силы»)[208]. Если он все же использовал слово «народ» касаемо жителей царских владений, то лишь для обозначения целого общества, которое либо было объектом интриг Мазепы (подняв руку на своего господина, Мазепа «смущением поколебал народ»), либо пило «свыше данное […] вино радости» в честь полтавской виктории[209]. Это общество приобрело более выразительные этнокультурные черты в первой проповеди, которую Прокопович провозгласил после переезда в Петербург в октябре 1716 года. В «Слове похвальном», приготовленном к первому дню рождения царского сына Петра Петровича, киевский проповедник призывал «российский народ» праздновать рождение сына царя, говорил о «российском роде» Бориса Годунова и обращался к своим слушателям «россияне»[210]. Позднее Прокопович часто будет использовать эти термины в проповедях и сочинениях петербургского периода. Он не захотел рассматривать дело Мазепы как конфликт между двумя разными народами-нациями и видел его как внутреннюю российскую проблему в «Слове на похвалу… памяти Петра Великого» (июнь 1727 года), в котором подытожил главные события и приобретения царствования Петра. В этом произведении «измена» Мазепы была рассмотрена наряду с Донским и Астраханским восстаниями как внутрироссийские проблемы («терзания»)[211].
Прокопович почти никогда не воспринимал Россию как многонациональное и многоэтническое государство. Он старался избегать термина «империя» для обозначения России, предпочитая слова «государство» или «монархия». Таким образом, на имперское, по сути, государство он накладывал понятие этнически и религиозно однородного российского (русского) народа, которое киевские ученые XVІІІ века применяли для обозначения своих земель. У киевской «России» не было «российского монарха», и Прокопович нашел совершенное воплощение киевской православной мечты о собственном монархе в преобразованной и переименованной Московии петровских времен. Эта стратегия подтолкнула Россию к модерному созданию нации, а Прокопович стал неутомимым строителем и распространителем национального образа Российской империи.
В поисках отчизны
В проповедях и сочинениях, написанных после Полтавской битвы, Прокопович часто называет Россию «отчизной» («отечеством»). К этому термину он прибегал и ранее: еще в трагикомедии использовал одну из его форм — «отечество» — для обозначения наследия Владимира, которое досталось Мазепе[212]. Однако после 1709 года Прокопович использует термин «отечество», чтобы передать другое понятие, основанное на латинском «patria» — термине, тесно связанном с развитием патриотизма и протонационализма в раннемодерной Европе[213].
Употребление «отечества» как синонима «patria» не было в новинку для московского политического дискурса, но Прокопович один из первых объявил преданность отчизне одной из наивысших гражданских добродетелей.
Понятие «отчизны» в произведениях Прокоповича было таким же размытым, как и понятие «Россия». Где пролегали границы «отечества» для него и для его «соотечественников» киевлян? Где оно начиналось и заканчивалось? Чтобы ответить на эти вопросы, нам стоит рассмотреть, какую роль это понятие сыграло в идеологическом противостоянии, или, словами одного исследователя этого периода, в «войне манифестов» между Мазепой и Петром, которая предшествовала Полтавской битве[214]. Царь, который до перехода Мазепы на сторону шведов осенью 1708 года редко или же никогда не использовал этот термин в официальных документах, теперь в обращениях к казачеству представал как истинный защитник их отчизны и малороссийской нации[215]. В указе от 28 октября 1708 года, изданном сразу после известия о переходе Мазепы[216], царь изображал поступок гетмана как измену присяге в личной верности. Кроме обвинения гетмана в предательстве, Петр использовал еще два аргумента. Первый касался условий установления московского протектората над Гетманщиной во времена Богдана Хмельницкого. Согласно этим условиям, царь брал на себя обязательство защищать «Малую Россию» от польской угрозы православию. Теперь же, когда польский король Станислав Лещинский помогал Карлу XII в войне против Московии, Петр сполна воспользовался этим аргументом. Он обвинил Мазепу в попытке подчинить «малороссийский край» полякам и перевести православные церкви в унию. Как защитник «малороссийского края» царь провозгласил решительное намерение предотвратить порабощение, разрушение Малой Руси и осквернение церквей Божьих. Другой аргумент, к которому прибегнул Петр, чтобы дискредитировать оппонента, касался образа московского царя как защитника «малороссийского народа» от злоупотребления властью со стороны казацкой администрации. Обвинение в предательстве царских интересов, оскорбление Войска Запорожского и «народа малороссийского» входило в перечень причин, которые приводила Москва, устраняя в 1687 году с гетманской должности предшественника Мазепы Ивана Самойловича[217]. Теперь настал черед Мазепы быть обвиненным в обложении несправедливо тяжкими податями «малороссийского народа» ради собственного обогащения. В той или иной форме все эти мотивы фигурировали и развивались в многочисленных манифестах и грамотах, которые Петр издавал в конце октября — начале ноября 1708 года[218].
Карл ХІІ
Впервые Петр употребил термин «отечество», скорее всего, в указе от 6 ноября 1708 года. Этот указ был, безусловно, самым пространным документом, в котором царь доказывал свою правоту в деле с гетманом. Он был написан как ответ на письма Карла ХІІ и Мазепы к «малороссийскому народу», перехваченные царскими войсками. В петровском указе была сделана попытка дискредитировать Карла ХІІ и Мазепу как врагов «малороссийского народа», которые намеревались эксплуатировать Украину экономически, а после отдать ее Польше или установить самодержавное правление Мазепы, ввести лютеранство и унию, чтобы уничтожить православие. Для подтверждения этих заявлений были приведены факты опустошения оккупированных территорий и грабежа православных церквей Беларуси, учиненных шведскими войсками[219]. Кроме того, Петр заверял, что древние права, которые царь предоставлял Малороссии во времена Богдана Хмельницкого, ни разу не были нарушены. Он утверждал, что Москва ничего не взяла у Малороссии и что «никоторый народ под солнцем такими свободами привилиами и лехкостию похвалитися не может, как по нашей, царского величества, милости Малороссийский». На обвинение Мазепы в том, что царь разместил войска в Украине, дабы полностью взять ее под свой контроль после войны, Петр ответил, что не имеет намерения оставлять великороссийские войска в украинских городах после окончания кампании. Он утверждал, что войска уже покинули некоторые города, а солдаты, которые бесчинствовали и вредили населению, были казнены. Наконец царь призывал свих подданных из «малороссийского народа» поддержать его усилия ради освобождения «отечества своего» — «Малороссийского края»[220].
В письме к запорожским казакам Петр не только обещал повысить ежегодную плату, которую получает каждый курень Сечи, до 1500 рублей, но и выражал надежду, что казаки «за отчизну свою и за православную веру и за нас стоять и богоотступного изменника Мазепы прелестей слушать не будете»[221]. В грамоте от 21 января 1709 года Петр совершил попытку опровергнуть утверждение Мазепы, будто бы тот хочет сделать Украину независимым государством: царь заявил, что гетман перебежал на сторону шведов не «для общей пользы народа Малороссийского и содержания вольностей их, и чтоб оному бы не быть ни под Нашею, ни под Польскою властию, но содержатися особливо свободному», а чтобы отдать Украину в руки поляков. Петр призывал своих малороссийских подданных не обращать внимания на Мазепу и шведов, а поддержать великороссийские войска в их борьбе с врагом, «видя сию явную измену богоотступника Мазепы к предательству отчизны вашей в польское несносное ярмо намереваемую»[222]. Петр явно смещал акценты, характеризуя поступок Мазепы уже не как измену царю (таким был главный мотив первой грамоты), а как измену отчизне. Не удивительно, что во всех известных нам грамотах и письмах Петр писал исключительно о «вашей» (не о «нашей») отчизне, чётко давая понять, что «отечество» в его сознании ассоциировалось с особенным характером украинского политического дискурса и не имело непосредственной связи со «всероссийской» политической культурой и лексикой[223].
Война манифестов между Петром и Мазепой в течение месяцев, предшествовавших Полтавской битве, составляет идеологический фон, на котором можно должным образом оценить значения понятий, идей и образов, использованных Прокоповичем в проповеди, провозглашенной 24 июля 1709 года в присутствии царя. Война непосредственно коснулась Киевской академии, ведь всех чужестранных (то есть рожденных за пределами Гетманщины) студентов местный московский воевода по приказу царского канцлера выслал за польско-литовскую границу[224]. Прокопович не мог не знать содержания как минимум нескольких мазепинских манифестов, ответов на них Петра и пророссийского гетмана Ивана Скоропадского, в частности, в тексте проповеди упоминается манифест Петра к запорожцам[225]. Прокопович явно развивал некоторые идеи, высказанные в манифестах, например, мотив предательства царя и отчизны, которое совершил Мазепа. Впрочем, несмотря на неоспоримые параллели между проповедью Прокоповича и манифестом царя и нового гетмана, он и его царский предшественник в идеологической войне против Мазепы существенно отличались друг от друга. Одно из важнейших отличий касалось представления об отчизне, которую будто бы предал Мазепа.
Если Петр имел в виду Малороссийскую отчизну, то Прокопович считал отечеством, которому изменил Мазепа, не Малороссию, а то, что Петр в одном из манифестов назвал «Российским государством» (Прокопович в целом называл ее «Россией»).
Понятие российской отчизны, которое сконструировал Прокопович, стало важным идеологическим нововведением, ибо не только предполагало потенциальное смещение лояльности «малороссийского народа» от Гетманщины к «всероссийскому» государству, но и вводило новый объект верности для остального населения этого государства. По мнению Прокоповича (в отличие от мнения Петра), под Полтавой не было ни малороссийских, ни великороссийских войск — там дислоцировались только российские войска; не существовало отдельных малороссийской и великороссийской наций, была лишь единая российская нация. Малая Русь и Великая Россия были не частями одного «всероссийского государства», а Малороссия становилась частью расширенной России — новой отчизны и нового объекта верности царских подданных. Этот новый источник легитимности был тесно связан со старым — особой царя, но с этого времени царь должен был делить свое место на вершине иерархии лояльностей с понятием России как отчизны. Название «отец отечества», которым киевские авторы раньше величали Мазепу, отныне, в связи со сменой политических границ отчизны, было закреплено исключительно за личностью царя. Не удивительно, что в проповеди 1709 года Прокопович обращался к Петру «отче отечества».
Был ли Прокопович одинок в этой попытке превратить Российское государство в национально определенную отчизну под названием «Россия»? Скорее всего, нет, но доказать это весьма непросто. Одно из свидетельств того, что Прокопович имел могущественного союзника и протектора в этом деле — самого царя, находим в тексте царского повеления войскам накануне Полтавской битвы. В этом документе, заметно отклоняясь от духа предыдущих манифестов, Петр называл свою страну и «Россией», и «отчизной». «Ведало бо российское воинство, — говорилось в тексте повеления, — что оной час пришел, который всего отечества состояние положал на руках их: или пропасть весма, или в лучший вид отродитися России»[226]. Проблема этого указа состоит в том, что оригинальный текст не сохранился, а известная ныне версия взята из рукописи «Истории императора Петра Великого», которую приписывают — кому бы вы думали? — тому же Феофану Прокоповичу[227]. К сожалению, мы не можем знать наверняка, так ли именно обращался к своим войскам Петр перед боем, употреблял ли слова «Россия» и «отчизна». Бытование термина «отчизна» в Московии и Российской империи еще необходимо исследовать, но оба слова выглядят вполне уместными в трудах одного из первых популяризаторов представления о России, как об общей отчизне двух народов-наций, которые до Полтавской битвы назывались Малой Россией и Великой Россией.
Понятие отчизны в сознании Прокоповича ассоциировалось с конкретным государственным образованием, которое он считал природным объектом лояльности для его «сыновей» с древних времен. Свое «отечество» было у троянцев, у римлян, а позднее — у поляков[228]. Понятное дело, границы отчизны могли меняться вместе с изменениями границ государства. Например, по мысли Прокоповича, Александр Невский «отродил Россию и сия ея члены, Ингрию, глаголю, и Карелию, уже тогда отсещися имевшия, удержал и утвердил в теле отечества своего»[229]. Таким образом, как это часто случалось в проповедях Прокоповича, представление об отчизне и России сливались в одно понятие. Как уже указывалось, представление о России имело выраженную национальную коннотацию в проповедях Прокоповича, поскольку он считал Россию «общенародным именем», часто сопоставлял ее с другими нациями и при случае называл народом[230]. Понятие России как отчизны связывало понятие российского монарха (сверхважное для Прокоповича) с понятием российского государства («государство», «держава») и российского народа-нации.
Александр Невский. Миниатюра из «Царского титулярника» 1672 г.
Новое значение таких терминов как «Россия» и «отчизна», которое Прокопович использовал в своих проповедях и сочинениях после 1709 года, свидетельствовало о возникновении новой идентичности в государстве Романовых — идентичности, которая базировалась не на лояльности к правителю или его государству, а на лояльности нового типа к протонациональному образованию. Прокопович активно распространял эти новые термины и понятия в многочисленных речах и проповедях. Тем самым он вторил протестантским проповедникам из противоположного лагеря Великой Северной войны, а также их коллегам из других частей Северной Европы. Все они своими проповедями и сочинениями активно распространяли представление об отчизне и понятие лояльности к ней[231]. Понятие России как отчизны и объекта лояльности для царских подданных имело необыкновенный успех в Московском царстве эпохи Петра, и в этом успехе несложно увидеть руку Прокоповича. Накануне провозглашения Российского государства империей Прокопович сознательно или бессознательно поощрял «национализацию» вотчины московских царей. Этот процесс усилился в XVIII веке в одно время с «империализацией» Московского государства, совпадение же этих двух тенденций внесло существенное замешательство сначала в помыслы подданных российских императоров, а стало быть, и в интерпретации исследователей русской имперской истории.
Российская империя
22 октября 1721 года в Свято-Троицком соборе Санкт-Петербурга состоялась официальная церемония, посвященная заключению Ништадтского мирного договора со Швецией, который завершил Великую Северную войну. Во время торжеств Сенат наделил Петра І титулом «императора всероссийского» и двумя формами величания: «Великий» и «отец отечества». Согласно официальной версии событий, новый титул царю предоставил Сенат, но на самом деле инициатива исходила от Святейшего Синода. Вероятнее всего, с предложением присвоить Петру І новый титул и формы величания выступил Феофан Прокопович[232]. Величание «Петр Великий» прочно закрепилось и в российской, и в западной историографии, а царствование Петра считают началом нового, имперского периода в истории государства. Не менее важным было величание российского правителя «отцом отчизны»[233]. В последнее время все больше внимания уделяется тому, что Петра провозгласили «национальным» императором, правителем Российской империи, а это отличало его от предшественников из Византийской и Священной Римской империй, чьи титулы не имели этнонациональных коннотаций[234]. Новый титул и новые формы величания царя сочетали два очень разных понятия политической лояльности, которые бытовали при дворе Петра в первой четвери XVIII века, сплетая их в сложные комбинации. Первым из них было понятие России как нации-государства, а второе — понятие России как государства-империи.
«Подписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721 года». Гравюра П. Шенка-младшего. 1721 г.
Попытаемся тщательнее рассмотреть все три элемента нового царского титула: «император всероссийский», «отец отечества» и «великий», — чтобы выяснить точный смысл, который Петр и его окружение вкладывали в основание того, что ныне зовется российской имперской историей. Кем они были: строителями империи или нации? И что на самом деле для них означал термин «империя»?
Как мы убедились, термины «император» и «империя» отнюдь не были популярными в политической лексике Прокоповича, который был вероятным инициатором событий октября 1721 года, но, безусловно, принадлежали к самым сокровенным в списке самого Петра. Чужеземные наблюдатели заметили, что после Полтавской битвы придворные царя, которые более всего хотели угодить ему, обращались к нему как к «императору». Елена Погосян продемонстрировала, что Петр начал забавляться идеей провозглашения себя императором в конце XVII века после Азовских походов на турок, вернулся к ней после побед над шведами в 1708–1709 годах и, наконец, решился воплотить ее около 1717 года, отсрочив официальное принятие этого титула до окончания Великой Cеверной войны со шведами[235]. Хронология интереса Петра к титулу императора показывает, что в его сознании этот титул и понятие империи было тесно связано с войной, военной победой и присоединением новых территорий. Эту же идею подчеркивало российское слово, которое в тогдашних официальных документах и изданиях употребляли, чтобы передать значение латинского понятия «imperator» — «присноприбавитель», которое можно перевести как «тот, кто постоянно прибавляет или увеличивает». Имелось в виду то, что Петр присоединил новые земли к древнему царству, которое поэтому стали считать империей. Достижения Петра на Балтике действительно имели долговременное стратегическое значение, но если судить по размерам присоединенных территорий, он занимает лишь четвертое место после трех своих предшественников: Ивана III, который захватил Тверь и Новгород; Ивана IV, который инкорпорировал волжские ханаты и «завоевал» Сибирь; и своего отца Алексея Михайловича, который «присовокупил» Киев, Смоленск и Левобережную Украину. Петр и его идеологи должны были хорошо осознавать эти факты, поэтому новый титул обосновывали призванием к давней московской традиции, которая будто бы прервалась во время Смуты. На церемонии присвоения Петру нового титула говорилось, что тот унаследовал его от предков, поскольку впервые московских царей начал так титуловать император Священной Римской империи Максимилиан I[236].
Иван III
Алексей Михайлович
Іван IV Грозный
Какие исторические реалии стали основой соображений Прокоповича, изложившего эту аргументацию в решениях Синода; Петра Шафирова, написавшего речи для церемонии; и Феодосия Яновского (еще одного киевлянина), который произнес речь с такой аргументацией? Очевидно, они придерживались исторических взглядов своего властелина и стремились предупредить желания самого царя. Еще в 1708 году, когда Петр думал, что Великая Северная война подходит к концу, и всерьез задумался над принятием императорского титула, он приказал подготовить историю «российского государства», которая бы начиналась от правления Василия ІІІ. Почему Петр считал таким важным царствование Василия ІІІ, которое в исторических нарративах обычно теряется между царствованиями куда более успешного отца Василия Ивана ІІІ и сына Василия Ивана ІV Грозного? Причина состоит в тогдашнем убеждении, что Василий III был первым правителем Московии, который принял титул царя, признанный императором Максимилианом I. Историографическая инициатива Петра дала мизерные результаты, но в 1718 году письмо Максимилиана, написанное в 1514 году, было опубликовано в Петербурге, а экземпляры разосланы в чужеземные посольства столицы[237]. В случае, когда Петр собирался принять титул, которым на то время обладал только габсбурский император, признание Максимилианом царского титула приобретало огромное значение. Никто, разумеется, не подвергал сомнению петровский титул царя, но он захотел императорский титул. Он утверждал, что эти два титула являются тождественными, и первым из них были наделены его предки (пусть даже он был Романовым, а те — Рюриковичи) в начале XVI века, но в Смутное время цари его лишились. Теперь же, вернув утраченные тогда земли (так оправдывали аннексию Ингерманландии), Петр восстанавливал не только разорванную империю, но и императорский титул. Вопреки тогдашней вестернизации российской политической мысли, главным обоснованием территориальных достижений было вотчинное право.
«Вступление крестоносцев в Константинополь 13 апреля 1204 г.». Гравюра Г. Доре. 1877 г.
Предоставление Петру титула «императора всероссийского» было еще одним реверансом в сторону московской политической традиции и отказом отречься от древнего статуса московских правителей как самодержцев всей Руси. Принятие этого титула стало сигналом возвращения царей к традиции, которая существовала до 1654 года и заключалась в величании себя самодержцами всей Руси. Ей предпочли двучленную форму (Великой и Малой Руси), а после трехчленную (Великой, Малой и Белой Руси). Теперь все Руси слились в одну, которая растягивалась на новые территориальные приобретения империи, среди которых были и прибалтийские провинции. Традиционный термин «Русь» просто-напросто заменили эллинизированной формой «Россия», которая отображала новые обычаи эпохи. Слово «Россия» звучало как иностранное, поэтому хорошо подходило к иностранному же понятию «империя», которое теперь употребляли вместо «царства» как официальное название государства. Так подле императора Священной Римской империи появился всероссийский император. Его титул был чем-то новым, ибо определял империю этнонациональным способом, но в сознании Петра имел также некоторые исторические параллели. В речи по поводу принятия титула, провозглашенной во время церемонии, Петр призывал подданных, чтобы те, надеясь на мир, готовились к войне, «смотря на примеры других государств», которые по причине «нерачительства весьма разорились, междо которыми приклад Греческого государства, яко с собою единоверных, ради своей осторожности, пред очами б имели». Примечательным здесь является упоминание о Византийской империи и отсылка к греческой государственности. Царь увлеченно читал популярные московские переводы исторических сочинений об Александре Македонском и о падении Константинополя. Обе книги, сначала распространяемые в рукописных вариантах, по его приказу были напечатаны. Вторую издавали дважды, а навеянные ею образы даже приходили к царю во снах[238].
Если говорить о величании «отец отечества», то почти нет сомнений касаемо того, какое именно отечество Петр и его окружение имели в виду. Царские идеологи, в частности Прокопович, как уже было сказано, охотно применяли этот новый термин для обозначения всего Московского государства: прошли те времена, когда царь писал казакам только об их отчизне. Прошли, но не были полностью забыты. В черновом варианте речи, которую подготовил Петр Шафиров, а провозгласил Феодосий Яновский во время церемонии предоставления нового титула, вышколенный в Киеве клирик заботливо изменил выражение «нашей отчизне», которое, видимо, напоминало ему о Киеве, на «всей отчизне»[239]. В предложении Святейшего Синода, предоставление царю такой конкретной формы величания было обосновано желанием признать вклад Петра в благополучие России. Она «из мрака невежества на театр славы целого мира» была «произведена» усилиями Петра — «аки бы из небытия в бытие порождена и во общество политических народов приобщена». В речи, провозглашенной на церемонии, утверждалось, что новую форму величания предлагают царю «по примеру древних Греческих и Римских Синклитов»[240]. Хотя ее корни видели в древнем понятии «patria», больше общего она имела с идеями, распространенными среди европейских «политических наций», в круг которых пыталась войти Россия. Понятие отчизны было одним из первых сигналов наступления в Московии эпохи раннемодерного национализма с его дискурсом «нации» и «общего добра»[241]. Царь в речи по случаю принятия титула показал свою благосклонность к этой новой риторике, призвав присутствующих «трудиться о пользе и прибытке общем, которой Бог нам пред очьми кладет, как внутрь, так и вне, от чего облегчен будет народ»[242].
Царь свободно владел языком европейских «политических наций», но имел ли он в виду именно то, что говорил, когда речь шла об общем добре? Наследуя чужеземные образцы, он приказывал своим подданным стоить триумфальные арки в честь своих побед, создавая впечатление всенародной любви к себе. Если говорить о титуле, Петр сам же и приказал Сенату предоставить его себе. В 1721 году один чужеземный дипломат написал, что царь дал Сенату такие права, какие были у римского Сената, чтобы тот мог предоставить ему титул императора, но после церемонии упразднил их. Желая, чтобы отечество прославляло его как отца и благодетеля, он умышленно планировал «стихийные» всплески любви и восторга к себе со стороны своих подданных и, безусловно, достиг некоторых успехов на этом поприще, по крайней мере, если говорить об официальной пропаганде. Прокопович возвеличивал его не только при жизни, но и после смерти. 8 марта 1725 года он провозгласил в церкви св. Петра и Павла хвалебное слово в адрес покойного императора, назвав своего бывшего покровителя виновником «бесчисленных благополучий наших и радостей»: «воскресивший аки от мертвых Россию и воздвигший в толикую силу и славу, или паче, рождший и воспитавший прямый сый отечествия своего отец»[243]. Но долгим ли и распространенным было такое восприятие императора как истинного отца отечества? Прокопович как истинный конъюнктурщик перестал восхвалять усопшего императора в течение 1730-х годов, в то время как элита в целом, мягко говоря, питала смешанные чувства к императору от самого начала. Как метко очертил противоречивую суть Петра Василий Ключевский, император «надеялся грозой власти побудить к самостоятельности в порабощенном обществе… чтобы раб, оставаясь рабом, поступал сознательно и свободно»[244].
Василий Ключевский
«Духовный регламент» Ф. Прокоповича, 1721 г.
Неоспоримость центрального места личности правителя в российской политической системе и идентичности подчеркивалась титулованием «великий», согласно речи Яновского, предоставленным Петру за его личные заслуги[245]. Новый титул и формы величания сообщили о вступлении России не только в когорту «политических наций», но и в эпоху светского абсолютизма. Ибо хотя с инициативой предоставить новый титул выступил Святейший Синод, именно Петр поручил Сенату выполнить эту задачу. Титул ратифицировала не церковь, которая короновала и помазывала каждого правителя до конца XVII века, а светский орган власти. Петр внес большой вклад в секуляризацию российской державы, отменив сан патриарха и безоговорочно подчинив Церковь государству согласно «Духовному регламенту» Ф. Прокоповича (1721). Он также приложил немалые усилия, чтобы секуляризировать свой двор и общество в целом, внедрив новый, преимущественно светский и ориентированный на династию официальный календарь вместо религиозного календаря своих предшественников.
Сам Петр был человеком набожным. Упоминания о Боге, Божьей воле и милости в равной мере присутствуют в его приватной переписке, официальных документах и заявлениях. Указы же требовали от населения посещать церковь каждое воскресенье и на великие праздники, а также регулярно исповедоваться.
С другой стороны, во время царствования Петра религия в целом и православие в частности исчезают из списка главных признаков, которые определяют российскую идентичность в сравнении с чужеземцами[246]. Петру на самом деле приходилось сдерживать своих вышколенных в Киеве идеологов, которые пытались преподносить не только дело Мазепы, но и всю войну со Швецией в религиозном свете. Он предложил правки к тексту Речи в честь Полтавской победы авторства упомянутого уже выходца из Киева Феофилакта Лопатинского, который сравнивал Петра с Константином Великим. Император заметил, что война со Швецией ведется не за веру, а за территорию («не о вере, а о мере»), и что шведы поклоняются тому же кресту, что и россияне[247]. По его мнению, протестантская Швеция принадлежала к христианской традиции, общей с его православными подданными, поэтому отказался обосновывать главное дело своей жизни языком религии. Это был радикальный отход от московской традиции, которая обрамляла религиозными терминами не только конфликты Смутного времени, но и Переяславское соглашение.
Войны внезапно перестали быть конфессиональными, а религия уже не составляла ядра официальной российской идентичности в противовес христианскому Западу. Что же заняло место религиозного дискурса XVII века, когда дошло до конструирования главного «иного» для России? В своем «Рассуждении…» (1717) о причинах войны со Швецией Петр Шафиров вспомнил желание царя вернуть утраченные земли, личное оскорбление, нанесенное царю шведским губернатором Риги, и заговор западных государств, которые хотели воспрепятствовать увеличению военного могущества России. Царь, одобряя такую интерпретацию причин войны, позже написал, что «остальные народы политику имеют, чтобы поддерживать равновесие сил между соседями, а более всего, чтобы нас не допускать к свету разума во всех делах, а в первую очередь военных»[248]. Первые две причины, которые назвал Шафиров, имеют параллели с московскими претензиями XVII века на вотчину царя и с нуждой отплатить за оскорбление его чести (обе некоторым образом фигурировали в контексте Переяславского соглашения). Третий же аргумент основывается на других рассуждениях, поскольку выдает знакомство с европейскими идеями о балансе сил и постулирует право каждой нации добывать знания и выступать против тех, кто сговаривается, чтобы препятствовать ей в этом. Понятно, что царь открывал окно в Европу и пытался принести в Россию европейское экспертное знание и мышление не для того, чтобы подчинить Россию Западу, а наоборот, чтобы сделать ее равной среди равных, рядом с другими нациями Европы. Как писал в воспоминаниях посланник Петра в Стамбул Петр Неплюев, «сей монарх отчизну нашу сделал соизмеримой другим, научил знать, что и мы люди»[249].
Петр Шафиров
Российская империя, которую задумал и строил Петр, не планировалась как многоэтническое содружество. Она должна была тешить самолюбие ее правителя, восхвалять его военные победы и территориальные приобретения, свидетельствуя о высоком статусе России в иерархии европейских наций и общем благе ее народа, который оставался бесправным подданным того же царя. Такой замысел не мешал «национализации» владений императора, даже способствовал ей. Вместе с военными знаниями Запад экспортировал в Россию понятие нации, отечества и общего блага. Московия превращалась в национально определенную империю, что отразилось в официальном дискурсе эпохи. Этот дискурс зародился в недрах опыта и мысли киевских ученых, он был приспособлен к политическим традициям Московии (которые делали акцент на династии и государстве) и отшлифован в ходе непосредственной затяжной конфронтации с Западом. Он предлагал подданным новую идентичность новопровозглашенной империи.
Раскол
Российская империя владела огромной территорией, ее общество не было однородным, а официальный имперский дискурс господствовал далеко не в каждой части царских владений. Киевская наука и элементы вестернизации, которые она содержала, вступили в конфликт с мощными силами внутри московской церкви и общества, как только их начал поддерживать двор во времена Алексея Михайловича и патриарха Никона. В институционном измерении сопротивление традиционного московского общества религиозным и культурным реформам, которые принесли с собой киевляне, проявилось в старообрядчестве, расколовшем российскую церковь и общество на два противоположных лагеря. Официальная секуляризация государства и коренная вестернизация московского общества, которая ярко выразилась в запрете Петра носить бороды и во введении западных одежд, только разбередила рану[250].
«Никита Пустосвят. Спор о вере». В. Перов. 1887 г.
Разумеется, в центре противостояния оказался Петр. Ходили слухи, что настоящего Петра при рождении подменили немецким ребенком, а значит, Россией правит немец, а не легитимный российский царь. Старообрядцы считали царя Антихристом, который изменил своей истинной природе, используя латинское имя «Peter» (царь любил писать так свое имя) вместо российского «Петр». Согласно одному старообрядческому тексту за 1710 год, «якожъ въ тайныхъ къ имени Ісусову прилогъ лукавый являетъ инаго Iисуса, тако и въ явныхъ къ имени Петрову новоприложенное его латынское имя, указующее сѣдящаго въ немъ и на немъ преисподняго»[251]. Петр, со своей стороны, повелся со старообрядцами с беспрецедентной мягкостью и прагматизмом, остановив кампанию гонения на них, которую развернула царевна Софья. Царь нуждался в лояльности старообрядцев во время войны, а поэтому вместо того, чтобы преследовать их, он ограничился тем, что лишь обложил старообрядческие общины двойными податями, изолировал их поселения и разрешил им носить бороды и старомодную одежду, сделав из них воплощение давней Московской Руси. Вестернизация останавливалась у ворот старообрядческих поселений[252].
«Патриарх Никон с клиром». Парсуна 1662 г.
«Суд над патриархом Никоном». С. Милорадович, 1906 г.
Царевна Софья
Кто же такие старообрядцы и почему они стали символом сопротивления, которое оказывало общество вестернизации Петра? Истоки этого движения тянутся от протеста, который вызвали реформы Патриарха Никона в середине XVII века. Цель Никона заключалась в том, чтобы внести некоторую унификацию в российские религиозные практики и приблизить их к остальному православному миру — киевскому христианству и греческой церкви. Самым заметным признаком изменения были правки, сделанные в текстах литургийных книг, и новая практика креститься не двумя пальцами, как было заведено в Московии, а тремя. Церковный собор 1666–1667 годов устранил Никона от патриаршего престола из-за его личного конфликта с царем, но и осудил тех, кто сопротивлялся его реформам. Собор постановил, что не только церковь, но и царь имеет право преследовать несогласных, которые получили название раскольников (староверов, старообрядцев). В 1681 году еще один церковный собор постановил передать всех нераскаявшихся «раскольников» под юрисдикцию государственных судов, уполномоченных осуждать их на смерть. Правительство царевны Софьи, которое придерживалось политики вестернизации, послушалось, издав в 1684 году указ, который позволял применять пытки к самым упрямым старообрядцам, а также казнить их, сжигая живьем. «Раскольники» попрятались в самые отдаленные части страны, а некоторые из них совершили самосожжение. В традиционной историографии, которая опиралась на агиографию основателей старообрядчества, считалось, что это движение было массовым и хорошо организованным, однако новейшее изучение источников опровергло существование скоординированного массового движения во второй половине XVII века. К тому времени лидеры старообрядчества смогли перенять образовательные модели своих киевских противников, которые помогли им вышколить собственных миссионеров и распространить «старую веру».
Стремления рядовых духовных бунтарей частенько расходились со взглядами лидеров старообрядчества, которое стало внушительной силой только в первой половине XVIII века, отчасти благодаря запрету Петра на его открытое преследование.
Традиционные трактовки старообрядчества варьируются от восприятия раскола как «тяжкого духовного недуга», по Георгию Флоровскому, до советской оценки его как социального движения под религиозной маской[253]. Георг Михельс убедительно показал, что раскол был реакцией на беспрецедентное вмешательство органов центральной власти в церковную жизнь. В этой роли старообрядчество стало общей оболочкой для целого спектра религиозных течений и разновидностей народного неповиновения[254]. Также можно утверждать, что это была реакция со стороны части традиционного общества на программу конфессионализации религиозной жизни, которая сформировалась на Западе, пришла в Украину с церковной унией и получила поддержку Москвы в середине XVII века. Конфессионализация влекла за собой стандартизацию литургии и религиозных практик, введение центрального контроля над приходской жизнью и повышение образовательного уровня духовенства. Среди тех, кто вынес эти вопросы на повестку дня в Московии, были и представители киевского клира: их церковь начала конфессионализацию еще во времена Петра Могилы, и теперь они стремились навязать эти новые модели церковной жизни своим православным братьям. Поэтому, наверное, не случайно, что на церковном соборе 1666–1667 годов, который оказался невероятно важным для исхода полемики касаемо старообрядчества, позицию официальной церкви во время диспута с лидером старообрядцев протопопом Аввакумом представлял Симеон Полоцкий. Именно Симеон Полоцкий дал этому явлению официальное название. В киевской митрополии термин «раскол» («схизма») использовали в адрес тех, кто покидал православную церковь, чтобы перейти в унию. Симеон использовал его для обозначения всех (реальных и воображаемых) проявлений оппозиции к религиозной политике центра, тем самым создав образ могущественного централизованного движения. По мысли Георгия Флоровского, киевляне, осевшие в Московии, делились на две фракции: сторонники «латинизации», главными представителями которых были Симеон Полоцкий и Стефан Яворский, боролись против сторонников протестантизма клириков вроде Феофана Прокоповича. Впрочем, не вызывает сомнений то, что все киевляне объединились в жестоком неприятии старообрядчества. Одного из них — Димитрия Туптало, которого Петр вызвал из Украины и назначил сначала на Тобольский, а после на вакантный Ростовский престол — Церковь со временем канонизировала именно за его усилия в борьбе против старообрядцев.
Димитрий Туптало
Если старообрядчество конца XVII — начала XVIII века не было хорошо организованным массовым движением, то что же оно из себя представляло? Роберт Крами обратил внимание на сложную культурную систему в старообрядческом мире, которую формировали и поддерживали тексты, продуцировавшиеся в главных центрах движения, таких как Выговская община на севере России[255]. Эта «текстуальная община», которая переписывала эти же тексты, делилась и обменивалась ими, создала дискурс, который помогал найти альтернативу официальной культуре и идентичности. Особенный интерес представляет трактовка, которую Борис Успенский дал старообрядчеству как проявлению конфликта между двумя культурными системами: одну воплощали киевляне, бывшие на имперской службе, а другую отстаивали поборники старомосковских обычаев. По мнению Успенского, это был конфликт между суровым, негибким восприятием священных знаков и священного текста как полученных от Бога (таков был взгляд старообрядцев) и конвенциональным отношением к священным текстам и знакам, которое отстаивали киевляне. Вот что писал по этому поводу Успенский: «Старообрядцы при этом сохраняют то отношение к знаку, которое устоялось в Московской Руси. В то время как новообрядцы подпадают под влияние польской барочной культуры (так как среди новообрядцев много выходцев из Юго-Западной Руси). Стало быть, конфликт между старообрядцами и новообрядцами предстает как конфликт между восточной и западной культурными традициями»[256].
«Грамматика» М. Смотрицкого. Издание 1721 г.
Как засвидетельствовала дискуссия вокруг «Евангелия учительного» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, которая произошла в 1627 году в Москве, конфликт между этими двумя подходами имел долгую предысторию. Книгу осудили и сожгли отчасти из-за присутствия украинизмов в церковнославянском тексте Кирилла, ибо московиты считали, что такие вещи искажают не только библейский текст, но и слова самого Христа. Так же само старообрядцы относились к изменению грамматических форм, правописания, даже произношения слов, которые ввел в литургийные тексты патриарх Никон, руководствуясь грамматикой старославянского языка, которую составил Мелетий Смотрицкий. Симеон Полоцкий призывал своих оппонентов почитать грамматику, прежде чем выражать недовольство новыми текстами, но грамматические аргументы не произвели впечатления на старообрядцев, тем более что сам Симеон пользовался правилами латинской грамматики. Лидеры старообрядчества также категорически выступали против метафорического употребления слов, а особенно тех, которые имели священное значение. Потому они отвергли элементы барочной культуры, которые занесли в Московию киевляне, как святотатство. В контексте традиционной московской культуры изменения формы напрямую связывали с изменениями смысла[257], поэтому именно дискуссия о форме христианского учения, а не его содержании вызвала самый большой церковный раскол со времен разделения христианства на восточную и западную церкви в XI веке.[258]
Если лидеры старообрядчества придерживались такого «неконвенционального» взгляда на церковнославянские тексты, то что же они могли думать об иностранных переводах? Конечно же, их отношение было неприязненным, особенно, когда речь шла о латинском языке. Как мы знаем, многим из них было достаточно одного латинского имени Петра, чтобы объявить его Антихристом. А когда правительство занялось созданием славяно-греко-латинской школы (по инициативе Симеона Полоцкого), лидеры старообрядчества осудили латынь как еретический язык, который искажает не только форму, но и смысл христианского учения. Ненависть к латинскому Западу, конечно же, не была открытием старообрядчества. В этом случае, как и во многих других, они просто-напросто придерживались глубоко впечатанной в их сознание традиции Московии[259]. Они было твердо убеждены, что истины, а особенно истины веры, нельзя передать ни на каком другом языке, кроме церковнославянского. Придерживаясь такого взгляда, они брали пример из сочинений Иоанна Вишенского, написанных в конце XVI — начале XVII века. Полемизируя с польским иезуитом Петром Скаргой, который доказывал, что церковнославянский не может быть языком религиозной дискуссии, Вишенский утверждал, что спасение возможно только посредством церковнославянского письма. Со времен Вишенского русское православие, несомненно, переняло значительную часть западной науки и вывело церковнославянский язык на уровень, на котором он стал пригоден для раннемодерной религиозной дискуссии, однако старообрядцам была ближе русская культура начала XVII века, чувствовавшая отвращение к западным образцам, в отличие от ее более самоуверенной версии конца этого века.
Икона прп. Иоанна Вишенского
Яркий пример характерной антизападной ориентации старообрядчества дает его самый выдающийся ранний лидер протопоп Аввакум[260] в комментариях насчет новых тенденций в московской иконописи. Под влиянием Киева и прямых контактов с Западом в последние десятилетия XVII века московская иконопись претерпела существенные изменения. Среди жителей Москвы приобрели популярность реалистические изображения иконописных персонажей. По иронии судьбы, одно из первых проявлений общественного недовольства «стандартизацией» церковных практик, которую начал Никон, возникло именно вследствие его указа конфисковать у московитов западные священные образы и написанные под западным влиянием иконы. Со временем и патриарх, и царский двор сами подверглись западному влиянию. Оружейная палата стала центром новой иконописи, где работали такие светочи нового российского искусства, как Симон Ушаков[261]. Настал черед оппонентов Никона протестовать против «пагубного» влияния Запада. Аввакум порицал новые тенденции, указывая на их чужеземное происхождение:
«Пишут спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. <…> А все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, будто живыя писать, устрояет все по фряжьскому, сиречь по немецкому. <…> Ох, ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!»[262]
Русская идентичность для старообрядцев в большей степени сохраняла тот религиозный наряд, которым ее покрывали во времена Филарета, когда ранние лидеры старообрядчества начинали свою карьеру. Им был чужд ориентированный на Запад национализм Петра, который предлагал воспринять западные знания и обычаи, чтобы сделать Россию конкурентоспособной в Европе. Во многих смыслах старообрядчество воплощало не только старые формы московского религиозного культа, но и старые способы обозначать российскую идентичность. Если в Украине и Беларуси религиозная полемика, вызванная Брестской унией, поспособствовала созданию дискурса, который мобилизовал русскую идентичность, то дискуссия по поводу старообрядчества разделила московское общество. Один лагерь сочетал киевскую церковную культуру с культурой московских элит, тогда как второй продолжал придерживаться домодерных московских религиозных и культурных практик, ревностно отмежевываясь от внешнего мира. Забавно то, что именно этот второй лагерь разработал более демократическую модель российской идентичности. Один из лидеров старообрядчества Семен Денисов предложил в своих сочинениях альтернативную версию не только российской веры, но и российского общества и идентичности. Эта идентичность уже не сосредоточивалась на царе и официальной церкви, потому как те предали истинную веру. Вместо этого в ее центре очутился образ российской земли и ее общин[263]. Петр изолировал эту альтернативную идентичность в «резервациях», выделенных для старообрядцев.
Был ли Петр первым?
Что нового Петр и его эпоха принесли на строительную площадку, где происходило становление российской идентичности? Рассматривая вклад Петра в формирование российской идентичности, мало что на идеологическом поле его творческих инициатив можно считать «первым». Ища признаки «первенства», Вера Тольц, скажем, причисляет к его достижениям «революционную <…> идею, принесенную из Европы, согласно которой государство было отделено от персоны царя и поставлено над ним». Она обращает внимание на возвышение Запада как будущего конститутивного «иного» для формирования российской национальной идентичности и упоминает как еще один фактор географического расширения империи, которую осуществил Петр[264]. Однако если учесть московский опыт XVII века, ни один из этих факторов нельзя рассматривать как уникальный вклад в российский процесс творения нации. Ведь, как было отмечено в предыдущем разделе книги, идея отделения государства от личности правителя впервые появилась в российских политических трактатах во время Смуты. Тогда же московиты начали обозначать себя с помощью противопоставления католическому и протестантскому Западу, пусть тогда его и воплощали поляки и литовцы, а не западные и центральные европейцы. Если говорить о расширении империи, то вклад Ивана IV в «империализацию» российской психики заметно превышает вклад Петра I. Также сомнительными представляются тезисы Лии Гринфельд о смене значения слова «государство» с «господства» и «царства» на «державу», которая якобы осуществилась во время правления Петра. Есть основания считать, что такое изменение произошло в московских текстах после Смутного времени, даже раньше. Кроме того, как отметила Гринфельд, Петр продолжал воспринимать свое государство как часть себя[265]. К этому следует добавить, что в панегириках, посвященных Петру, вроде тех, которые вышли из-под пера Феофана Прокоповича, Россию не представляли без ее славного «pater patriae». Если Петр I (или его эпоха) не имели первенства во всех этих аспектах, каково их значение для нашего исследования? Несомненным представляется то, что все эти идеи, впервые очутившись в официальном московском дискурсе в XVI веке, во времена Петра стали по-новому значимы и весомы.
«Петр Великий». П. Деларош, 1838 г
Бесспорные идеологические инновации Петра, которые выделяют его достижения на фоне достижений более раннего периода, касаются секуляризации государства (Тольц) и «национализации» официального дискурса (Гринфельд). Тольц считает, что российская светская элита прекратила противопоставлять себя Западу главным образом в религиозном русле. Гринфельд отмечает, что пока российская элита искала пути к обозначению себя с помощью светской терминологии, она развила лексический запас, который был необходим для проговаривания ее новой идентичности не только в контексте лояльности к правителю, но и к таким конструктам, как государство и отечество. Особенно важно для нас то, что оба процесса трудно вообразить без активного участия вышколенного в Киеве духовенства. Киевляне основательно взялись за первый из этих проектов, обозначив наиболее антисекулярные и антизападные элементы московского общества как «раскольничьи» (это клеймо поставил на них Симеон Полоцкий), а после подчинив Церковь государству с помощью «духовного регламента» 1721 года, который составил Феофан Прокопович с другими киевлянами, например, Гавриилом Бужинским. Своими переводами сочинений Пуфендорфа Бужинский ввёл в российский политический дискурс такие понятия, как «гражданин» и «общество»[266]. Киевляне также стали первопроходцами «национализированного» дискурса, хотя идентичность, которую они создали таким способом, была не «великороссийской», как считает Гринфельд[267], а «всероссийской», или имперской. Как показано выше, они взяли понятия нации и отечества, разработанные ранее в Киеве для обозначения Гетманщины, и, не мудрствуя лукаво, без колебаний приложили их ко всей многоэтнической и многоконфессинальной империи. Тем самым они сильнее размыли границу между славянским православным ядром царства/империи и неславянской и нехристианской (или, по крайней мере, неправославной) периферией. Новую российскую идентичность, которую помогли развить киевляне, задумывали так, чтобы она охватывала малороссийскую и московскую элиты, а также чужестранцев с Запада, которые поступали на имперскую службу. Однако она не могла охватить русинов, которые жили за пределами западной границы Российской империи, а также неславян, очутившихся на ее территории.
Гавриил Бужинский
«Путешествие Аввакума по Сибири». C. Милорадович, 1898 г
Анна Иоанновна
И власть, и раскольники из старообрядцев называли нехристианское население Востока чужестранцами. Один из первых политических ссыльных Сибири протопоп Аввакум, вспоминая тамошний край, писал: «страна варварская, иноземцы немирные». Он не считал Сибирь Русью, ибо, когда его позвали обратно в Москву, он радовался возвращению в «русские грады»[268]. Как и старообрядцы в целом, Аввакум не чувствовал потребности проповедовать «варварам». Его позиция очень отличалась от той, которой придерживалось царское правительство, охотно обращая «чужеземцев» в христианство, а значит, в подданство царю с помощью вышколенного в Киеве духовенства[269]. Царь считал свою империю унитарным государством, возникшим в результате завоеваний, а не разнообразным скоплением земель, народов и религий. Не все его современники разделяли эту точку зрения. Через «окно», которое Петр прорубил в Европу, в Россию вошли новые идеи, касающиеся империи как многонационального образования. В 1730-х годах Анна Иоанновна уже почтила «многоэтничность» своей империи, собирая в столице для участия в праздничных парадах представителей подвластных народов (в частности и казаков) в традиционных строях[270]. Времена все-таки менялись. Впрочем, сколько бы внимания правители империи ни уделяли внутренним «чужакам», те долгое время оставались за пределами российской имперской идентичности.
Русь, Малороссия, Украина
Казацкое государство, образовавшееся в первые месяцы восстания Хмельницкого и получившее международное признание летом 1649 года во время зборовских переговоров, в историографии называется Гетманщиной. В нашей книге также используется именно это название. Однако в XVII и в первые десятилетия XVIII века его обычно называли Войском Запорожским. Само название «Войско Запорожское» фигурирует как официальная сторона в сделках, которые во второй половине XVII века казацкие гетманы заключали с Россией, Османской империей и Речью Посполитой. Оно стало юридическим названием украинского государства и его территории, имевшим, кроме того, ряд других обозначений, соответствовавших различным социальным и национальным проектам, на протяжении XVII–XVIII веков развивавшимся в казацком обществе. Одним из таких названий было «Украина», которому отдавала предпочтение казацкая старшина и казацкие массы в целом. Другим — «Россия». Его использовали в литературных произведениях киевского духовенства. Кроме того, бытовало еще и название «Малороссия», которое казацкие и церковные элиты использовали в переписке с Москвой и, все чаще, в своей среде. Название «Великое княжество Русское» обозначало еще одну политическую инициативу, которую сформировала казацкая старшина благородного происхождения, ориентированная на Речь Посполитую. Каждое из этих названий отвечало особому политическому понятию, особому общественному и культурному видению, а также, потенциально, особой идентичности. Все это и будет предметом нашего рассмотрения в этой части.
Украина или Малороссия?
Произведение с таким названием вышло в 1920-х годах из-под пера этнического россиянина Николая Фитилева, ставшего выдающимся украинским публицистом, известным под псевдонимом Мыкола Хвылёвый. Вскоре после написания чекисты конфисковали рукопись; более полувека она пролежала в архивах госбезопасности и только за год до распада СССР стала доступна широкой общественности. Какую же опасность узрел большевистский режим в этом памфлете? Прежде всего, ответ на вопрос, поставленный в заголовке. Выбирая между Украиной и Малороссией, автор остановился на Украине. В тогдашнем контексте это не означало, что Хвылёвый представлял Украину независимой от России, но он считал, что Украина имеет (или хотя бы имеет право на) собственную литературу и культуру. С точки зрения поколения Хвылёвого, термин «Малороссия» воплощал традицию отношения к украинскому народу, языку и культуре как к отрасли русской нации, языка и культуры, тогда как «Украина» символизировала культурную независимость их родины от России [271].
Мыкола Хвылёвый
Хвылёвый критиковал «малороссийство» в русле работ Михаила Драгоманова, Сергея Шелухина и Вячеслава Липинского, а также произведений других украинских деятелей, которые находились за пределами Российской империи и СССР и видели причины малороссийской ментальности в веках российского политического и культурного контроля над Украиной[272]. Однако существовала и другая интеллектуальная традиция. Сам заголовок памфлета Хвылёвого был перевертышем названия статьи Андрея Стороженко «Малая Русь или Украина?» (1918). Этот искренний малоросс считал Украину неотъемлемой частью более широкого российского политического и культурного пространства. Истоки спора он выводил из конца XVIII — начала XIX века. По мнению Стороженко, использование термина «Украина» для обозначения того, что на самом деле было Русью или Малороссией, — это всего-навсего попытка польских интеллектуалов преподнести губительные для поляков последствия раздела Польши. Поляки, якобы, выбрали такую стратегию: доказать, что русские земли на самом деле принадлежали не Руси, а стране, которую они считали отдельной от России и называли «Украиной». Стороженко считал, что первым против таких заявлений выступил анонимный автор «Истории русов» — исторического трактата, который в рукописной форме бытовал в Украине начиная с 1820-х годов. Автор выступил против привычки (якобы польской) называть Приднепровье «Украиной», предоставив взамен преимущество термину «Малороссия»[273].
Сергей Шелухин
Иван Линниченко
Взгляды Стороженко на «Украину» как подрывной польский термин, перед которым ставилась задача расшатать единство российской нации, были отнюдь не оригинальными. Дискуссия по поводу политически корректного названия для Украины в Российской империи усилилась во время революции 1905 года. В Австро-Венгрии этот вопрос всплыл на поверхность в 1907 году, когда русофилы-депутаты австрийского парламента в Вене решили назвать русскую фракцию «малороссийским клубом». Они отбрасывали название «Украина» как польское изобретение, которым обозначалось пограничье бывшей Речи Посполитой. В 1908 году на Археологическом съезде в Чернигове украинский активист из Одессы Сергей Шелухин прочитал доклад о происхождении термина «Украина», в котором доказывал, что это было первоначальное название края. Это выступление вызвало дискуссию в российской прессе, во время которой профессор Иван Линниченко из Новороссийского университета в Одессе противопоставил Шелухину теорию, которой придерживалось большинство украинских историков: якобы «Украина» означает «пограничье»[274].
Тезис Шелухина о том, что название «Украина» предшествовало термину «Русь», привлек внимание ученых и широкой общественности к позднесредневековому употреблению термина «Украина», но не убедил специалистов. Большинство из них пошли по пути Михаила Грушевского (часто критикуемого в публикациях Шелухина), который был уверен, что термин «Украина» происходил от понятия пограничья. Слова «Малороссия» Грушевский избегал. В конце XIX — начале XX века он часто употреблял составной термин «Украина-Русь», чтобы подчеркнуть непрерывность украинской истории со времен Киевской Руси до настоящего времени, а также единство украинских земель, к которым относилась и Галиция, где терминами «Русь» и «русины» часто обозначали украинскую территорию и ее население[275]. Грушевский утверждал, что термин «Малая Русь», который впервые приняли в XIV веке для обозначения Галицко-Волынского княжества, позже вышел из употребления, но вернулся в официальный дискурс в XVII веке, когда стал обозначать украинские земли под московским покровительством. Согласно Грушевскому, этот термин не произвел резонанса среди общественности, пожелавшей называть свою землю «Украина». Начиная с XVI века, этот термин употребляли для обозначения среднего Поднепровья, а в XIX веке лидеры украинского литературного возрождения выбрали его как национальное название[276].
Титульный лист первого номера журнала «Малая Русь». 1918 г. (под ред. В. Шульгина)
Взрыв Первой мировой войны навлек на украинских предводителей в Российской империи обвинения в измене. Революция 1917 года их усилила. Намеки на польское происхождение названия «Украина» подпитывали представление о том, что украинское движение — не более чем плод иностранных интриг. Дискуссия Шелухина и Линниченко дала толчок появлению многих статей в журнале «Малая Русь», который опубликовал статью Стороженко «Малая Россия или Украина?» Эта статья, в свою очередь, вызвала ответ Шелухина, который дальше развивал тему в своих эмигрантских публикациях междувоенного периода[277]. Советская эпоха положила конец использованию термина «Малая Русь» для обозначения Украины, но он возродился вместе с оживлением российского национализма после 1991 года. Российский публицист Михаил Смолин, который в 1998 году переиздал в Москве статью Стороженко и другие антиукраинские произведения того периода, выступил за восстановление «малороссийской» терминологии, осуждая использование терминов «Украина» и «украинцы» как попытки «расчленить всероссийское тело, отняв от него малороссов, своевольно назвав «украинцами», которых не знала история»[278]. Сейчас совершенно очевидно, что термины «Украина» и «Малороссия» олицетворяют очень разные восточнославянские идентичности. Но есть ли основания полагать, что они обозначали разные идентичности также в раннемодерные времена?
Судьба Руси
Взрыв восстания Хмельницкого потряс Речь Посполитую до самых основ, проложив путь для чужеземной интервенции, которую сначала осуществила Московия при поддержке казаков, а затем и Трансильвания со Швецией. Шведское вторжение 1655 года, известное в историографии как «Потоп», создало возможность раздела Речи Посполитой ее соседями, но Московия, опасаясь укрепления Швеции, изменила свою позицию, тем самым дав польско-литовскому государству возможность выжить, а впоследствии даже вернуть большую часть утраченного. На востоке поляки сумели отодвинуть линию фронта ото Львова и Вильно — самых западных городов, до которых в 1654–1655 годах дошли московско-казацкие войска — назад к границам Смоленского воеводства и берегов Днепра. Согласно положениям Андрусовского перемирия (1667), Речь Посполитая уступала Московии Смоленск и Левобережную Украину. Это вовсе не было катастрофой такого масштаба, которого можно было ожидать при Потопе: Речь Посполитая всего-навсего вернулась к своей восточной границе начала XVII века, когда Смоленск и Чернигов принадлежали Московии, а Левобережье не было полностью заселенным. Единственным примечательным исключением был Киев, который временно оставался под контролем Московии, а через два года должен был вернуться в состав Польши. Этого не произошло. Согласно Вечному миру 1686 года, Киев оставался под Московией. После опустошительной войны страна, ныне называемая Беларусью, вернулась в состав Великого княжества Литовского. Большая часть Украины находилась под властью Польского королевства. То есть обе страны остались в составе польско-литовской Речи Посполитой[279].
На момент заключения Вечного мира 1686 года русский народ-нация Речи Посполитой превратился в бледную тень того, каким он был раньше. Главными причинами этого были постоянные войны, которые шли на территории Украины и Беларуси, а также упадок казачества как политической, социальной и военной силы, которая защищала православную церковь и права русской нации по всей Речи Посполитой. Этот упадок начался после смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году. Преемник Хмельницкого, гетман Иван Выговский, разочаровавшись в московской политике, в сентябре 1658 года в Гадяче подписал договор с Речью Посполитой, который вызвал недовольство казачества. Согласно его положениям, «русский народ» стал третьим партнером Речи Посполитой рядом с поляками и литовцами. Такой вариант устраивал украинскую шляхту, которая хотела подобного еще с 1620-х годов, но не удовлетворял казацкую старшину и рядовое казачество, над которыми нависла угроза потери многих достижений в том случае, если социальное устройство, предусмотренное Гадячской унией, вступит в силу. Да и сами поляки не были готовы принять мятежных русинов как равных себе. Оба фактора привели к тому, что Гадячский договор потерпел поражение, а Выговский в 1659 году потерял гетманскую булаву[280].
Нового гетмана, сына Богдана Хмельницкого Юрия, выбрали по согласию Москвы, но в 1660 году он перешел на сторону Речи Посполитой. Такая внезапная смена курса расколола казацкую старшину, часть которой под предводительством полковника Якима Сомко сохранила верность царю. Поэтому наступил период, известный в украинской историографии как Руина. Московские войска воевали с польско-литовскими за контроль над Приднепровьем. И тем и другим помогали противоборствующие группы казацкой старшины — каждая во главе со своим гетманом. Андрусовское перемирие (1667) между Московией и Речью Посполитой поделило Гетманщину на две части: земли Левобережья вместе с Киевом (сначала временно, а потом на длительный срок) отошли в состав Московии, а остальные казацкие земли остались под польской властью. Попытку казачества восстановить контроль над обеими частями Гетманщины возглавил гетман Петр Дорошенко (1665–1676), опираясь на турецкую помощь. Несмотря на обещания Стамбула оказать военную помощь, она оказалась недостаточно сильной, чтобы разбить московское войско и левобережные полки, которые его поддерживали. В 1676 году Дорошенко был вынужден сдаться левобережному гетману и отправиться в ссылку в Московию[281].
Десятилетия непрерывных войн опустошили Приднепровье, а слишком малонаселенное Правобережье никому не принадлежало и считалось нейтральной зоной между двумя враждебными государствами и казацкими группировками.
Заключение Вечного мира в 1686 году стало для русских элит четким сигналом того, что период непрерывных войн между Варшавой и Москвой подходил к концу, а следовательно, граница вдоль Днепра задержится надолго. Потому казацкие элиты должны были приспосабливаться к новым обстоятельствам или перебираться на левобережную Гетманщину. Когда в 1620-х годах православная шляхта начала требовать для русинов равных прав с польским и литовским народами — якобы нациями-основателями Речи Посполитой, — она ввела в политический дискурс того времени очень особую модель нации. В документах, касающихся Люблинской унии (1569), «народом», точнее, «двумя народами», называли «благородное» население двух государств, заключивших унию — Польского королевства и Великого княжества Литовского. Из этого двойственного государства русские дворяне пытались выкроить третью нацию, которая определялась не через государственную структуру, а через культуру, религию и язык. Во время восстания Хмельницкого гремучая смесь казацкой военной мощи, русской солидарности и православной набожности потрясла основы Речи Посполитой, лишив ее ценных владений на востоке. Неудивительно, что после окончания восстания русская культура, религия и язык стали объектом гонений. Отмена казачества на Правобережье, обращение русских православных к унии и непрерывный упадок русского языка и культуры вели к постепенной полонизации русских элит. Лидеры польско-литовского государства, конечно, даже не думали разрабатывать какую-нибудь положительную программу для русских элит, наоборот, надеялись их устранить, чтобы они снова не выступили против Речи Посполитой на стороне ее могучего московского соседа.
На протяжении большей части периода полонизация проходила «естественным» способом в том смысле, что пустоту, которая образовалась из-за уничтожения одной культуры и традиций, заполняла другая. Первые программы, направленные на полонизацию русских масс, были сформулированы только в конце XVIII века.
Самой уязвимой группой русского общества оказалась та, которая составляла ее костяк в предыдущий период, — шляхта. Прошли те времена, когда православные магнаты и их клиенты-шляхтичи отстаивали русский политико-культурный порядок на местных и общегосударственных сеймах. Если говорить о политическом мировоззрении, культуре и религии новой когорты магнатов, то между ними следовало еще поискать ревнителей русского дела. После смерти в 1667 году православного трокского кастеляна Александра Огинского в сенате Речи Посполитой не осталось защитников прав русинов[282]. Потомки русских княжеских и благородных семей, в отличие от князя Константина Острожского, в XVII веке уже не пытались выводить свой род от св. Владимира. Вместо этого потомки Сапиг, Полубинских, Сангушков, Оранских, Войн, Тризн и других некогда православных семей предпочитали связывать себя с древними римлянами и литовскими князьями из рода Гедиминовичей. В русских элитах Польского королевства и Великого княжества Литовского складывалась новая лояльность к их польскому или литовскому отечеству, но не к русской нации[283].
Этнографическая карта, составленная Д. Н. Вергуном. 1915 г.
Русская православная шляхта, которая к тому же была частью политического класса Речи Посполитой и в целом разделяла образ жизни и идеалы благородного сословия, часто проявляла готовность отречься от веры своих предков, когда дело доходило до дискриминации на религиозной почве. В 1673 году православное население Речи Посполитой потеряло право получать благородный статус. В 1717 и 1733 годах религиозным инакомыслящим — не католикам — запретили избираться в Сейм. При таких обстоятельствах православные шляхтичи предпочитали переходить в лоно господствующей католической церкви. Они перепрыгивали через униатское «чистилище», оставляя страдать в нем неблагородные сегменты русского общества. Понятие русского народа-нации как сообщества шляхты, духовенства, мещан и казаков, объединенного общей лояльностью к православной церкви, которое выступило на главный план во время восстания Хмельницкого и сохраняло статус важного параметра национальной идентичности Гетманщины, не нашло себе места в Речи Посполитой XVIII века. Идентичность русской шляхты этого периода нужно исследовать более подробно, но и так ясно, что в течение XVIII века большинство ее представителей перешли в ряды польско-литовского «народа-нации» не только в политическом, но и в религиозном, языковом и культурном смыслах. Они продемонстрировали настоящий польский патриотизм во время разделов Польши, например, русские участники ультракатолической Барской конфедерации 1768 года или лидер восстания 1794 года Тадеуш Костюшко — уроженец белорусской Берестейщины. Их региональный патриотизм (литовский или украинский в узком смысле этого слова) не помешал им стать полноценными членами и новой польской нации[284].
Русское мещанство также не избежало дискриминации со стороны польско-литовского государства и общества. С 1699 года православным горожанам запретили входить в состав магистратов королевских городов. Впрочем, статус русских горожан был различным в каждом отдельном городе. На территории нынешней Беларуси русины составляли около 80 % городского населения, поэтому дискриминировать их было трудно. Там существовали общие цеха, которые возглавляли цехмейстеры «римского», «русского» и протестантского вероисповеданий[285]. Тяжелее было положение русских горожан в таких важных центрах международной торговли, как Львов, где к середине XVIII века русинам не позволяли иметь своих представителей в магистрате. Магистрат пренебрег королевским указом, который давал львовским русинам равные права с поляками католического вероисповедания, объясняя это тем, что указ противоречил правам и привилегиям их города. Казалось, что, обратившись в 1709 году к унии, львовская православная община преодолеет запрет занимать правительственные должности, поскольку решение Сейма 1699 года вполне определенно гарантировало такое право униатам. Но этот шаг ничего не изменил. Вероисповедание (а точнее, обряд) и далее препятствовало львовским русинам получать правительственные должности. Русинов, как и раньше, называли «нацией» («natio») в королевских привилегиях и постановлениях городских властей. Такое название обычно оставляло их за пределами польско-католического большинства и, по их мнению, влекло за собой дискриминацию. В 1749 году русские члены тогда уже униатского братства жаловались, что магистрат, отказывая им в праве занимать правительственные должности, «отталкивает себя от нас, называя нас “нацией”, а не инкорпорированными в равенстве с собой»[286].
По иронии судьбы, дискриминация, на которую жаловалась русская община Львова (в ее состав входили как мещане, так и шляхтичи), помогла сохранить прочное чувство обособленной русской идентичности, которую угрожающе быстро теряли русские дворяне, не принадлежавшие к религиозным братствам.
Казаки оказались тем слоем русского общества, который оказывал стойкое сопротивление полонизации. Казацкие предводители второй половины XVII века по-прежнему прибегали к геополитическому балансированию, становясь, время от времени то на сторону Речи Посполитой, то турок или Крыма, то Молдавии или, как, например, гетман Петр Дорошенко, пытались взять на себя роль объединителей Украины по оба берега Днепра. Те, кто остался жить в Речи Посполитой, не оставляли мечты об установлении западной границы казацкого государства вдоль реки Случь, а себя считали защитниками всей русской нации. Однако условия, на которые польские власти согласились в 1658 году в Гадяче, оставались недостижимым идеалом для новых поколений казацких властей на территории Речи Посполитой. Несмотря на то что на левобережной Гетманщине казаки и дальше были мощной общественной группой, стремительный упадок казачества на Правобережье сделал его в Речи Посполитой пережитком прошлого. Сумерки казацкого могущества знаменовало правление на Правобережье гетмана Дорошенко. Не сумев сохранить контроль над левобережной Гетманщиной, он начал искать выход из своего бедственного положения через союз с турками. Признание им сюзеренитета султана привело к прямому вмешательству Османской империи в украинские дела. В 1672 году, после взятия турками Каменца, Речь Посполитая должна была заключить Бучацкий договор, который вводил османский протекторат над Подольем и Правобережьем.
Договор вызвал массовое бегство народа с этих территорий, которое длилось до середины 1680-х годов, когда новый польский король Ян III Собеский начал заселять их заново, возродив на Правобережье казачество. Король назначал казацких полковников, успешно привлекавших новых поселенцев на земли, которые Речь Посполитая не имела законного права заселять. Они действовали в серой зоне между Речью Посполитой и турками, оказывая неоценимую услугу польско-литовскому государству. Однако после 1699 года, когда турки отказались от претензий на Правобережье, а поляки получили возможность уже открыто его заселять, правительство приказало распустить правобережное казачество. Казаки под руководством уроженца Гетманщины полковника Семена Палия (Гурко) отказались подчиниться и начали восстание, которое продлилось до 1704 года, когда регион заняли левобережные казаки, воспользовавшись вторжением российских войск на территорию Речи Посполитой в ходе Северной войны. Движения населения, вызванные войнами и переходами региона из рук в руки между Речью Посполитой, Россией и Османской империей, лишили правобережное казачество собственной элиты. Только попутные восстания свидетельствовали, что жители Правобережной Украины сохранили казацкие идеалы и стремились к такому самоуправлению, которое имели казаки Гетманщины. Однако им не хватало таких авторитетных лидеров, какие были в XVII веке, ибо русская шляхта раз и навсегда бросила их на произвол судьбы[287].
Карта военных действий. Северная война 1701–1721 гг.
К перечню главных факторов, которые повлияли на полонизациию русских элит, принадлежит снижение употребления русского языка. В 1696 году, когда Сейм одобрил решение об обязательном использовании польского языка в юриспруденции и администрировании, шляхта Великого княжества Литовского обратилась в Сейм с предложением сделать польский язык вместо русского официальным языком местного судопроизводства. Это была одна из многочисленных петиций, имевших целью распространить права, которыми пользовалась шляхта Польского королевства, на шляхту Великого княжества Литовского[288]. Такое уравнивание прав в Речи Посполитой шло бок о бок с языковой и культурной полонизацией. Этот процесс был «добровольным» в том смысле, что к началу XVIII века не хватало компетентных людей для производства и протоколирования судебных заседаний на русском языке. К концу XVII века высшее и начальное образование детей русской шляхты и мещанства находилось в основном в руках иезуитов. В их школах ученики изучали латынь, польский язык, но не русский. Православным русинам не запрещали посещать иезуитские коллегии, но, учась в таких заведениях, им было нелегко сохранять свое вероисповедание. Подобной была ситуация во Львовском университете, где в конце XVII века православным разрешалось пройти лишь один год философской программы, а на любые другие курсы принимали только в случае обращения к унии. В 1725 году университет отказал православным студентам в предоставлении жилья. Аналогичные порядки внедрялись в других образовательных заведениях региона. К середине XVIII века русские земли Речи Посполитой покрывала сеть иезуитских коллегий и школ, которая на востоке простиралась до Овруча и Житомира. Примерно в то же время иезуиты начали преподавать в коллегиях польскую историю. Они не только давали образование молодым русинам, но и превращали их в поляков в политическом, религиозном и культурном смыслах[289].
Главный корпус Львовского университета. 1851 г.
По мере того как русскую речь вытесняли из публичной сферы, ее использование ограничивалось стенами православных и униатских церквей. Однако даже там ей приходилось бороться за право на дальнейшее существование. Униатское духовенство поощряло проповедование прихожанам на их языке, но в униатских школах преподавался язык церковной литургии — церковнославянский, а не русский. Латынь и церковнославянский были обязательными предметами в монастырских школах, а в василианских светских школах упор делали на латынь, польский и немецкий язык, тогда как церковнославянский имел статус факультативного предмета. Положение печати было не лучшим. Отцы василиане развернули активную издательскую деятельность в Уневской и Почаевской лаврах. Большая часть их публикаций выходила на церковнославянском языке, лишь небольшая щепотка увидела свет на языке, близком к разговорному русскому[290]. Однако даже среди василиан языковая и культурная полонизация набирала ход.
Униатский Янус
Начиная со второй половины XVII и до конца XVIII века тесное переплетение религиозной и этнонациональной идентичностей было определяющим для проведения границы между «нами» и «ними» на украинских и белорусских землях Речи Посполитой. Главный раздел шел между поляками (католиками и протестантами) и русинами (православными и униатами). Как и в первой половине XVII века, разделение русинов на православных и униатов вызвало наибольшее замешательство. Русинов (преимущественно шляхту и представителей городской элиты), перешедших в католичество напрямую или при посредничестве унии, современники воспринимали как поляков, а потому не принимали их во внимание, когда доходило до обсуждения русских вопросов. Такая тенденция была довольно заметной уже в источниках предыдущего периода, а под конец XVII — начало ХVIII века стала особенно выраженной. С первых десятилетий XVIII века термин «русский» все больше ассоциировался с унией, ибо католичество в униатской форме постоянно превращалось в господствующую религию для большей части украинского и белорусского населения. Однако его путь к триумфу был непростым.
Речь Посполитая в XVII веке (с наложением на современную карту Европы)
Взрыв восстания под предводительством Богдана Хмельницкого нанес сильный удар по униатской церкви по всей Речи Посполитой. Особенно сильным он был в Украине и на территории Восточной Беларуси, которую после Переяславского договора 1654 года заняли московские и казацкие войска. Униатская церковь как институт стала одной из жертв казацкого восстания и была впоследствии запрещена на территории Гетманщины. Зборовское соглашение 1649 года обязывало короля вернуть православным ряд епархий, лежащих далеко за пределами территории, которую контролировало казацкое войско. Гадячский договор 1658 года, возвращавший казачество назад под юрисдикцию Речи Посполитой, имел целью положить конец унии на всей территории польско-литовского государства. Согласно его положениям, православный митрополит и епископы получали места в Сенате, а православной церкви возвращалось все церковное имущество, принадлежавшее ей до 1596 года. Мало того, соглашение запрещало финансировать открытие новых униатских церквей и монастырей. Польско-литовские власти так и не внедрили в жизнь положения соглашения, но униатская церковь, которая оставалась без митрополита в течение 1655–1665 годов, казалось, так или иначе, была уже на смертном одре. Если перед 1648 годом шли дискуссии об «универсальной унии» униатов и православных под эгидой Рима, то теперь лидеры униатской церкви искали хоть какой-нибудь способ объединиться с православием. Уменьшение количества униатских приходов свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказалась к середине 1660-х годов эта церковь. В Луцкой епархии на Волыни униаты остались только с сотней приходов, которые составляли 10 % всех восточнохристианских общин региона. Не лучше шли дела униатской церкви в некоторых частях Беларуси: например, в Пинской парафии сохранилось всего-навсего десять униатских приходов. Православные тогда располагали двумя третьими или, согласно другим оценкам, тремя четвертыми всех восточнохристианских приходов Речи Посполитой[291].
Ситуация улучшилась для униатов только после заключения Андрусовского перемирия между Московией и Речью Посполитой, поделившими Украину вдоль Днепра, а все белорусские епархии, за исключением Смоленской, оставили в составе польско-литовского государства. Униатской церкви было разрешено выбрать нового митрополита, король вернул ему права в Польше и Литве, а отделение Киева и Левобережья от остальных русских земель подорвало влияние православия на территории Речи Посполитой. Подчинение Киевской митрополии московскому патриарху в 1686 году совпало с заключением Вечного мира между Московией и Речью Посполитой. Одно из положений соглашения давало киевскому митрополиту право осуществлять надзор над православными приходами Речи Посполитой, что в конечном итоге дало польской власти основания поддерживать униатскую церковь как альтернативу контролируемой из Москвы православной церкви. Власть Речи Посполитой также не устраивало подчинение собственного православного населения константинопольскому патриарху, который находился под контролем еще одного врага Варшавы — османской Порты. Такие мощные православные епархии Украины, как Львовская, Перемышльская и Луцкая, казались государству особо опасными. Во время правления Яна III Собеского (1674–1696) православные испытали мощное официальное давление, склоняющее к переходу в унию. Коронационный Сейм 1676 года запретил православному клиру контактировать с константинопольским патриархом. Кроме того, король использовал в своих целях конфликты между православными епископами, поддерживая тех, кто был способен перейти в унию. Одного из таких епископов — Иосифа Шумлянского — он в 1675 году назначил управляющим той частью Киевской митрополии, которая осталась в составе Речи Посполитой. В том же году Шумлянский тайно принял унию. Так же в 1679 году поступил перемышльский епископ Иннокентий Винницкий, который в 1691–1693 годах первым среди иерархов перевел свою епархию в унию. Его пути в 1700 году последовала Львовская епархия, а в 1702 — Луцкая. Через десять лет монахи крупнейшего православного монастыря региона — Почаевской лавры — также перешли в унию. Поэтому на территории Речи Посполитой уцелела единственная православная епархия — Могилевская, которая также имела юрисдикцию над православным населением бывшей полоцкой епархии. Однако даже Могилевская епархия по состоянию на 1777 год владела всего-навсего 22 % церквей, не принадлежавших протестантам. Униатские приходы составляли 68 %, а католические — 10 %. К концу 1780-х годов православие исповедовали лишь 3,5 % всего населения Речи Посполитой[292].
В первые десятилетия XVIII века униатские епархии и приходы Речи Посполитой мало отличались от православных. Главное отличие заключалось в юрисдикции, благодаря чему переход в унию был относительно легким процессом. Реформирование новообращенных приходов в соответствии с принципами Контрреформации началось на Синоде 1720 года в Замостье. Его решения требовали не только, чтобы униатские священники и верующие приняли «filioque» к своему новому символу веры и вспоминали папу римского во время богослужений, но и запрещали принимать таинства от православных священников. Вместо этого им разрешалось принимать таинства от католического духовенства[293]. Синод в Замостье провел четкую конфессиональную границу между униатами и православными, которые продолжали практиковать тот же обряд и пользовались тем же языком богослужения. По мнению многих ученых, Замойский синод направил униатскую церковь на путь латинизации, внедрив в ее практику многочисленные католические обряды и традиции. Латинизация означала культурную полонизацию униатской иерархии, в частности епископов и монахов, которых в 1743 году объединили в один управляемый из Рима орден василиан. Как уже было отмечено, василиане занимались книгопечатанием и образованием, способствуя сохранению традиционной книжной культуры и церковнославянского языка. Однако и их не обошла культурная полонизация, они даже были ведущими в принятии латинских практик. Особенно это касается Беларуси, где уния закрепилась намного раньше, чем в Украине, и то обе тенденции отчетливо проявились у василиан. Когда в 1636 году виленские василиане постановили, что будут проводить богослужения на русском языке, именно это решение они записали на польском языке[294]. В 1684 году монахи Жировичского монастыря в Беларуси попросили разрешения проводить латинские мессы. Немалую долю белорусских василиан составляли бывшие католики. Среди них были не только русины, но и поляки и литовцы. Неудивительно, что в отчетах о посещении белорусских монастырей середины XVIII века пришлось ввести отдельную графу о знании монахами русского языка. Многие им полностью не овладели[295].
Постепенная полонизация униатского духовенства вместе с его латинизацией не могла не внушать горстке уцелевших православных верующих впечатление, что униатская Церковь — это учреждение «католическое» и «польское».
Излишне говорить, что униаты возражали против такой категоризации своей церкви, считая себя русинами; с этим соглашались и сами поляки. К середине XVII века во всех украинских и белорусских землях Речи Посполитой укоренилась русская идентичность, закаленная в течение полемики, вызванной Брестской унией. Она прочно закрепилась в формах самоидентификации русского населения этого государства, к какому бы вероисповеданию, воеводству или социальной группе оно ни принадлежало. Восточный обряд, которого придерживались православные и униаты, служил четким индикатором национальности, и наоборот. Конечно, между двумя подгруппами не прекращалась давняя борьба за эксклюзивные права на русский «бренд». Судя по документам второй половины XVII века, православные продолжали считать себя единственными легитимными обладателями названия «Русь» и русской идентичности. Создатели Гадячской унии с казацкого стороны позаботились, чтобы соглашение гарантировало свободу православной религии «аж куди мова руського народу сягає»[296]. Авторы православных трактатов объединяли униатов и католиков под общей рубрикой «римлян», «латинян» или «ляхов», таким образом вытесняя сторонников унии за пределы русской идентичности, определяемой с помощью конфессиональной терминологии. Однако даже православные полемисты должны были признавать существование еще одной, неправославной Руси — хотя бы потому, что поляки по-разному относились к православным и униатам. Вот как описал этот неопровержимый факт один тогдашний православный писатель: «Ляхи униатов русью, греками зовут, хоть униаты римскую веру держат, а нас православных русь и греков, за язычников, схизматиков, неверных, отщепенцов от папижа и от православия менують непрестанно»[297].
Свято-Успенский Жировичский монастырь. Гравюраc рисунка Н. Орды. 1865 год
Переход в конце XVII — начале XVIII века епископов, большинства православного духовенства и верующих Речи Посполитой в унию ощутимо ослабил спор между православными и униатами за право называться русинами. Задачу представлять русскую традицию унаследовала от православных униатская церковь, которая стала крупнейшим русским институтом этого региона. Обращение в унию, которое произошло настолько безболезненно отчасти благодаря обещанию православным, что «праздники, посты и обряды останутся у вас по-старому, и никакого изменения ни в чем не будет (как некоторые выдумывают)»[298], означало, что польские элиты продолжали воспринимать новообращенных как членов по сути русской, или «греческой», церкви. Означало оно и то, что новообращенные униаты и далее воспринимали католическую церковь как польскую. Собственно, в этом плане ничего не изменилось с 1680 года, когда один русин заявлял католическому священнику: «Так як мій батько не кланявся ляському богові, так і я не буду»[299]. В глазах униатов католичество тесно связывалось не только с польской идентичностью, а еще и с благородным сословием, поскольку именно польская или полонизированная шляхта часто поощряла переход в католичество своих русских подданных, что влекло за собой замену русской идентичности польской. «Андрей Басий в Острове, — сообщал в 1763 году один униатский священник, — принят к барскому двору, по наущению людей с барского двора стал [из русина] поляком. Илья Пекара в Чернице по барскому приказу стал [из русина] поляком»[300].
В свою очередь, польские элиты не только тесно связывали унию с русинами в целом, но и сомневались в лояльности как православных, так и униатских русинов. Учитывая все большее вмешательство Московии, а впоследствии Российской империи, во внутренние дела польско-литовского государства, польские элиты считали униатских русинов потенциальной пятой колонной, несмотря на то, что Петербург поддерживал православных, а к униатам относился враждебно, видя в них еще больших врагов, чем католики. Автор анонимного памфлета, увидевшего свет около 1717 года, призывавшего униатских русинов обращаться в католичество, завершил свое произведение таким заявлением: «В конце следует принять во внимание и ту аксиому, что оставленная в своем обряде Русь, на случай… присоединения этой схизмы к унии, стала бы угрозой падения Польши. Итак, когда превратим ее в римско-католическую, то прежде всего отберем у москалей надежду на ее присоединение и впоследствии, тесно объединившись с нами, сделаем из нее [Руси] враждебную и непобедимую для Москвы страну»[301]. Мысля религиозными и социальными категориями, автор памфлета доказывал, что надо ликвидировать русский обряд «простых людей», потому что он враждебный для польского католичества. Он выступал за проведение публичной кампании запугивания и высмеивания русинов, чтобы сложилась атмосфера, в которой «любой скорее захочет сменить вероисповедание и отречься от того, что он русин, чем терпеть на протяжении всей жизни столько тоски и горя, что лучше умереть»[302]. Русинам следует запретить занимать правительственные должности, а их священникам не давать возможности получать образование и покупать «схизматические книги»; сыновей священников следует закрепостить, а крестьян оставить неграмотными. Согласно этому плану, чтобы расшатать экономическое положение русских горожан, надо использовать евреев, а против населения Правобережья, Подолья и Волыни, если оно восстанет в защиту веры, следует использовать татар. Затем опустошенную землю заселят переселенцы из Польши.
С точки зрения сегодняшнего читателя памфлет звучит как настоящий клад для сторонника конспирологических теорий, поскольку «доказывает», что существовал польский заговор против русской нации. Он также звучит как максимально радикальное выражение религиозной ненависти, отражающее взаимное недоверие между поляками-католиками и русинами, которые недавно обратились в унию. Объединения церквей было явно недостаточно, чтобы запрудить глубокий раскол общества Речи Посполитой на католический (поляки и литовцы) и православный (русины) лагеря.
Становление Украины
Левобережная Украина, попав под контроль Московии, избежала полонизации политической и культурной жизни, которая шла полным ходом на Правобережье. В левобережной Гетманщине казацкие институты сохранились гораздо лучше, чем на Правобережье, а относительная политико-экономическая стабильность региона позволила элитам консолидировать власть. В то же время интеллектуалы создали новую модель русской идентичности, главной приметой которой был термин «Украина», привлекший особое внимание в исторических, политических и культурных дискуссиях современности. На Западе широкая общественность впервые столкнулась с названием «Украина» и понятием, которое стояло за ним, в 1660 году, когда в Руане вышел «Description d’Vkranie» Гийома Левасёра де Боплана. Длинный заголовок книги объяснял читателю, что Украина состоит из «нескольких провинций Польского королевства, которые тянутся от границ Московии до границ Трансильвании»[303]. «Description d’Vkranie» — это название второго издания книги, впервые увидевшей свет в 1651 году тиражом 100 экземпляров и без названия «Украина» в заголовке (вместо этого в нем говорилось о земле Польского королевства). Очевидно, за девять лет, прошедших между первым и вторым изданием, «Украина» стала более узнаваемой для французской публики. По крайней мере, так можно сказать о читателях «Gazette de France», на страницах которой отводилось немало места освещению тогдашних казацких войн. Книга де Боплана привлекла внимание публики, поэтому она была переиздана в 1661, 1662 и 1663 годах. В 1662 году она была издана на латыни, в 1664 — на голландском, в 1665 и 1672 — на испанском, а в 1680 — на английском. Все эти разноязычные издания еще по многу раз перепечатывались в течение конца XVII — всего XVIII века[304]. В то время мало кто мог написать об Украине компетентнее Боплана — военного инженера и архитектора, который провел 1630-е годы в украинских землях, строя фортификационные сооружения и разрабатывая планы дворцов и укреплений от Каменца на западе до крепости Кодак на юго-востоке. Кроме того, он создал ряд подробных карт Украины, которые, как и его книгу, часто перепечатывали до конца XVIII века.
Титульная страница 2-го издания «Описания Украины» Г. де Боплана, 1660 г.
«Gazett de France» от 26 декабря 1786 г. Первая полоса
Г. де Боплан. «Общий план Диких полей, проще говоря Украины». 1648 г. Фрагменты карты
Какую же «Украину» Боплан представил западной общественности в своих произведениях и на своих картах? Хотя в названии 1660 года Украина описана как совокупность польских провинций от Трансильвании до московской границы, нарратив Боплана был сосредоточен на Приднепровье: от Киева на севере до Запорожья и земель, контролируемых крымскими татарами на юге. Поэтому большинство репринтов и переводов книги выходили под заголовками, в которых выделены запорожские казаки, крымские татары и Днепр — главные приметы «Украины» Боплана. Более широкое определение Украины отражено на картах французского инженера, ведь в каждой из них использовано это название. На карте 1650 года, которая называлась «Delineatio Specialis et Accurata Ukrainae», показано Киевское, Брацлавское, Подольское, Волынское и частично Русское (Покутское) воеводства. Другая карта, датированная 1658 годом, называется «Typus Generalis Ukrainae sive Palatinatuum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens». На ней показаны территории трех воеводств, перечисленных в названии[305]. Почему Боплан считал их частями Украины? Возможный ответ находим в другой его карте, изготовленной в 1648 году под названием «Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis»[306]. Итак, Боплан использовал термин «Украина» для обозначения всех провинций Польского королевства, которые так или иначе граничили с незаселенным или малозаселенным степным регионом («campus desertorum») и образовывали степное пограничье Речи Посполитой. В этом смысле термин «Украина» использовался в официальных польских документах приблизительно с 1580 года, когда король Стефан Баторий издал указ, в котором упомянуто Русскую, Киевскую, Волынскую, Подольскую и Брацлавскую Украину. Король, в свою очередь, следовал традиции, которая тянулась, по меньшей мере, с XII века, когда русский летописец сделал запись за 1187 год о Переяславской Украине[307].
Термин «украина» приобрел значение «степное пограничье» не только в украинс ком и польском языках, но и в русском, ведь московиты называли «украиной» только свое степное пограничье, пользуясь другими названиями для обозначения земель, граничащих с заселенными регионами Великого княжества Литовского и Польского королевства.
Такими были исторические истоки термина «Украина», который пользовался популярностью в Западной Европе благодаря многочисленным репринтам и изданиям книги Боплана и его карт. Сам Боплан использовал его на основе собственных знаний и опыта, полученных в течение 1630-х годов, но в какой степени этот термин отражал новые реалии, стремительно меняющиеся после восстания Хмельницкого? В 1660 году, когда книга готовилась к печати в Руане, новый гетман Войска Запорожского Юрий Хмельницкий решил определить географические границы Украины в письме к московскому царю[308]. Такой вопрос возник в связи с мирными переговорами между Швецией и Речью Посполитой, когда царь захотел узнать точные границы зависимого от него казацкого государства. В инструкциях, данных казацким послам, направившимся на встречу с делегацией Речи Посполитой в мае 1660 года, Юрий Хмельницкий так определил стартовую позицию для переговоров: «Украина е. ц. в-ва… делитися могла от Коруны Польской… от реки Богу [Западного Буга]». А запасным минимальным вариантом для переговоров была граница, проведенная по итогам Зборовского соглашения — именно ее описал гетман в письме царю[309].
Термин «Украина» для обозначения Гетманщины все чаще использовался в казацкой переписке с Россией, начиная со времен Богдана Хмельницького[310]. Судя по письму Хмельницкого-младшего, казацкая старшина представляла Украину прежде всего как Казацкое государство в границах, очерченных Зборовским соглашением 1649 года. К этой Украине не принадлежали Русское, Волынское и часть Подольского (вокруг Каменец-Подольского) воеводств, хотя они также граничили со степью. Вместо этого она охватывала Черниговское воеводство, которое не считалось частью Украины с точки зрения Боплана и польской традиции, повлиявшей на него. Важнейшим отдельно взятым фактором, повлиявшим на такое изменение понятия «Украина», было, конечно, восстание Хмельницкого и признание Зборовским соглашением Войска Запорожского отдельным государственным образованием. Несмотря на то что польская сторона, безусловно, воспринимала это соглашение как временную уступку и вообще отказывалась признавать зборовские границы (Белоцерковское соглашение 1651 года уменьшило казацкую территорию до Киевского воеводства), казачество продолжало настаивать на зборовском разграничении. Той же позиции придерживались его союзники: московские послы на переговорах с Речью Посполитой летом 1653 года и с крымским ханом у Жванца осенью того же года. В конце концов, полякам также пришлось относиться к зборовской линии как к официальной границе казацкого государства. Гадячский договор между гетманом Иваном Выговским и представителями Речи Посполитой (1658) предусматривал создание Русского княжества под руководством казачества в пределах, обусловленных Зборовским соглашением 1649 года[311].
Из термина, который до 1648 года употребляли для обозначения степного пограничья Польского королевства, «Украина» превратилась в название казацкой державы, образованной на землях трех восточных воеводств Королевства: Киевского, Брацлавского и Черниговского. Несмотря на большое значение, приписываемое в течение 1650-х годов зборовской линии как «естественной» границе между Речью Посполитой и казацкой Украиной, эта линия появилась в результате попытки достичь компромисса на переговорах. К концу 1648 года Богдан Хмельницкий получил контроль над большинством украинских этнических земель, дойдя на западе до Замостья. Именно на эту территорию он претендовал в феврале 1649 года во время переговоров с комиссарами Речи Посполитой в Переяславе. Позже он согласился на меньшую территорию, которая ограничивалась Припятью на севере и Горынью и Каменец-Подольським на западе. Под Зборовом казаки начали переговоры, предложив передвинуть эту границу восточнее: от Горыни до Случи и от Каменца до Бара и Староконстантинова, — но конечный вариант соглашения переместил границу еще дальше на восток — до Винницы и Брацлава[312]. Казакам также пришлось отречься от своих претензий на правый берег Припяти, находящийся на территории Великого княжества Литовського[313]. Таким было происхождение «зборовской границы», которую описал в письме к царю от 1660 года Юрий Хмельницкий. Его инструкции по поводу западно-бужской границы с Речью Посполитой свидетельствуют о том, что казацкие элиты все еще не отказались от претензий, которые они имели в начале восстания.
«Переговоры Б. Хмельницкого с польским послом Я. Смяровским в Замостье в 1648 году». Картина неизвестного художника XVII век
Петр Дорошенко
Как в насмешку, в следующее десятилетие Войско Запорожское и его земли были разделены вдоль Днепра, согласно Андрусовскому перемирию (1667). Реакция казацкой элиты на это соглашение свидетельствует, что за относительно короткое время (1649–1667) зборовская граница и связанное с ней название «Украина» превратились в центральный компонент казацкой идентичности и основной объект политической лояльности. Когда правобережный гетман Петр Дорошенко взялся объединить Украину по границам, определенным в Зборове, левобережный гетман Иван Брюховецкий после определенных колебаний поддержал эту идею, призвав восстановить единство казацкой Украины, которое нарушили Москва и Варшава. В феврале 1668 года он обратился универсалом к жителям Новгорода-Северского, призвав казацкую старшину и население в целом «такожъ отчизнѣ своей Украйнѣ цѣлости желати и объ ней попеченіе имѣти в купѣ съ нами»[314]. Тот же мотив прослеживался в письмах Петра Дорошенко, который прославлял объединение Украины в январском универсале 1669 года: «Напряму обрадував було Господь Бог нашу Україну, що упадає, тож з’єдналися знову до першої згоди та любовного братського об’єднання обидва боки Дніпра, під стародавній регімент гетьманства нашого»[315]. К тому моменту, когда Дорошенко издал этот универсал, левобережная казацкая старшина уже нарушила недолговечное единство казацкой Украины, выбрав нового левобережного гетмана Демьяна Многогрешного.
Однако идея единства Войска Запорожского обоих берегов Днепра, которая играла весьма заметную роль в событиях и дискурсе 1667–1669 годов, не погибла вместе с бесплодными усилиями Дорошенко, а осталась на повестке дня казацкой политической жизни второй половины XVIII века.
Оценивая изменения в применении термина «Украина» во второй половине XVII века по сравнению с русскими проектами 1648 года, важно отметить, что все эти нереализованные проекты: церкви, князя и шляхты, — оказали свое влияние на новый казацко-украинский проект. Как и русские князья, Хмельницкий в начале 1649 года предъявлял претензии на украинские этнические земли до Замостья на западе. Элементы православно-церковных представлений о Руси проступают и в претензиях Хмельницкого на белорусские земли, расположенные к югу от Припяти, и в требованиях правобережных гетманов по обеспечению прав православной церкви на всей территории Речи Посполитой[316]. Если же говорить о проектах шляхты, то казацкая Украина охватывала Черниговское воеводство, которое было частью Руси, как ее в начале 1640-х годов представлял Адам Кисель. Зато в ее состав не входила Волынь, которая была узловой частью русского проекта Киселя.
Казацкая Украина больше всего отличалась от всех предыдущих проектов тем, что охватывала Запорожье — крайнее степное пограничье, которое играло символическую роль колыбели и мнимой столицы всего казацкого края. Однако важнейшее отличие заключалось в другом: если все русские проекты до 1648 года существовали только в воображении, то новый украинский проект был очень реальным, подкрепленным существованием отдельного государственного образования, административного порядка и войска.
Между Украиной и Русью
Образование казацкого государства дало начало новой украинской идентичности, которая не отменяла старую русскую, созданную православными публицистами до 1648 года. У казацких элит, которые попали под польскую власть, русская идентичность осталась господствующей. Еще в 1668 году Петр Дорошенко задумывал распространить казацкую власть до Вислы, как было при Богдане Хмельницком. На переговорах с турками Дорошенко обозначил западную границу казацкого государства с помощью религиозного фактора (как крайний предел распространения православного вероисповедания), а восточные границы — с помощью фактора социального (как крайний предел расселения казаков)[317]. Дорошенко осознавал единство русского этнического пространства, пусть даже ему не хватало современной лексики, чтобы очертить границы этого народа-нации.
Красноречивое доказательство того, что русская идентичность в московской части Гетманщины не исчезла, находим в летописи игумена Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве Феодосия Софоновича. Этот уроженец Киева и выпускник Киево-Могилянской коллегии написал свой труд, «абым вѣдал самъ и иншимъ руским сномъ сказал, отколь Русъ почалася и якъ панство Руское, за початку ставши, до сего часу идетъ. Кождому бовѣмъ потребная есть речъ о своеи отчизнѣ знати и иншимъ пытаючимъ сказати»[318]. Географический размах русского отечества Софоновича становится очевидным по его вниманию к русским землям Речи Посполитой. Летопись заканчивается описанием событий 1672 года, и хотя в заключительных частях все больше говорилось о Гетманщине, а «Украина» упоминалась чаще чем «Русь», Русь все-таки доминировала в тексте в целом, а польский исторический контекст оставался для Софоновича важнейшим. В частности он рассматривал Гетманщину в третьей части летописи, которая называлась «Кройніка о землі Полской», а также в разделах о правлении польских королей Владислава IV и Яна II Казимира[319]. В изложении прошлого он совсем забывает Московию. Как отметил Франк Сысын, Софонович разделил летопись на разделы, посвященные Руси, Литве и Польше, но не Московии, так как считал московскую власть недостаточно древней или недостаточно утвержденной[320]. Возможно, так же он думал о казацких гетманах — слишком молоды и слишком нестабильны. Несмотря на поразительные политические изменения 1648–1672 годов, мировоззрение Софоновича продолжала опираться на политико-культурные реалии, которые предшествовали Хмельнитчине.
Лазарь Баранович
Так же отставали от тогдашних политических изменений взгляды одного из товарищей Софоновича по студенческой скамье Киево-Могилянской коллегии архиепископа Черниговского Лазаря Барановича. Живя в Гетьманщине и ища защиты у московского царя, этот «экс-русин», как назвал его Дэвид Фрик, «продолжал искать ответы на давние вопросы, порожденные польско-литовско-русским сожительством в одной Речи Посполитой»[321]. Когда в начале 1670-х годов Софонович завершал свою летопись, в которой историю Гетманщины истолковывал как часть развития Польского королевства, Баранович написал на польском языке стихотворение («Nie będzie, jako świat światem, Rusin Poliakowi bratem» из цикла «О войне»), в котором описывал свою родину как общий дом Леха и Руса. Поляков и русинов он называл «сарматскими сыновьями», вторя русскому благородному проекту трансформации Речи Посполитой из государства двух в государство трех народов и демонстрируя влияние польского сарматизма на свое мировоззрение. В произведениях, изданных в 1680 году, он отстаивал польско-русское сотрудничество в борьбе против турок — ту самую идею, которую поддерживал и автор «Синопсиса».
Отношение Барановича к Московии в основном определялось аудиторией, для которой он писал свои произведения. В панегириках в адрес московского царя он восхищался православным правителем — защитником его отечества от мусульманской и католической угроз. Но произведения Барановича, адресованные русской аудитории, оставляют впечатление, что не Московия получила контроль над частью Руси, а Русь поглотила Московию и таким образом продолжила свою давнюю борьбу с Польшей. Баранович разделял польский комплекс неполноценности перед Западом (особенно перед Италией) и чувство превосходства над «варварской» Московией; кроме того, он отмечал общие черты Польши и Руси. Впрочем, свою русскую идентичность он все-таки конструировал в противопоставлении польскому «другому». Чувствуя себя «своим» в польской культуре, Баранович шутливо заметил, что польская речь не настолько чужая Руси, как латынь, но в то же время повторял (в заголовке уже цитированного выше стиха) давнюю поговорку: «Поки свят святом, не буде русин полякові братом»[322]. Представляя свою Русь политически связанной то с Россией, то с польско-литовским государством, Баранович в обоих случаях хотел, чтобы эта связь была федеративной, вроде польско-литовского содружества. Баранович, бесспорно, беспокоился о своей украинской родине и желал ей мира и процветания, но до конца своих дней оставался русином речепосполитского периода, хотя его настоящий мир уменьшился до границ казацкой Гетманщины. Несмотря на то что время от времени Баранович называл своих соотечественников «украинцами», обычно он использовал слово «русины». Значение терминов «Русь» и «русины» в его произведениях стало постепенно ограничиваться территорией, подконтрольной левобережному казацкому гетману.
Для образованной элиты Гетманщины термин «русин» и продолжал служить первостепенным этнокультурным маркером. Но какие термины и понятия стали популярными среди широкой общественности? Источники с обоих берегов Днепра указывают на то, что для людей, которые не получали образования в Киево-Могилянской коллегии, воспитанной на ренессансных образцах, местные идентичности и лояльности (среди которых была «украинская», или пограничная, идентичность) играли более важную роль, чем русская идентичность, которую сконструировало православное духовенство после Брестской унии. Именно такое впечатление складывается после чтения летописи-дневника русского дворянина Иоахима Ерлича — политического сторонника Речи Посполитой, который весьма критично относился к восстанию Хмельницкого и к казацкой политической жизни в целом. В тексте Ерлича «Украина» фигурирует гораздо чаще, чем «Русь», которая появляется только в связи с православными церковными делами. Украина и Волынь находятся в центре внимания Ерлича и задают географическую основу его идентичности. Ерлич взялся за написание летописи, скрываясь в Киево-Печерской лавре после вспышки восстания Хмельницкого, но его мировоззрение сформировалось задолго до казацкого выступления (он родился в 1598 году, а умер после 1673) и содержало образ Украины, знакомый нам из трудов и карт Боплана. Судя по летописи Ерлича, в сознании русской шляхты, которая привыкла мыслить локальными терминами, в течение XVII века появилась Украина как новое географическое образование, сравнимое с такими историческими регионами, как Русское воеводство и Волынь. Однако, в отличие от этих регионов, оно охватывало приграничья целого ряда воеводств[323]. Трактовка Украины как конкретного региона открывала путь для развития связанных с ним локальной лояльности и идентичности, а утверждение отдельного государственного образования на части традиционных «украинских» земель помогло эту возможность воплотить в жизнь.
Киево-Печерская лавра. Современный вид
Становление обособленной украинской идентичности можно реконструировать на основе Летописи Самовидца, которая охватывает казацкую историю с 1648 года до начала XVIII века. Считается, что эту летопись написал выходец из казацкой старшины Роман Ракушка-Романовский, который впоследствии стал православным священником. Этот труд представляет немалый интерес для историков как первый образец казацкой историографии. Для нас летопись еще ценнее тем, что после 1670-х годов ее дописывали год за годом, а не ретроспективно. Существенная часть летописи написана в городе Стародубе, где Ракушка провел последние десятилетия жизни (умер в 1703 году). Он был активным участником многих событий того времени, в том числе участвовал в восстании Хмельницкого и некоторое время исполнял обязанности приказного полковника Войска Запорожского. При гетмане Иване Брюховецком он занимал должность генерального казначея, а после устранения гетмана от власти провел несколько лет на Правобережье, в частности ездил в Стамбул в составе посольства гетмана Павла Тетери. Насколько нам известно из биографии Ракушки-Романовского, он не учился в Киево-Могилянской академии, поэтому его взгляды претерпели разве что минимальное «искажение» под влиянием гуманистического образования и идей той эпохи. Его летопись отличается своеобразием в изложении событий описываемого периода, предоставляя нам довольно полное представление о взглядах и идентичностях казацкой старшины по обе стороны Днепра[324].
Летопись Самовидца. Титульный лист издания 1878 г.
Летопись Самовидца не оставляет сомнений, что к началу 1670-х годов (когда Ракушка стал делать ежегодные записи, а Московия и Речь Посполитая поделили казацкую Украину) понятия Украины и украинской идентичности уже прочно укоренились в сознании казацкой старшины — мало того, они устранили почти все внешние элементы русской идентичности. Ракушка использует слова «Русь» и «русский» даже реже Ерлича. В его случае эти термины ограничиваются сферой Православной церкви и таких связанных с ней тем, как календарь богослужений. Зато в тексте наблюдаются неопровержимые проявления казацкой идентичности и прочной привязанности к Украине как к земле казаков. Границы Украины (как в ретросперспективном описании событий 1648–1671 годов, так и в записях за 1672–1702 годы) четко согласуются со Зборовским соглашением 1649 года. Автор ни разу не употребляет термин «Украина» для обозначения любых земель за пределами зборовских границ и четко различает Украину, с одной стороны, и Волынь и Подолье, с другой. Выглядит это так, словно казацкая элита Гетманщины почти полностью стерла из памяти значение, которое этот термин имел до 1648 года, охватывая все пограничные воеводства Польского королевства. Единство казацкой Украины выступает одним из первоочередных приоритетов среди лояльностей и ценностей автора. Ракушка откровенно не одобрял условия Андрусовского перемирия, согласно которому Правобережье оставалось под контролем Польши, благосклонно отзываясь о протесте своего покойного предводителя гетмана Ивана Брюховецкого против перемирия. Согласно Летописи Самовидца, гетмана соблазнило обещание Дорошенко «цале уступити гетманство усего, толко жеби вкупі зоставало козацтво». Поэтому, продолжал летописец, «Бруховецкий гетман дался намовити и почал брати ненависть на Москву»[325].
Правобережье продолжало оставаться частью Украины, но в широком смысле этого термина, тогда как в летописи главное место занимает узкое значение, которое касалось только левобережной Гетманщины.
Разделение Украины вдоль Днепра не помешало Ракушке-Романовскому воспользоваться названием «Украина» для обозначения обеих частей казацкой территории. Однако опустошение Правобережья в течение 1670-х годов и начало Руины, которая побудила многих казаков (к ним принадлежал и сам Ракушка) переселиться на Левобережье, не могли не повлиять на его восприятие событий. Описывая судьбу Правобережья в записи от 1675 года, он отметил: «И так тая Украина стала пустая, потому что остаток тех людей Побужа и торговичане зашли на Заднепровье»[326]. Иногда Ракушка писал о «всей Украине», но чаще всего употреблял термин «Украина» без уточнений для обозначения Левобережной Украины, которую также называл «Задніпря» и «сегобочна Україна». Кроме того, «Украина» Ракушки-Романовского охватывала Северщину с центром в Стародубе и Запорожье с казацким центром — Сечью, а значит, постепенно смещалась на восток — на земли, которые оказались под царским протекторатом.
Смещение территориальной идентичности хорошо иллюстрируется тем, как Ракушка употребляет слова «наш» и «наши». Если в первых записях, которые касаются 1649, 1662 и 1663 годов, летописец употребляет выражения «наша земля» и «наш народ», говоря о территории и населении всей казацкой Украины, в более поздних записях он в основном только этими фразами называет население и казацкие войска Левобережной Украины. К примеру, в записи за 1692 год он четко разграничивает левобережных и правобережных казаков, используя слово «наши» только касательно первых: «И разделившись надвое, [Семен] Палий своих послал к королю, а наше войско к их царским величествам»[327]. Обычно Ракушка использует различные термины для обозначения московских сил (которые упоминаются в летописи как «Москва», «войска Московскіе» или «люде царскіе») и казаков, которых называет «наши войска», «войска козацкіе» или «войска наши козацкіе». Он также различает казацко-украинскую и московскую культуру. Вот как он комментирует в 1682 году кончину царя Федора Алексеевича: «[Царь] великую любов до нашого народу міл, бо и набоженства на Москві нашим напівом по церквах и по монастирах отправовати приказал, и одежу московскую отмінено, але понашому носити позволил»[328]. Впрочем, стоит заметить, что Ракушка все чаще называет московские войска «нашими», в частности, когда левобережное казачество и царские силы участвовали в совместном походе против турок или татар. Начиная с 1680-х годов летописец дополняет свой нарратив описанием событий в Москве, тогда как Варшава полностью исчезает из его поля зрения. По меньшей мере один раз он говорит о правителях Московии как о «монархах наших московских»[329].
При тщательном прочтении Летописи Самовидца становится заметно, что центр внимания, даже лояльность автора смещается каждый раз дальше на восток, в конце концов почти полностью привязываясь к левобережной Гетманщине. Но поскольку Ракушка-Романовский сформировался как личность, когда Украину воспринимали как единую казацкую страну, охватывающую оба берега Днепра, он не высказывал особого желания отмечать новые реалии. Мало того, не имея за плечами гуманистической подготовки, которую давали Киево-Могилянская коллегия и польские школы или академии, он не описывал мир с помощью национальной терминологии (в частности, в его понимании, «народ» означал любую группу людей, а не нацию). Господствующая идентичность, которой придерживался Ракушка-Романовский, была прежде всего социальной (казачество), а не национальной. Эта идентичность выполняла важную для казацкой самоидентификации функцию, отделяя элиты Гетманщины от русских элит Речи Посполитой, с одной стороны, и от жителей Московского государства, с другой.
Малая Русь
От русской традиции казацкая Украина унаследовала понятие «русского народа», а также прочную привязку к православию. Если эти компоненты отличали левобережное казачество от поляков, то в отношении московитов, также исповедовавших православие и осознававших свои русские корни, им такую функцию выполнять не удавалось. Московское православие, конечно, отличалось от киевского православия, а московская идентичность не была тождественна русской идентичности в Речи Посполитой, но новая политическая ситуация все-таки создавала проблемы для нациеобразующего проекта в Гетманщине, основанного на русских истоках и православии. «Малороссийская» терминология, которую впервые разработало киевское духовенство в 1620-е годы, предлагала решение проблем, с которыми столкнулись образованные элиты Гетманщины. Применяя эту терминологию, украинские светские и духовные элиты могли артикулировать свою идентичность по отношению к Москве, избегая крайностей опирающегося на понятие «Россия» дискурса Феофана Прокоповича, который почти не оставлял возможностей отделить русинов от московитов. Мало того, эта терминология прокладывала путь к компромиссу между украинской идентичностью казаков и русской идентичностью киевских интеллектуалов, накладывая ограничения на украинский дискурс казачества, которое отдавало предпочтение социальным категориям перед национальными.
Вероятнее всего, московская власть воспринимала Малую Русь в ее «зборовских границах» 1649 года. Даже официальным поводом для вступления Московии в военные действия с Речью Посполитой в 1654 году было требование восстановить Зборовский договор.
Как уже отмечалось в предыдущих разделах книги, термин «Малая Русь» вернулся в восточнославянский публичный дискурс в связи с интенсификацией отношений между преследуемым православным духовенством и верующими Речи Посполитой, с одной стороны, и православным царем в Москве — с другой. Его употребляли, чтобы отличать польско-литовскую Русь и Киевскую митрополию от московской Руси и московской митрополии (позже — патриархата), которая в этом контексте называлась Великой Россией или Великой Русью. Эту терминологию церковного происхождения, которую Богдан Хмельницкий и его соратники использовали в 1654 году в Переяславе, с такой охотой приняла московская сторона, что вскоре короткий титул царя «всея Руси самодержец» заменили новым «Великой и Малой России самодержец». При этом если территориальные границы Великой России были понятны и совпадали с границами Московии до 1654 года (за исключением Смоленска), границы Малой Руси оставались открытыми для интерпретаций. Они были такими же неопределенными, как западная и северная границы казацкого государства. Не дали им четкости ни Переяславское соглашение, ни дальнейшие «Статьи Богдана Хмельницкого».
В Гетманщине использовался иной взгляд на границы Малой Руси. Митрополит Киевский, который титуловал себя митрополитом Малой Руси в отношениях с Россией, считал, что его юрисдикция распространяется на все русские земли Речи Посполитой. В течение 1654–1655 годов казацкие отряды вторглись в Великое княжество Литовское, которое Московия считала своим. Московские власти решили внести ясность в вопросы, не только уточнив таким образом титул царя, чтобы называть его князем Волынским и Подольским, но и добавив «Белую Россию» к его короткому титулу, который отныне звучал как «Большой и Малой и Белой России самодержец»[330]. Все это мероприятие имело целью обуздать амбиции Хмельницкого и подчеркнуть, что Беларусь — то есть русские земли Великого княжества Литовского, захваченные царскими силами, — не может претендовать на права, дарованные Войску Запорожскому. Таким образом московские писцы на практике ограничили территорию, которую охватывал термин «Малая Русь», от территории польско-литовской Руси и Киевской митрополии до территории Войска Запорожского, в результате чего этот термин в московском понимании стал обозначать то же, что казацкий и польский термин «Украина».
Но, даже несмотря на это, многозначность термина «Малая Русь» и далее преследовала московских и казацких политиков, а также православных иерархов на протяжении последующих десятилетий. Второе Переяславское соглашение 1659 года заключенное между московскими боярами и гетманом Юрием Хмельницким, содержало упоминания о Малой Руси, которые свидетельствуют о различных пониманиях этого термина. С одной стороны, упоминания о школах «в Малой Руси… как на этой стороне Днепра, так и на той» указывают, что «Малая Русь» была синонимом «Украины». Запрет, направленный против казаков в Беларуси, свидетельствует о том, что Беларусь не была частью Малой Руси, где казаки, известные московским писцам как запорожцы, имели особые права и привилегии, полученные от царя. С другой стороны, упоминания о юрисдикции малороссийского духовенства говорят о древнем значении термина, которым поначалу обозначали территорию Киевской митрополии. То самое широкое понимание термина следует из фраз «черкасские города Малой Руси» и «Запорожское войско Малой Руси», поскольку в обоих случаях содержится намек, что термин «Малая Русь» охватывает территорию, более широкую, чем казацкое государство и его города[331].
Постепенно официальная московская практика ограничения территории Малой Руси землями казацкого государства закрепилась и в казацкой документации, а в переписке с Москвой казацкие писцы заменили «Украину» «Малой Россией», а «Московию» — «Великой Россией». Как показывает переписка гетмана Ивана Брюховецкого, писцы прибегали к такой терминологии в переписке и сделках с московскими властями, тогда как в письмах к донским казакам (а что уж говорить о письмах за пределы Московии) она отсутствует[332]. Похоже, что члены русской элиты за пределами Гетманщины, имея меньше дел с Россией, не знали об изменении в значении термина «Малая Русь». Скажем, православные жители Полоцка, прося царя не забывать о них после Андрусовского перемирия (1667) и защищать права православных Речи Посполитой на переговорах с королем, считали свой город частью Малой Руси[333]. Хотя верные давней традиции церковные элиты продолжали использовать термин «Малая Русь» в его первоначальном широком смысле, политические события вновь заставили пересмотреть его значение, еще больше сократив территорию, которую он обозначал. После Андрусовского перемирия в руках Московии остались только левобережные земли, так случилось потому, что возникла тенденция ограничивать Левобережьем не только понятие Войска Запорожского и Украины, но и понятие Малой Руси.
Чтобы избежать обвинений с польской стороны в нарушении соглашения или выдвижении незаконных претензий на Правобережье, московские дипломаты внимательно следили, чтобы их новые соглашения с левобережными гетманами касались исключительно Войска Запорожского «этой стороны Днепра», и в целом пытались не называть Правобережье «Малой Россией». Казаки же, со своей стороны, неохотно отказывались от понятия Малой Руси на обоих берегах Днепра, ведя переговоры с московскими властями — так же, как не хотели отказываться от идеи Украины по обе стороны этой реки[334]. Только в 1674 году, когда московские силы и левобережные казаки ступили на Правый берег, а Ивана Самойловича провозгласили гетманом обоих берегов Днепра, московская власть все-таки решилась причислить «Заднепрские полки» в перечень малороссийских городов[335]. Распространение власти царя на Правобережье оказалось недолговечным, поэтому термин «Малая Русь» вскоре вернулся к тому значению, которое было до 1674 года.
Левобережное казачество, чьи гетманы сохранили в своем титуле воспоминания о двух берегах Днепра, продолжало рассматривать Малую Россию / Украину как занимающую обе стороны Днепра, тогда как московские дипломаты в целом ограничивали понятие «Малая Русь» Левобережьем вместе с Киевом.
Хотя в территориальном измерении Малая Русь уменьшалась, популярность этого термина среди казацких элит во второй половине XVIII века получила новый импульс. Если поначалу казацкая старшина использовала его только в отношениях с Москвой, то под конец века этот термин употребляли и в отношениях с другими государствами региона. Доказательство этого находим в тексте соглашения, подписанного в мае 1692 года между крымским ханом и гетманом Петром Иваненко, иначе известным как Петрик — одним из конкурентов Ивана Мазепы в Гетманщине. Согласно тексту соглашения, стороны назывались Крымским и Малороссийским государствами. Последнее еще называли Киевским и Черниговским княжеством. Его границы преимущественно ограничивались Левобережьем, но Петрик задумывал расширить его территории на восток и запад, присоединив слобожанские полки (которые в то время находились под прямой властью Москвы) и переселив часть слобожанского населения на Правобережье[336]. Использование Петриком «малороссийской» терминологии свидетельствует о том, что она была популярна среди высшей элиты Гетманщины и бытовала в Генеральной военной канцелярии, в которой Петрик служил канцеляристом перед тем, как бежал в Крым.
«Малороссийская» терминология, которую полностью усвоили московские писцы, не вызывала у Москвы подозрений относительно лояльности казацких элит. Поэтому термин «Малая Русь» и производные от него слова постоянно применимы в казацких и московских документах. Однако поскольку Ракушка-Романовский в летописи применял термин «Малая Русь» только когда он встречался в царском титуле, можно догадаться, что данный термин не был популярным среди казацкой старшины среднего уровня и духовенства Гетманщины, которые не поддерживали непосредственных контактов с Московией. Другое дело — новые, более образованные представители светской и религиозной элиты Гетманщины. Казацкие ученые мужи нового поколения, подверглись воздействию тогдашней политической и исторической мысли Московии и не удовлетворились ограничениями, которые на них налагал короткий хронологический размах казацкого исторического нарратива, воплощенного, к примеру, в Летописи Самовидца. Как свидетельствуют упоминания Петрика о Малой Руси и Киевском и Черниговском княжествах, из московского взгляда на Гетманщину как на территорию княжеств Рюриковичей можно было извлечь пользу, связав свое непосредственное казацкое прошлое с куда более древней историей Руси вплоть до старокиевских времен. Такая терминология, кроме того, давала новому поколению казацкой элиты возможность (которой не давал дискурс, опирающийся на казачество) артикулировать восприятие себя как отдельной русской нации. Судя по тексту договора, Малороссийское княжество Петрика состояло из Войска Запорожского и малороссийского народа.
«Летопись событий…» Самуила Величко
Последнее из упомянутых понятий стало известным задолго до времен Петрика. Еще в 1663 году Иван Брюховецкий — скорее всего, выпускник Киево-Могилянской академии и один из самых новаторских политических пропагандистов среди казацких гетманов — обратился с универсалом к «малороссийскому народу», заменив таким образом термин «русский народ», что случается в документах его предшественников[337]. Брюховецкий не отказался полностью от старого термина в своей документации, однако употреблял его в основном в универсалах, обращенных к населению Правобережья, в которых пытался подчеркивать единство Малой Руси и подпольской Украины[338]. В 1669 году гетман Демьян Многогрешный или, вероятнее, кто-то из его канцеляристов придумал формулу «народ православный христианский малороссийский всенародный»[339]. В 1685 году его преемник гетман Иван Самойлович выдал инструкцию своему послу в Москву «от нас, гетмана, старшины и всего войска Запорожского, и народа малороссийского»[340]. Если казацкая сторона охотно принимала термин «малороссийский народ», то московская власть в целом избегала его в документах, а вместо этого говорила преимущественно о малороссийских городах, жителях Малой Руси или малороссийских городов[341]. Термин «малороссийский народ» стал важным инструментом создания новой казацкой идентичности. Он опирался на утвержденную традицию употребления термина «русский народ», но в то же время подстраивал ее под новые обстоятельства. Кроме того, он проводил границу между казачеством, с одной стороны, и русинами, оказавшимися за пределами Гетманщины, с другой. Он также разграничивал казацкие элиты и московитов, поскольку последние хоть и рассматривались как причастные к Малой Руси, но, безусловно, оставались за пределами малороссийского народа.
«Малороссийская» терминология — отнюдь не единственный риторический инструмент, которым орудовали создатели идентичности Гетманщины. Тесная связь между «малороссийской» терминологией и казацким политическим дискурсом и традицией выразился в термине «малороссийская Украина», который использовали казацкие гетманы различных политических ориентаций. Например, Юрий Хмельницкий в одном из универсалов в 1670-х годах назвал себя «князем малороссийской Украины». В 1682 году Иван Самойлович писал о «другой стороне малороссийской Украины». В соглашении 1692 года с Крымом Петрик вспоминал о «малороссийской Украине». Его враг, гетман Иван Мазепа, также употреблял этот термин, выражая обеспокоенность по поводу планов Московии относительно «малороссийской Украины»[342]. Этот же термин широко использовали после поражения Мазепы, о чем свидетельствует Летопись Величко, написанная в 1720-х годах[343]. Поскольку термин «малороссийская Украина» касался той же территории, что и термины «Украина» и «Малая Русь», он давал возможность совместить обе терминологические традиции и согласовать сословное понятие казацкой Украины с этнокультурным понятием Малой Руси.
Одним из индикаторов того, что отдельная политическая структура и своеобразный исторический опыт превращали население Гетманщины в отдельную общественную группу, известную в тогдашних источниках как «малороссийский народ», является возникновение стереотипных представлений об этом народе-нации внутри страны и за рубежом. Согласно одному из таких стереотипов, который сформировала московская администрация, элиты Гетманщины воспринимались как ненадежные союзники. В соответствии с типичным для того времени московским стилем, когда кто-то выступал против Москвы или восставал против московских правителей, он воспринимался как предатель и обвинялся в нарушении присяги, данной московскому самодержцу. Московских чиновников вовсе не беспокоило то, что, возможно, такое лицо не давало никакой присяги, или то, что казаки понимали свою верность царю как договор, подлежащий отмене в случае нарушения его условий любой из сторон. Поэтому официальные московские документы содержат упоминания о ненадежности «малороссийских людей», которых не считали ни «добрыми», ни «верными». Для московских чиновников было обычным делом называть гетманов, которые восставали против царя, и малороссийское население в целом «изменниками». Такая практика вызвала недовольство со стороны тех, кто сохранял преданность Москве. Доходило даже до того, что они обращались к московским властям с просьбой не применять этот термин ко всему казачеству[344]. Как в насмешку, с течением времени элиты Гетманщины сами стали перенимать московскую терминологию и усваивать в отношении своих земляков стереотипы, присущие московскому чиновничеству. Все началось с официальных соглашений с царями и переписки с московскими чиновниками, которые поощряли разного рода доносы, а затем распространилось на внутреннюю переписку и литературу Гетманщины. «Статьи Ивана Брюховецкого» за 1665 год содержали упоминание о «непостоянстве малороссійскихъ жителей»[345]. В 1669 году протопоп Симеон Адамович жаловался в Москву на «непостоянство своей братии, малороссийских жителей», одновременно донося на гетмана Демьяна Многогрешного[346].
«Непостоянство» — одна из черт, которую приписывал «нашим людям» автор Летописи Самовидца. Что интересно, Ракушка-Романовский выводил это «непостоянство» из неспособности казацких элит оставаться верными своим гетманам, а не царям[347]. Постоянная необходимость вести политические маневры между тремя соседними государствами, каждое из которых претендовало на казацкое государство, оставила отпечаток на характере политической жизни Гетманщины и на самовосприятии рождающейся нации. Не сумев восстановить единство своей родины, опустошенной десятилетиями войны и внутренних распрей, казацкие элиты разных частей Украины осваивали искусство собственного политического и физического выживания. Гетман Иван Мазепа считал отсутствие единства среди казацкой старшины крупнейшим проклятием Украины. В думе, которую Мазепе приписали его враги, гетман будто обращался к Вседержителю «Жалься, Боже, України / Що не в купі маєть сини!»[348]. Почти с идентичной мольбой выступил Лазарь Баранович в одном из стихотворений: «Дай, Боже, згоду святу Вкраїні». Хотя Баранович считал русинов не менее преданными вере поляков, прославляя их за готовность встать на ее защиту, он выражал сожаление по поводу готовности русских крестьян бунтовать против шляхты и готовности русинов вообще драться между собой. Он снова обращался к божественным силам: «Батько не вірить сину, син — батьку, буває, / Пане згаси в Україні вогонь, що палає»[349].
Отчизна
«Отчизна» была важным термином в русской, а затем украинской политической лексике XVII — начала XVIII века. Это слово было заимствовано из польского языка, с которым украинский политический дискурс разделял ряд важных признаков[350]. В Речи Посполитой «отчизну» («ojczyznu») считали независимой от правителя, даже от конкретного государства: это слово могли применять и к составной части данного государства, и ко всему целому. Всю Речь Посполитую, Польскую корону и Великое княжество Литовское считали отчизной для их жителей[351]. К примеру, в стихах, которые в мае 1648 года декламировали студенты Киевской коллегии в честь князя Иеремии Вишневецкого, за право называть потомков княжеских родов Сангушков, Чарторыйских и Корецких своими сыновьями соревновались две родины: Польское королевство и Великое княжество Литовское. Примечательно, что польско-литовскую Русь не вспоминали как возможную родину русских элит, хотя Вишневецкий, будучи потомком русских князей, стал первым представителем своей православной семьи, обратившимся в католичество[352].
Все это изменится с началом восстания Богдана Хмельницкого в 1648 году, которое набирало обороты как раз тогда, когда студенты Киевской коллегии декламировали свои стихи в честь Иеремии Вишневецкого. Однако изменения происходили очень медленно. Гетманы пропольской ориентации или ищущие согласия с Польшей продолжали называть Речь Посполитую «общей родиной» для себя и поляков[353]. Насколько сегодня известно, смещение значения термина «отчизна» от Польского королевства или Речи Посполитой к казацкой Украине началось в Гетманщине[354]. Упоминания об Украине как об отечестве появляются в письмах Ивана Брюховецкого еще до того, как он в 1663 году был избран гетманом, а после этого события они становятся еще заметнее[355]. Зато главный конкурент Брюховецкого — правобережный гетман Павел Тетеря — продолжает ссылаться на Речь Посполитую как на родину казачества и «мать нашу»[356]. Московские политические элиты не имели понятия «отечества», при помощи которого могли бы бросить вызов казацкому словоупотреблению. Хотя их слово «отчина» было похожим на польское «ojczyznа» и русское «отчизна», его значение — вотчина царя — полностью отличалось от этих слов. Брюховецкий отдал должное и этому московскому понятию, назвав украинские земли (вместе с Правобережьем) царской «отчиной»[357].
Павел Тетеря
Михаил Ханенко
Событием, которое во многом сняло неопределенность с употребления слова «отчизна» среди казачества, стало Андрусовское перемирие, которое разделило Украину вдоль Днепра не только де-юре, но и де-факто. После этого казаки начали четко называть «родиной» свою разделенную страну: Малую Россию, или Украину. Призывы к объединению и спасению отечества от дальнейшей руины стали привычной темой в обращениях казацких вожаков к соотечественникам. В 1668 году Брюховецкий объяснил собственно восстание против царя как реакцию на планы Речи Посполитой и Московии уничтожить Украину, «отечество наше милое»[358]. Примерно в то же время гетман Дорошенко заручился поддержкой населения Левобережной Украины, ссылаясь на «отчизну, нашу Украину». В течение 1670-х годов протурецки настроенный Юрий Хмельницкий и пропольський гетман Михаил Ханенко шли по тому же пути[359]. Несмотря на то, что этой «отчизной» уже не была Речь Посполитая или Польское королевство и на то, что она однозначно не охватывала Московии, в других аспектах ее границы были такими же двусмысленными и неопределенными, как и границы Украины, Малой Руси или России. «Старые русские» интеллектуалы Киева продолжали мыслить категориями, соответствующими 1648 году, считая не только казацкую Украину, но и Русь своей страной. В 1670-х годах такие летописцы Гетманщины, как Михаил Лосицкий и Феодосий Софонович, оставались верными русской отчизне[360]. Однако уже в 1683 году Димитрий Ростовский написал эпитафию покойному генеральному судье Гетманщины Ивану Домонтовичу, охарактеризовав его «вѣрным сыном отчизны»[361], которая в данном случае, скорее всего, означала Гетманщину, учитывая должность, которую занимал покойный. Такое же значение имело отечество в одном из панегириков в адрес гетмана Ивана Самойловича[362]. К началу 1690-х годов, как будет упомянуто далее, киевские интеллектуалы возвеличивали основателя Гетманщины Богдана Хмельницкого как «отца отечества». В этом случае намек на Гетманщину (или прежде всего на казацкое государство) был вполне очевиден для читателя.
Юрий Хмельницкий
В хвалебном слове в адрес Богдана Хмельницкого, помещенном в учебнике риторики, опубликованном в 1693 году, гетман был изображен европейским Марсом, русским Леонидом и Фебом, Украинская Тамерланом и отцом отечества. Казацкая родина была подана как образование, полностью отдельное от польского отечества, даже противоположное ему, а также как объект высокой верности его сыновей, связанных обязанностью прославлять героические деяния «рыцаря Хмельницкого». Автор превозносил гетмана за его победы над поляками, в перечень которых входили «Термопилы Корсуньские», «Канны Пилявецкие», а также битвы под Збаражем, Зборовом и Кнутом. Согласно неизвестному автору, этими битвами Хмельницкий подготовил Русь к свободе, а себя — к вечности[363]. Тот факт, что в польском употреблении слово «отчизна» могло означать не только государство, но и любую из его составляющих, и было относительно независимым от персоны монарха, пожалуй, помог казацким авторам, которые хотели обозначить Гетманщину как свою родину. До начала XVIII века в официальных универсалах гетмана Мазепы случаются упоминания о «малороссийской отчизне» (то есть левобережной Гетманщине)[364]. Некоторые панегиристы заходили так далеко, что именовали Мазепу, подобно Богдану Хмельницкому, «отцом отчизны»[365].
Неудивительно, что эмоционально насыщенный термин «отчизна» сыграл важную роль в попытках 1708 года легитимировать или, наоборот, дискредитировать восстание Ивана Мазепы против Петра I. Первым публичным актом Мазепы после объединения сил с Карлом XII была присяга перед казацкой старшиной, которая его сопровождала. В присяге он заявил, что действует не для своей выгоды, а ради добра всей отчизны и Войска Запорожского[366]. В письме к полковнику (и будущему гетману) Ивану Скоропадскому Мазепа призвал его как «истинного сына отчизны» напасть на московские войска[367]. В предыдущей части уже говорилось, что Мазепа был первым, кто использовал представление о лояльности по отношению к отчизне. Произошло это во время «войны манифестов» с Петром I в течение 1708–1709 годов.
Иван Мазепа. Портрет-гравюра, опубликованная в немецком издании, 1704 г.
В универсале от 8 декабря 1708 года Мазепа утверждал, что «Москва, то есть, народ Великороссийский, нашему народови Малороссийскому завше ненавистен, издавна в замыслах своих поставил злосливых народ наш к згубы приводити». Новый гетман Иван Скоропадский, который был поставлен на место Мазепы по царской воле, ответил 10 ноября универсалом, в котором заявил, что «мы повинны со всею отчизной нашею» быть благодарными «Великим Государям Нашим Православным Монархам» за защиту, которую они обеспечили, и за цветущее положение «Украйны, отчизны нашей» после затяжных войн конца XVII века. Далее он добавил, что Мазепа совершил измену не для защиты «отчизны нашей», а ради собственной выгоды. Никогда не будучи ее истинным сыном, «так и барзей теперь явным супостатом и изгубцею стался». Скоропадский также утверждал, что «овшем маем отчизна наша Малороссийская остерегатись от того называючегося сына, а рачей мовити, выродка, злочестивого Мазепы», и обвинял Карла XII в намерении передать «отчизну нашу» польскому королю. Новый гетман призвал своих сторонников поддержать великорусские войска «за Веру Православную, за церкви благочестивые и за отчизну свою»[368]. В обращении от «малороссийских архиереев», которое по настоянию царя распространяли в Украине, Мазепа был изображен не только как предатель, который покинул православного царя ради монарха-еретика, но и как тот, кто «малороссийские отчизни отчуждился», пытался запрячь ее в польское ярмо и передать православные церкви униатам.[369]
Тема добра отечества как высшей ценности и объекта лояльности, которую внес в пропагандистскую войну Мазепа, вытеснила на обочину понятие личной верности монарху, которое занимало центральное место в первом письме Петра по поводу выступления Мазепы. Другим Мазепиным новшеством было представление конфликта не как акта личной измены, а как конфронтации двух наций (народов): малороссийской и великорусской. Реакция Петра Скоропадского на обвинения Мазепы показывает, что им пришлось принять навязанную логику и правила национального дискурса. Они начали писать не только о «малороссийском народе», «малороссийских» и «великороссийских» войсках, к чему московские власти всегда были готовы[370], но и о великорусских подданных царя и великорусском народе. Пусть даже эти термины и не были абсолютно новыми, но они не были и привычными для царских манифестов, в которых преимущественно отдавали предпочтение государственному дискурсу перед национальным, а деяния царя легитимировали ссылками на интересы российского государства.
Хотя все участники войны манифестов единогласно называли жителей Гетманщины «малороссами», среди них не было согласия по терминологии, которая бы описывала царское войско и государство. Называние московских сил «великорусскими», которое встречаем в манифестах Петра I и гетмана Ивана Скоропадского, восставший Мазепа и его окружение отбрасывали. В письме к Скоропадскому Мазепа противопоставлял малороссийскую родину не Великой России, а тиранической «московской силе» и московскому войску. Эта терминология повторилась в письме Мазепы запорожским казакам и в универсале Карла XII, составленном с помощью казацких советников[371]. Мазепа отказывался от «великорусской» терминологии, которой он и его левобережные предшественники пользовались в переписке с Россией, возвращаясь к терминам, которые были привычны для польской традиции и, судя по тексту Летописи Самовидца, обрели популярность среди казацкой старшины среднего уровня и среди широкой общественности. Мазепа в своей антимосковской пропаганде избегает упоминаний о Великой России, видимо, чтобы не навеивать мысли о какой-либо связи между двумя противоборствующими нациями.
Казацкая нация
Политический язык и идеологические понятия, которые использовал Мазепа во время конфронтации с царем, получили дальнейшее разъяснение в произведениях его сторонников, в том числе преемника в изгнании гетмана Филиппа Орлика. Орлик, который был генеральным писарем при гетманстве Мазепы, написал немало гетманских универсалов, изданных осенью-зимой 1708 года. В письме от 1721 года митрополиту Стефану Яворскому, который тогда фактически возглавлял имперскую Церковь, Орлик рассказал, что когда Мазепа признался ему в намерении восстать против царя, гетман утверждал, что делал это «для васъ всѣхъ, подъ властію и реиментомъ моимъ зостаючихъ, для жонъ и дѣтей вашихъ, для общаго добра матки моей отчизны бѣдной Украины, всего войска Запорожскаго и народу Малороссійскаго, и для подвышшеня и разширеня правъ и волностей войсковыхъ»[372].
Титульный лист оригинальной версии «Конституции Филиппа Орлика»
Авторы «Pacta et Constitutiones» (1710) — условий, на которых казацкая изгнанническая старшина и запорожцы избрали Орлика на место покойного Мазепы, — также объясняли Мазепины деяния его заботой о единстве и благосостоянии отечества. Они утверждали, что покойный гетман продолжил дело Богдана Хмельницкого, который заключил союз со шведским королем Карлом X в середине XVII века, чтобы освободить свою родину из-под чужеземного ига. Как преемник Мазепы Орлик, в свою очередь, должен заботиться о благосостоянии отчизны, название которой в латинском тексте «Pacta» писали как «Ucraina» или «Parva Rossia»[373].
Историческая часть «Pacta» свидетельствовала о существенном пересмотре отношений казацкой элиты с Московией. Документ начинался с краткого вступления, в котором было подано историю казаков и их отношений с Польшей, Московией и Швецией. Это вступление во многих смыслах порывало с русской историографической традицией, предложив нерусскую генеалогию казачества и тем самым оборвав все исторические и этнокультурные связи между ним и Московией. Так появляется отдельная казацкая нация («народ» в украинской версии документа, «gens» — в латинской), которую иначе называют «народом малороссийским» в украинском тексте и «Rossiaca» — в латинском, но ее главное название — это «народ казацкий». И «казацкая», и «малороссийская» терминология позволяли отделить жителей Гетманщины от московитов и русского населения Речи Посполитой. Понятие «Русь», которое связывало все эти три группы, было вытеснено за пределы дискурса. Авторы «Pacta» использовали термины «казацкий» и «малороссийский» как синонимы, не оставляя сомнения, что они имели в виду и Войско Запорожское, и «малороссийский народ», традиционно разграничивающиеся в тогдашнем официальном дискурсе. Теперь их объединили в понятии казацкой нации — это был важный прорыв в определении нового сообщества, образовавшегося в пределах Гетманщины. Впрочем, несмотря на то что термин «казацкий народ» объединял эти две категории, он не уравнивал их: простолюдинов отнюдь не рассматривали как ровню казакам. Сам термин «казацкий народ» намекал на ведущую роль казацкого элемента в малороссийской нации — это был отголосок особого места, которое занимала шляхта в дискурсе старого русского и польского народов-наций. Фактически новая элита Гетманщины, хоть и использовала казацкое самоназвание и претендовала на исторические права, прежде дарованные казачеству, быстро превращалась в замкнутое социальное положение, которое Зенон Когут обозначил как «новую шляхту». В течение десятилетий, последовавших после Полтавской битвы, эта «новая шляхта» полностью превратилась в ведущий слой казацкой или малороссийской нации Гетманщины[374].
Авторы «Pacta» использовали этимологию слова «казак», чтобы вывести историческую генеалогию новой нации. Согласно «Pacta», казаки в древние времена были известны как хазары и снискали славу за свои военные походы на различные государства, в частности на Византию («Imperia Orientalis»). Чтобы заключить с ними мир, византийский император даже согласился женить своего сына на дочери кагана, то есть хазарского князя. Согласно дальнейшему изложению, казацкую нацию поработили позже польские короли Болеслав Храбрый и Стефан Баторий, но она постоянно стремилась к свободе и, в конце концов, сбросила польское владычество под руководством гетмана Богдана Хмельницкого, которого Бог послал как защитника святого православия, прав отечества и вольностей Войска. При поддержке Швеции и Крыма Хмельницкий освободил Войско Запорожское и малороссийскую нацию. Казаки приняли протекторат Московской империи («Imperio Muscovitico»), надеясь, что московиты, будучи того же вероисповедания, сохранят их свободы, однако они были нарушены сразу после смерти Хмельницкого. Поэтому Мазепа должен был принять протекторат шведского короля ради единства родины и прав и вольностей Войска Запорожского[375].
Создатели казацкой нации начала XVIII века попытались отграничиться от политически опасного названия «Русь» и его истории, как и их преемники — создатели современной украинской нации начала XIX века, которые откажутся от традиционного названия своего русского отечества в пользу несколько противоречивого в то время названия «Украина».
Так видели историю казацкой нации сторонники Мазепы в изгнании, их взгляд на польский период казацкой истории имел много общего со взглядом русских писателей предыдущего периода. Но между этими двумя подходами существовали и важные отличия. Авторы «Pacta» отказались от попыток православных интеллектуалов 1620-х годов связать казачество с киевскими князьями. Они обошли киевский период, который был неоднозначным в этнонациональном смысле, поскольку смешивал московскую и русскую истории (даже в нарративах таких отчетливо прорусских авторов, как Софонович). Авторы «Pacta» полностью отделили казачество от Рюриковичей. Историю крещения Руси, которая была сверхважной для русской историографии, также опускали — вместе с Владимиром Великим. А взамен появился сюжет о хазарско-казацком князе, который установил патримониальные связи с Византией. Логика, видимо, была довольно проста: если московские цари доказывают, что Владимир был их предком, то казачество не может рассматривать его как своего предка.
Авторы «Pacta», безусловно, подверглись воздействию традиции польского сарматизма, которому была присуща привычка искать предков среди славных народов прошлого. Если поляки нашли их в сарматах, то украинские казаки остановились на хазарах. Историографическое оружие этот «казацкий сарматизм» также получал из польской историографии, в частности из хроники Мацея Стрыйковского, который считал хазар русским народом. Еще в 1676 году Иоанникий Галятовский сослался на Стрыйковского и хазарскую теорию происхождения казачества, но в конце доводы ее сторонников показались ему, видимо, неубедительными, поэтому он предпочел теорию, выводившую казачество из таинственного «Козерожца»[376]. Если «старые русины» Киева выражали свои сомнения, то казацкие авторы с энтузиазмом приняли хазарскую теорию, которая давала возможность подчеркнуть важность казацкого элемента для определения новой нации и предлагала ей совершенно независимую генеалогию. Текст Летописи Самовидца свидетельствует, что казачество в целом неохотно участвовало в великорусско-малороссийском, или даже русском дискурсе, который создали тогдашние церковные интеллектуалы, а взамен искало иную лексику, чтобы выразить свою сословную идентичность и политическую программу. Историческая парадигма, предложенная в «Pacta», давала казацким предводителям возможность экстраполировать их казацкую идентичность на прошлое и одеть ее в национальный костюм.
Мацей Стрыйковский. Гравюра неизвестного автора. До 1582 г.
Иоанникий Галятовский
Историческое вступление к «Pacta» очень близко краткому изложению истории казачества, поданному в летописи начала XVIII века, приписываемой казацкому старшине Григорию Грабянке. Летопись Грабянки — весьма изысканный исторический нарратив, который больше других тогдашних произведений опирается на доработку предыдущей историографии. Поэтому очень вероятно, что Грабянка и автор «Pacta» пользовались одними историческими источниками. Именно Грабянка предложил, пожалуй, самый подробный из известных ныне изложений хазарской теории происхождения казачества. Более того, Грабянка завершает «национализацию» казачества, начатую в «Pacta», тем, что находит библейские истоки казацкой нации. Его произведение связывает хазар с аланами, а этих вторых — со скифами, которые, в свою очередь, якобы происходят от Гомера — старшего сына библейского Иафета[377]. Вот так на страницах летописи казаки («народ малороссийский, прозванный казаками») предстают как нация с библейским статусом, ничем не хуже москвичей или русинов, которых автор «Синопсиса» выводил от общего предка Мосоха. Далее Грабянка объединяет хазарское и русское прошлое в истории «малороссийских казаков». И «Pacta», и нарратив Грабянки отражают склонность тогдашних казацких интеллектуалов подавать казачество как более древнее образование, чем его непосредственные соседи, и тем самым наделять его статусом отдельной нации.
В «Pacta» казацкую народ-нацию подают как храбрую, свободолюбивую и законопослушную, что кардинально отличает ее от главных соседей — Речи Посполитой и Московии. Польша с ее королями возникает в историческом вступлении в «Pacta» завоевателем и угнетателем казачества, которое восстало против нее в ответ на нарушение своих религиозных и иных прав. Текст «Pacta» довольно четко говорит о том, что все обвинения Петра в адрес Мазепы и его сторонников в том, что они планируют передать Украину Польше и ввести унию вместо православия, были всего-навсего пропагандистским маневром. Православие сохранило место в сознании авторов, которые хотели вывести Киевскую митрополию из-под руки Москвы, вернув ее в подчинение Константинополю. Если Польшу рассматривают в «Pacta» как другую нацию, то Московию не отграничивают от казачества на этнонациональной почве, а взамен трактуют как отдельное государство. Соответственно традиции, ведущей отсчет от 1658 года, когда в обращении к европейским правителям гетман Иван Выговский объяснял причины разрыва отношений с Москвой, авторы «Pacta» делали упор на то, что московиты нарушили их права, хотя обещали защиту, тем самым заставив Ивана Мазепу принять шведский протекторат. Разрыв приобретал легитимность при интерпретации начального соглашения между царем и казачеством как такого, в котором имелись обязанности обеих сторон, а не как одностороннего, в котором казаки предстают подчиненными царя. Как и в универсалах Мазепы, верность отчизне ставили выше верности монарху, особенно монарху, который нарушает первоначальный договор. На страницах «Pacta» Московия возникает как тираническое государство, чья власть и пример разлагали казацкую власть, превращали гетманов в самодержцев, которые посягали на права Войска Запорожского и всей нации. Поэтому «Pacta» был заключен между новоизбранным гетманом, с одной стороны, и казацкой старшиной, Войском и малороссийской нацией — с другой, чтобы сдерживать авторитарные наклонности будущих гетманов и гарантировать права нации.
Малороссийская Украина
Петр I воспользовался поражением Карла XII и Мазепы под Полтавой (1709), чтобы развернуть решающее наступление на автономию Гетманщины. Ее столицу переместили ближе к границе с Россией, царь забрал себе право назначать казацкую старшину, к гетманскому двору присылали постоянного царского резидента, а в 1722 году была отменена даже должность гетмана, вместо которой ввели Малороссийскую коллегию. Казацкие элиты протестовали, но не восстали. Вместо этого они отправили в Петербург депутацию, которая должна была ходатайствовать о восстановлении гетманства. Впрочем, ходатаев бросили за решетку. Лидеры Гетманщины должны были замолчать. Борьба за восстановление утраченных прав стала лейтмотивом казацких соревнований с империей до смерти Петра и восстановления гетманства в 1727 году. Литературные и иконографические произведения этого периода показывают, что казацкие элиты, которые боролись за сохранение своих прав и привилегий, выработали после поражения Мазепы новый тип политического самосознания, который примирял их с возросшей властью империи. Каким же именно было это самосознание?
К важнейшим источникам о взглядах элит Гетманщины после Полтавы принадлежит, кроме упомянутой летописи Григория Грабянки, и объемное «Сказание…» Самуила Величко — бывшего канцеляриста Генеральной военной канцелярии[378]. Вероятнее всего, оба произведения были написаны или отредактированы в течение 1720-х годов. Хотя Летопись Грабянки завершается событиями 1709 года, ее автору был известен российский перевод труда Самуэля Пуфендорфа, напечатанный в 1718 году; кроме того, он использовал термин «император Всероссийский», который Петр принял только осенью 1721 года. Величко также знал русский перевод работы Пуфендорфа, а из текста его летописи следует, что он пережил Петра I. Тот факт, что оба главных труда казацкой историографии были завершены не ранее 1720-х годов, позволяет предположить, что импульсом к их созданию стало не столько поражение Мазепы под Полтавой, сколько его долгосрочные политические последствия, в частности отмена гетманства в 1722 году и попытка ускоренной инкорпорации Гетманщины в общеимперскую административную систему через прямое правление Малороссийской коллегии.
Оба летописца имели и личные, и идеологические основания сопротивляться инкорпорации. Грабянка, например, входил в состав казацкой делегации во главе с наказным гетманом Павлом Полуботком, которая в 1723 году отправилась в Петербург, чтобы просить восстановления гетманства. Его, как и Полуботка, царь бросил в тюрьму; но, в отличие от приказного гетмана, Грабянка пережил заключение, вышел на свободу после смерти Петра I и сделал успешную карьеру после восстановления должности гетмана, которую занял другой царский узник, Даниил Апостол. В 1730 году Грабянка получил должность гадячского полковника, а умер в 1737 году во время казацкого нападения на Крым[379]. Величко по неизвестным причинам оказался за решеткой там же, где и после Полтавской битвы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что как историки Грабянка и Величко были ревностными борцами за традиционные казацкие вольности и свободы. Естественно, что, учитывая политические обстоятельства, они, в отличие от Мазепы и Орлика, пытались достичь своей цели в рамках Российской империи, а не за ее пределами, что могло повлиять на их аргументацию. Отмена гетманства, в отличие от отстранения от должностей отдельных гетманов в прошлом, свидетельствовала об очевидной угрозе, которая нависла над самим существованием казацкой государственности. Естественной реакцией на это была выработка исторических аргументов, которые доказывали бы «древнее», а следовательно, легитимное происхождение казацких прав, привилегий и свобод. Однако, в отличие от казаков XVII века, казацкие элиты после Полтавы, чьи взгляды отражены в исторических трудах Грабянки и Величко, старались не расширить свою автономию, а всего-навсего сохранить ее.
Значение трудов Грабянки и Величко становится понятнее на фоне исторической, политической и идеологической дискуссии, которая началась с войны манифестов между Мазепой и Петром в 1708–1709 годах и продолжилась в изгнаннических писаниях Орлика. На чью сторону — Петра или Мазепы — становятся летописцы послеполтавской Украины? Судя по тому, что нам сегодня известно, у казацкой элиты было не очень много оснований любить Мазепу. Сначала они критиковали гетмана за раболепие перед царем, а затем крайне неохотно поддерживали его восстание. Даже сторонники не могли дождаться кончины Мазепы, после которой сразу заключили «Pacta», что было реакцией на самовластное правление Мазепы и имело целью ограничить полномочия и амбиции его преемника Филиппа Орлика. А один из упомянутых летописцев, Самуил Величко — протеже мазепиного врага генерального писаря Василия Кочубея — не был ни другом, ни поклонником покойного гетмана. Однако одно дело — уклоняться от поддержки Мазепы, и совсем другое — одобрять посягательства Петра на автономию Гетманщины, кульминацией которых была отмена гетманства.
Один из главных вопросов, которые рассматривали в манифестах, касался верности и предательства. Как уже было отмечено, Петр обвинил Мазепу в том, что тот предал присягу царю, а Мазепа ответил, что его обязывала так поступить верность высшего уровня — верность отечеству, вольностям Войска и благосостоянию малороссийской нации. Этой же идеи придерживался Орлик в изгнании, но интеллектуалы Гетманщины не пошли по этому пути. Как показывает Франк Сысын, Грабянка принял идею верности царю как важного критерия оценки деятельности различных гетманов[380]. Это же можно сказать и о Величко. Он, сообщая читателю о смерти своего покровителя Василия Кочубея, отметил, что тот служил Богу, своему государю, своему отечеству и казацкому Войску[381]. В этой иерархии объектов лояльности отечество стоит после государя. Хотя в летописи Величко уделил немалое внимание идее верности отечеству, в целом он, кажется, поддерживал пропагандистский тезис царя, выдвинутый в 1708–1709 годах. Согласно этому постановлению, было допустимо, чтобы любовь к отчизне превышала чувство долга перед гетманом, который действует вопреки интересам отечества, но никакая любовь к отчизне не может оправдать восстание против московского монарха. На практическом уровне Величко в основном старался избегать противопоставления верности московскому царю и верности казацкой отчизне[382]. Хотя он иногда критиковал отдельные действия монархов, в том числе Петра, но не доходил до того, чтобы ставить верность Украине — его малороссийской отчизне — выше верности государю. В этом смысле Величко оказался менее последовательным, чем Мазепа и Орлик, потому, признавая Богданом Хмельницким право поднять восстание против польского короля ради отечества, он отказывал в таком праве его преемникам, которые восставали против российского царя. Конечно, польские монархи не были православного вероисповедания, тогда как московские суверены были, прежде всего, православными царями и защитниками православной церкви. Впрочем, не обязательно искать какое-то религиозное или идеолого-логическое оправдание Величко: как отмечает Франк Сысын, поддержка православного царя, которую проявлял летописец, могла вытекать просто-напросто из его понимания «политических реалий, порожденных борьбой конца XVII века и Полтавской битвой»[383].
Хотя и Величко, и Грабянка становились на сторону царя в дискуссии о верности, которая развернулась между Петром и Мазепой, есть неопровержимые индикаторы того, что в вопросе вольностей и свобод казацкого войска и малороссийской нации они тяготели к позиции опального гетмана. В частности, Величко критиковал Петра за отказ от Правобережной Украины и внедрение правления Малороссийской коллегии, несмотря на заявления царя о том, что малороссияне имеют больше прав, чем любая другая нация на земле[384]. Хотя этот критический выпад против царя вызвали действия Петра после Полтавы, он был не чем иным, как прямым ответом на царские манифесты за 1708–1709 годы, которые утверждали, что казаки имеют больше привилегий, чем любая другая нация на земле. Он был также отголоском упреков, отпущенных в адрес царя Мазепой, оправдывавшим свое восстание желанием защитить единство родины. Авторы обеих казацких летописей, как и автор Летописи Самовидца, осуждали Андрусовское перемирие, которое разделило Украину, и продолжали считать Правобережье частью своей родины.
Письмо гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу с сообщением о победах над польскими войсками и желании запорожских казаков вступить в русское подданство
Для обоих летописцев центральным пунктом в дискуссии о правах было толкование Переяславского договора 1654 года как «Magna Carta» вольностей Гетманщины. Величко обозначил переяславское событие как соглашение, в котором имелись двусторонние обязательства двух равноправных партнеров. Конечно, такая интерпретация прямо противоречила взглядам московской власти, воспринимавшей права и привилегии Войска Запорожского как дар царя его подданным, который царь может в любое время забрать по своему желанию. Московская сторона никогда не признавала обязательный характер Переяславского соглашения и дальнейших «Статей Богдана Хмельницкого», но на переговорах с наследником гетмана одновременно отрицала, что нарушала их. В 1708 году, на гребне кризиса, Петр не признавал никаких нарушений Переяславского соглашения. На самом деле он придерживался политики своих предшественников, существенно ограничивая привилегии казачества: сначала издал новые статьи, которые резко сокращали полномочия новоизбранного гетмана Ивана Скоропадского, а потом, в 1722 году, вообще отменил гетманство. Своей интерпретацией Переяславского соглашения как взаимообязывающего договора казацкие летописцы, как и их предшественники 1654 года, экстраполировали правовую и политическую практику польско-литовской Речи Посполитой на Московию. Отношение к самодержавной царской власти, якобы придерживающейся традиций Речи Посполитой, было четким проявлением ложного понимания политических реалий, которое еще можно было простить таким «бывшим русинам», как Софонович или Баранович, но не канцеляристам Гетманщины 1720-х годов. Однако они, в конце концов, были только жертвами политических обстоятельств, которые диктовали им линию поведения. Признание реалий царского самодержавия не дало бы им лучших аргументов для восстановления казацких прав, которые были отобраны Петром и его предшественниками.
Ни один из летописцев не уделил должного внимания выступлению Мазепы. Грабянка просто-напросто вспомнил об «измене» гетмана, а летопись Величко заканчивается событиями конца XVII века. Отношение этого второго автора к выступлению Мазепы можно реконструировать только приняв во внимание его реакцию на восстание, которое поднял Петрик, в 1693 году вступивший в союз с Крымом. Повествуя об обращении Петрика к Войску Запорожскому, Величко приводил те же аргументы, что фигурировали и в универсалах Мазепы за 1708 год: война против Московии ведется за казацкие вольности и всеобщее благо народа-нации, а ее цель — вернуться к идеализированным временам Богдана Хмельницкого. В тексте летописи представлен и предполагаемый ответ родного для Величко Полтавского полка на письмо Петрика. В этом письме казаки не признают того, что московские власти каким-то образом оскорбляли казачество и Малую Россию, но добавляют, что если бы что-то такое и произошло, дело могли бы исправить умные мужи, а не бунтари вроде Петрика. Поскольку Величко не счел Петрика умным мужем, можно предположить, что к Мазепе он относился не намного благосклоннее[385]. Хотя Величко и предполагал, что бунтари озвучивают дельные требования, он не одобрял бунт как средство исправить ситуацию.
Как сам Мазепа и его гипотетический alter ego в летописи Величко — несчастный Петрик — казацкие летописцы видели решение своих проблем в возвращении к временам Богдана Хмельницкого, который предстает на страницах обоих летописей идеальным гетманом. Вообще, в Гетманщине период Хмельницкого воспринимали как «золотой век», по сравнению с которым оценивали неудачи и достижения новых лидеров казачества. Почти непременным условием соглашений, которые московская власть составляла для его преемников, были упоминания о «Статьях Богдана Хмельницкого». В свое время даже турки попытались извлечь выгоду из популярности этого гетмана, назначив в 1678 году его сына Юрия Хмельницкого «князем малороссийской Украины». Московиты, со своей стороны, проводили четкую границу между отцом и сыном, которого в Конотопских статьях, изданных в 1672 году гетманом Иваном Самойловичем, заклеймили как предателя вроде Ивана Выговского и Ивана Брюховецкого[386].
Первые признаки посмертного культа Богдана Хмельницкого наблюдаем в период Ивана Самойловича, когда преподаватели восстановленной Киево-Могилянской академии начали изображать его как величайшего героя Гетманщины. В упомянутой похвале 1693 года Хмельницкий выступает как предводитель антипольской борьбы, а о его связи с Московией и Переяславскими статьями не упомянуто[387]. Так же в историческом вступлении в «Pacta» Хмельницкий предстает незапятнанным своими связями с Москвой. Главная функция фигуры Хмельницкого в «Pacta» — легитимизировать политический выбор Мазепы и Орлика в 1708 году. Он изображен как гетман, который не только спас отечество, но и заключил союзы со Швецией и Крымом — двумя государствами, на чью поддержку надеялись изгнанники. То, что Хмельницкий принял московский протекторат, рассматривали как добросовестный проступок. После Полтавы такая трактовка роли Хмельницкого в отношениях с Московией была возможна только в трудах, написанных за пределами Гетманщины, которая оказывалась под все более строгим московским контролем. Образ Хмельницкого в летописях Грабянки и Величко очень отличается от его образа в «Pacta» Орлика. Хотя они продолжали описывать Хмельницкого как предводителя антипольского восстания и защитника православной веры, прав Войска и благосостояния отчизны, но отвергали видение его как предвестника гетманов, ориентированных на Крым и Швецию. Вместо этого они начали подавать Хмельницкого как промосковского гетмана, который не только спас Украину из-под польского ига, но и привел ее под защиту царя и обезопасил малороссийские свободы под царской властью[388].
Богдан Хмельницкий. Гравюра В. Гондиуса, 1651 г.
В течение 1720-х годов произошла трансформация образа Богдана Хмельницкого: из популярного исторического персонажа он превратился в культовую фигуру, которую считали основателем и, что важнее, защитником всей нации. На страницах тогдашних произведений он выступает как полнейшая альтернатива Ивану Мазепе, которого имперская церковь подвергла анафеме. Если Мазепу официально обвиняли в сговоре с целью порабощения Украины со стороны Польши, то Хмельницкого изображали как спасителя, который спас Малую Россию от польского гнета. Если Мазепе приписывали тайные планы ввести по всей Украине унию, то Хмельницкий выступал как защитник православия. Если Мазепу клеймили как предателя царя и Малой Руси, то Хмельницкий изображался верным подданным, отцом, защитником и благодетелем своей родины. Именно промосковские мотивы нового культа кардинально отличали этот образ Хмельницкого от того, который создавал Орлик, даже от того, который был определен в похвале 1693 года. Такой новый образ гетмана был необходим казацким элитам в их кампании за восстановление должности казацкого гетмана и его прерогатив. Когда же в 1727 году Петербург дал «добро» на избрание нового гетмана, согласно «Статьям» Богдана Хмельницкого, почитание Хмельницкого в Гетманщине достигло пика. Летописи Величко и Грабянки полностью подтверждают культовый статус Хмельницкого в политической культуре Гетманщины. Это же можно сказать о многочисленных стихотворениях того времени, которые восхваляли его антипольскую и промосковскую ориентацию, они сохранились в учебниках и записях преподавателей и студентов Киево-Могилянской академии. Есть основания полагать, что именно в это время в Киеве был заново открыт гравюрный портрет Богдана Хмельницкого, который в середине XVII века выполнил Вильгельм Гондиус. На его основе был написан портрет Богдана Хмельницкого на стенах Успенского собора Киево-Печерской лавры, а также на иконах и светских картинах[389]. Все эти меры были приурочены к восстановлению некоторых прав, которые царь оказал Хмельницкому в 1654 году, а теперь их вернули нации, которую он в свое время создал. Переяслав стал основополагающим мифом этой нации, а Хмельницкий после Полтавы стал крупнейшим ее символом.
Границы малороссийской идентичности
В 1728 году, через двадцать три года после постановки «Владимира» Прокоповича, киевляне имели возможность посетить еще одну «отечественную» пьесу, которую поставили студенты Киевской академии. Она называлась «Милость Божия» и чествовала восстановление гетманства, отмененного Петром в 1722 году. Пьеса была написана под влиянием трагикомедии Прокоповича, однако идеологические смыслы этих двух пьес имели больше различий, чем сходств. В драме 1728 года уже не было попыток связать власть гетманов с властью киевских князей, а нового гетмана Даниила Апостола в ней было сопоставлено не с Владимиром, как Мазепу в трагикомедии, а с Хмельницким. Главным собеседником драматурга является уже не «Россия», а «Украина». Он призывает Украину праздновать победы Хмельницкого: «Не плач, о Україно, престани тужити, / Печаль твою на радость время преложити»[390]. Итак, сбивчивая система «всероссийских» терминов была полностью отвергнута в пользу четко очерченных «украинских», которые лелеяли местный патриотизм и идентичность. Казаков изображали как патриотов матери-Украины, а главный персонаж — Богдан Хмельницкий — подан как настоящий патриот украинского отечества: «Отчество над вся паче возлюбивий / І єго ради нівочто вмінивий / Розкоші, покой, користі, інтраты / І всі привати»[391]. Каждый, кто любил свою родину, был обязан любить и Хмельницкого[392]. Отчизна, в понимании автора этой пьесы, четко совпадала с границами Украины, или Малой Руси — что свидетельствовало о преданности Гетманщины традиционным лояльностям Мазепы и Орлика. Если Прокопович продолжал поддерживать свою новую имперскую родину в Петербурге, то его преемники в Киево-Могилянской академии предпочли остаться верными своей старой родине.
Какие же признаки характеризовали новую идентичность, которую сформировали гетманские элиты в постполтавскую эпоху? Прочтение казацких летописей и других источников периода свидетельствует, что попытки связать казацкую нацию с хазарской исторической мифологией (например в «Pacta»), а следовательно, четко отграничить ее от Московии на востоке и Руси и Польши на западе, в конце концов преуспели. Этот факт подтверждает популярность Летописи Грабянки[393]. Представления о правах и вольностях малороссийской нации остались в центре всех моделей идентичности Гетманщины, а Переяславское соглашение получило непревзойденное значение для ее политической культуры. Переяславский миф стал основополагающим мифом для всей малороссийской нации, которую, конечно, олицетверяло и представляло казацкое сословие или, если точнее, его старшина, которая возглавляла и контролировала казацкую политическую систему. Культ Богдана Хмельницкого стал воплощением этого мифа в начале XVIII века, когда старшина и его сторонники среди целого народа признали гетмана своим отцом-основателем и защитником, хранить верность которому должны все истинные сыны Украины / Малой Руси.
Летопись Григория Грабянки
Элиты Гетманщины и в дальнейшем поддерживали образ Малой Руси / Украины как общества, которое возглавляет и представляет казацкое сословие. Другие социальные группы могут иметь какие-то свои права и привилегии в нем, но именно ведущее казацкое сословие определяло права этого государственного образования и его жителей. Менее четкой была разница между рядовым казачеством и старшинской элитой. Представление о том, что казацкая старшина имеет особые права, не выкристаллизовалось в Гетманщине, хотя именно эта социальная прослойка — а не казацкое сословие в целом — достигла господствующего положения в казацкой политической системе, закрепив свой статус в первые десятилетия XVIII века. Идеология и дискурс Гетманщины на официальном уровне оставались эгалитарными и охватывали целое казацкое сословие. Несмотря на стремление старшины получить статус нового дворянства, она сохраняла свой первоначальный казацкий образ, отчасти потому, что московский царь даровал особые права и привилегии Войску Запорожскому, а не малороссийскому дворянству. Элиты Гетманщины имели целую гамму названий для обозначения казацкой отчизны, в частности, Величко больше всего предлагал: «Украина», «Малая Русь» и «малороссийская Украина», — и то такой отчизной казацкие элиты даже после Полтавы продолжали считать именно эту землю, а не Российскую империю. Границы казацкого отечества, конечно, менялись: «Малую Россию» и «Украину» все теснее отождествляли с подмосковскими землями Левобережья. Каждый раз граница с Польшей становилась все отчетливее, а тесные отношения с Правобережьем теперь вызывали подозрения. Упреки Петра в адрес Мазепы, будто тот действовал в интересах Польши, дали начало яростной кампании против поклонников польских обычаев в Гетманщине.
Куда пойдеш, ляхів хвалять, Вірних тілько що не палять, Простим уші набивають, Лихим ядом заражають. Без хвал ляцьких ані слова — Їдять чи п’ють — о них мова. <…> К ляхом весь дух, вся охота. То і мудрость, то і цнота, —говорится в стихотворении «Плач Малой Руси» («О Боже мой милостивый!»), записанном в дневнике бурсака Киево-Могилянской академии за 1719/1720 учебный год[394]. Приведенная в стихотворении картина, безусловно, окрашена тогдашней полемикой и, скорее всего, преувеличена. Мазепа, Орлик и их сторонники, как и казацкие элиты, после Полтавы вовсе не идеализировали Польшу; более того, де-факто они предпочитали московскую власть польской, учитывая полное исчезновение казачества на Правобережье. В то же время они, как и Баранович, были произведениями польской системы образования (настолько она влияла на учебную программу Киево-Могилянской академии). Польско-русское столкновение раннемодерного времени проявилось не только в конфликтах, но и в переговорах, которые позволили казацким элитам усвоить понятия и ценности, которых придерживались их польские конкуренты. Поэтому неудивительно, что казацкая старшина мазепинских времен чувствовала себя комфортнее в польской культурной традиции, чем в московской. Однако политические реалии были сильнее этой культурной связи и превращали поляков в чужаков и врагов новообразованной малороссийской нации[395]. Тогдашние авторы стихотворений, придерживающиеся традиции Барановича и изображавшие поляков, литовцев и русинов как детей одной матери — Польши, уже не отстаивали идею альянса между ними, а жаловались на то, что первые два брата повернули оружие против своего младшего брата, Руса[396].
В XIX веке казацкий исторический миф сыграл важную роль в формировании современного украинского национального проекта, который, в свою очередь, привел к основательному перевороту в восточнославянском нациеобразующем процессе и содействию утверждения современного различения трех восточнославянских наций.
Киево-Могилянская академия и ее воспитанники. Гравюра XVIII в.
Если граница между «Малой Россией» и Речью Посполитой (в которой были свои русины) становилась все более выраженной, то граница между Гетманщиной и Московией все больше размывалась. В результате административных и военных реформ Петра, которые начали интеграцию Гетманщины в имперскую административную систему, становилось все труднее увидеть границу между Гетманщиной и Московией как двумя независимыми образованиями, связанными между собой только личностью правителя — идеалом, который воспроизводили казацкие летописцы поздней эпохи. Еще до отмены гетманства преемник Мазепы гетман Иван Скоропадский просил царя, чтобы курьеры платили за услуги, которые они получают на территории Гетманщины, апеллируя при этом не к правам Войска Запорожского, а к обычным практикам в других частях империи[397]. Изменение лексики, с помощью которой казацкие интеллектуалы описывали себя, свою страну и московского «другого», также свидетельствует о постепенном сдвиге в ориентациях. Теперь не только русинов и казаков все чаще называли малороссиянами, но и об их московских визави говорили не как о москалях, а как о великороссах или просто русских. Поэтому термины «Россия» и «русские» могли обозначать Гетманщину и ее жителей, Московию и ее жителей или обе одновременно. Такое изменение в терминологии облегчало выходцам из элит Гетманщины службу в имперских органах власти. По многим признакам, казацкие летописцы были последними защитниками традиционных определений и ценностей, единственно напоминавшими читателям об отдельном характере Гетманщины. Как отметил Франк Сысын, «в связи со стиранием различий в культуре и терминологии, ранее отчетливо разделяли Украину и Россию, главными средствами различия этих двух народов стали политическая теория и историография»[398].
К этому можно добавить, что в ближайшей перспективе способность этих двух отраслей знания очерчивать такие различия оказалась довольно ограниченной, однако в долгосрочной перспективе историография сыграла важную роль в создании исторического фундамента новой украинской идентичности[399].
Выводы
«И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Такими согласно Книге Бытия (гл. 11.4) были намерения строителей Вавилонской башни. Но дерзкое пренебрежение ими воли Божьей навлекло гнев Всемогущего, который наказал человеческий род, поделив его на множество различных стран и языков. Он считал, что страшнее этого бедствия может быть разве что потоп. Повествование о Вавилонской башне стало краеугольным камнем исторического нарратива всего средневекового христианского мира. В частности, оно попало в текст «Повести временных лет», написанной в Киеве в начале XII века. Киевские князья также «сделали себе имя» (этим именем была «Русь») и занялись собственным «строительным проектом», в котором сочетались такие элементы конструкции, как русская земля, религия и народ. Попасть на небеса они надеялись за счет принятия и поддержки христианства в своей стране. Однако дальнейшая судьба княжьего почина не слишком отличалась от судьбы строителей Вавилонской башни. В середине XIII века их обескровленное междоусобицами общее государство стало жертвой пришельцев с востока — монгольских захватчиков. Киевская держава была разделена, а ее народы в дальнейшем сформировали отдельные литературные языки и нации.
Первым восточнославянским образованием, которое можно назвать раннемодерной нацией, было русское сообщество, сформировавшееся в конце XVI — начале XVII веков на украинских и белорусских землях польско-литовской Речи Посполитой. Эта русская идентичность выросла из идентичностей литовской и польской Руси долюблинского периода. Чтобы стать национальной в раннемодерном смысле этого слова, русская идентичность должна была не только преодолеть линии разделения между польской и литовской Русью, но и справиться с засилием локальных идентичностей на русских землях Великого княжества Литовского. Русская идентичность была сконструирована под влиянием идей Возрождения и «национального» дискурса польских и литовских элит того времени. Она в полной мере оформилась в период борьбы православных украинских и белорусских элит против объединения Киевской митрополии с Римом, о чем было провозглашено на Брестском соборе 1596 года. Эта идентичность основывалась на понятии отдельной нации («народа»). В том понимании, которое православная церковь вкладывала в понятие русской нации, в составе которой были не только князья и шляхта, но и казаки, горожане и, иногда, крестьяне. Дискурс, который наделил чертами эту идентичность, развили авторы полемических религиозных произведений, которые появлялись как грибы после дождя на украинских и белорусских землях в связи с полемикой по поводу церковной унии. Таким образом, революция в книгопечатании способствовала возникновению русской нации, которая в очень короткое время уже имела собственную литературу. Читательская аудитория этой литературы состояла из относительно широких (по сравнению с предыдущими читательскими кругами) сегментов шляхты, духовенства и мещанства. Русскую нацию и идентичность того периода нельзя считать прямыми предшественниками модерной украинской или белорусской наций и идентичностей в той же мере, в которой раннемодерная московская идентичность может считаться предшественницей российской нации. Русская идентичность Берестейского периода вышла победительницей в соревновании с идентичностными проектами, которые ограничивали лояльность местных элит украинскими или белорусскими территориями, расположенными по разные стороны внутренней границы Речи Посполитой: одни в Польском королевстве, другие — в Великом княжестве Литовском. Победа русской идентичности над этим разграничением была, однако, временной: в долгосрочной перспективе среди восточнославянского населения бывших земель польской короны и Великого княжества Литовского она была оттеснена с арены самобытными украинской и белорусской национальными идентичностями.
Если говорить о Московии, то полноценная раннемодерная нация развилась здесь под влиянием событий Смутного времени. Потрясение, пережитое в результате чужеземного вторжения, подняло самосознание московского общества на гораздо более высокий уровень. Сопротивление захватчикам укрепило предполагаемые внешние границы сообщества, заставив его осознать себя независимо от образа правителя и укрепив внутреннюю солидарность. Благодаря распространению исторических и литературных текстов, посвященных Смутному времени, образовалась новая идентичность и, можно предположить, родилась новая раннемодерная нация. Отличие между московским и русским народами-нациями наиболее заметно проявилось в глубине культурного недопонимания, что сопровождало «воссоединение» двух Русей в середине XVII века. Обзор источников, связанных с Переяславским соглашением 1654 года между Московией и украинским казачеством, свидетельствует, что этнонациональные мотивы почти начисто отсутствуют в дискурсе, который сопровождал это событие. Несмотря на то, что в своих письмах в Москву Богдан Хмельницкий представлял некоторые элементы украинского восстания в этнонациональном свете, московская сторона продолжала смотреть на мир преимущественно сквозь призму вероисповедания, а следовательно, ей не хватало лексики, необходимой для ведения диалога, который бы базировался на понятии этнонационального единства. Даже идея религиозного единения, ставшая основой дипломатического диалога между двумя сторонами, в Переяславе была всего-навсего декларацией: в то время две соответствующие церковные традиции были в корне настолько разными, что не могли дать устойчивой основы для «воссоединения». Неудивительно, что именно Киевский митрополит стал первым оппонентом и критиком московского присутствия в Украине.
Переяславское соглашение не только вскрыло различия между русинами и московитами, но и создало политические предпосылки для формирования новой идентичности, которая появилась в результате более чем полувековых «переговоров» между московской и казацкой элитами. Ведущую роль в ее конструировании сыграли уроженцы Гетманщины, которые покинули свою родину, чтобы служить царю, — как Теофан Прокопович, соратник Петра І. Такие личности, воспитанные в Киевской академии в ренессансной традиции польской и центральноевропейской науки и культуры, привнесли с собой в Московию понятия народа-нации и отчизны, совершив революцию в московском политическом дискурсе Петровской эпохи. Этот дискурс помог сформироваться новой идентичности российских имперских элит, возникшей в решительном противопоставлении старомосковской идентичности, которую олицетворяли лидеры старообрядчества. Главная проблема официальной российской идентичности ХVІІІ века заключалась в том, что осознание Россией себя как нации происходило одновременно с зарождением ее имперского образа и самоосознания. Переплетение понятий национальности и имперской государственности в момент исторической встречи русских (украинских и белорусских) элит с московскими сыграло ключевую роль в формировании российской имперской идентичности. С самого начала она зиждилась на том утверждении, что восточные славяне составляют один «славенороссийский» народ, или нацию. В дальнейшем такое убеждение привело к существенным недоразумениям в среде модерных россиян, украинцев и белорусов касательно определения их идентичностей и очень усложнило задачу тем, кто изучал их истории и политические манеры.
Хотя формирование российской имперской идентичности произвело значительное влияние на развитие раннемодерных идентичностей на украинских и белорусских землях, оно не лишило их индивидуального характера. Особенно это касается русской идентичности, которая продолжала существовать среди украинского и белорусского населения Речи Посполитой. Более основательным было имперское влияние на идентичность и нациесозидательные проекты в Гетманщине, где в конце ХVII — начале ХVIII веков приобретала очертание новая украинская, или малороссийская, идентичность. Украинские элиты Гетманщины создали первую модель коллективной идентичности, которая четко отмежевывала их от элит соседней Беларуси. Казацкая старшина успешно перенесла понятие «отчизна», которым ее предшественники называли Польское королевство, на территорию Гетманщины (которая поначалу на западе простиралась аж до Львова и охватывала как Лево-, так и Правобережную Украину). Элиты Гетманщины превознесли эту «отчизну» — украинскую, или малороссийскую, как ее в то время синонимично называли, — до статуса объекта своей высшей политической лояльности. Как видно из документов, касающихся восстания гетмана Ивана Мазепы в 1708 году, понятие отдельной отчизны глубоко укоренилось в казацких обычаях и традициях, а элиты Гетманщины представляли Украину как общество, которое возглавляло и представляло казацкое сословие. Другие социальные слои могут иметь какие-то собственные права и привилегии в этом обществе, но именно ведущее казацкое сословие определяло права этого государственного образования и его граждан. Хотя украинско-малороссийская идентичность этого периода не претендовала на все современные украинские земли, она заложила основы модерной украинской идентичности и обеспечила ее легендами, мифами и символами, которые станут незаменимыми средствами национальных возбудителей XIX века.
Последовательность рассмотренных выше домодерных проектов развития раннемодерных идентичностей может служить отправной точкой для обсуждения новой истории Восточной Европы. Но необходимо, чтобы исследование восточнославянской истории базировалось не только на последовательном ряде проектов развития идентичности, заявленных в политических и культурных текстах эпохи, но и на народных идентичностях и сообществах, которые эти идентичности и формировали. Связи между проектом, реально существующей идентичностью и конкретным типом сообщества нужно еще изучить более основательно. Новая интерпретация истории восточнославянских идентичностей Позднего Средневековья и раннемодерного периода открывает новые перспективы для понимания современных национальных идентичностей региона. Энтони Смит обращал внимание на тесную связь между домодерными и модерными национальными идентичностями, утверждая, что «важно изучить «состояние культурной идентичности» конкретного сообщества накануне его встречи с новыми революционными силами, чтобы определить основы ее дальнейшей эволюции в полноценную нацию»[400]. Предложенное в этой книге исследование не только опровергает «примордиалистские» попытки национализировать домодерное прошлое, но и позволяет идентифицировать происхождение многих черт, которые сегодня обозначают «национальный характер» современных украинцев и россиян.
Не только некоторые достижения, но и неудачи современного нациесозидания восточных славян кроются в домодерных временах. Модерная российская нация выросла из российского имперского проекта и сохранила многие его признаки, в частности, размытость границы между великороссами и нероссийскими подданными империи. Модерная украинская идентичность развилась из украинского/малороссийского проекта Гетманщины, который вытеснил за свои пределы россиян и белорусов, а взамен охватил не только бывшую «подпольскую» Правобережную Украину, но и «подавстрийские» Галичину, Буковину, а затем и Закарпатье, легитимизировав создание одной нации из исторически, культурно и религиозно различающихся регионов. В настоящее время над всеми тремя восточнославянскими нациями продолжают витать призраки прошлого, часто направляя их в определенное русло: имперское наследие России проявляется в затяжной Чеченской войне, в аннексии Крыма и событиях на Донбассе. Украина старается примирить политическую культуру и ориентации своих, бывших казацких, польских и австрийских земель, расположенных в центре и на западе страны, — со своими восточными и южными землями, заселенными во времена Российской империи, и в условиях войны с Российской Федерацией выстраивает полностью независимую от России национальную идентичность.
Имеющиеся национальные идентичности, как и их далекие и непосредственные предшественницы, подвержены влиянию конкретных исторических обстоятельств, а следовательно — постоянно меняются. Однако на данный момент можно уверенно констатировать, что в двух восточнославянских постсоветских государствах развиваются отдельные национальные идентичности, которые поддержат их дальнейшее существование. Разговоры о восточнославянской цивилизации и общей православной или восточнославянской духовной традиции, или даже заявления о том, что россияне и украинцы составляют один народ, что в разной степени подпитывается политиками в Москве и Минске, а до недавнего времени и в Киеве, — выглядят неспособными сдержать продолжающуюся национализацию постсоветских обществ.
Примечания
1
О конкурентных интерпретациях киеворусской истории в современной российской, украинской и белорусской историографиях см.: Andrew Wilson, The Ukrainians: Unexpected Nation (New Haven and London, 2000), pp. 1—11 (укр. пер. Эндрю Уилсон. Українці: несподівана нація. — К: КІС, 2004; Taras Kuzio, «Historiography and National Identity among the Eastern Slavs: Towards a New Framework», National Identities 3, no. 2 (2001): 109–132. Во всех восьми главах книги имеется детальный историографический обзор этих интерпретаций.
(обратно)2
Об изменениях значения понятия «нация» см.: Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity (Cambridge, Mass., 1992), pp. 4–9.
(обратно)3
О последствиях указа Кучмы см.: Taras Kuzio, «Ukraine’s “Pereiaslav Complex” and Relations with Russia», Ukrainian Weekly 50, № 26 (26 May 2002). Об отношении российских СМИ в январе 2004 года к охладеванию Киева к годовщине Переяславского договора см. отчет мониторинговой службы ВВС о российских теленовостях за 23 января 2004 года. Ведущий новостей на REN-TV из студии в Москве сообщил, что во время визита в Киев Владимир Путин планирует принять участие в праздновании годовщины Переяславской рады, «символа российско-украинского единства». Но в репортаже из Киева корреспондент REN-TV отметил, что «ничто на улицах Киева не напоминает ни о 350-летии Переяславской рады, которую историки описывают как момент объединения двух стран, ни о годе России в Украине, не о близком визите российского президента. Около памятника Богдану Хмельницкому к нам подошел пожилой человек, чтобы спросить, когда начнется пикет против визита Путина».
(обратно)4
Об оценке Переяславской рады в советской историографии в связи с торжествами 1954 года по случаю «воссоединения Украины с Россией» см.: John Basarab, Pereiaslav 1654: A Historiographical Study, Edmonton, 1982, c. 179–187, а также введение к этой книге: Ivan L. Rudnitsky, «Pereiaslav: History and Myth», c. xi — xxiii (укр. пер.: Иван Лысяк-Рудницкий, «Переяслав: история и миф», у него же: Исторические эссе, т. 1, Киев, 1994, с. 71–82). Англ. пер. «Тез…» см.: Basarab, Pereiaslav 1654, c. 270–287.
(обратно)5
О дискуссии о причинах Смуты см.: Chester Dunning, «Crisis, Conjuncture, and the Causes of the Time of Troubles», Harvard Ukrainian Studies 19 (1995), c. 97—119.
(обратно)6
Новейшее изложение истории Смуты см. у: Chester Dunning, A Short History of Russia’s First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of Romanov Dynasty, University Park, Pa., 2004. О Григории Отрепьеве и других претендентах на московский престол во время Смуты см.: Maureen Perrie, Pretenders and Popular Monarchism in Early Modern Russia: The False Tsars of the Time of Troubles, Cambridge, 1995. Взгляд на претендентов на царство как культурный феномен изложен в работе: Борис Успенский, «Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен», у него же: Избранные труды, т. 1, Семиотика истории. Семиотика культуры, Москва, 1994, с. 75—109.
(обратно)7
Об участии казаков в событиях Смуты см.: Татьяна Опарина, «Украинские казаки в России: единоверцы или иноверцы? (Микита Маркушевский против Леонтия Плещеева)», Социум 3 (Киев, 2003), с. 21–44.
(обратно)8
Как и Смута, восстание Хмельницкого дало обилие литературы. Подробный анализ первых лет восстания и ссылки на самые свежие работы по этой теме см. в англ. пер. синтеза Грушевского: Mychailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, ed. Frank E. Sysyn et al., т. VIII и IX, кн. 1, Edmonton — Toronto, 2002–2005.
(обратно)9
О переяславских переговорах см. основательное собрание трудов: Переяславська рада 1654 року. Історіографія та дослідження, Київ, 2003.
(обратно)10
См.: О. Субтельний, Україна: Історія, с. 259.
(обратно)11
Об интерпретации российско-украинских отношений в российской имперской историографии см.: Stephen Velychenko, National History and Cultural Process: A Survey of the Interpretations of Ukraine’s Past in Polish, Russian, and Ukrainian Historical Writing from the Earliest Times to 1914, Edmonton, 1992, c. 79—140.
(обратно)12
О «деконструкции» российского имперского нарратива, которую осуществил Грушевский см. мою работу «Великий переділ».
(обратно)13
Об интерпретации российско-украинских отношений в советской историографии 1940—1950-х годов см.: Serhy Yekelchyk, Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination, Toronto, 2004 (укр. пер.: Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, Київ, 2008).
(обратно)14
См. текст статьи Брайчевского, протокол закрытого обсуждения 1974 года и ответ Брайчевского в кн.: Переяславская рада 1654 года, с. 294–430.
(обратно)15
См., например: Генадзь Сагановіч, Невядомая вайна: 1654–1667, Менск, 1995.
(обратно)16
См.: История внешней политики России. Конец XV–XVII вв., под ред. Г. А. Санина и др., Москва, 1999, с. 277–278.
(обратно)17
Об отношении современных российской и украинской историографий к термину «воссоединение» см. мою статью: Serhii Plokhy, «The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-Soviet Era», Europe-Asia Studies 53, № 3 (2001), с. 489–505.
(обратно)18
См. тезисы Флори с круглого стола, посвященного этнокультурной истории восточных славян (2001) в кн.: На путях становления украинской и белорусской наций: факторы, механизмы, соотнесения, под ред. Леонида Горизонтова, Москва, 2004, с. 30.
(обратно)19
Критику взглядов Ключевского см.: Daniel Rowland, «The Problem of Advice in Moscovite Tales about the Time of Troubles», Russian History 6, № 1 (1979), с. 259–283.
(обратно)20
См.: Сергей Платонов, Смутное время: очерк истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков, Москва, 2000.
(обратно)21
См.: Dunning, «Crisis, Conjuncture, and the Causes of the Time of Troubles».
(обратно)22
См.: «Летописная книга, приписываемая князю И. М. Катыреву-Ростовскому», Хрестоматия по древней русской литературе, сост. Н. К. Гудзий, Москва, 1973, с. 329–343, в частности с. 329; см. также: Повѣсть князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, С.-Петербург, 1908.
(обратно)23
«Летописная книга», с. 341.
(обратно)24
См.: «Повесть о смерти и погребении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского», Хрестоматия по древней русской литературе, с. 314–321, в частности с. 315; также БЛДР, т. 14 (www. pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10865).
(обратно)25
См.: «Из “Карамзинского хронографа”» в кн.: Восстание И. Болотникова. Документы и материалы, Москва, 1959, с. 109–119, в частности 109.
(обратно)26
«И по се время мало не до конца Росийское царство ему, врагу, передали», — писал современник о намерениях московских «предателей»; см. «Новая повесть о преславном российском царстве и великом государстве Московском», Хрестоматия по древней русской литературе, с. 305–312, в частности с. 307. Полный текст см.: Н. Ф. Доброленкова, Новая повесть о преславном российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность, Москва — Ленинград, 1960, с. 189–209; также БЛДР, т. 14 ().
(обратно)27
См.: Shields Kollmann, «Concepts of Society and Social Identity in Early Modern Russia»”, в кн.: Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine, c. 40–41, ср.: András Zoltán, «Polskie “państwo” і rosyiskie “gosudarstvo”», Zeszyty naukowe Wydziału Humanisycznego Uniwersytetu Gdańskiego: Filologia rosyjska, № 10 (1982), с. 111–115.
(обратно)28
См.: «Из “Иного сказания”», Восстание И. Болотникова, с. 92—103, в частности с. 92.
(обратно)29
См.: «Новая повесть», с. 307.
(обратно)30
Колман дает такое определение этому термину: «В общем “землю” представляли отдельно от царя, у привилегированных воинских чинов и государственного аппарата. В употреблении термина “земля” владения царя были довольно четко отграничены от остальной общественной сферы; это различение становится заметным с середины XVI века» («Concepts of Society and Social Identity», c. 41).
(обратно)31
См.: «Из “Временника Ивана Тимофеева”», в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 125; см. также БЛДР, т. 14 ().
(обратно)32
См. выписку из грамоты патриарха Гермогена, написанной в июне 1607 года, в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 215–216.
(обратно)33
См.: «Новая повесть», с. 311.
(обратно)34
Колман считает, что земские соборы «следует рассматривать скорее как часть совещательного процесса, а не как формальные институции, а тем более протопарламентского типа» («Concepts of Society and Social Identity», c. 3).
(обратно)35
Авраамий Палицын по этому поводу отмечал: «По убиении же Розстригине в четвертый день малыми некими от царьских полат излюблен бысть царем Василей Ивановичъ Шуйской и возведен бысть во царьский дом, и никим же от велмож не пререкован, ни от прочего народа умолен, и устроися Россия вся в двоемыслие: ови уво любяще, ови же ненавидяще его» («Из “Сказания Авраамия Палицына“» в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 126–127, в частности с. 126). Полный текст см.: Сказание Авраамия Палицына, ред. О. Державин, Е. Колосов, Москва — Ленинград, 1955; см. также БЛДР, т. 14 ().
(обратно)36
См.: Valerie Kivelson, «Muscovite “Citizenship”: Rights without Freedom», Journal of Modern History 74 (September 2002), c. 465–489, в частности с. 474.
(обратно)37
См. выписки из записей Исаака Массы в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 134–149, в частности с. 134.
(обратно)38
См.: Г. М. Коваленко, «Договор между Новгородом и Швецией 1611 года», Вопросы истории, № 11 (1988), с. 131–134.
(обратно)39
См.: N. Kollmann, Concepts of Society and Social Identity, с. 40–41.
(обратно)40
См.: V. Kivelson, Muscovite “Citizenship”, с. 471–472.
(обратно)41
См.: «Из “Сказания Авраамия Палицына“», с. 126.
(обратно)42
Как пример см. рассказ московских послов в Крым о встрече с тремя пленниками, которых захватили татары на территории Речи Посполитой: «Один сказался ис под Олгова литвин служилой Степаном зовут Яцков, а другой литвин Мишковскии, а третей же, Федором зовут сказался руской смолянин… взят в полон в Литву тому третей год». Документи російських архівів з історії України, т. 1, Документи до історії українського козацтва 1613–1620 рр., укл. Леонтій Войтович та ін., Львів, 1998, с. 77.
(обратно)43
См.: «Из “Сказания Авраамия Палицына“», с. 321–328, в частности с. 324.
(обратно)44
«Иноземец Литвин Иван Сторовский» («Из “Карамзинского хронографа”», с. 113–114).
(обратно)45
См.: Документи російських архівів з історії України, т. 1, с. 62, 68, 71–72.
(обратно)46
См.: Восстание И. Болотникова, с. 231.
(обратно)47
Попытку трактовать свержение Лжедмитрия І как следствие культурного конфликта между московитами и польским окружением царя см. в докторской диссертации Василия Ульяновского: Росія на початку Смути XVII століття: нова концепція, Київ, 1995. Также см. его же: Россия в начале Смуты: Очерки социально-политической истории и источниковедения, в 2-х частях, Киев, 1993. Про образ благочестивого царя в московских повествованиях о Смутном времени см.: D. Rowland, «The Problem of Advice in Muscovite. Tales about the Time of Troubles», с. 264–270. О сакрализации личности царя в раннемодерной истории России см.: Борис Успенский, Виктор Живов, «Царь и Бог», в кн.: Б. Успенский, Избранные труды, т. 1, с. 110–218.
(обратно)48
См.: Восстание И. Болотникова, с. 197. В памятке «Иное сказание» Болотников и его соратники изображены как орудие сатаны, см.: «Из “Иного сказания”», с. 92—103, в частности с. 92.
(обратно)49
См. послание Гермогена в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 198, 215–216.
(обратно)50
См.: «Из “Казанского сказания”», в кн.: Восстание И. Болотникова, с. 104–109, в частности с. 106. С точки зрения автора «Пескаревского летописца», бояре и знать, которых убили мятежники, были мучениками, потому он восклицал: «Как то не мученики, как не с(в)ятыя! И в древняя лета не так же ли мученики страдаша от мучителей?» («Из “Пискаревского летописца”», Восстание И. Болотникова, с. 131–133, в частности с. 132).
(обратно)51
См.: «Из “Сказания Авраамия Палицына“», с. 328.
(обратно)52
См.: «Новая повесть», с 305–312, в частности с. 307.
(обратно)53
Там же.
(обратно)54
См. положительный ответ Филарета на запрос Сапеги в кн.: Памятники Смутного времени. Тушинский вор: личность, окружение, время. Документы и материалы, сост. В. И. Кузнецова, И. П. Кулакова, Москва, 2001, с. 358–359.
(обратно)55
См.: N. Kollmann, Concepts of Society and Social Identity, с. 38–39.
(обратно)56
См.: J. Kivelson, Muscovite “Citizenship”, с. 471–475.
(обратно)57
О возрастании интереса к истории Смутного времени в России накануне Наполеоновских войн и использовании мотивов начала ХVII века для конструирования основ модерной российской национальной идентичности с ее глубоко укорененными антипольскими стереотипами см.: Андрей Зорин, Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России последней трети ХVIII — первой трети ХIХ века, Москва, 2001, с. 157–186.
(обратно)58
По мнению Платонова, которое было высказано в работе «Смутное время», общий кризис перешел в национальную плоскость около 1609 года как следствие открытой чужеземной интервенции, подъема антипольского сопротивлении и дальнейшего изгнания войск Речи Посполитой из Московии.
(обратно)59
О патриархе Филарете и его политических стратегиях см.: Marius L. Cybulski, Political, Religious and Intellectual Life in Muscovy in the Age of the Boyar Fedor Nikitich Iur’ev-Romanov a. k. a. The Grand Sovereign The Most Holy Filaret Nikitich, Patriarch of Moscow and all Rus’ (ca. 1550–1633), Ph. D. diss., Harvard University, 1998. Текст диссертации, хоть и не опубликован, является не менее информативным и развернутым, чем ее барочное название.
(обратно)60
В 1629 году в центрально размещенной Твери оставалось 554 двора, против 1450 оставленных. Кроме того, на территории города стояло одиннадцать брошенных церквей и монастырей. См.: Н. Овсянников, Тверь в ХVII веке, Тверь, 1889.
(обратно)61
См.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 369–387.
(обратно)62
См.: «Повесть о смерти и погребении», с. 320; «Из “Сказания Авраамия Палицына“», с. 328.
(обратно)63
См.: The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia, ed. S. H. Baron, Stanford, 1967, c. 248–254; факсимиле издания 1647 года см. на сайте Вольфенбютельской дигитальной библиотеки им. Герцога Августа; сов. рус. пер. Александра Ловягина: Адам Олеарий, Описание путешествия в Московию, 3-е изд., Москва, 2003.
(обратно)64
См. доклад Марии Сальмон Арель «Don’t Ask, Don’t Tell: Merchant Diaspors, Xenophobia and the Issue of Faith in Muscovite Russia» на конференции «The Modern History of Eastern Christianity; Transitions and Problems» (Дейвисовский центр, Гарвардский университет, 26–27 марта 2004 года). Данные Сальмон Арель свидетельствуют о подъеме ксенофобных настроений в правительственных кругах Московского государства и в обществе на протяжении десятилетий после Смуты. Одновременно, сравнив отношение к чужеземцам в Англии времен Реформации и в раннемодерной России, она сделала вывод, что Московия была более толерантным или по крайней мере менее фанатичным обществом в религиозных вопросах. Избежав конфликтов европейской Реформации, Московия еще только ждала конфессионализации церкви и общества.
(обратно)65
См.: Michael Khodarkovsky, «The Conversion of Non-Christians in Early Modern Russia» в кн.: Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia, ed. R. P. Geraci, M. Khodarkovsky, Ithaсa, NY, 2001, c. 115–143, в частности с. 120–126.
(обратно)66
См.: Salomon Arel, Don’t Ask, Don’t Tell.
(обратно)67
О повторном крещении христиан в Московии см.: Т. Б. Опарина Украинские казаки в России. См. также дополнение к ее работе «Иван Наседка и полемическое богословие в Киевской митрополии» (Новосибирск, 1998), в котором размещена челобитная 1625 года от лютеранина, состоящего на московской службе, Франца Фаренсбаха патриарху Филарету с просьбой принять его в православную веру (с. 337–339). Кроме того, Опарина опубликовала текст, который должны были декламировать неофиты перед принятием православия. Заголовок этого объявления дает нужное представление о том, кто менял веру и как тогдашние московиты воспринимали внешний мир. В начале сказано: «Аще кто придет латынык или полякъ или литвин от римскаго раскола или от люторские ереси немчин или калвинския ереси нарицаемыя евангелики ко истиннеи православнеи христианское вѣре греческаго закона, прося святаго крещения…» (там же, с. 340–342).
(обратно)68
О Шаховском, его произведениях и роли в деле Вальдемара см.: Edward L. Keenan, «Semen Shakhovskoi and the Condition of Orthodoxy», Harvard Ukrainian Studies 12/13 (1988/89), с. 795–815 (укр. пер.: «Семьон Шаховской і стан православ’я», у него же: Російські історичні міти, с. 191–218).
(обратно)69
См.: Александр Мыльников, Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы ХVI — начала ХVII века, С.-Петербург, 2000, с. 21–45, 95—140.
(обратно)70
См.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 354–356.
(обратно)71
См.: «Баркулабовская хроника» в кн.: Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці, Минск, 1975, с. 111–155, в частности с. 151.
(обратно)72
См.: О. А. Бевзо, Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження, 2-е изд., Киев, 1971, с. 102–103, 130–131. Обе летописи писались далеко от места событий, что также могло повлиять на их освещение.
(обратно)73
См.: Trynografe, в кн. Roksolański Parnas, c. 97—104, в частности с. 100. Автор этого стихотворения Иосиф Бобрикевич написал и декламировал их на русском языке, но опубликовал на польском. См.: И. Марзалюк, Людзі дауняй Беларусі, с. 76.
(обратно)74
См.: Касіян Сакович, «Вірші», Українська література XVII ст., с. 230.
(обратно)75
Б. Флоря, «Народно-освободительное движение на Украине и в Белоруссии (20— 40-е годы XVII в.). Его политическая идеология и цели», в кн.: В. Пашуто, Б. Флоря, А. Хорошкевич, Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства, с. 195–226, в частности 202–203.
(обратно)76
См.: Т. Опарина, «Украинские казаки в России», с. 22. В конечном итоге Наливайко казнили его же люди.
(обратно)77
Там же с. 31. Военный этос того времени рассмотрен в: Наталя Яковенко, «Скільки облич у війни: Хмельниччина очима сучасників», в ней же: Паралельний світ, с. 189–230.
(обратно)78
См.: Акты, относящіеся къ исторіи Западной Россіи, т. IV, С.-Петербург, 1854, с. 47–49.
(обратно)79
См.: П. Н. Жукович, “Протестация” митрополита Иова Борецкого и других западно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 года, с. 135–153, в частности с. 143. См. также: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 369.
(обратно)80
См.: «Густинський літопис», в кн.: Українська література ХVII ст., с. 146–166, в частности с. 147.
(обратно)81
Текст письма см. в: Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы, в 3-х т., Москва, 1954, т. 1, с. 46–48. См. также: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 367–368.
(обратно)82
См. письма Копинского Филарету (декабрь 1622 года), а также письмо Филарета Борецкому (апрель 1630 года) в кн.: Воссоединение Украины с Россией, т. 1, с. 27–28, 81. О переговорах 1632 года см.: С. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. 5, Москва, 1961, с. 176.
(обратно)83
См.: Е. Кінан, Семьон Шаховськой і стан його православ’я, с. 211.
(обратно)84
См.: Воссоединение Украины с Россией, т. 1, с. 400–401. См. также: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 310.
(обратно)85
О московской миссии Зизания и путешествии Смотрицкого в Константинополь см.: David A. Frick, Zyzanij and Smotric’ki (Moscow, Constantinople and Kiev): Episodes in Cross-Cultural Misunderstanding, Journal of Ukrainian Studies 17, № 1/2 (Summer-Winter 1992), c. 67–94. O сожжении «Евангелия учительного» Кирилла-Транквиллиона Ставровецкого см.: Т. Опарина, Иван Наседка, с. 162–174, 368–429.
(обратно)86
Предысторию «Указа» и его влияние на религиозную политику Московии изложено в: Т. Опарина, Украинские казаки в России, с. 32–33. См. также: Т. Опарина, Иван Наседка, с. 60–65.
(обратно)87
Подробнее о повторном крещении украинских казаков в Московии см.: Т. Опарина, Украинские казаки в России, с. 34–44.
(обратно)88
См.: Борис Флоря, «Начало Смоленской войны и запорожское казачество», в кн.: Марра Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевичи з нагоди його 70-річчя, Львів — Київ — Нью-Йорк, 1996, с. 443–450.
(обратно)89
Хотя иконографические доказательства бывают ненадежными ввиду проблем с датировкой икон, стоит отметить, что на раннемодерных московских иконах с изображением Страшного суда часто фигурировала «литвя» (уступая только евреям) как народ, которого ждет Божья кара. Отдельной категории для русинов не было. См.: John-Paul Himka, «On the Left Hand of Got: “Peoples” in Ukrainian Icons of the Last Judgment», в кн.: States, Societies, Cultures, East and West: Essays in in Honor of Jaroslaw Pelenski, ed. Janusz Duzinkiewicz, New York, 2004, c. 317–349, в частности с. 321–326.
(обратно)90
Детальный анализ влияния восстания Хмельницкого на формирование украинской нации см. В: Frank E. Sysyn, «The Khmelnytsky Uprising and Ukrainian National-Building», Journal of Ukrainian Studies 17 № 1/2 (Summer — Winter 1992), с. 141–170.
(обратно)91
См. Универсал великого коронного гетмана Миколая Потоцкого от 20 февраля 1648 года к казакам-повстанцев в кн.: Документы об освободительной войне украинского народа 1648–1654, Киев, 1965, с. 15–16, и письмо Хмельницкого от 3 (13) марта 1648 года к Потоцкому в кн.: Документы Богдана Хмельницкого, Киев, 1961, с. 23–27.
(обратно)92
См.: Документи Богдана Хмельницького, с. 39. См. также: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 242–243.
(обратно)93
См.: Документы об освободительной войне, с. 43–44, в частности с. 43.
(обратно)94
См. анализ этих слухов в: Валерій Смолій, Валерій Степанков, Українська державна ідея. Проблеми формування, еволюції, реалізації, Київ, 1997, с. 25–43.
(обратно)95
См.: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 104–114, в частности с. 108–109. О последовательном домогательстве со стороны казаков территории «по Вислу» во время военных походов 1654–1657 годов см.: В. Смолій, В. Степанков, Українська державна ідея, с. 88–94.
(обратно)96
И казаки, и их противники из Великого княжества Литовского считали русское население, которое проживало по обе стороны границы, принадлежащим к одной этнокультурной группе. Приближенный к Радзивиллу автор «Rerum in Magno Ducatu Lithvaniae per tempus rebellionis Russicae gestarum Commentarius» (Regiomonti [Kӧnigsberg], 1653) Альберт Виюк-Коялович усматривал причину распространения восстания на Великое княжество в национальном единстве русинов по обе стороны польско-литовской границы. См. мою работу: Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. в латиноязычной историографии середины XVII века, Днепропетрвск, 1983, с. 21–30.
(обратно)97
Ситуация изменилась во второй половине 1650-х годов, когда казацкая старшина соревновалась с московскими воеводами за контроль над юго-восточной Беларусью, а Хмельницкий создал отдельный Белорусский полк. В 1656–1657 годах гетман установил протекторат над городами Слуцк, Старый Быхов, Пинск, Мозырь и Туров. В октябре 1657 года Выговский заключил со Швецией договор, согласно которому Брестское и Новогрудское воеводства признано частями независимой казацкой державы. См.: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. IX, пол. 2: Роки 1654–1657, Київ, 1997, с. 961–963, 1152–1159, 1257–1277; А. Н. Мальцев, Россия и Белоруссия в середине XVII века, Москва, 1974, с. 19—134, 218–254; Г. Сагановіч, Невядомая вайна, с. 14–82; В. Смолій, В. Степанков, Українська державна ідея, с. 105–107.
(обратно)98
Описание зборовской кампании и текст Зборовского договора см. в: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. VIII, c. 167–288.
(обратно)99
Об участии русской шляхты в восстании Хмельницкого см.: Wacław Lipiński, «Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejо́w walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego», Z dziejо́w Ukrainy, c. 145–513. О деятельности Киселя на должности киевского воеводы см.: F. Sysyn, Between Poland and the Ukrainę: The Dilenma of Adam Kysil, 1600–1653, c. 175–214.
(обратно)100
Українська поезія. Середина XVII ст., с. 101–104, в частности с. 104. См. также: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. IX, пол. 2, с. 1523–1526, в частности 1526.
(обратно)101
Українська поезія. Середина XVII ст., с. 102. См. также: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. IX, пол. 2, с. 1525.
(обратно)102
См.: Документи Богдана Хмельницького, с. 105–106.
(обратно)103
См.: Документи Богдана Хмельницького, с. 251.
(обратно)104
О роли религиозного фактора в восстании см.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 230–267. О незначительности религиозных идентичностей в иерархии лояльностей солдат того времени см.: Н. Яковенко, «Скільки облич у війни».
(обратно)105
См.: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 127–131, в частности с. 128, 130.
(обратно)106
Что касается правового характера Переяславского договора см. статьи Михаила Грушевского, Андрея Яковлева и Александра Оглобина в кн.: Переяславська рада 1654 року. Оценку постсоветской полемики по этой теме см. в моей работе: «Ghosts of Pereyaslav».
(обратно)107
См.: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 189.
(обратно)108
См. посольский отчет московского посланца к Богдану Хмельницкому Ивана Фомина о его разговоре с гетманом в августе 1653 года (Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 357).
(обратно)109
См. отчет делегации под предводительством Ивана Искры, направленной в Москву весной 1653 года, в кн.: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 209.
(обратно)110
О роли Никона в принятии Москвой решений, которые касались вступления в войну, см. раздел о религиозной войне в кн.: Сергей Лобачев, Патриарх Никон, С.-Петербург, 2003, с. 130–146.
(обратно)111
Обзор процессов в московской церкви в середине XVII века, см.: Paul Bushkovitch, Religion and Society in Russia: The Sexteenth and Seventeenth Centuries, c. 51–73, 128–149. Об издании киевских книг в Москве см.: Т. Опарина, Иван Наседка, с. 245–286.
(обратно)112
О ходе переговоров 1653 года, которые проводились во Львове при участии московського посольства во главе с Борисом Репиным-Оболенским, см.: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. 9, пол. 1, с. 619–641.
(обратно)113
См. решения Земского собора в кн.: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 414.
(обратно)114
Тексты речей см. в отчете посольства Бутурлина в кн.: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 423–489. См. также: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 403–412.
(обратно)115
См. письмо Хмельницкого царю от 29 июля (8 августа) 1648 года в кн.: Документи Богдана Хмельницького, с. 65.
(обратно)116
Хмельницкий еще раз попытался разыграть тему этнического родства в письме от 29 сентября (9 октября) 1649 года воеводе Федору Арсеньеву, сетуя на притеснения «православной Руси и веры нашей» (Документи Богдана Хмельницького, с. 143). В письмах царю гетман использовал обращение «всеа Русии самодержец», но этот факт мало что означает, потому что в письмах московским адресатам (в частности в послании Арсеньеву) он также употреблял полный титул Яна Казимира, в котором король был назван, среди прочего, «князем руським».
(обратно)117
См. письмо Хмельницкого в кн.: Документи Богдана Хмельницького, с. 286, 298, 316.
(обратно)118
О новом титуле царя см. в: М. Грушевський, «Велика, Мала і Біла Русь», Україна, 1–2 (1917), с. 7—19; переизд.: Український історичний журнал, 2 (1991), с. 77–85; А. Соловьев, «Великая, Малая и Белая Русь», Вопросы истории, 7(1947), с. 24–38.
(обратно)119
См.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 413.
(обратно)120
См. письмо Хмельницкого царю от 17(27) февраля 1654 года в кн.: Документи Богдана Хмельницького, с. 323.
(обратно)121
См. письмо Хмельницкого царю от 19(29) июля 1654 года в кн.: Документи Богдана Хмельницького, с. 373.
(обратно)122
См. рассказ о разногласиях относительно присяги в посольском отчете в кн.: Воссоединение Украины с Россией, т. 3, с. 464–466.
(обратно)123
A. Kappeler, The Russian Empire: A Multiethnic History, c. 52 (укр. пер.: A. Каппелер, Росія як поліетнічна імперія, с. 45)
(обратно)124
Цит. по: Т. Опарина, Иван Наседка, с. 342.
(обратно)125
Geoffrey Hosking, The Freudian Frontier. Review Susan Layton, “Russian Literature and Empire: The Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy”, Times Literary Supplement (March 10 1995), с. 27.
(обратно)126
О Российской империи как сухопутной силе см.: Dominik Lievem, Empire: The Russian Empire and Its Rivals, New Haven — London, 2001.
(обратно)127
Richard Pipes, «Weight of the Past Russian Foreign Policy in Historical Perspective», Harvard International Review 19, № 1 (Winter 1996/97), с. 5–6.
(обратно)128
Об основании в России модерных государственных институций в эпоху Петра І см.: James Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Culture, Cambridge, Mass., с. 144–192.
(обратно)129
См., к примеру, обсуждение этого вопроса в кн.: Geoffrey Hosking, Russia: People and Empire, 1552–1917, London, 1998, c. 45–56.
(обратно)130
О геополитическом измерении российской имперской экспансии см.: John LeDonn, The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitics of Expansion and Containment, New York — Oxford, 1997.
(обратно)131
См.: Hans-Joachim Torke, «The Unloved Alliance: Political Relation between Moscow and Ukraine in the Seventeenth Century», в кн.: Ukraine and Russia in Their Historical Encounter, c. 39–66.
(обратно)132
О политической жизни во времена царя Петра см.: Paul Bushkovitch, Peter the Great: The Struggle for Power, 1671–1725, Cambridge — New York, 2001; о его реформax см.: Evgenii V. Anisimov, The Reform of Peter the Great: Progress through Coercion in Russia, Armonk — NY — London, 1993 (рос. изд.: Евгений Анисимов, Время петровских реформ, Ленинград, 1989).
(обратно)133
О влиянии польской культуры и киевской науки на высокую культуру Московии см.: Мах J. Okenfuss, The Rise and Fall of Latin Humanist in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muskovy, Lieden — New York — Köln, 1995.
(обратно)134
Самое обширное изложение влияния киевского духовенства на Московию см. у: Константин Харлампович, Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, Казань, 1914. О деятельности киевских ученых (Епифания Славинецкого и Симеона Полоцкого) в Москве см.: Bushkovitch, Religion and Society in Russia: The Sixteenths and Seventeenths Century, с. 150–175. Переоценку масштабов киевского влияния на московское общество см. в кн.: Okenfuss, The Rise and Fall of Latin Humanist, с. 45–63.
(обратно)135
Так Валуев говорил об украинском языке в циркуляре 1863 года, который запрещал украиноязычные публикации на территории Российской империи. О предыстории циркуляра и его последствиях см.: Аlехеі Міllег, The Ukrainian Question: The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenths Century, Budapest — New York, 2003, с. 97—126 (рус. изд.: Алексей Миллер, «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века), С.-Петербург, 2000, с. 96—125).
(обратно)136
Hans Rogger, National Consciousness in Eighteenths-Century Russia, Cambridge, Маss., 1960, c.1
(обратно)137
См.: Geoffrey Hosking, «The Russian National Myth Repudiated», в кн.: Myth and Nationhood, ed. Geoffrey Hosking, George Schöpflin, London, 1997, с. 198–210, в частности с. 198–199.
(обратно)138
Vera Tolz, Russia (London and New York, 2001), с. 23–24.
(обратно)139
См.: Greenfeld, Nationalism: Fire Roads to Modernity, с. 189–274.
(обратно)140
См.: V. Tolz. Russia, с. 23–44.
(обратно)141
«On Teofan Prokopovič as Writer and Preacher in His Kyiv Period»; впервые — в Harvard Slavic Studies 2 (1954), с. 211–223; переиздано в кн.: Georg Y. Shevelov, Two Orthodox Ukrainian Churchmen of the Early Eighteenth Century: Teofan Prokopovych and Stefan Iavors’kyi, Cambridge, Mass., 1985.
(обратно)142
См.: Ярослав Гординский, “Владимир” Теофана Прокоповича, Записки Научного общества им. Шевченко 130 (1920), с. 43–53. Краткое изложение дискуссии касаемо идеологического и политического лейтмотива пьесы и оценки аргументов Шевелёва см. в: Francis Butler, Enlightener of Rus`: The Image of Vladimir Sviatoslavich across the Centuries, Bloomington, Ind., 2002, с. 117–152.
(обратно)143
James Cracraft, Prokopovyč’s Kiev Period Reconsidered, Harvard Ukrainian Studies 2, № 2 (June 1978), с. 138–157, в частности с. 139.
(обратно)144
См.: Okenfuss, The Rise and Fall of Latin Humanism, с. 110–119.
(обратно)145
Тысяча лет украинской общественно-политической мысли, т. 3, кн. 1, Третья четверть XVІІ века, с. 385–387, в частности с. 385.
(обратно)146
Точное воспроизведение издания 1680 года см. в: Sinopsis, Kiev 1681: Facsimile mit einer Einleitung, hrsg. Hans Rothe, Köln — Wien, 1983. Про историю издания и читательскую аудиторию «Синопсиса» см.: А. Ю. Самарин, Распространение и читатель первых печатных книг по истории России (конец XVII–XVIII в.), Москва, 1988, с. 20–76.
(обратно)147
Рассмотрение политических обстоятельств, которые повлияли на издание «Синопсиса» и его содержание, см. в кн.: Zenon E. Kohut, «The Political Program of the Kyivan Cave Monastery (1660–1680)», неопубликованная статья, подготовленная к съезду АААSS у Солт-Лейк-Сити (2005).
(обратно)148
Перечень и краткое описание изданий Киево-Печерской лавры в 1674 году см.: Яким Запаско, Ярослав Исаевич, Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных в Украине, кн. 1, 1574–1700, Львов, 1981, с. 89–90. Касаемо программы спектакля «Алексий человек Божий» и ее текста см.: Л. И. Сазонова, Театральная программа “Алексий человек Божий”, у нее же: Литературная культура России. Раннее Новое время, Москва, 2006, с. 746–758. Об издании книги Барановича и идеологическом смысле помещенных в нее гравюр см. мою работу Tsars and Cossacks: A Study in Iconography, Cambridge, Mass., 2002, с. 39–43.
(обратно)149
См.: І. В. Жиленко, Слово до читача, у нее же: Синопсис Київський, Київ, 2002, с. 19–39 (= Лаврский альманах, вып… 6 [специальный вып. 2]); — эта публикация содержит, кроме обзора истории «Синопсиса» и источниковедческого исследования, комментированный перевод на украинский язык целого текста памятника; см. также: «Синопсис [отрывки]» в кн.: Украинская литература XVII века, с. 167–200, в частности с. 167.
(обратно)150
Синопсис, с. 180.
(обратно)151
«Синопсис», с. 167.
(обратно)152
Там же, с. 170. Интерпретации легенды о Мосохе как концепции славянского этногенеза см.: Мыльников, Картина славянского мира, с. 21–45; Зенон Когут «От Иафета до Москвы: процесс создания библейской родословной славян в польской, украинской и русской историографии (ХVІ—ХVІІ вв.)», в кн.: Украина и соседние государства в XVII веке, с. 59–82.
(обратно)153
См.: Синопсис, с. 169–170. Упоминания о волынцах в восточнославянских летописях и исторических трудах см.: А. Мыльников, Картина славянского мира, с. 29, 30, 33–34, 103.
(обратно)154
См.: Синопсис, с. 170.
(обратно)155
Там же, с. 167–171.
(обратно)156
Об источниках «Синопсиса» см.: Юрий Мыцик, Украинские летописи XVII века, Днепропетровск, 1978, с. 22–24; І. Жиленко, Слово до читатача, с. 40.
(обратно)157
Согласно лингвистическому анализу «Синопсиса», который недавно провела Илона Тарнопольская, над текстом работало несколько авторов, что не удивляет, когда речь идет о работе, глубоко укорененной в традицию летописания. См.: Илона Тарнопольская, «Киевский «Синопсис» в историографическом и источниковедческом аспектах», дис. к. и. н., Днепропетровский национальный университет, 1998.
(обратно)158
См.: Синопсис, с. 177. Когда речь шла о княжеских временах, Киев был наречен «главным для всего народа российским градом». Там же, с. 172.
(обратно)159
Там же, с. 182–183.
(обратно)160
Как отмечает Зенон Когут, который сопоставлял взгляды Грибоедова со взглядами автора «Синопсиса», в российском историописании «династически-государственное представление о России доминировало аж до 1830-х годов»; см.: Zenon E. Kohut, «A Dynastic or Ethno-Dynastic Tsardom? Two Early Modern Concepts of Russia», в кн.: Extending the Borders of Russian History: Essays in Honor of Alfred J. Reiber, ed. Marsha Siefert, Budapest — New York, 2003, с. 17–30, в частности с. 26.
(обратно)161
См.: А. П. Богданов, «Работа А. И. Лызлова над русскими и иностранными источниками», в кн.: Андрей Лызлов, Скифская история, ред. Е. В. Чистякова, Москва, 1990, с. 390–447, в частности с. 396. Одним из источников Лызлова был «Синопсис». Под влиянием польских хроник Лызлов воспринимал «москву» і «россиан» как два разных народа наряду с литовцами, валахами и татарами (А. Лызлов, Скифская история, с. 8). Он также охотно использовал термин «народ» применительно к татарам и другими кочевым племенам — главным действующим лицам его труда.
(обратно)162
В. Н. Татищев, Собрание сочинений, т. І. История Российская, часть первая, Москва, 1994 (2-е изд.), с. 84.
(обратно)163
См.: Украинские писатели. Биобиблиографический словарь, т. І, Древняя украинская литература (ХІ—ХVІІІ ст.), сост. Леонид Махновец, Киев, 1960, с. 479–480.
(обратно)164
См.: Александр Самарин, Распространение и читатель первых печатных книг, с. 51–53.
(обратно)165
См.: Александр Самарин, Распространение и читатель первых печатных книг, с. 44, 47.
(обратно)166
См.: Елена Погосян, Петр І — архитектор российской истории, С.-Петербург, 2001, с. 184, 189.
(обратно)167
См.: Александр Самарин, Распространение и читатель первых печатных книг, с. 34.
(обратно)168
Василий Татищев, Собрание сочинений, т. І, с. 84. О восприятии «Синопсиса» российскими элитами см.: Александр Самарин, Распространение и читатель первых печатных книг, с. 46–47, 62–63.
(обратно)169
Также сильному влиянию «Синопсиса» подверглась «Древняя Российская история от начала российского народа» (1766) Михаила Ломоносова, в которой он перенимает подход анонимного автора к своему предмету как истории нации, но пренебрегает его интересом к истории Православной церкви. О «последователях» «Синопсиса» в Московии и Украине см.: І. Жиленко, Слово до читача, с. 10–11.
(обратно)170
В Московии и Польше этот термин тоже использовали начиная с XVI века, — см. Frank. E. Sysyn, «The Image of Russia and Russian-Ukrainian Relations in Ukrainian Historiography of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries» в кн.: Culture, Nation, and Identity, с. 108–143, в частности с. 117–118. Об использовании термина «Россия» в российськой историографии XVIII века см.: Елена Погосян, «Русь и Россия в исторических сочинениях 1730—1780-х гг.», в кн.: Россия/Russia, вып. 3 (11), Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII — начало XX века, сост. Н. Н. Мазур, Москва — Венеция, 1999, с. 7—19. О разнообразии контекстов, в которых в раннемодерной Восточной Европе использовали термин «Россия» (и о терминологических проблемах, которые это употребление создало для современных исследователей), см.: Giovanna Brogi Bercoff, «Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa środkovo-wschodnia: o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym», в кн.: Contributi italiani al XIII congresso internazionale degli slavisti: ed. Alberto Alberti et al., Pisa, 2003, с. 325–387, в частности с. 360–364.
(обратно)171
См.: Акты, относящиеся к истории Западной России, т. IV, С.-Петербург, 1854, с. 47–49.
(обратно)172
См. отрывки из «Треноса» в кн.: Roksolański Parnas, ч. 2, с. 64–84, в частности с. 78.
(обратно)173
В одной из строф говорилось: «Маєш, Россія, юж тепер отмѣну / Фортуны, маєш триумфу годину: / Ото прав твоих Петр [Могила] єст оборона, / Тарча Сіона» (см.: Украинская поэзия. Середина XVII в., с. 63).
(обратно)174
См.: «Мnemosyne sławy, prac i trudо́w», в кн. Roksolanski Parnas:, ч. 2, с. 123–134, здесь: с. 128. Польша названа «mila Polska» у: «Rozprawa. Przygody starego zolnierza», Roksolanski Parnas, ч. 2, с. 47–58, в частности с. 47.
(обратно)175
См.: Украинская поэзия. Середина XVII в., с. 102.
(обратно)176
Там же, с. 68, 94–95.
(обратно)177
О поддержке Киевской коллегии гетманами Самойловичем и Мазепой см.: George Gajecky, «The Kiev Mohyla Academy and the Hetmanate», Harvard Ukrainian Studies 8, № 1/2 (June 1984), с. 81–92, в частности с. 87–89.
(обратно)178
См.: Paweł Ваrаnіесkі, «Тrуbut», в кн.: Roksolański Parnas, ч. 2, с. 319–326.
(обратно)179
См.: Stefan Jaworski, «Arctos planet herbowych», в кн.: Roksolański Parnas, ч. 2, с. 331–334; неполный укр. пер. Виталия Маслюка см. в кн.: Антология украинской поэзии: в 6-ти тт., т. 1, Произведения поэтов ХІ—ХVІІІ ст., Киев, 1984, с. 214–218 («Арктос небесный Руський»),
(обратно)180
Насчет первой формы титулования, см.: Г. Д. Филимонов, «Очерки русской христианской иконографии. 1: София Премудрость Божия», Вестник Общества древнерусского искусства [при Московском публичном музее], вып. 1 (1876). «Киево-российским» митрополитом Ясинский назван в тексте эпитафии новгород-северскому архимандриту, которую сам Ясинский и написал (см.: Самуил Величко, Летопись, пер. Валерия Шевчука, т. II, Киев, 1991, с. 593).
(обратно)181
См. латинский оригинал «Расtа еt Соnstitutiones» в кн.: Конституция украинского гетманского государства, Киев, 1997, с. іv, vі, vііі, х, хі, хіі, хііі и далeе. Дальнейшие отсылки к тексту «Расtа» приведены в скобках в основном тексте.
(обратно)182
Украинская версия «Расtа», которая до сих пор не датирована, избегает термина «Россия» в отношении Украины, вместо этого предпочитая термин «Малая Русь». Однако так же не употребляется термин «Россия» и в отношении России или Российского государства, которое названо «Г[осу]д[а]рство Московское».
(обратно)183
Биографию Прокоповича см. у: И. Чистович, Феофан Прокопович и его время, С.-Петербург, 1868; H.-J. Härtel, Byzantinisches Erbe und Orthodoxie bei Feofan Procoponič, Würzburg, 1970; В. Ничик, Феофан Прокопович, Москва, 1977; В. Ничик и М. Д. Рогович, «О неточностях в жизнеописаниях Ф. Прокоповича», Философская мысль, 2 (1975), с. 117–127; J. Cracraft, «Feofan Procopovich and the Kyivan Academy», в кн.: Russian Orthodoxy under the Old Regime, ред. R. Nicholas, T. Stavrou, Minneapolis, 1978, с. 44–64. О роли Прокоповича в планировании и реализации церковной реформы см.: J. Cracraft, The Church Reform of Peter the Great, London — Basingstoke, 1971.
(обратно)184
См.: «Владимир. Трагикомедия», в кн.: Феофан Прокопович, Сочинения, ред. И. П. Еремин, Москва, 1961, с. 149–205, в частности с. 152.
(обратно)185
Там же. Об образе Мазепы в тогдашних панегириках см.: Л. Сазонова, Гетман Мазепа как образ панегирический: из поэтики восточнославянского барокко, в кн.: Маzера and His Time: History, Culture, Society, ed. Giovanna Siedina, Alessandria, 2004, с. 461–487; Rostysłav Radyszewski, «Hetman Mazepa w polskojęzycznych panegirykach Jana Ornowskiego i Filipa Orłyka» в кн.: Маzера and His Time, с. 489–502; S. Jakovenko, «Panegiryk Krzyż. Początek mądrości… і mecenacka działalność Mazepy w Czernihowie», в кн.: Маzера and His Time, с. 517–527.
(обратно)186
См.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 23–38; англ. пер. цитировано по: J. Cracraft, «Prokopovyčs Kiev Реrіоd Reconsidered», с. 149–150.
(обратно)187
Текст «Слова…» см. в кн.: Феофан Прокопович, Сочинения, с. 23—38
(обратно)188
О роли проповедей в популяризации политических идей в Англии см.: Т. Claydon, Sermons, the «Public Sphere», and the Political Culture of Late-Seventeenth Century England в кн.: The English Sermon Revised: Religion, Literature, and History, 1600–1750, ed. Lori Anne Ferrell, Peter McCullough, Manchester, 2000, с. 208–234; см. также: J. Cracraft, «Feofan Prokopovich: A Bibliography of His Works», Oxford Slavonic Papers 8 (1975), с. 1—36.
(обратно)189
Ф. Прокопович, Сочинения, с. 206.
(обратно)190
См.: J. Ornowski, Muza Roksolańska, в кн.: Roksolański Parnas, ч. 2, с. 377–394, в частности с. 380.
(обратно)191
Ф. Прокопович, Сочинения, с. 31, 34.
(обратно)192
Там же, с. 33.
(обратно)193
В тексте проповеди наследие св. Владимира, которое, согласно трагикомедии «Владимир», Мазепа получил от Бога через царя, становится регионом, который Мазепе дал уже сам царь. Поэтому Прокопович обвиняет Мазепу в намерении «наступити на царство того, от него же приять область, некиим царствам равную» (там же, с. 28):
(обратно)194
Ф. Прокопович, Сочинения, с. 26.
(обратно)195
Там же, с. 37: «Святая же православно-кафолическая вера, юже от Малой Руси служители диавольскии изгнати хотяху, и во иныя страны благополучне прострется».
(обратно)196
Там же, с. 23.
(обратно)197
Там же, с. 31. Прокопович изображает царя Петра как голову, ранение или смерть которой причинит вред всему телу. Эта аналогия близка характеристике, которую дал Петру Могиле Иосиф Калимон в стихах на погребение Могилы под названием «Žal ponowiony». Калимон пишет: «Смерть моей голове стрела причинила, / Петр — моя голова; Петра смерть ужалила, / Петр — моя голова: а что голове будет, / То от головы все тело погубит», — см.: Roksolański Parnas, ч. 2, с. 200.
(обратно)198
Там же, с. 29, 31.
(обратно)199
Там же, с. 213.
(обратно)200
Ф. Прокопович, Сочинения, с. 28.
(обратно)201
См. стихотворение в кн.: Проповеди Блаженныя памяти Стефана Яворского, ч. 3, Москва, 1805, с. 241–249. О том, как Яворский наложил анафему на Мазепу по приказу Петра, см.: Giovanna Brogi Bercoff, «Mazepa, lo zar e il diavolo. Un inedito di Stefan Javorskij», Russica Romana 7 (2000), с. 167–188; Елена Погосян, «И. С. Мазепа в русской официальной культуре 1708–1725 гг.», в кн.: Mazepa and His Time, с. 315–332, в частности с. 316–318.
(обратно)202
Текст «Слова…» см. в кн.: Проповеди Блаженныя памяти Стефана Яворского, ч. 3, с. 299–302. Кроме того, Россия предстает главной координатой в тексте службы в честь полтавской победы, которую приписывают Феофилакту Лопатинскому (1711). О появлении текста службы по заказу Петра І и ее последующей судьбе см.: Е. Погосян, Петр І, с. 177; Е. Погосян, «И. С. Мазепа», с. 327–328.
(обратно)203
Примеры использования термина «народ» в значении социальной категории в проповедях Прокоповича 1709–1725 годов см. в: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 25, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 83, 98, 102, 138.
(обратно)204
Там же, с. 24.
(обратно)205
Там же, с. 133. Здесь Прокопович использует термин «нация», чтобы обозначить чужеземное государство в противовес «нашему отечеству».
(обратно)206
Редкостный пример использования Прокоповичем термина «российстии народы» см.: там же, с. 57. Если говорить о других авторах, то московский патриарх Адриан употреблял слово «народ» во множественном числе для обозначения подданных царя (см., например, его письмо от 19 мая 1696 года к Петру в кн.: Письма императора Петра Великого к брату своему Царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриану, С.-Петербург, 1788, с. 18–23, в частности с. 19). В тексте службы, которую после Полтавской битвы отслужил, вероятно, еще один киевлянин, упоминавшийся ранее Феофилакт Лопатинский, также проводилось разграничение между «окрестными» и российскими «народами».
(обратно)207
См.: J. Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Culture, с. 212–216. Интерес тогдашнего общества к славянскому происхождению Московского государства проявился в отмеченном заметным церковнославянским влиянием русском переводе труда далматинского ученого и бенедиктинского аббата из Дубровника Мавро Орбини по истории славян («Книга историография початия имене, славы и разширения народа славянского, и их цареи и владетелеи под многими имянами, и со многими царствиями, королевствами, и провинциами. Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроурбина архимандрита Рагужского», обычно кратко — «Славянское царство», 1722). Нам интересно то, что автор предисловия к книге — тот же Феофилакт Лопатинский — воспользовался «Синопсисом», чтобы опровергнуть некоторые прокатолические утверждения Орбини (там же, с. 217–219). Об Орбини и его труде см.: Giovanna Brogi Bercoff, Krо́lestwo Słowian. Historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich, Izabelin, 1998, с. 43–98.
(обратно)208
См.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 24, 26, 29–30, 33–36, 38.
(обратно)209
Там же, с. 35–36.
(обратно)210
Текст «Слова похвального» см.: там же, с. 38–48.
(обратно)211
См. текст «Слова на похвалу… памяти Петра Великого»: там же, с. 129–146, в частности с. 133.
(обратно)212
Ф. Прокопович, Сочинения, с. 152.
(обратно)213
Пожалуй, впервые в таком значении термин «отечество» появляется в текстах XV века, что напрямую связано с болгарским культурным влиянием; см. анализ использования терминов «отчина» и «отечество» в кн.: В. Колесов, Мир человека в слове древней Руси, с. 242–246.
(обратно)214
Тесты царевых грамот, а также писем Петра, Мазепы и Александра Меншикова см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, в 19-ти тт., т. 8, вып. 1, Москва — Ленинград, 1948, № 2760–2794, с. 238–261; Александр Ригельман, Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще, Киев, 1994, с. 531–574 (репр. изд. 1847 года «Летописное повествование о Малой России»); С. Соловьев, История России, кн. 8, Москва 1962, 240–252. Анализ «войны манифестов» см. в: Bohdan Kentrschynskyj, «Propagandakriket i Ukraina, 1708–1709» в кн.: Karolinska Förbundets Årsbok, Stockholm, 1958, с. 181–224.
(обратно)215
См. анализ этого терминологического нововведения петровской пропаганды в кн.: L. Greenfeld, Nationalism, с. 195–196.
(обратно)216
Текст указа Петра от 28 октября 1708 года см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 8, вып. 1, № 2771, с. 244–245; А. Ригельман, Летописное повествование…, с. 531–532.
(обратно)217
Текст царевой грамоты от 3 декабря 1690 года к черниговскому полковнику Якову Лизогубу см.: там же, с 501–502.
(обратно)218
См. царские письма за этот период: там же, с. 531–535. Идею несправедливой обиды, причиненной Мазепой своему народу, с целью заручиться поддержкой «простолюдинов» и доказать, что гетман действовал лишь ради собственной выгоды, а не для блага Украины, — Петру подсказал Меншиков 26 октября в том же письме, в котором он сообщал царю о «предательстве» Мазепы. См.: С. Соловьев, История России, кн. 8, с. 244. Об обвинении Петром Мазепы в предательстве и о противоречивых интерпретациях обоими Переяславского соглашения см.: Orest Subtelny, «Mazepa, Peter I, and the Question of Treason», Harvard Ukrainian Studies 2, № 2 (June 1978), с. 158–183.
(обратно)219
Развивая темы, порожденные первым указом, царь и его приближенные в то же время понимали, что должны отреагировать на обвинения, выдвинутые против них противником. В манифестах, изданных Карлом XII и Мазепой, утверждалось, помимо прочего, что Петр переписывался с папой римским, дабы заменить в своем царстве православие на католичество. Прочие обвинения касались характера войны, которую Петр вел со Швецией, нарушения с его стороны старинных привилегий и вольностей «малороссийского народа» и грабежа и опустошения собственности украинцев, которые чинились великороссийскими войсками. В ответ на это Петр перечислил причины, побудившие его к войне: необходимость вернуть бывшие московские земли, освободить церкви, насильно отнятые лютеранами, и защитить царскую честь, на которую якобы посягнули шведский король и его послы. Обзор обвинений в адрес Петра и его ответов на них см. в: С. Соловьев, История России, кн. 8, с. 250–252.
(обратно)220
Текст этого указа см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 8, вып. 1, № 2816, с. 276–284; А. Ригельман, Летописное повествование…, с. 539–545. В своей грамоте Петр дважды упоминал «отчизну». В обоих случая речь шла об «их» отчизне, то есть отчизне малороссиян, которые были адресатами его послания.
(обратно)221
Цит. по: С. Соловьев, История России, кн. 8, с. 250.
(обратно)222
Текст этой петровской грамоты см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 1, № 299, с. 38–41; А. Ригельман, Летописное повествование…, с. 565–567. Об образе Мазепы в официальной и частной переписке царя осенью 1708-го — зимой 1709 года см.: Е. Погосян, «И. С. Мазепа», с. 315–323.
(обратно)223
В письме к Федору Апраксину от 30 октября 1708 года Петр пишет о Мазепе так: «изменник и предатель своего народа» (см. Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 8, вып. 1, № 2786, с. 253; Е. Погосян, «И. С. Мазепа», с. 320).
(обратно)224
С. Соловьев, История России, кн. 8, с. 268.
(обратно)225
В грамоте от 26 мая 1709 года царь обвинил запорожских казаков, в частности, в желании произвести «разорения отчизне своей, Малороссийскому краю». Текст грамоты см. в кн.: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 2, с. 907–914, в частности с. 912.
(обратно)226
Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 1, № 3251, с. 226 (англ. пер. цит. по: J. Cracraft, «Empire versus Nation: Russian Political Theory under Peter I», Harvard Ukrainian Studies 10, № 3–4 (December 1986), с. 524–541, в частности с. 529).
(обратно)227
Рассмотрение текстологии указа см. в: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 9, вып. 2, с. 980–981.
(обратно)228
Упоминания о троянском, римском и польском «отечестве» см. в: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 26, 137.
(обратно)229
См.: «Слово в день святого благоверного князя Александра Невского», в кн.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 100.
(обратно)230
См.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 52, 91, 133, 137.
(обратно)231
О развитии и популяризации понятия отчизны в Северной Европе см.: Pasi Ihalainen, «The Concepts of Fatherland and Nation in Swedish State Sermons from the Late Age of Absolutism to the Accession of Gustavus III», Scandinavian Journal of History 28 (2003), с. 37–58.
(обратно)232
См.: Е. Погосян, Петр I, с. 220–229. Историки традиционно рассматривают церемонию 22 октября 1721 года как начало Российской империи, см., например: E. Anisimov, The Reforms of Peter the Great, с. 143–144 (cр. Е. Анисимов, Время петровских реформ, с. 233–237).
(обратно)233
См.: L. Greenfeld, Nationalism, с. 195–196.
(обратно)234
V. Tolz, Russia, с. 41.
(обратно)235
Анализ процесса присвоения царю нового титула и введения новых форм обращения см. в кн.: Е. Погосян, Петр I, с. 220–229.
(обратно)236
См. английский перевод отрывков из обращения к царю, в котором его просили принять новый титул, в кн.: L. Greenfeld, Nationalism, c. 196.
(обратно)237
О том, как Петр толковал российскую историю, см. в: Е. Погосян, Петр I, с. 183–206.
(обратно)238
Е. Погосян, Петр I, с. 226–243.
(обратно)239
Е. Погосян, Петр I, с. 222.
(обратно)240
Там же, с. 221, 224–225. Или: L. Greenfeld, Nationalism, с. 196.
(обратно)241
См.: L. Greenfeld, Nationalism, с. 193–194.
(обратно)242
Цит. по: Е. Погосян, Петр I, с. 226.
(обратно)243
Ф. Прокопович, «Слово на погребение Всепресветлейшаго Державнейшаго Петра Великаго», в кн.: Ф. Прокопович, Сочинения, с. 126.
(обратно)244
В. Ключевский, Сочинения, т. 5, Курс русской истории, ч. 4, Москва, 1958, с. 98 (с англ. пер. цит. по: V. Tolz, Russia, с. 36).
(обратно)245
В документах Синода была проведена параллель с Юлием Цезарем, а также упомянуты чужеземцы, которые использовали это величание в обращениях к Петру. Однако эти факты не попали в конечный текст речи Шафирова — Яновского.
(обратно)246
О личных религиозных убеждениях Петра и его политики касаемо церкви см.: J. Cracraft, The Church Reform of Peter the Great.
(обратно)247
См.: Е. Погосян, Петр I, с. 242. Автор похвалы в адрес князя Богдана Огинского (1625) использовал те же слова, хотя и при других обстоятельствах (касаемо войны между Речью Посполитой и Московией), и вкладывая в них иное значение, — см. ч. 6 этой книги.
(обратно)248
Е. Погосян, Петр I, с. 278; ср.: с. 272.
(обратно)249
В. Ключевский, Сочинения, т. 8, Исследования, рецензии, речи (1890–1905), Москва, 1959, с. 349 (англ. пер. цит. по: V. Tolz, Russia, с. 23).
(обратно)250
Некоторые исследователи считают, что в конце XVII — в начале XVIII века на место московской высокой культуры киевляне поставили свою, тем самым еще более увеличив пропасть между образованными элитами и народом, — см.: Nikolai Trubetzkoy, «The Ukrainian Problem», у него же: The Legacy of Genghis Khan and Other Essays on Russian Identity, с. 245–267 (рус. изд.: Николай Трубецкой, «К украинской проблеме», у него же: Наследие Чингисхана, с. 498–522).
(обратно)251
Цит. по: Boris A. Uspensky, «Schism and Cultural Conflict in the Seventeenth Century», в кн.: Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine and Georgia, ed. Stephen K. Batalden (DeKalb, Ill., 1993), с. 106–143, в частности с. 115 (рус. изд.: Б. А. Успенский, «Раскол и культурный конфликт XVII века», у него же: Избранные труды, т. 1, Семиотика истории. Семиотика культуры, Москва, 1994, с. 333–367, в частности с. 343).
(обратно)252
Так что рисунок на обложке англоязычного издания книжки Анисимова «The Reforms of Peter the Great» (русский лубок, на котором цирюльник в западном одеянии пытается насильно обрезать бороду старообрядцу, который от него отмахивается) вводит в заблуждение. На самом деле этот лубок был создан в 1770 году — намного позже эпохи Петровских реформ. См. репродукцию изображения и вопрос по поводу даты его создания в кн.: Robin Milner-Gulland, The Russians, Oxford, 1997. c.127 (ср. : Raskolnik.jpg). О политике Петра в отношении старообрядцев см.: J. Cracraft, The Church Reform of Peter the Great, с. 74–79.
(обратно)253
См.: G. Florovsky, Ways of Russian Theology, ч. 1, с. 97—104 (рус. изд.: Г. Флоровский, Пути русского богословия, ч. 1, с. 102); В. С. Румянцева, Народное антицерковное движение в России в XVII веке, Москва, 1986. Краткий обзор литературы на эту тему см.: Robert O. Crummey, «Interpreting the Fate of Old Believer Communities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries» в кн.: Seeking God, с. 144–159, в частности с. 144–147.
(обратно)254
Краткое изложение взглядов Георга Михельса см. в выводах к его труду: Georg Michels, At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia, Stanford, 1999, c. 217–229.
(обратно)255
См.: R. Crummey, «Interpreting», c. 147–148; R. Crummey «The Miracle of Martyrdom: Reflections on Old Believer Hagiography», в кн.: Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine, с. 132–145. Ср.: R. Crummey, The Old Believers and the World of Antichrist: The Vyg Community and the Russian State, 1684–1855, Madison, Wis., 1970.
(обратно)256
B. Uspensky, Schism and Cultural Conflict, c. 110 (рус. изд.: Б. Успенский, Раскол и культурный конфликт XVII века, с. 337).
(обратно)257
Такое отношение отсутствует в западном христианстве и в остальном православном мире. Петр Могила утверждал, что ошибки в церковных текстах не имеют значения для спасения душ.
(обратно)258
См.: B. Uspensky, «Schism and Cultural Conflict», с. 110–127 (рус. изд.: Б. Успенский, «Раскол и культурный конфликт XVII века», с. 337–356).
(обратно)259
Эта традиция перекочевала в модерное российское богословие, как видно на примере о. Флоровского, который считал конец XVII века периодом «псевдоморфозы московского православия» под влиянием триумфа киевского «латинофилизма»; см.: G. Florovsky, Ways of Russian Theology, ч. 1, с. 111–113 (рус. изд.: Г. Флоровский, Пути русского богословия, т. 1, с. 111–112).
(обратно)260
Психологический портрет Аввакума, который, по всей видимости, страдал каким-то психическим расстройством, см. в: Э. Кинан, «Аввакум: история безумия» в его же: Российских исторических мифах, с. 274–288.
(обратно)261
Об Ушакове см.: Engelina S. Smirnova, «Simon Ushakov — “Historicism” and “Byzantinism”: On the Interpretation of Russian Painting from the Second Half of the Seventeenth Century», в кн.: Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine, с. 169–183.
(обратно)262
См.: Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения, под ред. Н. К. Гудзия, Москва, 1960, с. 135; см. также: В. Uspensky, Schism and Cultural Conflict, с. 124 (рус. изд.: Б. Успенский, Раскол и культурный конфликт XVII века, с. 352–353).
(обратно)263
См.: G. Hosking, The Russian National Myth Repudiated, с. 207–208.
(обратно)264
См.: V. Tolz, Russia, c. 42–43.
(обратно)265
См.: L. Greenfeld, Nationalism, c. 193; ср. также: с. 196–197.
(обратно)266
О лексике переводов Бужинского см.: J. Cracraft, The Petrine Revolution in Russian Culture, c. 214–216.
(обратно)267
См.: там же, с. 239.
(обратно)268
См.: Житие протопопа Аввакума, с. 98, 111.
(обратно)269
Петр лично причастен к назначению вышколенного в Киеве духовенства на должности в Сибири. Об усилиях Москвы окрестить коренное население восточного пограничья в последние десятилетия XVII века см.: J. Cracraft, The Church Reform of Peter the Great, c. 64–70.
(обратно)270
См.: Е. Погосян, «“О законе своем сами недоумевают”: Народы России в этнографических описаниях, составленных и изданных в 1770—1790-е гг.». Неопубликованная рукопись.
(обратно)271
Интерпретацию политического и культурного послания, размещенного в памфлетах Хвылёвого, см. у: Myroslav Shkandrij, Russia and Ukraine: Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Post-Colonial Times, Montreal — Kingston, 2001, c. 223–231.
(обратно)272
См. статью Богдана Кравцева «Little Russian Mentality (malorosiistvo)» в кн.: Encyclopedia of Ukraine, т. ІІІ, Toronto, 1993, с. 166.
(обратно)273
См.: А. В. Стороженко, Малая Россия или Украина? в кн.: Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола, сост. М. Б. Смолин, Москва, 1998, с. 280–290 (впервые опубликована в 1918 году в журнале «Малая Русь»).
(обратно)274
См.: С. Шелухин, Україна — назва нашої землі з найдавніших часів, Прага, 1936, с. 19–32 (репринт: Дрогобич, 1992); пор.: Иван Линниченко, Малорусский вопрос и автономия Малороссии: открытое письмо профессору М. С. Грушевскому, Петроград и Одесса, 1917; переиздание: Украинский сепаратизм в России, с. 253–279, в частности с. 271.
(обратно)275
Об употреблении у Грушевского терминов «Украина-Русь» и «Украина» см. мою работу: Великий переділ, с. 176–180.
(обратно)276
См.: М. Грушевский, Історія України-Руси, т. І, с. 1–2.
(обратно)277
См.: С. Шелухин, Україна, с. 34–40.
(обратно)278
См.: Михаил Смолин, Украинский туман должен рассеяться и русское солнце взойдет, в кн.: Украинский сепаратизм в России, с. 5—22, в частности с. 6.
(обратно)279
Эта граница не подвергалась существенным изменениям до первого раздела Польши в 1772 году. Историю Речи Посполитой на рубеже XVII–XVIII веков см. у: Daniel Stone, The Polish-Lithuanian State, 1386–1795, в кн.: A History of East Central Europe, т. IV, Seattle — London, 2001, и Richard Butterwick, ed., The Polish-Lithuanian Monarchy in European Contex, с. 1500–1795, Basingstoke, 2001.
(обратно)280
Обзор политических процессов в Украине 1654–1659 годов, см. в кн.: Тетяна Яковлєва, Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни, Київ, 1998.
(обратно)281
Об Андрусовском перемирии и политических стратегиях Дорошенко см.: Дмитро Дорошенко, Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності, Нью-Йорк, 1985.
(обратно)282
См.: Г. Сагановіч, Нарыс гісторыі Беларусі, с. 291.
(обратно)283
О генеалогических легендах элит шляхты Великого княжества Литовского см.: Arturas Tereskinas, The Imperfect Body of the Community: Formulas of Noblesse, Forms of Nationhood in the Seventeenth-Century Grand Duchy of Lithuania, Ph. D. diss., Harvard University, 1999, c. 309–391.
(обратно)284
Г. Сагановіч, Нарыс гісторыі Беларусі, с. 29; Н. Яковенко, Нарис історії України, с. 266–267.
(обратно)285
Cм.: А. С. Котлярчук, Праздничная культура в городах России и Белоруссии XVII в., С.-Петербург, 2001, с. 39–45; ср.: І. Марзалюк, Людзі дауняй Беларусі: этнаканфсійныя і соцыякультурныя стэрэатыпы (X–XVII ст.), с. 104.
(обратно)286
См.: М. Капраль, Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (Соціально-правові взаємини), Львів, 2003, с. 153. О русской громаде Львова в конце XVII — в XVIII веке см.: там же, с. 131–157. О привилегиях русской громады Львова см.: М. Капраль, сост., Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.), Львів, 2000, с. 39—119.
(обратно)287
Об этническом составе правобережного населения и миграционных процессах см.: Олександр Гуржій, Тарас Чухліб, Гетьманська Україна, [Україна крізь віки, т. 8], Київ, 1999, с. 272–277. О политической программе казачества между 1676 и 1715 годами см.: В. Смолій, В. Степанков, Українська державна ідея. Проблеми формування, еволюції, реалізації, с. 175–235.
(обратно)288
См.: Г. Сагановіч, Нарыс гісторыі Беларусі, с. 294–295.
(обратно)289
Об иезуитских школах и коллегиях в Украине см.: Історія української культури, т. 3, Київ, 2003, с. 471–481.
(обратно)290
Там же, с. 450–454; см. также: Н. Яковенко, Нарис історії України, с. 278–279.
(обратно)291
См.: Ludomir Bieńkowski, Organizacja KoŚcioła Wschodniego w Polsce, в кн.: Kociöł w Polsce, ed. Jerzy Kłoczowski, т. II, Wieki XVI–XVIII, Krakow, 1969, c. 781—1049, в частности с. 849–851. О положении униатской церкви на протяжении первого десятилетия после Переяславского договора см.: J. Praszko, De Ecclesia Ruthena Catholica sede metropolitana vacante (1655–1665), Rome, 1944; ср.: Antoni Mironowicz, Prawosławie і unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok, 1997.
(обратно)292
Г. Сагановіч, Нарыс гісторыі Беларусі, с. 292–294, 404. О переходе православных епархий в унию см.: Григорій Лужницький, Українська церква між Сходом і Заходом, Філадельфія, 1954, с. 396–406; Атанасій Великий, З літопису християнської України, кн. 5, Рим, 1972, с. 229–272; кн. 6, Рим, 1973, с. 29–56.
(обратно)293
Об утверждении Замойского синода см. в: А. Великий, З літопису християнської України, кн. 6, с. 129–154.
(обратно)294
См.: Марзалюк, Людзі дауняй Беларусі, с. 76.
(обратно)295
Историю Василианского ордена см. в: М. Ваврик, Нарис розвитку і стану Нисиліянського Чина ХVІІ—ХХ ст.: Топографічно-статистична розвідка з картою монастирів, Рим, 1979; Sophia Senyk, Women’s Monasteries in Ukraine and Belorussia to the Period of Suppressions, Orientalia Christiana Analecta, t. 222, Rome, 1983; Maria Pidłypczyk-Majerowicz, Bazylianie w Koronie і nа Litwie: szkoły і ksiąźki w działalnośći zakonu, Warszawa, 1986; Maria Pidłypczyk-Majerowicz, Kulturalna spuŚcizna zakonо́w mуęskich na Białorusi, в кн.: U schyłku tysiąclecia: księga pamiątkowa z okazij sześćdziesiątych urodzin Prof. Marcelego Kosmana, Poznań, 2001, c. 211–225. О постепенной латинизации и полонизации униатской церкви на протяжении XVIII века см.: Sophia Senyk, The Ukrainian Church and Latinization, Orientalia Christiana Periodica 56 (1990), c. 165–187, в частности c. 180–182.
(обратно)296
См.: Bieńkowski, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, c. 850.
(обратно)297
См. отрывки из этого произведения, написанного в Речи Посполитой в конце 1660-х или в начале 1670-х годов в кн.: Правда про Унію. Документи і матеріали, 2-ге вид., Львів, 1968, с. 67–71, в частности с. 71.
(обратно)298
См. отрывок из универсала, изданного 25 августа 1700 года галицким старостой Юзефом Потоцким жителям Збаражской волости: там же, с. 76.
(обратно)299
См. рассказ о конфликте между ксендзом и верующими русской церкви в Жидачеве: там же, с. 74. В документе не указано, православной или униатской была эта церковь, но тот факт, что ее посетил ксендз, подсказывает, что речь идет, скорее всего, об униатской.
(обратно)300
См. отрывок из сообщения: там же, с. 88.
(обратно)301
См.: Правда про Унію. Документи і матеріали, с. 79–86, в частности с. 85–86.
(обратно)302
Там же, с. 80.
(обратно)303
Гийом Левассёр де Боплан, Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн сіра де Боплана… Київ, 1990.
(обратно)304
Описание многочисленных изданий см. в: Andrew В. Pernal, Dennis F. Essar, «Introduction» to de Beauplan, A Description of Ukraine, Cambridge, Mass., 1993, c. xix — xcvi, в частности c. lxvi — xcvi.
(обратно)305
Andrew В. Pernal, Dennis F. Essar, «Introduction» to de Beauplan, A Description of Ukraine, Cambridge, Mass., 1993, с. xxxii, хххvi.
(обратно)306
Там же, с. xxix.
(обратно)307
Термин «Украина» применяли и для определения других, нестепных пограничий. Примеры его использования в источниках XVII века см. в: Шелухин, Україна, с. 156–162.
(обратно)308
См.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 373–374.
(обратно)309
См.: Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687), Київ — Львів, 2004, с. 155–156.
(обратно)310
В письме к царю Юрий Хмельницкий писал, что царский посол прибыл встретиться «с нами в Украине».
(обратно)311
Текст Гадячского соглашения см. в: Універсали українських гетьманів, с. 33–39. Анализ соглашения см. в: Т. Яковлев, Гетьманщина в другій половині 50-х років, с. 305–323.
(обратно)312
В результате в казацком политическом дискурсе конца XVII века никогда не было такого уровня привязанности к Каменцу или Бару на Подолье, как к расположенным по казацкую сторону зборовской линии подольским городам вроде Ямполя или Винницы, считавшихся частью казацкой Украины еще долгое время после того, как эти земли отошли сначала к полякам, а затем — к туркам.
(обратно)313
См.: С. Плохій, Наливайкова віра, с. 80–81.
(обратно)314
Текст письма Брюховецкого см. в кн.: Універсали українських гетьманів, с. 353–354.
(обратно)315
Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 13—14
(обратно)316
См., например, инструкции гетмана Петра Дорошенко, выданные в мае 1670 года казацким делегатам, которые отправлялись на переговоры с Речью Посполитой в Остроге: Універсали українських гетьманів, с. 383–391.
(обратно)317
См. проект договора Петра Дорошенко с Турцией: там же, с. 381.
(обратно)318
Феодосій Софонович, Хроніка з літописців стародавніх, ред. Юрій Мицик і Володимир Кравченко, Київ, 1992, с. 56.
(обратно)319
Под 1670 годом Софонович рассказал о выборах нового польского короля Михала («Михаила») Корибута Вишневецкого, но не перешел к следующему разделу и вскоре вообще прервал рассказ (там же, с. 240–242).
(обратно)320
См.: F. Sysyn, The Image of Russia and Russian-Ukrainian Relations…, c. 114.
(обратно)321
David A. Frick, «Lazar Baranovych, 1680: The Union of Lech and Rus», в кн.: Culture, Nation, and Identity, c. 19–56, в частности c. 31.
(обратно)322
David A. Frick, «Lazar Baranovych, 1680: The Union of Lech and Rus», в кн.: Culture, Nation, and Identity, с. 30; ср. Łazarz Baranowicz, Nie będzie, jako świat światem, Rusin Poliakowi bratem, в его же: Lutnia Apollinowa…, z typographiey Kijowo-Pieczarskiey, 1671, c. 427 (см. также цифровое факсимиле: . pl/page/show/id/8902/ thissectionid/794. html).
(обратно)323
Текст хроники см.: Latopisiec albo kroniczka rо́żnych spraw i dziejо́w dawnych i teraźniejszych czasо́w, z wieku i życia mego na tym padole, wyd. K. W. Wо́jcicki, 2 т., Warszawa, 1853; cр. также: «Лътопись Іоахима Ерлича» [ «Latopisiec albo Kroniczka…»], в кн.: Южно-русские летописи, ред. Орест Левицкий, Киев, 1916, с. 32—456. Краткую биографию Ерлича и библиографию на эту тему см. в: Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut Piśmiennictwo staropolskie, т. II, Warszawa, 1964, c. 292–293.
(обратно)324
О Романе Ракушке-Романовском см. «Вступ» Ярослава Дзиры к изданию Літопис Самовидця, Киев, 1971, с. 9—42, в частности с. 20–22.
(обратно)325
См.: Літопис Самовидця, с. 103.
(обратно)326
См.: Літопис Самовидця, с. 121.
(обратно)327
Там же, с. 153.
(обратно)328
Там же, с. 135.
(обратно)329
Там же, с. 145.
(обратно)330
См.: М. Грушевський, Велика, Мала і Біла Русь.
(обратно)331
См. текст Переяславских статей 1659 года в кн.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 345–363.
(обратно)332
См. текст письма Брюховецкого донским казакам в кн.: Універсали українських гетьманів, с. 357–359.
(обратно)333
См. письмо в кн.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 474.
(обратно)334
См., например, универсалы Ивана Брюховецкого для жителів Правобережья (1663) в кн.: Універсали українських гетьманів, с. 291–393, и отчет московской делегации о переговорах с представите лями гетмана Петра Дорошенко в кн.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 445–451.
(обратно)335
См. текст Переяславских статей (1674), которые содержали положення, обусловливающие принятие правобережным казачеством власти Самойловича и верховенства царя (там же, т. 3, кн. 2, с. 118–129).
(обратно)336
См. текст договора: там же, с. 332–336.
(обратно)337
См. текст универсала: там же, кн. 1, с. 385.
(обратно)338
См.: Універсали українських гетьманів, с. 291–308.
(обратно)339
См. его приказ послам: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 7—12, в частности с. 8.
(обратно)340
Там же, с. 191–197, в частности с. 191.
(обратно)341
См. текст статей: там же, кн. 1, с. 409.
(обратно)342
Упоминания о «малороссийской Украине» у Юрия Хмельницкого, Петрика и Мазепы см.: там же, кн. 2, с. 157, 333, 429; Універсали українських гетьманів, с. 184, 776.
(обратно)343
О призвании Величко на «малороссийскую Украину» см.: С. Шелухин, Україна, с. 148–150.
(обратно)344
См., например, прошение в «Статьях» Брюховецкого (1665), чтобы «русскіе бъ люди козаковъ измѣною въ ссорахъ не безчестили» (Універсали українських гетьманів, с. 271).
(обратно)345
См.: Універсали українських гетьманів, с. 266.
(обратно)346
См.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 16.
(обратно)347
См.: Літопис Самовидця, с. 87, 91.
(обратно)348
См.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 438–440, в частности с. 439.
(обратно)349
См. укр. перевод поэмы Л. Барановича: там же, с. 81–93, в частности с. 85.
(обратно)350
О термине «отчизна» в польском политическом дискурсе см.: Ewa Bem, Termin “ojczyznа” w literaturze XVI і XVII wieku. Refleksje o języku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 34 (1989), c. 131–157.
(обратно)351
О терминах «нация», «государство» и «отчизна» в Великом княжестве Литовском см.: Tereskinas, The Imperfect Body of the Community, с. 47–60.
(обратно)352
См.: «Maiores Illustrissimorum Principum Korybut Wiszniewiecciorum» в кн.: Roksolański Parnas, с. 215–230, в частности с. 225–226. Вероятнее всего, стихотворения вышли из-под пера Лазаря Барановича или Феодосия Василевича-Баевского — преподавателей Киевской академии, которые в то время читали курсы поэтики и риторики.
(обратно)353
См. воспоминания об «общем отечестве» в тексте Гадячской унии (1658) и универсале Выговского за 1660 год, а также в инструкциях Петра Дорошенко его представителям на переговорах с Речью Посполитой (1670): Універсали українських гетьманів, с. 34, 98, 384.
(обратно)354
В московских документах также зафиксированы ранние упоминания казацких элит об их «отчизне», в частности в отчете о разговоре российского купца и генерального писаря Ивана Выговского, который состоялся в январе 1652 года (см.: Воссоединение Украины с Россией, т. 2, с. 199). Учитывая двузначность слова «отчизна» в тогдашней политической лексике Московии, речь могла идти и об отечестве, и о казацкой вотчине и владениях в целом.
(обратно)355
См. письмо Брюховецкого епископу Мефодию, написанное в апреле 1662 года: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 381–390.
(обратно)356
См. упоминания об отчизне в письмах Тетери: Універсали українських гетьманів, с. 232; Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 381–390.
(обратно)357
См.: Універсали українських гетьманів, с. 318, 330.
(обратно)358
См.: письмо Брюховецкого от 10 февраля 1668 года: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 1, с. 454–455.
(обратно)359
См.: Універсали українських гетьманів, с. 184–187, 425, 579–581.
(обратно)360
См.: F. Sysyn, Fatherland in Early Eighteenth-Century Political Culture, с. 39–53.
(обратно)361
Текст эпитафии см. в кн.: Павло Жолтовський, Український живопис XVII–XVIII ст., Київ, 1978, с. 220.
(обратно)362
См. отрывок из панегирика Ивана Величковского гетману в: Наталя Яковенко, ”Господарі вітчизни”: уявлення козацької та церковної еліти Гетьманату про природу, репрезентацію та обов’язки влади (друга половина XVII — початок XVIII ст.», в кн.: Mazepa and His Time, c. 7—37, в частности с. 25. См. также ссылки на Украину или малороссийский край как отечество в универсалах Самойловича: Універсали українських гетьманів, с. 697, 808, 811, 821.
(обратно)363
Украинский перевод панегирика см. в: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 366–372.
(обратно)364
См.: Універсали Івана Мазепи, 1687–1709, упор. Іван Бутич, Київ — Львів, 2002, № 344, 433.
(обратно)365
Например, в латинской надписи на гравюре Даниила Галяховского из Киевской академии («Теза на честь Івана Степановича Мазепи», 1708) сказано, что она посвящена Мазепе, в частности как «отцу отчизны» («patri patriae») и «защитнику церкви» (ecclesiae defe[ns]ori) (см. например: Галина Бєлікова, Лариса Членова, Український портрет XVI–XVIII століть: каталог-альбом, 2-ге вид., Київ, 2006, с. 312).
(обратно)366
См. С. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. 8, с. 243–244.
(обратно)367
Текст письма см.: там же, с. 246–247.
(обратно)368
Текст универсала Скоропадского см. в: Рігельман, Літописна оповідь, с. 555–562.
(обратно)369
См. отрывок из в кн.: С. Соловьев, История России, кн. 8, с. 250.
(обратно)370
Царская канцелярия использовала оба понятия в ходе переговоров с казацкой старшиной задолго до Мазепиного гетманства. В письме от 20 июля 1696 года к патриарху Адриану Петр разделял войска, участвовавшие в Азовском походе, на великорусские и малороссийские. См.: Письма императора Петра Великого к брату своему Царю Иоанну Алексеевичу и патриарху Адриано, С.-Петербург, 1788, с. 31.
(обратно)371
См. текст письма Мазепы Скоропадскому, ответ кошевого атамана Костя Гордиенко на универсал Мазепы и манифест Карла XII в кн.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 449–450, 461–468.
(обратно)372
См. письмо Орлика к Стефану Яворскому, написанное в июне 1721 года в кн.: Орест Субтельний, Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII cт., Київ, 1994, с. 158–182, в частности с. 170.
(обратно)373
См. латинский оригинал «Pacta», русскую версию и переводы на современный украинский и английский языки в кн.: Конституція української гетьманської держави, Київ, 1997.
(обратно)374
См.: Zenon Е. Kohut, Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s—1830s, Cambridge, Mass., 1986, c. 8 (укр. пер.: Зенон Когут, Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини. 1760–1830 роки, Київ, 1996, с. 19; ср. Ivan Katchanovski, Zenon Е. Kohut, Bohdan Y. Nebesio, Myroslav Yurkevich, Historical Dictionary of Ukraine, 2nd ed., Lanham, Md., 2013, c. 395.
(обратно)375
См.: Конституція української гетьманської держави, с. iii — vii.
(обратно)376
См. текст вступления к «Скарбниці» Галятовского в кн.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 136–141, в частности с. 138.
(обратно)377
См.: Hryhorij Hrabjanka’s The Great War of Bohdan Xmel’nyc’kyj, Cambridge, Mass., 1990, c. 300. Это гарвардское критическое издание содержит факсимиле обеих рукописных версий летописи, а также первоисточника 1793 года в журнале «Российский магазин» и издание 1854 года, осуществленного Киевской археографической комиссией. Современный укр. пер. Романа Иванченко см.: Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки, Київ, 1992 (= «Літопис Грабянки» в: Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки, Київ, 2006, с. 877–967).
(обратно)378
Научное издание первого тома летописи Величко см.: Самійло Величко, Сказаніє о войнѣ козацкой с поляками, ред. Екатерина Лазаревская, Киев, 1926; целое собрание в четырех томах издала Киевская археографическая комиссия под названием «Летопись собрание в юго-западной России в XVII веке» (известная также под кратким названием «Летопись событий Самоила Величка») в 1848–1864 годах; перевод с комментариями см.: Самійло Величко, Літопис, 2 т., Київ, 1991 (= «Літопис Самійла Величка» в: Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки, с. 194–873).
(обратно)379
О Грабянке см. предисловие Юрия Луценко в кн.: Hryhorij Hrabjanka’s The Great War of Bohdan Xmel’nyc’kyj, c. xviii — xxii.
(обратно)380
См.: F. Sysyn, The Image of Russia, с. 131.
(обратно)381
Там же, с. 139.
(обратно)382
О значении и месте «отечества» в летописи Величко см.: F. Sysyn, Fatherland in Early Eighteenth-Century Political Culture.
(обратно)383
См.: F. Sysyn, The Image of Russia, c. 138.
(обратно)384
Там же, c. 140.
(обратно)385
Текст письма Петрика и ответы Полтавского полка см.: Лѣтопись Самоила Величка, т. III, Киев, 1855, с. 111–116; ср. укр. пер. в: С. Величко, Літопис, т. 2, с. 392–395. Эта переписка проанализирована в: F. Sysyn, The Image of Russia, с. 138.
(обратно)386
Текст статей см.: Універсали українських гетьманів, с. 587–600.
(обратно)387
См.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 3, кн. 2, с. 374.
(обратно)388
См.: Hryhorij Hrabjanka’s The Great War, c. 296–297.
(обратно)389
О культе Хмельницкого и его проявлениях в иконографии см. мою работу: Tsars and Cossacks: A Study in Iconography, Cambridge, Mass., 2002, c. 45–54.
(обратно)390
«Милость Божія» в кн.: Українська література XVII ст., Київ, 1983, с. 306–324, в частности с. 314.
(обратно)391
Там же, с. 323.
(обратно)392
Там же, с. 317.
(обратно)393
О популярности летописи Грабянки и ее многочисленных копиях см.: Елена Апанович, Рукописная светская книга XVIII века на Украине. Исторические сборники, Киев, 1983, с. 137–186.
(обратно)394
См.: Українська література XVII ст., с. 290. Относительно атрибуции, а также возможной датировки этого текста серединой XVII века, а не временами Мазепы и Скоропадского, см. цитируемые в комментарии к данной публикации рассуждения Михаила Максимовича: там же, с. 565.
(обратно)395
Именно так эволюционировал образ поляков в летописи Величко. См.: Frank Е. Sysyn, “The Nation of Cain “: Poles in Samiilo Velychko’s Chronicle, в кн.: Synopsis: A Collection of Essays in Honour of Zenon E. Kohut, c. 443–455.
(обратно)396
Стихотворение «Глаголет Польша» дошло до нас в рукописи начала XVIII в., см.: Українська література XVII ст., с. 284.
(обратно)397
См.: Тисяча років української суспільно-політичної думки, т. 4, кн. 1, с. 292.
(обратно)398
F. Sysyn, The Image of Russia, c. 141.
(обратно)399
О важности казацкого мифа для украинского нациесозидающего проекта см.: Frank Е. Sysyn, The Reemergence of the Ukrainian Nation and Cossack Mythology, Social Research 58, № 4 (Winter 1991), c. 845–864; Serhii Plokhy, Historical Debates and Territorial Claims: Cossack Mythology in the Russian-Ukrainian Border Dispute, в кн.: The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia, c. 147–170; Serhii Plokhy, The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-Soviet Era, c. 489–505.
(обратно)400
Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford, 1986), p. 3
(обратно)




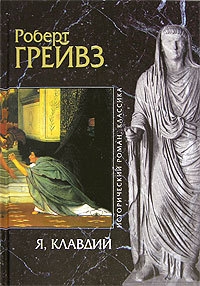


Комментарии к книге «Происхождение славянских наций. Домодерные идентичности в Украине и России», Сергей Николаевич Плохий
Всего 0 комментариев