Александр Великий. Дорога славы
Действующие лица
Александр, сын Филиппа — царь Македонии, покоритель Персидского царства
Филипп Македонский — отец Александра, выдающийся полководец
Олимпиада — жена Филиппа, мать Александра
Кир Великий — великий полководец и государственный деятель, основатель Персидской империи около 547 г. до Р. X.
Дарий Третий — царь царей Персии, побеждённый Александром
Эпаминонд — выдающийся фиванский полководец, впервые применивший «косое построение»
Парменион — виднейший из военачальников Филиппа и Александра
Антипатр — высокопоставленный македонский полководец, наместник Македонии во время похода Александра в Азию
Антигон Одноглазый — крупный македонский военачальник
Аристотель — великий философ, наставник Александра
Гефестион — полководец и ближайший друг Александра
Теламон — наёмник из Аркадии, друг и наставник Александра
Кратер — полководец Александра
Пердикка — полководец Александра
Птолемей — полководец Александра, основатель династии царей Египта
Селевк — полководец Александра, основатель династии царей Сирии
Коэн — полководец Александра
Эвмен — личный секретарь, советник и дипломат Александра
Леоннат — друг и телохранитель Александра
Филот — сын Пармениона, командир кавалерии «друзей» царя
Никанор — сын Пармениона, командир царских телохранителей
Клит Чёрный — командир личного конного царского отряда «друзей»; убит Александром в Мараканде
Роксана — бактрианка, ставшая женой Александра
Итан — брат Роксаны, ставший придворным Александра, а впоследствии служивший в «друзьях»
Оксиарт — бактрийский военачальник, отец Роксаны
Мемнон Родосский — полководец, командир греческих наёмников, служивших Дарию
Барсина — любовница Александра, дочь Артабаза, вдова Мемнона
Артабаз — персидский вельможа, отец Барсины, назначен Александром сатрапом Бактрии
Бесс — вельможа и полководец Дария, сатрап Бактрии; при Гавгамелах командовал левым флангом персидской армии; убил Дария, претендовал на его трон
Мазеус — сатрап Месопотамии, командир правого крыла персидской армии при Гавгамелах; впоследствии, при Александре, сатрап Вавилонии
Спитамен — предводитель восстания в Бактрии и Согдиане
Буцефал — конь Александра
Пор — индийский правитель, царь Пенджаба; разбит Александром на реке Гидасп
Тигран — командующий персидской конницей, ставший впоследствии другом Александра
К читателю
То, что я предлагаю вашему вниманию, представляет собой не историческое исследование, а художественное произведение. Это, по моему разумению, даёт мне право вводить в повествование, наряду с историческими личностями, вымышленных персонажей. Да и слова, вложенные мною в уста реально существовавших героев, зачастую плод авторского воображения.
Хотя ничто в этой книге, насколько я понимаю, не вступает в противоречие с духом эпохи Александра, я позволил себе, стремясь к наилучшему раскрытию темы и исходя из интересов повествования, кое-где (где это показалось мне несущественным) немного отступить от непреложных исторических фактов. Так, речь, произнесённую, согласно Арриану, Александром в Описе, я превратил в его панегирик Филиппу. У меня Парменион присутствует в Экбатанах, тогда как, согласно Курцию, он в то время оставался в Персеполе. Обращение к войскам, по моей версии имевшее место при Гидаспе, в действительности имело место у Гифаса, а войсковая петиция в изложении Коэна, согласно Арриану, была подана раньше, чем это происходит у меня. Для искушённого читателя повторю, что все эти неточности проистекают не из неведения и уж тем более не коренятся в простой небрежности, а допущены сознательно, в интересах художественной правды.
Кроме того, допускаю некоторую вольность в обращении с топонимами, используя такие не существовавшие в тот век понятия, как Афганистан или Дунай, а также с мерами, разумеется не использовавшимися во времена Александра ни греками, ни македонцами, ни народами Востока. Проблема заключается в том, что для некоторых привычных нам понятий (таких, например, как «партизанская война») трудно подыскать иной термин, который являлся бы точным и в то же время не впадал в диссонанс с общим колоритом эллинистической эпохи. Так или иначе, автор надеется, что отступления от исторической правды искупаются приближением к правде духа, и в этом смысле его труд не будет отвергнут даже суровыми пуристами.
Он властвовал над народами, которые не только
не понимали языка, на котором говорил он, но, будучи
объединены, не понимали языков друг друга. Страх,
внушаемый им, был столь силён и распространялся на
столь необъятных просторах, что никто не дерзал
противиться его всеподавляющей воле, и одно его имя
повергало в ужас. При этом он умел внушить столь
сильное желание угодить себе, что все его подданные
подчинялись с готовностью и были рады следовать
его повелениям.
Ксенофонт. Воспитание КираКнига первая ЖАЖДА БИТВЫ
Глава 1 ВОИН
Я всегда был воином. Другой жизни я не знал. С самого детства меня тянуло только к оружию. Иных стремлений у меня не было.
Я делил ложе с возлюбленными, производил потомство, участвовал в состязаниях и буйствовал, напившись допьяна. Я низвергал империи, впрягал в ярмо континенты, был увенчан славой и назван бессмертным среди богов и людей. Но всегда оставался воином.
В детстве я убегал от наставников, предпочитая их поучениям дух казармы. Приятнее всех благовоний были для меня аромат кожи и пота, запахи строевого плаца и конюшни, а скрежет железа о точильный камень ублажал мой слух слаще лучшей музыки. И так было всегда. Иного я просто не помню.
Зная, какова была моя жизнь, можно предположить, что я почерпнул свои умения и познания из опыта, совершенствуя их в походах. Однако следует со всей прямотой заявить: всё, что я знаю сейчас, было мне известно ещё лет в тринадцать. Да что там в тринадцать — в десять! Повзрослев, став военачальником и проведя множество кампаний, я так и не столкнулся ни с чем таким, о чём не размышлял ещё ребёнком. Мальчишкой я инстинктивно примерял характер местности, которую видел, к возможности совершать марш при той или иной погоде. Глядя на складки рельефа, на русла рек и ручьёв, я мысленно прикидывал, с какой скоростью можно было бы провести здесь войска той или иной численности и состава. Мне не приходилось учиться маневрировать и выстраивать войска для боя: эти умения были во мне от природы. Мой отец являлся величайшим полководцем своего времени, но уже в десять лет я заявил, что непременно превзойду его. Что и сделал к двадцати пяти годам.
Юношей я смертельно завидовал отцу и опасался, что он стяжает себе столь великую славу, что на мою долю уже ничего не останется. Если я и боялся чего, то лишь какой-нибудь нелепой случайности, которая помешала бы мне исполнить своё предназначение.
Войско, которое мне выпало возглавить, стало непобедимым, сильнейшим и в Европе, и в Азии. Оно объединило государства материковой Греции и острова Эгейского моря, освободило от персидского ига эллинские колонии Ионию и Эолию, покорило Армению, Каппадокию, Малую и Великую Фригии, Пафлагонию, Карию, Лидию, Писидию, Ликию, Памфилию, Равнинную и Месопотамскую Сирии и Киликию. Великие крепости Финикии — Библос, Сидон, Тир и филистимлянский город Газа — пали перед его натиском. Им были завоёваны богатейшие из персидских владений: Египет, Ближняя Аравия, Месопотамия, Вавилония, Мидия, Сузиана. После захвата самой Персии, сердца величайшей державы, это войско повергло к моим ногам её восточные провинции — Гирканию, Арейю, Парфию, Бактрию, Тапурию, Дрангиану, Аракозию и Согдиану, перевалило через Гиндукуш и вторглось в Индию. На протяжении всего этого боевого пути оно не потерпело ни одного поражения.
Неодолимой эту армию делала не её численность, ибо в каждом сражении она уступала противнику и в коннице, и в пехоте, не блистательное командование, хотя в этом отношении всё обстояло совсем неплохо, и не прекрасно организованное снабжение, без которого самое лучшее воинство не сможет даже существовать, не говоря уж о том, чтобы побеждать. Нет, скорее, наша армия добивалась успехов благодаря воинским качествам её отдельно взятых солдат, а в первую очередь тому их свойству, которое полнее всего выражено эллинским словом «dynamis». В данном случае самым точным его переводом будет «жажда битвы». Ни один полководец, не только моего, но и куда более зрелого возраста, не сподобился такого благоволения фортуны, как я, и не имел счастья командовать столь воодушевлёнными, преданными, отважными и дисциплинированными войсками.
Однако случилось то, чего я больше всего опасался. Наступательный порыв моих людей иссяк, собственные завоевания утомили их, и они, остановившись на берегу той реки в Индии, вдруг поняли, что не хотят её форсировать. Их пыл угас. Им казалось, что они и так зашли слишком далеко. Послышались голоса, требующие возвращения домой.
В первый раз с того момента, как я возглавил армию, мне пришлось вычленить из её состава особые формирования «atactoi», или «недовольных». Самое неприятное заключалось в том, что в их числе оказались не трусы и изменники, не закоренелые нарушители дисциплины, а закалённые в боях и походах, удостоившиеся множества наград ветераны, многие из которых сражались ещё под началом моего отца и его военачальника, великого стратега Пармениона. Эти, казалось бы, проверенные люди стали вести себя столь вызывающе, что я, дабы они не перешли от дерзких слов к действиям, вынужден был сформировать из них особый отряд и поместить под бдительный присмотр верных мне подразделений. Только сегодня за неисполнение приказа мне пришлось казнить пятерых командиров, причём не варваров из вспомогательных сил, а македонцев, моих соотечественников, выходцев из знакомых и ценимых мною семей. Между тем подобные методы претят мне, не только в силу своей дикой жестокости, но и потому, что свидетельствуют о возникновении серьёзной проблемы. Не значит ли это, что отныне я должен буду добиваться повиновения, полагаясь исключительно на запугивание и принуждение? Неужто мой гений пал так низко?
В шестнадцать лет, когда мне впервые довелось возглавить конный отряд, переполнявшие меня чувства оказались столь сильны, что я не смог сдержать рыданий. Мой помощник встревожился и спросил, что меня так огорчило, но зато многие простые бойцы всё прекрасно поняли. Меня несказанно тронул их вид, их суровые, выдубленные ветрами и солнцем лица, их мужественное молчание. Увидев и поняв моё состояние, воины ответили мне преданностью, ибо знали, что сердце моё разрывается от любви к ним. Возможно, найдутся военачальники, равные мне в стратегии, в тактике, даже в доблести, но никто и никогда не превзойдёт меня в любви к своим товарищам по оружию. Более того, мне по-своему дороги даже те, кто провозглашает себя моими врагами. Я презираю низость, коварство и измену, но честного, мужественного противника всегда готов прижать к груди, словно брата.
Люди, не понимающие сути войны, представляют её себе как спор между армиями, между своими и чужими. Спор, в котором чужой всегда враг. На самом же деле война представляет собой поединок каждого из соперников с невидимым врагом, имя которому Страх, и именно победа над ним является для каждой из воюющих сторон истинной, желанной победой.
То, что движет воином, есть «cardia» («зов сердца») и «dynamis» («жажда битвы»). Всё остальное — оружие, тактика, философия, патриотизм, даже благоговение перед богами — на войне не так уж важно. Лишь любовь к славе воодушевляет смертного, возвышая его над себе подобными и делая истинным воином, свирепым, как волк, и могучим, как лев. Без неё мы ничто!
Посмотри туда, Итан. Где-то за той рекой находится Край Света, берег Великого Океана. Наверное, он далеко. Где-то за Гангом, за Хребтом Вечных Снегов. Но я чувствую его, ощущаю его зов. Мне предначертано дойти туда и водрузить львиный стяг Македонии там, куда доселе не ступала нога ни одного царя или полководца. До тех пор, пока сие не свершится, не будет покоя моему сердцу, а значит, и мои воины не вернутся к своим очагам.
Вот почему я призвал тебя сюда, мой юный друг. Днём, когда ко мне обращены взоры всех бойцов, я остаюсь неколебимым и властным, и никому не ведомо, как терзает меня ночами то, что происходит с армией.
Я должен снять с себя бремя. Я должен снова привести в порядок свои мысли. Я должен найти правильный ответ на непростой вопрос: как быть с отчуждением войска от своего военачальника. Мне нужен кто-нибудь, с кем можно поговорить, человек, который не связан с армией, не принадлежит к числу командиров. Тот, кто сможет выслушать меня без предубеждения и будет держать рот на замке. Ты младший брат моей возлюбленной Роксаны, а стало быть, находишься под моим личным покровительством. Среди командиров и бойцов у тебя нет близких друзей, ты ближе ко мне, чем к ним, и не станешь никому пересказывать то, что услышишь от меня. Это одна из причин, побудивших меня доверить тебе свою исповедь. Другая же заключается в том, что в тебе (а я присматривался к тебе с того времени, когда ты в Афганистане присоединился к моему двору) чувствуется тот природный дар воина и командира, который не заменишь ни опытом, ни учением. Тебе уже восемнадцать, и скоро ты получишь командную должность. Как только мы переправимся через эту реку, ты поведёшь воинов в свой первый бой. Моя задача в том, чтобы наставить тебя: пусть в своей стране ты царевич, но здесь лишь ученик в школе войны, и школа эта — мой шатёр.
Но мне следует спросить, согласен ли ты остаться и выслушать мой рассказ. Я не считаю себя вправе вынуждать тебя к этому, ибо то, что мне предстоит тебе раскрыть и доверить, может со временем составить для тебя угрозу. Не сейчас, не при моей жизни, но люди смертны, а те, кто придёт мне на смену, наверняка захотят использовать твои знания в своих целях и интересах.
Итак, готов ли ты послужить своему царю и родичу? Если да, то ты примешь на себя обязательство являться сюда каждый вечер, в этот же или близкий к нему час, когда я буду свободен от своих трудов. Говорить тебе почти не придётся, только слушать, ну и, возможно, исполнять некоторые мои доверительные поручения. Если нет, то я отпущу тебя, не затаив никаких недобрых чувств.
Говоришь, ты польщён оказанным доверием и считаешь его высокой честью?
Что ж, мой юный друг.
Тогда садись. Начнём...
Глава 2 МОЯ РОДИНА
Моя родина — это страна гор и каменистых равнин. Двадцати одного года от роду я покинул её и больше никогда не вернусь назад.
Землевладельцы равнин Македонии считают себя эллинами и потомками Геракла. Жители гор подразделяются на феонийцев и иллирийцев. Горцы служат по преимуществу в пехоте, отпрыски знатных семей с равнин — в коннице.
Вся страна изрыта глубокими ущельями, представляющими собой естественные границы округов или княжеств, которые, в свою очередь, делятся на владения кланов и родов. В каждой долине может проживать до дюжины кланов, и между большинством из них ведутся нескончаемые распри.
«Phratreri», или «кровная вражда», — вот исконный обычай моей страны. Наша традиция запрещает человеку жениться внутри своего клана, так что юноше волей-неволей приходится искать невесту у соседей. Если отец девушки не даёт согласия на брак, жених похищает её. Родители и родственники похищенной устраивают набег с целью её возвращения... и так до бесконечности. Обычная любовная история может положить начало кровавой усобице, продолжающейся из поколения в поколение и уносящей множество жизней. Правда, всё это даёт пищу для создания песен и сказаний. Пройдя полмира, я внимал певцам и сказителям разных народов, но скажу с уверенностью: нигде мне не доводилось слышать мелодий и слов, которые трогали бы за душу сильнее, чем песни моих родных гор. Разрывающие сердца песни, что повествуют о любви и смерти, о кровавой вражде и суровом мщении, о славных подвигах и доблестной смерти.
Каждый горец любит свой клан всепоглощающей, не поддающейся рациональному объяснению любовью. Среди моих командиров есть обладатели богатств, не уступающих сокровищам индийских царьков, однако каждый из них мечтает лишь о том дне, когда сможет вернуться к родному клану и, собрав сородичей у костра, тешить их рассказами о своих походах и подвигах.
Взгляни хотя бы вон туда, на тех трёх воинов рядом с составленным в пирамиду оружием. Эта троица из одного клана: двое из них родные братья, третий — их дядя. А вот те четверо, что расположились неподалёку, принадлежат к клану их кровников. Будь мы сейчас дома, эти парни не сомкнули бы глаз, думая лишь о том, как раскроить друг другу черепа. Однако здесь, в этой чужой, далёкой стране, они лучшие товарищи.
Эллин на юге воспитывается в полисе, городе-государстве с рыночной площадью, народным собранием и защищающими от врагов каменными стенами. Он хороший оратор, но воин из него неважный. Обитатель скифских степей живёт на спине своего коня, кочуя со своими табунами по сезонным пастбищам. Это великолепный наездник, но силы и стойкости у него маловато.
Другое дело — выходец из горного клана. Он твёрд, как каменистая почва его родины, а уж хитёр и живуч, словно змея. Если ты вонзишь ему в живот железную пику, он сам всадит её поглубже, чтобы добраться до тебя, вырвать твоё сердце и сожрать у тебя на глазах. Горец горделив и вспыльчив, ему ничего не стоит зарезать человека из-за сущего пустяка, однако он умеет повиноваться. Это умение внушил ему отец с помощью ремня из бычьей кожи.
Из людей такой породы и получаются самые лучшие солдаты. Мой отец прекрасно это понимал.
Как-то раз, когда, находясь в горах, я отпустил какую-то, казавшуюся мне весьма остроумной, шуточку относительно местных глиноедов, он мигом поставил меня на место.
— Похоже, мой сын из кожи вон лезет, чтобы походить на гомеровского Ахилла, — сказал он находившимся рядом с ним Пармениону и Теламону (оба они, до того как стали служить мне, служили ему). — Наверное, он решил, что раз уж пусть не по моей, а по материнской линии происходит от этого героя, то ему следует собрать собственный отряд мирмидонцев, непобедимых «людей-муравьёв», которые будут счастливы последовать за «лучшим из ахейцев» в Трою.
Рассмеявшись, Филипп добродушно хлопнул меня по бедру и добавил:
— Пусть бы и так, сын, но кем, по-твоему, были эти отважные воины Ахилла, как не такими же неотёсанными невеждами? Нет лучших бойцов, чем выходцы из захолустной Фессалии, грубые, неграмотные, вымоченные в вине и затвердевшие, как копыта кентавра.
Женщины гор почти столь же суровы, как мужчины, что, впрочем, ничуть не помешало отцу добиться благосклонности множества девушек. А в первую очередь их отцов, чьей дружбы он искал всеми возможными способами. По подсчёту моей матушки, у него было тридцать девять жён, из них семь официальных, а уж о числе наложниц и соответственно незаконнорождённых отпрысков можно только гадать. В армии до сих пор ходит старая шутка насчёт того, почему мои солдаты так мне преданы. Они просто не могут бросить меня, потому как чуть ли не все доводятся мне сводными братьями.
В возрасте двенадцати лет мне и моему дорогому другу Гефестиону выпало сопровождать отца при наборе воинов в клане Триеса, владения которого расположены в Гиперасопианских горах. Кручи да пади там такие, что кони калечат ноги, и проехать можно только на мулах. Мой отец пригласил представителей ряда соперничающих кланов, и они явились — все как один пьяные. Но Филипп был рождён для того, чтобы править такими людьми. Он часто похвалялся тем, что ни за пиршественным столом, ни в схватке, ни в постели с девицей ему нет равных, и это не было пустым бахвальством.
В кланах, где чтут мужскую удаль, его любили.
С наступлением темноты вовсю развернулась игра в ловлю свиньи. Здоровенная, размером с пони, хавронья с визгом носилась по просторному, окружённому каменной оградой загону, а мужчины и юноши бегали за ней, стараясь поймать её и овладеть ею. На глазах у меня и Гефестиона один усатый малый с разбегу вскочил ей прямо на шею. Его товарищи, отпуская грубые шутки, стали подначивать его поскорее засадить этой животине свою штуковину. Мой отец, сам вымазавшийся в навозе с головы до ног, веселился вместе со всеми. Усатый малый барахтался со свиньёй в луже, а его товарищи покатывались со смеху. После того как ему наконец удалось сделать своё дело, свинью закололи: она стала основным блюдом на продолжавшемся всю ночь пиршестве.
На следующий день, на обратном пути, я спросил у отца, как может он поощрять подобное зверство в людях, которых ему предстоит вести в бой.
— А война и есть зверское дело, — не задумываясь ответил он.
Этот ответ вызвал у меня возмущение.
— По-моему, свиньи и то лучше этих людей! — воскликнул я.
Филипп рассмеялся.
— Если ты, сын мой, составишь войско из свиней, ты не выиграешь ни одного сражения.
Гений моего отца заключался в том, что он умел сплотить этих необузданных, диких горцев в дисциплинированную современную армию. Он смекнул, насколько полезным может оказаться превращение людей, всю жизнь остававшихся рабами межплеменной вражды и кровной мести, в членов нового, единого сообщества, в котором положение человека зависит не от его принадлежности к той или иной родовой общности, а единственно от его отваги и доблести. И действительно, в рамках воинского содружества все их природные качества — верность клану, невежество, упрямство, дерзость и жестокость — преобразовывались в преданность вождю, стойкость, мужество, самоотверженность и наводящую ужас суровость по отношению к врагу.
Македонцы Филиппа издавна считались самыми свирепыми и неистовыми бойцами на свете. И не только потому, что каждый из них возрос на этой суровой, каменистой земле, а мой отец и его великие полководцы Парменион и Антипатр вымуштровали их так, что по умению маршировать и держать строй, по скорости, маневренности и владению оружием им не было равных ни среди ополченцев эллинских полисов, ни среди наёмников, служивших под знамёнами монархов Азии, но и прежде всего потому, что им не было равных по части «dynamis». Эта жажда битвы проистекала из их бедности, грубости и ненависти к богатым и культурным соседям, до прихода Филиппа презиравшим их как невежественных дикарей. Подобно легендарным героям Спарты, эти люди никогда не спрашивали, велики ли силы противника, но интересовались лишь тем, где эти силы находятся.
Мой отец никогда не обучал меня воинскому делу как таковому. Скорее он погрузил меня в него, как бросают в воду ребёнка, желая научить его плавать. В двенадцать лет я ходил в бой под его присмотром, в четырнадцать получил под начало пехотный отряд, а в шестнадцать — кавалерийский. Видел бы ты, какая гордость и радость были написаны на его лице, когда я показал ему мою первую рану: в Родопах, в схватке с фракийцами из долины Нестус, мне насквозь пробили копьём плечо.
— Болит? — спросил он на скаку, преследуя побеждённых, а когда я ответил, проревел: — Хорошо, так и должно быть!
А потом, уже обернувшись к окружавшим его командирам и бойцам, горделиво добавил:
— Мой сын получил удар спереди, как подобает воину.
Думаю, отец любил меня гораздо сильнее, чем показывал и чем мне казалось. Я тоже любил его и так же, как он сам, наверное, виноват в том, что был излишне сдержан в проявлении родственных чувств. Как-то раз, мне тогда было семнадцать, он, разозлившись, бросился на меня с мечом и проткнул бы насквозь, если бы, будучи вдрызг пьян, не грохнулся на пол. Я, со своей стороны, тоже схватился за кинжал и готов сказать, что в тот момент вполне мог пустить его в ход. Через некоторое время после этого моей матери пришлось удалиться в Эпир, ко двору своих родственников, и я нашёл прибежище среди иллирийцев. Уже тогда, в юношеском возрасте, по части амбиций я превосходил даже отца. Все это видели, и я понимал (а точнее, понимала моя мать), что, как говорится в старой поговорке: «Двум львам на одном холме не ужиться».
Когда мне минуло двадцать, царя Филиппа убили, и вооружённый народ возвёл на престол меня. В ту пору я редко вспоминал отца, зато в последнее время он не идёт у меня из головы. Мне недостаёт его. Я бы спросил у него совета. Как бы он поступил, случись ему столкнуться с неповиновением, с каким столкнулся я здесь, на равнине Пенджаба? Какие средства нашёл бы он для того, чтобы заново воодушевить отступников?
И как, во имя бездны Аида, мне переправиться через эту реку?
Глава 3 ИНДИЯ
Гефестион прибыл с Инда вовремя и смог увидеть казнь. Два предводителя отрядов и два младших командира из числа «недовольных» были преданы мечу. Гефестион явился на казнь прямо с марша, не задержавшись даже чтобы утолить жажду, и во время процедуры держался невозмутимо, но позднее, в моём шатре, его пробрала такая дрожь, что ему пришлось сесть. Гефестиону тридцать, он старше меня на девять месяцев, и мы с ним дружим с самого детства.
Это он завёл разговор о «недовольных», о тех, кого я приказал вывести из состава их подразделений. На всю армию их всего-то человек триста. Казалось бы, число ничтожное, но это не так. Однако именно эти люди, закалённые, славные своей доблестью, ветераны многих походов и битв, пользуются в войсках таким авторитетом, что я не мог бы позволить себе ни просто содержать их в лагере под стражей (где бы они лишь распространяли заразу неповиновения), ни уволить со службы и отправить по домам (такое решение поощрило бы тех, кто сочувствовал непокорным, но не решался заявить об этом открыто). Расформировывать «недовольных» и распределять по разным подразделениям после того, как я сам вывел их из состава лояльных отрядов, было бы, мягко говоря, непоследовательно. Признаться, я только о том и думаю, как с ними поступить. От этих мыслей у меня голова идёт кругом, тем паче что именно сейчас мне больше всего пригодились бы и их опыт, и их умение, и их доблесть. Именно сейчас, когда предстоит форсировать эту проклятую реку.
Палатки с колышками в Индии не в ходу. Здесь слишком жарко. Мой шатёр представляет собой скорее навес, открытый со всех сторон, чтобы продувал ветерок. Так прохладнее. Правда, ветер так и норовит снести прочь бумаги, каждый клочок приходится прижимать грузом. Даже мои карты и те норовят улететь домой.
Оглядевшись по сторонам, Гефестион примечает, из кого состоит царская свита, и говорит:
— Что, обходишься без персов?
— Я от них устал.
Мой друг молчит, но я знаю, что он испытывает облегчение. С его точки зрения, то, что я предпочёл видеть близ своей персоны соотечественников, говорит о моём желании вернуться к истокам. К моим македонским корням. Он, конечно же, не оскорбит меня благодарностью, но я вижу, что друг доволен.
Гефестион является вторым по значению военачальником в экспедиционных силах, а следовательно, и во всей армии. Вторым после меня. Многие яростно ему завидуют. Кратер, Пердикка, Коэн, Птолемей, Селевк — все они считают себя лучшими полководцами, чем он. И правильно считают: так оно и есть. Но для меня Гефестион стоит многих. Если он бодрствует, я могу спать. Если он на фланге, мне не нужно смотреть ни вправо, ни влево. Его личная ценность превыше всякого военного искусства. Он захватил более сотни городов без кровопролития, исключительно благодаря дипломатическому умению. Терпимость и милосердие, которые, будь они присущи человеку помельче, воспринимались бы как слабость, для него настолько естественны, что это обезоруживает даже самых высокомерных и предубеждённых вождей противника. Ему свойственно удивительное умение преподносить этим правителям реальность их положения таким образом, что они сами начинают верить, будто склоняются к присоединению (слова «подчинение» я предпочитаю избегать) не под давлением и даже не по его предложению, а по своей собственной инициативе. Право же, иные из них начинают проявлять приверженность нашему делу столь рьяно, что их приходится унимать. Благодаря его усилиям в сотне столиц, куда вступали наши войска, их встречали на улицах толпы, охрипшие от ликующих криков. Без него эти города пришлось бы брать с боем, что неизбежно увеличило бы наши потери раз в десять. Ну а уж личной доблестью он не уступит никому: на его теле девять тяжёлых ран, и все они, разумеется, были нанесены спереди. Гефестион выше меня ростом, привлекательнее лицом, он превосходный оратор, умеющий почувствовать и понять, чего ждёт народ в каждой из завоёванных нами стран. Только одно не даёт ему стать равным мне. В нём нет и капли чудовища.
За это я его люблю.
А во мне живёт чудовище. Так же, как и во всех моих полевых командирах. Гефестион философ, а они воины. Он благородный соперник, а они убийцы. Пойми меня правильно: он опустошал целые провинции и не раз лично возглавлял массовую резню, но это не коснулось его души. В глубине её Гефестиону удалось остаться добрым человеком. Чудовище не поселилось в нём, а потому он не может оставаться равнодушным к чудовищным поступкам. Он страдает от этого, тогда как я — нет. Кроме того, расправы устрашают его. Я без восторга отношусь к такого рода мерам из-за их малой эффективности, а ему они ненавистны в силу их жестокости. Для меня случившееся обыденно, а он заглядывает в глаза каждому из приговорённых и умирает с ним вместе.
— И кого ты теперь поставишь командовать? — спрашивает он, имея в виду отряды «недовольных».
— Не знаю. Теламон обещал привести двоих молодых командиров. Останься, посмотрим, что они собой представляют.
Входит Кратер, и моё настроение слегка поднимается. Из всех моих военачальников он самый изобретательный и самый суровый. Казни его ничуть не волнуют. У него прекрасный аппетит, он рыгает и портит воздух и, конечно же, на все лады клянёт здешнюю жару. Выдаёт витиеватую бранную тираду насчёт того, каким бы дерьмовым способом переправить всю эту ошалевшую от зноя и пота армию на тот берег. Он подходит к кувшину с водой.
— Итак, — говорит он, поливая себе лицо и шею, — какие великие вожди замышляют наш разгром сегодня?
Принято говорить, что солдаты всё равно что дети. А я скажу так: военачальники и того хуже. К безответственности и неуправляемости рядового солдата в старшем командире добавляются такие «ценные» качества, как гордыня, обидчивость, упрямство, жадность, самонадеянность и двуличие. У меня есть полководцы, которые не дрогнут перед ордами ада, однако ни за что не решатся сказать мне в глаза, что допустили где-то промашку и нуждаются в моей помощи. Мои высшие военачальники готовы повиноваться мне, но ни в коем случае не друг другу. Они ссорятся и соперничают, как женщины. Спроси, опасаюсь ли я, что они взбунтуются, и получишь ответ: ни в коем случае. По той простой причине, что их взаимная ревность и недоверие никогда не позволят им не только сговориться, но и просто провести под одной крышей достаточно времени, чтобы замыслить моё свержение.
Дай им волю, ни один из них не омочил бы ног в этой реке. Каждый из них смотрит назад, на уже завоёванные земли. Они спят и видят себя правителями покорённых стран. Пердикка мечтает о Сирии, Селевк мечтает о Вавилоне, а что до Птолемея, так того уже открыто зовут «египетским фараоном». А вот уж чего ни один из них точно не желает, так это пускаться в новые приключения, рискуя получить копьё в живот. Ну что ж, трудно винить их в этом. Они прошли долгий путь, оставили за собой горы трупов и теперь желают воспользоваться плодами своих трудов.
Так или иначе, из одиннадцати моих высших командиров я доверю свою жизнь только двоим — Гефестиону и Кратеру. Ненавидят ли меня остальные? Напротив. Они меня обожают.
Да, друг мой, этот аспект военного искусства не отражён в руководствах. Я имею в виду соперничество внутри войска, противоречия в собственном лагере. Молодой, только что получивший под начало свой первый отряд командир думает, будто бы царь управляет своей армией. Как бы не так! Это армия управляет царём. Он должен постоянно поддерживать в бойцах боевой дух и хорошую физическую форму, заботиться о том, чтобы они чувствовали уверенность (но не чрезмерную, ибо таковая порождает дерзость), не допускать нарушений дисциплины и в то же время проявлять великодушие и щедрость. Не только давать возможность вдосталь пограбить, но и осыпать отличившихся бойцов почестями и наградами, создавая при этом все условия для того, чтобы они могли быстро спустить все заработанное ратными трудами на вино и шлюх. Ведь тогда их снова потянет в поход, за добычей.
Командование армией походит на борьбу со стоглавой гидрой: ты отсекаешь одну голову, но остаётся ещё девяносто девять, а на месте отсечённой вырастают две. И чем дольше находится армия в походе, чем дальше остаётся родная земля, тем труднее эта борьба. Для тех, кто участвует в этом походе с самого начала, он продолжается уже девять лет, у многих из них за это время выросли дети, а у иных уже появились внуки. Они добывали и транжирили целые состояния, а пробуждать и поддерживать в них желание идти дальше приходилось и приходится мне. Сами они на это не способны. Я должен играть перед ними, как актёр пред публикой, любить их и направлять на верный путь, как хороший отец направляет своевольных сынов. Однако выбор командующего ограничен. В конечном счёте получается, что он может вести свою армию только туда, куда она сама пожелает идти.
— Ну, а вообще-то, — подаёт реплику Кратер, — получилось не так уж плохо.
Он имеет в виду казни.
Не плохо?
— По-моему, толпа осталась довольна представлением.
— Ну и ладно, дело сделано. Те двое, за которыми ты посылал, находятся снаружи.
Мы выходим из-под навеса. Впечатление такое, будто залезли в печь.
Два молодых командира поджидают, сидя верхом. У обоих самый низкий командный чин, но зато ни тому, ни другому пока не предъявлялось никаких обвинений. Теламон привёл их ко мне по моему приказу.
Я смотрю на них, надеясь, что у них хватит крепости духа справиться с новым поручением. Младший из них родом из Пеллы, из Старой Македонии, старший из Антемоса, что в новых провинциях. Мы едем вдоль береговой насыпи. Я намереваюсь устроить этим молодцам испытание.
Этого молодого человека я знаю. Его зовут Ариббас. Отец и брат этого Ариббаса, прозванного товарищами Вороной, оба командиры царских телохранителей, пали при Гавгамелах, а ещё двое родных братьев и один двоюродный, все закалённые, не раз награждённые ветераны, продолжали нести службу. Сам Ворона с четырнадцати до восемнадцати лет служил мальчиком свиты при моём шатре, он умеет читать и писать и в своём лёгком весе считается лучшим борцом в лагере. Матиас постарше, ему около тридцати. Этот служака, из тех, кого в войсках называют «мулами», происходит из обедневшей знати присоединённого нами Херсонеса. У него есть женщина, изумительная красавица из Бактрии, оставившая свой народ и последовавшая за ним: мне говорили, что как раз она-то и питает его амбиции. Оба отличаются изрядным рвением, оба храбры и находчивы.
Я указываю на вражеские укрепления за рекой и интересуюсь у Матиаса, как бы он построил атаку.
Ширина реки более полутора тысяч локтей. Она слишком глубока для форсирования вброд, а преодолеть её вплавь трудно из-за слишком сильного течения. Значит, брать эту преграду придётся на лодках и плотах. Приблизившись на пару сотен локтей, мы окажемся под обстрелом лучников вражеских башен, последние сто локтей нас будут буквально засыпать стрелами, а одолев это расстояние, мы уткнёмся в берег. Обрывистый, глинистый берег в пять локтей высотой, вдоль которого тянется вдвое более высокий вал, утыканный кольями и шипами. Длина этого вала составляет тридцать стадиев. Ну а позади вала нас дожидается царь Пор со своими боевыми слонами и индийскими «кшатриями», принадлежащими к воинской касте, а потому обучающимися боевым искусствам с раннего детства. Они славятся как лучшие в мире стрелки из лука. А всего у Пора сто тысяч человек.
Младший командир поворачивается, чтобы встретить мой взгляд.
— Что ты хочешь узнать, царь? Как поступил бы я, будучи на твоём месте, или как бы действовал самостоятельно?
Теламона такая дерзость смешит. Я закусываю губу и спрашиваю проверяемого, в чём разница.
— Разница в том, — отвечает он, — что, будь во главе войска я, оно всё равно не смогло бы форсировать реку на виду у столь сильного и готового к атаке противника. Никакой план тут бы не помог. Но если войска поведёшь ты, они одолеют все преграды с лёгкостью, хотя наши бойцы устали, оголодали и пообносились.
— Почему? — интересуюсь я.
— Зная, что твой взгляд обращён на них, все воины будут соперничать друг с другом в доблести, стремясь заслужить твоё одобрение, значащее для них больше жизни. Кроме того, царь, ты, сражаясь в первых рядах, будешь личным примером побуждать каждого превзойти себя. Любой будет стыдиться именовать себя воином Александра, не доказав себе и товарищам, что он достоин такой чести.
Матиас умолкает, после чего Кратер громко фыркает и говорит, что странно слышать столь неприкрытую лесть от командира, принадлежащего к подразделению, склонному к своеволию, а по последним слухам, даже к мятежу.
Молодой человек хотя и почтительно, но с жаром возражает ему. Это естественно, ни один воин не останется равнодушным к упрёкам в адрес его товарищей.
— К чему бы мы там ни были склонны, — говорит он, — царь всегда ставил перед нами самые трудные задачи, и мы всегда выполняли их, не щадя жизни. Или, может быть, тебе известны случаи, когда дело обстояло иначе?
В этом чувствуется dynamis, что не может не радовать.
Теперь я обращаюсь с тем же вопросом к другому молодому воину. К Ариббасу по прозвищу Ворона.
— Во-первых, — отвечает он, — прежде, чем бросать армию в рискованную атаку, я бы испробовал мирные средства. Говорят, будто этот раджа, Пор, человек сметливый и практичный. Почему бы не попробовать с ним договориться?
Предложить ему остаться царём под нашим суверенитетом или просто заплатить ему за право прохода наших войск по его территории. Не исключено, что у Пора имеются враги, которых он ненавидит и боится больше, чем нас. В таком случае у него может появиться заинтересованность в военном союзе, направленном против этих недругов. Мы можем пообещать ему владения соперников, побеждённых нашими совместными усилиями. Зачем ему преграждать нам путь, если наша армия, пройдя через его царство, лишь увеличит его владения и богатства, а сама двинется дальше, на восток?
«Надо же, как у этого паренька всё просто», — думаю я.
— Что-нибудь ещё?
— Да, царь... эта река. Так ли уж нам нужно форсировать её именно здесь, напротив укреплённого берега, под обстрелом? Если уж переправляться, то почему не в ста стадиях к северу? Или в двухстах, или в тысяче? Да и вообще, если нам мешает река, то почему бы нам и не разобраться именно с ней?
— Это каким образом?
— Можно прорыть каналы и отвести её воды в другое русло, на западные равнины. Так, как поступил Кир Великий у стен Вавилона. Пусть кавалерия галопом движется вперёд по высохшему речному ложу.
— Ну-ну, может быть, в этом есть смысл, — роняет Теламон.
Кратер постукивает по своему нагруднику, изображая насмешливые аплодисменты.
Я, желая умерить их пыл, указываю на набухшую от недавних дождей реку.
— Чтобы отвести её, потребуется десять армий.
— Ну так что же, значит, надо собрать десять армий. Я, например, предпочитаю пролить бочку солдатского пота, чем напёрсток крови. Чтобы справиться с Тиром, потребовалось полгода. Давайте задержимся здесь на два года, если уж без этого никак. Но вот что ещё важно, о царь: дерзость наступающих. Безрассудная смелость может повергнуть противника в страх и заставить его поверить в то, что ему довелось столкнуться с неприятелем, невиданным ранее. С армией, не имеющей себе равных по боевому духу, а потому обречённой на победу. А поверив в это, он станет сговорчивее.
— Твои победы, о царь, — поддерживает молодого командира его товарищ постарше, — научили всех нас видеть в противниках возможных союзников. Зачем проливать кровь смелых и умелых воинов и заставлять их проливать кровь наших товарищей, если при правильном подходе они могут маршировать с нами в соседних колоннах? В конце концов, не сводится же цель этого великого похода, в котором мы разбили столько армий и покорили столько царств, только к тому, чтобы всех их разбить и покорить?
Прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца, я присматриваюсь к обоим командирам.
Старшему из них, Матиасу, как я уже говорил, под тридцать. У него густая каштановая борода, а глаза заставляют вспомнить образ Диомеда в усыпальнице героев, что в Леокадии. Тому, который помоложе, Вороне, очевидно, нет и двадцати двух. Он безбородый, поджарый, как гончая, а весь его облик красноречиво свидетельствует о целеустремлённости и смекалке.
Оба они, каждый по-своему, мне нравятся.
— Вы, двое, примете командование «недовольными», — говорю я им и, не дожидаясь благодарностей, продолжаю: — Хочу, чтобы все поняли, почему я считаю необходимым форсировать эту реку. Хвала богам, там, на валах, нас ждёт самый достойный противник, какого мы не встречали с самой Персии. Посмотрите на меня, друзья мои. Думаете, меня не раздражает этот затянувшийся, нескончаемый марш, перемежающийся мелкими, не сулящими славы стычками и осадами? Но там, на том берегу, нас ждёт царь Пор со своими кшатриями... Я люблю его! Он вернул меня к жизни! И ему же предстоит воодушевить войско, включая и ваш отряд. Перед лицом такого неприятеля люди снова вспомнят о том, что они солдаты!
Глава 4 ТЕЛАМОН
Когда я был мальчиком, у меня было два наставника. Аристотель учил меня рассуждать, Теламон учил действовать. Ему было тридцать три. Мне семь. Никто не приставлял Теламона ко мне специально: скорее, я привязался к нему и ни в какую от него не отходил. Он казался, да и по сию пору кажется живым воплощением идеального солдата. Бывало, во время строевых учений я таскался за ним, подражая его походке так, что бойцы покатывались со смеху. Однако ни о каком неуважении или передразнивании с моей стороны тут не могло быть и речи. Мне лишь хотелось ходить, стоять, ездить верхом так, как это делал он. Теламон происходил из Аркадии, с юга Эллады. Моя мать желала привить мне чистое аттическое произношение и сокрушалась из-за того, что я всё время сбивался на тягучий, аркадский выговор. Тогда Теламон был десятником, теперь он командует армиями, но мне по-прежнему бывает трудно выманить его с поля в штабной шатёр. Его представление о хорошем завтраке сводится к ночному маршу, а о хорошем обеде — к лёгкому завтраку.
В десять лет я попросил Теламона объяснить мне, что значит быть настоящим солдатом. Он и объяснил, но отнюдь не словами. Вместо того чтобы втолковывать мне азы военного дела, Теламон на три дня взял нас с Гефестионом в зимние горы. При этом мы всю дорогу не могли добиться от него решительно никаких объяснений, как будто быть солдатом означало играть в молчанку.
Ночью мы промёрзли до костей, как будто быть солдатом означало уметь сносить лишения. Значило ли это, что он преподнёс нам первые уроки военного дела, сводившиеся к тому, что воин должен молчать, выполнять приказы, терпеть лишения и не задавать вопросов?
В третий вечер похода мы наткнулись на волчью стаю, выгнавшую оленя на лёд замерзшего озера. Теламон, подхлёстывая коня, галопом поскакал к озеру. В пурпурном закатном свете мы наблюдали за тем, как развернувшаяся веером стая преследовала добычу, направляя беглеца то в одну, то в другую сторону, не давая ему прорваться к берегу, под защиту деревьев. Олень превосходил волков быстротой бега, но они сменяли один другого, а он уставал. Наконец один из них перекусил оленю подколенное сухожилие: он рухнул на лёд, и вмиг стая набросилась на него. Мы с Гефестионом и охнуть не успели, а волки уже пожирали добычу.
— Вот это солдаты, — заявил Теламон.
Позже, уже в одиннадцать лет, я видел, как Теламон (служивший в ту пору под началом моего отца) проверял сформированный им отряд перед походом на одно из племён. Велев каждому бойцу положить к ногам свою заплечную котомку, он обошёл строй и выбросил всё, с его точки зрения, лишнее. По окончании проверки у солдат не осталось ничего, кроме глиняной миски, железного вертела и хламиды, предназначенной служить и плащом, и одеялом.
Теламон учил тому, что в солдатском вещевом мешке нет места всякому хламу. Например, надежде. Мечтам о будущем. Воспоминаниям. Страху. Угрызениям совести. Нерешительности.
Накануне битвы при Херонее, когда мне в восемнадцать лет впервые доверили командовать отрядом тяжёлой кавалерии, состоящей из гетайров — «истинных товарищей» или «друзей» царя, и мы с Гефестионом обходили строй, нам вспомнилось поучение нашего наставника. И показалось более чем странным: как может солдат идти в бой, не видя пред собой надежды? Нас самих переполняли самые радужные ожидания, ну а уж мы, со своей стороны, постарались передать этот настрой бойцам, разжигая в них жажду славы, богатства и господства над всей Элладой. Когда штабной писец, заносивший на папирус завещание каждого солдата, предложил составить таковое и нам, мы с Гефестионом покатились со смеху. Примерно такова же была и реакция наших молодых бойцов.
— Оставь мои яйца Антипатру, — гоготал один.
— А мою задницу завещаю на армейские нужды, — надрывался другой.
Я уж совсем было собрался отпустить шуточку позабористей, но тут Чёрный Клит спросил:
— Александр, а кому достанется твой конь?
Он имел в виду Буцефала, скакуна, стоившего дороже десяти пожизненных жалований.
Вот тут меня проняло. Мысль о возможной скорой разлуке с конём мигом отрезвила меня, и я наконец понял, что имел в виду Теламон.
Идя в бой, воин должен помнить, что итог каждой схватки ведом только богам. А значит, ему не стоит брать с собой столь никчёмный багаж, как мысли о богатстве, славе, даже о смерти. Надобно отбросить всё это прочь и атаковать налегке, положившись на судьбу. В этом нет никакой тайны. Все поступают именно так. Им приходится, или они не смогут сражаться. Вот почему Теламон потрошил солдатские мешки и таскал с собой сопливых мальчишек к замерзшим вершинам, чтобы показать им, как стая хищников вершит холодное убийство.
В другой раз, уже юношами, мы с Гефестионом поинтересовались у Теламона, есть ли в солдатской котомке место для самообладания.
— На самом деле, — ответил он, продолжая зашивать продырявленный плащ, за каковым занятием мы его и застали, — самообладание, которое так восхищает в манере держаться, присущей настоящим воинам, есть лишь внешнее проявление внутреннего совершенства. Таких достоинств, как терпение, мужество, самоотверженность. Возможно, солдат вырабатывает их, чтобы получить превосходство над воинами противника, но в первую очередь они нужны для победы над врагами в самом себе: безалаберностью, жадностью, неряшливостью, зазнайством и тому подобными. Каждому следует осознать, что он тоже участвует в этой борьбе, и каждый должен стремиться стать истинным воином, как ревностный ученик стремится перенять всё у мудрого учителя. Подлинный воитель бывает способен одолеть врага, не нанося удара, просто силою своего превосходства. И не только одолеть, но превратить его в союзника, в друга, даже в своего раба.
Тут наш ментор обернулся к нам и с улыбкой добавил:
— Как я сделал с вами.
Здесь и сокрыт ключ.
Может быть, те простые, усвоенные мною в детстве добродетели и позволили мне вместе с армией проделать весь этот путь. Возможно, в них заключается и выход из создавшегося положения. Время поджимает. Солдаты не будут ждать, как не будет ждать и эта река.
Давай же, мой юный друг, вернёмся назад по этому долгому пути. Я — дабы поведать, ты — дабы внимать. И начнём с самого начала. С Херонеи.
Книга вторая ЛЮБОВЬ К СЛАВЕ
Глава 5 КОСОЙ СТРОЙ
Херонея — это равнина к северо-западу от Фив. Здесь в свои сорок пять лет (мне тогда было восемнадцать) Филипп повёл Македонскую армию против объединённых сил Эллады. В его жизни это была последняя великая битва, а в моей — первая.
Простирающаяся на север и северо-восток Херонейская долина поросла лавандой и другими ароматными травами. На южной её оконечности находится возвышение с укреплённым акрополем, а на северной, как раз напротив, гора Аконтион. Войско, наступающее с северо-запада, вступает на равнину в самой широкой её части, где она простирается более чем на шесть тысяч локтей. Если вы переправляетесь через Кровавую реку, справа от вас будет поток, именуемый Цепис. Именно в него эллины упёрлись своим левым крылом, тогда как правое подпирала городская цитадель. Фронт противника имел в длину около двадцати стадиев, или примерно двадцать восемь сотен щитов.
Херонея являлась местом сражений на протяжении столетий, ибо, как и соседние равнины, такие как Танагра, Платея, Лектра, Коронея и Эритрея, самой природой была предназначена стать театром военных действий. Именно здесь писалась история Эллады. Тысячу лет умирали солдаты на этих полях, орошая их кровью.
Но сегодня здесь предстояло разыграться битве совершенно нового типа: отец твёрдо вознамерился положить конец доселе неоспоримому превосходству эллинов. Мы, те, кого Демосфен Афинский пренебрежительно именовал «народом сомнительного происхождения», те, кого сыны Греции почитали чуть ли не скифами, были исполнены решимости не просто вырвать у Эллады пальму первенства, но и стать эллинами. С сегодняшнего дня именно мы будем оплотом и опорой эллинской цивилизации.
Численность неприятельских сил колеблется между тридцатью пятью и сорока тысячами, наши чуть-чуть не дотягивают до сорока. Сил противника достаточно для того, чтобы выстроить пехоту по всему фронту, с глубиной строя от восьми до шестнадцати щитов.
Сливки эллинского воинства представляет собой «священный отряд». В нём три сотни воинов, и он, как утверждают поэты, составлен из любовных пар. Замысел состоит в том, чтобы каждый сражался как одержимый, боясь опозориться в глазах возлюбленного, и уж, конечно, не бросил его в беде.
Впрочем, в глазах Теламона такой способ комплектования отрядов не выдерживает критики.
— Если поверить, будто лучший способ получить настоящего солдата заключается в том, чтобы трахать товарища по оружию в задницу, самой распространённой командой у десятников должно стать: «Раком ста-но-вись!»
Мой отец, которому в молодости довелось провести в Фивах три года в качестве заложника, тоже смеётся над этими поэтическими бреднями.
— При таком подходе половина отряда состояла бы из безусых мальчишек с нежными ягодицами, но разве из них составишь ударную силу? Нет, в этом отряде — храбрейшие, самые умелые бойцы из знатнейших семей Фив, включая шестерых чемпионов Олимпиад и ещё десяток атлетов, стяжавших награды на иных Играх.
Как известно, расходы по содержанию «священного отряда» полностью несёт государство, и состоящие в нём освобождаются от всех гражданских обязанностей, кроме подготовки к войне. Говорят, что фиванские красавицы тщетно пытаются привлечь внимание этих воителей, ибо, согласно заявлению их соотечественника Пиндара, «своей невестою они избрали Битву и ей верны до самого конца».
Все воины «священного отряда» — это гоплиты, тяжеловооружённая пехота. Каждый имеет шлем из железа или бронзы (шесть фунтов), сплошной бронзовый панцирь, закрывающий грудь и спину (двенадцать фунтов), поножи (по два фунта каждая) и круглый, два локтя в поперечнике, щит, сработанный из обитого бронзой дуба. Иными словами, одни лишь доспехи такого воина весят от тридцати четырёх до тридцати шести фунтов, и это не говоря о мече и копье (ещё десять фунтов), плаще, хитоне и обуви. Эллинский гоплит защищён надёжнее любого другого пехотинца мира. Когда воины поднимают щиты так, что над их кромками становятся видны лишь глазные прорези шлемов, «священный отряд» предстаёт перед противником как сплошная стена из бронзы и железа.
Принято считать, что «священный отряд» состоит ровно из трёхсот гоплитов, но это справедливо разве что в отношении парадов. На поле боя выходят двадцать четыре сотни. Каждого гоплита подкрепляют семь пеших ополченцев: вместе они составляют боевую единицу из восьми человек. С учётом резервных подразделений, позволяющих довести глубину построения до шестнадцати шеренг, боевое построение составляет сорок восемь сотен бойцов. Кавалерии в отряде нет вовсе, и конной атаки он не боится. Фиванцы считают, что против закованной в бронзу, ощетинившейся копьями фаланги конница бесполезна.
Как и все отборные пехотные подразделения южных эллинов, отряд сражается в плотном строю. Главным оружием воинов являются восьмифутовые копья, которыми они наносят удары из-за щитов, а в ближнем бою они пускают в ход короткие, спартанского образца мечи, которыми можно как колоть, так и рубить. Отряд идёт в бой под мелодию флейты, а среди его командных сигналов нет сигнала к отступлению. Его девиз: «Стой и умри». В нём служат лучшие пехотинцы Эллады, а значит, и всего мира. Вместе с десятью тысячами «Бессмертных» царя царей Персии «священный отряд» представляет собой одно из лучших воинских формирований мира.
Сегодня он будет уничтожен. Мною.
Это, как я понял, моя задача. В Фессалии, возле Фер, где войско Филиппа сделало последний привал перед броском на юг, к Херонее, мой отец запланировал устроить учения в условиях, приближённых к боевым. Предполагалось, что манёвры проведут на рассвете, но ни утром, ни днём, ни вечером, ни после полуночи никаких приказов так и не поступило. Только после третьего караула нам приказали строиться, что мы и стали делать, толкаясь и чертыхаясь в кромешной тьме, под ругань десятников и сотников. Разумеется, именно это Филипп и задумал: он хотел бросить солдат в условный бой неожиданно, усталых, голодных, застав их справлявшими нужду или делавшими что-то в этом роде. Как мог бы застать враг.
В последнюю минуту он прибыл сам, сопровождаемый половиной «друзей», тысячью бойцами лёгкой фессалийской конницы и тремя сотнями фракийских копейщиков. Поначалу прибытие массы конных лишь усилило беспорядок. Поблескивающая луна освещала мокрую и всё ещё затянутую пеленой мелкого дождя долину.
— Чехлы долой! — выкрикнул Филипп, и его команда, передаваемая через сотников и десятников, прокатилась по рядам. Воины принялись снимать с наконечников саррисс, копий длиной в дюжину локтей, проложенные промасленной шерстью покрытия. И в тот же миг, как только капли дождя упали на отточенное железо, всё переменилось. У воинов возникло ощущение боя. Теперь каждому пехотинцу надлежало проявлять осторожность. О толкотне не могло быть и речи, ибо каждый из них, допустив неловкость, запросто мог бы наконечником отхватить товарищу ухо, а то и выколоть глаз.
Филипп приказал также расчехлить и щиты. Стягивая с них чехлы из бычьих шкур, бойцы ругались, ибо знали, сколько трудов потребуется на то, чтобы после дождя заново отполировать бронзу.
Лошади мочились, вонь от дерьма, и конского и солдатского, смешивалась с перегаром, выдыхавшимся всадниками, а резкий запах травы перебивал запах смазки на железе, наводивший на мысль о битве, как ничто другое.
Мой отец занял позицию на холме, под усыпальницей Алквиада. Мы с Гефестионом и Клитом Чёрным, превосходным командиром, впоследствии получившим под начало царскую «сотню» из отряда «друзей», тоже верхом встали по левую руку от него и его высших военачальников, Пармениона и Антигона Одноглазого. Остальные полководцы собрались справа и за его спиной. Филипп объявил диспозицию, но по одному, важнейшему, вопросу приказа пока не было. Кто сподобится высокой чести выступить против «священного отряда»?
Филипп этот пункт пропустил: не прозвучало даже намёка. Все крепились, но под конец Антигон не сдержал своего нетерпения.
— А кто займётся «священным отрядом»? — громко спросил он.
Царь, словно бы не услышав вопроса, отдал ещё несколько распоряжений, а потом, словно мимоходом, сказал:
— А, фиванцы? Их возьмёт на себя мой сын.
То был первый (и единственный) раз, когда Филипп высказался на сей предмет в моём присутствии. Правда, тогда, обращаясь не столько ко мне, сколько ко всему ближнему кругу, он сказал, что я получу в своё распоряжение четыре отряда тяжёлой пехоты, всего шесть тысяч человек, и корпус «друзей» в полном составе. Гефестиона последнее сообщение привело в ярость. Он решил, что отец предоставляет в моё распоряжение столь крупные силы, чтобы умалить мою славу.
Я, однако, сказал, что он плохо знает моего отца и что перед самым началом сражения он наверняка заберёт у меня четверть пехоты и половину кавалерии. Как бы там ни судачили иные сплетники, отец не был ни безумцем, ни извращенцем: просто он был хитёр, как кот. Своих полководцев царь, по его собственному выражению, знал, как шлюха постоянных клиентов. И меня тоже. Полагаю, отец любил меня больше, чем о том говорил или даже думал сам. Но, будучи царём, хотел, чтобы и его сын оказался достойным такого сана. До сегодняшнего дня Антипатр не говорил мне об этом, опасаясь моего неудовольствия, но доброжелатели донесли, что тогда, на рассвете, когда за два часа до начала битвы Филипп отозвал половину моих сил, Антипатр выступил против.
— Ты что, хочешь убить Александра? — спросил он.
— Я хочу лишь испытать его, — ответил отец.
Три дня спустя мы добрались до Херонеи. Основные силы противника — фиванцы, афиняне и коринфяне — уже преградили равнину, подкреплённые несколькими отрядами наёмников, а ополченцы из Мегары, Эвбеи, Ахайи, Левкадии, Коркиры и Акарнании подтягивались в течение всей ночи. Впрочем, и у наших войск на это ушёл весь день.
Я со своими силами двигался в авангарде непосредственно за разведывательными разъездами. Задача передового охранения заключалась в том, чтобы в случае возникновения любых непредвиденных обстоятельств немедленно известить Филиппа. Но ни с чем непредвиденным столкнуться так и не довелось. Эллины заняли равнину и терпеливо ждали, пока мы соберёмся и намнём им бока. А мелкие стычки со случайными отрядами да захват брошенного лагеря — не основание для того, чтобы тревожить царя. Вступив на равнину, я приказываю конным патрулям развернуться веером и застолбить места для следующих позади отрядов. По прибытии каждого подразделения ему уже будет отведено место. Под моим командованием (если к такого рода опыту подходит столь многозначительный термин) состояли как многоопытные пехотные командиры — Антипатр, Мелеагр, Коэн, — специально приданные мне отцом, чтобы умерить мои юношеские порывы, так и мои ровесники и друзья: Гефестион, Кратер, Пердикка и длиннокудрый Леоннат по прозвищу Любовный Локон. Этим предстоит вести в бой тяжёлую кавалерию «друзей». Моими телохранителями командует Клит Чёрный.
Теламон, мой наставник в военном деле, указывает на стоящий напротив «священный отряд» и предлагает:
— Присмотримся к ним получше?
Мы присматриваемся. Впрочем, то, что «священный отряд» встретит любую атаку остриями копий, ясно и так. Важнее другое: как будет сформирован его косой строй.
Смеркается, но мы до боли в глазах продолжаем присматриваться к рельефу, стараясь, исходя из характера местности, предугадать, какое размещение сил предпочтёт противник.
Косое боевое построение было введено в военный обиход Эпаминондом из Фив. До него войны эллинов представляли собой драки стенка на стенку.
Армии противников выстраивались одна напротив другой, сходились и лупили друг друга всем имеющимся оружием, пока одна не пускалась в бегство. Частенько, впрочем, случалось, что одно войско пускалось наутёк прежде, чем другое успевало нанести удар. Это, впрочем, тоже способствовало урегулированию спорных вопросов, из-за которых всё и затевалось.
Больше всех прочих в подобной незамысловатой тактике преуспели спартанцы, регулярно колошматившие и фиванцев, и других своих соперников.
Конец этому, а заодно и спартанской гегемонии положил косой строй. Впрочем, самому Эпаминонду такое название не нравилось: он называл введённый им в практику боевой порядок «systrophe», что значит «накопление» или «концентрация». Примером ему служил кулачный боец, который не наносит ударов обеими руками попеременно, а держит одну позади, атакуя другой.
Как и прежде, Эпаминонд выстраивал своё войско перед фронтом противника, но теперь его строй не имел одинаковой глубины на всём своём протяжении и, соответственно, не обрушивался одновременно всем своим весом на всю вражескую линию. Он усиливал левое крыло, а правое, наоборот, ослаблял.
Спартанцы распределяли солдат вдоль строя равномерно, но правый фланг считался более почётным, ибо там, в окружении своих телохранителей, всегда сражался сам царь. Таким образом, построение Эпаминонда при численном равенстве обеспечивало ему превосходство на том участке, где находились лучшие вражеские силы. Он резонно полагал, что, если ему удастся сломить отборных вражеских воинов, остальные обратятся в бегство.
Каким образом усиливал Эпаминонд своё левое крыло? Во-первых, он доводил глубину строя не до восьми щитов, как спартанцы, даже не до шестнадцати, как бывало в прошлом в Фивах, а до тридцати или даже до пятидесяти. Кроме того, он вооружил своих солдат копьями длиной в семь локтей, тогда как копьё спартанцев достигало только пяти. И наконец, Эпаминонд изменил форму пехотного щита. Слева и справа на нём появились выемки, а ремни теперь крепили его не к руке, а к плечу и шее, что оставляло руки воина свободными, давая ему возможность орудовать длинным, тяжёлым копьём.
Встретившись со спартанцами на равнине у Лектры, Эпаминонд разбил их наголову, что изменило расстановку сил по всей Элладе. Фивы в один миг превратились из второстепенного полиса в доминирующую на суше державу, а Эпаминонд был восславлен как герой и несравненный военный гений.
Мой отец знал Эпаминонда. В пору расцвета новой фиванской державы Македония была вынуждена отдавать знатных юношей в Фивы в качестве заложников, и отец, попавший туда в тринадцать лет, провёл в этом городе три года. Обращались с ним хорошо, взаперти не держали, а он, со своей стороны, ко всему присматривался и запоминал то, что могло оказаться полезным. В первую очередь, разумеется, военные нововведения, включая особенности фиванской фаланги.
Став царём, Филипп организовал свою армию по образцу фиванской, но по сравнению с Эпаминондом произвёл некоторые усовершенствования. Важнейшее из них касалось копья. Он довёл его длину до двенадцати локтей. Так появилась знаменитая македонская сарисса.
Теперь впереди первой шеренги двигалась сплошная изгородь из отточенного железа, причём то были острия копий не трёх, как в других фалангах, а целых пяти шеренг. Устоять перед натиском такого строя не смог бы никакой противник, вне зависимости от его храбрости, упорства и защитного вооружения.
Этим, однако, Филипп не ограничился. Македонское войско, ранее состоявшее из пёстрых отрядов различных кланов, превратилось в профессиональную армию, базировавшуюся в лагерях и получавшую ежемесячное жалованье. Царь и его великие полководцы, Парменион и Антипатр, муштровали фаланги до тех пор, пока солдаты не научились выполнять все движения, перестроения и повороты с абсолютной слаженностью, превратив строй в единое целое. Мир никогда не видел боевой силы, подобной ощетинившейся сариссами македонской фаланге. Даже великий Эпаминонд, восстань он из могилы, был бы разбит пехотой Филиппа.
Мы с товарищами пересекаем Херонейское поле и приближаемся к позициям «священного отряда». Многие воины, нагие, умастившись маслом, выполняют упражнения, как делали это спартанцы при Фермопилах. Это и вправду великолепный отряд, все атлетически сложены, и даже лагерные прислужники блещут красотой. Ну а сам лагерь — любо-дорого посмотреть — словно расчерчен по линейке. Отчищенное до блеска оружие сверкает в аккуратных пирамидах.
Подъехав и остановившись на расстоянии половины броска камня, я представляюсь и громогласно возглашаю, что Македонии и Фивам следует не сражаться друг с другом, но объединиться против общего недруга, каким является Персия.
— Если так, — со смехом отвечают фиванцы, — скажи своему отцу, чтобы он возвращался домой.
— Завтра вы займёте позицию здесь? — спрашиваю я, указывая на их лагерь.
— Может быть. А вы?
Как выясняется, с двумя из этих воинов, братьями-борцами, Чёрный Клит знаком по Немейским играм. Они обмениваются рассказами и сообщают новости, а ко мне в это время направляется командир, ветеран лет сорока, а то и пятидесяти.
— Неужто я и вправду вижу сына Филиппа? — с улыбкой говорит он и, назвавшись Коронеем, сыном военачальника Паммена, сообщает, что дружил с моим отцом. Действительно, будучи заложником в Фивах, отец жил в доме Паммена.
— Твоему отцу было четырнадцать, а мне десять, — сообщает Короней. — Он, бывало, макал меня головой в воду и лупил по заднице.
— То же самое он проделывал и со мной, — со смехом отвечаю я.
Короней жестом подзывает симпатичного юношу лет двадцати.
— Позволь мне представить моего сына.
Поскольку беседа пошла вовсю, продолжать её, сидя на коне, кажется мне неучтивым. Мы с товарищами спешиваемся. Возможно ли, что уже завтра на рассвете нам придётся насмерть сразиться с этими замечательными людьми?
Сына Коронея зовут Памменом, в честь его деда. Этот красивый, облачённый в великолепные доспехи юноша на добрых полголовы перерос своего отца. Отец и сын, оба воины «священного отряда», встают плечом к плечу.
— Вот так мы стоим и в боевом порядке, — заявляет юноша.
Я ловлю себя на том, что борюсь со слезами. Нащупав висящий на поясе усыпанный драгоценными камнями кинжал из редчайшей закалённой стали (он стоит талант серебра), прошу Коронея принять этот подарок в память о моём отце.
— Только в том случае, если ты возьмёшь это, — говорит он, протягивая мне украшавшую его панцирь фигурку льва: слоновая кость, кобальт и золото.
— Какие приятные и достойные люди, — говорит мне Гефестион на обратном пути.
Здесь, Итан, я остановлюсь особо, обратив твоё внимание на предмет, всегда повергающий молодых командиров в смятение. Я имею в виду симпатию к противнику. Никогда не стыдись этого чувства, отнюдь не являющегося признаком слабости или излишней мягкотелости. С моей точки зрения, это, напротив, есть одно из высочайших проявлений воинской добродетели. Помню, как-то вечером, уже после битвы при Херонее, мне довелось рассказать о встрече с тем благородным фиванцем, Коронеем.
— Ну, сын мой, и что сказало тебе в тот час твоё сердце? — спросил отец, внимательно меня слушавший.
Как я понимаю, он хотел подразнить меня, но не из злобы, а желая подправить моё поведение, в котором видел слишком много великодушия.
— Ощутил ли ты сострадание к тем, кого тебе вскоре предстоит убивать? Или, напротив, обратил сердце в кремень, что, если верить толкам, хорошо удаётся твоему отцу?
Мы находились дома, в Пелле, на пиру с командирами Филиппа. Едва прозвучали слова отца, как разговоры смолкли и все взоры обратились ко мне.
— Отец, сердце сказало мне, что, коль скоро я сам готов отдать свою жизнь, это даёт мне право забрать жизнь противника, кем бы он ни был, и небеса не сочтут это деяние несправедливым.
— Вы только послушайте! Вот уж сказал так сказал! — одобрительно загомонили гости.
— Это уж точно, — согласился отец, — сам Ахилл, следуя древним ораторским канонам, не смог бы ответить лучше. Но скажи мне, сын, как бы этот древний герой и полубог смог совладать с распущенностью, продажностью, бесчинствами и мерзостями, сопутствующими нам в наши дни?
— Отец, он воодушевил бы людей, предающихся порокам, благородством и чистотой своей цели. Воистину, это возможно даже в нашем несовершенном мире.
Сказав так, я не покривил душой, но кое о чём умолчал. В тот миг, когда отец устроил мне испытание перед лицом командиров, я ощутил присутствие своего даймона, своего природного гения. Дух сей незримо вошёл в помещение, одарив меня ясностью мысли и неколебимой убеждённостью. Как никогда раньше, я отчётливо понял, что мой дар превосходит дар моего отца, причём на порядок величин. Увидел это так, словно сумел заглянуть в него. И он это понял. Как поняли и другие: стоявший у его плеча Парменион и стоявшие подле меня Гефестион и Кратер. То был момент встречи поколений, заката и восхода, прошлого и будущего.
В миг обмена дарами с Коронеем мой даймон предложил мне обоюдоострый меч, одно лезвие которого есть симпатия и сочувствие, а другое — суровая необходимость.
— Эти отважные и благородные защитники Фив, можно сказать, уже мертвы, — молвил тогда мой гений, — но ты, Александр, забрав их жизни, лишь станцуешь в нескончаемом хороводе, предопределённом до начала времён. Исполняй же свой танец хорошо.
Весь следующий день армии только тем и занимались, что танцевали да перетанцовывали.
На рассвете «священный отряд» занимает позицию на крайнем правом фланге фиванцев в качестве единого подразделения. Но спустя шесть часов, когда я выезжаю на поле, три сотни гоплитов оказываются рассредоточенными по первой шеренге центра и левого крыла. Это не просто перестроение, ибо дислокация «священного отряда» является существенным элементом всего стратегического замысла неприятеля. Мои отряды тоже совершают перестроения, стараясь предугадать самые неожиданные манёвры. Отец не тревожит меня никакими приказами, но мои осведомители из его шатра уже донесли мне, что он намерен отозвать половину моих сил.
Так или иначе, я предписываю командирам держать коней налегке, не перекармливать и поить умеренно. Лошадям, как и нам, лучше идти в бой с лёгким желудком. День проходит в ожидании. Ближе к вечеру нашим аванпостам удаётся захватить двоих пленных. Клит Чёрный приводит их ко мне. Я, разумеется, должен незамедлительно отослать пленников отцу, что и будет сделано, но...
— Дай-ка мне этих пташек, Александр. Ручаюсь, что им есть что спеть.
Клит был старше меня на шестнадцать лет и являлся столь отъявленным проходимцем и мошенником, какого только может произвести моя страна, признанная родина плутов. Позднее, уже во время Афганской кампании, он и Филот (будущий командир «друзей»), единственные из высшего командования отказались последовать моему примеру и продолжали носить бороду после того, как я стал начисто бриться сам и поощрять эту манеру в подчинённых. Филот не пошёл на это из тщеславия, а Клит в силу верности Филиппу. Я не затаил на него зла. Кто-кто, а уж Клит, человек с железными яйцами, умел драться и тысячу раз доказал свою храбрость. Когда я был младенцем, Клит был правой рукой моего отца и его возлюбленным, именно ему было доверено держать меня на руках при свершении обряда наречения имени. Он никогда не упускал случая упомянуть об этом публично, эта манера и раздражала меня, и в то же время забавляла.
Клит мастерски владеет кинжалом и удавкой. Царь, по слухам, не раз прибегал к его услугам, Гефестион именует его не иначе как головорезом, а моя матушка дважды пыталась его отравить. Наверное, за дело, но он настолько бесстрашен, и на ратном поле, и в споре, что дерзость его речей внушает мне уважение и даже любовь.
Если мы с Гефестионом переживаем из-за урона, который вынуждены будем нанести «священному отряду», то уж Клит-то по этому поводу нежничать не собирается. Ему, напротив, не терпится поскорее ввязаться в схватку и начать напропалую рубить вражьи головы. Ну а высокие достоинства противника, на его взгляд, лишь усиливают удовольствие.
Он, как сказано у драматурга Фриниха о Клеоне Афинском, «негодяй, но наш негодяй».
Мы задаём пленным вопросы, касающиеся завтрашней диспозиции «священного отряда». Оба клянутся, что отряд будет стоять на правом фланге, напротив реки. Я им не верю.
— Каково твоё ремесло? — сурово спрашиваю я старшего.
Он говорит, что является наставником в области геометрии и математики.
— Тогда скажи, как в правильном треугольнике соотносятся квадрат гипотенузы и сумма квадратов двух других сторон.
На пленного нападает приступ кашля, и Клит, уткнув в него остриё меча, спрашивает:
— Ты, часом, не актёр, а, приятель?
И то сказать, кудри у пленных напомажены и завиты, что наводит на мысль о театре.
— А ну, сукины дети, прочтите нам что-нибудь из «Медеи».
Я думаю о том, что разместить «священный отряд» на правом фланге фиванцы могут разве что в припадке безумия. В этом случае мой левый фланг наверняка их сметёт. Впрочем, не смогут ли они быстро сдвинуться с этой позиции к центру, соединившись с соседними подразделениями так, как если бы захлопнулись ворота? Нет, попытаться, возможно, и попытаются, но, если я поддержу пешую атаку конницей и обойду их с тыла, ничего у них не получится. Я обсуждаю такую возможность с Антипатром, которого отец приставил ко мне в качестве наставника и советника.
— Александр, отряд встанет или на левом крыле, или в центре, — заявляет он. — На такую глупость, чтобы оставить его у реки, не способны даже фиванцы.
Размышления и споры продолжаются до полуночи, после чего мы с Гефестионом начинаем собирать и строить людей.
Херонея славится своими ароматными травами, которые вовсю используются торговцами благовониями. С наступлением темноты плывущие над долиной ароматы становятся ещё сильнее.
— Ты чувствуешь это, Александр?
Он имеет в виду ощущение чего-то эпохального.
— Да. Как вкус железа на языке.
Мы оба думаем, что эта благоухающая долина к завтрашнему полудню пропахнет кровью и смертью. Потом я осознаю, что мой друг плачет.
— Что случилось, Гефестион?
Чтобы сформулировать ответ, ему требуется некоторое время.
— Знаешь, меня как громом поразило нежданное понимание того, что этот столь совершенный во многих отношениях момент уже никогда не повторится. С завтрашним днём изменится всё, и главным образом многие из нас.
Я спрашиваю, почему это заставило его плакать.
— Мы станем старше, — отвечает он, — и сделаемся более жестокими. Сейчас мы находимся в преддверии, накануне великих событий, а тогда окажемся внутри. Это совсем иное качество.
Он отстраняется, и я, присмотревшись, вижу, что его бьёт дрожь.
— Дело в том, — поясняет мой друг, — что то широкое поле разнообразных жизненных возможностей, которое лежит перед нами сейчас, к исходу завтрашнего дня невероятно сузится. Свободу выбора заменит свершившийся факт и суровая необходимость. Завтра мы перестанем быть юношами, Александр, но станем мужчинами.
Позволю себе процитировать слова Солона: «Тому, кто проснулся, пора прекратить видеть сны».
— Не бери в голову, Гефестион. Завтрашний день принесёт именно то, ради чего мы были рождены. Возможно, на небесах дело обстоит по-другому, но в нашем мире любое приобретение неизбежно связано с потерей.
— Ты прав, — с угрюмой серьёзностью соглашается Гефестион. — Значит ли это, что я потеряю твою любовь?
Так вот что тревожит его нежное сердце! Теперь в дрожь бросает меня.
— Ты никогда не потеряешь этого, мой друг. Ни здесь, ни на небесах.
За два часа до рассвета прибывает курьер. Все командиры и начальники собираются, чтобы получить последние приказы. В шатре Филиппа царит полная сумятица: помимо высших военачальников и командиров крупнейших соединений пехоты и конницы Македонии туда понабились командиры союзных нам фессалийцев, иллирийцев и фракийцев. Среди них немало вождей полудиких племён, славящихся своим хвастовством и буйством, но в этот час все они напряжены и встревожены. Что ни говори, а войне всегда сопутствует страх, и сейчас даже эти дикие вепри Севера ощущают доносящуюся из темноты поступь Смерти.
Сам Филипп при этом, как всегда, опаздывает. Его походный шатёр латан-перелатан и, совершенно определённо, взят из обозного старья. Куда подевался настоящий царский шатёр, ведомо лишь небесам. Ночью похолодало, поднялся порывистый ветер, и полощущиеся на нём, что твои паруса, стенки палатки то и дело производят резкие, громкие хлопки. Снаружи артачатся привязанные у кольев низкорослые лошадки курьеров, а внутри чадят на ветру факелы.
Все полководцы понимают, что завтра им предстоит главная битва в их жизни, битва против фиванцев, низвергших могущество Спарты и не знавших поражений в течение тридцати лет. Их поддерживают лучшие военачальники половины Эллады — Афин, Коринфа, Ахайи, Мегары, Эвбеи, Коркиры, Акарнании и Левкадии, — а также пять тысяч наёмников, собранных отовсюду, включая даже Италию.
И все, кроме наёмников, явились защитить свои очаги и святилища. Сегодняшний день должен изменить мир. Это столкновение решит судьбу не только Эллады, но Персии и всего Востока, ибо, восторжествовав здесь, Филипп не остановится на достигнутом, но направится из Европы в Азию, дабы ниспровергнуть устоявшийся мировой порядок.
Люди и даже животные напряжены до предела: нервы у всех натянуты, как тетива. Многоопытные начальники отрядов, за плечами которых с полсотни походов, с трудом справляются с тревогой, и лишь самые молодые командиры болтают и разминаются на холодке, как застоявшиеся жеребята. Со стороны проёма, выходящего в сторону пикетов, доносятся шаги.
В шатёр пружинистым шагом входит мой отец, и всех нас охватывает такое чувство, будто явился могучий лев. Каждый волосок на моём теле встаёт дыбом, но в то же время на смену трепетному воодушевлению приходит неколебимая уверенность. Командиры вздыхают с нескрываемым облегчением: он здесь, с нами, а значит, мы не можем потерпеть поражение.
Я не свожу с отца глаз. Удивляюсь тому, как мало он делает, чтобы воодушевлять и окрылять людей. Он не возвышает голоса да и вообще не выказывает никакого намерения привлечь к себе внимание. Все военачальники, даже величайшие из великих, смотрят на него неотрывно, в то время как он рассеянно грызёт кость с вяленым мясом — такие в армии прозвали «собачьими ляжками». Помощник вручает ему свиток, и он, чтобы принять его, берёт «собачью ляжку» в зубы и вытирает одну руку о плащ, а другую о бороду. Парменион и Сократ Рыжебородый, командир «друзей», расступаются в стороны от царского походного кресла, свитский мальчик выдвигает его вперёд, и отец, вместо того чтобы занять место во главе стола и руководить военным советом, плюхается на это сиденье, как куль с овсом. После чего дожёвывает своё мясо. Создаётся впечатление, будто «собачья ляжка» волнует его куда больше, чем предстоящее сражение.
Эффект подобного поведения невозможно переоценить.
Кончив жевать, Филипп поднимает глаза на Пармениона и, указывая на карты и листы с диспозициями, произносит: «Друг мой...» Фразы царь не заканчивает, но её можно понять следующим образом: «Друг мой, извини за опоздание. Продолжай».
Парменион продолжает.
И вот ещё что непременно стоит отметить. Хотя командиры, само собой, внимательно слушают все указания и наставления полководца, сами его слова, по существу, не имеют значения. Все начальники отрядов проинструктированы заранее, каждый знает своё место и свою задачу. Всё, что важно в данный момент, так это уверенность в голосе Пармениона — и молчаливое присутствие царя Филиппа.
Моё имя и моя задача упоминаются среди прочих с нарочитым бесстрастием.
— Александру с его конницей предстоит уничтожить тяжёлую пехоту фиванцев на левом фланге, — объявляет Парменион.
После того как диспозиция и приказы доведены до каждого, отец не обращается ни к богам, ни к предкам. Он просто встаёт, бросает кость на пол и, глядя на окружающих с видом оживлённого предвкушения, говорит:
— А теперь, друзья, не пора ли приступить к делу?
Глава 6 КРАТЕР
Итак, под моим началом при Херонее состоят следующие командиры и воинские подразделения:
Шесть конных отрядов царских «друзей» — Аполлонийский, Боттиэйский, Торонский, Олинфский, Антемионский и Амфиполитанский — общей численностью в тысячу двести девяносто один человек. Им приданы три корпуса вооружённых сариссами пеших «друзей»: Пиэрийский под началом Мелеагра, Элимиотийский во главе с Коэном и столичный, Пеллийский, командир которого, Антипатр, одновременно осуществляет общее командование нашей пехотой. Ещё один, Тимфейский пехотный отряд Полиперкона, Филипп у меня забрал. Из конницы же он вернул себе отряд личных царских телохранителей и пять конных отрядов из Старой Македонии, примерно тысячу четыреста всадников под началом Филота. Под своей же рукой, на правом фланге и в центре, он оставил Пармениона с фракийцами, царскими копейщиками, и пеонийской лёгкой конницей — иными словами, всей лёгкой конницей, какая у нас имелась.
Штатная численность каждого из находящихся в моём подчинении конных отрядов составляет двести двадцать восемь всадников. Каждый из моих кавалерийских эскадронов полностью укомплектован, двести двадцать восемь бойцов, за исключением Торонского и Антемионского, где, соответственно, числится сто девяносто семь и сто восемьдесят два бойца. Все в строю, больных и раненых нет. Сам я собираюсь идти в бой во главе Аполлонийского отряда, оставив его командира, Сократа Рыжебородого, при себе в качестве заместителя. Пять оставшихся решено объединить в два корпуса (из двух и из трёх отрядов). Авангард под командованием Пердикки пойдёт в атаку одновременно с Гефестионом, и его задачей будет остановить и удержать на месте правый фланг фиванцев.
Обрати внимание, мой юный друг, что в тот день Македония вывела на поле боя все свои силы. Больше такого не повторялось. Войско, которое я привёл в Азию, составляло примерно половину нашей армии, поскольку почти столько же пришлось оставить в тылу, в гарнизонах Эллады. Но сюда, к Херонее, Филипп привёл всех, кого мог наскрести. Не поспели только два конных и два пеших отряда, но народу хватало и без них.
Моё крыло усилено шестью формированиями союзной эллинской пехоты. Эллинами из Амфиктионского союза, общее число которых достигает девяти тысяч, так что первая шеренга насчитывает девятьсот двадцать щитов, командует Николай по прозвищу Нос Крючком. Лёгкая пехота представлена наёмниками с Крита и Наксоса, вольными стрелками Иллирии и сосредоточенными на острие атакующего строя двумястами семьюдесятью метателями дротиков из Агриании под водительством их вождя Лангара. В общей сложности, считая и пеших и конных, наша численность приближается к шестнадцати тысячам человек, тогда как фиванцев и их союзников от девятнадцати до двадцати тысяч. Каждого из своих командиров я знаю с детства, а потому готов с любым из них отправиться хоть в царство Аида.
Чтобы понять это лучше, послушай историю о моём дорогом друге Кратере.
Когда мне было шестнадцать, отец, доверив мне (разумеется, под присмотром своего военачальника Антипатра) царскую печать, отправился в поход против Перинфа и Византия. Я тут же организовал карательную экспедицию против диких фракийцев, покорённых отцом четыре года назад, которые, едва прознав о его отлучке, тут же объединились с соседними племенами и подняли восстание. Стояла зима. Я взял с собой шесть тысяч воинов под началом Антипатра и Аминты Андромена. Кратеру в тот год было двадцать семь, и он, будучи обвинённым в убийстве (тут была затронута честь), находился под арестом. Как раз в день нашего отбытия ему предстоял суд. Из темницы он обратился ко мне с просьбой взять его с собой: в тех самых горах, куда лежал наш путь, его семья владела золотыми приисками. Он вырос там, знал каждый камень и, разумеется, мог принести пользу. И заявил, что если не совершит в походе подвиг, то сам подставит свою шею под меч.
Мы выдержали две битвы, у переправ через реки Ибис и Эстр, и после двух дней и ночи преследования загнали последние сорок пять сотен мятежников, вместе с их военным вождём Тиссикатом, на лесистый перевал между горами Гем и Офот. И тут поднялась снежная буря. Враг оседлал перевал, а все подходы к нему к вечеру замело снегом. Я подозвал Кратера.
— Ты говоришь, что знаешь эту местность.
— Клянусь железными яйцами Аида, ещё как знаю!
Он заявил, что чуть западнее имеется ущелье, пройдя которым мы к утру окажемся в тылу врага. Для успеха дела он потребовал полсотни солдат и четырёх крепких мулов, чтобы один был нагружен сосудами с маслом, а другой — кувшинами с вином.
— Это ещё зачем?
— От холода.
Добровольцами вызвались двести воинов: многие из тех, кто сейчас командует армиями, впервые завоевали моё сердце именно в тот вечер. Гефестион, Коэн, Пердикка, Селевк, Любовный Локон... иные уже умерли. Оставив с основными силами Антипатра и Аминту, я приказал им на рассвете идти на штурм перевала, а сам решил двигаться с добровольцами. Антипатру было сорок девять, мне шестнадцать. Он очень боялся за меня и, разумеется, страшился гнева Филиппа, который обрушился бы на него, случись со мной что дурное. Пришлось отвести его в сторонку и поговорить с ним один на один, уговаривая и улещивая его на македонский манер.
— Милый старый дядюшка, сейчас ты меня, может быть, и удержишь, но завтра, когда начнётся схватка, никто не помешает мне первым броситься на врага. Так не лучше ли будет, если я нанесу удар не с фронта, а с тыла?
До створа ущелья мы добрались к наступлению ночи. Мулы проваливались в снег по брюхо. Я даже подумал о том, не послать ли мне наверх Теламона, дав ему Кратера в качестве проводника, и не вернуться ли самому к основным силам, но одного взгляда на подъём оказалось достаточно, чтобы покончить с этими недостойными мыслями. Дно ущелья оледенело и осыпалось под ногами, а если там когда-то и существовала тропа, то она оказалась погребённой под сугробами высотой по грудь человека. Вдобавок прямо у нас на глазах в ущелье с грохотом сошла лавина. Мне стало ясно, что провести людей здесь смогу только я. Никто иной не обладал достаточной волей.
Отряд начал восхождение. Стужа стояла неописуемая, к тому же прямо нам в лицо всю ночь напролёт, завывая, дул пронизывающий северный ветер, который местные жители называют «рифейским». Мы двигались по следу лавины, с трудом ковыляя в безлунном мраке по оледенелому, осыпавшемуся под ногами каменному крошеву. Проклятое ущелье преграждали водные потоки, и, чтобы перебраться, перед каждым из них нам приходилось раздеваться догола и идти вброд, держа оружие, снаряжение и одежду над головой. Об этом приходилось заботиться, ибо всякий намочивший одежду неизбежно получил бы обморожение. Ущелье петляло, и таких переправ я насчитал одиннадцать. Наконец запас масла иссяк, растираться стало нечем, и очень скоро наши руки и ноги потеряли всякую чувствительность.
Кратер в этих труднейших обстоятельствах был великолепен. Он распевал песни, подбадривал всех шуточками. На полпути к перевалу мы остановились возле глубокого провала, и он, указав туда, сказал:
— Знаете, что это за дыра? Медвежья берлога. Этот медведь послан нам небесами.
Прежде чем кто-то успел вымолвить хоть слово, он взял копьё, верёвку и стал спускаться в пещеру.
Солдаты, посиневшие и продрогшие, сгрудились у лаза. Неожиданно наружу, как пущенный из катапульты камень, вылетел Кратер.
— Чего вы ждёте, ребята? — заорал он. — Тащите!
Оказалось, что он накинул петлю на лапу сонному зверюге, которого мы совместными усилиями потащили к выходу. К нашему счастью, хищник пребывал в столь глубокой спячке, что не сразу пришёл в себя: должно быть, он считал, что ему снится какой-то кошмарный сон. Правда, когда два десятка солдат принялись тыкать в него копьями, он встрепенулся, но было уже поздно. Зверюга бросался на нас с дикой яростью, но мы разбегались, как ватага ребятишек, и нападали снова. В конце концов победа осталась за нами, но к тому времени, когда убитый зверь затих, мы все так взмокли от пота, что и думать забыли о морозе. Кратер разделал тушу, после чего мы все с головы до ног намазались медвежьим жиром и обернули ноги кусками медвежьей шкуры. Сам Кратер срезал медвежью макушку и нахлобучил себе на голову вместо шляпы. При переправе через каждый поток он входил в воду первым и выходил последним, помогая товарищам перебраться. При этом самая тяжёлая поклажа всегда лежала на его плечах, а он ещё и дурачился и, натирая соратников медвежьим жиром, отпускал скабрёзные остроты. Такого товарища, как он, не купишь и за золото. Без него нам бы пришёл конец.
На рассвете мы нанесли удар с высоты в тыл противника, и он, зажатый на перевале между нами и войском, ведомым Антипатром и Аминтой, был разбит наголову. Сразу после дележа добычи я объявил Кратера владетелем Ототиса, простил ему все прегрешения, а компенсацию клану убитого им человека обязался выплатить из своего кармана.
Таков был Кратер, к которому после этой истории прилипло прозвище Медведь.
И вот теперь на равнине Херонеи он отводит меня в сторону и сообщает, что бойцы встревожены решением Филиппа ослабить наше ударное крыло.
— Может быть, Александр, тебе стоило бы с ними поговорить?
Вообще-то я не слишком верю в воодушевляющую силу речей, особенно если они произносятся перед опытными командирами и проверенными, надёжными боевыми товарищами, но сейчас, возможно, и вправду особый случай.
— Братья, — говорю я, — клянусь, что между нами и противником мы не наткнёмся ни на одного зимующего медведя.
Напряжение разряжается смехом. Здесь, в передних рядах, находятся товарищи, бывшие со мной в ту ночь, Гефестион и Теламон, Коэн, Пердикка, Любовный Локон, а также Антипатр, штурмовавший тогда перевал снизу, и Мелеагр, брат которого, Полемон, отличился в том памятном бою, командуя тяжёлой пехотой. Я повторяю снова: мы знаем, что делать. Всё отработано, отточено, вбито в каждого, и растолковывать ему это лишний раз нет никакого смысла.
— Друзья мои, — говорю я, — позвольте мне напоследок сказать несколько слов насчёт противника. Негоже нам ненавидеть этих людей и радоваться их смертям. Мы идём в бой не ради захвата их земель и богатств, но ради того, чтобы стать во главе Эллады. Если повезёт, то, когда Филипп двинет войска в Азию, многие из них будут сражаться против персидского владычества бок о бок с нами. Но, помня это, не забудем и другое: сейчас нашей первейшей целью является разгром «священного отряда». Никакая армия никогда не выигрывала сражение после того, как было уничтожено её лучшее, сильнейшее подразделение. Тут не должно быть сомнений: уничтожение «священного отряда» есть та задача, которую поставил перед нами наш царь!
Слышен одобрительный гул: от нерешительности моих товарищей не осталось и следа. Теперь они подобны скаковым лошадям, бьющим копытами у ворот.
— Но мы с вами, братья, должны не просто превзойти противника мощью. Мы должны дать ему почувствовать наше превосходство в достоинстве и благородстве. Да не уронит никто из вас свою честь! Всякий, кто будет пойман на мародёрстве, горько об этом пожалеет, а отряд, который увлечётся резнёй, я переведу в тыловые подразделения.
Рассвет застаёт всех в строю, в полной готовности. Филипп не привык тянуть, и мы видим, как выехавший вперёд всадник взмахивает царским штандартом.
Это сигнал к атаке.
Глава 7 ЗУБЫ ДРАКОНА
Мой отец не верит в барабаны или трубы. В его армии ритм строевого шага поддерживается командами младших командиров. Их голоса грубы, но звучат ритмично и разносятся над полем даже на ветру, не хуже любой музыки. У каждого десятника своя манера, но всех их роднит наличие лужёной глотки. Бывали случаи, когда хорошие воины не получали продвижения из-за отсутствия командного голоса, тогда как посредственные бойцы были обязаны своей карьерой именно этому качеству.
Первой трогается с места пехота Филиппа. Царь возглавляет правый фланг, я левый, а центром командует Парменион. Неровности почвы мешают рассмотреть наступающие отцовские шеренги как следует: они находятся в двенадцати стадиях от меня и станут по-настоящему видны лишь при сближении с неприятелем. О том, что отцовские бойцы уже выдвинулись вперёд, я сужу по тому, что занимающие центр отряды Пармениона выравнивают строй, опускают вперёд сариссы и, уравновесив их на перевязях, начинают движение. Сколь же великолепен вид этого блестящего воинства! Справа и слева от железной стены пехоты нетерпеливо ржут и бьют копытами кавалерийские кони.
Нас и противника разделяют шестнадцать сотен локтей. Выворачивая шею, я высматриваю Гефестиона, сидящего верхом впереди своей конницы. Его шлем, железная «causia» с забралом, начищен до серебряного блеска, он восседает на ретивом, семнадцати пядей росту, гнедом скакуне с белой звёздочкой во лбу и белыми «чулками» на всех четырёх ногах. На всём поле битвы не сыскать ни коня, ни всадника краше.
Как это часто бывает перед сражением, по ничейной земле вовсю носятся ватаги местных сорванцов, за которыми с лаем гоняются их собаки: и те, и другие забавляются от всей души. Конные курьеры, и наши и вражеские, скачут туда-сюда вдоль строя, развозя донесения и приказы, меняющиеся порой в последнюю минуту. Иногда они встречаются, обмениваются приветствиями, и, случись одному упасть, другой помогает ему взобраться в седло. Им предстоит сразиться, но они относятся друг к другу без злобы. По причине, остающейся для меня загадкой, поле будущей битвы всегда привлекает птиц: сейчас над ним стремительно проносятся ласточки и стайками вьются ржанки. А вот ни женщину, ни кошку там нипочём не увидишь.
Вслед за центром, возглавляемым Парменионом, приходит время подтянуться и моему крылу. Я киваю Теламону, он подаёт знак отрядным командирам. Пехотные сотники выступают вперёд, старшие десятники занимают свои места, острия сарисс направлены вперёд.
— Выровнять строй! Приготовиться!
На счёт «пятьсот» мои полки приходят в движение. Ширина поля составляет почти двадцать стадиев: оно слишком широко, чтобы управлять передвижениями всей армии из единого центра. Я, например, со своего места не могу даже увидеть Филиппа, не то чтобы подъехать. Сегодня нашей армии предстоит сражаться не в одной битве, но сразу в трёх: справа, слева и в центре.
Поэтому, в соответствии с замыслом Филиппа, наступление осуществляется в три стадии. Первым удар противнику наносит правый фланг, находящийся под непосредственным командованием царя. Пехотная фаланга Филиппа — шесть отрядов общей численностью девять тысяч человек плюс три отряда из корпуса царских телохранителей (это ещё тысяча) — вступят в бой с тяжёлой пехотой из Афин, стоящей на левой (против нашей правой) оконечности вражеского построения. Завязав бой, Филипп сделает вид, будто не выдерживает неприятельского натиска, и начнёт отходить. На войне всегда есть место игре и притворству, и при умелом подходе можно ввести в заблуждение даже таких завзятых театралов, как афиняне. По оценке моего отца, афинские ополченцы обладают храбростью, но не настоящей воинской стойкостью. Да и как можно ожидать от них большего, ведь это не профессиональные солдаты, а вооружённые граждане. Афины не выводили свои войска в поле двадцать лет, после чего провели лишь одну кампанию, продолжавшуюся всего месяц. Состояние ополченцев, столкнувшихся с закалёнными бойцами Филиппа, можно охарактеризовать как смесь ужаса с возбуждением, которые они принимают за отвагу. Сойдясь с противником лицом к лицу, они потеряют голову, а увидев, как пятится перед ними македонская фаланга, легко поверят в собственное превосходство и устремятся вперёд, не сомневаясь, что вот-вот разобьют Филиппа наголову. Между тем его отряды подадутся под этим яростным напором, но будут отходить в полном порядке, нерушимо сохраняя строй и удерживая наступающих врагов на расстоянии железной щетиной сарисс. На самом деле Филипп выманит афинян вперёд, увлечёт их за собой до той части поля, где местность пойдёт на подъём. Сам царь будет находиться выше по склону, на расстоянии зова трубы. И вот тут пешие македонские «друзья» остановятся как вкопанные и, отбив натиск, снова ринутся на афинян, воинственный пыл которых к тому времени поостынет, ибо они, по выражению спартанского полководца Лисандра, испытают «похмелье» ложной храбрости.
И вот тогда мы увидим вражеские задницы и чаши щитов, которые они побросают, обратившись в паническое бегство. Такова будет первая сцена этого представления.
Вторую, в центре позиции, разыграет Парменион. Его отряды вступят в схватку с коринфянами, ахейцами, а также наёмниками и союзниками эллинов. Ему приказано не рваться вперёд, а, сойдясь с врагом, стойко удерживать фронт. Его фаланга на стыках с соседними соединениями, отцовским и моим, плотно прикрыта конницей и лёгкой пехотой, так что обход исключён.
Ну а уж третья сцена будет моей.
Я поведу наступление на тяжёлую фиванскую пехоту, в состав которой входит «священный отряд» на правом (нашем левом) фланге. Насчёт того, как именно атаковать противника, Филипп указаний не давал и тем, как я расставил свои подразделения, не интересовался, хотя наверняка узнал всё в деталях от Антипатра. Он ограничился тем, что спросил, достаточно ли мне войск, и за одно это я признаю его величие.
Замысел отца тонок. Предоставив мне командование крылом, он открыл для меня дорогу к славе. Если я добьюсь успеха, Македония обретёт военачальника царской крови, а Филипп истинного, достойного наследника. Однако ему и в голову не пришло ставить судьбу сражения в зависимость от меня одного: царь рассчитывает, что, если даже я не оправдаю его надежд или погибну, он сумеет взять верх за счёт победы на своём фланге (недаром у него в резерве шесть отрядов конных «друзей») и в центре, где полагается на Пармениона.
До противника осталось восемнадцать сотен локтей: одиночные вражеские всадники снуют на расстоянии выстрела из лука. Я высылаю вперёд разведчиков, чтобы они по цветам и значкам определили положение в строю каждого из фиванских подразделений. Каждый командир нашей пехоты должен знать, с каким именно командиром и с каким подразделением ему предстоит сойтись лицом к лицу. Такое дополнительное ориентирование подразделений называется «подгонка». Оно выполняется в движении, быстро, но с величайшей тщательностью, а потому требует высокого уровня строевой подготовки.
В каждом отряде ориентировки передаются от бойца к бойцу, ветераны из передней шеренги берут на заметку отрядные значки тех, кто определён им в соперники. Чем ближе сходятся войска, тем очевиднее становится цель: наступает момент, когда бойцы уже видят неприятельские лица, и каждый из них может сказать себе: вот тот враг, с которым я схвачусь первым.
Но особая задача, которую я поставил перед самыми умелыми и хладнокровными из посланных вперёд разведчиков, — выявление дислокации «священного отряда».
В шестнадцати сотнях локтей перед нами разворачивается фронт противника. Неприятель начинает неспешное движение нам навстречу, но мы пока можем различить лишь сплошную массу, текущую вперёд рядом с рекой, защищающей их фланг.
— Ты видишь, Александр? — говорит примчавшийся верхом Чёрный Клит.
Мы предвидели подобные действия фиванцев. Думаю, нам ясно, что они означают.
— Это так. Но в том, что «священный отряд» именно там, уверенности пока нет.
Пора бы наконец вернуться нашим разведчикам.
Где они? Где «священный отряд»?
— Давай я, — предлагает Клит, имея в виду, что может сходить в разведку сам.
— Нет, оставайся здесь.
Я собираюсь послать гонца к Гефестиону и удостовериться в том, что он правильно понимает складывающуюся обстановку, но тут он подъезжает ко мне сам.
— Ну? Узнали мы их цвета?
Разумеется, речь идёт о «священном отряде».
— Пока нет.
— Александр, ну давай я сгоняю: туда и обратно.
Клит хочет сказать, что проскакать галопом вперёд и вернуться можно за считанные минуты, но он нужен мне рядом.
— Подожди.
Стоящий у моего плеча Теламон указывает вперёд.
— Возвращаются!
Это и вправду долгожданные разведчики. Самый младший, Адраст, прозванный Кудлатым, осаживает взмыленного коня.
— Ну, Кудлатый! Где «священный отряд»?
— Там! — с трудом выдыхает он. — У стыка фланга с центром.
Это означает, что воины этого отряда уже не находятся у реки, где располагались вчера, а переместились ближе к центру общего строя, туда, где фиванцы смыкаются с их союзниками.
— Как они сформированы?
— Как подразделение.
Это решает всё.
Конечно, одного донесения недостаточно, но я подаю знак Теламону, чтобы он собрал отрядных командиров.
Тем временем, подгоняя коня плетью, к нам поспевает Андокид, второй разведчик. Его сообщение полностью подтверждает доклад Кудлатого.
Мы всей группой взъезжаем на возвышенность, и Андокид указывает вперёд.
— Там, у высокого кипариса. Видишь их щиты?
Теперь, когда направление указано, мы даже на таком расстоянии можем различить алый «aspides» «священного отряда».
— Какое у них построение?
— Два, семь и один. Сто поперёк.
Он имеет в виду, что первые две шеренги фронта в сто человек полностью сформированы из воинов «священного отряда», в семи следующих их поддерживают ополченцы, а замыкающая шеренга составляет боевой резерв.
— Кто у них справа?
— «Едоки угрей».
Это фиванские ополченцы с богатого рыбой Копайского озера.
— Глубина их строя десять рядов. Как у «священного отряда».
— Всего десять? Ты уверен?
Он уверен. А вскоре прибывают ещё два разведчика, разделяющие эту уверенность.
— А что позади отряда?
— Прачечная, — заявляет Кудлатый, подразумевая болтающиеся лагерные верёвки со всяким тряпьём.
— Отлично, друзья!
Я отпускаю разведчиков, обещая, что после битвы все они будут награждены по заслугам. Между тем сближение продолжается.
Осталось тысяча четыреста локтей.
Донесения разведчиков позволили мне составить представление о выработанном фиванцами плане действий.
Противник демонстрирует нам массированное построение на своём защищённом рекой правом фланге и движется вперёд, давая понять, что на этом крыле его не опрокинуть. Когда фланг выдвигается вперёд, общий его строй становится косым, и враг таким образом старается заманить нас глубже, чтобы его продвинувшиеся вперёд части оказались позади нашего центра. А мы, ближе к центру, наталкиваемся на «священный отряд», но он представляет собой не остриё монолита, а строй, составляющий всего десять щитов в глубину. Противник рассчитывает, что мы клюнем на эту приманку, ведь ему известно, что противостоящим «священному отряду» крылом командует восемнадцатилетний сын Филиппа, юнец, жаждущий подвигов и славы. По мнению неприятеля, этот молокосос просто не сможет устоять перед таким искушением и бросит на «священный отряд» все имеющиеся в его распоряжении силы. Ну а враг на сей случай наверняка заготовил для меня несколько неприятных сюрпризов. Или подкрепление, которое усилит «священный отряд» в решающий момент, или ловушки и волчьи ямы позади его строя... Что именно, не так уж важно: главное, заставить меня самозабвенно обрушиться на ту цель, которую выбрал для меня он. И тогда я окажусь в западне.
Теаген, командир фиванцев, — хитрый и опытный вояка, учившийся своему ремеслу у полководцев, ходивших в бой под началом самого Эпаминонда.
В то время как я ввяжусь в бесполезную схватку со «священным отрядом» и срочно переброшенными к нему подкреплениями, Теаген введёт в действие двигавшийся вдоль реки и продвинувшийся уже довольно глубоко правый фланг. Это крыло, где глубина строя достигает сорока, а то и пятидесяти щитов, развернётся внутрь, как вращающаяся на петле створка гигантских ворот, и атакует наш корпус с фланга и тыла.
Это хороший план, в котором Теаген постарался вовсю задействовать свои сильные стороны и свести к минимуму слабые. Он умело использует как рельеф местности, так и своё знание человеческой природы. Полководец исходит из того, что противостоять ему будет молодой военачальник. Очень молодой, а значит — порывистый, неудержимый, рьяный и отчаянно стремящийся к славе. Однако для успешного осуществления этого замысла необходимо, чтобы, во-первых, македонцы ни на каком другом участке не потеснили фиванский строй, а во-вторых, чтобы после того, как великие ворота Фив станут закрываться, наши войска ни в коем случае не смогли помешать им захлопнуться.
А как раз это я и собираюсь сделать.
Фиванцы не разбираются в современной войне. Они убеждены, что основной ударной силой Филиппа, как и у них, является массированный строй тяжёлой пехоты. На самом деле задача македонской фаланги состоит не в том, чтобы прорвать вражеский строй, потеснить противника или обратить его в бегство. Она должна встретить врага, остановить его и удерживать в бесплодной попытке её прорвать, до тех пор пока наша тяжёлая конница не сомнёт его, обрушившись с флангов. Фиванец считает настоящим воином только гоплита, всадника же презирает, отводя ему в лучшем случае вспомогательную роль. Он просто не в состоянии поверить, что какое-либо конное формирование способно устремиться на ощетинившийся копьями строй бронированной пехоты.
Но мы сделаем это.
Я сделаю.
Сегодня мы заставим их в это поверить.
Все эти мысли проносятся в моей голове за одну пятидесятую долю того времени, которое потребовалось, чтобы их изложить. К этому моменту старшие командиры уже собрались под мой значок для получения последних приказов, а их сотники, полусотенные и десятники производят перестроение, формируя ряды и шеренги для встречного удара, какой мы отрабатывали и возможность какого предвидели ещё в Фессалии, по пути сюда, и здесь, на совете в Херонее.
Тысяча локтей. Наши отряды продолжают наступать по косой. Что видит противник? Только то, что я хочу, чтобы он видел.
Он видит три отряда тяжёлой, вооружённой сариссами пехоты, сорок пять сотен солдат, составляющих строй глубиной в шестнадцать шеренг и шириной в шестьсот локтей, треть протяжённости крыла. Остающиеся до реки тысячу двести локтей заполняют ряды союзников. Фронт македонской фаланги не похож ни на что известное доселе в военном деле. Вместо коротких копий переднего ряда впереди строя движется сплошной лес железных наконечников сарисс, мерно покачивающихся в такт ритму марша.
Видит он и то, что мы наступаем на него по косой, выдвинув вперёд правый фланг. Иными словами, отряд Антипатра, опережая остальных, движется на сближение со «священным отрядом». Это убеждает неприятеля в том, что наш главный удар нацелен именно туда. Я поддерживаю это заблуждение, направляя туда же легковооружённых стрелков и метателей дротиков. Всё говорит о том, что нас интересует «священный отряд», и только он.
Я уже рассказал тебе о том, что видит наш враг. Теперь рассмотрим то, чего он не видит. А не видит он мою тяжёлую кавалерию. Я располагаю четырьмя отрядами «друзей» (это восемьсот восемьдесят один всадник), которые держатся в тылу фаланг и полностью скрыты от взора поднятой пехотой пылью, и лесом поднятых вверх сарисс задних шеренг, и двумя отрядами Гефестиона, которые держатся слева, чтобы, когда пойдут в атаку и помчатся вперёд, удар пришёлся на правый фланг врага. Впрочем, всадников можно было бы и не прятать. Противник недооценивает конницу. Презирает её. Ни во что её не ставит.
Восемьсот локтей. Острия наших копий направлены на «священный отряд». Враг должен верить, что он, и именно он, является нашей основной целью. «Священный отряд» должен готовиться к отражению нашей атаки. К тому, что мы обрушим на него всю свою мощь. Этому посвящено всё. Именно по этой причине, а не для виду высланы вперёд легковооружённые стрелки и метатели дротиков. Это не юноши или старики, не годные больше ни на что, кроме как швырнуть в сторону врага что попало и отбежать в тыл, а самые лучшие, самые умелые бойцы в мире. Горцы из северных племён, где юноша не имеет права называться мужчиной до тех пор, пока не свалит вепря или льва одним ударом. Лучшие их воины способны пустить стрелу по ветру на четыреста локтей, а их дротики легко расщепляют двухдюймовые доски.
Семьсот локтей. Наши копьеметатели уже видят глаза врагов сквозь прорези их шлемов и осыпают их дротиками, каждый из которых весит от трёх до пяти фунтов и имеет острый железный наконечник. Враг держится, укрываясь за дубовыми, обитыми бронзой щитами.
Шестьсот локтей. Мы уже переступаем через первых раненых из числа передовых, легковооружённых бойцов противника. Кони всхрапывают, чуя кровь. Буцефал, сжатый моими коленями, содрогается, словно корабль, столкнувшийся с тараном. Не касаясь поводьев (этого не допускает его гордость), я слегка перемещаюсь на конской спине, и мой скакун восстанавливает спокойствие.
Я в окружении телохранителей и курьеров выдвигаюсь вперёд, в промежуток между занимающими правое крыло отрядами Антипатра и Коэна.
Пятьсот локтей. Наши лучники и метатели дротиков выпускают последние стрелы и по промежуткам между наступающими отрядами тяжёлой пехоты отбегают в тыл. Поле полностью расчищается от лёгкой пехоты, и мы теперь отчётливо видим багрянец и золото «священного отряда». Видим командиров, указывающих своим подчинённым на значки наших подразделений. Точно так же, как делаем мы.
Неожиданно Теламон трогает меня за плечо.
— А вот и потрошители свиней!
Он указывает вперёд, на отряды, перебегающие позади вражеского строя, чтобы подкрепить «священный отряд». Только после боя мы узнали, что то был составленный из состоятельных граждан Фив отряд Геракла (бывший Эпаминондов), уступавший по качеству подготовки и вооружения только «священному отряду», и соединения Кадма и Электры, сформированные из крепких, стойких беотийских земледельцев. Те самые подразделения, которые при жизни прошлого поколения победили Спарту. Мне неизвестно, насколько хороши их бойцы сейчас, но острия их копий в тылу «священного отряда» видны очень хорошо. Они выстраиваются там.
Вот он, долгожданный миг! Я чувствую, что взоры Теламона, Клита и всех всадников устремлены на меня. О, мой юный друг, под силу ли мне выразить словами, как я счастлив? Через несколько мгновений мы все можем встретить смерть, но мои товарищи принимают это с готовностью. Я тоже. Смерть ничто по сравнению с «dynamis», с охватившей нас жаждой битвы. Триста. Я подаю знак Теламону.
— Сариссы к бою.
Пики задних рядов опускаются на плечи бойцов передних шеренг, делая щетину железных игл ещё гуще. Из-за огромной длины древков они опускаются не резко, но плавно, как будто над строем прокатывается волна. Одновременно из сорока пяти сотен глоток вырывается боевой клич.
Враг отвечает тем же: мы слышим, как затягивают фиванцы свою боевую песнь. Неприятельские командиры, до сих пор стоящие перед строем, отступают, скрываясь за сомкнувшейся стеной окованных бронзой щитов. Бойцы упираются ногами в землю и взывают к богам, прося даровать им силы выдержать наш удар.
Как я уже говорил, сражение сродни театральному представлению, а суть театра есть игра и обман.
Зритель видит на сцене актёров, а принимает их за царей и богов. Он видит то, что хотят ему показать.
Мы показываем врагу вовсе не то, что собираемся делать.
А делать собираемся вовсе не то, что показываем.
Двести. Звучит труба.
Сто. И снова я подаю сигнал трубе. В «священном отряде» уверены, что наше правое крыло, отряд Антипатра, сейчас обрушится прямо на него.
Но ничего подобного не происходит. По трубному зову фронт Антипатра поворачивается на пол-оборота влево, и острия его копий нацелены уже не на «священный отряд», а на ополченцев, чьи позиции справа от него. Наступающие по косой пехотинцы выравнивают строй и устремляются в атаку.
«Священный отряд» приготовился отразить эту атаку. Но никакой атаки не последовало. Вместо этого перед противником неожиданно открываются двести локтей пустого пространства.
Но, направляя воинов Антипатра по диагонали от фронта «священного отряда», я одновременно делаю и кое-что ещё. А именно: разворачиваю укрытые до сих пор за лесом поднятых вертикально сарисс задних шеренг четыре отряда своих «друзей» (два отряда Гефестиона ещё остаются в тылу левого фланга) и галопом направляю их к правому крылу, позади наступающей пехоты Антипатра. Конница на скаку перестраивается из линии квадратов в колонну клиньев. Этот боевой порядок именуется «зубы дракона». Каждый клин — это зуб, и каждый зуб следует за зубом перед ним.
«Друзья» прекрасно обучены конному строю, и их кони способны совершать манёвры на полном скаку, не хуже беговых лошадей на ипподромах. Когда мы расчистим правое крыло Антипатра, мы прорвёмся слева в колонну клина и атакуем врага со всей силой и неистовством, на какие только способны.
Понимают ли это командиры «священного отряда»? Думаю, да: теперь уже понимают. Теперь мой план для них очевиден, но они оказались пойманными в ловушку. Стоит им двинуться вперёд для атаки на Антипатра (который, двигаясь по диагонали, соблазнительно подставляет им свой правый фланг), и моя кавалерия вспорет их собственный левый, который при этом движении тоже окажется неприкрытым. В случае же, если они останутся на месте, Антипатр сожрёт ополченцев на их фланге заживо, открыв брешь в общем фронте, куда я смогу ворваться с восемью сотнями тяжеловооружённых всадников. Противник понимает, в чём его ошибка и что ему грозит, но исправить положение возможности уже нет. Практически все его силы — это тяжёлая пехота. Можно сказать, что его бойцы врыты в землю, словно вросли в неё корнями. И шансов устоять против нас у них столько же, сколько у дерева устоять против топора дровосека.
Когда «священный отряд» выступает вперёд (что необходимо, дабы нанести удар по воинам Антипатра), слева от него появляется наша атакующая кавалерия. Командиры составлявших второй эшелон отрядов Геракла, Кадма и Электры видят это и понимают, что им необходимо выступить вперёд и заполнить образовавшийся в пехотном строю разрыв. Мы видим, как они, отчаянно жестикулируя и срывая голоса, пытаются организовать своих людей для броска.
Пехота — это масса и неподвижность.
Кавалерия — это скорость и внезапность.
Между «священным отрядом» и поддерживающими его подразделениями открывается брешь. В эту брешь и врываются мои всадники.
Честь нанести врагу первый удар принадлежит Буцефалу. Мой конь — это подлинное чудо. Семнадцати пядей в высоту, более двенадцати сотен фунтов весом, с крупом размером с полковой котёл, он оставляет на земле следы размером с жаровню. Могу представить себе ужас первого воина «священного отряда», увидевшего, как на него несётся этот великан, чью грудь прикрывает железная броня. Стремительный напор, лязг металла, и строй противника разорван. Я чувствую, что слева от меня мчатся в атаку Клит и Теламон. Справа скачет Сократ Рыжебородый.
По большому счёту кавалерийская атака похожа на паническое бегство, только направленное в нужное русло. Принято считать, что, если пехотный строй не дрогнет, конная лавина рассыплется, ибо лошади побоятся скакать на копья. Однако кони — стадные животные и, охваченные общим безумием, способны, устремляясь за вожаком, броситься не только на фалангу, но даже в пропасть.
При построении клином, во главе которого скачет на своём коне командир, остальные кони не руководствуются собственными порывами или даже велениями всадника, а лишь следуют за ведущим скакуном. И если он и его всадник отважны и неукротимы, остальные помчатся за ними в огонь и в воду. Тот же инстинкт, который способен заставить табун броситься с обрыва, побуждает верховых коней нестись на сплошную стену бронированной пехоты.
Пешие воители Фив не могут поверить в то, что вражеские кавалеристы настолько безумны, что готовы броситься на смертоносную щетину копий. Но тут они ошибаются. Древко моего копья переламывается надвое от удара о щит какого-то отважно преградившего мне путь доблестного бойца в тот же самый момент, когда его копьё расщепляется продольно, столкнувшись с железной пластиной, прикрывающей грудь Буцефала. Наши взгляды (оба мы смотрим сквозь прорези лицевых пластин своих шлемов) встречаются, и я успеваю прочесть в его взоре гнев и отчаяние. Спустя долю мгновения он уже сбит с ног наземь, и на его шлеме остаётся вмятина от копыта Буцефала. Даже в пылу битвы я испытываю укол сожаления из-за гибели столь достойного человека и в тысячный раз даю себе слово, что, придя к власти, не допущу, чтобы эллины проливали кровь друг друга.
На фресках обычно изображают, как сражающиеся всадники колют противника копьями и рубят мечами, но в действительности основной урон врагу наносит не всадник, а его конь. Что же до всадника, то в рукопашной схватке его самого охватывает то же безумие. Что, разумеется, способствует достижению наибольшего результата. Общий порыв, дикие крики, вырывающиеся из множества глоток, — всё это захватывает и опьяняет. Инстинкты берут верх над всем тем, что привито обучением. Именно повинуясь инстинкту, Буцефал, подобно дикому жеребцу степей, вскидывается на дыбы, брыкается, бьёт копытами и рвёт зубами каждого, до кого может дотянуться. Стоит ему учуять кого-то на земле, он топчет его с тем же остервенением, с каким растоптал бы змею или волка, так что человеку, сбитому с ног и оказавшемуся на его пути, остаётся надеяться лишь на милость небес. Разумеется, для атакующей врага кавалерии все эти инстинкты являются оружием, но главная, а по существу, единственная задача ведущего всадника сводится к тому, чтобы неудержимо и безостановочно рваться вперёд. Двигаться, не останавливаясь и не замедляя темпа. Остриё должно увлекать за собой весь клин. Если остановится лидер, атака захлебнётся.
Мы прорвали уже десять шеренг вражеского строя. Вокруг бурлит море шлемов и копий. Я тянусь за мечом, но оказывается, что ножны сломались и мне не извлечь клинок. У меня появляется мысль о том, чтобы окликнуть Клита или Теламона. «Факел» — обычный клич всадника, лишившегося копья, когда ему нужно раздобыть другое, но мне становится стыдно из-за собственной неловкости забирать оружие у товарища. Я срываю свой шлем и размахиваю им над головой, намереваясь использовать его для нанесения ударов.
И в тот же миг грянул гром приветственных восклицаний. Счастливая звезда, воссиявшая при моём рождении и всегда способствовавшая моему успеху, не подвела и сейчас. Мой жест отчаяния «друзья» воспринимают как знак торжества. Наши пехотинцы, вступающие в этот миг в схватку вдоль фронта фиванцев, тоже видят, как я размахиваю шлемом, и тоже отвечают на этот, как им кажется, сигнал триумфа торжествующим рёвом. Охваченные воодушевлением, они бросаются на врага с удвоенной силой, и он отступает под их неистовым натиском. Я снова поднимаю свой шлем и с криком швыряю его в ближайшего противника. Наша пехота прёт напролом. Подразделения, присланные на подмогу «священному отряду», не выдерживают напора и отступают, а наш первый клин, прорвавшись сквозь вражий строй, вырывается на открытое пространство.
Впереди, в сотне локтей перед нами, виден неприятельский лагерь, уже охваченный паникой. Теламон нагоняет меня и бросает мне своё копьё. Клинья на скаку переформируются под моими цветами. Теперь мы атакуем врага из его же тыла. Каждая наша полусотня — это зуб дракона, и каждый такой зуб отхватывает кусок вражьей плоти.
Устоять против нас противнику не под силу. Как могут гоплиты и ополченцы с копьями в пять, самое большее семь локтей длиной сдержать фалангу, вооружённую сариссами в дюжину локтей? Ну а наши не признающие преград, рвущиеся к славе «друзья» въехали бы галопом прямо на Олимп.
В считанные минуты развернувшееся на нашем крыле сражение разбивается на три отдельные схватки. Прижатые к реке пешие сотни правого вражеского фланга, выступившие против нашей пехоты, атакуются с фланга и тыла конницей Гефестиона, в то время как с фронта на них напирают соединения Аминты и Николая. Враг зажат в клещи и обречён. В центре бойцы Коэна сшиблись с пешими ополченцами. Там бурлит ожесточённая битва, звучат крики, звенит металл, льётся кровь. На нашем крыле «священный отряд» и приданные ему подразделения оказались отрезанными от своих основных сил. В то время как вооружённая сариссами фаланга теснит их с фронта, наша тяжёлая кавалерия прорвалась им в тыл. Отборные войска противника оказываются в окружении, и начинается кровавая бойня.
Если какое-то подразделение отсекается от общего строя, дальнейшее его сопротивление зависит исключительно от отваги и доблести его воинов. И скажу откровенно, в этом отношении ни одно воинское формирование, с которым мне приходилось иметь дело, не превзошло «священный отряд» Фив. С того момента, как первый кавалерийский клин прорвал их фронт, триста фиванцев были обречены, однако они не только не дрогнули, но сомкнули ряды и своим героическим примером вдохновили на отважную борьбу сражавшихся рядом с ними простых ополченцев.
Казалось, будто сражаются не просто воины, а герои и полубоги. Тимон, олимпионик, славный кулачный боец, убил двоих наших солдат, причём второго, как выяснилось потом, прикончил голыми руками, сломав заодно шею и его коню. Тоот, чемпион по панкратиону, продолжал сражаться даже после того, как ему отсекли пол-лица, а в живот и грудь вонзили три копья. Для описания личной доблести наших мужественных соперников потребовалось два свитка, однако ещё большего восхищения заслуживало их чувство товарищества и умение сплотиться. Хотя поначалу наши клинья разорвали строй фиванцев на три, а потом и пять отдельных частей, некоторым из этих, казалось бы, безнадёжно отрезанных от своих подразделений удалось пробиться друг к другу и выстроиться в боевой квадрат, отражавший наш натиск и организованно отходивший. Сначала к одинокому кипарису, отмечавшему их первоначальную позицию, потом к низкой ограде своего лагеря и наконец к походной кухне, где им на какое-то время удалось укрепиться позади лагерной канавы, превращённой в оборонительный ров. Ни один из этих славных бойцов не показал нам спину. Мы теснили их, но постоянно видели перед собой стену сомкнутых щитов и щетину копий. И стоило нашим бойцам позволить себе хоть малую передышку, «священный отряд» устремлялся в контратаку.
Но при всём своём мужестве эти герои были обречены на безжалостное истребление, ибо македонская фаланга, оснащённая сариссами, при фронтальном столкновении обладает неоспоримым преимуществом перед традиционной, вооружённой более короткими копьями. Потери врага значительно превосходили наши, и главной нашей проблемой была вызванная непрерывным наступлением усталость и необходимость смены вымотанных бойцов передних шеренг свежими, подтягивавшимися из тыла. Ряды неприятеля таяли: из тысяч оставались сотни, сотни превращались в десятки.
Мы могли слышать голоса отдельных командиров, призывавших своих товарищей подороже продать свои жизни.
Я призывал их внять голосу разума и сдаться, но мои призывы пропадали втуне. Кое-где самые отчаянные бойцы, сбившись в тугие узлы бронзы и железа, устремлялись вперёд, словно надеясь прорваться сквозь море окружавших их македонцев. Боги изумились бы их неистовству, но то было неистовство безнадёжности, ибо наши ряды были слишком глубоки и слишком плотны. Со всех направлений на них напирал строй глубиной в двадцать, а то и тридцать шеренг, так что орудовать копьями могли лишь первые шесть рядов. Остальные держали сариссы вертикально, стояли локоть к локтю и напирали на передних, усиливая их натиск. Это безбрежное людское море захлёстывало и поглощало отважных воинов неприятеля, одного за другим.
Наконец врагов остаётся так мало, что дальнейшее их истребление не имеет военного смысла. Я останавливаю наступление и вновь призываю фиванцев сдаться. Снова следует отказ. В это время ко мне галопом приближается отцовский гонец: царь созывает своих командиров. Слышны ликующие крики: всадники Гефестиона и Пармениона, покончив с противником на своих участках, соединяются с нами. Враг разбит по всему фронту! Всё кончено! Мы победили! Я не ощущаю ни малейшей усталости, лишь окрылённость и колоссальное облегчение.
Поручив Антипатру и Коэну завершить дело со «священным отрядом» (им приказано сохранять жизни как можно большему числу противников и ни в коем случае не задевать чести побеждённых) я на пару с Гефестионом скачу через поле следом за отцовским гонцом. Мы ликуем, ибо о таком сражении кавалерист может только мечтать. Конница показала себя с наилучшей стороны, проявив все свои преимущества. Враг разгромлен на всех направлениях. Я крепко пожимаю руку Гефестиона, и как раз в тот миг, когда мы от всего сердца поздравляем друг друга, нас на взмыленном коне настигает мчавшийся карьером посланец Коэна, Полемарх.
— Александр... — Он запыхался и говорит сбивчиво. — Там... «священный отряд». Некоторые из них кончают с собой! Что нам делать?
Глава 8 «СВЯЩЕННЫЙ ОТРЯД»
Из «священного отряда» уцелело около сорока человек. Все они безоружны: Антипатр и Коэн лишили их возможности не только сопротивляться, но и причинить себе вред. Сцена, предстающая взору по истечении нескольких минут по окончании боя, ужасает и разрывает сердца. Среди оставшихся в живых нет ни одного, кто не получил бы ран. Многие ужасно изувечены, однако все они нашли в себе силы, поддерживая друг друга, приковылять, притащиться или даже приползти к песчаному косогору, где находилась их изначальная позиция. Возвышающийся над ними одинокий кипарис выглядит как дерево ада.
Подъехав к ним в сопровождении Гефестиона и Полемарха, я примечаю одного из недавних врагов. Ноги его раздроблены (не иначе как копытами коней «друзей»), глаза выколоты, а раны на теле невозможно сосчитать из-за крови и грязи. Зная, что его товарищи в большинстве своём пали, этот воин приполз сюда на одном локте, дабы просить победителей даровать смерть и ему. Столпившиеся вокруг македонцы и наши союзники таращатся на потерпевших поражение противников, словно на медведей в загоне.
Удивление этих воинов мне понятно. Даже те, кому довелось пройти сотню сражений, едва ли сталкивались с противником, продолжавшим сражаться до конца даже после того, как у него не осталось надежды не только на победу, но и на спасение. Такого в воинской практике не случается. Отборнейшие подразделения любых армий, осознав своё поражение, или покидают поле боя, или вступают в переговоры, дабы выторговать себе почётные условия капитуляции. Однако «священный отряд» стоял до конца и полёг почти полностью. Уцелевшие не делают никаких попыток перевязать свои раны, а некоторые, напротив, разрывают их, желая поскорее истечь кровью. Это свидетельствует не только о мужестве, но и о ненависти к нам. Они не желают признавать в нас эллинов.
С правого фланга подъезжает Филот, старший сын Пармениона, любимец моего отца, командовавший в этот день конными «друзьями». Он ненавидит фиванцев смертной ненавистью, и вид их несравненной доблести лишь разжигает пламя злобы.
— Кем вы себя вообразили, уж не спартанцами ли при Фермопилах? — кричит он, остановившись перед ними, с высоты Адаманта, своего рослого вороного скакуна. — А нас, наверно, считаете персами, а, сукины дети?
Мои воины, окрылённые, как и подобает прошедшим испытание близостью смерти, взирают на грозных, но побеждённых соперников с нескрываемым торжеством.
— Не больно-то вы на них похожи, — продолжает Филот. — Те стояли насмерть за храмы Эллады против варваров, а вы дерётесь против своих братьев на радость царю персов. И скорее покоритесь владыке Азии, чем согласитесь вступить в союз с Македонией. Персидские прихвостни, вот вы кто!
Я приказываю ему умолкнуть, и он смотрит на меня с гневом. Что же до солдат, то им явно хотелось бы поживиться чем-нибудь из фиванского оружия и снаряжения. Кто не хотел бы похвастаться дома мечом или щитом, захваченным в бою со столь славным врагом!
Филоту тридцать, мне восемнадцать. На щеках его выступают желваки. Он в ярости, да и я, со своей стороны, готов изрубить его в куски, несмотря на благосклонность к нему моего отца. Он это прекрасно понимает. Царь Филипп должен прибыть с минуты на минуту, и Филот, оценив обстановку, поворачивается ко мне спиной.
По прошествии нескольких мгновений все взоры вновь обращаются к остаткам «священного отряда», и тут происходит нечто необъяснимое: чудо, ниспосланное богами. Силою странного волшебства мы начинаем видеть в недавних смертельных врагах товарищей по крови и духу, таких же солдат, как и мы сами.
Конечно, нам случалось видеть одержимых или фанатиков, стремящихся к смерти. Но эти воины не таковы. Это разумные люди, защитники своей страны и своих близких. Теперь, когда мы уже не видим перед собой фалангу, можно различить лица отдельных людей. По всему видно, что каждый из них хранит верность своим товарищам и своему отряду, будучи привержен тому же кодексу чести, какой исповедуем и мы. Наши люди молчат, но каждому понятно, что сегодня наши недруги, хоть удача и не склонилась на их сторону, не уступили нам в доблести. Они отдали битве больше, чем мы, и испытали большие страдания, чем выпали на нашу долю. Неожиданно становится ясно, что, если мы действительно мечтаем пересечь Азию и ниспровергнуть существующий мировой порядок, нам необходимо подняться до той высокой самоотверженности, которая читается на этих разбитых, окровавленных лицах. Это знание отрезвляет. Ненависть уступает место состраданию, если не любви.
Благородный Короней, с отрубленной у локтя рукой, преклонил колени в пыли над телом Паммена, своего сына. Я чувствую, как закипают слёзы.
Между тем вскоре ожидается прибытие царя Филиппа и его свиты. Отец желает насладиться торжеством, и я не знаю, как поступит он с этими воинами. Скорее всего, будет тронут их беззаветной отвагой так же, как мы, но удержит их в плену, дабы превратить в заложников и предмет торга с их соотечественниками.
— Освободите их! — звучит мой приказ, который я слышу словно со стороны.
— Нет! — кричит, не веря своим ушам, Филот.
— Все свободны! — повторяю я. — Вернуть им оружие!
— Ты не имеешь права! Дождись Филиппа!
Взявшись за копьё, я сжимаю бёдрами бока Буцефала, но Гефестион и Теламон тут же ставят своих коней между мной и человеком, отказывающимся мне подчиняться. Их примеру следуют Коэн и Антипатр.
— Александр... — Филот показывает пустые руки, демонстрируя своё миролюбие. — Этих людей победил ты, но сражение выиграл Филипп. Он наш высший командир. Ты должен повиноваться царю!
Слов у меня не находится, а вот гнева хоть отбавляй. Лишь верные друзья и заслуженные военачальники, преграждающие дорогу, не дают мне обагрить железо кровью своего же соотечественника.
Приближается Филипп. Впереди, с дюжиной царских телохранителей, едет его прорицатель Аристандр, за ними Парменион и Антигон Одноглазый и наконец сам царь. Разумеется, ему тут же докладывают о моей стычке с Филотом.
— Что бы мне следовало сделать, так это приказать проломить упрямые головы вам обоим, — ворчит отец, но тут его взгляд падает на Коронея, и я вижу, как к суровым царским глазам подступают слёзы.
Пленных окружает отряд под командованием пехотного командира Эвгенида, прозванного за дотошность в расчётах Счетоводом.
— Мой сын отдал приказ отпустить этих людей? — обращается к нему Филипп.
— Так точно.
Филипп кивает, подтверждая мою команду.
— Ты слышал приказ! — рявкает Счетовод своему помощнику. — Вернуть пленным оружие. Снять караул!
Выходит, Филипп не прогневался на меня? Он без возражений признал моё право отдавать приказы.
Лишь на следующее утро, когда мы совершаем благодарственное жертвоприношение Гераклу и Зевсу, он отводит меня в сторонку.
— Ты мог пожрать сердце льва, сын мой, но предпочёл вернуть его хозяину. Боюсь, за это он возненавидит тебя ещё больше. Излишнее великодушие наказуемо, и тебе непременно придётся заплатить свою цену. Но, — он кладёт руку на моё плечо, — я всё равно не могу тебя за это винить.
Херонея стала последней победой Филиппа. Двадцать один месяц спустя, шествуя в процессии, которая должна была открыть игры в честь бракосочетания моей сестры, он был сражён рукой наёмного убийцы.
Книга третья САМОВЛАСТИЕ
Глава 9 МОЙ ДАЙМОН
В момент убийства Филиппа, случившегося в театре македонского города Эги, я только что вступил в колоннаду, шествуя в процессии моего отца, дабы занять место рядом с его троном. Жених, Александр из Эпира, шёл рядом со мной, Филипп послал нас вперёд, чтобы продемонстрировать множеству своих недоброжелателей, что он не нуждается ни в каком телохранителе. Когда раздались испуганные крики, я мигом понял, что случилось ужасное, и вместе с Александром Эпирским помчался назад. Нам пришлось проталкиваться сквозь толпу мечущихся, визжащих, перепуганных женщин, и, прежде чем это наконец удалось, убийца, молодой аристократ по имени Павсаний, был уже схвачен и убит исполнявшими роль телохранителей при царской особе Пердиккой, Любовным Локоном и Атталом Андроменом. В тот момент, когда ещё не было известно, был отец убит или ранен, я, к собственному удивлению, поймал себя на том, что переживаю не только за Филиппа, которого, несмотря на наши нередкие стычки, любил и почитал, но и за народ, оказавшийся перед угрозой лишиться его львиной мощи. Потом раздались скорбные стенания: царь был мёртв.
Я так и не успел до него добраться.
Я находился позади Филота, сына Пармениона (того самого, который чувствительно задел моё самолюбие при Херонее), когда тот повернулся и, обращаясь к своему другу, сыну Коэна Клеандру, сказал:
— Вот и конец Азии.
Он имел в виду, что великая мечта о походе на Восток и победе над персами умерла вместе с царём, ибо никто другой не в состоянии организовать и возглавить кампанию столь колоссального масштаба.
Меня Филот не видел, ибо я находился в двух шагах за его плечом, и никакого намерения обидеть меня в данном случае не имел. Однако мною овладела такая ярость, что перед ней отступила даже скорбь по отцу. Казалось, будто она перетекла из моего пылающего гневом сердца в руки, а из них в меч, коим я рассекаю дерзкого болтуна надвое. А потом истребляю самую память о нём и все следы его существования, включая младенца-сына. Разумеется, этот порыв тут же схлынул, и ему на смену пришла холодная решимость доказать, что высказывание Филота не просто ошибочно, но ложно по самой своей сути. Доказать, что лишь смерть Филиппа и сделала завоевание Азии возможным, тогда как при нём эта грандиозная мечта так и осталась бы мечтой.
Я стал протискиваться дальше. Моего отца унесли в тень свадебного павильона и положили на дубовую скамью, превратившуюся на время в лекарский стол. Удар, сразивший Филиппа, был нанесён снизу вверх, в область грудной клетки. Живот и поясница отца были залиты кровью, но в остальном он выглядел человеком, уснувшим после основательной выпивки. Сколько же шрамов носил он! Лекари обнажили его тело, но при моём появлении, то ли из скромности, то ли из почтения к особе наследника, юноша по имени Эвктемон прикрыл детородный орган царя плащом. Состояние собравшихся было близко к исступлению: казалось, ещё чуть-чуть, и полководцы с государственными мужами впадут в панику. Кажется, сохранить присутствие духа удалось только мне.
Я мыслил холодно, отстранённо и необычайно ясно. Хирургов, занимавшихся телом, было двое: Филипп из Акарнании и фракиец Аморг, обучавшийся на острове Кос, в Гиппократовой школе. Мне подумалось, что теперь эти лекари, наверное, будут опасаться за свою личную безопасность, страшась и моего гнева, и гнева народа за то, что не сумели спасти жизнь царя. Я сразу же взял их за руки, чтобы внушить им спокойствие. Филот, тоже подошедший к царскому телу, всячески демонстрировал неутешную скорбь. Гнев мой к тому времени уже улёгся, и я смог увидеть его тем, кем он и был: прирождённым бойцом и кавалерийским командиром, исполненным, однако, мелкого тщеславия и любящим пустить пыль в глаза. Мне стало ясно, почему он меня так раздражает.
Какое преступление совершил Филот?
Он усомнился во мне.
Он сомневался в моём даймоне и в моём предназначении. Этого я ему не смогу простить никогда.
Десять лет спустя, в Индии, мы впервые встретились с нагими мудрецами, так называемыми гимнософистами. Некоторые из нас, как, например, Гефестион, заинтересовались их учением и попытались вникнуть в их философию. Он сказал мне, что целью их усилий является перемещение центра бытия от суетного и бренного начала, господствующего в жизни обычных людей, к высшему, духовному, именуемому Атман, что у нас порой переводится как «я». Мне юз кажется, я, хоть и упрощённо, понимаю, что они имеют в виду. Мой даймон был и есть настолько силён, что порой я всецело оказывался в его власти. В обществе Гефестиона, Теламона и Кратера мы часами обсуждали этот феномен, и я всегда признавал, что эта непостижимая и неодолимая сила, пожалуй, полнее всего проявила себя в час, последовавший за убийством моего отца.
— Это не я, — пояснялось мною, — но существо, связанное со мной воедино. Так, словно сплетённое со мною с рождения и возраставшее со мною вместе, прорастая в меня и переплетаясь со мною всеми фибрами, оно по мере нашего совместного взросления открывалось мне всё в новых и новых своих аспектах. Этот «Александр» более велик, чем я. Более жесток, чем я. Ему ведомы ярость, мера которой превосходит мои возможности, и мечты, не ограниченные пределами того, что может охватить моё сердце. Он холоден и коварен, блистателен и бесстрашен. Это не человек, а чудовище, но не такое, какие жили в Ахилле или Агамемноне, которые были слепы к собственной чудовищной сути. Нет, этот «Александр» знает, что он собой представляет и на что способен. Он — это я, но более чем я сам, и я неотделим от него. Боюсь, что я должен стать им, или он должен поглотить меня.
По существу, это открылось мне, когда я стоял рядом с деревянной скамьёй, ставшей похоронным ложем моего отца. Мой гнев на Филота был вызван обидой не за себя: скорее, сердце моё восстало на защиту моего даймона со страстью, какой я прежде в себе не ведал. Открытие потрясло меня, ибо я вдруг ощутил, сколь колоссальные силы оказались в моём распоряжении. Меня охватила радость, сопряжённая с полной уверенностью в себе и своём высоком предназначении. Я осознал, что могу забыть любое преступление — убийство, измену, предательство, — но не сомнение. Сомнение в моём предначертании. Этого я простить не могу.
В тот миг, над телом моего отца, весь план кампании на следующее полугодие был разработан, свёрстан и утверждён военным советом моего сердца. Мне был известен каждый шаг, который я сделаю, и порядок, в котором эти шаги предстоит сделать. Равно как и то, что с этого мгновения (хотя до поры это останется тайной) Филот стал моим врагом.
Что касается преданности армии, то в этом после Херонеи сомневаться не приходилось, а потому я решил не созывать Совет знатных и направился прямиком к Антипатру и Антигону Одноглазому. Другие виднейшие военачальники, Парменион и Аттал, находились за морем, где готовили плацдарм для намеченного Филиппом вторжения в Азию. Разговор состоялся в большом крытом проезде, именуемом «Путь восточных штормов». Оттуда удобно подъезжать ко дворцу в ненастье, а царские гонцы держат там наготове своих коней. Антигон и Антипатр сразу после убийства удалились туда — держать совет с Аминтой, Мелеагром и несколькими другими видными командирами. Моё появление стало для них неожиданностью. Я шагнул под свод в сопровождении Гефестиона, Теламона, Пердикки и Александра Линкестийца. На процессии я присутствовал лишь в праздничной тунике, и Александр отдал мне свои доспехи, дабы я облачился в них в знак принятия власти. Перед этим я припал к телу отца, и его кровь ещё оставалась на моих руках.
Полководцы, по-видимому, обсуждали, что делать со мной, но я всё решил за них.
— Александр... — заговорил было Антигон, желая дать полководцам оправиться от неожиданности, но я оборвал его.
— Как скоро армия сможет выступить?
Антипатр тут же заявил, что он поддерживает меня.
— Но твой отец...
— Мой отец мёртв, — сказал я, — и весть о его смерти скоро облетит на крыльях не только племена севера, но и все города Эллады.
Я имел в виду, что они выйдут из навязанного им союза.
— Как скоро мы сможем выступить маршем?
Даже при самой отчаянной спешке на это ушло два месяца. Весь этот срок я почти не спал, стараясь находиться повсюду одновременно, не давая возможности даже двум из моих военачальников остаться наедине на время, достаточное, чтобы они могли договориться и вступить в заговор. Они находились или на плацу, где муштровали солдат, или в моём дворце. Задремать я позволял себе лишь с Гефестионом у одного плеча, Кратером и Теламоном у другого и отрядом царских телохранителей за дверью. Трон необходимо было защищать, и для этого, к сожалению, пришлось принять ряд не радовавших меня мер. Своего сводного брата я пощадил, но мать, увы, совершенно обезумела. Она ничуть не скрывала радости по поводу кончины Филиппа, на которого была зла из-за постоянных измен, и теперь разошлась вовсю. Последнюю любовницу отца она приказала убить, а с детьми от этого союза расправилась собственноручно. Младшим из них был мальчик, существование которого, по правде сказать, могло осложнить моё положение на престоле. Но этим дело не ограничилось. Мастерица по части ядов, матушка собрала вокруг себя преданный ей кружок молодых знатных людей и принялась творить суд и расправу, не считаясь ни с кем, включая меня. Все эти бесчинства совершались по приказу Олимпиады, но если и не от моего имени, то как бы из любви ко мне и в моих интересах. Меня это бесило, ибо никак не способствовало тому образу разумного и справедливого правителя, какой был нужен мне. Бывало, я являлся к матушке по три раза за ночь, уговаривая её унять своих людей и прекратить эти безумные выходки. Я угрожал посадить её под домашний арест или даже сунуть в мешок и тайно вывезти из страны, но взывать к ней было всё равно что к Медее. Стоило мне войти, Олимпиада, отослав прислужниц, принималась улещивать меня такими речами, перед которыми трудно было устоять. При этом её наставления касались всего. Кому из полководцев отца я могу доверять, а кого должен опасаться. Кого мне следует покарать, кого возвысить, кого устранить. Как я должен одеваться, что говорить, какую политику проводить в отношении Коринфского союза, Афин, Фив и Персии. Она бушевала и неистовствовала, но зачастую советы её были мудры, как откровения Персефоны. Я ничего не мог с ней поделать, ибо слишком в ней нуждался. Каждая попытка увещевания кончалась одним и тем же. Она хватала меня за руки, и взгляд её проникал в мой, словно наполняя меня силой своей страсти, волей к победе и убеждённостью в моём высшем предназначении.
Она поведала мне, что Филипп мне не отец, но что в ночь моего зачатия её посетил сам Зевс в образе змея. Итак, я сын бога, а она, моя мать, следовательно, божественная царица. И надо же, вместе с этим безумием к ней словно бы вернулась красота её молодости. Глаза её сияли, кожа стала гладкой как шёлк, волосы блестели. Второй подобной женщины было не сыскать во всей Элладе.
Порой, чтобы отдохнуть от её рвения, я отправлял в её покои Антипатра или Антигона Одноглазого и не без ехидства наблюдал за тем, какими ошалевшими они оттуда выходили. Я не осуждал их: кто знает, чем приправляла вдова Филиппа свои яства?
Тело убийцы распяли над могилой отца, после чего публично сожгли. На месте казни перерезали глотки его сыновьям, а заодно и моим двоюродным братьям, детям царевича Эропа, признанным виновными в заговоре. Вместе с Филиппом мы похоронили его любимых коней и любимую наложницу, Хианну из Эордеи. Вот панегирик, произнесённый мною при погребении:
Доблестные мужи и соратники, братья наши по оружию! Когда Филипп взошёл на трон, большинство из вас кормилось за счёт овечьих стад, перегоняя их с зимних пастбищ на летние. Вы носили звериные шкуры, а при нападении соседей бежали в горы, не надеясь отразить захватчиков. Филипп вывел вас из пещер и ущелий на равнины, научил сражаться и вернул вам вашу гордость. Он превратил пастушье племя в великую армию.
Он поселил вас в городах, дал вам законы, поднял вас из нищеты и невежества и поверг к вашим ногам Пеонию, Иллирию и Трибаллию, жители которых до его прихода терзали вас набегами, грабили и обращали в рабство. Его волею Македония овладела Фракией и морскими портами, где прежде безраздельно распоряжались Афины. Он одарил вас золотом, завёл в вашем краю ремесла и торговлю. Он сделал вас господами над фессалийцами, прежде повергавшими вас в трепет, возвысил вас над фокийцами и открыл перед вами широкую дорогу в Элладу.
Афиняне и фиванцы насиловали ваших матерей и сестёр, воровали ваше добро по своему капризу. Филипп сломил их гордыню, он покорил Афины и Фивы, господствовавшие на море и суше, навязывавшие всем свои унизительные, грабительские порядки. Города Эллады, прежде создававшие союзы, интриговавшие и воевавшие и с нами, и друг с другом, теперь обращаются к нам, ища защиты и справедливости. А сколь велик был наш царь на поле боя! Я читал свитки эллинов и персов, повествующие о деяниях Кира Великого и старшего Дария, Мильтиада при Марафоне, Леонида при Фермопилах, Фемистокла, Кимона, Перикла, Брасида и Алкивиада, Лисандра, Пелопида и Эпаминонда. Все они дети по сравнению с Филиппом. Эллины провозгласили его верховным главнокомандующим в грядущей великой войне против Персии не потому, что они желали этого (ибо они, как вы знаете, испытывают к нам ненависть и презрение), но потому, что его величие не могло остановиться на чём-то меньшем. До Филиппа слова «я македонец» вызывали лишь презрительный смех, теперь же они внушают трепет. Своими трудами и подвигами наш царь прославил и возвеличил не только себя, но весь наш народ, всю нашу страну.
Моя армия прошлась по Элладе и повсюду установила порядок. В Коринфе меня, следом за отцом, признали гегемоном греческого союза государств, после чего настала очередь воинственных северных племён. В моих воинах пылала неугасимая жажда битвы. За шесть дней мы дали четыре сражения, сумев в течение всего одного дня, без кораблей и мостов, переправить через Дунай, самую могучую реку Европы, четыре тысячи солдат и пятнадцать тысяч лошадей. За всё это время не имело места ни одного случая грубого нарушения дисциплины, так что никто не был наказан.
К северу от Дуная мы на пшеничном поле одолели десятитысячную орду диких кельтов и германцев. Эти могучие дикари, превосходившие нас ростом и способные сами таскать на плечах своих низкорослых лошадок, тем не менее бежали как крысы, отступив перед безукоризненной военной машиной, созданной и доведённой до совершенства моим отцом, Антипатром и Парменионом.
На обратном пути, перебравшись через Аксий в Эйдомен, я проехался вдоль возвращающихся колонн победителей. Повозок не было: Филипп запретил их как замедляющие движение. О лагерных шлюхах и маркитантах не могло быть и речи. Одно вьючное животное приходилось на пятерых солдат и один слуга на десятерых. Всё необходимое армия несёт в плетёных корзинах, пятьдесят фунтов на спине, тридцать на груди, для равновесия. На груди меньше, ибо к нагрудной корзине ремнём крепится ещё и железный шлем. Сариссы подвешены на ремнях, да и башмаки из бычьей кожи болтаются на завязках на шее. Босая колонна переходит брод, словно посуху. Клянусь небом, как движутся эти солдаты! Враг готовит нам встречу, а мы ушли уже стадиев на четыреста! Там, где нас ждут завтра, мы оказываемся сегодня, а где рассчитывают увидеть сегодня, мы побывали уже вчера.
Я смотрю на марширующих агриан. Это мои люди, северяне, нанятые мною за свои деньги и влившиеся ныне в македонское войско. В горах без метателей дротиков не обойтись: если враг укрепляется на перевалах, там, где не пройдёт фаланга, атаковать его в лоб бессмысленно. Тяжёлая пехота тут бесполезна, а вот агриане, не имеющие ни шлемов, ни лат, а лишь хламиды, служащие им, как и нам, и плащами и одеялами, могут определить исход дела.
Единственный их груз — это оружие, которого иные из них имеют при себе до дюжины единиц. Стоит отметить, что на изготовление каждого дротика или копья уходят месяцы, с учётом жертвоприношений и благодарственных обрядов, совершаемых перед деревьями, чьи ветви или стволы должны превратиться в древки. Главным достоинством метательного оружия они называют «правдивость», подразумевая под этим абсолютную прямоту древка. Малейшее отклонение от этой прямоты грозит изменить траекторию полёта. Каждое из своих метательных копий, или, как принято говорить у них, «шипов», воин носит в отдельном навощённом чехле из оленьей кожи. Чтобы сберечь «правдивость» оружия, они готовы на всё. Воины спят в обнимку со своими «шипами», и я сам был свидетелем тому, как в мороз они оставались полунагими, но, дрожа от холода, заворачивали в плащи свои драгоценные древки. Каждый дротик несёт метку своего владельца и метку его клана: после боя воины обходят поле и собирают свои метательные орудия. Но не чужие: это считается тяжким грехом и бесчестьем. Оружие, вкусившее крови, получает собственное имя, а сразившее врага насмерть переходит от отца к сыну.
Искусство метания копий передаётся из поколения в поколение, и каждый юноша, прежде чем ему позволят метнуть «шип» длиною в человеческий рост, проводит не один год, учась попадать по мишеням палками. На поле агриане сражаются парами — отец и сын, старший брат и младший (старший выступает как метатель, а младший — как оруженосец). Подобно охотникам, они учитывают направление ветра. При этом им безразлично, метать оружие по ветру, против ветра или при боковом ветре, они лишь используют воздушные струи, ловя их, как ловят крыльями ветер парящие птицы.
Свои дротики они мечут не просто рукой, а с помощью специальной, похожей на пращу петли. В полёте дротики вращаются. Чтобы выработать такое умение, требуется огромный труд, но зато бросок настоящего мастера, стремительный, сильный и мощный, не только устрашает, но и восхищает своей красотой. Воин, добившийся совершенства в этом искусстве, достоин высочайших почестей. Я потратил уйму времени на тренировки с агрианским дротиком, но то, что со стороны кажется очень лёгким, в постижении оказывается весьма трудным. Метательные орудия агриан несут смерть, и противникам это хорошо известно. Порой одно их появление на поле способно заставить врага дрогнуть.
Как раз когда я, сидя верхом, беседовал у переправы через Аксий с вождём этого народа Амалписом, с юга галопом прискакал гонец.
Известие о гибели Александра в бою вызвало восстание в Фивах. Народ танцует на улицах, возвещая освобождение Эллады.
В донесении говорилось, что патриоты Фив застали врасплох наш гарнизон и перебили его командиров. Город взбунтовался; возникла угроза, что его примеру последует весь юг.
Гефестион и Кратер пришпоривают коней, направляясь ко мне, а я, ещё читая, ощущаю пробуждение моего даймона. Последовательность ощущений такова: приступ ярости, немедленно сменяющийся холодным гневом, а потом состоянием чистой, объективной отстранённости. Эмоции исчезают, сознание обретает ясность и чёткость. В нём не остаётся ничего лишнего. Я думаю так, как думает орёл или лев. Удачно то, что оттуда, где застала нас эта весть, можно выступить прямо на юг, к Фивам, не двигаясь через Пеллу, столицу Македонии. В этом случае лазутчики или наши недоброжелатели наверняка известили бы врага о нашем продвижении, а отсюда мы можем пройти горными тропами, сторонясь городов, и оказаться у Пелинны в Фессалии, не будучи замеченными кем-либо, кроме козьих стад.
Фивы увидят меня на своём пороге раньше, чем до них вообще дойдёт известие о том, что я жив.
Сердце моё исполнено гнева, но я негодую на фиванцев вовсе не потому, что они стремятся к свободе (это лишь делает им честь), и не потому, что они обрадовались моей смерти. Нет, тут есть одно очень тонкое различие.
Суть в том, что они поверили в то, что я умер. Что они осмелились такому поверить.
Как видишь, мой юный друг, это оскорбление, нанесённое моему даймону.
Путь до Пелинны рассчитан на девять дневных переходов, но мы преодолеваем его за семь. Колонна стремится на юг, подгоняемая гневом. Нашим гарнизоном в Фивах командовал любимый всеми товарищами Аминта по прозвищу Абрутес, что значит Бровастый. Вот его история.
Этот человек так хотел сына, что пообещал пожертвовать богине своё имение, если она пошлёт ему младенца мужского пола. Всё так и случилось, однако мальчик во младенчестве умер от лихорадки, а несчастный Аминта остался и без наследника, и без состояния. Но как раз в это время супруги его дяди и двоюродного брата, уже имевших наследников, родили крепких, здоровых мальчуганов. Не сговариваясь, оба родича явились к Абрутесу, чтобы предложить ему своего младенца взамен утраченного, а когда встретились в его доме, то были так поражены этим совпадением, что сочли его неким небесным знамением. Видимо, они были правы, ибо не прошло и года, как жена Бровастого разрешилась тройней, и наш добрый товарищ, лишь недавно боявшийся, что не оставит на земле своего семени, стал счастливым отцом пятерых славных ребятишек. Теперь они подросли (им минуло по одиннадцать и по десять), радовали отца своими успехами, а он любил их и гордился ими.
А они гордились им и тем, что он дослужился до должности командира гарнизона Фив.
Фиванцы располосовали ему горло и повесили тело на крюк. Помощником у него был антемец по имени Алексид. Этого командира, связав, сбросили с городской стены, оставив его тело на растерзание бродячим псам и воронам.
Армия спешит на юг, подгоняемая гневом. Истинную меру ярости воинов можно определить по тому, что они молчат. По пути к нам поступают донесения о том, что мятеж ширится. Повстанцы, изгнанные Филиппом, вернулись в Акарнанию, встретили радушный приём местных жителей. Бунтовщики изгнали наш гарнизон из Элиды. Аркадия разорвала имевшиеся договорённости и направила помощь Фивам. Аргос, Амбракия и Спарта тоже вынашивают мятежные планы. В Афинах (об этом мы узнаем позднее) известный демагог Демосфен явился перед народным собранием, увешанный гирляндами, и даже предъявил людям свидетеля, якобы видевшего меня мёртвым. Город охвачен ликованием.
А мои люди охвачены негодованием: завидев меня, они выразительно проводят пальцем по горлу. Солдаты мечтают покарать Афины.
Одноглазый вспоминает историю выступлений Афин против нашей страны, судьбу Эйона, Скироса, Тороны и Сциона, где всё взрослое мужское население было перебито, а женщины и дети проданы в рабство. Антигон напоминает мне о том, что афинский флот составляет три сотни кораблей и эти корабли, когда мы переправимся в Персию, могут оказаться кинжалом, направленным нам в спину.
Но моему даймону Афины не нужны. Афины — это драгоценный камень в венце Эллады, и посягнувший на него будет навеки опозорен, запечатлевшись в памяти эллинов наравне с Ксерксом.
После Пелинны мы шесть дней маршируем по равнинам Беотии, а на рассвете четырнадцатого дня наша армия появляется под стенами Фив. Город цепенеет от ужаса. Мы замыкаем его в кольцо, отрезав путь как для бегства, так и для подкреплений.
Однако осаждённые не только не сдаются, но и при всякой возможности тревожат наш лагерь вылазками. Кроме того, в их руках остаются пойманные в ловушку в цитадели Кадмеи солдаты нашего гарнизона. Враги угрожают, если мы не снимем осаду, изжарить их на вертелах. Кроме того, несмотря на все наши кордоны и пикеты, Фивы рассылают гонцов по всей Элладе, призывая её восстать против македонского ига. Я вступаю в переговоры, но враг на уступки не идёт. В следующий полдень Пердикка своими силами пытается захватить Врата Электры. Фиванцы сопротивляются отчаянно, и мне приходится послать на подмогу атакующим лучников и три отряда гоплитов, а через некоторое время прибыть туда самому во главе царских телохранителей. В районе Кадмеи нам удаётся сломить вражеское сопротивление и ворваться в город. Ещё один рывок, и Фивы падут.
Когда я останавливаюсь на площади под Фивиадами, ко мне подъезжают Антипатр, Аминта и Антигон Одноглазый.
— Наверное, Александр, ты не хочешь уничтожать столь прославленный город, — говорит он. — Не хочешь войти в историю человеком, который стёр с лица земли родину Геракла, Эдипа и Эпаминонда. Но это прошлое. Плюнь на него.
Я понимаю, что сейчас воюю не с Фивами, но со своим даймоном.
— Выказав мягкотелость, ты рискуешь потерять армию, — остерегает Антигон.
— А если произойдёт резня, мы потеряем Александра, — возражает Гефестион.
Я слушаю.
Я отдам этот приказ.
Я сотру Фивы с лица земли.
— Пощадите тех граждан, — велю я, — которые поддерживали наше дело. Пусть уцелеют дом поэта Пиндара, дома его наследников, а также святилища и алтари богов. Но не предпринимайте никаких действий до тех пор, пока я не принесу жертву Гераклу и не получу знак, что она принята.
Население Фив составляет сорок тысяч человек, и после того, как мы сбросили их со стен, все, кто способен держать оружие, продолжают сопротивляться на улицах и в переулках. Когда их становится слишком мало, даже чтобы защищать проулок, они запираются в домах и отбиваются там. Если наши вламываются внутрь, они стараются пробиться в соседний дом и организовать новый очаг сопротивления вместе с уцелевшими соседями. Однако, когда дома загораются, им приходится выбегать на улицы, где на них обрушивают свой гнев фокийцы, платейцы и орхоменцы, в своё время немало пострадавшие от Фив. Настигнутых беспощадно убивают: с высоты стен мы с Гефестионом видим множество трупов.
Впрочем, от огня погибает больше народу, чем от меча. Старые деревянные перекрытия вспыхивают, как трут, глиняные кирпичи крошатся от жара, и стены домов рушатся. То здесь, то там к небу выстреливают языки пламени, то здесь, то там старая усадьба превращается в пепелище. Смертоносное пламя перепрыгивает с крыши на крышу, и тот тесный муравейник, который представляет собой центр города, превращается в один огромный костёр.
Гефестиона это зрелище подавляет настолько, что он покидает город и уезжает на равнину. Проку, правда, от этого немного: неистовый пожар виден с расстояния в шестьсот стадиев, а запах гари чувствуется в двадцати. На протяжении всей ночи ко мне время от времени являются гонцы от командиров отрядов, занятых планомерным уничтожением города. Задаются вопросы. Пощадим ли мы гробницу Антигоны? Фивиады? Кадмею?
В середине второй ночной стражи мне показывают тело Коронея, героя Херонеи, чей львиный значок я до сих пор ношу на своём нагруднике. Он пал, возглавляя атаку на наш гарнизон: однорукий, этот воин, прежде чем погиб сам, убил двоих.
— Не щадить ничего, — приказываю я им. — Уничтожить всё.
На рассвете Гефестион, Теламон и я вступаем в город. Шесть тысяч горожан убиты, тридцать тысяч будут проданы в рабство. На улице Сёдельщиков тела громоздятся, достигая высоты по пояс. Наши лошади ступают по обугленной плоти и переступают через отсечённые конечности. Женщин и детей согнали на площади, дожидаться торгов. Их пленители нацарапали на них свои имена их собственной кровью: это дешевле, чем чернила, а работорговцы должны знать, кому за кого платить. Вид множества обугленных, развороченных трупов повергает в ужас даже Теламона.
— Должно быть, — говорит он, — так выглядела Троя.
Я ему не верю.
— Это страшнее.
Антипатр, подъехав, хлопает меня по плечу на отцовский манер.
— Ну что ж, дело сделано. Теперь тебя будет бояться вся Греция.
Всю ночь мы с Гефестионом не разговаривали: я вообще не произносил никаких слов, кроме приказов, передававшихся через Гефестиона и Теламона командирам отрядов. Мною было приказано не отнимать детей у матерей и продавать всех семьями, не разлучая, но на рассвете предназначенных к продаже выгнали за Прэтские ворота, на Фиванский тракт, и работорговцы принялись отбирать самых привлекательных женщин, чтобы продать их в качестве наложниц. Ясное дело, что дети при этом только мешают, поэтому младенцев у миловидных молодых матерей безжалостно отбирают. Их, из сострадания, берут себе матроны постарше, годные не для постельных утех, а лишь для домашней работы.
Теламон предлагает мне проследить, чтобы мой приказ выполнялся, и я встречаюсь с ним взглядом. Конечно, его порыв продиктован добрыми намерениями, но в данных обстоятельствах выглядит нелепо. Мы, конечно, можем заставить торговцев повиноваться, пока они находятся в нашем лагере. Но кто помешает им разлучить матерей с детьми или попросту утопить младенцев в канаве, когда их караваны покинут развалины города и отправятся в путь? Здесь, по крайней мере, дети попадают в руки приёмных матерей, которые не дадут им умереть.
— Оставь их в покое, — машу я рукой.
Наступает день. Я смотрю на северо-запад, в сторону Херонеи. Толпы мародёров уже тянутся потоком из Фокиды и Локриды: онемевшие от жадности, они проходят через ворота, чтобы собрать кости царских Фив. Надо ли мне остановить их? Зачем?
Позднее мы с Гефестионом отмываемся в струях летнего Йемена. Смыть копоть и сажу не так-то просто. Мой товарищ поворачивается спиной к руинам того, что было Фивами, и говорит:
— Ещё вчера я и представить себе не мог, что ты способен на такое.
— А я и не был способен на такое, — звучит мой ответ. — Вчера.
Глава 10 ГЕФЕСТИОН
Когда я впервые увидел Гефестиона, мне было десять лет. Ему было одиннадцать. Он прибыл в Пеллу из родовых владений в высокогорьях Эордеи. Отец Гефестиона, Аминтор, представлял при дворе моего отца интересы Афин. Эта должность, «proxenos», была наследственной и считалась весьма почётной. Но между Македонией и Афинами существовали постоянные трения, порой перераставшие в открытые военные столкновения, и Аминтор, опасаясь, что его заступничество за Афины вызовет гнев Филиппа (хотя эти двое выросли вместе и оставались друзьями), некоторое время держал своего младшего сына вдали от столицы и двора. Лишь когда Гефестиону минуло одиннадцать, отец привёз его в Пеллу, чтобы подготовить к поступлению в свиту, куда ему, как и мне, предстояло быть зачисленным в четырнадцать лет.
В ту пору моим наставником был некто Леонид, имевший обыкновение, дабы «закалить тело и дух», будить меня за час до рассвета и в любую погоду гнать купаться в реку. Я этого, само собой, терпеть не мог.
Вода в Лудиасе, возле Пеллы, так холодна, что пробирает до костей даже летом, а что за стужа царит там зимой, невозможно описать. Стоит ли говорить, что, стараясь избежать этих купаний, я шёл на всяческие ухищрения, по большей части напрасные. В конце концов до меня дошло, что раз от этих утренних омовений не избавиться, так лучше уж заниматься ими не по принуждению (что делает их ещё более неприятными), а по доброй воле. Я стал вставать раньше наставника и успевал искупаться, пока он ещё лежал в постели. Леонид счёл это проявление характера своей заслугой, для меня же испытание ледяной водой стало вполне терпимым, ибо теперь я мог сказать себе, что занимаюсь этим в силу собственного решения.
Однажды на рассвете (день выдался таким холодным, что купаться мне пришлось в проруби, которую предварительно понадобилось проделать) я, возвращаясь после купания мимо царского манежа, услышал внутри голоса и стук копыт. Мне стало любопытно, и я тихонько заглянул внутрь. Гефестион был на арене один, не считая его наставника. Восседая на своём рослом, семнадцати пядей, гнедом по кличке Резвый, он управлял конём одними коленями, не касаясь поводьев, и держал в руках короткую пику. Наставник сопровождал каждое его движение потоком указаний и замечаний, которые Гефестион вроде бы воспринимал с почтительным вниманием, но делал лишь то, что считал нужным сам. До того момента мне никогда не доводилось видеть человека, не только мальчика, но и мужа, столь внимательного и чуткого в отношении своего коня. Правил он едва уловимыми движениями коленей и лёгким перемещением своего веса, а в поводьях, похоже, не нуждался вовсе. Он легко побуждал Резвого менять аллюр, причём, какие бы повороты ни совершал конь, сам продолжал сидеть совершенно прямо. В ту пору Буцефала у меня ещё не было, а тогдашний мой конь по выездке не шёл с Резвым ни в какое сравнение. Любо было смотреть, как ловко всадник и его скакун, достигшие полного взаимопонимания, выполняли самые сложные кавалерийские упражнения. В то время как Резвый без труда переходил с галопа на шаг и кружил по арене, сам Гефестион сидел на коне, как будто прибитый к нему гвоздями. Спина прямая, плечи расправлены, брюшные мышцы напряжены. Малейшее, совершенно незаметное со стороны изменение положения корпуса всадника воспринималось конём как команда, которая выполнялась незамедлительно и безукоризненно.
Я покраснел от стыда, ибо до сих пор совершенно искренне считал себя превосходным наездником и лишь теперь понял, как мало я понимаю в лошадях и как плохо умею с ними управляться. Оказывается, я не более чем самодовольный невежда. И зачем, спрашивается, отец приставил ко мне этого пустоголового Леонида, только и знавшего, что загонять меня в ледяную воду? Вот чему мне следовало бы учиться!
Однако спустя мгновение мой гнев обратился против меня самого. Разве я не сам хозяин своей жизни и не от меня зависит, что познать и чем овладеть?
В тот миг я поклялся себе не только в совершенстве овладеть искусством всадника и кавалерийского командира, но прежде всего самому сделаться собственным наставником, выбрав нужные мне знания и навыки, и сделать всё возможное, чтобы достичь в этих областях совершенства.
Гефестион меня не замечал, а подойти к нему самому мне не хватало духу. Он показался мне не только самым привлекательным юношей, но и вообще самым красивым человеком любого пола и возраста, какого я когда-либо видел. И тогда я дал себе ещё одну клятву: этот человек непременно станет моим другом, а когда мы вырастем, вместе выступим против правителей Персии.
Принято считать, что дети живут своими, сугубо детскими, простыми и непритязательными интересами. На самом деле это далеко не так. В десять лет я оценивал окружающий мир столь же вдумчиво, как и ныне, а любознательность проявлял даже большую, ибо скучная зубрёжка, навязываемая старшими, ещё не успела притупить во мне изначальную тягу к познанию. В ту пору я уже мог объективно оценивать действительность и потому сразу, на той самой арене, понял, что Гефестион самой судьбой предназначен для того, чтобы на всю жизнь стать для меня самым дорогим другом. Полюбив его всей душой, я сразу почувствовал, что наша любовь будет взаимной. Так оно и случилось, а чувство, зародившееся во мне в тот миг, оставалось неизменным все эти годы.
Долгие полтора года я не заговаривал с Гефестионом, но внимательно к нему присматривался. Если мне что-то не давалось, например не получалось какое-то упражнение, я находил его, наблюдал за тем, как проделывает это он, и, подражая ему, добивался желаемого. Гефестион, разумеется, не был слеп. Он заметил мой интерес, но некоторое время не подавал виду. Таким образом, мы стали по-своему близки, не успев перемолвиться и словом. Ну а к тому времени, когда мне исполнилось двенадцать, мы уже были неразлучны.
Для тех, кто по складу своего ума склонен видеть во всём дурное, скажу, что любовь молодых людей всегда сопряжена со связывающими их тайными мечтами и стремлением не только к славе, но и к той чистой добродетели, которая, как кажется им, замутнена и искажена старшим поколением, но в которую молодёжь, несомненно, вдохнёт новую жизнь. Такая любовь по своей природе не столь уж отлична от испытываемых друг к другу чувств молодых девушек. Ей, разумеется, присущ физический аспект, но у людей с благородными помыслами он никогда не выступает на первый план, уступая место возвышенной, духовной близости. Такая любовь подобна любви Тесея и Пирифоя, Геракла и Иолая, Ахилла и Патрокла. Юноши стремятся доставить друг другу радость, становясь лучше, и становятся лучше, чтобы доставить друг другу радость.
К тому времени, когда мне пошёл тринадцатый год, мой отец, подкрепив свои уговоры золотом, добился прибытия в Пеллу в качестве наставника для знатных македонских мальчиков знаменитого афинского философа Аристотеля. До сих пор те, кого предназначали ему в ученики, в подавляющем своём большинстве интересовались лишь охотой, лошадьми и воинскими упражнениями. В число подопечных философа попали и Птолемей, и Кассандр, и Любовный Локон, и мы с Гефестионом. Эллинское наречие нам преподавал зять Аристотеля Эйфорион, основной задачей которого было избавить нас от ужасного, варварского македонского акцента и привить нам чистое аттическое произношение. Всякий, кому доводилось изучать языки, знает, что в любой группе учеников непременно найдётся хоть один, которому это никак не даётся. Среди нас полной неспособностью к усвоению эллинской речи выделялся Марсий, сын Антигона. Когда он тужился, силясь выговорить хоть что-то на афинский манер, мы надували щёки и затыкали рты, стараясь не покатиться со смеху. Но как-то раз, в полдень, он распотешил нас до того, что сдержаться не удалось. Мы взорвались и принялись кататься по траве чуть ли не в истерике.
И тут неожиданно на нас с жаром обрушился Гефестион. Никогда прежде я не видел его в таком гневе.
— Неужели это кажется вам смешным? — воскликнул он и, указав на восток, в сторону моря, продолжил: — А помните ли вы, мои недалёкие друзья, что там находится Персия, которую мы мечтаем когда-нибудь покорить? И персы об этом знают. Хотите знать, что они делают сейчас? Пока мы ржём и катаемся по земле, как жеребята, они проводят время в напряжённых трудах. Мы бездельничаем, а они потеют.
Его суровая отповедь быстро отрезвила всю нашу компанию, и даже наставник выглядел смущённым.
— Довольно скоро нам предстоит встретиться с этими персидскими юношами в бою. Конечно, нас манит победа, но достаточно ли будет превзойти противника силой? Нет и ещё раз нет! Мы должны показать азиатам, что превосходим их не только воинским умением, но доблестью, благородством, высотой душевных стремлений. Они должны сами признать за нами право владеть их царством, ибо мы превосходим их во всех добродетелях, к числу коих относится и самообладание.
Весть о тираде Гефестиона облетела Пеллу на крыльях. Встречая его на улицах, люди одобрительно похлопывали моего друга по плечу, а на рынке шорники и зеленщики приветствовали его вставанием.
Отец призвал меня к себе для беседы наедине.
— Так это и есть тот мальчик, которого ты избрал себе в друзья? По-моему, его, несмотря на юные годы, можно с полным основанием назвать мужчиной.
В устах Филиппа это звучало как наивысшая похвала. После того случая все мы стали относиться к занятиям серьёзнее и уже не считали изучение поэзии или аттической грамматики чем-то недостойным настоящего воина.
И вот тот же самый Гефестион на свой лад укорил меня за расправу над Фивами. В своё время, когда оба мы были мальчиками, Аристотель учил нас тому, что счастье состоит в «активном использовании всех способностей человека в согласии с добродетелью». Но на войне слово «добродетель» пишется кровью врага.
Теламон убеждал меня в том, что в солдатской котомке не должно быть места состраданию. Я знаю, в известном смысле он прав. Но мне известно и то, что за всё надо платить. Все люди должны отвечать за свои деяния, в том числе и злодеяния. Это относится и ко мне.
Но как бы то ни было, цель, ради которой я стёр Фивы с лица земли, была достигнута . Вся Эллада почувствовала, в чьих руках, и твёрдых руках, находятся поводья. Недовольные умолкли, недруги прикусили языки, разгоравшиеся было восстания сошли на нет. Новых мятежей не последовало, а в Пеллу потянулись посольства с поздравлениями и заверениями в преданности. Выглядело это так, словно все греки только и мечтали, чтобы я их возглавил.
— Веди нас, Александр! — наперебой заявляли послы разных городов. — Веди нас против персов!
Отряды добровольцев приходили из Афин и из всех полисов союза. В армию было набрано шесть тысяч гоплитов, шестьсот всадников и ещё пять тысяч пеших наёмников. Таким образом, с учётом десяти тысяч пеших и полутора тысяч всадников, уже переправившихся за проливы, дабы подготовить плацдарм, силы вторжения составили почти сорок две тысячи человек. Близился час Великого Отплытия. Пелла превратилась в огромный военный лагерь. Всех охватило такое возбуждение, что даже животные не могли спать. С моей стороны требовалось действие, какой-то знак, подобный памятному поступку Брасида, сжегшего в Мефоне свои корабли, дабы его люди поняли, что пути назад нет.
Для Праздника Муз я собрал войско у Диума, на живописном берегу, откуда открывался вид на величественные, покрытые снежными мантиями Оссу и Олимп. Одних только воинов, с учётом тех, кому предстояло остаться дома под началом Антипатра, насчитывалось около шестидесяти тысяч, всего же, с учётом женщин и слуг, народу набралось вдвое больше. Мною был устроен грандиозный, изрядно опустошивший мою сокровищницу пир. На почётных местах в окружении видных командиров восседали Парменион и Антипатр.
И тут я приступил к раздаче своих земель. В Македонии личные владения царя называются «basileia cynegesia», «царские охотничьи угодья». На момент моего восшествия на престол к угодьям принадлежала примерно треть царства, не считая завоёванных и присоединённых провинций, по закону и обычаю находившихся под властью короны. Таким образом, я являлся обладателем необъятных полей, лугов и пастбищ, лесов и рудников. Каждому из военачальников Филиппа достались в наследственное владение обширные и богатые земли. Собственную усадьбу — Озёрный Утёс — я предложил Пармениону, который, к его чести, отклонил этот дар. Все полководцы обрели владения, достойные царей. Гефестиону я подарил Эордею, одно из любимых владений моего отца. Без пожалований не остался ни один командир, вплоть до сотника. Антигон стал владетелем трёх долин в верховьях Стримона. К Теламону отошло селение близ залива Торон. По мере раздачи земель я чувствовал всё большее облегчение, словно избавлялся от некоего тяжкого бремени. С лёгким сердцем я раздаривал нивы и сады, рыбные заводи и строевой лес. Мне хотелось раздать всё имущество, до последней пряжки, не оставив себе ничего, кроме коня и копья. Даже десятники получали выпасы и табуны, даже рядовые в фаланге становились владельцами сельских усадеб. Я простил все долги и освободил семьи взявших оружие от всех податей. Всё принадлежавшее ранее Филиппу и лично мне перешло в собственность моих товарищей. Приграничные леса, захваченные у вождей Иллирии, вернулись к прежним владельцам, поскольку теперь они стали нашими союзниками. Хлебородные провинции за Дунаем и пастбища во Фракии я подарил нашим товарищам из Фессалии, Пеонии и Агриании. Каждый новый дар встречали бурей рукоплесканий, а когда я закрепил за своим дорогим Пердиккой богатое владение Триассы, тот выступил вперёд и перед всем войском спросил:
— Александр, что же ты оставишь себе?
Об этом я даже не подумал.
— Свои надежды, — вполне серьёзно ответил я, и собрание взорвалось неописуемым восторгом.
Лишь отважные командиры Коэн, Любовный Локон и Эвгенид Счетовод из Херонеи остались без пожалований. За всё это время их имена не прозвучали ни разу, и ты, юный друг, можешь понять, что они чувствовали уныние и тревогу. Им казалось, что они по неизвестной причине навлекли на себя мой гнев, и это, разумеется, не могло их не печалить. У Счетовода, надо сказать, имелись основания опасаться моей немилости, ибо он, влюбившись в девицу из одного северного племени, едва не дезертировал с Дунайского рубежа. Он полагал, что был прощён лишь из уважения к тому, что его отец был школьным товарищем Филиппа, а мои люди тем временем тайно отыскали его возлюбленную и, не применяя насилия (ибо она была свободной женщиной), обратились к ней от моего имени с предложением принять руку этого человека. Теперь она, украшенная свадебной гирляндой, находилась здесь, укрытая от глаз воздыхателя. Точно так же, как возлюбленные Коэна и Любовного Локона, пребывавших относительно этого замысла в полном неведении.
Когда я наконец вызвал эту троицу вперёд и представил им их невест, гром ликования вознёсся до небес. Свадебные обряды мы совершили здесь же, на глазах у всей армии. Должен сказать тебе, что среди всей этой радостной круговерти нашёлся лишь один человек, додумавшийся сделать подарок мне. Элиза, невеста Счетовода, подарила мне пару танцевальных сандалий, сшитых ею собственноручно.
Право же, в тот день я был счастливейшим из смертных, а глядя на блестевшую под луной вершину Олимпа, дерзко подумал о том, что столь сладостное чувство недоступно даже богам. Потом, один за другим, стали брать слово полководцы.
— Братья, — заявил Антигон Одноглазый, — честно признаюсь вам, что, когда Филипп умер, я в душе сомневался, придутся ли Александру по мерке отцовы солдатские доспехи. То, что храбростью, талантом и честолюбием боги Александра не обделили, стало ясно уже давно, но сможет ли столь молодой человек снискать уважение и преданность заслуженных полководцев и ветеранов армии его отца? Думаю, друзья мои, сегодня вечером ответ на этот вопрос стал очевиден для всех. В глазах нашего юного царя я вижу, что он чужд корысти и себялюбия и чтит добрую славу превыше любых наград. Позволю себе сказать о нём то, что было сказано гирканами о Кире Великом:
Всеми богами клянусь вам, друзья, он становится только счастливей, Нас одаряя добром и жажду богатства презрев.Снова и снова произносили командиры прочувствованные речи. Когда поднялся Счетовод, по его бородатому лицу струились слёзы.
— Воистину, о Александр, ты одарил меня счастьем превыше всяких мечтаний. Однако клянусь рукою Зевса: если ты дашь мне отпуск на время, достаточное, чтобы заронить семя во чрево возлюбленной и зачать наследника, я не стану предаваться праздности и утехам в новообретённых владениях, но, вооружившись, последую за тобой, куда бы ты ни повёл.
Следующим обратился ко мне мой доблестный Коэн.
— Веди нас в Сарды, в Вавилон и в сам Персеполь, — возгласил он. — Клянусь, Александр, я не успокоюсь, пока не узрю тебя восседающим на троне самого царя царей Персии!
Книга четвёртая ПОЗОР ПОРАЖЕНИЯ
Глава 11 БИТВА ПРИ ГРАНИКЕ
Ты следишь за моим повествованием, Итан? Вижу, больше всего тебя увлекают «кровавые» истории. Ну что ж, двинемся на восток вместе с армией, выступающей из Македонии, переправляющейся через проливы, разделяющие Европу и Азию (в направлении, противоположном тому, каким сто пятьдесят лет назад осуществлял своё вторжение Ксеркс), и водружающей свой львиный стяг на земле, обладателем которой считает себя нынешний царь Персии, Дарий Третий. Где же он, мнящий себя Владыкой Востока? Узнав о том, что мы явились посчитаться за обиды, нанесённые его предками, он не осмелился выступить против нас лично, но поручил это своим подданным, сатрапам западных провинций, собравшим стотысячное конное и пешее войско и полагающим, что этого будет вполне достаточно, чтобы сбросить нас в море. В Зелее, в тени священной Трои, его полководцы осаждают так называемые Врата Азии. Впрочем, речь не о персах, а обо мне.
Должен сказать, что ближе всего к гибели (за исключением одного случая в Газе, когда в меня угодил дротик, пущенный из катапульты) я оказался именно в сражении при реке Граник. Персидский всадник по имени Резак нанёс мне спереди удар мечом, который, окажись он чуть сильнее, не только разрубил бы мне шлем, но и раскроил бы череп.
Основным оружием персидской конницы является дротик и акинак, нечто среднее между мечом и кинжалом, хотя в последнее время многие стали перенимать у нас обычай использовать длинное копьё. Что же касается избранной тысячи и «родственников», то эти отборные воины вооружены тяжёлыми мечами из дамасского булата, подобными тем, какими сражался сам Кир Великий. Этот длинный и прочный однолезвийный меч выковывается вместе с рукоятью из одного куска прочнейшей сирийской стали.
Удар Резака снёс верхнюю часть моего шлема вместе с украшенным перьями пустельги гребнем в то самое мгновение, когда моё копьё вошло в его грудь под правым соском. Железо ослабило удар, и, хотя я получил глубокий порез, который после боя пришлось зашивать, череп остался цел. В первый момент я не ощутил боли и понял, что ранен, лишь когда кровь из раны стала заливать мне глаза. Есть один секрет, очень полезный для любого раненого воина: если ты знаешь, что твоя рана несмертельна и не грозит тебе увечьем, постарайся воспринять её как предмет гордости и тщеславия. Для доблестного мужа полученная в честном бою рана есть отличие и награда.
К тому моменту мы уже лишились тридцати храбрейших «друзей» из отряда Сократа Рыжебородого, которые полегли под жесточайшим обстрелом, штурмуя крутые утёсы над переправой. Эти люди пали смертью храбрых, исполняя мой приказ, и их смерть, отзываясь в моём сердце, заставляла меня приветствовать любую боль, выпадавшую на мою долю.
Когда царь Македонии лично ведёт в атаку своих «друзей», по обе его стороны находятся воины столь высокой доблести и отваги, сидящие на столь могучих и прекрасно обученных скакунах, что нет на земле войск, способных отразить натиск этой единой, охваченной порывом общего вдохновения несокрушимой силы. В истории военного искусства нет ничего даже отдалённо напоминающего эту неистовую бурю, её просто не с чем сравнить. Клит Чёрный как-то сказал, что, устремляясь в атаку в составе ведущего клина, чувствовал себя так, словно находился на борту железного корабля, подхваченного могучим ветром и мчащегося вперёд, дабы обратить врага в прах всесокрушающим тараном.
Это неплохое описание, но в нём не учтён некий основной элемент, делающий, на мой взгляд, атаку «друзей» неотразимой. Я имею в виду жар дыхания, бурлящую энергию их неистового напора, имеющую не только механическую, но и внутреннюю природу. На полном скаку я чувствую запах чеснока, распространяемый скачущим слева Теламоном, а моя нога касается бока Резвого, коня Гефестиона, мчащегося справа. Я ощущаю бронзу его нагрудной пластины, и мне в ноздри бьёт запах взрываемой его копытами почвы. Буцефал подо мной разгорячён настолько, что поднимающийся из его ноздрей пар обжигает плоть. Его воля ощущается мною не как продолжение моей, но как сила, проистекающая из его собственного сердца. Для меня он не животное, а равный мне воин. Его воодушевление воспламеняет меня. Я подпитываюсь от него, так же как он подпитывается от меня. Буцефал любит такие мгновения. Это именно то, для чего он был рождён.
Когда наш передовой клин вспенивает воду над отмелью Граника и метательные копья врага со звуком, напоминающим треск рвущегося полотна, пролетают мимо наших ушей, мой конь и я испытываем общий для нас обоих экстаз, суть которого в том, чтобы отдаться судьбе. Когда копыта Буцефала ударяются о донный песок и гравий, сотрясение передаётся мне и воспринимается всем моим телом. Направляя его лёгким наклоном тела вперёд, я ощущаю импульс, идущий от его задних копыт, чувствую, как сжимается и растягивается его хребет. Мощь этого движения такова, что кажется, будто я оседлал молнию.
Мы несёмся на врага. Воздух наполняется запахом камня, мочи и железа. Всё, что может быть подготовлено, подготовлено. Что можно продумать, продумано. Дальнейшее, увы, находится во власти случая. Мы превратились в цель для десятков метательных копий, сотня сердец взывает к своим богам, призывая погибель на наши головы. Ничто, ни наша броня, ни наша воля, ни плечо товарища (хотя Клит, например, отрубает по локоть правую руку персидского всадника Спифридата, уже замахнувшегося, чтобы отправить меня в ад), не может гарантировать выживание. Лишь владыка Олимпа, к которому я беспрестанно взываю пред ликом смерти.
Ты спрашивал, Итан, испытываю ли я страх. Отвечу так: у меня нет на это права. Солдату в строю позволительно ощущать ужас, но командиру — никогда. От него зависит слишком многое: и жизни товарищей, и исход боя. Разрешить себе такую роскошь, как страх, он не может. Я, например, пожираю свой страх, набрасываясь на него с яростью льва. Поглощаю его, растворяя в своём чувстве долга по отношению к войску и жажде славы.
Граник — это быстрая и мелкая речушка, сбегающая с горы Иды близ истоков Скамандера, питающего водами равнины Трои. Его русло петляет по зарослям лиственницы и ольхи, прорезает морское побережье и огибает отрог Иды, промывая в камне прямой, как стрела, канал, уходящий через равнину, где стоит греческий город Адрастея, на север, к Пропонтиде. Почва в пойме реки песчаная, но плотная. Предводителям войск Азии было бы трудно найти лучшее место, для того чтобы встретить незваных гостей и отбросить их назад.
Как я говорил, царя Дария с войском нет. Я весь день высылаю вперёд конных дозорных, которые пытаются углядеть его великолепную колесницу и драгоценные доспехи, но тщетно. Потом мы узнаем, что он находится в десяти тысячах стадиев восточнее поля боя и возлежит на подушках где-нибудь в Сузах или Персеполе. Я горько разочарован.
Владыка Азии полагает, что отогнать меня смогут даже его подданные.
Наше войско появляется на равнине Гранина ближе к вечеру, после четырёхчасового марша от Приапа. До сумерек остаётся ещё пара часов. Силы персов сосредоточены на противоположном берегу. Их фронт составлен исключительно из конницы, насчитывает примерно двадцать тысяч всадников (почти в четыре раза больше, чем у нас) и растянулся на целых пятнадцать стадиев. Персидские воины не ждут начала битвы, стоя рядом с лошадьми, но сидят верхом, в полном вооружении. В тылу кавалерии, почти в двух стадиях позади, находится вражеская тяжёлая пехота. Это греческие наёмники, главным образом из Аркадии и Пелопоннеса, с некоторым количеством спартанцев. Их шесть или семь тысяч, и это серьёзная сила, хотя и уступающая нашей. Правда, вокруг наёмников в качестве подкрепления собралась огромная, тысяч в шестьдесят, орда ополченцев: фригийцев, мизийцев, армян, пафлагонцев и прочих. В основном это насильно согнанные земледельцы, которые, несомненно, разбегутся, как только прольётся первая кровь.
Нам не хватает нескольких сотен, чтобы наша численность составила сорок две тысячи человек. Гоплиты с сариссами разбиты на шесть отрядов, по пятнадцать сотен в каждом. К ним примыкают вооружённые на тот же момент три тысячи пеших царских телохранителей. А поддержку их осуществляют формирования одриссов, трибаллов, иллирийцев, пеонийцев, союзных нам эллинов, а также наёмников, как в лёгком, так и в тяжёлом вооружении. В общей сложности набирается тысяч тридцать. Конница состоит из восьми отрядов «друзей» под общим командованием Филота, (в каждом должно быть по двести воинов, однако некоторые недоукомплектованы, а царский отряд Клита Чёрного, напротив, насчитывает триста всадников. В целом македонских всадников набирается восемнадцать сотен, столько же, сколько тяжеловооружённых конных фессалийцев, ведомых Калатом. Последние входят в состав левого крыла, которым командует Парменион. К этому следует добавить восемьсот царских копейщиков (они разбиты на четыре отряда), две сотни легкоконных пеонийцев, шесть сотен союзной греческой кавалерии, четыре сотни фракийцев, пять сотен критских лучников и примерно то же количество метателей дротиков из Агриании.
Войско вступает на равнину примерно в десяти стадиях от реки.
— Пора! — говорю я Теламону, и он передаёт мой приказ по цепи:
— Вперёд!
Корпус из походной колонны разворачивается в атакующий боевой порядок. Кавалерия и метатели дротиков занимают правый фланг, слева от них становятся царские телохранители Никанора, далее выстраиваются тяжеловооружённые формирования Пердикки, Коэна, Аминты, ещё левее — фракийцы, наёмники и союзные нам греки. Эти последние вместе с другими союзниками, наёмной конницей и фессалийцами составляют левое крыло, подчинённое Антигону Одноглазому. Я выезжаю перед строем на возвышение, вроде бы считающееся холмом, но на деле являющееся не более чем бугорком, уже получившим от наших острословцев гордое имя Прыщ. В качестве рассыльных при мне состоят одиннадцать смелых, честолюбивых молодых людей хорошего происхождения, на быстрых, выносливых лошадях. Выстроившись позади бугра, они, не сводя с меня глаз, дожидаются приказов. По знаку Теламона очередной гонец выезжает вперёд, получает депешу и мчится во весь опор, чтобы доставить её по назначению. Приказы я передаю им не лично, а через Гефестиона, Птолемея, Эвмена или Рыжего Аттала, которые, с ещё одиннадцатью достойными воителями, составляют то, что именуется «agema», или личное боевое охранение. Каждое послание начинается с имени того, кому оно адресовано, и содержит конкретные указания. Например: «Филот, расположи линию в шестистах локтях от реки: конница выстраивается в глубину, “зубами дракона”, клиньями по пятьдесят всадников. Жди дальнейших указаний. Если есть какие-то нужды, передай просьбу с этим гонцом».
Курьер мчится галопом, и к тому времени, когда второй, третий и четвёртый его товарищи успевают получить приказы и умчаться, первый уже возвращается с ответом Филота.
— Отдых!
Пехотинцы развязывают ремни, на которых подвешены сариссы, втыкают копья тупыми концами в землю. Припадая на одно колено, солдаты упирают висящие у них на груди щиты нижним краем в землю, однако самих щитов не снимают. На каждые шестнадцать бойцов приходится каптенармус и слуга: сейчас оба они обходят строй, разливая вино из кожаных бурдюков прямо в подставленные, сложенные чашечкой ладони. Поразительно, как много вина может влить в себя человек, когда над ним нависает страх!
Весь месяц, ушедший у нас на переход из Европы в Азию, я каждую ночь проводил совещания с командирами своих разведывательных разъездов и лазутчиками. Они докладывали мне обо всех передвижениях противника, а сейчас, верхом на конях, собрались вокруг моего командного пункта. Я посылаю их вперёд, к вражескому фронту, и они докладывают о местоположении различных подразделений, их составе, вооружении и командирах.
Эти люди — если хочешь, можешь назвать их шпионами — незаменимы, без них не обойтись ни одной армии. Среди лазутчиков и перебежчиков есть дезертиры из рядов вражеского войска, но большинство составляют представители народов, покорённых персами. У меня таких шпионов десятки, а вот Филиппу в Греции служили сотни.
В большинстве своём это интересные люди. Среди них немало прирождённых разбойников, но есть и настоящие герои. В любом случае они заслуживают уважения, ибо, выполняя опасные задания, рискуют не карьерой или прибылью, а своими жизнями, а нередко и жизнями своих близких. Если мы потерпим поражение, персы будут относиться к ним не как к солдатам противника, но как к изменникам, со всеми вытекающими последствиями.
Как удаётся находить таких людей? Да очень просто: они сами тебя находят. И сами приводят к тебе своих знакомых или родственников, тоже готовых послужить на этом поприще. Мой отец широко использовал такого рода агентов. Выступая против врага, Филипп направлял своих официальных посланников с перечнем требований и претензий, а когда они начинали обсуждаться, в стенах каждого города обнаруживались ораторы, энергично выступавшие в пользу Македонии и её царя. К этому их, как правило, склоняли щедрыми пожалованиями и перспективой возвышения в случае утверждения власти Филиппа на их родине. Должен сказать, что Филипп, поставив какое-либо государство в зависимость от себя, старался сохранить и расширить число своих сторонников, а заодно держать влиятельных людей под постоянным контролем. Знатные мужи становились в его войске командирами собственных формирований, а их дети присоединялись к царской свите, где воспитывались вместе с благородными юношами Македонии. Я и сам осуществляю ту же политику. Взять хотя бы наших так называемых «греческих союзников». Все они, двенадцать тысяч пеших и шестьсот конных воинов, по существу, те же заложники. Они знают, что не могут вернуться домой и, если подведут меня, вольно или невольно, спрос с них будет по всей строгости.
Если сегодня мы возьмём верх, города Эгейского побережья посыпятся нам в руки, как черепичные плитки. При этом мы не можем допустить, чтобы на освобождённых просторах воцарился хаос. Свобода, порядок и справедливость — вот то, что мы должны принести с собой, если хотим обеспечить свой тыл и безопасность коммуникаций. С этой целью необходимо поставить у власти людей, на которых можно положиться, которые не станут использовать полученное с нашей помощью положение для собственного возвеличивания и сведения личных счетов. В ходе этой кампании я намерен неуклонно придерживаться этого принципа. Те вожди, которые примут меня как своего друга, станут моими друзьями, но вздумавшие противиться будут беспощадно сокрушены.
Все города, не выступившие против меня, сохранят самоуправление, ибо мне нужны отнюдь не они, а Дарий. Я явился в Азию не ради эгейцев, но ради Персии.
Возвращаются конные разведчики. Меня окружают мои полководцы.
— Сейчас? — спрашивает Филот, указывая на уже перевалившее на западную сторону небосвода солнце. Он имеет в виду, что, если мы намерены завязать бой сегодня, тянуть с этим не стоит, иначе можно не поспеть до сумерек.
— А разумно ли это? — осведомляется Парменион, у которого тоже есть свои резоны. — Армия уже проделала сегодня длинный переход, да и часть прошлой ночи провела в движении. Время уже позднее, — указывает он, — так имеет ли смысл идти напролом через реку, прямо в зубы врагу?
Он предлагает дождаться ночи, под покровом темноты совершить обходный манёвр, переправиться на тот берег выше или ниже по течению, а утром обрушиться на врага, которому придётся менять свою диспозицию и который уже не будет защищён с фронта рекой.
Мне это не нравится.
— Погода в самый раз для боя, — замечает Кратер.
Его поддерживает Пердикка:
— Кровь у людей кипит. Пока она не остыла, давай понаделаем персам вдов.
— Где Мемнон? — интересуюсь я.
Молодой посыльный выражает готовность скакать на разведку.
— Не надо, я сам его отыщу, — говорит Гефестион.
Прежде чем я успеваю что-то сказать, он галопом мчится в сторону неприятельских позиций.
Мемнон — это самый умелый и способный из полководцев Дария. Он эллин, родом с Родоса, и служит царю персов за деньги. Наёмная греческая пехота подчиняется именно ему.
Для успеха дела мне жизненно необходимо узнать, какое место в персидском строю занимает Мемнон.
Парменион указывает на то, что вражеская диспозиция выглядит совершенно бессмысленной.
— Где это видано, чтобы сплошной фронт состоял из одной конницы, а вся пехота располагалась далеко в тылу? Это что, хитрость?
На самом деле дело здесь не в хитрости, а в гордости.
Знатные персы сражаются конными, а не пешими. Они стремятся к славе и хотят, чтобы честь победы над нами принадлежала не наёмникам и ополченцам, а именно им. Их построение не требует особого изучения. Главное — узнать, где Мемнон.
Мемнон знаком мне лично. Когда я был мальчиком, он, находясь в изгнании, провёл некоторое время при дворе моего отца в Пелле. Мы подружились, и от него я узнал о войне не меньше, чем от Филиппа.
Мемнон сражался за царя персов. Именно его усилиями во времена моего детства Иония была возвращена под власть Артаксеркса, а его брат Ментор покорил для персов Египет. В ту пору братья стояли наравне с царями, основывали города и чеканили свою монету. Они брали жён из персидской знати, их дети обучались в Сузах и Персеполе. Впрочем, жена у них была одна, царевна Барсина. После того как убили Ментора, знатная вдова вышла за Мемнона, его брата.
Переворот вынудил Мемнона бежать. Он нашёл прибежище при дворе моего отца.
Возможно, Мемнон не являлся величайшим тактиком своего времени, но он стал первым, кто в отличие от Филиппа и Ментора возвысил военное ремесло до статуса науки. Мемнон начинал как моряк, а потому и в мореплавании, и в действиях военного флота разбирался ничуть не хуже, чем в сухопутных операциях. Он мыслил категориями кампаний, а не отдельных схваток. Из его уст я впервые услышал выражение «обозревать всё поле», подразумевавшее как стратегический, так и политический контекст. В политике Мемнон разбирался превосходно. Он умел вести переговоры, прекрасно чувствовал людей и знал к ним подход, одинаково уверенно выступая на многолюдных народных собраниях и участвуя в тайных консультациях с высшими сановниками. Ему были равно свойственны умение атаковать и способность выстроить оборону, умение обучать войска и способность вести их в бой. Он заботился о питании и снабжении армии и не допускал задержек с выплатой жалованья. Его люди любили его и с готовностью повиновались ему. Но он повелевал не только войсками, но и собственными страстями. Гнев был ему неведом, гордыню Мемнон считал постыдным пороком. Если проволочки сулили конечный успех, он ничуть не стыдился месяцами избегать сражения и никогда не поддавался на провокации. Прежде чем пускать в ход силу, он прибегал к столь действенному оружию, как золото, и предпочитал хитрости и уловки лобовому столкновению. Однако когда стратегическая обстановка требовала немедленных, решительных действий, он атаковал, не колеблясь. В сражении Мемнон был бесстрашен, в преследовании противника неутомим, но вместе с тем всегда демонстрировал готовность к достижению разумного соглашения. Каждый из его воинов получал чины и награды по справедливости и заслугам, а сам он честно служил тем, от кого принимал плату. Если у него и была слабость, то вполне извинительная: он желал, чтобы в нём видели не просто стратега, а военного мыслителя.
Мемнон был первым полевым командиром, который начал использовать карты. До него никто ни о чём подобном не слышал, да и слышать не желал: многие полагали, что рассматривать почву есть удел землепашца, но не благородного воителя. Считалось, что представление о поле предстоящей битвы полководец должен составить по донесениям собственных разведчиков, проводников из числа местных жителей или перебежчиков из вражьего стана. Что же до планов местности, то их причисляли к недостойным настоящего воина уловкам. Но Мемнон не ограничивался нанесением на карты особенностей тех мест, где ему предстояло вести боевые действия. Он наносил на папирус планы исторических сражений, которые тщательно изучал, а также исследовал участки местности, перспективные, с его точки зрения, под поля возможных будущих битв. По его приказу составлялись планы дорог и рек, перевалов, высот и ущелий. На составленную им карту Малой Азии были нанесены не только города, могучие реки и горные хребты, но просёлки, деревни и горные тропки, известные разве что козопасам. Он присматривал места, подходящие для воинских становищ, изучал подступы к ним с точки зрения доступности, лёгкости снабжения и возможности отступления.
Да, он принимал во внимание не только возможность победы, но всегда рассчитывал, какими путями и как скоро его войско сможет покинуть лагерь в случае неожиданной атаки превосходящих сил противника, предусматривая при этом на путях отступления места для засад, которые обеспечили бы прикрытие. Вёл Мемнон и хронику погоды, смены сезонов, длины дня и ночи, восхода и захода солнца: он всегда мог сказать, какова будет долгота дня и ночи на любом поле Азии. Он знал не только время сбора урожая ячменя во Фригии, Лидии, Киликии, но и имена крупнейших зерноторговцев и расположение закромов, где они хранят свой товар. Когда наступает половодье на той или иной реке? Можно ли преодолеть её вброд? Где?
Готовясь к битве, он всегда старался поставить себя на место противника. Причём исходил из того, что противник умён и использует свои возможности наилучшим образом.
Одиннадцатилетним мальчишкой я частенько наведывался к Мемнону и часами приставал к нему с расспросами. Мне хотелось узнать как можно больше о странах и народах Азии, и он, великий полководец, терпеливо рассказывал обо всём. Кто правит в Персии? Кто командует тамошними войсками? Мемнон рассказывал мне об Арситах и Реомитрах, Спифридатах, Нифатах и Мегадатах. Он описывал их настолько подробно, что у меня возникало ощущение, что я узнаю любого из них при встрече. Мемнон был влюблён в Персию, в великолепие, пышность и славу этой державы. А также в её женщин. Интересом к Востоку я заразился от него. Наверное, видя, как рьяно и упорно вёл я борьбу против этой великой державы, кто-то может предположить, будто Персия мне ненавистна. Совсем наоборот!
Я пленён ею. В своё время я настоял на том, чтобы Дор, слуга Мемнона, обучил меня персидскому языку. Я умею читать на нём и понимаю персидскую речь без перевода. Такие названия, как Вавилон, Сузы или Персеполь, ласкают мой слух.
Мемнон был докой не только в военном, но и в поварском искусстве. Он готовил закваску с тимьяном и кунжутом и пек собственный хлеб, размалывая ячмень в солдатской ручной мельнице. Я приносил ему зайцев и дроздов, и мы, строка за строкой, изучали «Анабазис» Ксенофонта. Какова ширина Киликийских ворот? Насколько быстро может армия достичь Столпа Иона? Можно ли превратить Евфрат в оборонительную линию? Я заставлял Мемнона озвучивать его философию войны. Как бы он стал атаковать прочно защищённую позицию? Как лучше производить разведку? Что труднее, защита или нападение?
Гефестион возвращается. Он обнаружил местонахождение Мемнона.
— Там, у излучины реки. Его сыновья с ним. Все хорохорятся. Похоже, он настроен задать нам взбучку.
Большинство бродов находится у излучин. Самые мелкие участки реки располагаются там, где она поворачивает. Я вижу, как поверхность воды рассеянно поблескивает (позднее солнце нам благоприятствует), когда она перекатывается по усеянному камнями ложу.
— Вызови сюда Рыжего, — говорю я Теламону, имея в виду Сократа Рыжебородого, командующего передовым отрядом «друзей». Ему предстоит выступить против Мемнона.
Гонцы скачут к Аминте, которому будет поручено поддержать Рыжебородого, и к Чёрному Клиту с приказом перебросить царское подразделение «друзей» с его крыла в центр.
Рыжебородый и Аминта галопом мчатся к моему командному пункту. Короткими, как код, фразами я излагаю свой план.
— Смотри, Рыжий, на тебя прольётся дождь из железа.
— Ничего, небось не промокну, — смеётся Сократ.
Каждый командир получает от меня ясные, чёткие указания, но никто из моих товарищей не представляет себе общий замысел.
Громко, чтобы слышали все, я обращаюсь к Пармениону, говоря так, чтобы услышали все:
— Друг мой, если мы помедлим, то враг под покровом ночи сможет от нас ускользнуть.
Я уверен, что Мемнон, со всей его энергией и напором, пытается настоять именно на таком решении. Он понимает, что время в данной ситуации союзник не нам, а персам. Если нам придётся преследовать уцелевшую армию по чужой территории, растрачивая силы на осады крепостей, которые мы не посмеем оставить у нас в тылу, мы в конечном счёте растратим все деньги и припасы. А противник сохранит армию. Но вот если сегодня, здесь, эта армия будет разбита, все эти города откроют нам ворота без боя.
Я указываю на тот берег.
— Взгляните туда, где дожидается нас враг. Разве это не величественное зрелище, на которое мы и уповали? Воистину это дар Творца Земли и Небес. Так возблагодарим же Его и возьмём то, что нам причитается.
Я поворачиваюсь к Теламону и командую:
— К бою!
Он подаёт знак, и над рекой разносится зов труб. Конюхи подсаживают тяжеловооружённых воинов на их лошадей. Всё поле мгновенно преображается: войска издают громовой клич, от которого каждый волосок на моём теле встаёт дыбом. Позади меня оживает лес пик: воины поднимаются с колена, формируя сплошной строй. Конница на флангах выстраивается клиньями. Военачальники покидают мой командный пункт, отправляясь к своим подразделениям.
А теперь послушай, каков боевой порядок поджидающей нас на равнине реки Граник армии сатрапов Дария.
Фронт противника целиком состоит из кавалерии. Левый фланг занимает двухтысячный отряд Арзамеса, правителя Киликии, которого поддерживают пятьсот наёмных греческих всадников из войска Мемнона, в большинстве своём ионийцы. Справа от них стоят Арситы, род, властвующий во Фригии на Геллеспонте. Под командованием этой защищающей собственные владения семьи находятся примерно тысяча фригийцев, три тысячи конных пафлагонийцев и две тысячи гиркан под командованием Спифридата, сатрапа Лидии и Ионии, двоюродного брата Арсита и зятя самого Дария. Все они сражаются под знаменем Арситов, представляющим собой золотого журавля на алом фоне.
Персы именуют такие штандарты «змеями» за их длинную змеевидную форму и то, как они полощутся на ветру. Справа от Спифридата стоит его брат Резак, который командует тысячей мидийских катафрактов. Они облачены в доспехи, представляющие собой долгополые одеяния с нашитыми на них заходящими одна на другую на манер рыбьей чешуи железными пластинами. После битвы мы подняли один такой доспех и убедились, что он весит девяносто фунтов. Несут этих всадников парфянские боевые скакуны, могучие, словно тяжеловозы.
Персидский центр составляют четыре тысячи тяжеловооружённых всадников Атизеса и Митробарзана, сатрапов Великой Фригии и Каппадокии, а также тысяча легковооружённых всадников Митридата, зятя Дария, который платит этим людям из собственного кармана. Сам он восседает на гнедом жеребце, стоящем, по слухам, тысячу талантов.
Правее Митридата расположились две тысячи всадников из Бактрии, ведомых Арбупалом, сыном Дария и внуком Артаксеркса. Говорят, что он самый красивый мужчина в Персии, если не считать его отца. Эти бактрийцы (и их товарищи по оружию из Парфии, Гиркании и Мидии) не проделывали путь в десять тысяч стадиев на восток из своих родных провинций; все они местные землевладельцы, чьи праотцы в своё время покорились Киру Великому и дали клятву служить персидским царям на поле боя. Ещё правее встал Фарнак, брат жены Дария Лисеи, собравший под свою руку конных ополченцев из Памфилии, Армении и Мидии, возглавляемых Нифатом, Петеном и Реомитрой, верными слугами царствующего дома. Замыкает построение справа лёгкая конница из Лидии под командованием Омара.
В шестистах локтях позади, выше по пологому склону, расположились пешие греческие наёмники. Получающих плату от Дария солдат Мемнона насчитывается шестьдесят семь сотен. Они разделены на три отряда, которыми командуют сыновья Мемнона, Агафон с Ксенократом, и сын Ментора Тимон. За спиной наёмников толпятся пешие ополченцы. Их насчитывается от шестидесяти до семидесяти тысяч, но это не воины, и они были бы бесполезны даже против армии зайцев.
Царский отряд, прибывший по моему распоряжению, становится в центре нашей позиции. Эвагор, мой конюх, направляется ко мне из тыла, ведя в поводу Буцефала. (На холм я въехал на другом коне, Эосе, но он предназначен не для боя, а для торжеств). Свитский мальчик Андрон подставляет сцепленные руки, и я вскакиваю на боевого скакуна.
— Зевс Спаситель и Победа! — восклицают при виде этого мои телохранители, и их клич подхватывают сорок тысяч глоток.
Подав знак Клиту Чёрному, я движением коленей поворачиваю Буцефала направо. Царское подразделение «друзей» трогается с места, переходя на лёгкий галоп.
Когда я был мальчиком, Мемнон научил меня двум правилам: «Раскрывая, скрывай» и «Ориентируя, дезориентируй ».
Сейчас я этим и занимаюсь. Дезориентирую. Интересно, скоро ли догадается об этом Мемнон, ведь по прошествии весьма недолгого времени я перейду от дезориентации к ориентации. А когда он сообразит, в чём дело, как отреагируют на его догадливость его персидские наниматели?
— Бей в «кость»! — командую я, и Теламон подаёт соответствующий знак.
«Костью» у нас называют короткий и широкий обрезок высушенного рябинового ствола, который, когда по нему бьют деревянной колотушкой, издаёт звуки, более резкие и громкие, чем любая труба. Они хорошо слышны даже на ветру, что позволяет поддерживать строевой ритм.
Младшие командиры выравнивают строй, и шеренги, в такт ударам в «кость», приходят в движение. Сам я, в сопровождении царского подразделения «друзей», скачу вдоль фронта направо. Неприятель наблюдает, и я не знаю, позволит ли он довести манёвр до конца, так и не вмешавшись. Мемнон, разумеется, тоже видит меня: перемещение вправо должно означать, что я ищу встречи с ним. Останется ли он безучастным наблюдателем, предоставив инициативу мне?
Гранин — река быстрая, но её можно пересечь вброд: глубина в этом месте чуть выше колен наших коней и примерно по бёдра пехотинцам.
Напротив, на возвышенностях, сконцентрировалась вражеская кавалерия, вооружённая в отличие от нас не длинными пиками ударного действия, а метательными копьями и дротиками. Это оружие дальнего боя, и очевидно, что, как только мы вступим в реку, на нас обрушится железный ливень. Первый шквал дротиков будет страшен, второй и того страшнее.
Я продолжаю двигаться лёгким галопом вдоль фронта, в четырёх сотнях локтей от реки, параллельно ей. До нашего правого фланга остаётся около пяти стадиев.
Мой план заключается в следующем.
На крайнем правом фланге нашего строя сосредоточена главная ударная сила армии: тяжёлая кавалерия «друзей», подкреплённая лучниками с Крита и метателями дротиков из Агриании. Мемнон, разумеется, прекрасно видит и то, что наши отборные подразделения сконцентрированы против него, и то, что я сам, во главе царского подразделения «друзей», направляюсь туда же.
Это и есть дезориентация.
Ибо Мемнон, как я надеюсь, не видит особых, укрытых за строем формирований: отдельного отряда «друзей» под началом Сократа Рыжебородого, усиленного двумя формированиями лёгкой пехоты под командованием Птолемея, сына Филиппа, прозванного Жалом за любовь к пчеловодству. Жало собрал под своей рукой две сотни добровольцев из числа молодых, самых быстрых и ловких во всей армии воинов. Все они получают двойное жалованье и обучены действовать в бою совместно с кавалерией и против вражеской кавалерии. Доспехи у них не в ходу: по части защиты эти бойцы полагаются на скорость и увёртливость, прочность щитов, именуемых «pelta», и боевой порядок, при котором они находятся непосредственно среди атакующих всадников.
Оружием им служит копьё в семь локтей длиной и длинный, позволяющий не только рубить, но и колоть меч. До сих пор мне доводилось использовать этих воинов лишь в горах, против диких племён. На коротком расстоянии (таком, как здесь, у Граника) они способны атаковать, не отставая от кавалерии, а после столкновения, в том коловращении, которое, как я полагаю, образуется и на берегу, и в речном ложе, способны нанести врагу страшный урон.
Помимо «друзей» Сократа Рыжебородого и лёгкой пехоты Птолемея в это штурмовое формирование включены великолепная пехота (пешие царские телохранители Аттала, брата Птолемея), пеонийская лёгкая конница Аристона и четыре отряда царских копейщиков под общим командованием Аминты.
Я надеюсь, что моё упорное продвижение к правому флангу обратит на себя внимание противника и заставит его приготовиться к отражению основного удара именно на этом направлении. Надеюсь, что с этой целью он снимет с центра и перебросит навстречу мне как можно больше формирований.
Ибо главный удар нанесу отнюдь не я. Его нанесёт Рыжебородый.
Ориентировать и дезориентировать. Я научился этому у Мемнона, и не исключено, что он разгадает мой замысел. Однако удастся ли ему убедить в своей правоте военачальников-персов? Причём убедить достаточно быстро: стоит промедлить с решением полминуты, и будет уже слишком поздно.
Я продолжаю двигаться к флангу. Мимо Рыжебородого. Перед фронтом «друзей». И неприятель реагирует. Конные подразделения начинают перемещаться из центра в направлении моего движения.
— Теперь посылай Рыжего.
Теламон делает знак. Воины Рыжебородого выдвигаются вперёд, как раз после того, как я и царское подразделение «друзей» проезжаем мимо. Подчинённые Рыжему командиры и он сам, на своём скакуне по кличке Хищник, дают отмашку своим всадникам. Шеренга приходит в движение.
«Друзья» издают боевой клич.
Конники Рыжего, выстроившиеся четырьмя клиньями, промежутки между которыми заполняют пехотинцы Жала, вырываются вперёд. Они скачут вниз по склону, сначала рысью, потом лёгким галопом. Воинственные возгласы не смолкают ни на миг. Пехота ускоряет шаг, переходит на бег. Я, со своей стороны, тоже ускоряю аллюр. Мой отряд по-прежнему движется вправо. Ещё дальше вправо. Чуть ли не правее неприятельского фланга...
Мемнон оказывается в трудном положении. Если он вернёт перемещавшиеся вслед за мной конные отряды в центр, для отражения атаки Рыжебородого, я обойду его с фланга. Если оставит их на фланге, Рыжебородый сможет прорвать центр. За Сократом в наступление уже двинулись копейщики и царские телохранители. За ними пеонийцы и две с половиной тысячи пехоты.
— Рыжий идёт!
Клинья Рыжебородого с улюлюканьем рвутся вперёд.
Что теперь будет?
Персы в плотном конном строю поджидают нас на высоком кряже, господствующем над рекой. Они вооружены метательными копьями и рубящими мечами. Пытаться остановить нас встречной атакой они не станут, ибо поступить так означает свести на нет своё изначальное преимущество. Нет, они останутся на месте, будут забрасывать нас сверху своими дротиками и ликовать, видя, как падают наземь кони и люди. На некоторое время наши воины окажутся полностью беззащитными: с трудом балансируя на скользких камнях русла, они, не имея метательного оружия, даже не смогут ответить ударом на удар.
Противник чует кровь, и его охватывает неудержимое, лихорадочное возбуждение. Пылкие, горделивые персидские всадники больше не могут оставаться на месте. Они выхватывают мечи и бросаются вниз по косогору в яростную атаку. Посреди реки персы сталкиваются с нашими конными и пешими наступающими отрядами, и там разворачивается рукопашная схватка.
Приходит мой черёд.
Царское подразделение «друзей», выстроившееся в шесть клиньев по пятьдесят всадников, устремляется в образовавшийся в неприятельском фронте разрыв. Оставшиеся шесть отрядов «друзей», ещё двадцать четыре клина по пять десятков конников, последуют за мной. Вся эта сила ударит на прорыв, со стороны русла, вверх по склону. К тому времени уже весь наш фронт, общая протяжённость которого составляет пятнадцать стадиев, перейдёт в наступление. Тяжёлая пехота, вооружённая сариссами, войдёт в реку под косым углом: справа и впереди царские телохранители Никанора, левее и чуть поотстав воины Пердикки, потом бригада Коэна и, соответственно, остальные четыре формирования.
Если центр противника всё же устоит, кавалерия «друзей» оттеснит его под удар нашего правого крыла, а если неприятель перебросит помощь туда, их конница столкнётся с лесом сарисс нашей вышедшей из реки фаланги. Так или иначе, не в том, так в другом месте вражеская линия будет прорвана. А как только это случится, боевой порядок персов полностью разрушится.
Всё разворачивается в полном соответствии с моими планами. Я сумел предвидеть все, кроме одной, но весьма важной и едва не сыгравшей решающее значение детали. Выдающейся доблести персидских воинов.
Бой у брода превращается в серию атак на мою персону. Мы пробиваемся дальше, выбираемся на берег и развиваем наступление вглубь прибрежной полосы, но отважные враги не оставляют попыток прорваться ко мне.
Благородный персидский всадник идёт в атаку, выкликая своё имя и имя своей матери, дабы, если он победит, товарищи знали, кого восславить, а если падёт, кого оплакать. Правда, об этом обычае мы узнаем лишь потом, от пленных, теперь же нам кажется, будто нам противостоит орда безумцев: каждый из них скачет в бой с криком, причём каждый кричит что-то своё. В Македонии мальчиков обучают сражаться в рукопашной не каждому за себя, а держаться, даже если строй смешался, парами, а ещё лучше тройками, так называемыми «ласточками» с лидером («клювом») в центре и впереди и «крыльями» по обе стороны, что позволяет атаковать наступающего врага с флангов. Подобная тактика показала себя весьма эффективной в стычках с племенами прирождённых наездников Фракии, каждый из которых, будучи прекрасным воином, сражается сам по себе. Тем паче оправдывает она себя в бою с персами, вооружёнными не длинными копьями, а дротиками и кривыми рубящими мечами.
Кроме того, панцири нашей тяжёлой кавалерии защищают и грудь, и спину, тогда как противник использует только нагрудники, а многие воины пренебрегают и шлемом. Эта уступка гордыне обходится врагу очень дорого, ибо не каждый нагрудник может устоять против усиленного инерцией скачки удара длинного, тяжёлого копья, а наши доспехи, и особенно железные шлемы, неплохо защищают от рубящих ударов кривых мечей. Что бы там ни говорили иные спесивцы, но бой — это не поединок. В общей свалке, когда враги наседают во множестве и удары сыплются со всех сторон, в том, чтобы прикрыть спину прочными латами, нет ничего зазорного.
У брода через Граник схлестнулись не просто две армии, но две противоположные концепции ведения войны. Персы сражаются на древний лад, впечатляющий, но устаревший. Македония взяла на вооружение стратегию и тактику современности. Горделивые, надменные царские «родственники» не видят никакой чести в сражении с фалангой «презренных» пехотинцев. Туда, где в окружении знатных всадников сражается сам царь, рвутся славнейшие воители Востока. Устремляются, позабыв обо всём, включая и своё место в строю. Побуждаемые гордыней, славнейшие и знатнейшие передают командование своими подразделениями подчинённым, а сами во весь опор мчатся туда, где их может ждать встреча с благородным противником и благородной смертью. Замечу следующее: если перед битвой все знатнейшие и славнейшие воины занимали позиции во главе своих отрядов, распределившись вдоль всего строя, то после неё их тела подбирали в основном в одном месте. Там, где переправлялся через реку я.
Кратер убивает Арбупала. Гефестион мощным колющим ударом валит Омара и сбивает с коня Арзамеса. Последний наверняка погиб бы, но его конюх (на Востоке слуги сопровождают господ в бою) поспевает на помощь и за руку втаскивает его на лошадь. Удар моего копья сражает Митридата, скачущего мне навстречу в окружении пышной свиты, выкликая моё имя. Спустя мгновение я вонзаю копьё в грудь Резака, успевшего разрубить мой шлем и едва не раскроившего мне череп. Клит, спасая мне жизнь, убивает Спифридата. (Арсит бежит во Фригию и там вешается из-за стыда и позора.) Филот одолевает Петена. Сократ Рыжебородый убивает Фарнака. Митробарзан и Нифат, бившиеся поодиночке, гибнут в стычках с «ласточками» «друзей». Эти двое знатных персов, покинув своё место в строю, проскакали почти десять стадиев, чтобы погибнуть на этом месте.
Иными словами, практически каждый из высшей персидской знати бросил вверенные ему подразделения и вне зависимости от отведённого ему места в строю пересёк поле, чтобы сразиться со мной.
Когда битва закончилась, оба моих наплечника были сорваны, нагрудник с чеканкой в виде головы Горгоны получил такие вмятины, что разобраться, что там изображено, было уже решительно невозможно, а латный воротник (который я поначалу не хотел надевать из-за его тяжести) был искромсан и искорёжен. Ткань моей туники настолько пропиталась кровью и потом, что не отдиралась от тела, и мне пришлось удалять её по кусочкам, обрезая их лезвием меча. Нагрудник Буцефала оказался пробит насквозь в шести местах, а из его задней ноги был вырван кусок мяса, которого хватило бы на солдатскую порцию. Наголовник с него сбили, поводья разрубили, а шкура его так заскорузла от крови и песка, что очистить её с помощью мыла и масла нечего было и думать. Конюхи были вынуждены воспользоваться бритвами.
Слева от нас полки кавалерии и пехота Пармениона с боем форсировали реку и двинулись дальше, гоня противника перед собой. Как только вражеское крыло у брода дрогнуло, начал ломаться и весь фронт. Всадники, взметая пыль, понеслись прочь, словно волна, гонимая по поверхности моря шквалистым ветром.
Правда, бегут не все: греческие наёмники остаются на косогоре. Всё произошло так быстро, что шестьдесят семь сотен гоплитов даже не успели вступить в бой, а ускакать по примеру своих персидских нанимателей пехотинцы не могут. Поэтому они смыкают ряды и ощетиниваются остриями своих копий.
Близится вечер. Я в сопровождении Пармениона, Клита Чёрного, Пердикки, Коэна, Кратера, Филота и Гефестиона выезжаю к неприятельскому строю.
Где же Мемнон? Я обещаю всем грекам пощаду, если они выдадут мне Мемнона. В ответ один из старших командиров наёмников, спартанец по имени Клеарх (внук знаменитого Клеарха, соратника Ксенофонта), выступив вперёд, клянётся сынами Тиндерея, что Мемнон бежал.
Спартанец просит сохранить жизни его людям, напирая на то, что они бедны, не имеют земли, служат только за жалованье и не обязаны хранить верность царю Персии. А значит, готовы перейти на службу Александру.
— Служите в аду! — кричат им наши солдаты.
Эллины, пренебрёгшие общим делом и за деньги поднявшие оружие против своих соотечественников, внушают куда большую ненависть, чем персы.
Спартанец умоляет меня о пощаде, но сердце моё твёрже камня.
— Сыны Леонида, приготовьтесь стоять и умереть.
По моему сигналу начинается резня. Я не просто наблюдаю. Я руковожу кровопролитием, направляясь туда, где оно хоть немного ослабевает. Греки предлагают выкуп, службу, выкрикивают имена людей, которых я знаю, имя моего отца и моей матери, вопиют к небесам, взывая о милосердии.
Но я обрекаю их на смерть.
Темнеет. Нам нужны факелы, чтобы видеть тех, кого мы убиваем. Лишь когда треть из них погибла, а уцелевших ужас сковывает настолько, что они падают на колени, выронив из неповинующихся им более рук оружие, я даю сигнал остановить кровопролитие. Но своей родины эти негодные сыны Эллады, принявшие золото варваров в уплату за нашу кровь, не увидят. На лбу каждого из них, как и на лбах всех, кто дерзнёт последовать их примеру, будет красоваться рабское клеймо.
Эвмен, мой военный советник, спрашивает, как обращаться с пленными.
— Отправить их в Македонию в цепях, как и подобает рабам. И нечего тратиться на наем кораблей, пусть проделают весь путь пешком, со скованными запястьями и лодыжками, с колодками на шеях. А по прибытии в Македонию отправить всех, не разбирая чинов, на рудники. Без права на освобождение.
— А какие условия содержания определить им на рудниках? — осведомляется Эвмен.
— Сон на соломе и крапивный суп, — отвечаю я. — Пусть вся Эллада узнает, какую плату могут заслужить изменники, продающие свои копья варварам.
На этом всё завершается. Ночь делает преследование невозможным. В этот весенний день всего за три часа армия Запада нанесла владыкам Азии такое поражение, какого они доселе не ведали.
Лекари скрепляют мой скальп тремя медными «собачьими хвостами» и плотными стежками. Солдаты при свете факелов собирают раненых и убитых. Я, такой же окровавленный, в таком же рванье, как и все, направляюсь к ним.
Первым я вижу Гектора, младшего сына Пармениона, командовавшего полусотней в отряде Сократа Рыжебородого. Его бедро располосовано, словно ножом мясника, рёбра сломаны так, что ему трудно дышать.
— Ты что, случайно наткнулся на дверь, друг мой? — спрашиваю я.
— Точно, ткнулся в неё этой железякой, — отшучивается он в ответ, указывая на вмятый, но спасший ему жизнь нагрудник. Слёзы проделывают дорожки в покрывающей мои щёки грязи. Я плачу от любви к этому пареньку и его товарищам, плачу, восхищаясь их отвагой!
Число раненых множится, и я стараюсь обойти всех. После сражения эти люди часто чувствуют себя покинутыми и одинокими. Они, беспомощные, лежат в лазаретных палатках, тогда как снаружи доносятся бодрые голоса их более везучих товарищей, обсуждающих прошедший бой и уже рвущихся в новый. Порой пострадавшие не решаются окликнуть друзей, а те, в свою очередь, не слишком рвутся посетить лазарет: некоторые — не желая огорчать себя видом ран и страданий, а кое-кто — из суеверия полагая, будто чужое невезение может передаваться словно зараза. Бывает, что раненый даже чувствует себя виноватым, как будто он подвёл своих близких. Каково это, вернуться в дом калекой? Прочтёт ли он сострадание в глазах жены? Оказавшись в подобном положении, человек чувствует себя беспомощным, обделённым, но прежде всего он чувствует себя смертным. Он ощутил дыхание ада и узрел, как земля разверзла пред ним свой зев.
По этой причине я считаю своим долгом почтить доблесть каждого, не забыв ни одного солдата. Опускаясь на колени рядом с ложем увечного, я беру его за руку и прошу рассказать о своих подвигах. Причём рассказать не скромничая. Ничего страшного, если кто и приукрасит рассказ, пусть даже приврёт насчёт того, как враги снопами ложились под его ударами и пускались врассыпную, завидев его щит. Полученная в бою рана, как бы ни была она ужасна, ещё и почётна, и то, что о нём помнят, заставляет любого воина преисполниться гордости. Практически каждый из них горит желанием как можно скорее вернуться в строй.
Когда я показываю им мои собственные раны или отверстия, пробитые вражескими мечами и копьями в моих доспехах, солдаты плачут и вздымают руки к небу. Снова и снова то один, то другой малый прикладывает к своей ране мою ладонь. Мои соотечественники верят в могущество моего даймона, способного не только оберечь меня, но и исцелить любого из них. Каждая моя вещь считается самой драгоценной наградой, поэтому я раздариваю раненым всё, начиная с кинжала и пояса и кончая поножами. Принимая дары, солдаты наперебой умоляют меня в следующий раз не рисковать своей столь драгоценной для всех жизнью.
— Ибо, — говорят они, — даже удачу, столь великую, как твоя, нельзя искушать вечно.
Наполнить наши желудки вином и хлебом удаётся только к полуночи, но в сон никого не клонит. В свете факелов я собираю своё войско у излучины реки и обращаюсь к нему со следующими словами:
— Братья, углубившись во вражескую землю всего лишь на сто пятьдесят стадиев от моря, мы благодаря сегодняшнему событию вырвали из рук Дария десять тысяч стадиев его царства. Теперь все земли, прилегающие к Эгейскому морю, отпадут от Персии и предадутся нам. Ничто более не стоит между нами и Сирией, нами и Финикией, нами и Египтом. Мы станем освободителями всех прибрежных эллинских городов. Нам достанутся богатства, о которых можно было только мечтать, а слава, какой покрыло себя наше оружие, превосходит всё, чего достигал когда-либо любой из народов Запада. Этого добились вы, о братья, и я поздравляю вас с выдающимся успехом. Ибо, помимо того, что уже достигнуто, мы приблизили тот день, когда Дарий Персидский вынужден будет выступить против нас лично и встретиться с нами на поле боя. И вот, когда это случится, мы с вами совершим такой подвиг, в сравнении с которым наше сегодняшнее свершение покажется просто детской забавой. Вы одарили честью меня, своего царя, и воздали честь памяти моего отца. Пусть никто не забудет заслуг Филиппа, который выковал этот инструмент, нашу славную армию, и который, безусловно, отдал бы всё, что у него есть, чтобы стоять здесь с нами в этот час. Слава Филиппу! — восклицаю я.
Всё войско трижды повторяет этот клич, каждый раз со всё большим рвением.
Воздать почести павшим я собирался на следующий день, но упоминание о нашем умершем владыке настроило всех на серьёзный лад. Ощутив настрой товарищей, я подаю знак почётной страже, и к нам на трофейных боевых колесницах противника доставляют тела наших товарищей. По моему приказу колесницы останавливаются напротив выстроившихся отрядов.
В этом бою мы потеряли убитыми шестьдесят семь македонцев, двадцать шесть «друзей», девятнадцать человек из отряда Сократа Рыжебородого. Врагов же (как выяснится позже, после подсчёта) пало более четырёх тысяч.
При виде усопших гул голосов стихает: близость смерти внушает невольное почтение.
Я поднимаюсь на возвышенность; глашатаи, которым предстоит передавать мои слова дальше по рядам, подступают поближе. Заготовленной заранее речи у меня нет, но она и не нужна, если слова идут от самого сердца.
— Друзья мои, мы живы. Боги даровали нам эту победу, за которую мы с радостью благодарим и их, и друг друга, ибо каждый из нас внёс в неё свою лепту. Но наши погибшие братья, боровшиеся за эту победу вместе с нами, так и не узнали, что стали победителями. Им неведомо, что счастье торжества куплено для нас ценой их крови и их жизней. Так давайте же, даже в ликовании, не забудем оплакать наших дорогих, незабвенных друзей и братьев. Они, наши товарищи, достигли того, на что никто из нас, ныне живущих, претендовать не может. Явленной сегодня доблестью и отвагой они вознеслись к недосягаемым высотам духа.
Я подаю знак главному глашатаю, и тот встаёт навытяжку напротив меня.
— Салютуйте оружием павшим героям!
Главный глашатай, повернувшись, передаёт приказ, который разносится по рядам. В едином порыве сариссы, мечи, копья и дротики наших воинов, конных и пеших, македонцев и союзников, склоняются перед погребальными колесницами. Улавливая торжественное, возвышенное настроение бойцов, я оборачиваюсь к катафалкам и произношу:
— О наши павшие братья, примите этот знак уважения и благодарности. Вы умерли с честью, и каждый из нас хотел бы встретить свой последний час столь же доблестно.
Звучит команда «смирно». Я снова поворачиваюсь лицом к войскам.
— Ведайте, что благодарная Македония воздвигнет каждому из этих героев бронзовую статую в полный рост. Изваять эти памятники будет поручено Лисиппу, единственному скульптору, коему позволено создавать мои изображения. Установят же их в Диуме, в Саду муз, где каждый сможет узреть их и воздать им почести. Семья каждого из убиенных узнает о его славных деяниях, получив письменный рассказ о его подвигах, заверенный моей подписью и печатью. Пусть матери даже в своей скорби гордятся доблестными сынами, жёны — мужьями, а сыновья — отцами. Дети павших получат дополнительные земельные наделы, причитавшуюся их отцам долю военной добычи, смогут учиться за счёт казны и будут освобождены от несения службы. Я объявляю об этом, хотя все вы не хуже меня знаете, что родичи погибших не примут подобную привилегию, но, напротив, с гордостью заявят о своём праве на их место в нашем строю, едва только годы позволят им взять оружие и попытаться доказать, что они не уступят в доблести тем, кто дал им жизнь. Главный глашатай, огласи имена погибших героев.
Когда прозвучало имя каждого, войскам скомандовали « вольно ».
— Чтя доблесть своих, я не забываю почтить и отважного противника. Нам, друзья, не пристало испытывать ненависть к противостоящим, ибо сегодня и они с достоинством прошли испытание смертью. Сегодня боги даровали удачу и славу нам, но уже завтра их мельница может размолоть нас в пыль. А теперь разойдитесь и отдохните. Вы это заслужили.
Уже на следующий день перед нами капитулирует Даскилий, в течение двух следующих недель мы вступаем в Сарды и Эфес. Магнесия и Траллы открывают нам ворота без боя, Милет падает после недолгого сопротивления. Мы вступаем в Карию и приступаем к осаде Галикарнаса.
В первую ночь осады, ознакомив командиров со своим превосходным планом, Парменион просит меня уделить ему время.
Мне почему-то кажется, что он хочет просить об отставке. Это ужасно.
— Я недооценил тебя, Александр, — говорит заслуженный полководец. — Признаю это и прошу за это прощения. Прошу, однако, принять во внимание и то, что старому солдату, которому уже перевалило за шестьдесят, трудно вот так, сразу, признать и оценить по достоинству столь юного и неопытного вождя.
Несколько мгновений все ошеломлённо молчат. И я, и мои командиры чувствуем, что старый военачальник говорит от всего сердца.
— Прости меня за то, что я, как это свойственно людям пожилым, советовал тебе проявить осторожность и осмотрительность. Советы мои были не так уж плохи, но лишь в отношении обычного человека. Теперь же для меня очевидно, что к тебе нельзя подходить с теми же мерками, что к другим. До недавнего времени я считал величайшим полководцем на свете твоего отца, однако, наблюдая за тобой все эти месяцы, пришёл к выводу, что своими дарованиями ты безмерно его превосходишь. Ты знаешь, что служить тебе я согласился с неохотой, чему способствовали и некоторые обстоятельства твоего воцарения.
Он имеет в виду то, что за участие в заговоре я предал смерти его зятя Аттала, который был и моим другом.
— Ныне я оставляю всё это позади, отбрасывая былые обиды, как и ты, надеюсь, оставишь свои подозрения. Они были естественными, ибо ты прекрасно понимал, каковы мои чувства, но с этого момента, Александр, я торжественно объявляю себя твоим человеком и обязуюсь служить тебе столь же верно, как твоему отцу, и столь долго, сколь тебе будет угодно принимать мою службу.
— Ты заставляешь меня плакать, Парменион, — говорю я, вставая, и весь в слезах обнимаю ветерана. Очевидно, что он оказал мне особую честь, сделав это признание публично. Такой поступок требует мужества и подлинного величия души. Совершив его прилюдно, он тем самым призвал всех полководцев моложе себя (то есть всех остальных) забыть о моей молодости и признать моё превосходство. Они аплодируют: его выступление тронуло их так же, как и меня.
— Асандр, — повелеваю я дежурному юноше из свиты, — подай мне отцовский сигейский меч.
Я говорю Пармениону, что Филипп любил его и считал первым и не имеющим равных среди своих военачальников.
— Однажды, — рассказываю я, — принимая послов Афин, Филипп отозвал меня в сторонку и с усмешкой заметил: «Афиняне избирают каждый год по десять стратегов. Каким же избытком талантов должен обладать этот город, если я за все годы своего правления сумел найти в Македонии только одного». И он кивнул в твою сторону.
Теперь плачет Парменион. Асандр приносит меч Филиппа, я вкладываю его в руку своего старейшего полководца.
— Для меня, о Парменион, будет величайшей честью, если ты примешь сей меч как дар не только твоего царя и командующего, но истинного товарища и друга.
Расскажу ещё о двух эпизодах, имевших место после Гранина. Наутро после сражения я, как и подобает царю, поднимаюсь спозаранку, чтобы совершить жертвоприношение, и выхожу из шатра в сопровождении двух юношей свиты и одного почётного стража.
Обычно мы встречаемся с Аристандром, жрецом-провидцем, с коим нам и предстоит вершить ритуал, и в одиночестве молча движемся к алтарю. Но на сей раз по выходе из шатра я вижу, что здесь собралась чуть ли не вся армия. Площадь перед моим шатром забита тысячами солдат, и к ним беспрерывно присоединяются новые.
— Что случилось? — спрашиваю я у Аристандра, опасаясь, что забыл о дате какого-нибудь общего ритуала или церемонии.
— Они хотят видеть тебя, Александр.
— Видеть меня? Зачем?
Мне трудно представить себе, для подачи какой петиции или обращения воинам могло потребоваться собраться здесь в таком количестве.
— Чтобы увидеть тебя, — повторяет жрец. — Чтобы просто на тебя посмотреть.
Похоже, что за ночь мой авторитет упрочился ещё больше. Сотни людей сбились такой плотной толпой, что моим сопровождающим приходится проталкиваться, силой расчищая мне дорогу.
— Александр! — восклицает кто-то из собравшихся, и остальные тут же подхватывают: Александр! Александр!
Соотечественники выкрикивают моё имя так громко, с таким воодушевлением, как на моей памяти не возглашали даже имя Филиппа.
— Протяни руки, повелитель, — говорит Аристандр, — дай воинам понять, что принимаешь их поклонение.
Я так и делаю, после чего возгласы восторга звучат ещё громче.
В последующие дни я не могу покинуть шатра, не оказавшись в окружении сотен людей, демонстрирующих свою преданность. Когда же я напрямую спрашиваю кого-либо из них, почему он, как и остальные, повсюду следует за мной, солдат с таким видом, будто это само собой разумеется, отвечает:
— Чтобы быть уверенным в том, что с тобой всё в порядке. И что ты с нами.
Теламон с интересом наблюдает за этим явлением. Когда же я делюсь с ним своим беспокойством, замечая, что армия, похоже, относится ко мне не как ко мне самому, но как к чему-то другому, он отвечает:
— Так оно и есть. Это всё твой даймон.
Он прав: эти люди видят не меня, а моего даймона. Это он принёс им победу, с ним они связывают свои надежды, и именно его они боятся лишиться.
По мнению Теламона, я должен принять это как следствие блистательного триумфа.
— Ты перестал быть Александром, — говорит он, — и стал «Александром».
Что же до второго эпизода, то он и вовсе мимолётен. Бывает, что через некоторое время после победы воинов охватывает печаль. В чём тут дело, я не знаю: впечатление такое, будто меланхолия приходит на смену буйному ликованию. После Гранина это в той или иной мере затрагивает всё войско, но более всего почему-то сказывается на поваре по имени Адмет, лучшем поваре во всей армии. Это настоящий мастер своего дела, человек с воображением, способный буквально из ничего состряпать вкуснейшие блюда.
На этот раз сильное воображение играет с ним злую шутку: резня производит на него такое впечатление, что он после этого не может даже разделать птицу. Между тем главный повар в войске человек далеко не последний и способен оказать на боевой дух армии не меньшее влияние, чем иной полководец.
Я вызываю этого малого в мою палатку, вознамерившись подкрепить его дух, но, прежде чем успеваю заговорить, он с дрожью в голосе, сопровождая свои слова тяжким стоном, вопрошает:
— Что это за звук? О слёзы небес, что это за ужасные стенания?
Я ничего не слышу.
— Здесь, о, царь! Там, снаружи! Ты не можешь этого не слышать!
Теперь я и точно слышу доносящуюся снаружи тоскливую мелодию.
Все находящиеся в шатре устремляются к выходу взглянуть, в чём дело. На площадке перед шатром высятся оставленные на ночь в вертикальном положении двадцать четыре сариссы.
Ветер, блуждая меж их древками, выдувает этот грустный мотив.
Повар Адмет застывает как вкопанный. Как и все мы. Похоже, эта меланхолическая музыка окончательно разобьёт его сердце.
Заметив это, один из конюхов, парнишка по прозвищу Подмётка, подходит к повару и, обращаясь к нему самым ласковым, почтительным тоном, заявляет:
— Сариссы поют.
Повар поворачивается к нему со столь изумлённым выражением, будто этот паренёк чудесным образом возник из небытия лишь для того, чтобы помочь ему разобраться с его печалью.
— Да, поют. Но почему так грустно?
Конюх участливо берёт повара за руку.
— Потому что сариссы знают: их предназначение нести смерть. Они просят прощения у тех, кого сразили, жалеют тех, кому причинили страдания.
И он декламирует чистым, звонким голосом:
Грустен сариссы напев, как печальная песня свирели. Он призывает меня голосом мягким и нежным Брань позабыть и мирному делу предаться, Но всё, что ведомо мне, это одна лишь война.Адмет впадает в задумчивость, осмысливая услышанное. Никто не расходится: все ждут, затаив дыхание.
— Спасибо тебе, — говорит повар конюху, а потом, выпрямившись, поворачивается ко мне. — Теперь, о царь, всё будет в порядке.
Он поворачивается и тяжкой поступью направляется к своим котлам и черпакам.
Я рассказываю эту историю во время похода на Каппадокию, когда тринадцать месяцев спустя после битвы при Гранине ко мне, загоняя коня, прибывает гонец с известием о том, что Мемнон, осаждавший Митилену, пал жертвой внезапной лихорадки.
Он мёртв.
Я плачу, и не только из почтения к блистательному родосцу (хотя и почтения к нему у меня в избытке), но и от осознания того, какую роль в судьбах людей и царств может играть простая случайность и сколь тонка и непрочна связь каждого из нас с той непостижимой сущностью, которую мы именуем жизнью.
Человека, которого я опасался более всех прочих, не стало, а ведь он один, с его познаниями и мудростью, стоил целой армии.
Это означает, что теперь Дарию волей-неволей придётся самому выступить мне навстречу и дать бой.
Книга пятая ПРЕЗРЕНИЕ К СМЕРТИ
Глава 12 ТЯЖКИЕ ТРУДЫ
Здесь, в Индии, этот месяц называют месяцем кшатриев. «Месяцем воинов».
Я с небольшим отрядом выбрался в холмы на охоту, отчасти ища избавления от царящего на равнине зноя, отчасти же чтобы отвлечься от скорбей и забот лагеря.
Пришла весна, а вместе с ней муссоны и ливни. Река поднялась больше чем на пару локтей (уровень её колеблется, но мы можем судить по тому, что вода скрыла каменные ступени, спускающиеся к ней возле местных селений) и там, где её не удерживали в русле дамбы и насыпи, разлилась, добавив к своей обычной ширине половину стадия. И как, спрашивается, теперь через неё перебираться?
Лагерь уже дважды приходилось перемещать на более высокое и сухое место, а на сооружение насыпей и плотин ушло куда больше времени, чем на подготовку к предстоящему наступлению. Вдобавок ко всему лагерь поразила вспышка болотной лихорадки. Этот недуг коварен и непредсказуем: неизвестно, отчего он проистекает, но все снадобья против него бессильны. Подцепившие хворь умирают в горячечном бреду. Неудивительно, что такого рода бедствие удручающе действует на воинов, распространяя среди отважных во всём остальном людей уныние, подавленность и склонность видеть во всём дурные предзнаменования.
Теперь у нас появились и дезертиры (пока, правда, только из наёмников и иностранных союзников), причём в таких количествах, что я не решаюсь произвести полное построение армии, чтобы солдаты не увидели, какие бреши возникли в их боевом порядке. Думаю, Итан, что ты помнишь мои рассказы о Херонее и Гранике, а потому понимаешь, что ещё несколько лет назад подобное положение в армии было бы немыслимо.
Но источником самой серьёзной опасности являются «недовольные».
Как я уже говорил, их число составляет примерно триста человек, в большинстве своём ветеранов фаланги, к которым примкнули несколько царских телохранителей. Я изолировал этих ворчунов от остальных, как умелый лекарь изолирует заразных больных в карантине, и теперь они, через назначенных мною для этого подразделения новых командиров, Матиаса и Ворону, обращаются ко мне с прошением об увольнении со службы. Прошение составлено с должным почтением, в полном соответствии с традицией. В нём указывается, что все желающие вернуться домой воины безупречно служили долгие годы, удостоены множества наград, получили ранения и всегда сносили тяготы походной жизни без ропота и нареканий. Кроме того, они могут сослаться на прецеденты: я несколько раз распускал по домам целые подразделения на основании подобных петиций. Правда, до сих пор это не касалось македонских отрядов, но лишь потому, что македонцы и не обращались ко мне с подобными просьбами.
Таким образом, передо мною встаёт нешуточная проблема, ведь если недовольство начнёт распространяться среди составлявших до сих пор мою главную опору македонских ветеранов, армии конец. Одна мысль об этом лишает меня сна, и мои полководцы разделяют мою тревогу.
Дело осложнено и некоторыми особенностями организации моей армии, ни в одном отряде которой, кроме самых крупных соединений, не предусмотрено штабных должностей. Я хочу, чтобы все мои полководцы были боевыми командирами, пользующимися уважением и доверием солдат. При такой системе каждый сотник и тысячник несёт нагрузку и по управлению отрядным хозяйством, и по обучению воинов, которых он же ведёт в бой. До сих пор это себя оправдывало. Я всегда, и в походе, и на бивуаке, нахожусь среди командиров, а потому в курсе всего происходящего в армии. Мне известно, какой солдат обрюхатил девицу и кто чувствует себя несправедливо обойдённым наградой. Знание такого рода «мелочей» позволяет принимать правильные решения.
Но в ходе последней кампании — если быть точным, то начиная с Афганистана — наметилась нездоровая тенденция: мои командиры стали более скрытными. Они утаивают некоторые сведения, дабы уберечь и себя, и находящихся под их началом солдат от овладевающих порой мною приступов ярости, которые, как я знаю, усугубились, в чём некого винить, кроме меня самого. Опасаясь моего гнева, они не докладывают мне даже о случаях открытого выражения недовольства.
До недавнего времени положение несколько смягчалось благодаря Гефестиону, служившему как бы посредником между мною и основной массой командиров. Он имел относительно невысокий чин, так что всякий сотник мог заговорить с ним без робости, зная при этом, что мой друг, имея ко мне постоянный доступ, передаст просьбу, выбрав для этого благоприятный момент. Теперь это в прошлом. Гефестион вполне заслуженно получил повышение, стал теперь вторым по значению военачальником в армии после Пармениона. Ясно, что командиры мелких подразделений не дерзнут откровенничать с полководцем столь высокого ранга. В результате я приобрёл военачальника, но лишился ушей. И это тогда, когда в отличие от прежних времён я уже не в состоянии удержать всё происходящее под строгим контролем. То здесь, то там меня подстерегают неприятные неожиданности.
Но вернёмся к охоте. Мы разделились на группы: группу полководцев в составе Гефестиона, Кратера, Пердикки и Птолемея, сопровождаемых примерно шестьюдесятью воинами, и придворную группу, так называемый «царский список» во главе с Теламоном и Эвменом. Охотимся мы за чёрной пантерой: нам донесли, что в окрестностях заметили нескольких хищников, согнанных с гор дождями. Весь день мы прочёсываем местность впустую, не наткнувшись ни на кого, кроме косоглазого зайца, и лишь ближе к вечеру, перед самым закатом, замечаем добычу. Правда, не пантер, а стадо диких ослов. Шумная, с гиканьем, погоня оборачивается для некоторых из нас падением с лошадей, ушибами и даже переломами. Добыть ничего не удаётся: животные, находящиеся в родной стихии, оказываются для нас слишком быстрыми и ловкими. Однако результат всё же имеется, и результат положительный: головокружительная скачка выдула из наших мозгов дурь и уныние, так что вокруг костра мы собираемся в хорошем расположении духа. На ужин предлагают похлёбку из дрофы (подстреленной, замечу, поварёнком) с горным горохом, исмарское вино и горячий, выпеченный в земляной печи ячменный хлеб.
И тут я объявляю, что хочу направить реку в другое русло.
Мои полководцы дружно смеются: им кажется, что это шутка.
— Выполнение этой грандиозной задачи потребует усилий всей армии, — продолжаю я. — Задействованы будут каждый солдат, каждая повозка, каждая лошадь и каждый мул.
Я подаю знак Диаду, включённому по моему указанию в «царский список», — главному инженеру армии, руководившему масштабными работами при осаде Тира и Газы.
Поднявшись, он подходит ко мне с ворохом свитков, на которых, как могут видеть мои спутники, начертаны различные планы и схемы.
— Прошу заметить, друзья, — заявляю я, — что в мои намерения не входит просто перегородить реку плотиной и превратить окрестности в болота. Нет, задача состоит в том, чтобы проложить для неё новое русло, тогда как старое, осушенное, превратится в дорогу, которая позволит нам развивать дальнейшее наступление.
Смех умолкает. Надо отдать должное моим товарищам: они начинают осознавать перспективу.
Диад, крепкий, практичный, как все механики, малый с лысой, как куриное яйцо, головой, берёт слово. Он сообщает, что, изучив почву и характер местности, считает эту работу трудной, но выполнимой.
— Над лагерем, у излучины реки, залегают пласты водонепроницаемой сланцевой глины: это своего рода подземное продолжение Соляного хребта. Если прорыть канал к подножию кряжа, в низину, вода, во всяком случае значительная её часть, отойдёт туда. Что касается рабочей силы, то мы располагаем пятьюдесятью тысячами одних только солдат, не говоря о кормящихся при армии местных жителях и всяческом сброде, которого наберётся никак не меньше. Наша сокровищница в состоянии выдержать необходимые расходы. Лошадей и мулов у нас около двадцати тысяч. Да что там лошади, у нас есть даже слоны. Конечно, работы предстоит много, и работы тяжёлой, но не требующей особого умения, а значит, привлечения большого количества специалистов. Для рытья канав и установки крепления требуются не светлые головы, а лишь крепкие руки да спины. А как только мы повернём исток реки в канал, она сама устремится дальше, промывая себе новое русло в указанном нами направлении. Большую часть работы река проделает за нас.
На лицах иных из моих советников появляется скептическое выражение, и инженер при виде такой реакции улыбается.
— Из того, что никому прежде не удавалось совершить нечто подобное, вовсе не следует, будто это невозможно. Во всяком случае, я не вижу оснований, почему бы не попробовать. Спору нет, идея безумная, но как раз такая, какой можно увлечься.
— Напряжённый труд благотворен с точки зрения поддержания боевого духа и дисциплины, — подаёт голос Птолемей. — Если солдат не сражается, его нужно занять работой, чтобы на ворчание да сетование у него не оставалось ни сил, ни времени.
— Мне это нравится, — говорит Кратер. — Это мы атакуем реку, а не она нас.
Эвмен, мой военный советник, отмечает ещё одно преимущество данного плана:
— Армии необходимо нечто масштабное, способное захватить воображение. Как говорил Перикл: «Великие подвиги и тяжкий труд».
— А ещё, — добавляет Пердикка, — это заткнёт рот «недовольным».
Он предлагает поручать этому отряду самые ответственные задания.
— Отлынивая, эти смутьяны уронят себя в глазах товарищей, а работая честно, с полной отдачей, позабудут о своём нытье.
Гефестион предлагает воодушевлять людей с помощью соревнования: устанавливать задания для отдельных подразделений и награждать тех, которые выполнят их первыми.
— А можно установить норму, например, сколько локтей земли положено освоить, скажем, за шесть дней. Подразделение, уложившееся в пять, получит лишний день отдыха.
Кратер считает разумным установить и главную награду за конечный результат.
— Тогда подразделение, выполнившее шестидневное задание досрочно, продолжит трудиться добровольно, чтобы сохранить преимущество над соперниками.
Я сообщаю моим товарищам, что собираюсь послать в Экбатаны за деньгами. Главная сокровищница, сто восемьдесят тысяч талантов золота, находится там, и мне кажется разумным использовать тысяч тридцать на выплату жалованья, призов и наград. А что думают они?
Птолемей высказывает одобрение.
— Присутствие в лагере больших денег воодушевляет людей.
— Даже сильнее, чем присутствие женщин, — соглашается Пердикка.
— Это потому, что, имея деньги, можно получить и женщин, — смеётся Кратер.
Все полководцы высказываются одобрительно: присылка денег — это всё равно что прибытие подкрепления. Золото являет собой такую же силу, как и войско. А новая сила — это новый рывок вперёд.
Однако Ворона, молодой командир, назначенный мною в отряд «недовольных», выглядит уныло. Я знаю, что он огорчён поданным отрядом общим прошением и считает, что не оправдал возложенного на него доверия, но сейчас, похоже, его тревожит нечто иное.
— Что у тебя, друг мой? Говори, не робей.
— Я подумал о том, царь, что, если ты пошлёшь за золотом, не стоит об этом объявлять. Пусть это будет тайной.
Все наперебой заявляют, что сохранить такое в секрете всё равно не удастся. По лагерю поползут слухи.
— Вот и хорошо. Пусть люди собирают слухи, это повысит их интерес к происходящему. Каждому лестно почувствовать себя причастным к тайне, не говоря уж о том, что слухи могут быть сколь угодно преувеличенными. Люди будут распалять своё воображение, а это только на пользу делу.
— Клянусь Гераклом, — восклицает Птолемей, — этот молодой человек не на своём месте.
Он имеет в виду, что его необходимо повысить в чине.
Все смеются.
Я вижу, что Матиас тоже горит желанием высказаться по обсуждаемому вопросу.
— А что у тебя? — спрашиваю я и слышу в ответ предложение послать за ваятелями, дабы те увековечили это великое свершение и высекли на каменных берегах рукотворной реки изображения и надписи, восхваляющие её творцов.
— Здешний зной превратит земляные работы в сущее мучение, — говорит он, — но всякий раз, когда измождённые люди поднимут очи и увидят впечатляющие образы, их будет вдохновлять осознание того, что эти рельефы переживут столетия и увековечат их тяжкий труд. Далёкие потомки смогут прочесть: «Здесь люди, ведомые Александром, повернули могучую реку в новое русло».
— И чьи образы ты предполагаешь там запечатлеть? — интересуюсь я.
— Прежде всего твой собственный лик, о царь. И ещё, конечно...
— Вот-вот, чьи ещё?
— Образы, в которых солдаты узнают себя.
Военачальники прищёлкивают пальцами. Неужели он всерьёз предлагает высечь в камне портреты пятидесяти тысяч солдат?
— Каждый отряд имеет свою эмблему, о царь, — продолжает, ничуть не смутившись, Матиас. — Пусть на стенах красуются антилопьи рога Бактрии, хохолки пустельги Согдианы, наши собственные львы и волки. Те символы, подняв на которые глаза человек сможет сказать: «Внуки моих внуков будут любоваться плодами наших трудов, зная, что это рукотворное чудо содеяно мною и моими товарищами».
Я выражаю одобрение, точно так же, как и все прочие. Ворона и Матиас удостаиваются искренней похвалы, ведь идею повернуть реку подсказали именно они. Теперь приходит время высказаться и насчёт того, какой я вижу свою роль в будущем предприятии.
— Что же до меня, друзья мои, то я разденусь донага и присоединюсь к землекопам. Думаю, видя рядом царя, работающего бок о бок с ними, они будут трудиться с особым воодушевлением. Кто не захочет по окончании рабочего дня похвалиться: «А я сегодня на земляных работах обошёл Александра!» Для меня труд будет лучшим лекарством, а для моих людей несравненным стимулом. Подразделениям, победившим в трудовом состязании, будет воздана хвала и пожалуются награды, что подвигнет отставших усилить рвение в стремлении заслужить те же отличия.
Кратер осведомляется насчёт того, как отреагирует на эту затею наш противник Пор. Не станет ли он мешать проведению работ? Меня, однако, это волнует меньше всего.
— Сейчас я пребываю в разладе в первую очередь не с этим владыкой Индии, а с собственными людьми. Мы переживаем кризис духа. Если бы войска по-прежнему обладали «dynamis», нам не потребовалось бы копать рвы и прокладывать каналы. Через эту реку мы переправились бы с ходу ещё месяц назад и нынче уже вовсю маршировали бы на Восток, приближаясь к берегу Океана и Краю Земли.
Эта тема вызывает всеобщий интерес, и мы обсуждаем её всю ночь. Далеко ли лежит вожделенный берег, долгий ли нам предстоит путь. Нам известно одно: это где-то за Гангом. Большего не может сказать ни один местный проводник.
Мне трудно передать словами, как возбуждает меня одна лишь мысль о возможности оказаться там, где не бывал ещё ни один воитель Запада! Увидеть то, чего никому не доводилось видеть! Стать первым и остаться первым во веки веков.
Возможно, Итан, ты считаешь меня тщеславным? Но рассуди: чем одарил всемогущий Зевс человека, кроме Земли? Небеса он приберёг для себя. Но уж эту, отведённую нам юдоль мы можем осваивать невозбранно, ограничиваемые лишь своей волей и воображением.
Как думаешь, какое качество я считаю в себе самым главным, возвышающим меня над всеми соперниками? Не искусство воина или талант стратега.
И уж, конечно, не способности политика.
Воображение.
Я способен представить себе Край Земли. Он сияет перед моим внутренним взором, словно хрустальный город, хотя мне и понятно, что, добравшись туда, я, скорее всего, увижу лишь полоску гальки под чужим небом. Ну и пусть. Не это главное. Главное, что это Земной Предел, до которого не добрались ни Геракл, ни Персей. Только я.
Хочешь знать, что я надеюсь заполучить, оказавшись там? Ничего! Я даже не наклонюсь, чтобы поднять камушек или раковину; лишь крепко сожму руки друзей и устремлю взгляд на Восточный Океан.
Вот чего я хочу.
Вот и всё, чего я хочу.
Ты понял, Итан? Невзирая на все свои завоевания, на все титулы, на всё моё богатство и славу, я, по сути, остаюсь мальчишкой, не знающим большего счастья, чем странствовать в обществе добрых друзей, в уверенности, что за ближайшим холмом его, конечно же, поджидают невиданные чудеса.
Однако, мой юный друг, это отступление отвлекло нас от нашей истории. Давай-ка вернёмся к битве при Гранине и тому, что последовало за ней.
Глава 13 УБИТЬ ЦАРЯ
У тебя, Итан, есть доступ к хронике событии, имевших место в ближайшие месяцы пост битвы при Гранине. Города Малой Азии, один за другим, или переходили на нашу сторону, или сдавались по приближении нашего войска. Всем эллинским полисам я предоставил свободу и освободил их от дани. В Карии, где живут не эллины и эллинские обычаи не а ходу, я восстановил у власти законную царит Аду, которая в благодарность усыновила меня Карийские законы, отменённые Дарием, были восстановлены в полном объёме. Что же до дани, то я стал взимать её не в качестве завоевателя, но как сын царицы и, следовательно наследник престола. Освободив от персов Лидию, Мизию и обе Фригии, я потребовал с этих земель подати лишь в том объёме, в каким они до меня выплачивались Дарию. Всего нами было занято сто шестнадцать городов. Развернув наступление в начале лета с тем расчётом чтобы урожай по мере созревания оказывался и наших руках, мы к следующей весне овладели всей Малой Азией, от Босфора до Памфилии.
После Граника я категорически запретил войскам грабить население. Наша армия явилась в Азию, неся с собой освобождение, и нам не пристало пятнать её высокую, благородную миссию мародёрством и разбоем. Это, разумеется, но означало отказа от законной военной добычи: ею становилась казна местных персидских властей, которую мы изымали в каждом освобождённом городе.
Нужды армии вышли на первое место, причём о животных следовало позаботиться в первую очередь, даже раньше, чем о людях. Без лошадей, мулов и ослов войско в состоянии двигаться лишь со скоростью пешехода, да и много ли унесёт с собой солдат на собственной спине? Немало средств потребовалось для обеспечения постоянно действующих канн ион снабжения, связавших порты Азиатского побережья юродами Эллады и Македонии, где размещались гарнизоны Антипатра. На складах накапливались припасы и амуниция для предстоящего наступления. Имелись и другие статьи расходов: подкуп врагов, помощь друзьям, поощрение союзников, оплата услуг лазутчиков и проводников, дары и подношения правителям дружественных земель, игры и жертвоприношения. Солдаты заслужили отдых, а что за отдых, если нет денег? Недавно женившиеся получают отпуска и отправляются домой на побывку: таких набирается шестьсот человек, включая Коэна, Любовного Локона и Счетовода. Им выпадает счастливая возможность провести зимние месяцы с жёнами, а затем вернуться по весне и строй и ждать появления на свет наследников.
Выплата жалованья солдатам и награждение отличившихся — это святое дело. Этим вопросам я уделяю больше внимания, чем чему бы то ни было, не считая разведки и подготовки к грядущему походу. Необходимо, чтобы военная добыча распределялась справедливо: ни один храбрец не должен остаться без награды, так же как ни один трус — без наказания. Большое значение имеет и моральное поощрение. Я ввёл в практику награждение царскими благодарственными письмами. В Лидии, в городе Сарды, где армия делает остановку, чтобы сосредоточить силы перед дальнейшим наступлением, я привлекаю к работе не менее сорока писцов, которые трудятся посменно, записывая тексты под мою диктовку. Разумеется, армия слишком велика, чтобы предводитель мог знать имена и заслуги каждого солдата, однако каждый день я надиктовываю именные указы, касающиеся тридцати-сорока воинов. Добытые у противника золотые чаши и серебряные кубки становятся достоянием тех, кто проливал кровь за своего царя и наше общее дело. Если получается, я вручаю награду лично, в противном же случае она вручается солдату вместе с моим благодарственным письмом, которое он может отослать домой, где оно станет предметом гордости отца и матери и будет храниться как семейное сокровище.
На Эгейском побережье прекрасные виноградники, и всякий раз, когда я нахожу вино, приходящееся мне по вкусу, кто-нибудь из отличившихся командиров получает от меня кувшин и записку следующего содержания: «Александр нашёл это вино великолепным и желает, чтобы его друзья разделили с ним полученное удовольствие».
Мои воины никогда не видят меня спящим. Я встаю задолго до общего подъёма и продолжаю заниматься делами, когда все уже отошли ко сну. Когда воины пьют вино, я выпиваю с ними, когда танцуют, я присоединяюсь к хороводу. Но, даже засидевшись за вином допоздна, я возвращаюсь в свой шатёр твёрдой походкой, и все мои командиры это видят. Я без жалоб переношу палящий зной, ночую, если требуется, на земле, по-походному подстелив плащ, и постоянно упражняю своё тело.
Что же касается сокровищ, то всем моим соотечественникам ведомо: я оставляю себе лишь редкие памятные трофеи вроде прекрасного коня или дивной работы доспехов, основные же средства полностью отдаю на нужды армии и нашего великого дела.
При этом я не могу не думать о Дарии.
Владыка Азии остаётся в Вавилоне, в восьми тысячах стадиев к востоку. Следует ли нам устремиться туда или ждать, когда он выступит против нас сам? Где мы встретимся? Когда? С какими силами?
В нашей стране есть игра под названием «Убить царя». В неё играют две команды мальчиков верхом на лошадях на поле с ограничительными линиями с каждого края. Паренька с мячом называют «царём». Он пытается прорваться сквозь ряды соперников и доставить мяч за их линию. Если ему это удаётся, его команда побеждает. Если же его сбрасывают с коня, «царь» объявляется убитым и победа присуждается сопернику. Великая стратегия войны против Персии немногим сложнее этой детской забавы.
Всё сводится к одному.
Убить царя.
Ночь за ночью, по мере того как мы продвигаемся вдоль побережья, я и мои полководцы собираемся вокруг стола с картой, изучая планы местности и донесения разведки, доклады о видах на урожай и сообщения, поступающие из вражеского тыла от тайных лазутчиков. Кратер, наиболее воинственный из моих командиров, призывает нанести немедленный удар в сердце неприятельских владений, по Вавилону и Сузам, где Дарий хранит основную часть своей казны и где почти наверняка собирает новую армию.
— Надо разделаться с ним прежде, чем он успеет набрать такое войско, что мы не сможем с ним справиться, — горячо убеждает Кратер.
Парменион, старейший и опытнейший из полководцев, опасается столкновения с неисчислимыми воинствами Востока.
— Александр, стоит ли искушать небеса? Не лучше ли удовлетвориться плодами побед, уже дарованных нам Всемогущим Зевсом? Никому доселе не удалось приобрести в Азии столь обширные владения. Если Дарий согласится уступить их тебе, почему бы не заключить мир?
Каждую ночь сторонники различных стратегий спорят до хрипоты, хотя окончательное решение так и так предстоит принимать мне. У моего отца я научился подбирать для каждого важного заявления наиболее подходящий момент. Вот и сейчас я делаю его в именины Пармениона, день, который македонцы празднуют так же, как эллины день рождения. Это позволит и оказать честь старейшему из полководцев, и дать ему ощутить проходящие годы. Мы пьём вино, едим мясо, и разговор ведётся на равных. Я выступаю со своим мнением не как царь, но как один из товарищей по оружию.
— Друзья мои, обдумывая кампанию против Дария, мы не должны упускать из виду одну непреложную истину: он правит не нацией, а империей. Ему служат не друзья и союзники, а подданные. И управляет он ими даже не столько силой оружия, сколько с помощью укоренившегося в умах мифа о его непобедимости. По существу, мы ведём войну не с царём царей, а с этим мифом.
Боюсь ли я несметных полчищ Дария? Ничуть! Пусть, если захочет, приводит с собой хоть половину Азии. Чем больше войск поведёт он за собой, тем больше отяготит себя и своих военачальников обозами и вопросами снабжения. Я хорошо запомнил поучение отца: не имеет смысла собирать войско больше, чем то, которое способно полностью перейти из одного лагеря в другой в течение одного дня. Такова наша армия: сорок с небольшим тысяч человек. Пусть войско Дария растянется от горизонта до горизонта. Это лишь сделает его неуправляемым, и, когда мы нанесём удар в самое сердце, оно разбежится, как если бы состояло из зайцев.
А тебе, друг Кратер, и остальным рвущимся в бой молодым командирам я скажу следующее: сколь бы ни казался заманчивым бросок в сердце вражеской державы, мы от него воздержимся. И вот почему: если мы появимся под стенами Вавилона, не развеяв мифа о непобедимости Дария, город окажет нам упорное сопротивление. Перед нами встанет необходимость осаждать твердыню, стены которой имеют в длину четыреста стадиев и достигают в высоту девяноста локтей. Но стоит нам одолеть Дария в открытом сражении, и Вавилон сам откроет перед нами свои ворота.
Помните, захват территории не стоит ничего до тех пор, пока держится миф о царе. А потому, друзья мои, нам не стоит пытаться одолеть Дария с помощью хитростей и уловок. Нет, давайте встретим его на поле боя, причём во главе не наспех согнанного сброда, а настоящей армии. Пусть лучшие его воины, цвет персидской знати, выступят под его знамёнами. Я нанесу удар туда, где будет находиться сам царь, и вы сможете встретиться со славнейшими и знатнейшими из его полководцев.
А тебе, Парменион, скажу, что мы не удовлетворимся приобретениями на окраине владений Дария, а завоюем всю его державу. Моя цель состоит в том, чтобы после завоевания всех провинций, когда-либо покорявшихся Персии, и захвата Индии двинуться дальше — к побережью Океана на Краю Земли. Никаких переговоров с Дарием я вести не буду и не приму никаких условий, кроме безоговорочной капитуляции.
Наилучших результатов можно добиться, действуя смело и решительно, ибо дерзость и отвага воспламеняют людские сердца.
Гефестион пылко высказывается в мою поддержку. Кратер, Птолемей и Пердикка соглашаются с ним, а вскоре к сторонникам этой идеи присоединяются Селевк и Филот. Противниками её остаются лишь полководцы, отточившие зубы при Филиппе: Парменион, Мелеагр и Аминта Андромед (Антигона Одноглазого я назначил наместником Фригии).
Этим людям кажется, что я проявляю излишнюю самоуверенность. С каждым из них я поговорю с глазу на глаз. Они получат уступки, возможности для продвижения своих фаворитов и любые награды, если перейдут на мою сторону. Ну а будут упрямиться, придётся от них избавиться. Да, даже от Пармениона.
— Известно ли вам, друзья мои, как крокодил пожирает вола? Он начинает с ног и грызёт всю тушу, добираясь до сердца. Точно так же мы обойдёмся с Дарием: его держава слишком велика, чтобы проглотить её всю зараз, поэтому мы будем откусывать от неё по стране или провинции. Торопиться не стоит. Первым делом мы захватим прибрежные города, лишив неприятеля портов и закрыв для него водные пути снабжения. Очередное наступление будет начинаться лишь после того, как мы надёжно закрепимся на уже захваченной территории, обеспечим тылы и удостоверимся в прочности коммуникаций. Пусть персы придут к нам сами. Пусть они проделывают долгий путь и отрываются от своих опорных пунктов, а не мы от наших.
На протяжении нескольких месяцев после битвы при Гранике мы заполняем белые пятна на картах, сосредоточиваемся и готовимся к дальнейшему продвижению. Проводятся учения. Строятся новые дороги, приводятся в порядок старые. С наступлением весны вернутся с побывки наши молодожёны, а с ними прибудет и подкрепление: тридцать две сотни пехотинцев и пять сотен всадников. Народ в Македонии ликует, все гордятся нашими успехами. Признаться, отправляя Коэна, Локона и Счетовода домой, я нагрузил их золотом для вербовки, но оказалось, что от желающих вступить в армию нет отбоя. Молодых людей пьянит возможность испытать на Востоке приключения, обрести славу и добыть трофеи.
Всю зиму мы вели боевые действия во Фригии и Каппадокии, за Галисом, у предгорий Таврского хребта. Противостоят нам по большей части дикие горные племена, отличающиеся вольным, воинственным духом и ценящие свободу выше, чем жизнь. Мне эти люди по нраву. Чего я от них добиваюсь? Только их дружбы. Когда они поймут это и явятся ко мне с миром, я одарю их золотом.
Разумеется, мысли мои сосредоточены на Дарии. В донесениях сообщается, что царь Персии находится в Вавилоне, где собирает и обучает вторую армию. Руководство сетью наших лазутчиков и осведомителей я поручил Гефестиону. Каждый день он является ко мне с докладом, а раз в пять дней созывается Совет.
Вот доклад, сделанный им в Гордии.
— По существу, в Персии нет постоянной армии, если не считать царских «родственников», шесть тысяч всадников, с учётом избранной тысячи и десяти тысяч «Бессмертных». Чтобы сразиться с нами, он собирает силы со всех восточных провинций, иные из которых находятся в десяти тысячах стадиев от Персеполя, а от Вавилона и того дальше. На то, чтобы созвать новобранцев, сосредоточить их в одном месте и худо-бедно обучить, сатрапам потребуется не один месяц. Однако ясно, что Дарий учтёт уроки разгрома при Гранике и не будет сидеть сложа руки. И вооружение, и тактика претерпят изменение, а командование на сей раз царь возьмёт на себя. Как доносят наши соглядатаи, при его особе сейчас находятся Арзамес, Реомитр и Атизес, которые сражались против нас при Гранике и, разумеется, не преминут доложить царю об особенностях нашей армии. Что, естественно, даст ему возможность внести в подготовку своей соответствующие коррективы. Дарий призвал к своему двору Тиграна, самого прославленного кавалерийского военачальника Азии, и своего брата Оксатра, великого воителя более шести с половиной футов ростом. Там же пребывают его родичи — Набарзан, Датис, Масист, Мегабат, Автофрадат, Тиссамен, Фратаферн, Датам и Оронтобат, который вместе с Мемноном командовал при Галикарнасе. Все эти люди, известные как храбрые воины и искуснейшие наездники, приведут с собой из своих провинций могучие отряды всадников, своих наследственных слуг. Кроме того, Дарий вызвал в Вавилон Тимонда, сына Ментора, который, как доносят лазутчики, совершил стремительный переход от вражеского морского порта Триполи в Сирии и привёл с собой от десяти до пятнадцати тысяч греческих наёмников. В Вавилоне пребывают и сыновья Мемнона, Агафон и Ксенократ, с восемью тысячами наёмников с Пелопоннеса, а также эллинские командиры — Главк из Этолии и Патрон из Фокиды, которые, будучи выдающимися пехотными командирами, сумели привлечь в свои отряды ещё десять тысяч эллинских гоплитов, единственных в мире бойцов тяжёлой пехоты, способных потягаться с нашей фалангой. Таким образом, Дарий уже сейчас готов выставить от тридцати до тридцати пяти тысяч тяжёлой пехоты против наших двадцати. При дворе Дария в немалом числе кормятся предатели Эллады, да и Македонии тоже. Все они прекрасно знакомы с нашим вооружением и тактикой и, желая своей родине поражения, могут оказаться для царя персов бесценными советчиками. И конечно же, не приходится сомневаться в том, что среди всяческого лагерного сброда, от шлюх до мальчишек-попрошаек, полным-полно персидских осведомителей. Мы можем быть уверены в том, что каждое наше слово, даже произнесённое во сне, будет доведено до ушей врага.
Когда выступит Дарий? Куда двинется? Какими силами?
Человеку, который доставит эти сведения, я обещаю отсыпать столько серебра, сколько весит он сам.
Но вот ведь странно: донесение из Анкира, что на краю Соляной пустыни, мы получаем не от лазутчиков или перебежчиков, а, можно сказать, от самого Дария. Наши разведчики перехватывают на Царском тракте гонца с письменным приказом, адресованным Барзану, наместнику Месопотамской Сирии. Ему предписывается в течение шести месяцев подготовить к прибытию великой армии двести тысяч амфор вина, пятьдесят тысяч овец, сорок тысяч мешков ячменя и такое же количество пшеницы, кунжута и проса, а также воды и фуража, сухого и зелёного, чтобы хватило для шестидесяти тысяч лошадей, ослов и верблюдов. Повелевается также иметь или установленными, или готовыми к сборке глиняные печи, двести сорок тысяч локтей верёвки, сто тысяч кольев для частокола и шесть тысяч мотыг и кирок для выкапывания лагерных канав, сооружения земляных валов и рытья выгребных ям. Особое повеление касалось расположения царского шатра. Для него следовало отыскать участок в восемь акров на возвышенности, в тени деревьев и с родником, расположенным так, чтобы никто не мог замутить воду выше по течению. Рядом надлежало расчистить площадку в одиннадцать акров для размещения царского обоза и коновязей для гонцов, которые будут осуществлять связь с Вавилоном.
Что убеждает меня в подлинности этой депеши, так это предписания о размещении царской свиты.
Когда персидский царь отправляется на войну, его сопровождает обоз в пятнадцать стадиев длиной. Я имею в виду не армейский обоз, а его личный. Он везёт с собой свою мать и своих жён. Его сопровождают цирюльник и гримёр. Царь возит за собой всё, что ему дорого, включая ручную пантеру, говорящего попугая, бюсты предков, любимые ковры, подушки и книги. С ним, для его увеселения, не расстаются флейтисты, арфисты, кифаристы и мастера игры на тамбурине. В число его сопровождающих входят прорицатели и маги, лекари и писцы, носильщики, пекари, повара, кравчие, банщики, виночерпии, массажисты и смотрители гардероба. Берёт он с собой и наложниц, правда, не всех. Некоторые из трёхсот шестидесяти пяти красавиц остаются дома, но зато каждая из сподобившихся счастья сопутствовать владыке имеет собственный штат прислужниц, евнухов, мастериц по румянам, бальзамам и притираниям, швей и прочей челяди. Само собой, штат личной прислуги царя царей гораздо обширнее: особый слуга подаёт ему блюда, особый пробует вино на случай попытки отравления. Сыр для царя изготавливает личный царский сыродел, смешивать напитки дозволено лишь царскому смешивателю напитков, составлять благовония — царскому составителю благовоний. В обязанности одного человека входит носить царское зеркало, в обязанности другого — выщипывать владыке брови. И это не считая множества писцов, евнухов, счетоводов, поэтов и просто прихлебателей.
Шатёр, в котором мы сейчас находимся, принадлежал Дарию. Мы захватили его при Иссе. Тогда он был ещё больше: в честь победы я устроил в нём пир для шестисот приглашённых, а в Бактрии мы, подняв пологи, использовали его как площадку для выездки лошадей. Он достался мне вместе с четырьмя десятками знающих людей, без совокупных усилий которых его было невозможно ни поставить, ни снять. После Дрангианы мы разделили его на четыре части, а каждую из них снова на четыре. То, что ты видишь сейчас, это всего лишь четверть четверти, а из остального получилось множество прекрасных палаток для лазарета и лагеря. Но и того, что осталось, вполне хватает для размещения половины моей свиты, поварни, штабных лекарей и писцов, а также моих собственных покоев, караульного помещения, хранилища для карт, библиотеки, места для совещаний и того отсека (бывшего сераля), где мы сейчас беседуем.
Упаковав этот чудо-шатёр, Дарий и его войско выступили из Вавилона и двинулись в Сирию, желая принудить меня к сражению. Я же, будучи излишне самоуверен и слишком желая этой битвы, допустил непростительную ошибку. Самую крупную ошибку с того момента, как я начал командовать войсками.
Глава 14 СТОЛПЫ ИОНА
Исская гавань представляет собой зарубку в морском побережье Малой Азии, находящуюся у локтя Киликии, там, где береговая линия, смотревшая ранее на юг, оборачивается к северу. На юге, за горами, находится Сирия и её столица Дамаск, потом Финикия и Палестина, Аравия и Египет. Ну а на востоке у Царского тракта нас ожидает хлебная корзина империи — Месопотамия, или «Междуречье», земля между реками Тигр и Евфрат, с её великими городами Вавилон и Сузы.
Приморскую равнину Киликии ограждают два зубчатых кряжа: с севера и востока — Тавр, а с юга и востока — Аман. Северный перевал через Тавр именуется Киликийским воротами. Эта караванная тропа местами оказывается так крута, что мулы от напряжения испускают газы, а сужается порой так, что (как шутят местные жители) четверо всадников, отправившись в путь незнакомцами и проделав его плечом к плечу, завершают дорогу добрыми друзьями.
Персидский наместник Арзамес получил от Дария строжайший приказ удерживать горные проходы, но я стремительным обходным манёвром царских телохранителей и горцев-агриан оседлал вершины над ним и сбросил его с перевала практически без боя. Это открыло нам путь в плодородную, примыкавшую к морю и ограждённую горами равнину, изобиловавшую всеми мыслимыми земными плодами. Центром её являлся процветающий город Таре.
Дабы не допустить прибытия вражеского флота, мы захватили порты Солы и Магарс и заняли равнинные города Адана и Малл на Пираме. Именно там нам впервые удалось получить достоверные сведения о местонахождении армии Дария.
Персидское войско находится в пяти днях пути на восток, в Сохи, на Сирийской стороне Аманских гор. Их лагерь располагается на равнине Амук, широком и плоском пространстве, идеальном для действий кавалерии (по части которой, к слову, Дарий имел перед нами пятикратное превосходство) и представлявшем все возможности для полноценного снабжения войска всеми видами фуража и припасов, доставлявшихся из Антиохии[1], Алеппо и Дамаска. Было совершенно очевидно, что выманить врага со столь удобной позиции нечего и надеяться. Он к нам не придёт. Значит, нам придётся явиться к нему самим.
Теперь, Итан, я прошу тебя кое-что понять. Повествование о сражении неизменно ведётся с ясностью и чёткостью, которые, однако, возникают в сознании повествующего уже по прошествии времени, тогда как в действительности дело обстоит несколько иначе. Как говорят опытные десятники: главные проводники, ведущие всякое наступление, это догадки и слухи.
Надо иметь в виду, что мы находимся в чужом краю и о многом имеем лишь приблизительное представление. Наше войско совершает стремительный бросок к Несу, что близ залива. К востоку от нас высятся горы. По ту сторону хребта, всего в ста пятидесяти стадиях, стоит лагерем Дарий. Но как попасть туда?
Когда великая армия проходит по какой-то земле, она притягивает к себе огромное количество людей с огромного расстояния. Местные жители жаждут поживы, а там, где армия, там всегда и деньги. В большинстве земель македонцев именуют «маки», и уж будь уверен, где бы ни проходили наши колонны, туземцы с криками «Ойе, маки!» сбегаются со всех сторон, норовя что-нибудь продать или предложить свои услуги. Можно раздобыть хворосту, можно курицу, можно луку, а можно и проводника.
Каждый, кому не лень, бьёт себя в грудь, уверяя, что знает путь туда, куда нам надо, лучше кого бы то ни было. Он клянётся, что его зять служит у персов, а потому он сам запросто может рассказать нам, на каких подушках спит Дарий и что он сегодня ел на завтрак.
Я не виню этих малых, толк от них всё равно есть. От них мы узнаем о перевалах Кара Капу и Обанда, о тропе через Столп Иона и, наконец, о Сирийских воротах ниже Мириандра, которые откроют нам путь через Аман прямо к Дарию. Наши передовые отряды захватят все эти проходы и перевалы. Когда от Сирии нас отделял лишь один, последний бросок, я лично допросил более ста местных жителей, а наши собственные разведчики высмотрели в горах каждую козью тропу, по которой наши войска могли бы добраться до персов или, наоборот, персы до нас.
Но при всех этих стараниях мы так и остались в неведении относительно Львиного перевала через Аман.
Заметь это, мой юный друг. Пусть это запечатлеется в твоей памяти, как выжженное калёным железом клеймо. Никогда, никогда не принимай ничего как должное. Никогда не воображай, будто ты всё знаешь, и не переставай доискиваться и задаваться вопросами.
Итак, я ночным маршем веду армию вдоль побережья через перевал под названием Столп Иона, дабы сосредоточить её в городе Мириандре, отправном пункте для броска Сирийскими воротами через Аман. Оттуда мы обрушимся на Дария. Бушующая гроза позволяет нам продвигаться скрытно, но, с другой стороны, нам приходится устроить дневную стоянку, чтобы отдохнуть, а также подсушить натр оружие и амуницию. Я нахожусь именно там, где и хотел быть, на том самом месте, которого я стремился достичь. Полночь: колонна движется на подъём. Я нахожусь в авангарде, с царскими телохранителями, лучниками и агрианами. Все налегке, без какой-либо поклажи, кроме оружия и доспехов. Неожиданно с севера галопом мчатся два всадника. Один из них наш, пеонийский разведчик, которого я знаю, хотя помню не по имени, а лишь по прозвищу Терьер. Другой — местный паренёк из Трины, деревушки неподалёку от Исса.
Они видели войско Дария!
Оно находится у нас в тылу!
Как это возможно? В моём распоряжении имеются разведывательные донесения менее чем трёхдневной давности, многократно проверенные и подтверждённые. Везде говорится, что двухсоттысячное персидское войско стоит лагерем на равнине к востоку от гор. Мыслимо ли поверить, что столь огромная армия, занимающая ровное, широкое, столь удобное для кавалерийского боя поле (поле, наверняка выбранное персидскими военачальниками с учётом всех возможных преимуществ, включая и боевые возможности, и возможности снабжения), армия, отягощённая громадным обозом, вдруг ни с того ни с сего снимется с лагеря, дабы променять столь просторную арену на делающие почти невозможным любой манёвр теснины Киликии?
Однако всё произошло именно так.
Наперекор здравому смыслу и всем нашим ожиданиям войско Дария снялось с лагеря в Сохи, двинулось маршем на север, перебралось через Аман Львиным перевалом (тем самым, о существовании которого я даже не подозревал) и оказалось примерно там, где недавно находились мы. Таким образом, две многочисленные армии, разделённые всего-то ста пятьюдесятью стадиями, совершили, параллельно одна другой, переход через горы в противоположных направлениях, причём незаметно одна для другой.
Так или иначе, Дарий находится позади нас. Он нас отрезал. Или, можно сказать, это я отрезал нас собственным нетерпением и излишней поспешностью.
Худшее, однако, ожидало впереди. Уверенный, что Дарий находится с внутренней стороны Аманского кряжа, я оставил больных и раненых на побережье, в нашем ближнем лагере под Иссом, и теперь получалось, что противник доберётся до этого полевого лазарета примерно в то же самое время, когда наши главные силы приблизятся к Мириандру, в двухстах пятидесяти стадиях к югу. Причём место, где находился наш тыловой лагерь, было совершенно беззащитным, и Дарий с лёгкостью заполучил в руки наших несчастных товарищей. Участь их была ужасной.
Македонцев обмазали варом и подожгли, остальных изувечили. Персы отрезают пленным носы и уши, а также отрубают кисть правой руки: подобное варварство, неслыханное в Элладе, на востоке является обычным делом.
Горестное известие повергает меня в ярость и скорбь. Это моя вина! Моё недомыслие! Моя глупая самоуверенность!
Больные и раненые, изувеченные, но способные передвигаться самостоятельно, пускаются в бегство, вдогонку за нашей армией. Я посылаю на север тридцативёсельную галеру, которая не только подтверждает сообщения Терьера, но и подбирает дюжину наших беглецов. Ещё большее число добирается до нас в течение дня своим ходом, причём в состоянии столь бедственном, что оно не поддаётся описанию.
Эфиальта, брата Мелеагра, доставляют на повозке, оскоплённого и выпотрошенного. Свернув плащ, он уцелевшей рукой зажимает вспоротый живот, чтобы не позволить вывалиться внутренностям.
Мой дорогой товарищ Марсий находит среди увечных двух двоюродных братьев: один несёт другого, перекинув через плечо, хотя потеря крови из обрубка руки уже привела того к смерти. Несчастные калеки, поддерживая друг друга, истерзанные, окровавленные и оборванные, прибывают один за другим. Они страдают не только от боли, но и от стыда, оттого, что товарищи видят их в столь жалком виде.
Иные, правда, напротив, демонстрируют страшные увечья, дабы побудить друзей к отмщению.
И сколь бы ни было велико горе пострадавших, оно не сравнится со скорбью и яростью их соратников, разрывающих на себе одежды, взывая к Зевсу Мстителю. Добравшиеся до нас повествуют об участи иных, замученных врагами до смерти. Персы не пощадили никого и подвергли каждого мучениям, до которых способен додуматься лишь жестокий варварский ум. Обходя искалеченных, я натыкаюсь на Евгенида, Счетовода, нашего доблестного кавалерийского командира, на чьей свадьбе мы пировали в Диуме и чья невеста, Элиза, подарила мне танцевальные сандалии. Какое-то время он пытается сохранить самообладание, но потом падает к моим ногам и кричит:
— Александр! Как смогу я сделать сына воином, не имея руки? Как смогу я войти к жене, не имея лица?
Вид всех этих мук и страданий повергает меня в состояние, неведомое мне прежде. Воистину, пусть бы лучше всё это проделали со мной! Лучше мне самому испытать подобные муки, чем видеть истерзанными и обезображенными моих дорогих товарищей, чьё доверие ко мне оставило их беззащитными перед этим немыслимым кошмаром.
Но, увы, исправить уже ничего нельзя. Ни золото, ни почести, ни святая месть тем, кто совершил это надругательство, ни даже уничтожение самой Персии не вернёт этим людям красоты и здоровья, не сделает их такими, какими они были и какими перестали быть по моей вине. Ни у кого нет сомнения в том, что армия должна немедленно развернуться и дать бой. Те из увечных, кто ещё способен передвигаться, обступают меня, требуя оружия: каждый готов биться левой рукой, в надежде хоть как-то посчитаться с извергами. Я, однако, вынужден отказать. Из опасения, что эти озлобленные, отчаявшиеся люди уже утратили желание жить, а потому будут искать в бою только смерти и рваться вперёд с яростью, грозящей нарушением строя и боевого порядка.
За плечом я ощущаю своего даймона. Увы, я подвёл и его. Своей дерзостью. Самоуверенностью. Торопливостью.
Ты, Александр, неустанно стремился к величью и славе. И обретал их сверх меры, победы плоды пожиная. Ну так вкушай их теперь, узнай, хороши ли на вкус!Мой командный пункт в Мириандре находится над узким заливом в форме полумесяца. Местные жители — мужчины, женщины, даже дети — высыпали к берегу, чтобы помочь нашим увечным товарищам подняться к своим домам, которые они предложили несчастным в качестве прибежища. Многие, чтобы вынести воинов с пляжа, используют вместо носилок собственные постели. Я созерцаю это скорбное зрелище с косогора. Парменион стоит рядом со мной, Кратер и Пердикка спешно поднимаются наверх. Птолемей и Гефестион скачут ко мне верхом. Сотники, десятники, простые солдаты обступают меня, лица их искажены гневом и скорбью.
— Веди нас, Александр! — восклицают все в один голос. — Веди нас на этих извергов!
Глава 15 СЧЕТОВОД
Мы находимся у Исса, слева от нас плещется море, справа начинаются предгорья. Выступив в сумерках прошлым вечером, армия совершила стремительный бросок вдоль побережья, вернувшись на север тем же самым путём, которым два дня назад ушла на юг. В полночь мы достигаем Столпа Иона. Я приказываю солдатам урвать среди скал и утёсов несколько часов сна, с тем чтобы произвести общий подъём на «армейском рассвете», то есть примерно часа за два до рассвета настоящего. Когда светает, мы уже спускаемся на равнину. Я держу пехоту впереди кавалерии, чтобы быстрые подразделения не обгоняли медленные. Царские копейщики рассредоточиваются впереди в качестве разведывательного авангарда. Кроме того, я выслал вперёд и три летучих отряда из самых крепких молодых парней на лучших скакунах. Их задача состоит в том, чтобы добыть мне пленных для допроса. На войне слишком многое может зависеть от мелочей, и я не вправе упустить ни одной из таковых. Всю ночь я терзался страхом, что Дарий превзойдёт меня в тактической хитрости. Вдруг лазутчики или доброхоты из числа местных жителей донесли ему о продвижении наших войск к югу с намерением атаковать его и он, сумев перегруппировать войска, уже бросил их нам навстречу в полной боевой готовности? Возможно ли это? Неужели это правда? Есть один вопрос, на который у меня до сих пор нет ответа. Почему мой враг вывел своё огромное войско, предназначенное для ведения боевых действий на широких пространствах, с идеально подходившей для него позиции и перебросил сюда, в теснины прибрежных холмов, затрудняющие использование численного преимущества?
Спустившись со Столпа, я получаю ответ. Среди тех, кто находился в разгромленном Дарием полевом лазарете, был парнишка-конюх по имени Ясон. И вот пятисотенный и сотник, которым он успел поведать об увиденном, приводят его ко мне. Старший командир с похвалой говорит, что во время страшной резни паренёк не только не потерял головы и не ударился в панику, но в сумятице кровавой бойни постарался вызнать о персах как можно больше.
— Но как? — интересуюсь я у паренька. — Как ты это делал?
— Я просто подходил то к одному, то к другому и расспрашивал, что к чему. Эти сыновья шлюх не видели во мне солдата: они приняли меня за неотёсанного местного сопляка. Я сумел выяснить, откуда они пришли, по какому пути и куда направляются.
— И что же подвигло тебя на это? — спрашиваю я.
— Так ведь ясно же было, о царь, что тебе эти данные пригодятся.
Из рассказа паренька выходит, что Дарий не имел ни малейшего представления о броске нашей армии на юг и полагал, будто наши силы по-прежнему сосредоточены на севере, у Мала. Персы решили атаковать нас так же, как и мы их, пребывая в том же неведении. Иными словами, мы оба, и я и Дарий, совершили одну и ту же ошибку.
— Дитя, — спрашиваю я, — ты умеешь ездить верхом?
— С тех пор, как научился ходить.
— Тогда, клянусь Зевсом, теперь ты будешь кавалеристом.
Я велю Теламону подыскать парнишке резвого скакуна, сбрую, оружие и доспехи.
— А сегодня вечером, Ясон, когда мы станем праздновать победу, ты будешь сидеть в царском шатре.
Несколько минут спустя разведчики возвращаются с пленными, показания которых полностью подтверждают сообщение храброго юноши. Я тем не менее проявляю повышенную осторожность. Перевал проходит прямо над морем на южном подступе к Иссу; если Дарий догадался выделить людей для захвата господствующих высот, его силы могут обрушиться на нас, когда мы будем находиться на марше.
Я приказываю всем командирам сразу по выходе из теснины перестраивать свои подразделения из походных в боевые порядки.
Как оказывается, можно было обойтись и без этого. Персы не оседлали высоты, а в оборонительном порядке поджидают нас на песчаном побережье, там, где река Пинар впадает в море. Враг оказывается у нас на виду примерно после полудня. Ярко светит солнце. Слева от нас плещется Исский залив.
— Ты видишь его?
Стоящий у моего плеча Гефестион указывает на центр неприятельской линии. Даже на расстоянии двух тысяч локтей невозможно не заметить великолепную и огромную колесницу Дария, находящуюся в центре строя воинов конной царской стражи, восседающих на лучших вороных жеребцах.
Самого его с такого расстояния, конечно же, не разглядеть, разве что плюмаж шлема. Но меня всё равно охватывает глубочайшее волнение.
Наконец-то мой могучий соперник вышел на поле! Наконец-то владыка Азии стоит передо мной!
Дарий Персидский.
При всём том, что он является Царём Царей, Властелином Земель, Владыкой Стран от восхода до заката Солнца, я (как и весь мир) знаю о нём, пожалуй, меньше, чем о любом из обычных командиров его войска. Известно, что ещё до воцарения он славился силой и храбростью: особую славу принесла ему скорая и бесспорная победа над неким армянским великаном. Дарий высок ростом, и его называют самым красивым мужчиной во всём персидском воинстве. Его брат Оксатр обладает силой десятерых, однако Дарий легко превосходит его и в конном, и в пешем бою. Так, во всяком случае, рассказывают, но правда ли это, мне неизвестно.
Зато мне точно известно, что Дарий сумел добиться верности не только от своих родичей и соотечественников, но и от иностранных наёмников, включая эллинов. Вождям последних, таким превосходным полководцам, как Тимонд, сын Ментора, Патрон из Фокиды и Главк из Этолии, я предлагал двойную и даже тройную плату, с тем чтобы они перешли на мою сторону. Ни один не согласился. Дарий даровал им земли, выдал за них знатных персиянок, отвёл их детям видное место при своём дворе. То, что мой соперник так высоко ценит способных командиров, означает, что он разбирается в войне, а раз ему удалось заручиться их верностью, значит, он разбирается и в людях.
Парменион, которому предстоит командовать нашим левым флангом, подъезжает и останавливается рядом со мной. Армию Дария, фронт которой простирается в обе стороны, насколько достигает око, составляют двести тысяч воинов, не считая ста тысяч местных ополченцев. У нас сорок три тысячи бойцов. Вражеская конница, усеявшая весь ближний берег Пинара, кажется неисчислимой. Пехота его как раз сейчас выстраивается позади реки в двойную фалангу. В тылу, чуть меньше чем на десять стадиев, простирается ровное пространство: дальше начинается каменистый склон. Вся прибрежная территория густо изрезана оврагами, делающими организованное отступление армии практически невозможным. Мы знаем эту местность: мы прошли по ней всего четыре ночи тому назад.
Поле для боя нешироко. От сорока восьми до пятидесяти двух сотен локтей. Кавалерии у Дария столько, что он может покрыть это пространство три раза. Останься он по сирийскую сторону гор, это дало бы ему неоспоримое преимущество, но здесь, на тесной равнине, всей этой коннице не развернуться.
И снова мне улыбается удача.
Ко мне лёгким галопом в сопровождении троих подручных подъезжает превосходный командир по имени Протомах, которого товарищи за полноту прозвали Пончиком. Сегодня его копейщики осуществляют передовую разведку.
— Ну, Пончик, что-нибудь разузнал?
— Не без того, господин.
Река Пинар неглубока (мы перебрались через неё вброд четыре дня тому назад, не замочив бёдра), но берега, особенно на той стороне, где находится неприятель, у неё крутые и густо поросли ежевикой. Протомах сообщает, что там, где утёсы не слишком круты, неприятель вбил частоколы.
— Почему его кавалерия на этом берегу реки?
— Прикрывают пехоту, которая разворачивается на том берегу. Конники выехали вперёд при нашем появлении, на тот случай, чтобы наша кавалерия не атаковала не успевшую построиться пехоту.
Этому сообщению нет цены. Из него следует, что Дарий намеревается обороняться; он уступил инициативу мне.
Слева море. Ровная местность. Поле для кавалерии. Справа изрытые оврагами подножия холмов поднимаются к кряжу в форме полумесяца, куда теперь, чтобы создать угрозу для нашего правого фланга, тысячами устремляется неприятельская лёгкая пехота. Хотя мы стоим в пяти стадиях от вражеского фронта, это крыло врага растянулось за пределы нашего фланга.
Галопом возвращается из разведки Сатон, сын Сократа Рыжебородого. Ему семнадцать, и он горяч, как молодая гончая (поэтому при нём, для пригляду, неотлучно находятся два доверенных десятника его отца).
— Новые персы здесь, господин!
Юноша указывает на два развёрнутых боевых знамени на каждом крыле персидского фронта.
— Видишь их змеев?
Уже несколько месяцев шпионы и дезертиры доносили о создании нового подразделения под названием «царская дружина», сформированного, вооружённого и обученного специально для борьбы с нами. Сведения об этом отряде скудны: известно лишь, что отряд пеший, сформирован исключительно из рождённых персами, а командует им Бубак, родич Дария и сатрап Египта. Значит, они тоже здесь.
Я интересуюсь численностью и вооружением нового формирования.
— Сорок тысяч, — отвечает молодой Сатон, не задумавшись ни на секунду. — Все копейщики, лучников нет. Строй каждого крыла имеет четыре сотни бойцов по фронту и полсотни в глубину.
— Ты останавливался, чтобы сосчитать их по головам? — шутливо спрашиваю его я.
Но он совершенно серьёзен.
— Они защищены шлемами, длинными кольчугами и плетёными щитами в человеческий рост, такими, как у египтян.
Он указывает на центр вражеской линии.
— Солдаты, занявшие позицию между крыльями «царской дружины», — это наёмники, тяжёлая эллинская пехота. Воины Тимонда, Патрона и Главка; мы видели значки каждого из них. Их фронт растянулся примерно на полторы тысячи локтей. Определить глубину строя мне не удалось из-за складок местности.
Кроме того, юноша докладывает, что неприятельские лучники, числом около двух тысяч, уже перебрались на ближний берег, прикрывая вражеский левый фланг в разрыве между новым отрядом и кавалерией. Слева собрались пращники.
— Мидяне, — продолжает сын Сократа, — держатся на виду тремя отрядами, один за другим. Их оружие — длинные тростниковые луки.
— Мой друг, — говорю я юному Сатону, — даже от твоего достойного отца мне не доводилось получать более обстоятельного донесения.
Я отпускаю молодого человека, и он возвращается в своё подразделение, сияя от гордости.
Наши войска дислоцируются в обычном порядке. Кавалерия Дария разворачивается за рекой. Эти отряды, общим числом от двадцати пяти до тридцати тысяч, даже рассредоточившись вдоль побережья, составляют в глубину почти десять стадиев.
Мой отец говаривал, что атаковать численно превосходящего врага всё равно что бороться с медведем: «Ты должен успеть вонзить кинжал ему в сердце, прежде чем медведь сомнёт тебя лапами».
После Херонеи я решил, что план каждого последующего сражения должен быть проще плана предыдущего. Я уже хорошо представляю себе сегодняшнее столкновение, точнее, ту форму, в которую хочет облечь его Дарий. Но вижу и нечто иное: ту форму, которую намерен навязать ему я.
Дарий представляет себе это так: свою кавалерию, имеющую перед нами пятикратное численное превосходство, он направляет вдоль моря, в расчёте, обойдя нас слева, обрушиться на находящуюся у нас в центре фалангу с сариссами. Между тем его первоклассная пехота, «царская дружина» и великолепные наёмники, занимает превосходную позицию под защитой реки, оседлав поросший ежевикой и подкреплённый частоколами косогор. Лёгкая пехота Дария, находящаяся на его левом фланге, хлынет с серповидного кряжа на наш открытый и незащищённый правый фланг. Враг полагает, что его фронт столь глубок и плотен, что любая наша попытка прорвать его, сколь бы отчаянна она ни была, обречена на провал.
А теперь, друг мой, вернёмся к нашему обучению. Добавим к твоему военному словарю ещё одно понятие. «Скрывай и раскрывай».
Командир наступает на своего противника «скрытно», то есть его намерения замаскированы либо его ложной диспозицией, либо обманными манёврами, либо использованием характера местности и так далее. В решающий момент атаки он «раскрывается».
Причина, по которой статичная оборона всегда уязвима, заключается в том, что она, по определению, изначально «раскрыта». Обороняющиеся, занимая постоянные позиции, тем самым не только раскрывают свои намерения (как делает здесь Дарий, ясно дав понять, что он пошлёт свою кавалерию со своего правого крыла, вдоль моря), но недвусмысленно демонстрируют то, что считают своим преимуществом (в данном случае мощный левый фланг, защищённую позицию за рекой, великолепную тяжёлую пехоту).
В отличие от обороняющегося атакующий ничего не раскрывает почти до последнего момента. Тем самым он сохраняет за собой свободу действий и возможность противопоставить вполне предсказуемым действиям защищающегося собственные, совершенно непредсказуемые для врага.
При Иссе наше правое крыло наступает по пересечённой местности, через овраги и вымоины такой глубины, что они способны поглотить целые отряды. Именно сложностью рельефа объясняется то, что для прикрытия этого участка Дарий выделил лишь горстку лёгкой конницы. По его разумению, характер местности никак не подходит для атаки, тем паче атаки тяжёлой кавалерии. Зато для меня все эти провалы и буераки служат превосходным укрытием. Все мои передвижения и манёвры в этом секторе остаются для Дария незамеченными. Естественно, я использую эту возможность. Чтобы противостоять рассредоточенной вдоль моря многочисленной вражеской коннице, я посылаю все восемь отрядов фессалийской тяжёлой кавалерии на соединение с нашими наёмниками и союзными всадниками, которые уже находятся на этом крыле. Парменион, командующий нашим левым флангом, получает приказ произвести передислокацию как можно более скрытно и, используя холмистый рельеф, вывести конницу позади фаланги. Таким образом, когда персидская конница обойдёт наше левое крыло, она подставит свой фланг под удар фессалийцев.
При себе я удерживаю восемь отрядов конных «друзей» под началом Филота, четыре отряда царских копейщиков под командованием Протомаха и отряд пеонийцев, ведомый Аристоном. Мы будем атаковать справа.
На своём левом фланге, то есть напротив нашего правого, Дарий разместил тех самых лучников, о которых сообщил Сатон, сын Рыжебородого. Они прикрывают выстроившуюся за их спинами линейную пехоту. Очевидно, что, как только на этом участке начнёт развиваться наступление, лучники забросают стрелами атакующих, но в рукопашную с ними вступать не станут и, едва натиск окажется слишком силён, отступят в тыл, сквозь ряды своих товарищей.
Отметь особенность этой диспозиции и то преимущество, которое она даёт атакующему. Неприятель считает эту свою позицию очень сильной, поэтому он на этом участке даже не удосужился затруднить возможное наступление, забив частокол. В действительности же его позиция слаба и весьма уязвима.
Почему? Потому что плотная масса лучников совершенно бесполезна против тяжёлой кавалерии. Никакой лук не может эффективно поразить цель далее чем за двести локтей (а здесь, с учётом морского ветра, дальность поражения составит локтей пятьдесят). Но даже двести локтей скачущая галопом конница преодолевает за семь секунд. Много ли стрел успеют выпустить лучники, прежде чем они обратятся в паническое бегство, внося беспорядок в строй стоящей позади них линейной пехоты?
А теперь, мой юный друг, подумаем о том, кто эти недавно набранные персидские копейщики, пресловутая «царская дружина»?
Как доносят лазутчики, этих бойцов именуют «cardaces», что на персидском языке означает «пешие всадники». Формирование этого подразделения явно представляет собой попытку Дария восполнить самый серьёзный свой недостаток: практическое отсутствие природной персидской пехоты, способной потягаться с македонской фалангой. Замысел сам по себе неплох. Я хорошо понимаю Дария и одобряю его решение. Однако одно дело решение, и совсем другое — воплощение этого решения в жизнь. Персы не имеют опыта формирования и обучения крупных подразделений тяжёлой пехоты: эту роль у них выполняли преимущественно греческие наёмники. Теперь, когда пехотный корпус будет набран из благородных воинов и поставлен под командование знатнейших из знатных, обратятся ли эти горделивые вельможи за советом и наставлением к многоопытным эллинским командирам? Нет и ещё раз нет! Сделать так означало бы потерять лицо.
Благородные воители будут готовить новое подразделение к войне, исходя исключительно из собственных соображений и представлений.
Каждый перс по отдельности является превосходным, умелым и отважным воином. Однако ведение боевых действий в плотном строю — это не то искусство, которое можно освоить за один день. Не говоря уж о том, что оно чуждо персидскому национальному характеру. Азиаты — лучники. Их оружие лук, не копьё. Благородные юноши со времён Кира Великого обучались «натягивать лук и говорить правду». Рукопашный бой, тем паче в строю, не соответствует восточному духу: варвары предпочитают сражаться на расстоянии, с помощью метательного оружия. Даже щиты «царской дружины», плетённые в рост человека, это на самом деле щиты лучников. Своего рода переносные укрепления, предназначенные, чтобы ставить их на землю и пускать стрелы из-за укрытия. Такой щит совершенно непригоден для боя в тесном строю. Я уж не говорю об их боевом порядке: пятьдесят рядов в глубину — это не строй, а толпа.
Воин, стоящий в тылу, боится не столько врага (он его и не видит), сколько того, что при отступлении его затопчут собственные товарищи. Поэтому стоит передним рядам податься и дрогнуть, тыл бросает свои щиты и обращается в бегство.
Итак, я атакую лучников и «царскую дружину» Дария во главе тяжёлой конницы. Это будет кинжал, устремлённый в сердце медведя. Ну а моя фаланга в центре, а также пешие и конные отряды Пармениона слева удержат медвежьи лапы.
В тылу персидского войска находится лагерь Дария. Он огромен: это сто тысяч слуг, маркитантов, шлюх и прочего сброда. Когда неприятель в ужасе сорвётся с места, он побежит на собственных товарищей. Холмы позади него изрыты оврагами и канавами, что сулит смерть или увечье великому множеству людей и коней. Ну а те, кому удастся преодолеть этот нелёгкий рубеж, уткнутся в собственный обоз. При этом подразделения окончательно потеряют какую-либо управляемость, а все дороги окажутся забиты лошадьми, подводами, мулами, колесницами и людьми. И вот на такого, полностью дезорганизованного противника обрушится сплочённый удар нашей кавалерии. Враг, позорно бегущий, получит удар копьём в спину, а дерзнувший обернуться встретит смерть от удара в грудь. Десятки тысяч врагов найдут здесь свой конец, причём лишь каждый десятый из них будет сражён нашим оружием. Прочим суждено быть затоптанными, погибнуть в давке, сломать шеи, падая в ущелье. Овраги будут завалены трупами, и уцелевшие станут преодолевать их по телам товарищей.
Я собираю вокруг себя полководцев, отдаю последние приказы и отпускаю командиров к их подразделениям.
— Старина, — спрашиваю я Пармениона, — сможешь ты удержать левый фланг?
— Море покраснеет от персидской крови.
Меня радует такой настрой. Напоследок я галопом объезжаю ряды, не для того, чтобы подбадривать людей речами (на таком ветру сколько ни кричи, никто ничего не разберёт), но дабы воодушевить их самим своим видом. И это удаётся. Воинственные возгласы прокатываются вдоль шеренг, словно волны.
Опытные кавалеристы называют «высоким» такое состояние лошади, когда она вот-вот может выйти из-под контроля и понестись вскачь сама по себе. Подобное «высокое» напряжение я вижу сейчас в лошадях «друзей» и ощущаю под собой, в лёгком, едва касающемся земли аллюре Буцефала. Напряжение достигло высшей точки. Мы больше не можем ждать. В считанные мгновения я должен отдать приказ об атаке.
Неожиданно мы видим мчащегося со стороны нашего тыла одинокого всадника. Он появляется с прибрежной дороги, рассекает шов между кавалерией и пехотой левого крыла и выворачивает к центру линии.
Все взоры обращаются к нему. Воин держит в руках один из боевых стягов конных «друзей».
— Кто это, чёрт возьми? — удивляется Теламон.
На ветру трепещет темно-красный флажок Боттиеи.
— Это Счетовод!
Теперь мы узнаем его. Евгенид, который всего несколько часов тому назад рыдал в моих объятиях возле Мириандра, искалеченный персами Евгенид прибыл на линию фронта.
Бойцы застывают.
Счетовод на три четверти мёртв, и непонятно, какая сила удерживает его в седле.
— Верните его! — приказываю я Филоту, который немедля посылает галопом конников.
Как может искалеченный человек проделать такой далёкий путь? Он был серьёзно ранен ещё до того, как враг два дня назад надругался над ним, разгромив полевой лазарет. После этого он прошёл пешком двести стадиев до Мириандра, а теперь, уже верхом, проделал тот же путь в обратном направлении. Когда наши «друзья» приближаются, чтобы увести его с фронта, к нему словно бы возвращаются все силы. Он выпрямляется и мчит на открытое пространство. Войско выкликает его прозвище:
— Счетовод! Счетовод!
Обезображенное лицо героя замотано тканью. По приближении товарищей он срывает её, и закалённые воины невольно останавливаются.
Счетовод поднимает обрубок правой руки, вздымая левой боевой стяг.
Все командиры получают от меня приказ галопом скакать к своим подразделениям. Я тоже направляюсь к своему месту во главе колонны.
— Он скачет вперёд! — слышу я изумлённый голос Теламона.
Я не удивлён: этого и следовало ожидать. Мне нет нужды смотреть: армия продолжает скандировать прозвище Евгенида. Не дожидаясь моих приказов, отряды приходят в движение.
Глава 16 СРАЖЕНИЕ ПРИ ИССЕ
Так началась величайшая кровавая битва в истории военного противостояния Востока и Запада, завершившаяся самой убедительной на тот момент победой Македонской армии над полчищами персов.
По существу, имеют место три отдельных боя на различных участках, причём каждый из них сам по себе мог бы считаться битвой эпохального масштаба. Но изначальная схема всего этого действия весьма проста. Давай набросаем её здесь, на столе. Чего я от тебя добиваюсь, Итан, так это чтобы ты усвоил понятие эффективного распределения сил. Враг превосходит нас по численности почти в пять раз, однако на тех участках и в те моменты, когда происходят решающие схватки, численным превосходством обладаем мы.
На крыле, обращённом к морю, отчаянная сеча будет продолжаться почти час. Тяжкий удар будет нанесён в центре нашей фаланги, ибо сложный рельеф речного дна нарушит безупречность строя, а при попытке выйти из реки наших бойцов встретят превосходно обученные тяжеловооружённые греческие наёмники Дария. Зато справа, там, где я атакую силами кавалерии «друзей», неприятель ломается при первом натиске. Мы вспарываем брюхо его строя, так что на память приходят строки великого Эсхила: «Расходится плоть под отточенной сталью».
За первоначальным потрясением от удара «друзей» следуют сумятица и неразбериха среди сил, прикрывающих промежуток между «царской дружиной» и лёгкой кавалерией. На левом фланге врага ведутся беспорядочные стычки. Перед ними, на ближнем берегу Пинара, противник расположил мидийских лучников — две тысячи, как сообщил молодой Сатон, — в трёх отрядах, один позади другого. Первый отряд выпускает стрелы дважды, второй единожды, третий же так и не успевает натянуть луки. Завидев нашу тяжёлую конницу, с грохотом мчащуюся на них в сомкнутом строю, стрелки бросают свою амуницию и обращаются в паническое бегство. Эта беспорядочная, охваченная ужасом толпа мчится к реке и натыкается на передние шеренги копейщиков «царской дружины». Ряды врагов смешиваются, паника распространяется всё шире, и персы бегут, прежде чем первое наше копьё успевает отведать вражеской крови.
На острие нашей конной атаки находятся царские гейтары. Их боевой порядок — это «зубы дракона», косой строй с правым усилением. Первую полусотню веду я, вторую — Клит, четвёртый клин, тот самый, который именуют «якорем», возглавляет Филот. У моего левого плеча скачет Гефестион, справа — Теламон, правее его — Локон: они со своими всадниками выполняют роль моих телохранителей. Позади царского мчатся остальные семь отрядов «друзей».
Неприятель разбегается как стадо овец, стараясь убраться с нашего пути. Мы не видим ничего, кроме спин, щитов и брошенных копий. За время, которое требуется, чтобы сосчитать до ста, передовые отряды тяжёлой конницы прорвали персидский фронт. Восемнадцать сотен наших уже за рекой, а по пятам за нами неотрывно следуют ещё во-семь сотен царских копейщиков. Не отстают и конные пеонийцы. Позади прорванного неприятельского фронта наши клинья отклоняются влево, то есть мы мчимся в сторону находящегося в центре своего построения Дария.
От места нашего прорыва до царской колесницы не менее полутора тысяч локтей, или почти пять стадиев. Это большое расстояние. Я уверен, Дарий не знает о нашей атаке по его крылу. И не узнает, пока до него не доберётся гонец. А гонец может и не добраться. Так или иначе, всё внимание царя сосредоточено на его центре и правом фланге, там он надеется добиться успеха. Не осознавая того, что наш клинок уже вонзился в его брюхо.
Теперь, мой юный друг, давай рассмотрим ещё один важный элемент военной диспозиции: линию обороны.
Когда отряды выстраиваются в оборонительную линию (как, например, отряды Дария вдоль Пинара), каждый должен наметить для себя не одну, но две позиции: изначальный оборонительный рубеж, где надлежит закрепиться и держаться, и дополнительный, или резервный, куда можно будет отступить, если натиск противника окажется слишком сильным. Тыл позади оборонительной линии не может быть бесконечно глубок, ибо если в передних рядах возникнет паника (а такой возможности нельзя исключить никогда), недопустимо, чтобы она распространялась бесконечно, не встречая никакой преграды. Из этого следует, что резервный оборонительный рубеж не должен быть слишком удалён от основного: три, четыре сотни шагов — это оптимальное расстояние. Только при этом условии подразделение сумеет быстро отступить на заготовленную позицию и переформироваться, дабы заново организовать оборону. В то же время эту позицию нельзя устраивать и слишком близко, ибо у отступающих должна быть возможность оторваться от своих преследователей.
Что означает такой порядок обороны для атакующих тяжёлой конницы?
Прорвав первую защитную линию, наши всадники поворачивают налево, с тем чтобы устремиться в сторону центра вражеской позиции позади передовой вражеской линии. При этом разрыв между рубежами обороны обеспечивает нам пространство, позволяющее развивать наступление. Отступивший противник формирует боевые порядки на резервном рубеже, ожидая нашего удара, а поскольку этот удар последует в ином направлении, мы можем быть уверены, что он нам не помешает.
Итак, как я уже говорил, наши конные отряды прорвали передовую линию обороны персов в полутора тысячах локтей от колесницы Дария. Забегая вперёд скажу, что позднее пленные командиры из числа вавилонян и мидийцев, находившихся во второй оборонительной линии, показали, что они прекрасно видели наш бросок, но (ты только подумай!) приняли моих «друзей» за царскую конную стражу Дария! Им просто не могло прийти в голову, что вражеская кавалерия сумела так стремительно, массово и глубоко врезаться в расположение их войск.
В результате всего этого помешать нашему движению в сторону царской ставки пытается лишь один-единственный отряд — ополчение Месопотамской Сирии. Месопотамцы, в отличие от мидийцев и вавилонян, правильно оценили суть нашего манёвра и решили воспрепятствовать угрозе, однако по ряду причин на нашем пути оказался вовсе не тот противник, который способен был это сделать.
Ты можешь вообразить поле, Итан? Тогда давай пополним твоё военное образование ещё несколькими понятиями.
«Пластина и шов».
Под «пластиной» мы подразумеваем любое образующее часть фронта подразделение (пусть это будет тысяча, сотня, даже полусотня), находящееся под единым командованием и, следовательно, способное действовать как единое целое. Чем больше «пластина», тем менее гибок боевой порядок.
Ну а «шов» — это граница между «пластинами».
Например, когда наша вооружённая сариссами фаланга в одном строю с отрядами царских телохранителей наступает на противника, может показаться, что все её двенадцать тысяч солдат представляют собой сплошную стену. На самом деле фронт состоит из девяти автономных подразделений (шесть состоят из фалангистов, а три — из телохранителей), каждое из которых способно решать самостоятельную задачу. Эти отряды, в свою очередь, разбиваются на более мелкие, со своим назначением. Таким образом, сплошной с виду фронт составлен из тридцати шести «пластин» с тридцатью пятью «швами». Предполагается, что каждая из «пластин» способна действовать в зависимости от обстоятельств, сообразно возникающей угрозе, однако должна стремиться не допустить разрыва «шва», соединяющего её с остальными. Таков наш порядок. Теперь мы рассмотрим порядок противника.
Месопотамцы, которые перехватывают нас, это одна огромная «пластина», без всяких «швов». Их численность составляет десять тысяч (счастливое число по халдейской нумерологии), и они подчиняются одному командиру, зятю Дария Сизамену. Ему одному: командиров, имеющих право принятия самостоятельных решений, в этом отряде нет. По месопотамскому обычаю, десять тысяч бойцов выстраиваются квадратом со стороной в сто человек. Можешь ли ты представить себе более громоздкое формирование? Кроме того, местность между ними и нами изрыта расщелинами и оврагами. Неприятель рассчитывает навалиться на нас сплошной массой, но само поле боя спутывает все его планы. К тому же месопотамцы — лучники, то есть бойцы, не обладающие ни оружием, ни навыком ближнего боя. Трёх моих полусотен оказывается достаточно, чтобы, атаковав их при попытке выступить из теснины, обратить в беспорядочную толпу.
Теперь все заблуждавшиеся ранее поняли, кто мы такие. Враги устремляются на нас, силясь закидать дротиками, однако им приходится метать их против ветра, да ещё и вверх по склону. Мы тем временем находимся уже в шестистах локтях от Дария.
Теперь ему уже известно о нашем стремительном прорыве. И ему, и командирам избранной тысячи, и кавалерии «родственников», и командирам наёмной греческой пехоты, составляющей фронт его центра. К этому времени, примерно через десять минут от начала боя, шесть пеших отрядов македонской фаланги сошлись с противником на центральном участке фронта протяжённостью тридцать сотен локтей. Среди утёсов и ежевики греческая пехота Дария и подразделения «царской дружины», не обратившиеся в бегство при прорыве «друзей», наседают на наши пехотные полки, нанося тяжёлые потери нашим отрядам, боевые порядки которых были нарушены неровной местностью, рекой, частоколами и необходимостью взбираться по крутому каменистому берегу. На крыле, обращённом к морю, двадцать пять или тридцать тысяч превосходных персидских всадников под командованием Набарзана (с Арзамесом, Реомитром и Атизесом, столь доблестно сражавшимися при Гранине) яростно атакуют наших союзников и конных наёмников, подкреплённых восемнадцатью сотнями фессалийской тяжёлой кавалерии, которую я перебросил туда в последнюю минуту.
Держат этот фронт наши лучники, критяне и македонцы, половина агриан, все двадцать тысяч наших фракийцев, союзные греки и наёмная лёгкая пехота, сражающаяся как «hamippoi», то есть пешие войска, находящиеся во взаимодействии с кавалерией.
Оттуда, где нахожусь я, ничего этого не видно, однако мне ясно, что вдоль прибрежной линии протяжённостью в четыре тысячи локтей пехота и конница смешались в яростной, невиданной схватке. Если Парменион не сумеет удержать наш левый фланг, противник прорвётся, свернёт к центру и, имея численное превосходство, обойдёт нашу фалангу с фланга и с тыла. Тогда в реке произойдёт настоящая резня. А персы, скорее всего, прорвутся: их слишком много, и они прекрасные бойцы.
Это значит, я должен завершить свой прорыв первым. «Друзья» должны пробиться к Дарию до того, как кавалерия Набарзана растерзает крыло Пармениона.
Впоследствии Гефестион расскажет, что я рвался в атаку как безумец, а мой конь выглядел ещё безумнее меня. Возможно, со стороны так оно и выглядело, но в тот момент я ощущал собранность и ясность мысли. Каждый удар, который я наношу, имеет цель, и вдохновлён он не жаждой славы, но чётким осознанием того, что спасти наших соотечественников, попавших в тяжелейшее положение на левом фланге и в центре, может лишь скорая победа, одержанная мною здесь. А также уверенностью, неколебимой уверенностью в том, что от этой победы — полной, бесспорной победы — меня отделяет лишь несколько ударов копья.
Командный пункт Дария находится на возвышенности за Пинаром, на холме, имеющем форму перевёрнутого щита. Царская колесница стоит на вершине, её штандарты и плюмажи развеваются над морем шлемов, панцирей и значков его всадников. Вокруг царя собрались лучшие из лучших, знатнейшие из знатных персидских воинов.
Их здесь полторы тысячи.
А нас восемнадцать сотен.
На этом, единственном, но решающем участке поля македонские силы достигают на данный момент численного превосходства.
Сказать, что нанесённый в следующий миг сокрушительный удар решил судьбу дня, означало бы погрешить против истины. На самом деле мы буквально вязнем в плотной массе царских защитников, и бой начинает походить не на стремительную кавалерийскую схватку, а на противостояние пехотинцев, сидящих почему-то верхами. Нет, пожалуй, более подходящим будет сравнение с морскими сражениями, разворачивающимися в тесных гаванях, когда корабли сходятся вплотную борт к борту, а моряки дерутся на палубах.
Конные защитники Дария не смеют контратаковать нас, как подобало бы витязям, ибо боятся оставить своего повелителя. Поэтому они лишь теснее смыкают свои ряды и ограничиваются обороной, словно сидят на конях, высеченных из дерева. Воители Востока держатся вместе, как тяжёлые боевые корабли, тогда как наши «друзья» стремятся атаковать их, подобно оснащённым таранами триремам.
В передних рядах противника сражаются два витязя — Оксатр, брат Дария, и Тигран, потомок прославленного Тиграна, сподвижника Кира Великого. Оба они, высокие и стройные, что соответствует персидскому идеалу, но никак не эллинскому представлению о могучем герое, не взаимодействуют один с другим, однако каждый сплачивает вокруг себя избранную тысячу и царских «родственников», превращая живую стену в бастион, который не в силах проломить даже самый яростный наш натиск. Люди и кони падают в немалых количествах, но в этой яростной схватке, как и при Гранике, решающую роль играет явное превосходство над оружием персов длинного македонского копья и бронзового панциря, закрывающего грудь и спину. Прочные доспехи позволяют нашим солдатам, обходясь без щитов, держать оружие обеими руками и, нанося удары двойной мощи, сеять в рядах врага страшное опустошение. Персы отбиваются короткими копьями, древки многих из которых расщеплены чуть ли по всей длине, или пытаются наносить удары кривыми мечами, действенные лишь тогда, когда к силе рубящего взмаха добавляется инерция скачущего коня. При этом они в большинстве своём не имеют ни шлемов, ни панцирей. Защитой им служат лёгкие тюрбаны, намотанные на руку плащи и в лучшем случае маленькие круглые щиты.
Неприятель стремится составить из лошадей и всадников сплошную заградительную стену, тогда как мы, атакуя и клиньями, и поодиночке, пытаемся проделать в ней брешь, вонзая наши копья в лица людей и в конские морды. Буцефал рвётся вперёд с яростью и мощью чудовища. Враги один за другим падают наземь, сражённые ударами в горло и шею, но и сами не остаются в долгу. Персидский дротик пронзает моё бедро. На моих глазах один из вражеских воинов, уже валясь с коня с рассечённой сонной артерией, успевает полоснуть кого-то из наших своим кривым мечом. Других поражают копья, вонзённые в кадыки или глазницы.
В этой схватке особо отличились Клит Чёрный и Филот. Филот убил Мегадата и Фарсина, сводных братьев царя, в то время как Клит пробился сквозь отряд, составлявший пятую часть царских всадников Дария. Славно проявил себя в тот день и Гефестион. Число убитых и раненых беспрерывно множится.
И тут, когда схватка достигает наивысшего накала, Дарий обращается в бегство. С того места, где идёт сеча, я его не вижу, и истина открывается мне лишь после того, как мы с Гефестионом, Теламоном и Клитом во главе ведущего клина царского подразделения «друзей» прорываемся к выступу, над которым ещё реют царские знамёна. Колесница осталась, накренившись набок. Я вижу брошенную, сильно накренившуюся царскую колесницу и на миг испытываю испуг: неужели царь убит? При мысли о том, что кто-то мог похитить мою славу, меня охватывает такая ярость, что я едва не валюсь с коня.
— Дарий! — слышу я собственный крик. — Дарий!
Как рассказали потом друзья, я метался по холму, словно в припадке безумия, тогда как мои более рассудительные спутники, спешившись, переворачивали и осматривали тела, дабы царь не остался незамеченным или, паче того, не оказался затоптанным.
В себя меня приводят слова Деметра, одного из моих телохранителей.
— Александр! — взывает он, подъехав и остановившись передо мной. — Царь персов бежал!
Деметр указывает в сторону тылового персидского лагеря.
— Люди видели его, он погонял коня так, что его плеть свистела.
И вновь на меня накатывает ярость, перемежаемая, впрочем, холодной досадой понимания. Мне внятна политическая необходимость бегства Дария. Эта игра называется «Убить царя»: кто вправе упрекнуть монарха в том, что он стремится не позволить обезглавить свою державу? Но все эти резоны ничто в сравнении с моим негодованием. Я возмущён не столько тем, что противник лишил меня почётной возможности убить или пленить его, сколько самим фактом его бегства. Тем, что он вообще смог бежать. Ты понимаешь?
Он царь!
Он должен стоять и сражаться!
Сам этот поступок — бегство — кажется мне таким извращением героического воинского идеала, что, на мой взгляд, представляет собой даже не преступление, но святотатство. Клянусь Зевсом, супруга и мать этого человека находятся в персидском лагере! Его младший сын тоже здесь: как может муж явить подобную «отвагу» на глазах близких?
Рядом со мной останавливается подъехавший Теламон. Он ранен копьём в бедро, кровь густо смочила попону его коня. Буцефал наступил на шип и слегка прихрамывает. Оставив Буцефала на попечение Теламона, я сажусь на его коня: бой тем не менее продолжается. Самых быстрых своих конников я посылаю к Пармениону, отряды которого на обращённом к морю крыле оказались в настоящем аду.
— Выкликайте повсюду, что царь Персии сбежал. Пусть противник увидит вашу радость. Даже если неприятель не поймёт ваших слов, он уловит ликующий тон, а наши солдаты воодушевятся, поняв, что победа скоро будет за нами.
Теламон, несмотря на рану, хочет присоединиться к погоне, но я приказываю ему не дурить и оставаться на месте. А сам, в сопровождении ближайших соратников, скачу вдогонку за Дарием, к находящемуся в пятидесяти стадиях вражескому лагерю.
Падение великого царства так близко, что я чувствую его в своих ладонях. В самом лагере царит даже не столпотворение, а сущий ад. Группа преследования составлена из царского подразделения «друзей» и половины амфиполитан с Гефестионом, Чёрным Клитом и моей «agema» — всего четыре сотни воинов. Вокруг нас клубится сотня тысяч врагов. Зрелище не поддаётся описанию, но все они пребывают в панике и помышляют лишь о бегстве. Немногие ведущие наружу тропы уже запружены лагерной челядью, забиты толпой провинциальных новобранцев, бежавших с поля боя десятками тысяч. Сзади на них напирают ещё более беспорядочные многочисленные толпы.
— Найдите царя! — кричит Клит. — Принесите Александру его кровавые яйца!
Умение захватывать среди охваченной паникой толпы пленных, устрашать их, допрашивать и получать нужные сведения представляет собой особое искусство. Всадники на полном скаку выхватывают из толпы отдельных людей, за волосы или за ноги оттаскивают их в сторону и заставляют буквально «выхаркивать» правду.
От лагерного евнуха мы узнаем, что Дарий на самом резвом скакуне в сопровождении своего брата Оксатра и сотни «родственников» умчался на север. Они опередили нас на время, достаточное, чтобы сосчитать до тысячи.
Мы продолжаем погоню за царём два часа после наступления темноты. Наконец, когда позади остаётся сто пятьдесят стадиев, а тьма сгущается так, что по дороге можно разве что ковылять пешком, приходится остановиться. Кони наши выдохлись настолько, что им необходимо дать отдохнуть, прежде чем они смогут нести нас назад. Всё это время мимо нас в темноте движется непрерывный поток беглецов из персидского лагеря.
Дарий ускользнул.
К полуночи мы по своим следам возвращаемся к холму над лагерем персов. Потери врага превосходят самое худшее, что я мог себе представить. С бегством Дария его армия сломалась и побежала. Как и следовало предполагать, овраги и лощины оказались для людей смертельной западней. Тысячи несчастных попадали в эти провалы и были затоптаны панически бегущей толпой. Расщелины величиной с небольшие стадионы доверху завалены трупами. Мёртвые тела видны повсюду, но большая часть людей погибла не под ударами наших копий, а в толчее и давке, как это случается, например, при пожаре.
Персидский лагерь находится в пятидесяти стадиях к северу от поля боя. Когда мы на своих чуть ли не загнанных лошадях добираемся до него, наши солдаты заняты его разграблением.
Меня охватывает отчаяние. Я хватаю первого малого, который попадается мне на глаза, десятника союзной кавалерии по прозвищу Дерюжная Торба. Плащ этого малого набит всяческими безделушками так, что даже дребезжит.
— Как это называется? — возмущённо спрашиваю я у него.
— Моя добыча, господин! — отвечает этот малый с весёлым смехом.
Вне себя от ярости, я направляю коня в лагерь. Горящие палатки и подводы освещают картину повального мародёрства. Лагерь был окружён рвом и частоколом, но для рвущихся за добычей солдат это не составило ни малейшего препятствия. Ничто не могло их удержать. Даже приказы командиров, даже мой гнев.
— Найти Пармениона, — приказываю я. — И командиров подразделений! Всех ко мне!
Персидский лагерь представляет собой сущую сокровищницу. Многие наши люди в жизни не видели таких богатств, собранных в одном месте: коней и женщин, оружия, кольчуг, золотых ваз, мешков с деньгами, предназначавшимися для солдатского жалованья, и прочих сокровищ. Всё это доводит наших товарищей до состояния, близкого к безумию. Я вижу, что тысячи пленных содержатся не в особом загоне, под охраной, как это предписывается правилами, а расхватаны солдатами и младшими командирами. Каждый прибрал себе, сколько мог, в надежде на выкуп или барыш при продаже. Жёны и любовницы персов визжат, когда их вытаскивают из палаток. А вот лагерных шлюх ни смутить, ни запугать невозможно. Едва в лагере сменились хозяева, как они принялись с готовностью предлагать свои услуги македонцам. И их предложение встречает спрос: мои солдаты совокупляются с ними в самых разнообразных позах, расплачиваясь кольцами и перстнями, сорванными с пальцев убитых врагов. Пребывая в неистовом возбуждении, победители переходят из шатра в шатёр, облачаются в пышные восточные одеяния, украшая себя ожерельями, браслетами, а также мечами и кинжалами, инкрустированными драгоценными камнями. В таком виде они кажутся не обычными солдатами, а предавшимися разгулу царями и жрецами.
— Чем ты озабочен, Александр? — спрашивает Гефестион, заметив моё состояние.
Я окидываю взглядом картину варварского буйства.
— Тем, друг мой, что, похоже, всё, ради чего я трудился и что я любил, не более чем глупость.
Ко мне приближаются Парменион, Кратер и Пердикка. У остальных командиров не хватило духу показаться мне на глаза.
А на участке лагеря непосредственно под нами мы созерцаем зрелище, подобного которому мне не случалось видеть никогда: солдаты со злобой и остервенением крушат и уничтожают лагерное имущество. Ковры рубят в клочья, статуэтки и вазы разбивают вдребезги. На моих глазах солдат замахивается на удивительной работы эбонитовый стул. Гефестион кричит, чтобы он остановился, но боец ребром щита крушит изысканное изделие и ухмыляется, словно давая понять, что победители выше любых законов и правил.
Когда наконец военачальники собираются вокруг меня, я приказываю построить отряды для общих учений. Полководцы уставились на меня как на сумасшедшего.
— Всех в строй! Выкладка: походный вещевой мешок и личное оружие. Живо!
Поначалу никто не верит, что я говорю серьёзно. Одни думают, что я не в себе от усталости, другие считают всё это шуткой.
— Александр, одумайся, — говорит Парменион, единственный, у кого хватает духу подать голос. — Люди валятся с ног от усталости.
— Усталость не мешала им бесчестить имя Македонии. Они не валились с ног, когда позорили своего царя и свою страну.
На общее построение отводится время, достаточное, чтобы сосчитать до шестисот.
Я разъезжаю на коне перед дезорганизованной толпой, которую надлежит снова сделать армией.
— Этот день должен был стать днём величайшей славы! И был таковым, пока вы не испоганили и не осквернили его!
Союзников и наёмников в темноте не разглядеть, но мне удаётся рассмотреть, как Парменион, Кратер, Пердикка и остальные выстраивают все шесть отрядов македонской фаланги и царских телохранителей Никанора. Коней, которые ни в чём не виноваты, я утомлять не собираюсь, а потому приказываю Филоту спешить «друзей», царских копейщиков, пеонийцев и Парменионовых фессалийцев и построить их в шеренги в полной выкладке.
— В маршевую колонну — становись!
Я муштрую своих ветеранов, словно сопливых новобранцев. Многие из лагерной челяди и даже пленные по собственному почину выстраиваются по краям равнины, в то время как мои тысячники и сотники отрабатывают команды.
— Сомкнуть ряды! Вперёд! Нале-во, шагом марш! Бегом! Стой! Кру-гом!
Какой-то солдат, среди прочих его не разглядеть, чертыхается. Я останавливаю всю армию.
— Сариссы к бою!
Я заставляю их проделывать строевые упражнения, держа на весу пики длиной в одиннадцать локтей и весом в семнадцать фунтов.
— Ну! Кто из вас, сукиных сыновей, хочет ещё раз подать голос?
Мы продолжаем муштру. Мне и самому приходилось часами упражняться с сариссой, и я прекрасно знаю, какой это тяжкий, невыносимый труд. Какой-то солдат падает, и я приказываю удвоить темп.
— Пусть падает следующий! Мы будем упражняться всю ночь!
Сейчас мои соотечественники ненавидят меня. Они с радостью выпили бы всю мою кровь. Я же продолжаю командовать: отдаю приказы тысячникам, те пятисотенным, те сотникам...
— Нале-во! Шагом марш! Правый фланг, вперёд! Кругом!
Разве я не запрещал грабёж? Клянусь Зевсом, разве это был не первый приказ, отданный мною этой армии?
Людей рвёт, сопли текут из их носов, слюна изо ртов. Спины взмокли от пота. Вино, которого они успели налакаться, выливается прочь из их вонючих глоток.
— Солдаты вы или разбойники? Я назвал вас своими братьями. Я верил, что, когда мы вместе, никакая сила на земле не сможет устоять перед нами. Но сегодня мы столкнулись с единственной опасной для нас силой. Это алчность наших сердец, с которой мы, как оказывается, не в силах совладать.
Когда кто-то падает, я приказываю оттащить его в сторону. Стоит кому-то издать стон, и я награждаю его ударом меча плашмя. Муштра продолжается, пока напряжение не превосходит пределы человеческих возможностей: даже раненым приходится выходить на площадку, чтобы оттаскивать лишившихся чувств. Наконец я прекращаю упражнения и командую общее построение. Мой гнев не ослаб ни на йоту.
— Соотечественники, когда я видел вас сегодня в бою, вы казались мне солдатами, во главе которых можно бестрепетно выступить против фаланг ада. Я видел в вас товарищей, сражаясь бок о бок с которыми с радостью отдал бы свою жизнь. Мне казалось, что нет и не может быть более высокой чести и славы, чем считаться одним из вас. Я стремился к победе, ибо до сегодняшнего дня я верил, что это главное. Но вы показали мне, что я ошибался.
Я внимательно всматриваюсь в лица, багровые от изнеможения и чёрные от стыда. Клянусь огнём вечной погибели, я привяжу их к себе. Клянусь реками ада, я сделаю их своими!
— Вы покрыли позором славную победу в истории воинств Запада. Вы навлекли бесчестие на себя и на всю армию. Но прежде всего вы лишили чести меня. Меня, ибо человек, услышавший о сегодняшних бесчинствах, не скажет: «Это насилие было совершено Тимоном» или «Это поругание — дело рук Аксиоха». Нет, он отметит, что грабителями и мародёрами были солдаты, служившие под началом Александра. Ваши непотребства очернили моё имя, ибо вы — это я, а я — это вы. Неужто, братья, мы выступили в поход ради грабежа? Неужто мы, подобно торгашам, стремимся лишь поживиться золотом? Скажите, что это так, и я, клянусь Зевсом, сам перережу себе глотку! Если каждая победа будет превращать вас в алчных скотов, так лучше сразу сложите для меня погребальный костёр. Я взойду на него и сам разожгу его под собой, лишь бы только не быть больше свидетелем подобного бесстыдства. Непреходящая честь и бессмертная слава — вот что позвало нас в поход. Мы воюем, дабы возжечь светоч величия, неугасимый в веках. Я разожгу его, и, клянусь мечом всемогущего Зевса, вы будете бороться за это вместе со мной. Все до единого!
Все замерли и затаили дыхание. В этот миг я ненавижу их и люблю, как и они любят и ненавидят меня. И они, и я знаем это.
— Братья, как ни трудно мне было снести позор, навлечённый вами на моё имя, я сделал это из любви к вам. Но сейчас выслушайте меня и запечатлейте мои слова в своих сердцах. Того солдата, который позволит себе снова обесчестить наше содружество, я не стану наказывать с отцовской любовью, как наказывают провинившихся сынов ради их исправления, но навеки изгоню его из своего сердца и из нашего сообщества.
Похоже, их проняло.
— А теперь — прочь с моих глаз, все вы, за исключением старших командиров. Для тех у меня припасено ещё несколько слов.
Того, что было сказано мною высшим начальникам, я тебе повторять не стану. Замечу лишь, что многие предпочли бы кнут этим бичующим словам. Однако, покончив с этим, я обращаю гнев на себя.
— В конечном счёте ответственность за любое настроение в армии лежит на командующем. Раз такое могло случиться, стало быть, я недостаточно озаботился тем, чтобы привить вам, мои командиры, те высокие воинские идеалы, которым, как мне казалось, должны были следовать и вы, и вся армия. Поэтому я отказываюсь от своей доли добычи. Причитавшаяся мне часть будет распределена среди наших раненых и искалеченных товарищей, а также потрачена на жертвоприношения и воздвижение надгробий павшим.
Отпустив командиров, я удаляюсь в свою палатку, приказываю юношам свиты никого ко мне не пускать и засыпаю. Пробуждаюсь я лишь поутру и после совершения от имени армии благодарственного жертвоприношения вызываю Леонната Любовный Локон, дабы поручить ему позаботиться о захваченных нами в лагере супруге Дария Статире[2] и матери царя Сизигамбис.
В полдень ко мне обращается Пердикка с просьбой принять его. Он сообщает, что солдаты терзаются угрызениями совести и молят о прощении. Я отсылаю его без ответа. То же происходит с Теламоном, затем с Кратером. Последним заходит Гефестион: дежурные пропускают его беспрепятственно, ибо знают, что он — мой ближайший друг. Гефестион упрашивает меня из любви к нему хотя бы выглянуть наружу. Не в силах отказать дорогому другу, я неохотно соглашаюсь.
Как оказывается, всё пространство перед палаткой, целое поле, завалено теми самыми сокровищами, которые пробудили вчера такую алчность: статуями и драгоценными сосудами, мебелью, пурпурными тканями, золотыми украшениями. Вокруг десятками тысяч собрались воины.
— Александр, — обращается ко мне Кратер от их имени. — Здесь вся добыча, до последней серёжки и амулета. Забери всё. Нам ничего не нужно. Только не отвращай от нас своё лицо.
— И это всё, ради чего ты вызвал меня сюда? — холодно спрашиваю я у Гефестиона и поворачиваюсь, чтобы удалиться в палатку.
Друг, однако, удерживает меня за руку и умоляет не ожесточать своё сердце против наших товарищей. Неужели я не вижу, как сильно они любят меня?
Я перевожу взгляд с одного лица на другое; седые десятники, израненные в боях сотники. Никогда прежде не видел я на этих суровых лицах столь пристыженного выражения. Солдаты плачут. Меня самого это трогает до слёз, которые мне удаётся сдержать лишь крайним напряжением воли. Но я всё ещё разгневан на этих людей и уж, конечно, не отпущу их с крючка.
Наконец, весь в окровавленных повязках, вперёд выступает Сократ Рыжебородый, тот, кто, выдержав самые тяжкие испытания, один из немногих ничем не запятнал своей чести.
— Александр, — говорит он, — разве мы не были верны тебе? Не проливали кровь и не умирали за тебя? Не служили тебе по зову сердца, не за страх, а за совесть?
Я больше не могу сдерживать слёзы.
— Так чего же ты ещё от нас хочешь? — спрашивает Сократ дрожащим от избытка чувств голосом.
— Я хочу, чтобы вы были... безупречны.
Вся армия издаёт единый вздох.
— Ты хочешь, чтобы все мы стали такими, как ты? Стали тобою? — восклицает Рыжебородый.
— Да!
— Но это невозможно, Александр. Мы всего лишь люди!
Лица людей искажены мукой.
Весь мой гнев исчезает.
— Неужто, Сократ, ты мог поверить, что я не люблю тебя? Или вас, друзья мои?
Мне вдруг становится ясно, что я до сих пор не могу простить себе страшной ошибки, повлёкшей за собой резню в лазарете. Того, что допустил бегство Дария, из-за которого война затянется на неопределённое время. Того, что по моей оплошности наше торжество оказалось неполным.
— Если мне и пристало гневаться, то только на самого себя. Я подвёл вас...
— Нет! — восклицает армия. — Никогда!
Рыжебородый делает шаг ко мне. Я раскрываю объятия.
Войско издаёт звук, похожий на стон, но то стон радости. Люди бросаются ко мне, окружают меня тесной толпой, и мы, не стыдясь слёз, рыдаем так, будто наши сердца готовы разорваться. Ни один воин не соглашается уйти до тех пор, пока не коснётся меня рукой и не удостоверится в том, что любовь и милость царя вновь пребывают с ним.
Девять месяцев спустя, в Египте, меня приветствуют как Гора, божественного сына Ра и Амона. Восторженные толпы заполняют главные улицы. Я провозглашён фараоном, преемником власти Осириса и Исиды.
Но я уже не тот человек, которым был до памятной схватки у Пинара.
Командующий армией управляет неуправляемым и стремится предвидеть непредсказуемое. В ходе сражения он всегда имеет дело со множеством неизвестных, неучтённых факторов. Это мне было ясно издавна. Но только после того, как при Иссе были изувечены наши несчастные товарищи, Дарий сбежал с поля боя, а наша армия предалась стихийному, разнузданному разгулу, я по-настоящему уразумел, сколь в действительности мала власть того, кто мнит себя победителем и завоевателем.
Книга шестая ТЕРПЕНИЕ
Глава 17 МОРЕ И ШТОРМ
В тот день я впервые встретился и разговаривал с Пором, нашим соперником с противоположного берега этой индийской реки.
Ты, Итан, наблюдал за этим с берега, находясь при армии. Представители сторон встретились на царской барже Пора, на середине реки. Это была его идея, и предложение о встрече исходило от него. Как мне кажется, к переговорам индийского владыку подтолкнули наши быстрые и успешные работы по подготовке к отведению русла реки, а также прибытие девяти сотен наших транспортных судов, что были доставлены из Индии на подводах, в разобранном виде. Я встретил предложение о проведении встречи и переговоров на реке с удовлетворением. Я всегда восхищался величественным течением реки и, кроме того, надеялся, что на воде будет прохладнее. Правда, как ты сам видел, не всё прошло так, как было задумано: наше достоинство несколько пострадало из-за того, что канат оборвался и наш паром понесло вниз по течению, словно шлёпнувшуюся в воду кошку. Экипаж индийской ладьи, посланной нам на выручку, состоял из людей весьма почтенных, причём не только по положению, но и по возрасту: большинству было за семьдесят, так что раздеваться и нырять в воду, дабы поймать конец линя, пришлось представителям Македонии, включая меня самого. В конечном счёте канат был пойман, и наш паром с помощью индийской ладьи потащили к барже. К тому времени, когда мы добрались до места, и мы и индийцы вымокли до нитки, но это при такой жаре не создавало особых затруднений. Встретили нас весьма радушно, а после того, как и мы, и индийцы развесили свои одежды по поручням для просушки, встреча утратила церемонность и приобрела особую доверительность.
Пор имеет облик весьма внушительный и впечатляющий: ростом он превосходит меня больше чем на пол-локтя, а его мощные запястья в обхвате не уступают моим икрам. Его чёрные кудри покрывает безупречная льняная тиара, кожа столь черна, что, кажется, отливает синевой, а улыбка ослепляет, ибо его белые зубы инкрустированы золотом и бриллиантами. Улыбается же он, в отличие от большинства встречавшихся мне монархов и властелинов, часто и охотно. Он облачен в яркую жёлто-зелёную тунику, а вместо скипетра носит зонт, именуемый местными жителями «chuttah».
Насколько я смог понять, Пор — не личное имя, а титул, сопоставимый с саном царя или раджи. Настоящее имя этого правителя Амритатма, что означает «безграничная душа». Он смеётся, как лев, и поднимается со своего кресла, как слон. Воистину, такой человек не может не очаровать.
Он подарил мне ларец из тикового дерева, инкрустированный слоновой костью и золотом. Через переводчика мне объясняют, что на протяжении тысячи лет каждый новый правитель Пенджаба получает такой ларец на утро своего восшествия на престол.
— Что в нём хранят? — спрашиваю я.
— Ничего, — отвечает Пор. — Предназначение сего ларца в том, чтобы напоминать человеку об его истинном уделе.
Я, со своей стороны, преподношу ему в дар золотую уздечку, которая принадлежала Дарию.
— Почему ты даришь мне именно эту вещь? — интересуется он.
— Потому что это самая красивая вещь из всего, что у меня есть.
Пор принимает этот ответ с ослепительной улыбкой, а вот я ловлю себя на том, что испытываю некоторую неловкость. Связано это не с незнанием обычаев или этикета, ибо таковые схожи среди монархов всего мира; сам этот человек ставит меня в тупик своей непринуждённостью и полным отсутствием притворства.
О Дарии, которого он хорошо знал, Пор высказывается с уважением. Они были друзьями, и индийский владыка даже послал под Гавгамелы ему на подмогу тысячу всадников и тысячу царских лучников-кшатриев.
Я говорю, что помню этих доблестных воителей. Индийская кавалерия прорвала нашу двойную фалангу и ворвалась в наш передовой лагерь, а уже при отступлении, которое велось с ожесточёнными боями, эти отважные всадники едва меня не убили. Ну а индийские лучники были самыми грозными из всех, с какими нам доводилось сталкиваться.
Сам Пор при Гавгамелах не был. «Но зато, — говорит он, указывая на двух молодцеватых юношей, выглядящих почти столь же впечатляюще, как и сам владыка, — там побывали мои сыновья». По его словам, он свёл воедино все донесения о битве, внимательно изучил их и составил весьма высокое мнение о том, как осуществлялось мною командование. Я, как он выразился, являю собой «истинную инкарнацию полководца».
Я благодарю его и со своей стороны отзываюсь с похвалой о мужестве и воинском умении индийцев.
Поначалу всё складывается как нельзя лучше, но потом ситуация меняется.
Пор сидит напротив меня, на диване под красочным балдахином, отбрасывающим тень на нас обоих и на наших сопровождающих.
Он только что пригласил нас совершить с ним поездку по его владениям: по его словам, для меня будет весьма полезно собственными глазами увидеть, сколь образцовый порядок установлен в его владениях, сколь плодородна земля, сколь счастлив народ и как любят подданные своего владыку.
Он поднимается, подходит к кушетке, где сижу я, и садится рядом со мной. Это обезоруживающий жест, поступок, свидетельствующий не просто о дружелюбии, но и об особой симпатии.
— Оставайся у меня, — вдруг предлагает он, жестом указав на дальний берег, за которым раскинулись его владения. — Я отдам тебе руку моей дочери и объявлю своим наследником и преемником. Ты будешь мне сыном и унаследуешь моё царство, — он указывает на двух прекрасного вида отпрысков, — получив преимущество даже перед моими родными детьми.
Подобное великодушие потрясает меня настолько, что я теряю дар речи.
Пор одаряет меня своей ослепительной улыбкой.
— Стань моим учеником, — с теплотой в голосе говорит он, положив руку мне на колено. — Я научу тебя быть царём.
В тот миг мой взгляд падает на Гефестиона, и я вижу, как его глаза чернеют от гнева. Кратер рядом с ним вздрагивает, словно от удара хлыста. Я чувствую, как, подобно дремавшему доселе льву, пробуждается мой даймон, и прошу переводчика повторить последнюю фразу.
— Я научу тебя, — провозглашает он на безупречном эллинском языке с аттическим произношением, — быть царём.
Теперь меня охватывает ярость. Теламон взглядом призывает меня к сдержанности. Я сдерживаюсь, но это удаётся мне с большим трудом.
— Неужели его величество полагает, — обращаюсь я к переводчику, не глядя на Пора, — будто я не царь?
— Конечно нет! — без промедления отвечает Пор, с дружеским смехом похлопывая меня по колену.
Мысль о том, что он нанёс мне оскорбление, даже не приходит ему в голову. Похоже, он считает, будто я и вправду готов признать свою неспособность царствовать и пойти к нему на выучку.
Гефестион делает шаг вперёд. Он напряжён, на его виске, словно верёвка, выступила вздувшаяся жила.
— Как можешь ты, государь, говорить о том, что этот человек не является царём? Кто же тогда царь, если не тот, перед кем до сего дня не мог устоять на поле боя ни один монарх мира?
Сыновья Пора выступают вперёд. Рука Кратера тянется к мечу; Теламон встаёт между ними, стараясь предотвратить столкновение.
Пор поворачивается к толмачу, который переводит с такой быстротой, насколько позволяет ему язык. На лице раджи появляется недоумение, на смену которому приходит величественный и ласкающий слух смех. Смех, какой может звучать лишь в обществе друзей и означать: будет вам, ребята, нечего ссориться из-за пустяков!
Величавым жестом Пор успокаивает своих сыновей и других знатных индийцев, а сам снова садится на диван напротив меня, но на сей раз подаётся вперёд, так что наши колени едва не соприкасаются возле столика, уставленного закусками и кувшинами с освежающими напитками.
— Твой друг бросается на твою защиту с яростью пантеры, — говорит Пор, одаряя Гефестиона очередной лучистой улыбкой.
Мой друг, неожиданно смутившись, отступает.
Пор извиняется перед ним и мной, заявляя, что он, возможно, не совсем точно выразился. Разумеется, все мои кампании, походы и битвы были изучены им с дотошностью, которая могла бы удивить и меня самого.
— Я ничуть не спорю, Александр, ты действительно являешься величайшим воителем, победителем, даже освободителем. Но царём ты так и не стал.
— Таким, как ты? — спрашиваю я, едва сдерживая гнев.
— Ты воитель. Я царь. Вот и вся разница.
— Но в чём разница между военачальником и царём?
— Она подобна разнице между морем и штормом.
Я смотрю на него с недоумением. Он поясняет:
— Буря великолепна, она восхищает и устрашает. Богоподобная, она мечет могучие молнии и, сметая всё на своём пути, проносится дальше. А вот море, в отличие от самого буйного шторма, глубоко, вечно и неизменно. Шторм разражается громами и молниями, а океан поглощает и то, и другое, не претерпевая изменения. Ты понял меня, друг мой? Ты — шторм. Я — море.
Он снова улыбается.
Мои зубы стиснуты так плотно, что я не мог бы ответить, даже будь у меня такое желание. Но желание у меня сейчас лишь одно: убраться с этих переговоров, пока я не опозорил себя, пролив кровь хозяина.
— И всё же, — продолжает раджа, хотя уже менее дружелюбно, — по обиде, написанной на твоём лице, по тому гневу, который тебе едва удаётся сдерживать, я вижу: быть истинным царём для тебя очень важно, и слова мои глубоко тебя задели, хотя, положа руку на сердце, ты должен признать, что они жалят лишь своей справедливостью. Между тем, — Пор мягко улыбается, — у тебя нет оснований для огорчения, ибо ты ещё очень молод. Кто может стать настоящим царём в тридцать или даже в сорок лет? Я потому и предложил тебе стать моим учеником, что мои годы позволяют мне стать твоим отцом, ментором и наставником.
Кратер встречается со мной взглядом и, поняв всё без слов, выступает вперёд.
— Со всем должным почтением, господин, — говорит он, обращаясь к индийскому царю, — должен уведомить тебя о том, что переговоры закончены.
Все македонцы встают. Подзывают наши лодки.
С лица Пора исчезает улыбка. Глаза его наливаются кровью и мрачнеют, на щеках выступают желваки.
— Я предлагал тебе руку своей дочери и честь стать наследником моего царства, но ты ответил на это лишь гневным и угрюмым молчанием, — заявляет он. — Поэтому я делаю тебе другое предложение. Вернись в завоёванные тобой земли и постарайся сделать своих подданных свободными и счастливыми людьми. Пусть каждый из них станет хозяином своего дома и вольным владыкой своего сердца, а не жалким рабом, каким он является сейчас. Сделай это, и, если ты вернёшься ко мне, тогда я сам стану учиться у твоих ног. Ты научишь меня, как быть царём. А до тех пор...
Я повернулся к нему спиной. Все мои спутники перешли на нашу ладью, и лодочник отталкивает её от индийской баржи.
Пор высится над поручнем, величественный, как крепостная башня.
— По какому праву дерзаешь ты вторгаться с оружием в мои владения? Почему угрожаешь насилием тому, кто никогда не причинял тебе вреда и даже имя твоё всегда произносил не иначе, как с похвалой? Ты поставил себя выше закона! Неужто у тебя нет страха перед небесами?
Меня обуревает желание ударить его, но не стану же я перепрыгивать для этого с борта на борт, словно пират.
— Я сказал, что ты не царь, Александр, и повторю это. Ты не правишь землями, которые завоевал. Ни Персией, ни Египтом, даже Элладой, откуда ты пришёл и жители которой, появись у них хоть малейшая возможность, сожрали бы тебя живьём. Какие законы ты принял, какие указы издал во благо подвластных тебе народов? Да никаких! В большинстве земель ты оставил у власти прежние династии, продолжающие, как и прежде, угнетать и обирать население, в то время как твоя армия безостановочно движется всё дальше и дальше, подобно кораблю, лишь рассекающему поверхность океана, волны которого смыкаются за кормой, едва он проплывает. Да что там земли, ты не обладаешь подлинной властью даже в собственном лагере, который бурлит недовольством и в котором зреет мятеж. Да, Александр, я знаю и это! Всё, что происходит в моей стране, становится известно мне, даже если речь идёт о происходящем в твоей палатке!
Я в гневе, я выпрямляюсь на носу своего судна. Кровь каждого из моих спутников кипит от ярости. Воины обеих армий с обоих берегов реки обмениваются гневными возгласами.
— Ну что ж, Александр, мы будем воевать. Я вижу, что ничем другим ты не удовлетворишься. Возможно, ты одолеешь. Возможно, как утверждает весь мир, ты и вправду непобедим.
Его мрачные глаза через разделяющее нас водное пространство встречаются с моими.
— Но даже если ты переступишь через моё мёртвое тело и поставишь свою пяту на горло моего царства, это не сделает тебя царём. Пусть тебе и вправду, как ты мечтаешь, удастся дойти с армией до самого побережья Восточного Океана, царём тебе всё равно не стать. И ты знаешь это.
Однажды, в возрасте четырнадцати лет, будучи всего лишь одним из юношей отцовской свиты, я застал Филиппа расхаживающим по его покоям в ярости и раздражении. Присутствовали при этом и Гефестион, и Локон, и Птолемей: то был наш день дежурства при царской особе. Дело было после встречи с афинским посольством, и отца поверг в бешенство тот факт, что Афины желают мира.
— Мира! — вскричал Филипп, срывая свой плащ. — Так нет же, они получат у меня ад! Мир нужен только женщинам! Мы никогда не допустим, чтобы он воцарился в наших краях хоть сколь-нибудь надолго! Царь, который стоит за мир, никакой не царь!
Потом, обернувшись к нам, юношам, мой отец разразился столь пылким и язвительным монологом, что мы просто остолбенели, изумлённые и зачарованные его страстью.
— Мирная жизнь годится для мула или осла, — вещал он, — мне же угодно быть львом! Кто процветает в мире, кроме трусливых писцов да лавочников? Что же касается якобы подобающей владыке заботы о благополучии и процветании подданных, то я скажу так: провались они в Аид, эти подданные, если они хотят наживать барыш или ковыряться в земле, а не следовать за своим царём по пути чести! Победа и слава — вот единственные цели, достойные настоящего мужчины! Счастье? Плевать я на него хотел! Когда Македония была счастливее: прежде, когда наших соломенных границ не замечал ни один недруг, или ныне, когда перед нами трепещет широкий мир? Я помню время, когда моя страна была игрушкой врагов, и никогда не допущу, чтобы это повторилось. Так же, как не допустит подобного мой сын!
После неудачной встречи с Пором мы причаливаем к берегу. Я так и не высказался. Мои полководцы желают не мешкая обсудить ситуацию. Я отказываюсь и вместо этого отправляюсь на инспекцию хода работ по изменению русла реки. Диад, механик, прибывает по вызову к нам, и мы спускаемся в канал на механической подъёмной платформе, мощном устройстве, способном выдержать вес здоровенного быка.
Само сооружение впечатляет: глубина котлована составляет шестьдесят локтей, а шириной он с площадь маленького города. У перемычки, там, где будет открыт шлюз и откуда хлынет вода, установлены две плиты песчаника, по тридцать локтей каждая. Резчики и каменотёсы трудятся на лесах, высекая в камне рельефы.
— Чьё это лицо? — интересуюсь я.
Диад смеётся.
— Царя, чьё же ещё?
— Какого царя?
— Твоё, повелитель. Как может быть иначе?
Я смотрю снова.
— Это не моё лицо.
Механик бледнеет и, словно моля о помощи, смотрит на Гефестиона.
— Но это ты, царь...
— Хочешь сказать, что я лгу?
— Нет, мой господин.
— Это лицо моего отца. Каменщики высекают профиль Филиппа.
Механик бросает очередной испуганный взгляд, на сей раз на Кратера.
— Кто велел тебе изобразить здесь лицо моего отца?
— Пожалуйста! Посмотри, господин...
— Я смотрю.
— Филипп носил бороду. Смотри, это изображение гладко выбрито!
— Лживый ублюдок!
Я бью его в лицо. Взвизгнув на женский манер, он падает, как заколотая свинья.
Кратер и Теламон хватают меня за руку. Тысячи людей на строительных лесах и вышках таращатся на меня, разинув рты.
Гефестион прикладывает руку к моему лбу.
— У тебя жар, — шепчет он, а потом уже громко, для всех, возглашает: — У царя жар! Он весь как в огне!
Птолемей помогает Диаду встать на ноги. Подъёмник завис, опустившись в ров на двадцать четыре локтя.
— Поднимите нас! — приказывает Гефестион.
Наверху нас встречает стена вытаращенных глаз.
— Царь выпил речной воды и подхватил лихорадку, — разъясняет налево и направо Гефестион. Он призывает моих врачей, и меня уводят в шатёр, подальше от солнца.
Оказавшись внутри, я охотно разыгрываю больного: пью во множестве снадобья и валюсь в постель. Гефестион отсылает свиту и не отходит от меня всю ночь.
Поутру, проснувшись, я мучаюсь стыдом и раскаянием. Первая мысль о том, чтобы компенсировать бесчестье Диада золотом, но Гефестион говорит, что об этом уже позаботился. Мы идём со жрецами на рассветное жертвоприношение, а я чувствую себя так, будто мне в лоб вбили гвоздь. Неужели я потерял контроль не только над армией, но и над самим собой? Могу ли я править державой, если не в силах совладать со своим сердцем? Эта мысль терзает меня так, что мне даже не сразу удаётся заговорить.
— Ты помнишь, Гефестион, что ты сказал накануне Херонеи?
— Что к концу сражения мы станем другими людьми. Будем старше и более жестокими.
Наступает долгое молчание.
— Становится легче.
— Что?
— Действовать.
— Чепуха! Ты просто устал.
— Раньше я мог отделить себя от моего даймона. Теперь это сложнее. Порой я не могу сказать, где кончается он и где начинаюсь я.
— Ты и твой дар — это не одно и то же, Александр. Ты просто используешь свой дар.
— Правда?
— Конечно.
— Когда мы выступали в поход, — говорю я, — я ценил в своих друзьях мужество, мудрость, умение посмеяться, силу духа и честность. Теперь меня интересует только их верность. Я слышал, что в конечном счёте человек не может доверять никому, даже самому себе. Только своему дару. Только своему даймону.
В тот день, когда я достигну такого состояния, я стану чудовищем. Ведь даймон — это даже не существо, к которому можно обращаться. Это сила природы. Назвать его нечеловеческим будет верно лишь наполовину. Оно внечеловеческое. Ты заключаешь с ним сделку, и оно одарит тебя могуществом. Но ты должен знать, что вступаешь в союз с ураганом и превращаешься во всадника на спине тигра.
Под вечер мы с Гефестионом возвращаемся к котловану. Лицо, высеченное на каменной плите, это, конечно же, моё собственное лицо.
На следующее утро мною созван совет.
— Я передумал отводить русло реки. Соберите все лодки, судёнышки и плоты, доставленные с Инда. Мы форсируем реку и атакуем противника прямо с воды.
Глава 18 ТРОФЕИ ВОЙНЫ
С захватом при Иссе персидского лагеря в мои руки попала некая дипломатическая корреспонденция, в том числе и адресованные Дарию послания от некоторых эллинских полисов, содержавшие предложения о союзе и заговоре с целью свержения моей власти. Помимо документов мы захватили и живую добычу: послов Спарты, Фив, Коринфа, Элиды и Афин, находившихся в персидском лагере, дабы претворить этот изменнический план в жизнь.
Я не новичок в политике и если и пребываю во власти иллюзий, то лишь весьма немногих. Фактически каждый аспект Эгейской кампании, как то: необходимость вдвое уменьшить армию вторжения и оставить восемь пехотных и пять конных соединений с Антипатром в Греции, дорогостоящая и утомительная нейтрализация морского побережья, даже явная снисходительность, не раз проявлявшаяся мною по отношению к моим недоброжелателям в Афинах, — был продиктован необходимостью умиротворить тыл, сведя к минимуму возможность выступления эллинских полисов против меня как поодиночке, так и в союзе с Персией. Разумеется, перспектива открытия в Греции второго фронта меня отнюдь не прельщала.
И всё же где-то в глубине души я, должно быть, сохранял наивную веру в то, что смогу заставить их полюбить меня, проникнуться величием моих планов и во имя общего прошлого и славного будущего принять в сердце если не Македонию, то меня лично.
Когда я читал эти письма, полные вкрадчивой лести, гнусного вероломства, бесстыдного интриганства, кровь в моих жилах закипала от ярости. Заговорщики рассматривали возможности отравить меня, заколоть кинжалами, забить камнями, повесить, застрелить из луков, пронзить копьями, сжечь, утопить, затоптать. Предлагалось также задушить меня ковром или удавкой, бросить в море в мешке с камнями, убить во время жертвоприношения, во сне и даже в отхожем месте, во время отправления естественных надобностей. Из многих относившихся ко мне бранных прозвищ мне особенно запомнились слова «этот зверь» и «чудовище», что, по моему глубокому убеждению, было бы более справедливо по отношению к моему коню. Гнусные эпитеты, которых удостоились мой отец, сестра и мать, я приводить не стану.
— Мои поздравления, — говорит Кратер, откладывая свитки в сторону.
Птолемей с усмешкой называет всё это «попыткой осоки высечь дуб».
— По крайней мере, мы теперь знаем, кого вешать, — замечает Парменион.
Более всего меня бесит тот факт, что эллины, расположения которых я силился добиться всеми мыслимыми и немыслимыми способами, предпочли союзу со мной сговор с варваром-персом.
Зная, что он подойдёт к этому вопросу практично, я показываю депеши Теламону и спрашиваю, какой именно предмет следует выбросить из моего солдатского вещевого мешка в первую очередь.
— Тот, который больше всего уязвляет тебя лично, — отвечает Теламон. — Александр, — говорит он, — неужели тебя удивляет, что они ненавидят человека, лишившего их свободы?
Я смеюсь.
— Я не знаю, зачем я держу тебя при себе.
— А как думаешь, — не унимается он, — полюбят тебя эти греки, если ты их освободишь?
Я смеюсь снова.
— Александр, они считают тебя землетрясением. Извергающимся вулканом.
— Но я ещё и человек.
— Нет. От этой привилегии ты отказался, приняв венец и встав во главе народа. Быть государем — это страшная участь. Ты думаешь, что отличаешься от своих венценосных предшественников? Но почему? Власть есть власть, и она всегда предъявляет к властителю свои требования. У тебя есть враги. Ты должен действовать. И действовать тебе придётся так же жестоко, как действовали другие цари, причём руководствуясь теми же самыми суровыми причинами. Парменион говорит, что невозможно быть одновременно и философом, и воином. Я добавлю: ещё менее возможно быть и человеком, и царём.
Я спрашиваю Теламона, как бы он поступил с вероломными послами.
— Казнил. Причём не откладывая это ни на минуту.
— А что делать с эллинскими полисами?
— Как и раньше, ничего. Просто принять случившееся к сведению и послать Антипатру золота, чтобы хватило на набор дополнительных войск.
В конечном счёте послов я прощаю: это отважные люди и патриоты, выполнявшие поручение своего народа. Но мною принято решение удержать их при себе в качестве заложников: надеюсь, это побудит их соотечественников к большей осмотрительности.
Что может быть более естественным, чем стремление заслужить добрую славу? Мы все хотим, чтобы нас любили, а завоеватель, возможно, стремится к этому даже более прочих, ибо жаждет признания не только от современников, но и от потомства. Когда мне было восемнадцать, после победы при Херонее мой отец послал меня с Антипатром в Афины. Мы привезли пепел афинян, павших в битве, и предложили вернуть без выкупа их пленных: столь благородным жестом Филипп намеревался умерить и ужас афинян, и их озлобленность.
Замысел удался, Афины встретили меня как благодетеля. Я признаю, что эта удача малость вскружила мне голову. Но вечером, на пиру, я подслушал фразу о том, будто бы всем обязан лишь рождению да случайному везению. Настроение моё резко переменилось. Антипатр заметил это и отвёл меня в сторонку.
— Сдаётся мне, маленький старый племянник (он использовал македонское выражение, означающее высшую степень дружеского расположения), что ты возвёл этих афинян в сан арбитров твоих достоинств и добродетелей. Между тем для этого нет ни малейших оснований: Афины не более как небольшое государство, пекущееся исключительно о собственной выгоде. В конечном счёте, Александр, о твоём характере и трудах будут судить не афиняне, сколь бы ни был славен и знаменит их город, а сама история, ибо лишь ей одной дано оценивать истину беспристрастно и объективно.
Антипатр был прав.
С того дня я решил не прикладывать ни малейших усилий для того, чтобы составить о себе хорошее мнение. Да горят они все в аду. Ты, конечно же, слышал о моей воздержанности по части пищи и плотских утех. Причина проста: я наказывал себя. Стоило мне поймать себя на желании произвести на кого-то хорошее впечатление, и я отправлялся спать без ужина. В одинокой постели. Мне пришлось пропустить много трапез и лишить себя многих маленьких радостей, прежде чем я взял этот порок под контроль. Или уверовал, что взял.
Глава 19 МАКСИМЫ ВОЙНЫ
Итан, ты провёл, служа в моей свите, уже девять месяцев. Как думаешь, не пришло ли время появиться из чрева?
Да, ты непременно получишь назначение. Очень скоро ты поведёшь людей в бой. Но не ухмыляйся так радостно: помни, что за тобой, как за человеком, обучавшимся воинскому искусству в моём шатре, я всегда буду следить с особым вниманием.
Все эти месяцы, с того момента как ты был принят на службу в Афганистане, тебе была предоставлена несравненная привилегия внимательно прислушиваться к речам полководцев, равных которым трудно сыскать в анналах истории войн. Каждый из командиров, для которых ты разрезал мясо и которым наливал вино, — Гефестион и Кратер, Пердикка, Птолемей, Селевк, Коэн, Полиперкон, Лисимах, не говоря уж о Филоте, Парменионе, Никаноре, Антигоне Одноглазом и Антипатре, которого ты не имел счастья знать, — каждый из них уже заслужил право на вечную память потомков как великий стратег и несравненный герой.
Теперь я требую от тебя той же верности, какую требую от них. Ты должен твёрдо усвоить все те правила и принципы, которыми руководствуется наша армия в бою. Почему? Потому что, как только начинается битва, я с того места, где буду находиться, смогу контролировать разве что действия соединения под моим непосредственным началом, да и то, в неизбежном хаосе схватки, далеко не в полной мере. Тебе, мой юный друг, придётся принимать самостоятельные решения, но самостоятельные — это не значит произвольные или случайные. Они должны соответствовать моим замыслам и моей воле. Вот причина, по которой я и мои полководцы проводим ночи напролёт, обсуждая стратегические вопросы, а вам, юношам, лишь готовящимся занять командные должности, дозволяется внимать этим беседам. Вот причина, по которой мы вновь и вновь возвращаемся к основополагающим принципам нашей тактики и стратегии, добиваясь, чтобы для каждого из нас они стали второй натурой.
Я попросил Эвмена, моего военного советника, скопировать мои письма, адресованные полководцам, дабы они стали доступными для изучения молодыми командирами. Эти письма должно изучать, как изучают в школе тексты поэтов или философов, но с одним существенным отличием. Ученик может расходиться во мнениях с учителем, но младший командир со старшим, подчинённый с начальником — никогда! То, что я вложил в ваши умы и руки, есть непреложный закон. Следуйте ему, и никакая сила не устоит перед вами. Но стоит вам презреть его, и мне уже не придётся вмешиваться, дабы навести порядок, ибо за меня это сделает неприятель.
О ФИЛОСОФИИ ВОЙНЫ
Птолемею, в Эфес:
Всегда атакуй. Даже находясь в обороне, атакуй. Атакующий обладает инициативой и таким образом господствует чад обстоятельствами. Атака придаёт солдатам отваги, защита делает их боязливыми. Если я узнаю, что мой командир занял на поле оборонительную позицию, он более не будет служить под моим началом.
Птолемею, в Египет:
Составляя планы, думай не об отдельных сражениях, а о целых кампаниях, не о ходе войны, а о её цели и результате.
Пердикке, из Тира:
Стремись к решающему сражению. Какой прок будет нам, если мы победим в десяти стычках, не имеющих значения, но проиграем одну, стратегически важную? Я хочу сражаться в битвах, которые решают судьбы держав.
Селевку, в Египет:
Победить противника морально так же важно, как и разбить его на поле боя. Я имею в виду то, что наши победы должны сокрушать вражеский дух, дабы он не смел и помыслить о возможности противостоять нам снова. Я не имею желания вести войну за войной: за моими победами должен последовать такой мир, в котором не будет места бунтам и мятежам.
О СТРАТЕГИИ И ВЕДЕНИИ КАМПАНИИ
Коэну, в Палестину:
Цель кампании в том, чтобы навязать врагу сражение, которое окажется решающим. Мы производим обманные действия, мы маневрируем, мы провоцируем, и всё это с одной целью: вынудить противника столкнуться с нами на поле.
То, что мне нужно, это сражение: одна великая решающая битва, на которую Дарий выйдет в сиянии всей своей мощи. Помни, наша задача состоит в том, чтобы раз и навсегда сломить волю к сопротивлению, причём не только у царского войска, но и у всего народа.
Подданные персидской державы есть истинные зрители разыгрываемой драмы. Следует добиваться того, чтобы они, ошеломлённые масштабами и решительностью наших побед, поверили, что никакая сила на земле, сколь бы ни была она многочисленна и сколь бы мудро ею ни руководили, не сможет взять над нами верх.
Пердикке, в Газу:
Цель преследования после победы заключается не только в том, чтобы помешать противнику быстро переформироваться и восстановить порядок (это само собой разумеется), но в том, чтобы внушить всем врагам, и прежде всего их командирам, такие страх и растерянность, чтобы сама мысль о переформировании даже не приходила им в головы. Следовательно, преследуй бегущего врага всеми средствами и не успокаивайся до тех пор, пока ад или тьма не вынудят тебя остановиться.
Противник, единожды обратившийся в беглеца, уже не сможет снова стать настоящим бойцом.
Я предпочёл бы лишиться во время погони пяти сотен лошадей, лишь бы это помешало врагу переформироваться. Это лучше, чем потерять ещё на пять сотен больше во время второго сражения.
Селевку, в Сирию:
Как командиры, мы должны приберегать нашу безжалостную суровость прежде всего для нас самих. Намереваясь произвести какое-либо движение, мы должны, не предаваясь тщеславию и самообману, задаться вопросом о том, чем может ответить нам противник. Задумывая любой удар, позаботься о том, чтобы иметь такого рода ответ. И помни: даже когда тебе кажется, будто ты предусмотрел всё, в действительности многое остаётся упущенным. Будь безжалостен и суров к себе, ибо малейшая беспечность полководца оплачивается нашей собственной кровью и кровью наших соотечественников.
О ЩЕДРОСТИ
Пармениону, после Исса:
Кир Великий стремился оторвать от своего противника всех недовольных и не исполненных верности, как, например, новобранцев из покорённых народов и прочих служащих не по доброй воле, а по принуждению. С этой целью он оказывал почести армянам и гирканам и не щадил усилий, убеждая их в том, что под его рукой они будут несравненно счастливее, чем под властью Ассирии. По мысли Кира, цель победы состоит в том, чтобы оказаться более щедрым в дарах, чем противник. Если ему недоставало средств, дабы превзойти иных в щедрости, он считал это величайшим позором и всегда стремился давать больше, чем получал. Кир собирал сокровища с пониманием того, что они находятся у него как бы на доверительном хранении и предназначены не для него самого, но для друзей, когда те обратятся к нему в случае нужды.
Гефестиону, также после Исса:
Пусть щедрость станет твоим свойством. Если противник выказывает хотя бы малейшие признаки готовности принять дары, одари вдвое против ожидаемого.
Нам должно вести себя таким образом, чтобы все народы пожелали стать нашими друзьями и все боялись стать нашими врагами.
О ТАКТИКЕ, СРАЖЕНИЯХ И СОЛДАТАХ
Нет большего преимущества в войне, чем скорость. Неожиданное появление твоих сил там, где враг меньше всего тебя ожидает, наводит на него трепет и обращает его в оцепенение.
Численность армии не должна быть избыточной. Оптимальная величина боевого соединения равна тому количеству воинов, которое способно совершить марш от лагеря до лагеря в течение одного дня. Большая численность является избыточной, ибо делает армию медлительной.
Суть традиционной военной тактики сводится к достижению единственного результата: прорыва вражеского строя. Это в равной степени относится как к сухопутным, так и к морским сражениям.
Статическая оборонительная линия всегда уязвима. Достаточно прорвать её в одной точке, и всё остальные участки перестают быть элементами боевого построения. Оружие в руках стоящих там людей оказывается бесполезным, и им, по существу, не остаётся ничего другого, как бессильно ждать, когда их сметут их же собственные товарищи, бросившиеся в паническое бегство после нашего флангового удара.
Проявляй сдержанность до критически важного момента. Когда же он настанет, наноси удар со всей мощью, стремительностью и яростью, на какие способен.
Помни: нам нужна победа не на всём поле, а лишь в одной его точке, именно той, которая имеет решающее значение.
Каждое сражение состоит из ряда отдельных схваток различной значимости. Для меня не имеет значения поражение в одной или даже во множестве таких схваток, если мы побеждаем именно в той единственной, которая решает дело.
Фронт нашего наступления разделяется на сдерживающее крыло и атакующее крыло. Задача первого в том, чтобы сковать противника, лишив его наступательной инициативы. Задачей же второго являются решительный удар и прорыв.
Мы сосредоточиваем наши силы на избранном участке и со всей стремительностью и мощью обрушиваем удар на одну точку во вражеской линии.
Я хочу чувствовать себя так, как будто держу в руках молнию. Под таковой я подразумеваю тот нанесённый по моему приказу удар, который отбросит врага, проломит его строй. Подобно кулачному бойцу, терпеливо выжидающему, когда соперник откроется для его разящего кулака, военачальник, заранее нацелив решительный удар, не спешит, но и не медлит, дабы не обрушить его слишком рано или слишком поздно.
Контрудар предпочтительнее обычного удара. Цель предварительного манёвра состоит в том, чтобы спровоцировать врага на преждевременные действия. Как только он начинает наступление, мы встречаем его контратакой.
Мы стремимся проделать во вражеском строю брешь, в которую сможет ворваться кавалерия.
Стоящий в шеренге солдат должен помнить только о двух вещах: держать строй и никогда не покидать свой штандарт.
Командир всегда должен быть впереди. Как можем мы просить наших солдат рисковать жизнью, если сами укрываемся от опасности за их спинами?
Война похожа на сухую теорию лишь на карте. На поле это буря живых чувств.
Верно выбрать позицию — это значит занять такое место, которое вынудит противника к движению. При виде неприятеля, выстроившегося в оборонительные порядки, мы первым делом должны задуматься: захватив какую позицию мы принудим его отступить?
Задача командира состоит в том, чтобы контролировать эмоции подчинённых, не позволяя им поддаваться ни страху, который сделает их трусами, ни ярости, которая обратит их в зверей.
Вступая на любую территорию, первым делом захватывай винные склады и пивоварни. Армия, лишённая хмельных напитков, склонна к недовольству и даже бунту.
Безводное пространство следует пересекать форсированным маршем, это позволяет уменьшить страдания людей и животных. Для двухдневного перехода через пустыню я разработал подходящую схему: армия выступает в поход с сумерками, марширует всю ночь, с наступлением дневной жары отдыхает в тени палаток и снова движется всю ночь. Таким образом, мы совершаем двухдневный переход за полтора дня. Если же оказывается, что к рассвету второго дня мы всё же не успели достичь цели, остаток пути можно будет проделать и при солнечном свете, воодушевляясь тем, что вода и отдых уже близко.
О КАВАЛЕРИИ
Сила кавалерии в быстроте и неожиданности. Всякого рода стратегические теории к кавалерии неприменимы.
Конь, чтобы считаться настоящим кавалерийским конём, должен быть чуточку безумным. Кавалеристу же это качество должно быть присуще в полной мере.
Сплочённость рядов, о которой чаще говорят, когда речь идёт о пехоте, в действительности ещё более важна для кавалерии. Пехотный боевой порядок может устоять против беспорядочной атаки любого количества всадников, но никогда не выдержит атаки сомкнутого кавалерийского строя.
Кавалерии во время атаки не стоит стремиться убить как можно больше врагов. Главное — осуществить прорыв. Сеять смерть мы сможем потом, когда вынудим противника к бегству.
Для того чтобы обучить солдата, требуется пять лет, чтобы обучить его коня — десять.
От необученной кавалерии нет никакого толку.
Что требуется от настоящего кавалерийского коня — это «порыв» или, как выражаются мастера выездки, «ретивость».
Чтобы сохранить навык ведения боевых действий в конном строю, требуется постоянная практика. Даже короткий перерыв оборачивается и для коня, и для всадника потерей их умения, что восполняется лишь с помощью упорных и долгих упражнений.
Конь кавалериста должен быть сообразительнее, чем его всадник. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы конь об этом узнал.
Книга седьмая ИНСТИНКТ УБИЙСТВА
Глава 20 ВОЕННЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы собрать после Исса новую армию, Дарию понадобилось двадцать три месяца. И сперва он направил её в Вавилон. На сей раз я приду к нему. На сей раз наш поединок состоится за Евфратом.
С тех пор как наша армия переправилась из Европы в Азию, минуло три года. За это время мы завоевали Финикию, Галилею, Месопотамскую Сирию, Тир, Сидон, Газу, Самарию, Палестину и Египет. Я стал Защитником Яхве, Мечом Ваала, Фараоном Нила. Жрецы солнца объявили меня Сыном Ра, Кормчим ладьи Осириса, Сыном Амона. Все эти почести, особенно религиозного характера, я принимаю с готовностью. Они стоят армий. Персы были слепы, когда правили Египтом, оскорбляя богов этой страны, ибо нет более верного способа возбудить к себе всеобщую ненависть. Напротив, завоеватель, признающий местных богов, завоёвывает не только саму страну, но и любовь её жителей, причём последнее достаётся ему без каких-либо затрат и усилий. Небеса над Мемфисом и Македонией едины, и они говорят на том же самом языке. Тот, кто отрицает это, сколь бы он ни был учен, заслуживает лишь презрения. Бог есть Бог, в каком бы обличье ни соблаговолил Он явить себя людям. Я почитаю Его как Зевса, Амона, Яхве, Аписа, Ваала, с львиными лапами, с головой шакала, с бородой, с рогами, в виде мужчины, женщины, сфинкса, быка и девственницы. Я верю во все эти образы, а точнее, в то, что стоит за ними.
Царь, как наставлял меня мой отец, является посредником между народом и небесами. Он призывает благословение Творца, перед тем как семя отправляется в почву, и вершит ритуал благодарения при сборе урожая. Перед выступлением в поход каждой армии, отплытием каждого корабля, началом любого предприятия он приносит жертвы и просит ниспослать удачу. При любом затруднении он испрашивает у Бога знамение и истолковывает его. Если царь пребывает в милости у Небес, благодать распространяется и на его царство. Найдётся ли в мире богохульник столь дерзновенный, чтобы с презрением отвергнуть благословение Всемогущего?
Тир и Газа положились на мощь своих укреплений, чем вынудили меня предпринять осаду. Сколь бессмысленная трата крови и средств! Шесть месяцев упрямства жителей Тира стоили мне потери ста девяноста славных воинов, а под Газой я потерял ещё тридцать шесть человек и сто одиннадцать дней.
Дважды эти негодяи едва не лишили меня жизни: копьё, выпущенное из катапульты, едва не пробило мне грудь, а сброшенный со стены камень чуть было не расколол вдребезги мой череп. Неужто какое-то злобное божество лишило их разума? Неужели они вообразили, будто я позволю себе оставить в чужих руках находящиеся в моём тылу стратегические порты, используя которые враги смогут нападать на меня с моря? Неужели им могло прийти в голову, будто я способен равнодушно двинуться дальше, не покарав их за строптивость, дабы показать другим, что противодействие моей воле есть вернейший путь к погибели?
Мои послы долго пытались убедить правителей Тира и Газы проявить мудрость; я направил им собственноручно подписанные письма, где заверял, что, открыв мне ворота, их города не только не лишатся своих богатств и свобод, но под моей защитой обретут новые.
Однако они упорствовали и наконец вынудили меня сделать их участь примером для иных упрямцев.
Больше всего такое бессмысленное упорство раздражает меня тем, что лишает возможности проявить великодушие. Ты понимаешь меня ? Когда ты пытаешься обойтись с противником благородно, он ни в какую не желает этого понимать. Он вынуждает меня превратиться из благородного воителя в мясника — и платит за это собственной погибелью.
Поверь мне, Итан, окружающий мир, такой, каким мы его видим, есть не более чем тень, смутное отражение Мира Истинного, Мира Невидимого, сокрытого за ним. Ты спросишь: что же это за царство? Отвечу: Не То, Что Есть, но То, Что Будет. Грядущее. Необходимость — вот слово, коим нарекаем мы механизм, посредством которого Бесконечное вершит свой великий труд. Бог правит в обоих мирах, явленном и неявленном, но заглянуть в Грядущее позволяет лишь сподобившимся его милости.
В Египте я ощущал себя как дома и чувствовал, что с радостью мог бы стать жрецом. Впрочем, я и есть жрец-воин, марширующий по стезе, указанной Божеством, состоящий на службе у Необходимости и Судьбы. Не думай, будто такое представление о себе свидетельствует лишь о самовлюблённости или излишнем самомнении. Посуди сам: время Персии миновало. В Невидимом Мире держава Дария уже пала. Кто же в таком случае я, как не исполнитель воли Высших Сил, осуществляющий в этом мире то, что уже состоялось в ином?
В Антиохии я устроил грандиозное празднество в честь Зевса и муз. Десять тысяч волов было принесено мною в жертву Олимпийцам, Гераклу, Беллерофону и всем богам и героям Востока, коих я просил даровать своё благословение предстоящему предприятию.
Будущему походу на Гавгамелы было суждено стать самой сложной кампанией сей долгой войны. Созвав македонцев и союзников во дворец наместника Антиохии, я попросил Пармениона подготовить доклад о тех трудностях, с которыми предстоит столкнуться армии. Этот доклад сохранился. Вот рукопись, по которой он читал:
— Дабы произвести наступление в Месопотамии, войску потребуется преодолеть, в зависимости от избранного маршрута, от шести до восьми тысяч стадиев, причём большая часть пути пройдёт по безводной пустыне. При этом мы окажемся в таком отдалении от наших береговых баз, что возможность пополнять припасы морем будет полностью исключена. Всё необходимое нам придётся или нести с собой на спинах, или выжимать из земель, по которым проляжет наш путь. При этом следует иметь в виду, что в этих отдалённых краях у нас почти нет ни лазутчиков, ни иных сторонников.
К вопросу о численности войска... Нам придётся позаботиться о пропитании и здоровье тысячах бойцов и исправности всего их снаряжения. Это не говоря о шестидесяти семи сотнях строевых и одиннадцати тысячах сменных кавалерийских лошадей. Вьючных животных наберётся более пятнадцати тысяч. Помимо того, при армии скопилось множество иждивенцев — жён и наложниц, детей, родни со стороны мужей или жён... за время войны кое-кто стал таскать за собой даже бабушек. С питьевой водой будут трудности, даже когда мы дойдём до Евфрата, ибо тамошняя вода есть не более чем мутная, насыщенная илом жижа, малопригодная для питья. Ещё худшей бедой обещает стать невыносимая жара. Как утверждают все донесения, летом равнины к северу от Вавилона годятся только для существ с клыками или чешуёй. Эта страна не раз становилась могилой для целых армий. Но мы будем вынуждены сражаться в жару, чтобы выиграть время жатвы. Покинув морское побережье весной, мы захватим с собой раннюю пшеницу и ячмень, а прибыв в Месопотамию в конце лета, застанем второй урожай молочной спелости, если поспеем раньше графика, или полностью созревший, если помешкаем. Правда, коль скоро Дарий догадается попросту сжечь эти хлеба, нам придётся сражаться в аду, на пустой желудок. Вавилон находится у слияния Тигра и Евфрата, великих рек, ни одну из которых невозможно преодолеть вброд в пределах тысячи стадиев от города. Иными словами, перед нами встанет необходимость наводить мост через одну, а может быть, и через обе эти реки. Это будет не так-то просто перед лицом миллионной вражеской армии.
Долина Евфрата представляет собой зону орошаемого земледелия, где продвижение войск будет существенно затруднено бесчисленным множеством каналов и прочих ирригационных сооружений. Ну а дальше расстилается бесконечная, безликая пустыня: того, кто удалится от лагеря на десять стадиев, близкие уже никогда не увидят.
Дарий созвал в Вавилон бойцов всех народов своей державы, тех, с чьей пехотой и кавалерией мы не имели дела при Иссе. Скифы, арийцы, парфяне, бактрийцы, согдийцы и индийцы присоединились к царскому войску и сейчас, когда мы ведём эту беседу, готовятся в Вавилоне устроить нам горячий приём. Тот край является житницей державы, и житницу эту Дарий будет защищать всеми доступными ему средствами. Равнины к северу, где он и собирается дать нам бой, широки и лишены деревьев: эта местность идеально подходит для военных действий на варварский, азиатский манер. Противник пустит в ход колесницы с серпами, закованных в броню катафрактов, возможно, даже боевых слонов. Кроме того, он соберёт под свои знамёна всех конных кочевников Востока — дагов, массагетов, саков, афганцев и аркозийцев. Всех тех, на чьих безбрежных равнинах пасутся неисчислимые табуны. Мне говорили, что одни лишь провинции Мидия и Гиркания способны выставить сорок тысяч всадников, возможности же степных сатрапов превосходят и это.
Парменион заканчивает свой доклад и садится. Зал, кедровая крыша которого поддерживается алебастровыми колоннами, погружается в гробовое молчание.
— Кратер, взбодри хоть ты нас!
Кратеру поручено организовать походное снабжение. Он перечисляет города, большие и малые, и даже деревни, мимо которых будет пролегать наш путь, и называет местных жителей, с которыми его люди уже договорились по поводу поставок провизии, фуража, проводников, вьючных животных, воды. Между Дамаском и Тапсаком, предполагаемым пунктом переправки через Евфрат, уже устроены расположенные на равных интервалах склады. Далее, увы, придётся кормиться за счёт местности.
Кратер приводит перебежчиков от Дария, торговцев, караванщиков, представителей горных племён. Они подробно описывают местность, по которой нам предстоит идти. Большинству из нас уже доводилось выслушивать такого рода рассказы, но я хочу, чтобы мои командиры послушали всё это снова, все вместе. Чтобы предстоящее испытание было воспринято ими совместно.
— А как насчёт вина? — спрашивает Птолемей.
Впервые за время совета слышится смех.
За снабжение армии хмельными напитками отвечает Локон, который, надо признаться, расстарался вовсю. Всё, что подвержено брожению, пущено его людьми в ход. Помимо того что каждый виноградник взят на заметку, они научились варить пиво из риса и фиников и освоили местный способ производства хмельного из фисташек и пальмового сока. Пойло получается противное, но, если приспичит, можно пить и его. Локон клянётся Зевсом, что уж питья-то он возьмёт с собой вдосталь, а если нам оно не понравится, всё выхлебает сам.
Это вызывает новый взрыв смеха.
Сколько у нас наличных? Из Дамаска двадцать тысяч талантов золота, из Тира, Газы и Иерусалима ещё пятнадцать тысяч, из Египта восемь тысяч. Из городов на морском побережье ещё шесть тысяч.
Это в пятьдесят раз больше того, что имели мы, выступая в поход, но всё равно менее одной десятой тех средств, которые может с лёгкостью использовать против нас Дарий.
— Насколько жарко в долине Евфрата?
— Быстрое ли течение у Тигра?
— Какими силами располагает противник?
У каждого высшего командира своя сфера ответственности и, соответственно, свои вопросы. Каждый при этом имеет помощников и советников, которые зачастую и дают ответы на прозвучавшие вопросы.
Признаться, я затеял этот совет вовсе не для ознакомления с докладами: все эти сведения мои командиры слышали раньше и услышат снова, на сотне других советов. Главное, чтобы они увидели и послушали выступления друг друга, в которых тон может оказаться важнее содержания. Особенно это касается наёмников и союзников, порой чувствующих, что им, в отличие от македонцев, отводится в этом походе отнюдь не центральная роль.
Моя армия, как и любая другая, не едина, она раздираема противоречиями и завистью. Кавалерия смотрит с недоверием на пехоту, пехота — на кавалерию, старая фаланга и старые «друзья», бойцы, служившие при Филиппе, смотрят на новых людей, выслужившихся уже при мне, свысока, но в то же время с завистью, ибо считают, что молодёжь пользуется большим моим благоволением.
И это только македонцы. А ведь есть ещё греческие пехотинцы, служащие по принуждению и уже тем самым не заслуживающие доверия. Другие эллины, наёмники, служат по доброй воле, но что у них на уме, не возьмётся сказать никто. Союзные и наёмные конники внушают опасение хотя бы потому, что в отличие от пехотинцев имеют возможность в любой момент бросить армию и ускакать, куда им заблагорассудится. Фракийцы и одриссы почти не говорят по-гречески и держатся особняком, а первоклассные бойцы тяжёлой кавалерии из Фессалии смотрят свысока на всех, кроме «друзей», от последних же требуют уважения, которое не всегда даётся. Метатели дротиков из Фракии и Агриании, старые наёмники, прибывшие с нами из Европы, не слишком жалуют новых союзников, таких недавних подданных Дария, как армяне и каппадокийцы, сирийцы и египтяне, ренегатов из Киликии и Финикии, присоединившихся к нам после Исса, и греческих наёмников, первоначально служивших персам. Что уж тут говорить о коннице Пеонии и Иллирии и новой пехоте, прибывшей с Пелопоннеса.
Пусть же все эти люди послушают друг друга. Пусть посмотрят друг другу в глаза.
Я склоняю совет обсудить численное превосходство противника, и спор сближает некоторых из тех, кто раньше и вовсе не имел друг с другом дела. Из недавних соперников формируются группы единомышленников.
Парменион — наш отец; мы находим утешение в его скрупулёзности, дотошности и необъятных познаниях. Язык Птолемея остр, как бритва, он способен преподнести наилучшим образом всё, что угодно. А вот Кратер, будучи превосходным воином, скуп на слова, словно спартанец. Что не мешает ему пользоваться любовью солдат. Пердикку отличают бросающиеся в глаза тщеславие и надменность, но он хорошо знает свою игру. Селевк превосходит всех мужеством, Коэн — хитростью, а Гефестион есть живое воплощение гомеровского героя. О себе, научившись этому от отца, я говорю мало.
Мой кивок, адресованный Лисимаху или, скажем, Симмию, даёт понять, что я желаю услышать их мнение по обсуждаемому вопросу. Особо интересными такие советы делают выступления младших командиров, в первую очередь таких, с кем большинство из собравшихся незнакомы. Некий Ангел, дорожный механик, описывает устройство разработанного им и его подчинёнными моста. Устойчивость ему придают не сваи или якоря (первые обременительны, вторые ненадёжны), а плетёные клети, наполненные камнями. Механик уже испытал конструкцию на Оронте и Иордане, реках с таким же илистым дном, как Тигр или Евфрат, и теперь уверяет, что за день и ночь сумеет навести переправу длиной в шестьсот локтей, способную пропускать не только людей, но и лошадей.
— Нам не придётся возить с собой тяжёлые сваи и громоздкие механизмы для их забивания, — поясняет Ангел. — Сколотить клети мы всегда сможем на месте, из подручных материалов. Донесения подтверждают, что и дерево, и камни имеются там в избытке.
Я предлагаю высказаться Мениду, тысячнику наёмной кавалерии, и Арету из царских копейщиков. Оба они происходят из благородных македонских семей, но данному собранию известны мало, ибо лишь недавно заняли свои посты, прибыв на замену опытным и популярным командирам. Они новички, однако именно от воли и твёрдости таких новичков будет во многом зависеть судьба похода.
Когда Менид, не привыкший держать речь перед столь высоким собранием, запинается, я встаю со своего места, усаживаюсь рядом с ним и, дабы поддержать его, наливаю ему вина, смочить пересохшее горло. В итоге кавалерист вновь обретает голос. Когда он заканчивает, Кратер поощрительно называет его «тёмной рукой», как принято у солдат именовать мастеров военных хитростей. Весь шатёр разражается одобрительными возгласами. Я похлопываю Менида по плечу. Он не подведёт.
Наступает полночь, и я предлагаю собравшимся поздний ужин. Обсуждение между тем продолжается. Главным, при всей нашей уверенности в себе, остаётся вопрос о соотношении сил. Нас пятьдесят тысяч, число же врагов, как говорят, достигает миллиона. Конечно, эта цифра, которую без конца повторяют слуги и лагерные шлюхи, кажется невероятной, но тот факт, что одна лишь вражеская пехота впятеро превосходит по численности всю нашу армию, не подлежит сомнению. А конницы у врага ещё больше.
Под конец, когда совет завершается, Кратер задаёт мне вопрос, который интересует каждого.
— Александр, что из тех средств, которые может использовать против нас враг, заботит тебя больше всего?
Я отвечаю, что у меня только одно опасение: вдруг Дарий уклонится от сражения и убежит.
Шатёр ревёт от восторга.
В Марафе, что в сирийской низине, ко мне прибывает гонец с письмом от Дария. Он предлагает мне земли к западу от реки Галис (во втором письме это пространство расширяется до Евфрата), десять тысяч талантов золота и руку своей дочери. Кроме того, царь просит меня вернуть ему мать, жену и сына, попавших нам в руки при Иссе.
Я отвечаю:
Твои предки вторглись в мою страну и нанесли эллинам и македонцам бедственный ущерб, хотя мы ранее не делали персам ничего дурного. Мой отец, как ты сам похвалялся в письмах, захваченных мною и обнародованных для всеобщего сведения, был убит твоими наймитами, по твоему наущению. Ты подкупаешь моих союзников, склоняя их к измене, и пытаешься втянуть моих друзей в заговоры, цель которых состоит в том, чтобы меня убить. Таким образом, эту войну затеял не я, а ты.
На поле брани я победил сначала тех, кого ты послал против меня, а потом тебя самого и всю твою армию. Поэтому обращайся ко мне не как к противнику, вторгшемуся в твои владения, а как к завоевателю, получившему их по праву войны. Если тебе что-то надо, приди ко мне. Обратись с должной просьбой, и ты получишь не только мать, жену и детей, но всё, чего пожелаешь. Но обращайся ко мне не как равный к равному, а как к Царю Царей и Владыке Азии. Если же ты не признаешь меня таковым и по-прежнему мнишь себя повелителем великой державы, выходи в поле и прими бой. Сражайся, как подобает царю, а не убегай, ибо я всё равно последую за тобой, куда бы ты ни отправился.
Когда я пишу, что отдам Дарию всё, о чём он попросит, это чистая правда. Я не испытываю злобы к этому человеку, а, напротив, уважаю его и готов сделать его своим другом и союзником. Он может получить от меня всё, кроме своей бывшей державы.
Она моя, и её я оставлю себе.
Глава 21 ПОХОД В МЕСОПОТАМИЮ
Военный термин «анабазис» означает «марш вглубь страны». Ранним летом, три года спустя после того, как армия перебралась в Азию, начинается наш анабазис, цель которого состоит в поисках Дария.
Ранним ветреным утром армия покидает расположенный на морском побережье Тир и выступает к Тапсаку, откуда мы намереваемся переправиться через Евфрат. Гефестиона с двумя отрядами конных «друзей», пятнадцатью сотнями союзной пехоты, половиной лучников и агриан, а также всеми семью сотнями конных наёмников Менида я высылаю вперёд. Он должен захватить этот город и навести два моста через реку, ширина которой достигает в том месте полутора тысяч локтей.
Тапсак находится в двух тысячах пятистах стадиях от Тира, так что Гефестион прибудет туда к летнему солнцестоянию. Предполагается, что наши основные силы догонят его в самый разгар знойного лета. От Тапсака до Вавилона, если следовать вдоль Евфрата, по Царскому тракту, будет ещё четыре тысячи пятьсот стадиев. При такой жаре наибольшая средняя скорость марша составит сто пятьдесят стадиев в день. Большего требовать от войск невозможно, да я и не собираюсь. Таким образом мы предположительно достигнем цели к концу осени. Тогда-то и состоится наша встреча с Дарием.
То, что я направил в Тапсак Гефестиона, а не Кратера или ещё кого-нибудь из видных военачальников, представляет собой своего рода хитрость. Дарий и его советники наверняка решат, что это место представляет собой мою первоочередную цель, и, надо полагать, вышлют к северу от Вавилона сильный отряд, чтобы приглядеть за мной или, при возможности, даже чтобы воспрепятствовать нашей переправе. Это неплохо: если мы поведём себя разумно, нам, возможно, пусть не сразу, а со временем, удастся переманить командира этого соединения на свою сторону.
Гефестион наведёт свои мосты на девять десятых ширины реки, но не станет соединять их с противоположным берегом до прибытия наших основных сил. Персы с той стороны реки, разумеется, будут всячески поносить нас, осыпая оскорблениями и бранью по-персидски, а если (скорее всего так оно и будет) в отряде окажутся греческие наёмники, то и по-эллински. Но, вступая с противником в перебранку, вы тем самым начинаете с ним разговор, а обмен оскорблениями запросто может перерасти в обмен предложениями. Кто лучше Гефестиона способен обернуть такого рода обстоятельства в нашу пользу? Я предоставил ему широчайшие полномочия на ведение переговоров и заключение любого соглашения с предводителем неприятельского отряда. Гефестион доведёт до сведения этого человека, что Александр (то есть я) не поскупится на награду, если с его стороны последуют дружественные действия. Или хотя бы не последует враждебных.
Путь наших основных сил, покидающих побережье спустя десять дней после Гефестиона, пролегает через находящийся в глубине материка Дамаск. Наместник провинции получил от меня приказ: собрать туда со всей Сирии всех до единого кузнецов и оружейников. В Дамаске армия останавливается на пять дней для пополнения запасов оружия и амуниции перед броском в глубь вражеской территории.
Дамаск славится своим рынком, именуемым «terik», что значит «голубиный». Сирийцы обожествляют этих птиц, которые по этой причине развелись там в великом множестве, никого не боятся и держатся самодовольно, словно коты.
На этой «голубиной» площади происходит настоящее чудо. Один из наших десятников, желая разнообразить свой стол, не подозревая о том, что имеет дело с объектом почитания, ловит беззаботного голубя и сворачивает ему шею. Весть о том, что священный terik убит чужеземцем, мигом облетает рынок и прилегающие кварталы. А поскольку там по моему приказу собраны кузнецы и оружейники, незадачливый десятник и его товарищи оказываются в окружении множества не только разъярённых, но и хорошо вооружённых людей. Жители Дамаска требуют крови святотатцев. Назревает мятеж, который может оказаться чреват срывом всей кампании. И тут неожиданно голубь взлетает из рук нашего бойца ввысь. Он жив! Десятник разжимает пальцы, и птица, хлопая крыльями, благополучно улетает.
Народного гнева как не бывало. Тысяча сирийцев падают ниц и благодарят небеса.
От Дамаска до Омса девятьсот стадиев, что составляет шесть дней пути. Долгие, однообразные переходы порождают скуку, и солдаты становятся болтливыми, как женщины. По колоннам распространяются слухи, люди оживлённо обсуждают всякого рода чудеса и знамения. Естественно, что и происшествие на рынке оказывается в центре внимания. Как следует истолковывать данное чудо? Символизирует ли спасшийся голубь Дария и означает ли это, что он вновь сумеет освободиться от хватки Александра? Либо же это никакое не знамение, а просто чудо, совершенное кем-то из богов ради спасения нашего десятника?
Через два дня, одолев триста стадиев, мы прибываем в Амах, а следующий, пятидневный труднейший переход приводит нас в Алеппо. По пути мы получаем донесение от Гефестиона, который находится впереди, в Тапсаке. Выясняется, что Ариммас, назначенный мной наместником Месопотамской Сирии, не справился с задачей создания по маршруту движения зерновых складов, так что пополнять припасы войскам придётся за Евфратом. В первый момент меня подмывает подвергнуть нерадивого чиновника примерному наказанию в назидание другим, но Гефестион, предвидя подобный порыв, в своём послании просит меня оказать этому человеку снисхождение. По его словам, Ариммас прилагал все усилия, чтобы выполнить поручение, однако масштаб задачи оказался ему не по плечу. Недостаток способностей — это не вина человека, а его беда, винить же в случившемся мне следует скорее себя: ведь это я сделал наместником человека, непригодного для столь высокой и ответственной должности.
Доводы Гефестиона убедительны. Я ограничиваюсь тем, что смещаю Ариммаса и отправляю его домой.
По счастью, в долине Оронта, где мы разбиваем лагерь, прекрасные пастбища, а из Антиохии по моему приказу нам прислали караван из семнадцати сотен мулов. Нагрузившись припасами, мы снимаемся с лагеря. Теперь наш путь лежит на восток, во владения врага. В поведении и настроении людей ощущается перемена.
Я улавливаю это, когда еду рядом с Теламоном, сбоку от походной колонны.
— Чувствуешь? — спрашиваю я его.
— Ещё бы, — отвечает он. — Это страх.
Каждый стадий уводит нас вглубь материка, всё дальше от наших морских портов и всё ближе к сердцу вражеских владений. Солдаты невольно оглядываются через плечо на остающуюся позади них дорогу, размышляя о том, как далеко она их завела. Далеко от надёжных баз снабжения и безопасных опорных пунктов.
В Триполи, на побережье, ожидается прибытие подкрепления общей численностью в пятнадцать тысяч бойцов. Имеет ли это жизненно важное значение для успеха нашей кампании? Нет. Но то, что эти войска не присоединяются к нам ни в Дамаске, ни в Омсе, ни в Алеппо, не способствует укреплению боевого духа: многие склонны видеть в этом дурное предзнаменование.
Как в такой ситуации должен повести себя командующий? В воинских наставлениях не говорится о том, как справляться с иррациональным, бороться с неизвестным и обезоруживать беспочвенное.
Мы, как командиры, обсуждаем наши маршруты, нашу тактику и стратегию, но при этом нередко забываем о том, что солдаты делают то же самое. Они вовсе не глупы и не слепы. Они видят, как меняется местность, и имеют представление о том, куда их ведут. Все самые свежие донесения разведки живо обсуждаются в палатках и вокруг лагерных костров. Если у нас, военачальников, есть свои источники информации, то десятники и рядовые располагают своими. Им легче, чем нам, сойтись с местными жителями, они запанибрата с маркитантами, с ними, не стесняясь, распускают языки лагерные шлюхи. Стоит появиться какому-то слуху, и он тут же передаётся из уст в уста. Скаковая лошадь не сможет промчаться галопом вдоль колонны быстрее, чем по ней распространятся последние новости. В том числе и пугающие.
Ещё через два перехода колонна прибывает в Дура-На, на то самое место, где армия Дария восемнадцать месяцев тому назад стояла лагерем перед тем, как выступила к Иссу, навстречу битве и своему поражению. До сих пор огромная территория остаётся захламлённой и загаженной, а местные жители и по сей день разбирают на растопку остатки лагерного частокола и прочих деревянных укреплений. На великих военных трактах случается натыкаться на опустевшие лагеря исчезнувших армий, но я взял себе за правило никогда не останавливаться в таких местах на ночлег. Это дурное предзнаменование. Кроме того, в данном случае я не хочу лишний раз нервировать солдат напоминанием о том, сколь малы наши силы в сравнении с полчищами врага. (Нашей армии едва ли удастся заполнить пятую часть того пространства, которое занимало неприятельское воинство.)
Но наши солдаты всё равно видят это. Да и как иначе, они же не слепцы! Я чувствую, как меняется их походка.
— Сколько же тысяч проклятых персов было в этом лагере? — ворчат они на ходу. — И сколько их соберётся, когда мы столкнёмся с ними в следующий раз?
Я еду рысцой вдоль колонны.
— Братья, не дадите ли вы мне ещё пятьдесят стадиев, перед тем как мы разобьём лагерь?
Это говорится намеренно. Нам не сравниться с врагом числом, значит, следует показать людям какое-либо другое преимущество. Оставляя позади места былых вражеских бивуаков, они, по крайней мере, будут знать, что мы маршируем увереннее и быстрее, преодолевая в два перехода расстояние, на которое персам требуется три. Однако с разъедающим души страхом так просто не справиться. В ту ночь в лагере случается происшествие, связанное с оружием, подобного которому наши люди до сих пор не видели.
В любой армии есть ловкие ребята, способные откопать сокровище из любой навозной кучи. На сей раз двое десятников из нашей фаланги, парни, взявшие за привычку подбирать всё подряд, Кошель и Торба, ухитрились раздобыть персидскую серпоносную колесницу.
Похоже, какой-то местный мародёр прибрал колесницу к рукам полтора года назад, во время похода Дария. Кошель с Торбой как-то прознали про редкостную добычу, столковались с местными, и те за вознаграждение доставили невиданную штуковину в наш лагерь.
Колесница оказывается в центре внимания. Солдаты со всего лагеря сбегаются, чтобы рассмотреть диковину.
— Клянусь Зевсом, как тебе понравится, когда против тебя попрёт эта железяка...
— А серпы-то, серпы... Бриться можно.
— Ага, это точно. Вот накатит на тебя это страшилище да и сбреет ноги ниже колен.
Колесница и впрямь выглядит устрашающе: огромные, острые серповидные лезвия торчат в обе стороны от колёсных осей, ещё по паре закреплено на раме и на оглоблях. Мародёр утверждает, что у Дария, когда тот выступил против нас восемнадцать месяцев назад, имелись сотни таких «косилок», но он оставил их здесь, по эту сторону гор, решив, что гористый рельеф Киликии не позволяет использовать их должным образом. Вот почему мы не столкнулись с ними при Иссе. Наши товарищи собираются вокруг колесницы, прикидывая, какое опустошение способна произвести сотня таких колесниц, врезавшись на полном ходу в плотный строй наших войск. Десятник Кошель, озвучивая общее мнение, говорит:
— А почему бы и нам не обзавестись несколькими сотнями таких «косилок»?
Колесницей, сколь бы она ни впечатляла, дело не ограничивается. Местные жители приносят ещё одну персидскую диковину, не столь грозную с виду, но на деле не менее опасную. Это так называемая «птичья лапа»: четыре железных шипа, насаженных на одну ось таким образом, что, как бы ни была брошена «лапа», один шип непременно торчит вверх. Такими «лапами», предназначенными против кавалерии, Дарий намеревался засеять поле перед прошлой битвой и, несомненно, постарается сделать это перед будущей.
Выступив из Дура-На, мы в три дня преодолеваем четыреста пятьдесят стадиев и второго гекатомбиона, прибываем на берег Евфрата, в город Тапсак. Лето в разгаре. Над заречной равниной висит пелена дыма: передовые отряды персов, бешено проносясь вдоль реки, поджигают траву. Сам же Дарий, как выясняется, остаётся в Вавилоне, более чем в четырёх тысячах стадиев к югу. Он продолжает наращивать свои силы, и теперь совокупная численность его войск составляет миллион двести тысяч человек.
Но такое численное превосходство, по сути нелепое и неспособное к слаженным действиям, не может не вызывать страх в сердцах тех, кто должен противостоять этой чудовищной массе. Обходя лагерь пешком, я подхожу к нашему другу Дерюжной Торбе. Он сидит на корточках в пыли в окружении своих товарищей и чертит прутом схему.
— Ты тоже мастер своего дела, десятник?
Он рисует линию, обозначающую миллион воинов. Как широк фронт? Как глубок? Разве такое количество возможно?
— Царь, — спрашивают меня люди, — мы что, и вправду собираемся выступить против такого множества людей?
— Против куда большего, если посчитать не только солдат, но торговцев, слуг да поваров со шлюхами.
— Неужели ты не боишься?
— Боялся бы, будь я на месте Дария, в ожидании столкновения с нами.
Персы выслали на север, впереди своей армии, два конных отряда. Один, трёхтысячный, ведёт кузен Дария Сатропат, другой, из шести тысяч, возглавляет Мазей, наместник Вавилонии. Их задача состоит в том, чтобы опустошить местность, по которой нам предстоит наступать, и по возможности препятствовать всем нашим попыткам переправиться через реку. Я узнаю об этом от Гефестиона, который, как я и надеялся, уже вступил с Мазеем в переговоры.
Интересный он малый, этот Мазей. И очень себе на уме. Будучи чистокровным персом из знатного, близкого к престолу дома, он в течение тридцати лет управлял провинциями, сначала Киликией, а потом, как верховный сатрап, Киликией, Финикией и обеими Сириями. Назначение в Вавилонию Мазей получил не от Дария, а от его предшественника, Артаксеркса Оха, но за время пребывания в должности так врос корнями в полулегальную, купеческую и ростовщическую среду великого города, что его невозможно было убрать, не разрушив тем самым всё хозяйство провинции. Во всей державе Дария нет частного лица богаче Мазея. В его конюшнях стоят восемьсот жеребцов и шестнадцать тысяч кобыл. По слухам, он отец тысячи сыновей. В Вавилоне самым большим нерелигиозным праздником в году являются Мазеиды, когда хозяин угощает жарким десятки тысяч горожан и распределяет зерно в таких количествах, что множество семей живёт за счёт этого целый год. Мазей толст, разъезжает не на изящных кавалерийских скакунах, а на громоздких битюгах и ничего не имеет против того, чтобы над ним подшучивали. Говорят, будто каждый год, в день своего праздника, он выходит на сцену в женском наряде и поёт, причём выдаёт такие трели и рулады, что не знающие его люди и впрямь верят, что перед ними выступает женщина.
Отступив перед нашими силами, Мазей предоставил нам возможность захватить нескольких пленных, подтвердивших, что численность армии Дария состоит из одного миллиона двухсот тысяч. Гефестион наводит последние пролёты понтонных мостов, и за пять дней вся наша армия переправляется на противоположный берег. Здесь, на равнине, я даю войскам четыре дня отдыха и жду, когда подтянутся вечно отстающие тяжёлые обозы.
Теперь перед нами встаёт необходимость выбрать наилучший путь к Вавилону. Стоит ли нам идти на юг, вниз по течению Евфрата, или предпочтительнее совершить марш на восток, к Тигру, и повернуть на юг уже оттуда? Я созываю совет.
Основной темой разговоров является огромная численность неприятельской армии. Похоже, в армии только об этом и толкуют: даже мои полководцы и те встревожены. Из-за общей нервозности на поверхность всплывают старые, вроде бы позабытые раздоры. Срывая раздражение, старые боевые товарищи огрызаются друг на друга.
Как командовать в такой обстановке? Добиваться общего согласия? Я скажу: если ты командир, тебе следует выслушивать, взвешивать и оценивать все мнения, но решение должен принимать ты сам. Ты оказался на распутье? Выбери один путь и больше уже не оглядывайся. Нет ничего хуже нерешительности. Ты можешь ошибиться, но не вправе колебаться. Угодить всем ты всё равно не сможешь, и не пытайся. Люди вечно чем-нибудь недовольны. Поход всегда тянется слишком долго, дорога всегда слишком трудна. Но по-настоящему разлагают армию не испытания, а рутина. Поставь перед своими людьми такую задачу, которая покажется невыполнимой, а когда придёт время взглянуть в лицо опасности, сделай это первым. Спартанский военачальник Лисандр проводил отличие между отвагой и дерзостью. Отвагой, чтобы задумать удар, и дерзостью, даже толикой безумия, чтобы его осуществить.
Итак, решения должно принимать твёрдо. Но на какой основе? Чем при этом руководствоваться? Логикой. Мой наставник Аристотель мог классифицировать и систематизировать всё существующее в мире, но не мог найти дорогу на деревенскую площадь. Для принятия верного решения одного рассудка недостаточно: подсказку следует искать глубже. Фракийцы из Вифинии не считают принятое на совете решение верным до тех пор, пока не подтвердят его на пиру, напившись допьяна. Они знают то, чего не знаем мы. Лев никогда не принимает неверного решения. Руководит ли им разум? Философствует ли орёл?
Разум или логика — это два названия одного предрассудка.
Копай глубже, мой юный друг. Коснись даймона. Верю ли я в вещие знаки и предзнаменования? Я верю в Невидимое. Я верю в Неявленное, в То, Чему Быть. Великие полководцы не избирают для себя мерилом не Сущее, но Должное, не Свершившееся, но Возможное.
Глава 22 БЫСТРЫЙ, КАК СТРЕЛА
Мы направляемся к Тигру.
Это решение вполне можно оправдать весьма здравыми тактическими соображениями, но, по правде говоря, я принял его из-за приснившегося мне сна. Бог Страха является мне в обличье пантеры, зверя настолько чёрного, словно шкура его есть сама ночь. Я ищу его в непроглядной тьме, ибо во сне исполнен уверенности в том, что обязан настичь зверя и узнать от него нечто важное. Ни факела, ни какого-либо оружия у меня нет, ибо, упорно ища чёрную пантеру в чёрной ночи, я в то же время отчаянно боюсь наткнуться на хищника и быть растерзанным безжалостными клыками и когтями.
Я просыпаюсь дрожа, в холодном поту.
При моей ставке помимо нашего собственного прорицателя Аристандра состоят два египетских жреца. Я пересказываю свой сон им всем, каждому по отдельности. Оба египтянина заявляют, что под пантерой следует понимать Дария, и объясняют моё беспокойство вполне естественными причинами, тем, что в последнее время наши разведчики доставляют слишком мало сведений о противнике. Сон, таким образом, указывает на эту, вполне понятную, озабоченность.
Аристандр, не потрудившись дать какое-либо истолкование образу пантеры, первым делом интересуется, в каком направлении уходили следы зверя.
Мы направляемся на восток.
Этот зверь не Дарий. Этот зверь — Страх.
От Тапсака до Тигра почти три тысячи стадиев. Почему я избрал этот маршрут? Мои командиры в большинстве своём ожидали, что мы выступим прямо на юг, вдоль Евфрата. Тот путь явно легче, ибо армия могла бы двигаться прямо по Царскому тракту и добраться до Вавилона за месяц, самое большее за полтора. Именно этим путём следовал Кир Великий, когда воевал со своим братом, Артаксерксом Вторым. Плохо ли: река под боком, орошаемые поля позволяют собирать фураж, да и припасы можно не тащить по суше, а сплавлять на баржах вниз по течению. Преимущества этого пути очевидны, однако Дарий ждёт от меня именно такого решения. Он хочет, чтоб я последовал вдоль Евфрата: это явствует из того, что попытка помешать мне представляла собой одну видимость. Силы Мазея и Сатропата были слишком малы, и, даже поджигая равнину на нашем предполагаемом пути, их люди не сильно усердствовали.
Но если противник пытается выманить меня на дорогу вдоль Евфрата, не приходится сомневаться в том, что на Царском тракте для нас заготовлены ловушки. Нет сомнений, что его советники подготовили вдоль этого пути несколько мест, где можно дать бой, используя все преимущества великой персидской армии. При этом войска Дария сохраняют связь с Вавилоном, главным своим опорным пунктом, а река и дорога позволяют персам легко и в любом количестве перебрасывать припасы и подкрепления куда потребуется.
Я не могу избрать этот путь. Помимо всего прочего, Царский тракт пролегает через самую жаркую часть страны — полоса орошаемой земли вплотную прилегает к иссушенной палящим зноем пустыне. Местность близ тракта пересекается множеством оросительных каналов, каковые легко превратить в оборонительные рубежи. Противник может затопить поля, чтобы мы увязли в трясине, и, зная местность, беспрестанно устраивать засады и атаковать нас с флангов и тыла. Зерно уже убрано, осталось только жнивье. Урожай укрыт за стенами городов, и, чтобы добыть его, мы должны останавливаться и затевать осады. Вина на этом пути тоже не раздобудешь, нам придётся обходиться теми напитками, которые мы везём с собой. И ко всему этому следует добавить изнуряющую жару. Двигаясь тем путём, мы потеряем каждого пятого человека, не говоря уж о лошадях. Тех, кого не свалит жара, доконает вонючая речная вода.
Кроме того, из Македонии ко мне отправлено подкрепление в пятнадцать тысяч человек. Если мы пойдём прямо на юг вдоль Евфрата, они доберутся до места слишком поздно. Зато при выборе другого, более продолжительного маршрута у них появляется возможность нас нагнать.
Но главное, это всё же стратегия. Маршируя вдоль Евфрата, мы тем самым отнюдь не побуждаем противника к движению. Дарий сможет оставаться на месте, в Вавилоне, а его войска будут поджидать нас на полях, заранее подготовленных для того, чтобы по ним с громыханием пронеслись его смертоносные колесницы.
Итак, я направляюсь не на юг, а на восток. В сторону от Вавилона, к подножиям Армянской Тавриды. Кавалерия Гефестиона рассеивает разведчиков Мазея, сбивая их с нашего следа. Пусть Дарий потеряет мою армию. Пусть ломает голову над тем, куда мог подеваться Александр. Наша колонна следует по Высокой дороге, старому военному тракту. На высоте прохладнее, здесь даже зеленеет трава, которую на равнинах зной давно превратил в солому. Зерно последнего урожая собрано в амбары лишённых укреплений селений, так что мы захватываем его с лёгкостью. Да и пьём мы не илистую речную жижу, а чистую, сладкую воду из горных источников. Существует ли опасность того, что Дарий зайдёт нам в тыл? Да, подобный риск исключать нельзя. Однако для этого он должен отделить от своих основных сил корпус, достаточно многочисленный, чтобы противостоять всей нашей армии (ибо, возможно, я как раз и хочу заманить такой корпус на север, с целью его уничтожения), причём действовать этому корпусу придётся в тысячах стадиев от ставки и тыловой базы. Едва ли Дарий решится дробить свою армию и испытывать судьбу таким образом. Так пусть же он сидит в Вавилоне и нервничает, гадая, куда я направился. Пусть ломает голову над тем, откуда следует ждать моего появления. Пусть его чванливые полководцы досаждают ему своей тревогой. Пусть он устраивает нескончаемые военные советы, где нетерпеливые командиры будут подталкивать его к дерзким и энергичным действиям. На войне нет ничего труднее, чем твёрдо удерживать занятую позицию и ждать. Уверен, у Дария, особенно после поражения и бегства при Иссе, не хватит для этого терпения. Да и его воинственные всадники, представители знати и вожди племенных ополчений, не позволят ему стоять на месте. В конечном счёте Дарий оставит Вавилон. Он отправится на север, на поиски моей армии, а это именно то, что мне нужно. Ибо с каждым лишним стадием, отделяющим персидское войско от Вавилона, вероятность того, что дела его пойдут наперекосяк, будет неуклонно возрастать.
Мне между тем спешить некуда. Я попридержу свои фланги и тыл, не дам отставать обозам и предоставлю подкреплениям возможность догнать главные силы. Кавалерийские кони получат возможность пощипать свежей, зелёной травки, вьючные животные вдоволь напьются чистой воды из горных ручьёв. Мои фуражиры обдерут окрестности как липку, а мои войска будут заниматься боевой подготовкой. Если сражение не состоится до зимы, ну что ж, пусть так и будет. Всё это время мне нужно будет кормить всего пятьдесят тысяч человек, тогда как Дарию — более миллиона.
Таким в общих чертах мой план остаётся до тех пор, пока на двадцать первый день нашего марша примчавшиеся галопом разведчики не извещают меня о том, что Дарий покинул Вавилон. По донесениям всадников из наших передовых разъездов, он переправился через Тигр и теперь со всеми своими силами напористо движется на север так, чтобы река, получившая своё имя из-за стремительного течения («tigris» по-персидски означает «стрела»), пролегла между ним и нами как линия обороны. Когда поступает это донесение, мы находимся на расстоянии более тысячи двухсот стадиев от ближайшей переправы. Я немедленно отдаю приказ избавить марширующие колонны от любого груза, кроме оружия. Загляни в дневники похода, мой друг, и ты увидишь, какой темп мы смогли набрать. Двести семьдесят стадиев за переход, триста десять, триста, триста сорок... За четыре дня мы добираемся до брода и переправляемся на тот берег, пока Дарий находится в тысяче стадиев к югу. В истории войн ни одна армия не преодолевала такого большого расстояния за столь малое время.
Правда, следует признать, что этот форсированный марш выжал из нас все соки. Особенно трудной оказывается переправа через Тигр: глубина у брода по грудь взрослому мужчине, а вода несётся со скоростью скачущего галопом коня. Нам приходится растянуть через реку две линии кавалерии, одну выше, другую чуть ниже по течению, связать всадников друг с другом верёвками и пустить пехоту между этими двумя колоннами. Всадники, стоящие выше по течению, выполняют роль волнолома, слегка смягчая напор реки, в то время как нижние образуют живую стену, чтобы ловить людей и оружие, когда их сносит течением. На переправу всей армии уходит сорок восемь мучительных часов, и на том берегу солдаты оказываются измученными и вымотанными сверх всякой меры. А в таком состоянии люди более всего склонны поддаваться пугающим слухам.
Между тем вражеская кавалерия поджигает степь на нашем пути. Землю на многие стадии вперёд устилает пепел, дымные облака скрывают солнце. По ночам горизонт озаряют бесчисленные огни.
Нечто подобное я видел во сне.
Воины начинают видеть знаки и знамения в самых обыденных явлениях. Ворон, кружащий в небе, змея, извивающаяся в пыли, — всё это создаёт плодотворную почву для самых невероятных догадок и предположений. Стоит какому-нибудь малому вскрикнуть во сне, и весь лагерь оказывается в состоянии, близком к истерике, ну а уж рождение у козы трёхрогого козлёнка доморощенные лагерные пророки объявляют верным предзнаменованием скорой и ужасной гибели.
Разведчики в поисках воды находят пруд, жидкость в котором под воздействием солнца воспламеняется. Все в панике, как будто никто не слышал о нефти, чёрном, горючем соке земли. Жрецы и прорицатели, состоящие при армии, целыми днями только и делают, что пытаются развеять предубеждения и дать происходящему правильное истолкование.
Армия заражена страхом. Иррациональным, необъяснимым, неистребимым. Я удваиваю число передовых патрулей и утраиваю их награды. Через некоторое время нас нагоняет обоз, оставленный нами позади, чтобы увеличить скорость движения. Он находится по ту сторону реки, но наш молодой механик Ангел, хоть и не без труда, наводит понтонную переправу через Тигр, и мы спешно переправляем тяжёлый груз на наш берег.
Где же противник?
Наконец начинают появляться первые дезертиры из его лагеря. Разведчики приводят их связанными и с повязками на глазах — недовольных наёмников на краденых лошадях, маркитантов, которых надули при расчёте за товары, женщин, претерпевших насилие. Порядок предписывает держать этих беглецов особняком, чтобы дикие слухи не захлестнули лагерь. Самые нелепые россказни распространяются как пожар. Войско противника составляет уже не миллион бойцов. У него два миллиона. Три.
Один беглец утверждает, что пересёк равнину близ Описа после того, как по ней прошла кавалерия Дария, и божится, что земля пропахла конским навозом на четыреста стадиев. Житель Багдада заявляет, что с его провинции затребовали тысячу волов, которых воины Дария сожрали в один присест, причём предназначалось это мясо только для командиров.
На марше наша пехота разбивается на группы из восьми человек, которые связывают вместе свои сариссы. Эти связки по очереди несут по двое дежурные, которых называют «носильщиками». Обычно «носильщики» смеются или чертыхаются, но сейчас все идут молча, без шуток и даже без ворчания. В некоторых подразделениях даже не назначают «носильщиков»: каждый, угрюмо уставясь в землю, волочит ноги, держа на плече длиннющую пику. В такие моменты ситуация угрожает выйти из-под контроля, и в то же время появляется искушение перестать думать и положиться на судьбу. Подобным настроениям надлежит противиться во что бы то ни стало.
Я терпеть не могу проводить инспекции. Но сейчас общая проверка необходима, чтобы успокоить людей и убедить их, что армия не испытывает нехватки ни в чём, даже в таких мелочах, как точильные камни, древки копий или ремни.
Во время обхода я разворачиваю десятника, несущего свой шлем в руках.
— Положи его в торбу, болван!
Меня заботит всё: уксус для очистки воды, сало, чтобы смазывать ступни. Клянусь Зевсом, если я услышу о том, что солдат не может идти из-за того, что стёр ноги, я заставлю его ползти, подтягиваясь на руках.
Теперь я провожу совещания с высшими командирами по три раза в день, а спать ложусь два раза в сутки: на два часа днём и на час ночью. Буцефал стоит наготове возле моего шатра, а мой конюх Эвагор держит всё моё боевое снаряжение под рукой. В сложившихся обстоятельствах основная моя роль сводится к тому, чтобы внушать солдатам уверенность. Стоит мне появиться, и люди не сводят с меня глаз. Я изгоняю страх, и благодаря моим усилиям страх отступает. Две ночи подряд после проведения всесторонней проверки я разъезжаю вдоль строя, оставаясь на виду у людей. Кажется, мне удаётся поднять их дух, но тут, как назло, тьма сгущается и луна исчезает с неба. Затмение.
— Только этого нам и не хватало! — бушует Кратер, видя, как ветераны двадцати кампаний жмутся в кучки, уставившись на небо и суеверно бормоча какие-то вздорные заклятия. Следует ли нам, уподобляясь школьным наставникам, распинаться перед солдатами, разъясняя им особенности астрономических корреляций луны и солнца?
— Приведите этих египетских дармоедов! — орёт Кратер, имея в виду жрецов-прорицателей. — Клянусь гривой Аида, им лучше состряпать для всего этого какое-нибудь подходящее объяснение!
Египтяне понимают, насколько серьёзно он настроен, и действительно что-то придумывают. Что именно, я уже не помню. Какую-то бредятину насчёт того, что персы — это луна, а мы — солнце. Объяснение так себе, но страх оно приглушает. На время.
— Лучше бы им не застаиваться, в движении в голову лезет меньше глупостей, — указывает Теламон.
Я с ним согласен. Движение ускоряется.
Пот, скорость, действие — вот наилучшие противоядия против страха.
Но на сей раз они не срабатывают. В шестистах стадиях к югу, на скрещении торговых путей у местечка, именуемого Арбелы, разведчики обнаружили базовый лагерь персов. Как доносят патрули, армия Дария уже покинула его и ушла на двести стадиев дальше, за реку, именуемую Лик — Волчья река. Там простирается обширная равнина, известная под названием Гавгамелы. Персы подготавливают почву. У них две сотни серпоносных колесниц и пятнадцать индийских боевых слонов.
Разведчиков, прибывших с этими донесениями, я помещаю под домашний арест с приказом не выпускать даже помочиться: делается всё, чтобы предотвратить распространение способных породить панику слухов. Однако, несмотря на все меры, они всё равно просачиваются.
Армия напугана затмением и вымотана этой вонючей пустыней. Впечатление такое, будто мы пересекаем гигантскую раскалённую жаровню. Нет ничего живого. Люди начинают задумываться о том, уж не забрели ли мы в ад. Над Гавгамелами высится холм, именуемый Телл-Гомел, или «Верблюжий горб». Наши войска размышляют над этим названием, пытаясь истолковать его значение. Несёт ли оно нам удачу? Предвещает ли погибель?
Я спрашиваю Теламона, чего, по его мнению, боятся люди.
— Ты сам знаешь, — говорит он.
Но я не знаю.
— Успеха.
Как это может быть?
— С ним сопряжено неизведанное, — продолжает мой ментор. — Ибо, достигнув этой победы, наши силы окажутся там, где не бывала ни одна армия во всей истории. Люди страшатся этого, страшатся неведомого. А тебя, Александр, провозгласят...
Чёрный Клит подъезжает и останавливается рядом, с ухмылкой глядя на невозмутимого Теламона.
— О каких диких фантазиях, — осведомляется он, — ведёт речи наш философ сегодня?
Я улыбаюсь:
— Он предсказывает победу.
— Для этого нет нужды быть философом! — смеётся Клит и уносится прочь.
Колонна продолжает путь. Небо впереди и позади нас затянуто чёрным дымом устроенных противником пожаров. Воздух полон запахом гари, повсюду зола и сажа. Горы к востоку скрылись во мраке. И из-за этой сумрачной завесы доносятся пугающие звуки. Мы слышим перестук призрачных копыт, слышим странные, нечеловеческие голоса. Здесь даже сама почва коварна и непредсказуема. Топнув посильнее, ты пробиваешь спёкшуюся корку, и наружу бьёт фонтан едкого соляного раствора. Подобные струи попадают в лицо: губы у людей трескаются, щёки покрывает белёсый соляной налёт. Из-под конских копыт взметается тяжёлая сероватая пыль, которая поднимается до пояса человека. Колонна тащится сквозь это пыльное облако. И наконец, на второй день пополудни случается то, чего страшатся все командиры.
Паника.
С колонной происходит что-то странное. Что именно, никто не знает. По одному, по двое солдаты отделяются от своих товарищей и обнажают оружие. Ещё несколько мгновений, и они в ужасе и остервенении набросятся друг на друга.
— Колонна, стой!
Прежде чем армия останавливается, проходит вечность. Но она останавливается.
— Оружие на землю! — звучит следующий приказ. И снова время едва движется: приказ должен пройти по всему растянувшемуся на стадии походному строю. Наконец последний солдат кладёт оружие на землю у своих ног.
Армия приходит в себя.
В ту ночь мы разбиваем лагерь на безликой равнине. С наступлением сумерек с гор спускается туман, а поскольку в воздухе и без того висит пепел, видимость никудышная. Зрение подводит людей, играя с ними дурные шутки. В результате во время второй стражи возникает новая паника. Огни в небе ошибочно принимают за костры врага. Они выглядят настоящими — их тысячи и тысячи. Признаюсь, даже я не сразу разобрался, в чём дело. Чтобы успокоить лагерь, понадобился не один час.
Боги посылают ветер, на двадцать минут небо расчищается, но радоваться рано: следом за этим начинается пыльная буря. В лагере воцаряется хаос. Весь следующий день мы бредём под сильнейшим ветром, укутавшись по глаза, в то время как песок, подобно пемзе, обдирает каждую поверхность и оседает в каждой выемке. Именно тогда я в первый раз слышу от моих солдат сетования, которые преследуют меня по сей день:
— Мы зашли слишком далеко, проделали слишком длинный путь, одержали слишком много побед, и теперь небеса отвернулись от нас. Нам страшно, и мы хотим вернуться домой.
Следующая ночь. Пыльная буря утихает так же неожиданно, как и началась. Разведчики докладывают о настоящих персидских кострах. До них один день пути. Я переформирую колонну из маршевой в готовую к атаке. Теперь ширина нашего фронта составляет пять стадиев. Кавалерийские разъезды рыщут по всем направлениям.
Полдень четвёртого дня. Равнина Гавгамелы находится в нескольких стадиях впереди, за грядой пологих холмов. Суждено ли ей стать тем самым местом, которое определит нашу судьбу?
Я еду вперёд с Чёрным Клитом и царскими «друзьями», аполлонийцами Главка (он заменил Сократа Рыжебородого, оставшегося в Дамаске на лечение) и отрядом пеонийских разведчиков под началом Аристона.
Персидские конные патрули при нашем приближении отступают. По правую руку от нас виден протекающий за пыльной равниной Тигр. Здесь он шире. Газели, испуганные нашим приближением, мчатся прочь, скрываясь в овраге.
Мы поднимаемся на гряду холмов. Достигнув гребня, трое наших солдат подают сигнал «Враг» и указывают копьями на юго-восток.
Мы взбираемся на вершину и действительно видим неприятеля.
— Клянусь алебастровыми яйцами Геракла! — восклицает Клит.
Персидский фронт простирается на тридцать пять стадиев. Его глубина вдвое больше. Один лишь обоз тянется, насколько может объять взгляд. Он выглядит как город. Нет, десять городов. Отряды вражеских разведчиков галопом скачут к центру лагеря, наверняка туда, где находится командный пункт Дария, чтобы доложить о нашем приближении. Различные отряды противника маневрируют перед основной массой войск, готовясь к скорому сражению.
Равнина разглажена, как беговая дорожка, размеченная разнообразными геометрическими азимутами.
— Смотри, — говорит Гефестион, — это проходы, которые механики Дария расчистили для его серпоносных колесниц. Видишь их? Три. Один, судя по ширине, рассчитан на пятьдесят повозок; второй — на сто; третий, левый, тоже на пятьдесят.
Противник воздвиг даже передвижные башни, с которых, как только мы перейдём в наступление, нас будут обстреливать из луков и мечущих копья катапульт.
— Эти ублюдки выпотрошили всю свою кладовку, — замечает, присвистнув, Чёрный Клит.
Я веду армию сквозь гряду холмов, которую местные жители прозвали «Агоиск» — «Полумесяц». Мы располагаемся в боевом порядке.
В первый раз наши солдаты видят врага. Масштаб азиатского воинства ошеломляет. Оно слишком огромно, чтобы возбуждать обычный страх. Реакция может быть только одна: трепет. Мы во все глаза таращимся на персидские полчища, и даже я не в состоянии до конца поверить тому, что открылось моему взору.
Глава 23 МАТЕРИАЛ СЕРДЦА
Ты спрашиваешь: сколько времени потребовалось, чтобы разработать план сражения при Гавгамелах?
Я спланировал эту битву в семь лет. Тысячу раз разыгрывалась она перед моим мысленным взором. В своих снах я видел эту равнину, представлял себе боевые порядки Дария. В своём воображении я вёл эту битву всю мою жизнь. Оставалось только воплотить её наяву.
Один день уходит у нас на то, чтобы укрепить лагерь и подтянуть тяжёлый обоз. Дарий стоит на месте. Когда я с тремя конными отрядами объезжаю поле, производя разведку местности, он мне не мешает.
Наступает ночь. Я созываю военный совет. И на сей раз сам беру слово.
— Друзья мои, мы наконец увидели диспозицию противника. Это хорошо. На сегодняшний день у нас есть уверенность по трём вопросам, по которым вчера её ещё не было. Давайте рассмотрим их подробнее.
Ничто так не успокаивает людей, которым предстоит столкнуться с колоссальной угрозой или преодолеть грандиозные препятствия, как простое перечисление фактов. Чем больше страха внушает действительность, тем более прямо и обыденно надлежит её рассматривать.
— Первое: Персидский фронт почти целиком состоит из кавалерии. Мы все видим широкие дороги, подготовленные противником для своих серпоносных колесниц. Скорее всего, Дарий планирует бросить их навстречу нашему наступающему войску. Этим ситуация отличается от имевшей место в сражениях при Иссе и Гранине, где противник ограничивался обороной. Итак, первое: неприятель не станет спокойно дожидаться нашей атаки. Он намеревается атаковать сам.
На совете присутствуют сто семнадцать человек, все до единого командиры отдельных подразделений. Ночи в пустыне, даже в летнюю пору, стоят холодные, однако я приказываю поднять пологи шатра. Солдаты должны видеть, что их военачальники заняты делом. В считанные минуты тысячи воинов замыкают наш шатёр в кольцо, настолько плотное, что ощущается терпкий запах их пота и пар от их дыхания.
— Второе: ширина неприятельского фронта такова, что он с избытком перекрывает нашу атакующую линию с обоих флангов. Это говорит о том, в какой манере будет атаковать Дарий. Он попытается произвести двойное окружение. Его кавалерия постарается обойти нас с обоих флангов, в то время как с фронта на нас обрушатся сперва серпоносные колесницы, а за ними следом обычная конница. Мы должны иметь это в виду и заранее подготовить ответ. Третье, и самое существенное, о чём надлежит подумать, — это настрой наших войск. Кавалерия противника, по всем прикидкам, составляет самое меньшее тридцать пять тысяч всадников. Наша — семь тысяч. О том, какова численность персидской и союзной пехоты, мы можем только гадать. Наши подкрепления ещё не подошли. Солдаты боятся. Даже «друзья» не демонстрируют своего обычного рвения.
— Это всё, Александр? — спрашивает Пердикка.
Шатёр взрывается смехом. Но это тревожный смех.
— О нет, — говорю я, — мы забыли упомянуть о боевых слонах Дария.
Смех замирает.
— Вот и всё, друзья мои, о чём мне хотелось поговорить на этом совете. Может быть, я что-то упустил? Может быть, кто-то хочет что-то добавить?
Мы начинаем.
Материал, которым оперирует полководец, это человеческое сердце. Его искусство состоит в том, чтобы пробудить отвагу в своих солдатах и навести ужас на врага.
Военачальник пробуждает отвагу с помощью дисциплины, боевого обучения, физической подготовки, справедливости, поддержания порядка, щедрого жалованья, мудрой тактики, хорошего оружия, снаряжения, снабжения, продуманной диспозиции на поле и, несомненно, гения собственного присутствия.
Выверенная диспозиция способствует пробуждению отваги, тогда как ошибочное боевое построение может обратить в трусов даже храбрецов.
Вот основное наступательное построение:
Иначе говоря, клин. Или, если угодно, ромб:
Клинья и ромбы — это построения, наиболее подходящие для завязывания боя. Его элементы обеспечивают взаимную поддержку; крылья поддерживают остриё, тыл подпирает крылья. Солдаты в клиньях и ромбах всегда на виду у своих товарищей. Они не имеют возможности укрыться, а струсить на глазах у всех означает покрыть себя несмываемым позором. Но самое разумное использование клиньев состоит в том, чтобы распределить их вдоль всей линии атаки. Именно это я и рекомендую своим командирам на совете сейчас, накануне битвы.
Почему войска при такой расстановке, как правило, сражаются доблестно? Я напоминаю об этом своим командирам, хотя они уже проверили данную тактику в действии — на двух континентах и на сотне полей сражений.
— Солдаты на острие атаки храбро идут вперёд, ибо знают, что их всегда поддержат товарищи, стоящие на крыльях. Они уверены в том, что обойти их с флангов и тем более окружить невозможно. Кроме того, хотя они знают, что нанести удар первыми предстоит именно им, их товарищи следуют за ними и скоро тоже ринутся в схватку. Им известно, что, если прорыв не удастся и отпор окажется слишком силён, они всегда смогут отойти и будут поддержаны всей мощью фронта. Что же до отрядов второго ряда, то по мере приближения к противнику их страх умеряется, ибо они видят, как передовые шеренги принимают на себя главный удар, тогда как сами они на данном этапе остаются вне опасности. Но самое главное, друзья мои, в том, что отвага товарищей воспламеняет их сердца. Дело в том, что солдат не является таковым в полной мере до тех пор, пока, видя, как его товарищи устремляются на врага, не исполняется решимости последовать их примеру. «Клянусь адским пламенем, я докажу, что не менее достоин!» — восклицает он. Если солдат и испытывает робость, она подавляется чувством стыда: он не может допустить, чтобы по его вине его отряд выглядел бледно по сравнению с соседними. Таким образом, преобладающими чувствами, которые движут воином в бою, становятся дух соперничества, гордость и честь. Для меня, братья, это незыблемый постулат веры. Я верю в то, что солдата, становящегося свидетелем самоотверженности товарища, его собственная благородная натура побуждает к подражанию той же высокой добродетели. Добиться такого результата невозможно ни речами и уговорами, ни посулами и наградами, для этого нужен живой пример беззаветной отваги. Вот почему, командиры, вам предписывается идти в бой впереди своих подчинённых. Вы должны служить для своих солдат образцом мужества, увлекая за собой их сердца. А доблесть идущих за вами, в свою очередь, воспламенит отвагу в рядах наших соотечественников, следующих сзади. Но я, друзья мои, верю и в большее. Верю в то, что лицезрение неустрашимости пробуждает сами небеса. Даже боги не могут оставаться равнодушными к истинной храбрости, каковая, находя отклик в их собственной, возвышенной и благородной природе, побуждает их вмешаться, дабы даровать героям то, чего они заслуживают.
Я особо указываю командирам фланговых отрядов:
— Завтра на этой равнине мы встретимся с неприятельским фронтом, который на каждом крыле окажется на пять стадиев шире нашего. Не подлежит сомнению, что, как только мы пойдём в наступление, Дарий станет бросать на нас многочисленную конницу, одно соединение за другим. Как в такой ситуации распорядиться имеющимися отрядами, с тем чтобы повысить боевой дух наших соотечественников? Во-первых, мы будем обороняться, атакуя. Командиры фланговых отрядов, как только вы начнёте наступление, идите в атаку. Не дожидайтесь удара, опередите врага и нанесите его первыми. То, что я говорю вам, не дерзость или безумие, но основополагающий тактический принцип, зиждущийся на опыте. Когда воины ожидают нападения врага, их охватывает страх, а зная, что будут атаковать сами, они ощущают силу. Во-вторых, все должны строго придерживаться диспозиции.
Я выстрою шесть отрядов обоих фланговых охранений модифицированными ромбами и сам займу место на правом крыле, среди царских копейщиков и конных «друзей» (фаланга с сариссами и основная часть войск составят растянувшийся на пятнадцать стадиев центр), тогда как Парменион, командующий левым крылом, займёт симметричную позицию в соответствующем ромбе на том фланге. Вот фланговое прикрытие, которому отведено место справа от меня:
Наёмная кавалерия (Менид) — 700
Царские копейщики (Арет) — 800
Пеонийская легкая конница (Аристон) — 250
Половина агриан — метателей дротиков (Аттал) — 500
Македонские лучники (Брисон) — 500
Пехота «наемников-ветеранов» (Клеандр) — 6700
Ромб есть не что иное, как четыре клина — северный, южный, восточный, западный. А что представляет собой клин? Это одна боевая единица впереди и две на крыльях. Очевидно, что ромб способен отражать удары с любого направления, просто встречая его остриём одного из своих клиньев. Эта диспозиция срабатывает прежде всего благодаря иррациональному, стихийному воспламенению человеческих сердец. Бойцы на острие клина устремятся на врага с беззаветной отвагой, ибо будут уверены, что не останутся без поддержки товарищей на крыльях, которых, в свою очередь, будет вдохновлять и воодушевлять пример их мужественных друзей, вступивших в бой первыми.
— И наконец, братья командиры, важнейшим фактором должно послужить наше с вами поведение, моё и ваше. Когда завтра вы захотите увидеть моё знамя, ваши взоры должны быть обращены только вперёд, ибо я намерен лично возглавить наступление. Точно так же и каждый из вас должен будет находиться впереди своего отряда.
Я заканчиваю, ибо, выступая, настолько преисполнился страсти, что боюсь, как бы моё сердце не выскочило из груди. Я смотрю на Пармениона, стоящего у моего плеча, на Гефестиона и Кратера, Пердикку, Коэна, Птолемея, Селевка, Полиперкона, Мелеагра, Чёрного Клита, Никанора и Филота, на Теламона, Эригия и Лисимаха. А также обвожу взглядом солдат, тысячи солдат, со всех сторон обступивших шатёр.
Где пребывает в этот час мой даймон? Мы с ним одно целое. Он — это я, а я — это он.
— Многие из вас удивлялись тому, что я сплю со списком гомеровской «Илиады» под подушкой. А удивляться нечего: я поступаю так, ибо считаю героев этой поэмы образцом для подражания. Для меня они не персонажи предания, но реальные, живые люди. Ахилл вовсе не далёкий предок, погибший девятьсот лет тому назад: ныне, в этот самый миг, он живёт и дышит в моём сердце. Сей образец высокой добродетели не только всегда пребывает со мною наяву, но не оставляет меня даже во снах. Зададимся вопросом: зачем мы затеваем войну? Ради пролития крови? Ради захвата земель и овладения сокровищами? Нет, нет и нет! Война нужна лишь затем, чтобы следовать стезей чести, затем, чтобы наши сердца прониклись добродетелями благородного противоборства! Благородное состязание с противником очищает нас, как очищается от примесей золото в тигле. Всё, что есть в нашей натуре низкого — алчность и жадность, робость и нерешительность, нетерпеливость, скаредность, себялюбие, — выплавляется и отбрасывается. Неоднократно испытывая себя близостью смерти, мы выжигаем шлаки до тех пор, пока очищенный металл наших сердец не обретает истинное, безупречное звучание. Более того, испытания не только облагораживают каждого из нас по отдельности, но и связывают друг с другом узами, столь близкими, каких не дано познать супругам. Когда я называю вас братьями, это не риторический приём, ибо мы с вами воистину стали братьями, братьями по оружию, и разорвать узы этого братства не под силу самому аду.
Я снова умолкаю, обводя взглядом лица соратников. Смерть для меня ничто по сравнению с той любовью, которую я испытываю к своим отважным товарищам.
— Ощущаю ли я страх, друзья мои? Да как такое возможно, если всё, чего я когда-либо хотел, это стоять рядом с вами в боевом строю и вместе с вами стремиться к славе! Сегодня ночью я буду спать благословенным сном младенца, ибо в этот час у меня есть всё, о чём я мог только мечтать: достойный противник и достойные товарищи, с которыми я его встречу.
Мою речь прерывают одобрительные восклицания. Солдаты, стоящие в передних рядах, пересказывают мои слова своим товарищам, которые находятся дальше. Выждав, когда гомон стихнет, я жестом указываю на склон от Полумесяца, в сторону долины Гавгамелы.
— Братья, славы, подобной той, какую добудем мы завтра на этом поле, не добивалась доселе ни одна армия, не обретал ни один человек. Ни Ахилл, ни Геракл, никто из героев, эллинов или варваров, ни в прошлом, ни в настоящем. Минуют столетия, а люди будут с восхищением повторять наши имена. Верите ли вы мне? Пойдёте ли вы со мной в наступление? Поскачете ли вы со мной рядом за непреходящей славой?
Шатёр, а затем и всё поле взрываются громоподобным рёвом, заставляющим содрогнуться равнину. Я бросаю взгляд на Гефестиона. Выражение его лица говорит о том, что, слыша рьяные возгласы наших бойцов, Дарий и всё его несметное воинство не могут не проникнуться ужасом.
Я представляю собой живую душу этой армии. Подобно тому, как кровь течёт от сердца льва к его когтистым лапам, так и моя храбрость перетекает от меня к моим соотечественникам.
Враг выставил против нас миллион вооружённых бойцов. Я разобью их наголову силой одной лишь своей воли.
Глава 24 «ВЕРБЛЮЖИЙ ГОРБ»
Когда мы спускаемся с гряды холмов под названием Полумесяц, я еду на Короне. Буцефала ведёт под уздцы мой конюх Эвагор. Попона, налобник и лёгкое боевое седло Буцефала уже на месте, но остальную его броню Эвагор несёт на спине. Моему коню уже семнадцать лет. Я сяду на него только для финального наступления.
Наплечники моего составного доспеха остаются непристёгнутыми и хлопают в такт конскому шагу. Я не стану их закреплять, пока мы не выйдем на линию атаки. Вся армия смотрит на меня, и людям становится легче, когда они видят: их царь настолько уверен в себе, что даже не позаботился о доспехах.
Путь вниз по склону, на равнину, составляет десять стадиев. Мы спускаемся в боевом порядке. Наш фронт составляет пятьдесят четыре сотни локтей. Фронт неприятеля (мы измеряем его после битвы) перекрывает наш более чем на десять стадиев.
Конец лета, двадцать шестое боедромиона в год архонтства Аристофана в Афинах. По захваченным документам мы восстанавливаем диспозицию персидской армии на тот день.
На левом крыле неприятеля, впереди его основного строя, россыпь дикой скифской кавалерии. Две тысячи саков и массагетов, вооружённых копьями, скифскими луками и шипастыми палицами, именуемыми «tumak», соседствуют с тысячей конников из Бактрии, закованных в панцири и сражающихся метательными копьями; им придана сотня серпоносных колесниц под командованием сына Дария Мегадата. Эти войска расположены перед фронтом. Позади них выстроилась двойная линия конных и пеших отрядов: тысяча индийских царских кшатриев, пеших лучников из западных областей Инда; четыре тысячи конных лучников из Арии под началом их сатрапа Сатибарзана; одна тысяча царской арахозианской кавалерии под командованием родственника Дария Барзаента. Слева от них шестнадцать тысяч бактрийской и даанской кавалерии под командованием двоюродного брата Дария Бесса, который единолично возглавляет левое крыло, затем две тысячи конных лучников из Индии; пятитысячный отряд смешанной с пехотой персидской царской конницы, возглавляемой отважно сражавшимся при Иссе Тиграном, тысяча кавалеристов из Суз и две тысячи кадусианской кавалерии и пехоты. Далее располагаются царские телохранители; десять тысяч греческих наёмников под командованием фокийского командира Патрона; одна тысяча конных царских «родственников» под командованием брата Дария Оксатра и пять тысяч «носителей яблока», отборных пехотинцев, называющихся так потому, что древки их копий с заднего конца украшают золочёные шары. Перед ними стоят пятьдесят серпоносных колесниц и пятнадцать индийских боевых слонов со своими погонщиками «махаутами». На спинах огромных животных закреплены башенки для стрелков. Здесь же шесть тысяч царских всадников из Индии, чьи кони обучены сражаться рядом с боевыми слонами. Для поддержки им придана тысяча тяжеловооружённых пехотинцев из Карии и пять сотен мардианских лучников. Позади находится сам Дарий, прикрытый справа ещё одной тысячей конных персов из отряда чести, ещё пятью тысячами «носителей яблока» и пятью же тысячами наёмных греческих пехотинцев под командованием сына Ментора Тимонда. Это центр линии. Справа от него, простираясь ещё на пятнадцать стадиев, стоят другие отряды карийской пехоты и кавалерии; индийской царской конницы; греческих наёмников; албанцы; ситтакенцы, представляющие собой смесь пехоты и кавалерии; конные тапурийцы и гирканцы с Каспия; верховые скифские лучники под командованием Маукеса; парфянская и арахозианская кавалерия Фратаферна; царская мидийская конница Атропата; а также сирийская и месопотамская кавалерия Мазея. Именно Мазей возглавляет правое крыло неприятеля. Перед этим крылом размещены ещё пятьдесят серпоносных колесниц; отменная каппадокийская кавалерия Ариака и армянская кавалерия, ведомая Оронтом и Митраустом.
В тылу, позади основной линии, собраны в великом множестве ополченцы из провинций, возглавляемые своими наместниками или сатрапами. Оксатр привёл уксиев, Бупар — вавилонян, Оронтобат — новобранцев с Красного моря, Орксин — ситтакенцев. Их столько, что перечислить всех не представляется возможным.
Спустившись на равнину, мы сразу замечаем три широкие ровные дороги, проложенные инженерами Дария для его серпоносных колесниц. Границы пути отмечены кольями с флажками, трепещущими на уровне глаз всадника, чтобы колесничие могли видеть их поверх поднятой колёсами пыли и не сбились с ровного пути.
Вступив на равнину, мы видим, что поле справа от нас на пару тысяч локтей усеяно железными « вороньими лапами». Дарий хочет вынудить нас наступать по тем направлениям, на которых нас встретят его колесницы. От персидского фронта нас отделяют сорок две сотни локтей — пятнадцать стадиев. Его передовые разъезды, всадники на конях, стоимость которых равна солдатскому жалованью за всю жизнь, гарцуют перед нашим строем на расстоянии выстрела из лука. Наши конные копейщики порываются напасть на них, но я приказываю им оставаться на месте.
Между рядами снуют слуги с бурдюками вина. Мы останавливаемся, чтобы привести всё в порядок, проверить обувь, крепления амуниции и доспехов. Перед боем не вредно отлить: это делается прямо в строю.
Командиры соединений — Парменион, Гефестион, Кратер, Никанор, Пердикка, Птолемей, Селевк, Филот, Чёрный Клит и две дюжины других — собираются под моими значками. Всё, что сейчас произойдёт, отработано нами сотни раз.
Наступление начинается по всему фронту. По моему приказу образуется косой строй. До момента атаки идущим в шеренгах предписывается молчание: отдаваемые приказы должны приниматься, передаваться по линии и исполняться незамедлительно.
Командиры разъезжаются к своим отрядам. Я подаю знак Эвагору, и тот подводит Буцефала. Юноша из свиты принимает уздечку.
Из пятидесяти тысяч глоток вырываются приветственные крики.
Я перескакиваю со спины Короны на Буцефала. Беру копьё. Надеваю шлем. Крики множатся, люди стучат древками копий о щиты. Лёгким галопом я направляюсь вперёд. По обе стороны от меня царские телохранители, рядом едут Гефестион, Чёрный Клит и Теламон.
По равнине проносится пыль. Шквалистый южный ветер вздымает песок, полощет знамёна и треплет перья на моём шлеме. Я срываю их и пускаю по ветру.
— Зевс, наш Хранитель, указующий нам путь!
Час настал!
Глава 25 РОМБЫ НА КРЫМЕ
На расстоянии двадцати двух сотен локтей мы видим установленные персами вехи, обозначающие пути, проложенные для серпоносных колесниц. Это тростниковые шесты высотой в пять локтей, с развевающимися наверху алыми флажками. Наши передовые всадники валят и топчут их под радостный гогот войска.
Мы движемся по тем самым участкам поля, которые были тщательно подготовлены для нашего истребления. Почва здесь гладко выровнена, для «косилок» Дария проложено три пути. Два из них имеют ширину в тысячу локтей, один — в две тысячи. Мы всё ещё находимся слишком далеко, чтобы разглядеть сами колесницы. Нам кажется, будто мы видим, как солнце отсвечивает от их серпов, но, возможно, это всего лишь игра воображения.
Гефестион едет от меня по левую руку, под его началом находится agema (отряд) царских телохранителей. Если я паду, он возьмёт на себя командование правым крылом. Чёрный Клит движется справа от меня; он командует царским подразделением «друзей». Теламон едет слева от Гефестиона, с Птолемеем и Певкестой; Любовный Локон держится плечом к плечу с К литом. Эти люди находятся возле меня по двум причинам: с одной стороны, все они непревзойдённые бойцы, а с другой — отменные командиры. Любого из них, возникни такая необходимость, я могу послать на любой участок поля, и он скорее умрёт, нежели позволит себе не оправдать моё доверие.
Инженеры Дария обозначили границы поля россыпями железных «вороньих лап», чтобы атака нашей конницы могла осуществляться лишь в зоне действия их губительных колесниц. Но противник не мог усыпать железными шипами всё пространство между нашим и своим фронтом: ему пришлось оставить сотни локтей чистой земли, чтобы обеспечить возможность манёвра собственной коннице. Мой план состоит в том, чтобы наступать в границах этого коридора только до тех пор, пока наши передние ряды не достигнут открытого пространства. Потом наш фронт резко повернёт направо, дабы как можно скорее выйти из смертельно опасной зоны.
Кроме того, ещё до сражения я объявил по всему лагерю, что сопровождающие армию гражданские лица, вне зависимости от рода их занятий, могут, если пожелают, на свой страх и риск пробежаться перед наступлением по полю, собрать кто сколько сможет «вороньих лап» и оставить эту добычу себе. Хорошее железо стоит дорого, и теперь марширующие в шеренгах солдаты видят поразительную картину: сотни ребятишек — по большей части отпрысков торговцев, возчиков и погонщиков мулов, многие босиком, и все, конечно же, без каких-либо доспехов — шныряют по полю, собирая железный урожай. Есть среди них и взрослые: даже некоторые шлюхи решили подзаработать таким образом. На стрелы выставленных на флангах вражеских лучников они не обращают внимания, а самые ловкие да пронырливые ухитряются подбирать и эти самые стрелы, хотя их ценность невелика. Так или иначе, поле расчищается от «вороньих лап» с поразительной быстротой. Теперь вражеский фронт виден очень хорошо. Он в два раза длиннее нашего, и кажется, что простирается от горизонта до горизонта. Чем глубже мы наступаем, тем очевиднее подставляем свои фланги для охвата персидским крыльям.
Мы движемся шагом. Слева от меня находятся восемь эскадронов конных «друзей». Их боевой порядок — это клинья, «зубы дракона». Я рысью проезжаю вдоль их фронта налево, присматриваясь к тому, как разворачивается наступление, и давая солдатам возможность увидеть моё лицо и штандарт. Многих я окликаю по имени. Гонцы и курьеры прибывают отовсюду с донесениями о неприятеле, о сокращающемся расстоянии и его крыльях, нависающих над нашими флангами.
Мы тоже разметили равнину. Передовые всадники, как живые вехи, заняли позиции, отмечая пути наступления. На расстоянии двух тысяч локтей до противника я подаю знак трубачам, и над полем звучит условный сигнал: «Отклониться направо!»
Знаменосцы поворачивают под углом в сорок пять градусов. За ними — командиры, возглавляющие острия клиньев, а следом и другие. Наши стрелки и метатели дротиков россыпью движутся перед строем. Сейчас наш боевой порядок можно уподобить человеку, переправляющемуся вброд через реку и идущему по диагонали вверх по течению. Так же поступаем и мы: скользим правее... правее... правее.
Дарий пока этого не видит. Две тысячи локтей — чересчур большое расстояние. Но его конные разведчики наши манёвры видят. Теламон указывает на пару всадников на чистокровных скакунах, во весь опор скачущих к своему царю. Потом поворачивают ещё двое, за ними ещё один. Уже пятеро конников спешат к Дарию с донесением об увиденном.
Мы отклоняемся вправо, заходя на территорию, не полностью очищенную от «вороньих лап». Перед нами стоят две цели: покинуть смертельно опасную зону и заставить Дария поволноваться.
Как долго неприятель позволит нам отклоняться?
Допустит ли он, чтобы наше правое крыло оказалось за его левым флангом?
В то время как наши основные силы отклоняются вправо, я скачу вдоль растянувшегося на десять стадиев фронта налево, к командующему этим крылом Пармениону. Семидесятилетний полководец по-прежнему чувствует себя в седле легко и уверенно. Мы в последний раз уточняем детали нашего плана.
С правого фланга, проскакав галопом две тысячи локтей, прибывает Филот.
— Ты делаешь из меня сборщика дерьма, Александр!
Он хочет вернуться к себе на правый фланг прежде, чем там разразится серьёзный бой. Натягивая поводья, Филот горячит своего рослого, в семнадцать пядей, вороного коня по имени Адамантин.
— Ему же больно, — говорю я.
Филот смеётся:
— Он сейчас ничего не чувствует, так же как и я.
— Ты-то и впрямь ничего не чувствуешь, — ворчит на сына Парменион, — но он не так пьян, как ты!
Я усмехаюсь: Филот, изрядный хвастун, верен себе. Но упрекать его не за что, мы все перед битвой основательно накачались вином. От всей нашей армии разит на целых десять стадиев.
Кроме того, Филот прав: надо возвращаться. Я вернусь на своё место сразу вслед за ним.
— Пусть метатели дротиков Балакра выдвинутся вперёд! — звучит мой приказ, и я в сопровождении телохранителей лёгким галопом скачу вдоль фронта назад.
Сам Балакр родом из Македонии, но под его началом состоят пятьсот агрианских метателей дротиков и такое же число лучников и копьеметателей, набранных из горных племён Фракии. Эти люди явились за золотом, и они его заслужили. Сейчас, во исполнение приказа, они пешими устремляются вперёд через промежутки между отрядами «друзей» и разворачиваются перед нашим фронтом. Тела фракийцев покрыты татуировками, они босы, но носят шапки из лисьих шкур. Агриане идут в бой семьями, отцы ведут своих сыновей. Вместе с ними сражаются и их здоровенные, косматые волкодавы, готовые умереть, прикрывая хозяев. Задача Балакра состоит в том, чтобы остановить серпоносные колесницы. Его стрелки и метатели должны затормозить смертоносный бег «косилок», прежде чем они вломятся в ряды «друзей».
Боевой порядок нашей армии, справа налево, то есть по ходу нашего наступления, таков.
Перед строем правого крыла развернулись лучники и метатели дротиков Балакра, одна тысяча бойцов.
Само крыло составляют семь сотен конных наёмников Менида, восемь сотен царских копейщиков, ведомых Аретом, две полусотни лёгкой пеонийской конницы Аристона, половина, то есть пять сотен, агрианских метателей дротиков под началом Аттала.
Далее следуют полтысячи лучников из Македонии, чей командир — Брисон, и шестьдесят семь сотен пеших, вооружённых длинными, предназначающимися против конного противника копьями, «наёмников-ветеранов» Клеандра. Эти подразделения составляют боевое охранение правого фланга. Их задача — сдержать натиск любых сил Дария на это крыло.
Левее в наступление идут восемь отрядов конных «друзей» общим числом две тысячи сто сорок. Ими командует Филот. Agema царских телохранителей во главе с Гефестионом составляет триста всадников. Тридцать пять сотен тяжеловооружённых всадников ведёт Никанор.
Далее следует фаланга пехотинцев с сариссами, шесть отрядов по пятнадцать сотен в каждом. Командуют ими Коэн, Пердикка, Мелеагр, Полиперкон, Симмий Андромен (сменивший своего брата Аминту, отбывшего в Македонию для набора войск) и Кратер. В соседстве с этой пехотой наступает половина союзной греческой конницы Эригия и все восемь отрядов лучшей в мире, не считая моих «друзей», кавалерии из Фессалии, подчинённые Филиппу, сыну Менелая.
Пармениона, командующего левым крылом, окружают конники фарсалинского отряда, на настоящий момент лучшего из конных отрядов Фессалии.
Позади них, с интервалом в пятьсот шагов, я расположил вторую пешую фалангу, состоящую из союзных греков, наёмников из Аркадии и Ахайи, иллирийцев, трибаллов и одрисианской лёгкой пехоты. С ними идут лучники и пращники из Сирии, Памфилии, Писидии, а также пять сотен наёмников с Пелопоннеса под командованием спартанца Павсания, который перешёл к нам от Дария. В целом второй эшелон составляет чуть менее шестнадцати тысяч воинов. Их командирам я приказал быть готовыми повернуться кругом в том случае, если враг, произведя фланговый обход, начнёт нас окружать. Тогда крылья и фланговые охранения сомкнутся и сформируют «ежа» — ощетинившийся остриями копий оборонительный прямоугольник. Между передними и тыловыми фалангами располагаются отрядные оружейники с запасным оружием и конюхи с заводными лошадьми.
Фланговое охранение на левом фланге выстроено, как и на правом, ромбом. Это четыре сотни союзной греческой кавалерии под командованием Койрана, пятьдесят девять сотен фракийской лёгкой пехоты, возглавляемой их вождём Ситалком, три с половиной сотни одрисианских степных наездников под началом Агафона и пятьсот лучников с Крита, командиром которых является Аминта.
Эти подразделения, как их аналоги на противоположном фланге, должны вынести мощный удар правого крыла Дария с его первоклассной каппадокийской, армянской и сирийской кавалерией под командованием Мазея. Впереди, чтобы сломить натиск врага, я поставил девять сотен наёмной конницы под командованием Андромаха, подразделение, славящееся безрассудной отвагой. Общее командование левым крылом осуществляет Парменион, за пехоту отвечает Кратер.
Правое крыло веду я сам.
Мы продолжаем двигаться под косым углом, и правый край нашего строя уже находится за пределами дорог, предназначенных для серпоносных колесниц. Ещё немного, и «друзья» тоже окажутся за пределами их досягаемости. Дарий следит за нами и смещает левую сторону своего фронта, приноравливаясь к темпу нашего продвижения. Но он не может делать этого вечно. Чтобы не потерять преимущество нависающих флангов, он должен предпринять какие-то шаги.
— Они начали!
Теламон указывает на персидское крыло. Когда расстояние между нами составляет около тысячи четырёхсот локтей, Дарий приводит в движение левофланговые конные отряды. Мы узнаем об этом, увидев, как заклубилась пыль под конскими копытами.
— Смотри! В центре тоже пылят!
Локон указывает на отряды, окружающие самого Дария. Центр персидской линии тоже приходит в движение.
— Сколько их там, как думаешь?
— Достаточно, чтобы у них прохудилось брюхо.
Это и есть та игра, которую я затеял. Ради этого мы и начали уклоняться вправо. Чем больше конницы сможем мы отвлечь с центра персидской позиции, тем с меньшим количеством придётся нам драться, чтобы пробиться к царю.
Убить царя.
Но быть приманкой — опасная игра. Всё зависит от того, как рассчитать время. Если наш фланг продержится достаточно долго, чтобы позволить «друзьям» провести атаку, Персидская держава падёт. Если он дрогнет и будет прорван, ни один македонский воин не покинет это поле живым.
Я делаю знак Гефестиону; мне надо присмотреть за этим флангом. Он кивает: теперь командование наступления переходит к нему. Если я не вернусь, ответственность за судьбу армии ляжет на него и Пармениона.
Ты помнишь, Итан, план, который я схематично набросал ранее?
Наёмная кавалерия (Менид) — 700
Царские копейщики (Арет) — 800
Пеонийская легкая конница (Аристон) — 250
Половина агриан — метателей дротиков (Аттал) — 500
Македонские лучники (Брисон) — 500
Пехота из «наёмников-ветеранов» (Клеандр) — 6700
К этому крылу я сейчас и направляюсь: хочу проверить их порядок и убедиться в том, что они готовы к бою. Первыми мы достигаем копейщиков Арета. Его кони бьют от нетерпения копытами, хвосты их подняты, с морд стекает пена. В двухстах локтях левее (к фронту, по отношению к персам) я вижу тыловые ряды наёмной кавалерии Менида; на том же расстоянии, на одном уровне с копейщиками, видны первые ряды лёгкой пеонийской конницы Аристона. Я устремляюсь к ним и вижу, что их кони столь же ретивы, как и скакуны всадников Арета. Похоже на то, что, если одно из этих подразделений сорвётся с места, не удержится и наёмная кавалерия Менида: люди не смогут сдержать своих коней.
Аристон командует лёгкой конницей. Он должен находиться на острие первого клина, но, когда мы добираемся туда, я не могу его найти. Потом выясняется, что как раз в этот момент он отъехал назад, чтобы посовещаться с Атталом, чьи пешие метатели дротиков отстают от копейщиков.
Замещать Аристона по должности должен Милон, внучатый племянник Пармениона. Он не занял, как того требуют правила, командирское место, а остался на своём, на крыле левого клина. Я объезжаю строй этого подразделения, багровея от ярости.
— Клянусь Зевсом, неужели здесь никто не командует?
Слева от меня едет Локон, справа приближается Теламон. Я чувствую, как он похлопывает меня по плечу древком своего копья.
— Александр!
Я оборачиваюсь и вижу примчавшегося во весь опор гонца от Менида.
— Взгляни, о царь! — Он указывает вперёд, на наш правый фланг. — Ты видишь их?
Из окутывающей крыло пыльной завесы, на расстоянии четырёх фарлонгов, выкатывает волна всадников. Протяжённость фронта составляет пять стадиев.
Клянусь Гераклом, вот это зрелище!
— Что это за народ? Персы?
— Бактрийцы, о царь.
Конное ополчение племён с восточных равнин. Гонец докладывает, что этот отряд колонной выдвинулся от вражеского фронта и несколько мгновений назад развернулся для атаки. Он сообщает, что его командир Менид ждёт моих приказов.
— Приказ один, и он был получен им ещё до битвы. Атаковать.
Я галопом скачу вместе с гонцом к его отряду. Менид со своими сотниками находится впереди.
— Клянусь меховой накидкой Хирона, ну и прыткие же разбойники, — говорит он, указывая на противника.
Менид прирождённый охотник: у себя дома он владеет двумя сотнями великолепных гончих. Сейчас этот командир демонстрирует отменную невозмутимость, как будто мы собираемся травить зайцев.
Вражеские всадники ещё не перешли на галоп. Они движутся рысью. Из-под копыт их коней клубами поднимается пыль. Ветер гонит пыльную стену в том же направлении, так что передние шеренги врага кажутся возникающими из сумрака. Песчаная почва равнины приглушает топот копыт. Создаётся впечатление, будто неприятель появляется с расстояния, вдвое превышающего действительное.
— Брось свои полусотни им в лоб. А я возьму копейщиков и постараюсь зайти им с фланга.
Я хочу, чтобы Менид встретил врага фронтальной контратакой, проведённой клиньями по пятьдесят всадников. Я тем временем приведу в порядок восемь сотен царских копейщиков и разорву атакующий строй боковым ударом.
Устремившись назад, к лёгкой коннице, я встречаю её командира Аристона, скачущего галопом из тыла.
— Ты что, хочешь пропустить это представление?
Мой тон позволяет ему понять, что я не сержусь, и он спешно докладывает о том, почему отлучился в тыл. Аттал с его пешими метателями дротиков отстал, и он, Аристон, поторопил его людей, чтобы они поспели за конницей. Нельзя было допустить, чтобы из-за них, из-за лучников или из-за «наёмников-ветеранов» Клеандра боевое построение растянулось.
Аристон удостаивается похвалы. Он мыслит, как военачальник.
Я говорю ему о том, что предстоит сделать Мениду и Арету.
— Скачи назад и прикрой пехоту. Вперёд выступай только в том случае, если увидишь, что нашей коннице приходится туго.
Мой собственный гонец скачет к Клеандру с распоряжением спешно направить вперёд три тысячи пехотинцев из числа «наёмников-ветеранов»; остающиеся тридцать семь сотен должны сохранять свои позиции, прикрывая фланг, и выйти вперёд лишь в том случае, если ситуация станет отчаянной.
Я разворачиваюсь и в сопровождении свиты мчусь назад, к копейщикам. При моём появлении звучат приветственные возгласы. Противник приблизился, до него всего семь стадиев, и теперь, когда лёгкая кавалерия оттянулась назад, он виден очень хорошо.
В нескольких словах я излагаю Арету свой план. Этому бесшабашному малому всего двадцать четыре года, и он не боится никого, даже меня. Месяц тому назад он получил взбучку за то, что, пустившись в погоню за одним командиром персидской кавалерии, которого нужно было взять живым для допроса, доставил мне его голову. Кто лучше него может справиться с нынешним заданием?
— Не перегори при первом наскоке, — наставляю я его и его командиров. — Туда и обратно. Держите строй, сохраняйте дистанцию. Когда проскачете мимо Менида, соберитесь.
Арет ухмыляется.
— Александр, если я привезу тебе голову ещё одного важного перса, ты опять устроишь мне выволочку?
Неприятель уже перешёл на лёгкий галоп.
— Постарайся остаться в живых. Ты мне ещё пригодишься.
Арет срывается с места. Копейщики стрелой летят вперёд.
Наши воины отрабатывали этот манёвр тысячу раз и сотню раз применяли его в бою. Происходит это следующим образом. Полусотни Менида мчатся навстречу атакующему противнику, лоб в лоб. Их цель, однако, не увязнуть в рукопашной схватке, а прорваться сквозь наступающие шеренги, нарушив, насколько возможно, вражеский строй, и галопом скакать дальше. Невозможно представить, чтобы конный отряд не бросился преследовать противника, устремившегося в бегство. И если этот противник (то есть мы, то есть Менид) побежит сломя голову (или притворится, будто бежит сломя голову), всадников неприятеля охватит охотничий азарт. Бактрийцы — это кочевники пустыни, и такие слова, как «строй», «дисциплина», «боевой порядок», для них пустой звук. Точно так же они относятся и ко всякого рода манёврам, обходам и охватам. Они всадники, но не кавалерия, воины, но не армия.
Смотри, что произойдёт сейчас...
Менид сталкивается с противником, прорывается и бросается наутёк. Половина кочевой конницы поворачивает и, покинув ряды атакующих, улюлюкающей стаей устремляется в погоню за ним. В этот момент копейщики Арета наносят по ним удар с фланга. Чтобы остановить кавалерийскую атаку, нет необходимости наносить потери, достаточно сбить наступательный порыв. Конная вражеская лавина, дезорганизованная перекрёстными ударами наших крыльев, теряет решительность. Враг видит наши отряды на своих флангах и в тылу. Он осаживает коней, и атака захлёбывается. Это делается непроизвольно: обученные войска справляются с подобным инстинктом благодаря выучке, дисциплине и умелому командованию, но у кочевых племён нет ни того, ни другого, ни третьего.
И тут из тыла устремляются в бой «наёмники-ветераны» Клеандра. Это не тяжёлая пехота, медлительная из-за веса щитов, шлемов и панцирей, а ловкие, вёрткие бойцы, сражающиеся без доспехов, но вооружённые копьями в семь локтей длиной, самым эффективным оружием против дезорганизованной и потерявшей наступательный импульс конницы. Эти бойцы сражаются не плотным строем, а россыпью, подвижными группами, именуемыми «облаками» и «шнурами». Противнику приходится не проламывать наш строй, а схватываться с нашими воинами по отдельности, что окончательно разрушает то подобие боевого порядка, которое ещё имелось у степняков. Конники теперь дерутся каждый сам за себя, а наши пехотинцы объединены в пары или тройки, что обеспечивает им преимущество. Они забрасывают врагов копьями и рассеиваются так, что бактрийцам некуда нанести ответный удар. В конце концов противник осознает, что атака провалилась, и поворачивает назад, чтобы перегруппироваться.
Я тоже не могу оставаться на месте. Мне следует вернуться к «друзьям».
Впоследствии Клеандр рассказывает мне, что его помощник Мирин вёл счёт атакам и контратакам, производившимся в тот день на этом крыле. Девятнадцать раз противник бросал свои отряды на наш корпус, и девятнадцать раз наши фланговые отбрасывали его назад. Что можно сказать о таких солдатах? На парадах они не производят особого впечатления, и девицы не удостаивают их особого внимания, отдавая предпочтение блистательным «друзьям» или напористым бойцам царских телохранителей. Но эту величайшую из побед сделали возможной именно они, «наёмники-ветераны» из Аркадии и Ахайи. Этих людей я знаю всю мою жизнь. Теламон на первых порах тоже служил в этом подразделении. При Гавгамелах самому молодому из них уже стукнуло сорок, а человек двести (я могу назвать их по именам) уже разменяли шестой десяток. Ни один молодой солдат и в подмётки не годится этим закалённым воякам. Трусов в их отряде нет: все, какие были, или погибли, или давным-давно разбежались. Кроме того, опытного солдата отличают выдержка и самообладание. Видавшим виды младшим командирам нет цены, а долго прослужившего сотника я предпочту тысячнику. А если говорить о быстроте и силе, то «старики», как ни странно, и в этом отношении не уступают молодым. Во время первой атаки того дня я увидел «облако» из тридцати ахейцев, устремившихся за кучкой бактрийских конников. Одно крыло встречает атаку противника в лоб, и, в то время как он вязнет в «облаке», другое огибает его и замыкает в полукольцо. Длинные копья ветеранов производили страшное опустошение. В считайные секунды из двадцати врагов осталось десять, а из десяти — пять.
Вторая волна, которую неприятель посылает на нас с фланга, это скифы — саки и массагеты, степные разбойники, чьё оружие — лук и боевой топор. Наши копейщики и пеонийцы встречным ударом прорубают проходы сквозь их ряды, и оба строя уподобляются пиле, зубья которой проникают сквозь шеренги противника. Прорвавшись, и те и другие перегруппировываются и снова прорываются одни сквозь других. Отступив за завесу подразделений прикрытия, и мы и враги перестраиваемся, уносим с поля убитых и раненых вместе с ещё годными в дело топорами, копьями и дротиками и снова сталкиваемся на вязких солончаках, скачка по которым выматывает лошадей и всадников, словно хождение по клею.
В традиционном сражении фланговые стычки прекращаются с началом главного наступления. Но при Гавгамелах дело обстоит иначе. Схватки на правом крыле продолжаются на протяжении всего боя, а на левом ещё дольше. Его фронт составляет пять стадиев, а глубина ещё больше. Масштаб сражения возрастает с каждой минутой, по мере того как каждая сторона пускает в ход свежие соединения. По приказу своего царя сатрап Бактрии Бесс, командующий левым крылом Дария, снимает с центра персидской позиции сначала три тысячи всадников, потом шесть, потом восемь. Противопоставить им я могу лишь воинов из отрядов, уже составляющих мой правый фланг; для главного наступления мне требуется каждый солдат и каждый конь. Но Бесс перемещает на фланг войска, стоявшие непосредственно перед командным пунктом Дария. Мы видим пыльные колонны, покидающие свои места в строю позади прикрытия из серпоносных колесниц. Наш фронт продвигается на тысячу локтей, девятьсот, восемьсот... Колесницы готовы к действию, но пока остаются на месте. Наша главная линия по-прежнему движется шагом. Теперь от фронта Дария нас отделяет около двух стадиев.
Я возвращаюсь с фланга к «друзьям». Дневниковые записи показывают, что в тот день при мне состояло одиннадцать гонцов и курьеров, причём только двое из них обеспечивали связь с центром и левым флангом: остальные девять беспрерывно снуют к правому. В каждом поступающем донесении говорится одно и то же: «Пришли помощь». И в каждом отсылаемом: «Держитесь».
Однако я не могу терять солдат и, чтобы переломить ситуацию, посылаю на самые сложные участки самых выдающихся бойцов — Теламона и Локона, Птолемея и Певкесту. А вот направить туда Клита Чёрного не удаётся: он спас мне жизнь при Гранике и исполнен решимости сделать то же самое здесь.
Теперь мы видим позицию Дария. Знамёна отборных отрядов теснятся вокруг его собственных высоко реющих стягов.
Перед ним сплошной стеной выстроилась пехота: греческие наёмники и его собственные царские телохранители, «носители яблока». Царская колесница, запряжённая четвёркой коней, нам не видна, ибо её тесно обступают царские «родственники», однако мы можем судить, что она находится в двадцати или тридцати шеренгах в глубину от фронта.
Пыль поднимается такая, что рассмотреть за этой завесой ход боя на правом фланге решительно невозможно. Но до нас доносятся звуки сражения, и это похоже на землетрясение.
Пред строем «друзей» находится Балакр с пятью сотнями агрианских копьеметателей и таким же количеством фракийских лучников и метателей дротиков. С фланга несутся просьбы направить этих бойцов туда, но они нужны мне здесь. Нужны для того, чтобы остановить атаку серпоносных колесниц Дария.
Колесницы приходят в движение, когда нас и противника разделяет шестьсот локтей. Щёлкают кнуты возничих: на таком расстоянии этого, разумеется, не слышно, но взмахи уже видны. Так же как и солнечные блики, играющие на чудовищных серпах набирающих скорость повозок. Кажется, что этот разгон будет продолжаться вечно.
— Тяжеленные штуковины, — замечает Клит, — вон сколько железа понавешано.
Фронт «косилок» имеет протяжённость в семь стадиев. Таким образом, под их удар попадают «друзья», находящиеся слева от них царские телохранители Гефестиона и Никанора и правая часть фаланги, отряды Пердикки и Коэна. Клит наблюдает за происходящим с полнейшим спокойствием:
— Хороши, не так ли?
Я делаю знак ему и Филоту: «Полная готовность. Молчание! Всем командирам не сводить с меня глаз».
Я смотрю налево, через двадцать стадиев поля. Это последний момент, когда с моей позиции видна целая четверть равнины. Колесницы Дария наступают и там. Пятьдесят метят в нашу фалангу, ещё полсотни направлены против отрядов Пармениона, составляющих левый фланг. Следующую волну наступления составит обычная конница. Двадцать тысяч армян и каппадокийцев, сирийцев и месопотамцев, мидян, парфян, тапуров, арийцев, гирканов и согдийцев.
Помоги тебе Зевс, Кратер. Да охранит тебя Небо, Парменион.
Я смотрю направо, на пыль и мрак. Где-то там, за смертоносной зоной колесниц, ведут отчаянную схватку восемь сотен царских копейщиков, моя лучшая ударная сила, не считая «друзей».
Очередь скакать курьером выпадает шестнадцатилетнему юноше по имени Демад, прозванному за жёсткую, как щетина, шевелюру Вепрем. Я вручаю ему послание, которое он готов доставить ценой своей жизни.
Арету от Александра. Отдели половину своих копейщиков и, как только натиск серпоносных колесниц будет сломлен, обрушь удар своих клиньев на наименее плотный участок вражеского фронта. На какой именно, выберешь сам.
Зрачки парнишки размером с хлебные тарелки.
— Повтори приказ, Вепрь.
Он слово в слово повторяет послание.
— Вепрь, в Вавилоне я выпью с тобой вина.
Он срывается с места и исчезает за завесой пыли.
Перед нашим строем метатели дротиков Балакра, сформировавшись «облаками», бесстрашно атакуют «косилки».
— В коней! — слышу я голос Филота, кричащего, как будто кто-то может его услышать. — Цельте в коней!
Серпоносные колесницы должны атаковать каждая по своей линии, сохраняя между собой с обеих сторон интервалы, чтобы упряжки не столкнулись. В этих промежутках и действуют наши отважные копьеметатели. Эти великолепные воины способны попасть в доску шириной в пол-локтя с расстояния в пятьдесят ярдов, причём мечут второе копьё, когда первое ещё находится в полёте, а когда оно долетает до цели, во врага летит уже третье. Наши лучники выпускают стрелы в упор. В считанные мгновения атака «косилок» расстраивается. Покрытая ломкой коркой почва выступает в роли нашего союзника, в ней вязнут колёса тяжёлых колесниц. Мел не позволяет машинам разогнаться до полной скорости. На моих глазах, когда упряжка из четырёх коней мчится прямо на нас, левый пристяжной получает стрелу в основание шеи. Животное кренится и валится на бок, увлекая за собой всю упряжку и словно куклу сбрасывая наземь возничего.
Упряжку, мчащуюся слева, стрелы и дротики не задели, но кони пугаются самого вида бегущих с яростными возгласами пехотинцев. Они в ужасе шарахаются в сторону, и колесница, резко вильнув, загораживает путь соседней. Та, чтобы не столкнуться, сворачивает, отчего поворачивать приходится и другим. В считанные мгновения дюжина колесниц сбивается с дороги, некоторые заваливаются набок, другие останавливаются, третьи стараются их объехать. И в центр этого хаоса Балакр устремляет своих бойцов. Я надеялся и верил, что метательные копья и дротики затруднят натиск врага, однако в данном случае лёгкая пехота превосходит все ожидания; она не задерживает врага, а громит его. Серпоносные колесницы должны не просто мчаться по проложенным проходам, но и удерживать прочный фронт. В противном случае их враг, то есть мы, может просто расступиться и без ущерба для себя пропустить неприятеля сквозь свои ряды. Но в разгар боя более смелые и бесшабашные возничие перегоняют медлительных, так что и по оси, и вдоль фронта образуются дополнительные интервалы. В результате часть колесниц, как вырвавшиеся вперёд, так и отставшие, оказываются в одиночестве. Это даёт возможность нашей лёгкой пехоте обстреливать их с флангов, не рискуя угодить под серпы.
Следом за Вепрем я посылаю к Арету второго гонца с точно таким же приказом. На тот случай, если Вепрь не добрался.
Непосредственно справа от меня, на фланге, безостановочно бушует бой. Как мы узнаем позже, отряды противников столько раз прорывались одни сквозь других, что, будь на поле сторонний наблюдатель, он углядел бы на персидской стороне столько же наших солдат, сколько и персидских на нашей. Сражение не сосредоточено на каком-то одном фронте или позиции: не видно ни массовых рукопашных схваток, ни трупов людей, рядами полёгших при массированном натиске. Потери хаотичны, люди гибнут поодиночке повсюду, где идут столкновения. Всадники валятся с коней по одному или по двое, когда их лошади спотыкаются, ломают ноги в расщелинах и канавах или просто валятся от изнеможения. Чаша весов склоняется то в ту, то в другую сторону: всадники, воодушевлённые успехом, стремглав мчатся вперёд, а спустя мгновение гибнут, подвергшись ожесточённому нападению тех, кто только что бежал сломя голову от них. Иные массовые схватки проходят так, что ни один солдат не получает и царапины, тогда как стычка пары бойцов перерастает в ожесточённую сечу, а вырвавшиеся из-за завесы пыли конные клинья или пешие «облака» собирают свою кровавую жатву, не оставляя врагу надежды на спасение.
Выдохшиеся лошади валятся под тяжестью своих седоков. Сердца животных не выдерживают напряжения. Конь повинуется всаднику из последних сил, но когда они иссякают, его мышцы сковывает судорога, и он уже не может сделать ни шага. Десятки лошадей губит жара, а сердца некоторых из них не выдерживают рёва и грохота боя и разрываются от одного лишь ужаса. Когда противник наконец поворачивается и обращается в бегство, у многих коней, и наших и неприятельских, вместо пены выступает кровь. Сотни лошадей валяются на поле, повредив ноги, другие же, не получившие внешних повреждений, доведены до такого изнеможения, что ни к чему уже не пригодны. Речь идёт о прекрасных, обученных с рождения племенных животных, к которым их владельцы были привязаны настолько сильно, что не служившему в коннице этого просто не понять. Потерять боевого скакуна — всё равно что лишиться отважного солдата. В известном смысле даже хуже, ибо лошадь не может понять, зачем сражается человек, и участвует в бою только из любви к нему. Гибель коня столь же ужасна, как гибель ребёнка. Для того, кто понёс такую утрату, никакое утешение невозможно.
На каком этапе теперь находится сражение? Впоследствии мне довелось поговорить с Онесикритом (ставшим в Индии моим кормчим), который в тот день оставался в лагере и лицезрел панораму битвы с холмов, с расстояния тридцати стадиев. Это, сообщил он, придало новое значение слову «pandemonium» — «кромешный ад». Онесикрит был досконально знаком с нашим планом сражения и прекрасно представлял себе диспозицию персов, однако признался, что даже при всём этом не мог увидеть в происходящем на равнине никакого порядка или смысла. Там царил хаос. Ему казалось, будто само поле не только перевёрнуто, но и вращается вокруг своей оси. То, чему следовало находиться слева, оказывалось справа, то, чему надлежало быть впереди, — сзади. Хаос усугублялся клубящимися облаками щелочной пыли, сквозь которые проступали призрачные очертания движущихся подразделений. Если добавить к этому дикую какофонию: вопли, крики, стук копыт, грохот колёс, ржание, лязг металла, — то можно понять Онесикрита, заявившего, что всяк склонный к философии, увидев и услышав всё это, объявил бы весь род людской скопищем безумцев.
Я верю его рассказу. Должно быть, поле представлялось ему именно таким, каким он его изобразил. Впрочем, с моего места во главе «друзей» всё выглядит отнюдь не столь хаотично. С обеих сторон в боевых действиях участвуют могучие отряды. Ожесточённые схватки разворачиваются и слева, и справа, и в центре. Однако ни один из нанесённых ударов, сколь бы мощным он ни был, не является фатальным ни для меня, ни для Дария. Безумный водоворот бурлит возле нас обоих, не затрагивая пока ни того, ни другого.
«Друзья» продолжают наступление, покуда не ускоряя аллюр. С фронта на нас надвигается сотня серпоносных колесниц. Справа валом валят степные всадники: бактрийцы, скифы, саки и массагеты. Это может прозвучать странно, но при всей кажущейся сумятице каждое подразделение каждого рода войск находится именно там, где ему предписано быть, и выполняет, с большим или меньшим успехом, поставленную задачу.
Наконец первая серпоносная колесница прорывается сквозь заградительные «облака». Её возничий мёртв и волочится за ней, запутавшись в сбруе. Трое из четырёх коней ранены стрелами или дротиками. Они несутся бешеным галопом, подгоняемые болью и ужасом. Машина врывается в наши ряды, которые расступаются в дикой спешке, сопровождаемой криками, проклятиями и конским ржанием. Вторая и третья «косилки» тоже несутся в нашу сторону. Но кони, истыканные копьями и дротиками фракийцев и агриан Балакра, валятся наземь, едва прорвав передовую шеренгу. Должен сказать, что эти губительные устройства вызывают у наших воинов ни с чем не сравнимый гнев и злобную ненависть.
Наши кони перевозбуждены, и, чтобы заставить их двигаться шагом, требуются немалые усилия. Слева от каждой лошади идёт пеший конюх, крепко держа правой рукой узду у самых удил, чего всадник в данных обстоятельствах сделать не может. В случае надобности конюх налегает на узду всем весом своего тела, лишь бы только не позволить лошади сорваться с места и понести. В таком состоянии на это способен даже великолепно обученный и выезженный боевой скакун.
Положение серьёзно: достаточно не удержать одного коня, и за ним последуют остальные. Клит ловит мой обеспокоенный взгляд и спрашивает:
— Сейчас?
Искушение покончить с этим нервирующим движением и устремиться в атаку весьма велико, но не будет ли эта атака преждевременной?
На чём основывается командир, принимая решение послать один отряд в бой, другой в обход, третий в резерв? На звуках схватки? На донесениях курьеров, явно устаревших, ибо они проделали свой путь за минуты, а обстановка меняется каждую секунду? Испытание командованием в том и состоит, что решения, чреватые фатальными последствиями, приходится принимать, основываясь на весьма недостоверных данных.
Шум, доносящийся справа, — это сущее безумие. Напряжение достигает апогея. Кони без всадников выскакивают из мрака и на всём скаку мчатся сквозь боевой порядок наших «друзей». Я приказываю Клиту держаться. В нашу сторону несутся новые и новые «косилки». Нервы напряжены до предела, и люди и кони близки к срыву.
Мы продолжаем наступать шагом. Всё вокруг затянуто пылью, но порой ветер продувает в пыльной стене отверстия, сквозь которые ещё можно видеть происходящее. На фланге продолжается отчаянная, ожесточённая схватка, но и в нас уже летят первые стрелы. Накал борьбы нашей лёгкой пехоты с колесницами достигает высшей точки. Один из наших коней, не выдержав напряжения, срывается со своего места в строю и мчится вперёд, унося на себе всадника и волоча вцепившегося в узду конюха. Ещё два, наоборот, артачатся и пятятся назад.
— Пусть перейдут на рысь, — предлагает едущий рядом со мной Клит.
Я подаю знак, и мы ускоряем аллюр. Буцефал подо мной подобен горе. Он, который на параде приплясывает и взбрыкивает, среди хора труб и рёва слонов являет собой воплощённое спокойствие.
Многое зависит от Арета, от четырёх сотен его копейщиков, находящихся где-то впереди. Не будучи уверен в том, что Вепрь и тот, кто был послан ему вдогонку, достигли цели, я посылаю третьего гонца и окликаю Клита.
— Чёрный! Если отряды Арета не смогут пойти в атаку, мне придётся послать царских телохранителей.
Выделить больше я не могу, ведь всё решится в ходе атаки «друзей» на Дария.
Может быть, Итан, тебе кажется, что я слишком вдаюсь в подробности? Но ты должен получить как можно более полное представление о том, как разворачиваются события на реальной почве. О том, как трудно командиру ориентироваться в обстановке по ходу боя и как многое зависит от слепой удачи.
Схватка на правом крыле идёт уже настолько близко от нас, что, когда враг напирает сильнее, наше прикрытие, бьющееся с ним копьё к копью, отступает сквозь крыло боевого порядка «друзей». Стрелы на излёте падают под копыта коней, и те взбрыкивают. В любое мгновение спайка наших конных отрядов может разрушиться.
И в этот критический момент Арет начинает свою атаку.
Ни видеть, ни даже слышать этого мы не можем, однако догадываемся о случившемся по взметнувшимся ещё выше тучам пыли и некоему странному ощущению, передающемуся самим полем.
— Сдерживайте ваших лошадей! — рявкаю я, хотя даже Чёрный Клит, едущий у моего плеча, меня не слышит. Арету приказано найти во вражеском фронте участок, ослабленный переброской отрядов к флангу, и нанести удар именно туда. Мои «друзья» последуют за этой атакой.
Но случается так (хотя мы узнаем об этом лишь спустя несколько дней), что, когда это слабое место обнаруживается, на пути уже перешедших на галоп четырёх сотен Арета появляется из пыли двухтысячный отряд союзной персам индийской царской конницы, отозванный с крыла Дарием.
Я этого не вижу и не увидел бы, даже не будь всё поле затянуто пылью, ибо от Арета меня отделяет полоса, где ведётся ожесточённый бой между колесницами и нашей лёгкой пехотой. Впоследствии Арет рассказывал, что в тот миг ему показалось, будто всё потеряно. Он повёл свои четыре сотни прямо на две тысячи индийской царской конницы. Никакого выхода не было, и он, зная лишь, что любое колебание и промедление усугубит положение, бросил четыре сотни своих копейщиков в лобовое столкновение с двухтысячным отрядом индийцев. Это решение было принято им на полном скаку, и он не передал его своим воинам ни голосом, ни сигналом трубы, ни жестом. Арет направил своего коня на врага, и копейщики, поняв командира, как один устремились за ним.
За этот подвиг я наградил его после захвата Персеполя пятью сотнями талантов золота, суммой, равной половине годового дохода Афинского союза в период его расцвета.
Удача играет на войне не последнюю роль, и здесь, в этот миг, она ещё один раз улыбается нам.
Предполагалось, что, если Арет не сможет атаковать, Чёрный Клит бросит направо царское подразделение «друзей». Тогда я занял бы место на правом крыле его направляющего клина. Мною специально предусматривалось формирование клина, усиленного на одном, в данном случае правом, крыле, потому что задача царского подразделения, заменившего силы Арета, заключается в расчистке пути для последующей непосредственно за этим атаки «друзей», а затем в прикрытии их правого фланга, становящегося особенно уязвимым в тот момент, когда они, прорвав персидскую линию, поворачивают налево и позади вражеского фронта мчатся в направлении Дария.
Но прежде, чем мы начинаем этот манёвр, из-за завесы пыли вылетает на взмыленном коне помощник Клита по имени Александр.
— Арет завязал бой! — кричит он на скаку.
Как оказалось, Клит, будучи выдающимся командиром, по собственной инициативе выслал в намеченном для атаки направлении конных разведчиков, и в тот момент, когда я уже собрался направить царское подразделение «друзей» на крыло, они увидели, как копейщики Арета столкнулись с двухтысячной индийской конницей.
На вопрос, где это происходит, Александр отвечает жестом, указывая вперёд и вправо. Оттуда доносится шум схватки.
Арет метил в ту сторону, значит, слабый участок персидского строя находится где-то там.
Ситуация меняется, и я в соответствии с этим произвожу два изменения. Царское подразделение возвращается на своё место перед «друзьями»: мне уготовано место рядом с Клитом, на острие его передового клина. А вот непосредственно в тылу царского подразделения друзей я выстраиваю так называемым «кулаком» другой отряд, боттиейцев. Так я стараюсь усилить ударную мощь сконцентрированной здесь кавалерии.
Не безумие ли это, Итан, имея в распоряжении одну двадцатую от сил Дария, стремиться и надеяться прорваться к его персоне сквозь все заслоны и свернуть его царскую шею?
Я знаю, что у меня есть и чего у меня нет.
Я знаю, что у него есть и чего нет.
Я устремляюсь сам и увлекаю своих «друзей» за завесу пыли. Это риск, но кто не рискует, тот не выигрывает. Великие трофеи добываются лишь ценой огромного риска.
Глава 26 БОЛЬШОЙ КЛИН
Атака на Дария происходит одним большим клином. Царское и боттиейское подразделения составляют остриё, торонцы, анфемцы и амфиполитанцы образуют правый фланг, а остальные «друзья» — левый. Это крыло расширено за счёт пеших отрядов царских телохранителей, наступающих в контакте с самым левым отрядом конных «друзей». Стражи как бы пристёгивают кавалерию к двум фланговым группировкам Коэна и Пердикки, составляющим левую оконечность большого клина.
Действия этих войск практически представляют собой самостоятельное сражение. Одно из тех, что разыгрывают на равнине. Клеандр, Менид, Арет, Аристон, Аттал и Брисон ведут второй бой на правом фланге, центральная фаланга бьётся в третьем сражении, тогда как на левом крыле Парменион и Кратер схватились с противником в четвёртом. Впрочем, к этому перечню можно добавить и пятое, и шестое. Фаланга второй линии вступает в схватку с конными и пешими группами врага, прорвавшимися или зашедшими в тыл слева, а ещё в двадцати стадиях позади, в нашем передовом лагере, раненые и нестроевой состав подвергаются налёту царской индийской и парфянской конницы. Цель этого рейда — вызволение матери и супруги царя Персии, которые на самом деле находятся не там, а в более глубоком тылу, в главном лагере, расположенном в пятидесяти стадиях позади.
Ни одно из этих сражений не видно оттуда, где происходит другое. Оценить масштабы любого может, да и то не вполне, лишь тот, кто вовлечён в него непосредственно: слишком уж высока и плотна завеса поднимающейся из-под ног и копыт множества противников пыли.
С моей позиции (а я нахожусь с «друзьями») не видно практически ничего, и я инициирую наступление, ориентируясь по доносящимся до нас (если это не обман слуха и не ошибка) звукам, обозначающим место столкновения копейщиков Арета с индийской царской конницей. Это впереди и чуть справа, локтях в шестистах.
Человек, не участвовавший в сражениях, не представляет себе, насколько они выматывают. Один лишь вес брони и оружия, которые носят на парадном плацу, за час муштры способен свалить человека с ног. А наш солдат не на параде. Он на поле. Более того, прежде чем оказаться на этом поле, он с полной выкладкой проделал переход продолжительностью в полдня. Сыт ли он? Когда он спал в последний раз? Здоров ли, не ранен ли? Добавим к этому страх, напряжение, перевозбуждение, ожидание. Есть тип усталости, которую греки называют «apantlesis». Это упадок душевных сил, причиной которого может стать не только физическое утомление, но и нервное напряжение. В таком состоянии командир или солдат неверно оценивает обстановку, полностью теряет способность к принятию осмысленных, самостоятельных решений, лишается инициативы — короче говоря, становится глухим, слепым и глупым. Хуже того, это состояние возникает у человека совершенно неожиданно, поражая его как гром. В одно мгновение деятельный и разумный воин превращается в безвольного болвана.
Однако то напряжение, какое испытывает человек, ничто по сравнению с возбуждением, выпадающим на долю лошади, особенно боевого кавалерийского скакуна. Лошади не осознают перспективы и не понимают необходимости сдерживаться и выжидать. Для них существует только данный момент, в который они воспринимают не только наши команды. Они слышат шум битвы, пугаются свистящих копий и стрел, им передаётся общее ощущение опасности. Неудивительно, что они становятся такими возбуждёнными. Их нервы, натянутые как струны, настроены в унисон с нашими: они воспринимают наш страх и волнение, так же как страх и волнение других лошадей.
Лошади — стадные животные, и зародившийся страх моментально передаётся от одного коня к другому. Природное преимущество лошади — это быстрота её ног. Дикий табун спасается от опасности бегством, и первый порыв испуганного коня — умчаться как можно быстрее и как можно дальше. Что же удерживает их, заставляя оставаться на месте? Только узы, связывающие коня с всадником. Кавалерист и его конь, которого годами учили превозмогать страх и доверять человеку, направляющему его в горнило битвы, связаны не менее прочно, чем близнецы. Именно это заставляет коня повиноваться не властному природному инстинкту, но воле человека.
Помни, мы познакомились с нашими лошадьми, когда они были ещё жеребятами, а некоторые из нас присутствовали в стойлах при их рождении. Мы кормили их и ухаживали за ними, чистили их и скребли, просиживали ночи, когда они болели или получали травмы, и тысячи часов проводили с ними на учебных площадках и в поле. Ни наши жёны или дети, ни даже сам Зевс не знают нас лучше, чем наши лошади, ибо ни с кем не проводили мы столько времени, сколько с ними. Но, несмотря на всё это, самый верный конь может сорваться с места, самый отважный может взбрыкнуть и понести. По правде сказать, то, что нам вообще удаётся удерживать их на месте, заслуживает величайшего удивления, настолько туго сплетены их нервы в ожидании боя. Загляни в глаза своего скакуна, и ты увидишь, что, несмотря на десятилетия упорных трудов, он по-прежнему дик и разрывается между наработанными рефлексами и природным инстинктом. Если инстинкт возобладает, удержать его будет так же невозможно, как ртуть или летнюю молнию. Я должен действовать быстро. Я должен схлестнуться с Дарием, пока кони и люди ещё годятся для боя, пока напряжение и жара не лишили их сил.
Мы сплоховали при Иссе, потому что наша атака увязла. Массы врага вклинились между нами и царём и, замедлив наш наступательный порыв, дали Дарию время, чтобы скрыться. Нам не хватило напора, и наш прорыв оказался недостаточно глубок.
Здесь, при Гавгамелах, моя задача состоит в том, чтобы, придав «друзьям» три отряда лёгкой пехоты и два тяжёлой пехоты, не просто прорвать фронт персов но и, не теряя скорости, развивать наступление, с тем чтобы углубиться в тыл противника на шестьсот-восемьсот локтей. Мой замысел прост: оказаться со своими силами позади Дария. Я должен быть там, где смогу преградить ему путь, если он побежит.
Человек, не бывавший на войне, воображает, будто солдат видит на поле картину боя. Ну что там можно увидеть? Солдат на поле слеп, словно столб. Даже всадник с высоты своего седла видит лишь дым и пыль. Едва остриё нашего конного клина ныряет в клубящуюся пыль, как на пути у нас оказывается вражеская пехота, сквозь которую мы прокладываем путь, стараясь при этом в условиях плохой видимости не налететь на обездвиженные серпоносные колесницы. Запряжённые в них великолепные кони мертвы или при последнем издыхании. Стоит нам миновать эту зону, как перед нами, словно из-под земли, возникает стена вражеской конницы. По низкорослым, мохнатым лошадкам и мешковатым штанам, именуемым kurqans, мы узнаем в них даанцев, прирождённых наездников из восточных провинций. Даанцев около пяти сотен, они натыкаются на нас во время передислокации. Очевидно, их решили перебросить налево, на помощь отрядам, бьющимся с Аретом. Когда из тумана появляется несущийся галопом клин нашей конницы, их эта встреча ошеломляет больше, чем нас. Дааны рассеиваются, подобно завесе пыли, из которой они появились.
Я нахожусь на острие ведущего клина царского подразделения «друзей». За моей спиной громыхают все восемь конных отрядов. Сейчас наша кавалерия находится в таком же положении, как при Иссе, когда мы прорвали строй лучников и «царской дружины». Сейчас мы проломили вражескую линию на расстоянии от двух до пяти стадиев от её центра и теперь исполнены решимости развернуться колонной и устремиться туда.
Где же Дарий?
Между ним и нами стоят четыре фронта защитников: четыре тысячи персидской, сузской и кадусианской конницы вместе с персидскими, мардианскими и карийскими лучниками; отряды греческой тяжёлой пехоты под командованием Патрона; пять тысяч копейщиков персидской стражи «носителей яблока» и Тигран с полками царских «родственников», отборной конницы Дария.
Ветер, который шквалистыми порывами налетает на Гавгамелы, несёт пыль и песок, делая тот сектор, куда мы нацеливаем свой удар, практически невидимым. Клит уговаривает меня ударить налево немедленно, прежде чем весь этот участок поля обратится в океан мрака. Возможно, выжидая слишком долго, я ошибаюсь, но я не могу допустить, чтобы у Дария осталась лазейка для побега. Он не сможет обмануть меня во второй раз. Поэтому прорвавшиеся войска, не останавливаясь, движутся дальше, в персидский тыл, чтобы повернуть налево, углубившись туда на восемьсот локтей. Путь двух тысяч коней отмечают клубящиеся, заволакивающие поле меловые тучи.
План состоит в том, чтобы, повернув налево, взять Дария с тыла. Но, выныривая в очередной раз из меловой пороши, мы натыкаемся на греческих наёмников Патрона. Это пять тысяч превосходной тяжёлой пехоты врага, пешая стража, занимающая позиции непосредственно слева от Дария. Откуда эти эллины взялись здесь, позади царской позиции, в пяти стадиях от фронта? Неужели они узнали, что атака колесниц не удалась, а персидские отряды на обоих флангах принуждены к отходу? Неужели, предвидя наш манёвр, они покинули фронт и стремительно отступили в тыл, чтобы прикрыть своего нанимателя с той стороны, откуда ему грозит наибольшая опасность? Впрочем, это не имеет значения. Важно, что они оказываются на нашем пути и торопливо формируют фалангу, чтобы помериться с нами силами.
Но мы не собираемся тратить время на бой с отменной эллинской пехотой.
Мы её огибаем.
Вот образец блестящего кавалерийского манёвра. Действуя в лучшем духе, конница не растрачивает жизни людей и коней на зрелищные, но малорезультативные рукопашные схватки, а использует своё преимущество в скорости и мобильности. Она обходит противника, оставляя его в пыли, и мчится дальше, к своей цели. В считанные мгновения пехота Патрона остаётся в сотнях локтей от нас, в нашем тылу.
Где же Дарий?
Он должен быть поблизости, иначе войска Патрона не стали бы формировать строй на этом месте. Он должен быть слева, в противном случае они не заняли бы оборонительную позицию, прикрывающую этот участок.
Я придерживаю «друзей», посылая во мрак разведчиков. Охочий до приключений юнец, жаждущий сбежать и поступить в кавалерию, представляет себе сражение как бурный натиск, бешеную скачку галопом навстречу неувядающей славе. Что бы подумал этот нетерпеливый, горячий сумасброд при виде того, как я и мои командиры в разгар величайшей битвы, прорвав вражеский фронт, останавливаем наши отряды? Мы собираемся не только выровнять строй и прикрыть надёжнее фланги и тыл, но и подогнать получше снаряжение и утереть пот и пыль с лиц. Терпение есть одна из важнейших добродетелей командира. Хотя со всех направлений слышатся звуки боя и понятно, что, пока я медлю, там, за пыльной завесой, проливают кровь и гибнут мои соотечественники, ни в коем случае нельзя преждевременно давать сигнал к наступлению. Я не вправе слепо бросать войска во мглу. Это мучительные мгновения, тем паче что посланные мною разведчики отнюдь не возвращаются ко мне вовремя с чёткими донесениями о расположении вражеских отрядов. Увы, потеряв на безликом, запылённом поле какие-либо ориентиры, они не могут вернуться к своим. Их обнаруживает группа конюхов, рискнувших углубиться в клубящийся мел пешком.
Убить царя.
Мы должны найти Дария.
Наконец наши всадники возвращаются. Их предводитель Сатон, сын Сократа Рыжебородого, сообщает, что враг находится в двух стадиях впереди. Неприятелю известно, что мы прорвались в его тыл, и его отряды развернулись, готовые встретить нашу атаку.
— Где Дарий?
— В центре.
— Ты уверен?
— Я видел его знамёна.
Мы наступаем.
Увы, наш разведчик не мог знать о том, что благородный воин Карман, командир домашней стражи Дария, приказал водрузить царские штандарты в центре, где всегда сражаются персидские цари, а самого монарха тайно переправил на левый фланг.
Он одурачил меня.
Меня, покорителя половины мира, одурачил командир придворной стражи.
Когда наши клинья наносят удар по врагу, Дарий уже находится за пределами нашего правого фланга. Я этого не знаю. Никто из нас не знает. Я направляю Буцефала туда, где реют царские знамёна, вокруг которых разворачивается ожесточённая схватка. Конница смешалась с пехотой. Враг, узнав меня по доспехам, бросает против меня лучших бойцов, тогда как мои соотечественники выкрикивают имя нашего противника и пытаются обнаружить его среди леса копий и гребней шлемов.
Персидской царской конницей командует Тигран, герой Исса и самый прославленный конник Азии. Говорят, что его конь Беллакрис (Метеор), подарок Дария, стоит двадцать талантов золотом. Вокруг Тиграна сражаются благородные воины, которым нет равных: Ариобат, Автофрадат, Гобарзан, Массаг, Тиссамен, Багоас и Гобриас.
Могучий воин устремляется ко мне. Это Тигран. Я узнаю его по великолепному снаряжению и превосходному коню, на котором он скачет. Рядом с ним мчится Ариобат. Этот человек мне незнаком, но весь его облик говорит о высокой воинской доблести. Рядом со мной скачет Чёрный Клит. (Теламон и Птолемей остаются на правом крыле, помогая Клеандру, как и Любовный Локон с Певкестой; Гефестион командует agema царских телохранителей.) В данный момент мою личную охрану составляют трое юношей из свиты, каждый не старше девятнадцати лет. Тигран ведёт за собой группу царских «родственников».
Мы сталкиваемся как волны.
— Искандер!
Вызывая меня на бой, Тигран выкрикивает моё имя на персидский лад. Его Метеор устремляется на Буцефала, как трирема на таран, и могучие кони сшибаются на полном скаку. Оба они производят впечатление огнедышащих чудовищ. Зубы Метеора оказываются настолько близко от моего лица, что он пытается отхватить мне скулу. Глаза его полны дикой ярости. Сомкнувшись грудь с грудью, кони ведут собственный бой, тогда как мы с Тиграном схватываемся в поединке, один на один. Тигран мог бы вонзить своё копьё в горло Буцефала с такой же лёгкостью, как я поразить Метеора своим. Но он этого не делает, как не делаю и я.
— Я Тигран! — кричит мой соперник по-гречески.
Мне нравится этот человек. Это воин! Это герой!
Я намереваюсь нанести ему удар сбоку, чтобы поразить его под обрезом нагрудника, но люди и кони настолько тесно прижаты друг к другу, что я не могу не только отклониться в нужную сторону, но даже пошевелить правой ногой, прижатой к боку Буцефала крупом коня моего телохранителя Андрона. В результате я наношу прямой удар, целя мимо шеи Буцефала в горло соперника. Однако кони не стоят смирно, а ведут свою борьбу, в результате чего я совершаю промах. Наконечник моего копья отскакивает от виска, защищённого вызолоченным, конической формы шлемом с наушниками и назатыльником, и пронзает воздух поверх плеча Тиграна. Тот, в свою очередь, левой рукой перехватывает моё копьё настолько выше по древку, что его кулак касается моего, а правой совершает выпад своим. Его копьё имеет кизиловое древко длиной чуть более четырёх локтей и четырёхгранный железный наконечник. Удар приходится в грудь, у левого соска, но соскальзывает по пластине панциря ещё левее. Повредив доспех, наконечник оказывается между моими рёбрами и рукой. Чем я немедленно пользуюсь, прижимая оружие к себе. Ранен ли я? Сейчас, в горячке поединка, мне трудно определить, задело ли отклонившееся копьё мою плоть или броня спасла меня. Но в одном у меня нет никаких сомнений. Если мне суждено сложить голову в этом поединке, то я утащу за собой в ад и своего соперника.
Насколько это возможно при зажатой правой ноге, я выпрямляюсь и подаюсь вперёд, наваливаясь всем весом на шею Буцефала и, соответственно, на своё копьё. Моя задача — или высвободить своё оружие из хватки врага или, если он не отпустит, вывести его из равновесия. Если не будет другого выхода, я спрыгну с коня и разорву ему глотку голыми руками. Однако пока мы сцепились с ним мёртвой хваткой, заблокировав один другому оружие, на моё левое плечо обрушивается удар персидской булавы. Я лечу на находящегося справа от меня Андрона. В тот же самый миг Клит из-за моей спины наносит длинным македонским копьём удар, целя Тиграну в сонную артерию. Он промахивается и попадает в наушник шлема, но удар настолько силён, что едва не вышибает перса из седла. Ремень лопается, шлем слетает с головы. Чудо, что у Тиграна не сломалась шея. Мало кто, получив такой удар, усидел бы в седле, но Тигран приходит в себя настолько быстро, что успевает поймать свой шлем на лету и, повернувшись в седле, в ярости швыряет его в Клита.
Филот, сражавшийся слева от Тиграна с Ариобатом, ловко увернувшись от своего противника, сам метит в Тиграна. К этому моменту «друзья» и «родственники» смешались в такой безумной, ожесточённой схватке, что о цели атаки, царе Дарии, похоже, все позабыли.
Я, однако, о нём помню и стремлюсь пробиться к нему. В общей давке меня оттесняют в сторону от Тиграна. Несмотря на ожесточённое сопротивление, мы рвёмся вперёд, проламываясь сквозь живую стену. Неожиданно Клит громко кричит и указывает вперёд. Я вижу Дария. Царь находится менее чем в тридцати локтях от нас. С яростной доблестью орудует он со своей колесницы двуручной пикой, именуемой asksara, отбиваясь от воинов нашего боттиейского отряда, занимавшего правую оконечность нашего атакующего строя. Забыв обо всём на свете, я напролом устремляюсь к царской колеснице. Мысль о том, что моего главного соперника может убить кто-то другой, чуть не сводит меня с ума. Всего три ряда отделяют нас от царя. Я вижу, как Карман, командир домашней стражи, собирается вывести колесницу Дария из-под удара. Я направляю вперёд почти взбесившегося от ярости Буцефала, и тут в нашем тылу неожиданно появляется вражеская тяжёлая пехота. Наёмники Патрона, которых мы обогнули на предыдущем этапе атаки, видимо, смогли уйти из-под удара большого клина и, чего никто не ждал, объявились здесь. Эллины прорываются сквозь ряды боттиейцев и смыкаются вокруг царя бронированным кольцом. Они спасут его. Я отчаянно взываю к небесам, моля о крыльях, о чуде, о чём угодно, что перенесло бы меня над всей этой давкой и позволило оказаться рядом с Дарием. Мои ноги настолько устали, что я уже не ощущаю своего тела ниже пояса. С яростью отчаяния я прокладываю себе путь сквозь толпу защитников. Многие из них падают под ударами, но остальные теснее смыкают свои ряды, становясь живым щитом для готовящегося к бегству царя. Ради его спасения герои Персии дерутся со сверхчеловеческой отвагой: они понимают, что каждый миг, купленный ценой их жизни, увеличивает надежду на то, что владыке Востока удастся ускользнуть от врага.
Мы наступаем, и противник отступает. Но отступает, сохраняя порядок и оказывая ожесточённое сопротивление. Персы свежи. Мы измотаны. Мы пробились с боем сквозь восемь вражеских рядов, наши кони с того момента, как мы спустились с Полумесяца, преодолели не один стадий и пребывали в крайне напряжённом состоянии на протяжении времени, казавшегося нам долгими часами. Я схлестнулся с воином в железной кольчуге, находящимся всего в двух рядах от царя. Он левша. Остриё его пики проходит на волосок от моей правой руки, и этот промах стоит ему жизни. Я вгоняю меч ему в глотку, вкладывая в удар всю силу. Мне необходимо убрать этого человека с дороги, но доблестный воитель, даже умирая, загораживает собой своего царя. Он наваливается на мой клинок так, что тяжесть его мёртвого тела сковывает меня, не давая добраться до Дария. Между тем обе мои руки уже немеют от усталости. Я оглох от шума, в глазах у меня рябит от нервного возбуждения.
Я вижу, как наёмник Патрон собирает своих гоплитов вокруг Дария. Домашняя стража Кармана расчищает путь побега. Раздаются крики, неистово щёлкают кнуты, но звуки не достигают моего слуха. Это кошмар. Создаётся впечатление, будто я вязну в дёгте или варе. Между нами и царём остаётся лишь двойная шеренга защитников. Мы с Клитом и бойцы царского подразделения «друзей» бросаемся на них, но мне кажется, будто наши удары наносятся замедленно, словно бой происходит под водой. Я не ощущаю рук и поднимаю меч с таким трудом, словно это тяжеленная свинцовая гиря.
— Он убегает! — истошно кричит Фи лот. По линии сто македонских глоток подхватывают этот крик.
Бой продолжается ещё два часа. Мои отряды не могут немедленно погнаться за Дарием, ибо на флангах идёт отчаянный бой, и военачальникам, Пармениону и Кратеру слева, так же как Мениду, Арету, Клеандру и Аристону справа, настоятельно требуется подмога. За это время я сам полдюжины раз оказываюсь на волосок от гибели, а многие мои командиры получают раны. Гефестиону копьём пробили руку, Теламону прострелили обе ноги; Кратер, Коэн, Пердикка и Менид, все четверо, изрешечены стрелами. Из двух тысяч первоклассных боевых коней «друзей» от ран или изнеможения пала половина, а у наёмников да союзников и того больше.
Ночь застаёт меня, успевшего сменить уже восемь лошадей, в двухстах стадиях к юго-востоку от поля боя. Группа преследования составляет половину царского подразделения «друзей», две четверти копейщиков Арета и залатанный отряд пеонийцев Аристона.
Вопреки ожиданиям Дарий убежал не на юг к своим драгоценным городам Вавилону и Сузам (очевидно, он потерял надежду удержать их), но на юго-восток, к своему лагерю в Арбелах. Как мы узнали позднее от пленных, он добрался до него к полуночи и, не разрушив моста, чтобы через него могла перебраться его отступающая армия, в сопровождении свиты направился на восток через горы, по караванному пути, ведущему в Мидию. Я гнался за ним по пятам до темноты, дал отдохнуть лошадям и людям до полуночи и продолжил путь дальше, до Арбел, добравшись до них на следующее утро. Дарий опередил нас на несколько часов. Дорога представляет собой сплошной поток беженцев, и пробиться сквозь эту безумную толпу с нужной нам скоростью решительно невозможно.
Арет, во вчерашнем бою на всю жизнь увенчавший себя неувядающей славой, подъезжает и останавливается рядом со мной. Бока его коня покрыты спёкшейся коркой. Лицо Арета, включая зубы, черно от крови и сажи.
— Пусть Дарий уходит, Александр, — говорит он. — С ним покончено. Новой армии ему уже не собрать.
Но такие советы не по мне. Мы продолжаем путь по предгорью вместе с десятками тысяч беглецов. Многие из них знают местность не лучше нас и, не имея проводников, целыми толпами забредают в тупики каньонов. Наконец один из сотников Арета отлавливает на обочине погонщика мулов, явно уроженца здешних мест. Мы принуждаем его стать нашим проводником. Я клянусь, что если он укажет нам верный путь через эти горы, то станет богатым человеком, в случае же обмана ему перережут глотку.
На протяжении двух часов наш отряд петляет по тропке не шире струйки бычьей мочи. По сторонам вздымаются утёсы и зияют бездонные пропасти. Всякий раз, когда Клит, угрожая плетью, выражает сомнение в том, что эта вонючая тропа ведёт куда надо, погонщик клянётся небесами, уверяя всех в правильности избранного пути. Он убеждает нас карабкаться всё выше и выше, ибо, по его словам, с вершины мы увидим караванный путь, по которому бежал Дарий. Но когда мы одолеваем последний подъём, тропа обрывается, упираясь в отрог.
Погонщик мулов срывается с места, пытаясь убежать, но его ловят и приводят ко мне. В сердце моём нет ненависти: я восхищаюсь его выдержкой и мужеством.
— Ты сохранил жизнь своего царя, — говорю я ему, — но заплатишь за неё своей.
На обратном пути мои товарищи отдаются радостному воодушевлению.
— Теперь ничто не стоит между нами, Вавилоном и Сузами, — восклицают они. — Мы возьмём себе женщин из персидских гаремов и будем вкушать трапезу на золотых блюдах!
— Держава твоя, Александр. Приветствуем тебя, Властелин Азии!
Мой даймон, однако, настороже. Он знает, что с бегством Дария я, возможно, уничтожил одного противника, чтобы его место заняли двое других. Во-первых, Персидская держава, правление которой становится моим бременем. А во-вторых, моя собственная армия, которая, разжившись неслыханными богатствами, разжиреет и разленится настолько, что её трудно будет вернуть на путь славы.
Если это вообще удастся.
Я безутешен. Дарий снова убежал.
Книга восьмая ЛЮБОВЬ К ТОВАРИЩАМ
Глава 27 ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
Вавилон означает «Врата Бога». Его стены, имеющие девяносто локтей в высоту и четыреста стадиев в окружности, были воздвигнуты, как говорят, самим Навуходоносором. Сооружённая из обожжённого кирпича и битума крепость, к которой ведут ворота Иштар, возносится над Евфратом на высоту в триста локтей. Сам город расположен на великолепно ухоженной равнине, каналы, пруды, шлюзы и прочие ирригационные сооружения которой представляют собой настоящее чудо. Впрочем, ещё более удивительные чудеса творят здешние сборщики налогов и чиновники, под присмотром которых эта земля каждый год приносит по три урожая кунжута, проса, ячменя, пшеницы и риса. Не приходится сомневаться в том, что почва Вавилонской равнины является самой окультуренной на земле. Ты не сыщешь здесь ни единого цветка, который не был бы посажен рукой человека и не цвёл бы благодаря его уходу и заботе. Финиковые пальмы растут упорядоченными рядами, плотными, как сосновые леса Фракии. Их древесина не гниёт в воде, а из плодов, которые сами по себе пригодны в пищу, варят местное пиво. Оно такое густое, что пить его лучше через соломинку, но вкус имеет отменный, прекрасно пьянит, а поутру от него не болит голова.
Более двухсот лет назад Кир Великий захватил Вавилон, отведя русло Евфрата и двинув армию ночью по высохшему руслу. У нас это происходит легче. Перед Гавгамелами разведчики из нашей лёгкой пеонийской конницы захватывают в плен нескольких персов, включая чрезвычайно сообразительного молодого персидского сотника, прекрасно говорящего по-гречески и состоящего при особе самого Мазея, командующего правым крылом персидской армии и наместника Вавилонии. Я уверен, что этот превосходный молодой офицер попался нам в руки не по оплошности, но следуя приказам своего начальника. Я приказываю освободить его, чтобы он доставил Мазею моё послание. Там говорится, что я, как благородный человек, не призываю никого предать своего государя на поле боя, однако, если военная удача склонится на мою сторону, не буду таить зла против честных противников и с радостью предложу свою дружбу тем из них, кто будет готов её принять. При Гавгамелах и Мазей, и помянутый молодой сотник сражались с исключительной отвагой, однако бегство Дария избавило их от каких-либо обязательств по отношению к бывшему владыке. Я снова посылаю к Мазею, заверяя, что, приняв мою сторону, он не пожалеет.
— Мой ответ тебе принесёт ветер, — отвечает сатрап.
В Вавилоне бытует обычай запускать в торжественных случаях воздушных змеев. Летом жаркий, сухой ветер дует по равнине потоками, которые в хорошо известных местным жителям местах обеспечивают мощный подъём. Неудивительно, что здесь так любят развевающиеся на ветру полотнища: вымпелы и флажки украшают не только усадьбы знати, но и самые скромные жилища, и над многими городскими домами по праздникам реют разнообразнейшие змеи. Вавилонские мастера изготовляют их из высушенного, прессованного льна, ярко раскрашивают и придают им самую необычную форму. Над городом можно видеть бабочек и кузнечиков, воронов, карпов и окуней. Восходящие потоки воздуха возносят змеев на невероятную высоту, а по изощрённости и великолепию такого змея можно судить и о высоте положения его владельца. И вот по приближению к Вавилону нашу армию встречают тысячи парящих над городом красочных воздушных змеев. Солдаты радостно улюлюкают, а навстречу им уже валит толпа горожан. Дети осыпают марширующих воинов лепестками цветов и протягивают им сласти. Сам Мазей, с жёнами и детьми, поджидает нас на Царском канале, на борту разукрашенной барки. Как оказалось, он подготовил большой праздник с пирами и увеселениями. На пятьдесят стадиев вокруг города дороги украшены пальмовыми ветвями, а начиная с десяти стадиев — венками и гирляндами. По обочинам выстраиваются тысячные толпы, жрецы возжигают на серебряных алтарях ладан.
Всё это теперь наше. Табуны лошадей, стада домашнего скота, повозки, груженные благовониями и пряностями. Мазей не упустил ничего, выставив в качестве даров даже говорящих воронов и тигров в клетках.
Я выстроил армию в боевом порядке, чтобы продемонстрировать населению его новых хозяев. Впереди идёт фессалийская конница, ведомая отрядом закованных в сверкающую броню фессалийцев, далее агрианские и македонские лучники, а за ними фракийские метатели дротиков Балакра. Следом движутся половина греческой и наёмной конницы, солдаты Арета, Менида и Аристона, царские копейщики и конные разведчики. Раненые и больные, не способные ни маршировать, ни ехать верхом, остались в полевом лазарете к северу от города, но я переправлю их в Вавилон, как только позволят обстоятельства. За копейщиками движутся царские телохранители, отряды Гефестиона и Никанора (и те и другие в темно-красных плащах с прорезями цветов своих подразделений), потом лучники с Крита и союзные, греческие и наёмные, пехотинцы, ведомые «наёмниками-ветеранами» Клеандра. Позади — осадный обоз и военные механики, подчинённые Диаду. С флангов их окружают наёмная конница Андромаха и другая половина союзной греческой конницы. Полевой обоз, скромный в сравнении с осадным, демонстрирует бывшему противнику, сколь малым можем довольствоваться мы в походе, но в его хвосте, на захваченных нами роскошных персидских колесницах, едут в окружении свиты мать и жена бывшего владыки Персии. Юного сына Дария, Оха, я посадил на свою собственную лошадь, Корону, и он едет рядом со мной. Женщины скрыты за высокими бортами колесниц, но над их экипажами реют царские знамёна.
Позади полевого обоза, в доспехах и с поднятыми вверх сариссами, в том же порядке, в каком они победоносно сражались при Гавгамелах, вышагивают шесть отрядов фалангистов — Коэна, Пердикки, Мелеагра, Полиперкона, Аминты (под командованием его брата Симмия) и Кратера. Замыкают шествие фракийцы под командованием Ситалка, наёмники Андромаха, греческая конница под командованием Эригия, союзная кавалерия под командованием Койрана, одриссы под командованием Агафона и ахейская и пелопоннесская пехота под началом их местных командиров.
На следующий день я вступаю в город и совершаю жертвоприношение Ваалу, верховному божеству Вавилонии. При свершении священного обряда присутствуют, согласно обычаю, Мазей и халдейские жрецы. Я восстанавливаю ритуалы древней религии, запрещённой Дарием, и повелеваю отстроить заново Великий храм Эсагилии, который сровняли с землёй по приказу Ксеркса. Я не разрешаю царицам и женщинам из их свиты расположиться в их прежних городских покоях, но оставляю их в армейском лагере на равнине Ашай, к востоку от города. Мои отряды занимают крепость, разоружают персидский гарнизон и занимают посты на башнях.
На утро третьего дня я вступаю в Вавилон уже не формально, а чтобы сделать его своей ставкой. Месопотамская провинция Персидской державы столетия тому назад входила в состав древних царств: Халдейского, Ассирийского, Вавилонского, Ура, Шумера и Аккада. Этими землями правили Семирамида, Саргон, Синахериб, Хаммурапи, Навуходоносор, Ашшурбанипал. Сюда вторгались скифы, касситы, гититы, мидийцы, лидийцы и эламиты. Две сотни лет назад Междуречье Тигра и Евфрата подчинил своей власти Кир Великий, а теперь мы, уроженцы Македонии и Эллады, заставляем одно из древнейших царств мира покориться нашему могуществу.
Но где же Дарий?
В огромном пиршественном зале собирается совет. Слово предоставляется Гефестиону, в чьём ведении находится дальняя разведка. При Гавгамелах он был ранен копьём и держит речь с перевязанной рукой.
— Шпионы и дезертиры сообщают, что царь бежит на восток к Персеполю, столице державы, или на север, в индийский город Экбатаны.
Ползала представляет собой обширную карту державы. Гефестион переходит с точки в центре, обозначающей Вавилон, на восток, а потом к другим городам, в то время как наши военачальники, восседающие за огромным столом из чёрного дерева, смотрят и слушают с удовлетворённым благодушием победителей. Мы едим мясо врага, пьём его вино, и деловой разговор то и дело прерывается здравицами, которые я не могу да и не хочу прерывать.
— И до Персеполя и до Экбатан отсюда месяц с лишним нелёгкого пути, тем паче что добраться до обоих городов можно, лишь перевалив через крутые горные кряжи. Согласно донесениям, под рукой у Дария всё ещё остаётся не менее тридцати тысяч человек. Даже выступив в погоню сегодня, мы не настигнем его раньше зимы, но, если ты хочешь знать моё мнение, просить о чём-то подобном пехоту, только что понёсшую тяжелейшие потери, или кавалерию, чьи люди и кони пострадали ещё больше, недопустимо.
— Кроме того, — восклицает Птолемей, — мы победили!
— Людям нужно золото и время, чтобы потратить его, — добавляет Пердикка.
— Клянусь Гераклом, и мне тоже! — поддерживает его Клит.
Эти высказывания встречают дружными, одобрительными восклицаниями.
— И впрямь, — соглашаюсь я, — солдаты имеют право отдохнуть и развлечься. Они это заслужили.
Мы зазимуем в Вавилоне. В любом случае мне нужно время, чтобы переоснастить армию. Помимо серьёзных потерь в людях мы понесли ещё более серьёзные потери в конях — более тысячи прекрасно обученных боевых скакунов и вдвое больше запасных лошадей. Чтобы заменить животных и обучить их в соответствии хотя бы с минимальными требованиями, предъявляющимися у нас к кавалерийским коням, понадобится не один месяц.
Кроме того, нам придётся изменить структуру армии. Предстоит бросок на восток, и грядущие битвы состоятся не на открытых равнинах, а в пустынях, холмах и горах. Для этого потребуются более лёгкие, маневренные подразделения, а возможно, и совершенно новая тактика.
— Будешь ли ты охотиться за Дарием предстоящей зимой? — спрашивает Парменион.
— Охота бывает разной, это не обязательно гонка по горячему следу, — отвечаю я. — Царь может убежать, но не может скрыться. Так что пока, друзья мои, давайте приведём в порядок эту конюшню, — я указываю на изображение Вавилона на мозаичном полу.
Мы начинаем.
Наши завоевания научили нас искусству брать на себя управление страной. Мои командиры выучились этому по опыту Египта, Палестины, Газы и Сирии. Судя по всему, данный процесс проходит гладко и здесь, за исключением одного случая, который в то время казался пустяковым, но в ретроспективе приобретает привкус дурного предзнаменования. Он имеет отношение к Филоту.
После Гавгамел я поручил ему доставить в Вавилон захваченное в бою имущество Дария. Он доставляет все, в том числе коней и колесницы, включая и некое устройство, используемое персами при совершении церемонии, именуемой Процессией Солнца. Этот практикуемый монархами Персии ритуал требует участия огромного числа народа: колонна празднующих, включающая жрецов, магов, музыкантов, певцов и десять тысяч «носителей яблока», в полном вооружении и доспехах растягивается на пять стадий. Участвует в процессии и сам царь на блистательной Колеснице Солнца.
И вот Филоту вздумалось устроить комическую пародию на эту церемонию и провести по улицам Вавилона шутовскую процессию, желая не только польстить нашему тщеславию победителей, но и предать осмеянию варварскую напыщенность, к которой были склонны былые властители побеждённой нами державы. Филот делает это, не ставя меня в известность. Я узнаю о его затее, когда, работая во дворце с бумагами, вдруг слышу доносящийся с улицы шум и гам. Наши соотечественники вместе с принуждёнными к этому пленными сформировали глумливую потешную процессию, а толпы местных жителей вывалили на улицы, привлечённые поднятым ими шумом.
Я выхожу на галерею, со мной Парменион, Гефестион, Кратер и другие.
— Посмотри сюда, Александр, — кричит мне с седла Филот. — Что ты об этом думаешь?
Среди пленных стоят остатки царских телохранителей Дария, «носителей яблока». Однако я замечаю, что ряды благородных воинов, большая часть которых полегла при Гавгамелах, а немногие преданные остались с Дарием и при его бегстве, пополнены уличными оборванцами, головорезами и бандитами. С прославленной Колесницы Солнца содрали всю её золотую обшивку, оставив лишь голую раму, а поскольку из тысячи белоснежных скакунов царя царей уцелели лишь немногие, нехватку компенсировали обозными клячами, мулами и даже ослами. Мой взгляд привлекает один из командиров «носителей яблока», человек лет пятидесяти с благородной осанкой и многочисленными боевыми ранами. Нога его до середины икры в лубке, наложенном лекарем на месте перелома.
— Что я думаю, Фи лот? Я думаю, что ты подверг позору и осмеянию хороших, достойных людей. И я приказываю тебе немедленно прекратить это безобразие и предстать передо мной.
Филот явно ожидал совершенно другой реакции. Вспыхнув от обиды, он спешит к галерее, где стою я.
— И чего, Александр, хочешь ты добиться такими словами? — громко, во всеуслышание, спрашивает он. — Унизить других достойных людей, среди которых я занимаю не последнее место? Тех самых, кровь и труды которых обеспечили тебе победу!
Сгрудившаяся позади толпа подогревает его кураж.
— На чьей ты стороне? — требовательно спрашивает он у меня, забыв о вежливости и почтении.
Я выступаю вперёд.
— Проси прощения у своего царя! — приказывает Парменион своему сыну, мгновенно встав рядом со мной.
Гефестион и Кратер стоят наготове совсем рядом. Одного моего взгляда было бы достаточно, чтобы они зарубили Филота на месте.
— Благодари небо, — говорю я ему, — что ты совсем недавно пролил кровь на поле боя, иначе за такую дерзость тебе пришлось бы пролить кровь здесь и сейчас.
Потом, с глазу на глаз, Кратер укоряет меня:
— О чём ты думал, Александр? Унижать командира «друзей», причём публично, на глазах у побеждённого врага! Нам нужна не любовь персов, а их страх!
Он, конечно, прав. Его укоры во многом справедливы. Однако в моей душе что-то изменилось. Я больше не вижу в благородных воинах Персии своих врагов, а в её жителях — рабов, с которыми можно обращаться как заблагорассудится.
В сопровождении Гефестиона я объезжаю ячменные поля вдоль Царского канала. Время обеденное, и два солдата Мазея ухватили живого гуся. Крестьянин бьёт их граблями, а они смеются. Наше появление останавливает скандал. Солдаты указывают на меня, ожидая, что один вид грозного завоевателя устрашит земледельца, но старик не выказывает ни малейшего трепета.
— Мне всё равно, какой разбойник наложит руки на мой урожай и мою живность, — заявляет он, — власть меняется, а я так и остаюсь бедняком.
Смелость простолюдина приходится мне по нраву, и я, остановившись, говорю ему, что намерен установить в покорённой стране порядок и он сможет спокойно возделывать свою землю.
— Ну конечно, — хмыкает он. — Весь твой «порядок» сведётся к тому, что ты отберёшь эту землю у знатного перса, владеющего ею сейчас, и передашь кому-нибудь из твоих сотников или тысячников. Я и перса этого в глаза не видел, и твоего командира не увижу. Что, скажи, изменится для меня? Я как трудился здесь, отдавая большую часть урожая в уплату за землю, так и буду трудиться впредь, под пятой у городского управляющего, который будет действовать в интересах нового хозяина.
Меня интересует, как распределяется урожай, и крестьянин, загибая пальцы, отвечает:
— Из каждых десяти мер я отдаю четыре царю, две управляющему, иначе он вышвырнет меня с участка, и четыре оставляю себе. Одну из них я жертвую богам, одну жрецам, одну семье моей жены и лишь из последней, если повезёт, пеку хлеб.
Я спрашиваю крестьянина, чего бы хотел он.
— Отдай мне эту землю, разреши оставлять урожай себе, а управляющего пришли из города ко мне, пусть-ка поработает на поле. Я заставлю попотеть этого жирного ублюдка.
Я предлагаю старику стать управляющим моими полями или взять из моей казны столько денег, чтобы он мог не работать до конца своих дней.
— Пожалуйста, не надо! — восклицает старик с неподдельным ужасом. — Не надо мне никаких денег! Если соседи прослышат, что у меня завелось хотя бы полмедяка, они проломят мне череп, а чего не заберут они, то вытрясут родичи моей жёнушки. Уж эти-то точно обдерут меня до костей.
— Что же тогда оставить тебе, мой друг?
— Мою нищету.
И он смеётся.
Мы с Гефестионом начинаем всерьёз изучать здешнюю систему хозяйства.
— В такой местности, как эта, — замечает мой спутник, — мелкие усадьбы свободных землевладельцев, такие, как у нас в Македонии, существовать не могут. Всё зависит от орошения, но и рытье каналов, и поддержание их в чистоте — ибо они очень быстро заполняются осадками и зарастают камышом — требует организованного массового труда. Принудительного труда. Здешняя земля, — заключает Гефестион, — взращивает не только пшеницу и ячмень, но и тиранию.
По возвращении во дворец я начинаю выслушивать прошения и сразу же понимаю, что реальная власть здесь принадлежит не царю, а тем, кто контролирует доступ к монаршей персоне. Мздоимство процветает не только у моего порога, но и на всех ведущих к нему дорогах. Мазей вместе со смышлёным молодым сотником Боасом и двумя евнухами, Фарнаком и Адраматом, становится моим наставником.
Как ты, надо думать, понимаешь, советники и казначеи из евнухов являются самими богатыми и влиятельными людьми в царстве. Они не только официально заправляют всеми государственными делами (это им положено по должности), но и составляют теневой синдикат с собственными вождями и обетом молчания, соблюдаемым строже, чем в любой банде или шайке преступников. Адрамат при Дарии был царским казначеем в Вавилоне, где, как я выясняю, под его началом состояли четыре помощника казначея, которые руководят сетью из нескольких тысяч других чиновников — сборщиков налогов, судей, управляющих и писцов. Мне доносят, что все эти люди состоят в тесном сговоре, и все они продажны и лживы, словно путь в ад. Главными звеньями в этой цепи обогащения являются так называемые bagomes, «солдаты», то есть лица, назначенные управлять землями представителей знати, которые сами находятся при дворе или в армии, но должны получать доход со своих владений. По существу, эти агенты, назначаемые не землевладельцами, а царём, и являются носителями истинной власти. Богатство евнухов заключается не в землях (ибо им запрещено владеть чем-либо, кроме их личного имущества) и даже не в деньгах, но в arcamas, «влиянии». Это, конечно, то же самое, что деньги. Великие полководцы и знатные военачальники вынуждены заискивать перед ними. Евнухи могут отобрать землю у любого человека, схватить его жену и детей, лишить его богатства, свободы, жизни. В их власти погубить даже сыновей и братьев царя.
— Как же Дарий контролировал их? — спрашиваю я Фарнака.
— Никак, — отвечает тот. — Лишить их власти можно, лишь проведя полную чистку, а на это не осмелишься даже ты. Ибо без них держава в один день развалится на части.
Я расспрашиваю Фарнака об уголовных преступлениях — воровстве, убийствах, уличных грабежах. Он отвечает, что таковых в Вавилоне не существует, ибо человек, укравший грушу, лишается правой руки, а хулящему своего господина урезают язык.
На третий день своего пребывания в городе я велю казначею показать мне монетный двор. В его сокровищнице хранится ошеломляющая сумма в двадцать тысяч талантов, главным образом в золотых и серебряных слитках. Лишь четыре или пять тысяч собраны в дариках и статерах. И это хранилище не заперто на замок и не имеет никакой стражи, кроме сидящих в каморке перед входом двух юных писцов и архивариуса, такого древнего, что он не смог бы отстоять это место даже от нашествия москитов. Я вижу, что это Восток. С одной стороны, достояние державы постоянно расхищается правительственными чиновниками, назначенными для того, чтобы оберегать и приумножать его, с другой — вы можете оставить всю государственную казну посреди Улицы шествий, и ни один человек не возьмёт ни монетки.
Мне рассказывают, что двести лет назад, когда Вавилонию завоевал Кир Великий, он разделил всю плодородную землю провинции на семнадцать тысяч участков, которые роздал своим победоносным солдатам и командирам. Эти пожалования подразделялись на наделы лучников, всадников и колесничих. Держатель имения платил ежегодную подать, зависящую от категории. Кроме того, с каждого надела лучника в царское войско направлялся пехотинец в доспехах, с оружием и со слугой, с каждого надела всадника — верховой со своим конём и в сопровождении конюха, а с надела колесничего — возничий с колесницей, упряжкой и оруженосцем. Поскольку многие из держателей наделов постоянно находились или в армии, или при дворе и не имели возможности вести хозяйство на своих землях, участки передавались в ведение управляющим из местных чиновников. Те заключали с владельцами договор, по которому должны были обеспечивать рачительное использование земли, а полученный доход, за вычетом царских податей и причитающегося им вознаграждения, перечислять землевладельцам. Эти управляющие, оказавшиеся фактическими хозяевами земли, составили kanesis, «сообщество» или «семью» заговорщиков, деятельность которых была направлена на подрыв власти и влияния персидской знати и, соответственно, расширение собственных возможностей. Евнухи, служившие царю, были посвящены в эти интриги и всячески способствовали их успеху, ибо сами были заинтересованы в ущемлении знати и укреплении собственного положения. В результате царские казначеи и сборщики налогов действовали в сговоре с мошенниками, обиравшими царских воинов, подрывавшими военную мощь державы и, стало быть, интриговавшими против самого царя. Однако, забирая себе львиную долю доходов, они тем не менее вынуждены были отдавать некую толику и в казну, и землевладельцам. Разумеется, все эти средства выколачивались из несчастных крестьян.
И вот теперь над этими землями воцарился я. Мне тоже предстоит поделить окрестности Вавилона на царские наделы и раздать их моим соотечественникам. А что ещё могу я сделать? Война зовёт меня дальше и дальше. Естественно, мне хочется, чтобы в моих владениях воцарились справедливость и всеобщее благоденствие. Но как этого добиться? В конечном счёте, у меня нет иного выбора, кроме как оставить дела точно в таком же состоянии, в каком они пребывают сейчас, в ведении тех же самых чиновников. Я вынужден поступить так, как поступал до меня каждый завоеватель.
Я заберу деньги и пойду дальше.
И всё же я не стал бы утверждать, что продажность составляет единственную суть здешней жизни. Я провожу памятную ночь в беседе с царицей-матерью Сизигамбис, ставшей для меня своего рода наставницей.
— На Востоке человека оценивают не как личность, по его заслугам, но исключительно по его положению, месту у кормила власти. Он не может самостоятельно «преуспеть» или «продвинуться». Наше общество, Александр, совершенно не похоже на твою армию, где доблесть уравнивает всех, позволяя бедняку обогатиться, а человеку незнатному достичь видного положения. У нас же ни один человек не существует вне подчинения другому.
Сизигамбис подробно рассказывает мне о сложнейшем механизме власти, том путаном лабиринте, в котором одна часть общества навязывает свою волю другой, но тем самым и сама ввергает себя в зависимость от чьей-то тиранической воли.
— Взаимная кабала представляет собой сеть, простирающуюся сверху вниз и из стороны в сторону, паутину, опутывающую всех и каждого. По нашим понятиям, человек не может и не должен иметь собственной воли, единственное допустимое желание — это желание угодить своему господину. Спроси любого, а чего именно хочет он сам для себя, и человек затруднится ответить. Само это понятие находится за пределами его понимания.
Это Восток. Справа видишь богатство, поражающее воображение, слева — нищету, которая не поддаётся описанию. Тяготы, выпадающие на долю крестьян, столь велики и нескончаемы, что любого из этих людей можно считать почти святым. Они держатся с достоинством, которому могли бы позавидовать и цари Запада, но это достоинство камня, столетиями противостоящего выветриванию, а не человека, спустившегося с небес.
Я говорю царице матери, что хотел бы видеть её сына, царя Дария, здесь, с нами.
— Зачем? — спрашивает она.
— Чтобы понять, как он управлял этим новым для меня миром. И попытаться выведать тайны его сердца.
Персидская царица со вздохом опускает глаза.
— Господин, из всех людей владыка Востока наименее свободен. Его роль состоит в том, чтобы быть живым воплощением всего великого и благородного, что есть в мире. Величие его сана наполняет жизни его подданных надеждой и смыслом. Однако сам он порабощён своим высоким положением. Мой сын Дарий не захотел бы рассказывать тебе о своей жизни, Александр, но спросил бы с завистью о твоей.
Что же до денег, то дело обстоит следующим образом. Поскольку всё богатство стекается наверх, к царю, люди придумывают множество махинаций, позволяющих укрывать доходы от всевидящих очей сборщиков налогов.
Вовсю процветают такие элементы чёрного рынка, как заменяющий куплю-продажу прямой обмен, но главное, в более крупных масштабах, achaema, «поручительство». Появляются и условные заменители денег, причём в одном городском квартале эту роль могут выполнять черепки, а в соседнем — свинцовые грузила. Так или иначе, устойчивость такого «платёжного средства» гарантирует уличный «казначей», который либо сам входит в одно из управляющих городом тайных обществ, либо действует под его протекцией.
Возьмём, например, сукновала, владельца мастерской и лавки, где изготовляют и продают войлочные изделия. В счёт налогов он отдаёт часть своего товара, но ему ведь ещё нужно платить жалованье работникам. Чем? Не монетами, которые он, можно сказать, в глаза не видит. Работники получают расписки, обеспеченность которых гарантирует achaemist — уличный казначей. Кто защищает его и обеспечивает его деятельность? Тайный синдикат, который находится под покровительством царских казначеев. Эта система хозяйствования сложна, как само мироздание, и постигнуть её почти столь же трудно, как проникнуть в помыслы Бога. Завоеватели и властители сменяют друг друга, не затронув и не поколебав её. Я уверен, что на широких просторах Вавилона, с его четырьмя миллионами душ, три четверти никогда не слышали ни моего имени, ни имени властвовавшего над краем долгие годы Дария. Однако следует признать, что данная система куда более пагубна не для завоевателя, а для населения. Да, при практическом отсутствии денежного оборота люди сводят к минимуму свои налоги, но какой ценой? Сама идея «поручительств», призванная освободить человека от тирании сборщиков податей, извращается, оборачиваясь другой формой порабощения. Каждый оказывается пленником своего квартала, живёт только его жизнью и не может иметь каких-либо интересов и стремлений за его пределами. Это одна из причин, по которым столь великий город может быть захвачен с такой лёгкостью, будто его стены возведены из паутины.
Не следует забывать и о том месте, которое отводится в жизни Востока плотским утехам.
В обществе, в котором дух человека сокрушён с рождения, где надежда отсутствует, страдание притупляет, где душу питает отчаяние и каждый является рабом, отдельный человек стремится к получению сиюминутного удовольствия, когда и где это возможно. При этом далеко не все довольствуются простыми, непритязательными радостями: в большинстве случаев пристрастия вавилонян отличаются извращённостью и жестокостью. Нигде в мире все мыслимые пороки не расцветают столь пышным цветом, как в Вавилоне, нигде более сам воздух не отравлен духом соблазна так, как здесь. Здесь доступно всё: дурманящие вещества и изысканные благовония, возбуждающие желания притирания и масла, питьё, пробуждающее похоть, равно как яды и целебные бальзамы. Девочек и мальчиков с малолетства обучают искусству утоления страсти, а всевозможные предметы, служащие удовлетворению извращённого вожделения, позволяющие добиваться покорности, причинять боль или облегчать её, продаются на каждом углу. Среди ассирийцев и вавилонян есть великие поэты чувственности, и я могу понять их, ибо лишь в этой сфере они свободны. Великолепнейшие на Востоке строения — это не храмы и не дворцы, а серали.
Но невзирая на всеобщую порабощённость и бьющую в глаза нищету многих и многих, Вавилон представляет собой целый мир, живой, трепетный и многоцветный. Женщины красивы, темноглазые дети проказливы. Торговля каким-то непостижимым образом процветает. Барки и ладьи курсируют по Евфрату, доставляя товары и пассажиров куда им угодно с удивительной лёгкостью и быстротой. Весёлые цвета набережных, хриплая суматоха многолюдного базара, запахи различных сортов жарящегося на вертелах мяса и свежевыпеченного хлеба прямо-таки кружат голову. Великий город раскинулся под палящим солнцем, изнемогая от зноя и исходя каплями пота от обострённой чувственности. Его невозможно не полюбить.
Вот в чём моё затруднение: я вдруг понял, что начинаю испытывать расположение к этим азиатам. Сердце моё разрывается, когда я вижу их такими несчастными и несвободными.
Вскоре после того, как мы вступаем в Вавилон, Буцефал заболевает. Рана, полученная при Гавгамелах, то ли из-за жары, то ли из-за какой-то заразы воспаляется, и заражение начинает распространяться со страшной скоростью. Мой конь немолод (ему почти восемнадцать лет), и коновалы предупреждают меня, что он может не пережить эту ночь. Я устремляюсь к нему и сообщаю всем, кто за ним ухаживает, что в случае его смерти они, не пройдёт и часа, последуют за ним. В конюшню созываются все лекари армии, не только коновалы, но и врачи, пользующие людей. Каждому, кто сможет спасти Буцефала, эллину или варвару, обещано отсыпать столько золота, сколько весит сам конь.
Глашатаи доводят это до сведения всего Вавилона, откуда весть разносится по окрестностям. Мир конников тесен, и через несколько часов ко мне прибывает гонец от Тиграна, героя Исса и Гавгамел, имеющего конюшни в шестистах стадиях вверх по течению Тигра, в деревушке под названием Багдад. На службе у Тиграна состоит Фрадат, один из знаменитейших коновалов державы. Гонец сообщает, что лекарь уже в пути, а на тот случай, если Буцефала придётся переправить в имение, где есть всё необходимое для выхаживания, в Вавилон послана баржа. Подобное великодушие и сострадание со стороны недавнего врага, сражавшегося со мной не на жизнь, а на смерть, поражает меня до глубины души.
Путь вверх по реке занимает два дня. Буцефал не может стоять, его вес необходимо поддерживать подведёнными под брюхо ремнями. Я ласково разговариваю со своим конём и поглаживаю его уши, как делал это в детстве, когда Буцефал был моим самым большим другом.
Персы — тонкие знатоки и ценители лошадей, а в имении Тиграна находится славнейшая в Персии школа наездников, коневодов и коновалов. Едва баржа касается причала, как поглазеть на Буцефала вываливает целая толпа народу: лекари, ученики, конюхи, мастера выездки и им подобные. Мой конь прославлен повсюду, и настоящие ценители рады возможности взглянуть на него даже в столь прискорбном состоянии. Буцефал похож на меня: он неравнодушен к славе, и внимание его окрыляет. Стоит мне заглянуть ему в глаза, и впервые за долгое время я позволяю себе вздохнуть с облегчением. Он выздоровеет.
В усадьбе Тиграна мы гостим пятнадцать дней. Это настоящее кавалерийское учебное заведение, где обучают всех, кому предстоит иметь дело с боевыми скакунами. Территория со множеством конюшен, амбаров, скаковых дорожек и арен для выездки содержится в безупречном порядке, однако повсюду витает дух поражения. Две стены ристалища увешаны уздечками товарищей, павших в бою, многие помещения забиты ранеными и увечными. Все исполнены страха и деморализованы.
Я немедленно даю обещание сохранить школу. Меня очаровывает красота персидских юношей, служащих Тиграну, так что я, отозвав в сторонку Гефестиона, говорю:
— Вот чем персы отвечают нам.
Тиграну настойчиво предлагается перейти ко мне на службу. Я хочу, чтобы он собрал собственный полк и вёл дальнейшую кампанию на моей стороне. Но благородный воин отказывается выступить против своего царя и родича: он заявляет, что я, как победитель, могу забрать его жизнь, но не вправе посягать на его верность. Это утверждает меня во мнении, что в Персидской державе найдутся честные и благородные люди, которым можно будет доверить управление.
А знаешь, Итан, как Фрадат вылечил Буцефала? С помощью небес. Этот лекарь, как и все лекари Персии, является знатоком магии и астрологии.
— Звёзды, о царь, рождаются и умирают, как и люди, — говорит он мне, — ни одна звезда не появляется на небесах в одиночестве. У каждой есть пара, её близнец. Такие звёзды светят в небе по отдельности, но, когда одна из них вспыхивает или тускнеет, это неизбежно затрагивает другую. Точно так же, Александр, обстоит дело с тобой и твоим конём. Буцефал страдает, потому что болит твоё сердце. Это великое чудо, но он — это ты, и он не сможет обрести покоя, пока неспокойна твоя душа.
При этих словах я разрыдался как ребёнок. Смысл сказанного лекарем был понят мною сразу, и мы — я, он, Тигран и Гефестион — проговорили об этом всю ночь.
Я признался, что более всего на Востоке меня огорчает жалкое положение людей и покорность, с которой они его терпят.
— Кто же безумен? Я, потому что мне тяжко видеть их горести, или они? Неужели свобода и целеустремлённость есть лишь пузырьки на поверхности безбрежного и вечного моря страданий?
Трудно пересказать, в сколь удручённое состояние повергали меня мои невесёлые размышления.
— Неужели Восток и Запад невозможно объединить? — спрашиваю я. — Неужели мы, пришельцы из Европы, не можем почерпнуть мудрость от Азии, а она — воспринять у нас свободу?
— В минуты растерянности, — говорит Тигран, — я часто находил ответы на самые сложные вопросы у детей и лошадей. Может быть, Александр, дети помогут найти ответ и на твой вопрос.
Я спрашиваю, что он имеет в виду.
— Для нынешнего поколения объединение невозможно. Люди Востока и Запада слишком разные, и им уже поздно менять устоявшиеся привычки и усвоенные с детства взгляды. Но со следующим поколением...
Я прошу его продолжать.
— Александр, пожени своих людей на наших женщинах. Возьми и себе супругу из персиянок. Пусть дочери Персии станут для новых хозяев страны не наложницами и шлюхами, но жёнами. Это позволит осуществить твою мечту. Отпрыски таких браков составят совершенно новый народ, который не сможет отказаться от наследия своих предков, как отцов, так и матерей, не отказавшись от себя самого. А пока, — утверждает Тигран, — тебе лучше не преследовать Дария, как охотник преследует добычу, но предложить ему примирение и согласие. Восстановить его на троне и сделать его своим другом и союзником. Не разрушай благородные обычаи, Александр, но включи знать и простых бойцов в состав своей армии, а для управления страной отбери среди обоих народов, персов и македонцев, тех, чья мудрость и справедливость позволят им справиться с этим наилучшим образом.
Тигран обещает, что, едва первое поколение потомков смешанных браков подрастёт, он сформирует из них великолепный отряд.
— Я почту за честь способствовать рождению этого нового мира, — заверяет герой, — и клянусь, что смогу призвать под твоё знамя многих благородных сынов Востока, ибо подобное видение грядущего развеет их отчаяние.
На четырнадцатый день из Вавилона приезжает Парменион. Каким-то образом он узнал о моём разговоре с Тиграном и теперь, отведя в сторону, увещевает по-отцовски. Неужто я не в ладах с разумом? Македонская армия не потерпит, чтобы я относился к персам как к равным.
— Покинь это место, склоняющее тебя к безрассудству, Александр, покинь немедленно. Каждый лишний час, проведённый тобою здесь, причиняет боль тем, кого ты любишь. Вспомни: это те самые жители Востока, относительно которых твой мудрый наставник Аристотель говорил: «Относись к эллинам как предводитель, но к варварам как господин». А спартанский царь Агесилай, хорошо знавший здешний люд, высказывался так: «Из них получаются хорошие рабы, но плохие свободные люди». Александр, выбрось из головы безумную мысль о смешении народов! Эти знатные персы, сколь бы ловко они ни сидели на коне, неспособны к самоуправлению. Они рождены для жизни придворных: это единственное, что они знают, и всё, что будут знать.
Как относятся македонцы к персам? Они презирают их. В их глазах эти щёголи в шароварах, обвешанные золотом, стоят меньше, чем женщины. С другой стороны, и сами персы ведут себя вызывающе. По возвращении в город мне приходится издать и довести до каждого сотника и даже десятника указ, запрещающий беспричинно избивать местных жителей, а также подвергать их публичному унижению. Люди, которых мы победили, не собаки. Но если этот вопрос хоть как-то решается, то праздность и избыток денег начинают разлагать армию в других отношениях.
На двадцать седьмой день я председательствую на играх в честь павших. Пройдя мимо ворот Мардука, я вижу, что улица менял за ними запружена солдатами, среди которых и мой давний знакомый, десятник Дерюжная Торба, нахватавший охапку всякого добра при Иссе. Он и его товарищи стоят в очереди перед столом уличного казначея.
— Что ты там делаешь, Дерюжная Торба? — окликаю я его, подъехав.
— Стою в очереди, о царь.
— Сам вижу, что стоишь. Но что это за очередь?
— Так ведь в этой проклятой стране везде приходится мучиться в очередях. Стоять в очереди, чтобы похавать, чтобы отлить, чтобы тебе заплатили.
Теперь я понимаю, что он хочет взять у здешнего заправилы взаймы.
— Неужели у тебя нет денег, десятник? — спрашиваю я, памятуя о том, что свою долю добычи стоимостью в трёхгодичное жалованье он получил всего двадцать дней назад.
— Всё спустил, — признается малый и указывает на дельца. — И не я один. Многие из нас уже по уши в долгу перед этим мошенником.
Я приказываю десятнику и его товарищам в тот же вечер явиться ко мне в военное казначейство. В назначенный час возле казначейства, как бы случайно прогуливаясь, собирается чуть ли не вся армия.
Как я уже говорил, в македонской пехоте самое маленькое подразделение состоит из восьми солдат. Эти ребята постоянно держатся вместе, по очереди дежурят, исполняют роль «носильщиков», перенося сариссы товарищей, вместе сражаются. Отдыхают и развлекаются они тоже вместе.
— Вижу, вы и деньги спустили все разом, — замечаю я.
— Ага, — признается Дерюжная Торба.
По его словам выходит, что, получив шальные деньжищи, его товарищи решили «расширить свой горизонт».
— Ну-ка выкладывай, каким это манером?
— Вообще-то мы хотели посмотреть город. Поэтому нам понадобился переводчик. Ты можешь это понять. И знаток местных достопримечательностей, чтобы мог показать нам всё самое интересное. Мы нашли обоих в одном лице, причём за умеренную плату. Но ведь не могли же мы ходить по городу оборванцами, как-никак победители. В походе все поизносились, так что новая одежонка да и обувь были нам нужны позарез, иначе неловко перед местными красотками. Толмач и проводник подыскал нам портного и мастера по изготовлению сандалий. Мы, конечно, понимали, что чужака всякий попытается обмишулить, но зять нашего проводника, очень кстати, оказался менялой, и мы позвали его с собой, чтоб нас не дурили. А он каким-то манером завёл нас в «весёлый квартал». К шлюхам, стало быть. Славные там девчушки, просто им малость не повезло. Мы, ясное дело, по доброте душевной решили им помочь, дать им заработать. Ну и попировать с ними, провести время как следует. А шлюшки-то там не какие попадя, они тебе и на флейте сыграют, и танцевать горазды. С такими зазорно сидеть в солдафонском обличье.
Как я понял, в весёлом квартале наших солдат обслужили как вельмож: умастили благовониями, завили им волосы, словно архонтам, выкупали, сделали массаж. Потом закатили пир с лучшими блюдами и винами, причём каждого солдата обслуживал отдельный слуга. Ну а для ночлега им предложили особняк на реке, который они сняли вместе со служками, домоправительницей, привратником и сторожем. Кроме того, наши ребята прикинули, что таскаться по городу в этакую жарищу пешком не больно приятно, а поскольку гуляли они широко и смекнули, что абы где просто так возницу не поймаешь, то наняли на целый день крытую повозку с возчиком и конюхом (должен же кто-то позаботиться о лошадках, покормить их, почистить и всё такое).
— Ну да, — неохотно сознается он под конец, — нас провели как младенцев. Обобрали. Мы ведь ещё и землю купили, причём с домашним скотом.
— Что, никаких скаковых коней?
— Всего-то двух. Но вот другое: трое наших парней женились.
— Только не говори мне, что вы берёте взаймы, чтобы поддержать их семьи.
Я не сержусь на своих братьев и соотечественников, но плохо представляю себе, что в сложившихся обстоятельствах могу для них сделать. Дать им ещё денег? Но это, во-первых, несправедливо, ведь они уже получили причитающееся, а во-вторых, бессмысленно. Сколько ни дай, эти молодцы промотают всё до медяка. Жизнь в Вавилоне предлагает много соблазнов, но, главное, расхолаживает людей. Те, кто не спустил всю добычу, начинают поговаривать о том, чтобы вернуться в края, где всё подешевле, в Сирию или Египет, а то и домой, где, по тамошним меркам, они будут считаться состоятельными людьми. В конце концов я издаю указ о том, что все деньги, потраченные на городские увеселения и выманенные у солдат местными мошенниками, будут возмещены им, драхма в драхму, но только столы армейских казначеев будут установлены на дороге, в четырёхстах стадиях восточнее города. Иными словами, друзья мои, поход продолжается.
Армия соглашается с таким решением: по подразделениям гуляют слухи о том, что в Персеполе и Сузах сокровищ накоплено ещё больше.
Покидая Вавилон, я оставляю Мазея на том же самом посту наместника, который он занимал при Дарии. Прежнюю должность сохраняет и его казначей Багофан, но теперь он будет работать под надзором македонского чиновника. Так же как и Фарнак с Адраматом. Гарнизон города составлен из ветеранов, наёмников и тех, чьи воинские навыки не подходят для будущей кампании, в которой мне потребуются быстрые, мобильные подразделения.
Можно сказать, что наше завоевание пробудило город к новой жизни. Та часть сокровищ Дария, которая была роздана мною солдатам и потрачена ими в Вавилоне, влила свежую струю, превратив застойный пруд городского хозяйства в изобильную реку. Все эти богатства долгое время лежали под спудом, не видя дневного света, а теперь наполняют страну, подогревая деловую активность. Вавилон не знал столь весёлых времён, когда кошельки развязывались столь охотно. Неудивительно, что, когда на тридцать четвёртый день армия Македонии собирается и выступает в путь, многие солдаты испытывают облегчение, а многие местные жители — сожаление. Захватчики уходят, но вместе с ними уходит и нечто великое и неповторимое. Два миллиона горожан выстраиваются вдоль Царского тракта и, охрипнув от криков, провожают марширующие колонны.
К сожалению, нашему уходу предшествует очередная ссора между мною и моими военачальниками. На тридцать третий день мы совершаем поминальный обряд, и я приказываю захоронить пепел сожжённых тел персидских командиров в том же кургане, что и пепел македонцев. Возмущению армии нет предела. В последний вечер нашего пребывания в городе я устраиваю для своих командиров пир в большом пиршественном зале Дария, том самом, где на полу из малахита и мрамора выложена мозаичная карта державы. Но то, что доступ ко мне теперь преграждается евнухами и старые боевые товарищи, прошедшие со мной два континента, больше не могут запросто ко мне подойти, воспринимается ими как оскорбление. Чёрный К лит и раньше бесился при виде того, как я разговариваю с Тиграном, Мазеем или любым другим персом, но в тот вечер, напившись пальмового вина, он уже не может сдерживаться.
— Александр! — кричит он, выйдя на середину зала. — Неужто теперь ты предпочитаешь нам варваров? Клянусь чёрным дыханием ада, я не потерплю, чтобы эти щёголи в шароварах беседовали с тобой, тогда как мне придётся ждать или испрашивать их дозволения!
Я направляюсь вперёд и протягиваю руку.
— Клит, друг мой. Не твоя ли десница спасла мне жизнь при Гранине? Разве могу я забыть об этом?
Он уклоняется от моих объятий и обводит зал взглядом в поисках поддержки. Я знаю, что многие на его стороне, хотя, боясь моего гнева, не рискуют высказываться открыто.
— Это Восток, Александр. Здешние жители всегда были и будут рабами. Ты хочешь понять их? Да самый тупой десятник давно уразумел, как тут всё устроено. Воровство и взятки — вот основа здешней жизни. Любой обладающий хоть какой-то толикой власти обирает нижестоящего и платит тому, кто выше его. Сокровища стекаются на самый верх, к царю, но, пока эта река течёт, каждый стоящий рядом окунает в неё руку. Так было, есть и будет: ты ничего не сможешь изменить. Клянусь Зевсом, я предпочёл бы быть собакой, чем одним из здешних бесправных подёнщиков или земледельцев. Но ты пытаешься превратить разряженных лизоблюдов в свободных людей и дни напролёт проводишь, запёршись с облачёнными в пурпурные мантии льстецами, тогда как любящие тебя и проливавшие за тебя свою кровь остаются в небрежении. Мы солдаты, Александр, а не придворные. Позволь же нам солдатами и остаться!
Я не сержусь. Я не поддаюсь гневу, но в то же время осознаю, что в этот момент, пожалуй, сталкиваюсь с самой серьёзной угрозой для осуществления моих замыслов с того момента, как мы покинули Европу.
Взгляд, брошенный мною на Гефестиона, Теламона и Кратера, даёт понять, что они думают о том же самом.
— Солдаты ли вы? — восклицаю я. — Или мне померещилось, что по пути к Гавгамелам многих охватил столь безумный страх, что они жались ко мне, как потерявшиеся во тьме детишки? А теперь, насладившись плодами победы, вы начинаете дерзить! Скажи, Клит, — обращаюсь я к своему обвинителю, стоящему в самом центре зала, на том самом месте, где мозаикой выложен знак Вавилона, — ты покорил этот город или он тебя?
Клита мои слова смущают, ибо он знает, что и мне, как и всей армии, известно о его связи с дворцовой блудницей, ублажая которую мой полководец за считанные дни спустил целое состояние.
— Вот что скажу я тебе, мой безрассудный друг. По моему разумению, распущенность и блуд лишили тебя рассудка. Да и не тебя одного. Всех вас! Ибо вы, называющие себя солдатами, забыли, что главные солдатские доблести — это дисциплина и повиновение. Не я ли ваш царь? Будете ли вы повиноваться мне, или же нежданно свалившееся богатство, обретённое, кстати, благодаря мне, управляет вами, толкая вас к бесчинству и своеволию? Неужели вы усомнились во мне? Неужели я потерял ваше доверие?
В зале воцаряется мёртвая тишина. Мои шаги гулко отдаются под сводами, когда я направляюсь к восточному концу мозаичной карты — к Греции и Македонии.
— Менее четырёх лет назад, когда мы покинули родину, кто из вас мог предположить, что мы зайдём так далеко?
Я пересекаю Геллеспонт, указываю на Трою и северную часть Эгейского побережья.
— Однако мы победили здесь, при Гранине. И здесь, и здесь, и здесь.
Я шагаю по побережью мимо Милета и Галикарнаса к Иссу.
— Здесь вы чуть не повернули назад.
Ещё шаг, и подо мной Тир и Газа.
— Здесь вы тоже хотели остановиться.
Я делаю ещё шаг.
— Вот Египет, вот Сирия. И здесь вы советовали мне не идти дальше. Разве я говорю неправду? Скажите! Пусть выйдет вперёд тот, кто осмелится опровергнуть мои слова!
Все затаили дыхание. Никто не шелохнулся.
Я сдвигаю Клита с мозаичного круга, обозначающего Вавилон.
— Теперь мы стоим здесь, куда не мечтали попасть даже в самых дерзких мечтах. Но мы не намерены остановиться на достигнутом, а собираемся идти дальше. Сюда, в Сузы! Сюда, в Персеполь! Сюда, в Экбатаны! Разве не такова должна быть цель тех, кто называет себя солдатами? Но если так, то ответьте, кто поведёт вас?
Я выпрямляюсь.
— Назовите его! Назовите человека, которому вы верите, и я отойду в сторону. Если вы считаете меня недостойным, пусть другой полководец ведёт вас от победы к победе.
Я обвожу взглядом лица присутствующих. Глаза потуплены. Никто не решается встретиться со мной взглядом.
— Намерены ли вы подчиняться мне? Смею ли я назвать себя вашим царём? Ибо мне кажется, что сейчас самое подходящее время сообщить вам о том, что я не собираюсь задерживаться здесь, пройдя лишь половину этой карты.
Я шагаю через Персию и Мидию. К Парфии, Бактрии, Арии. К Иранскому нагорью и пустыням Афганистана.
— Будете ли вы покорять эти земли со мной, братья? Или, удовлетворившись обретённым богатством, остановитесь на пол пути, чтобы предаться обжорству, пьянству и блуду?
— Нет! Никогда! — восклицают командиры.
Я смягчаю тон: имея дело с хорошими, смелыми и честными людьми, не стоит давить на них слишком сильно.
— Друзья мои, я признаю, что, возможно, слишком уж рьяно склонял вас к новизне, испытывая тем ваше терпение. Но позвольте, во имя всех тех благ, каковые до сих пор приносило вам моё руководство, попросить вас оставаться со мной. Доверьтесь мне, как делали это всегда. Ибо когда мы выйдем за пределы Персии, в земли, в которые, как известно, не вступал ни один эллин...
Я пересекаю Афганистан и приближаюсь к Гиндукушу, за которым лежит Индия.
— ...нам понадобятся все надёжные солдаты, какие только есть. И настройтесь, друзья мои, на ещё более дальний путь. Ибо в тех землях, которые будут покорены, я наберу новые войска, и они будут сражаться под моим командованием бок о бок с вами. Так должно быть. Да и как оно может быть иначе?
В первый раз я чувствую, что люди поворачиваются ко мне. Они поняли или начинают понимать. А те, кто не понял, просто доверяют моей прозорливости.
— Задумайтесь о том, друзья мои, сможем ли мы изменить мир, не изменившись сами? Нам предстоит создать совершенно новый мир. Кто последует за мной? Кто верит мне? Пусть тот, кто любит меня, пожмёт мне сейчас руку и поклянётся в своей верности, ибо робкие, слабые сердцем и сомневающиеся не смогут сопутствовать мне в осуществлении моих планов.
Я пересекаю Индию и шагаю дальше, пока не оказываюсь на самом краю зала, в сумраке, которого не достигает свет множества свечей. Возле побережья Океана, что на Краю Земли.
— Объявите же своё решение, братья, и соблюдайте данный обет отныне и вовеки. Тот, кто идёт со мной, должен будет идти до конца.
Все как один встают из-за столов.
— Александр! — восклицают мои командиры, и эхо вторит им под сводами огромного зала.
Глава 28 ЧУДОВИЩА ГЛУБИН
Путь до Суз занимает у нас двадцать дней. В здешней сокровищнице Дария хранится пятьдесят тысяч талантов, или двенадцать сотен тонн золота и серебра, так много, что мы не в состоянии увезти всё это с собой. Спустя ещё сорок дней боёв и форсированных переходов наша армия оказывается в пределах броска от Персеполя. Теперь мы находимся не в одной из провинций, а в самой Персии, в сердце державы. Дарий бежал на север, в Экбатаны, но его сатрап Ариобарзан предпринимает попытку самостоятельно вывезти казну. Мы пресекаем её, преодолев за два дня и ночь восемьсот стадиев. В царской сокровищнице Персеполя хранится 120 000 талантов золота. Доставка только части этой казны в Экбатаны требует пяти тысяч верблюдов и десяти тысяч пар ослов. Обоз тянется на сто семьдесят стадиев. Это богатство столь ошеломляющего масштаба, что никто и не помышляет его разворовать. Люди сидят вокруг походных костров, примостившись на серебряных слитках, и садятся на лошадей, перешагивая через мешки с золотом.
С Гавгамел прошло девять месяцев. Армию почти не узнать. Наши подкрепления, пятнадцать тысяч конницы и пехоты, наконец-то догнали нас, но половина из них уже совращена излишествами, которые они видят вокруг. Кажется, что в Персеполе нам навстречу вышла половина мира. Явились актёры и акробаты из Афин, искусные повара из Милета и парикмахеры из Галикарнаса, сёдельщики и портные из Сирии и Египта. Помимо них нас осаждают толпы танцоров и фокусников, звездочётов и предсказателей, флейтисток и жриц любви. Птолемей замечает, что количество отирающегося возле армии сброда уже превысило численность кавалерии. Каждый день прибывают свежие караваны. Войско превратилось невесть во что. Создаётся впечатление, что каждый ветеран держит в лагере не только жену или любовницу, но и половину их родственников. Мой отец запрещал иметь при подразделениях повозки, а в моей армии подводами обзавелись полусотенные и даже десятники. Филипп разрешал держать одного слугу на десять человек; в моём корпусе слуг больше, чем солдат. Мы возим за собой гору имущества. Лошадей, принадлежащих одному Филоту, хватило бы на целый отряд в армии моего отца, а его личной обуви достаточно для крупного соединения. В Персеполе он находит человека с точно такими же волосами, как у него; он нанимает этого малого только для того, чтобы отращивать свежие локоны (солдаты прозвали его «волосяная грядка»), из которых парикмахер Филота (да, он возит с собой и парикмахера) делает вставки, маскирующие его редеющую шевелюру.
При всём том, что неподобающие солдату излишества вызывают у меня отвращение, общая распущенность затронула и меня. Ещё в Дамаске я взял в постель вдову Мемнона Барсину. Сделано это было по предложению Пармениона, чтобы держаться подальше от гарема Дария, но его план принёс и неожиданные плоды. С одной стороны, я стал заботиться не только об армии, но и о женщине, а с другой — сам стал зависеть от некоторых её услуг. Барсина защищает меня. Если бы не она, всякого рода просители и жалобщики не оставили бы мне и минуты времени. Барсина закрывает мою дверь и не пускает никого, давая мне возможность работать, и не разрешает мне чересчур напиваться (есть у меня такая слабость).
На её день рождения я устраиваю пир, на котором публике предлагается представление. Акробаты, вооружённые мечами (настоящими, остроту лезвий которых они демонстрируют, жонглируя плодами айвы и рассекая их в воздухе), исполняют пантомиму завоевания Персии. Это должно польстить македонцам, но, когда оно завершается, Тигран, успевший стать моим другом, заявляет, что оскорблён увиденным, и обвиняет Барсину в бесстыдном низкопоклонстве.
И тут, ко всеобщему удивлению, встаёт Парменион.
— На что ты жалуешься, перс? — вопрошает он Тиграна. — Ведь в этой войне победили не мы, а вы!
Никогда прежде я не слышал, чтобы Парменион говорил столь возбуждённо и с такой горечью. В огромной палате воцаряется тишина. Парменион обращается ко мне.
— Да, мы потерпели поражение! — заявляет он. — Мы побили этих персов на поле, но они перехитрили нас во дворцах. Посмотри, во что мы одеты, что мы едим, что за свиты нас окружают. Ты не уничтожил Дария, Александр, а превратился в него сам. Что же до этой женщины, опутавшей тебя, словно паучиха, то признаю, что, указав тебе на неё, я поступил как недальновидный глупец.
Некоторые из гостей пытаются заглушить его, опасаясь моего гнева.
— Ну а теперь, — говорю я ему, — тебе остаётся только сказать, что мой отец никогда бы не повёл себя таким образом.
— Да, он бы себя так не повёл.
— Я не мой отец!
— Конечно, — отвечает Парменион, — это мы всё ясно видим.
В другое время подобная дерзость заставила бы мою руку потянуться к мечу. Но сегодня я чувствую лишь отчаяние.
Гефестион возвышает голос в мою защиту.
— Действительно, — соглашается он, — Александр не Филипп. Ибо Филипп никогда не ставил перед собой столь грандиозных задач и даже не догадывался об их существовании! Будь во главе нас Филипп, мы так бы и торчали в Египте, предаваясь праздности и порокам...
— А чем мы занимаемся сейчас? — вопрошает Парменион.
— ...вместо того, чтобы переделать окружающий мир в нечто смелое и новое!
Парменион смеётся Гефестиону в лицо. Старому полководцу за семьдесят. Он уже отдал походу одного сына, Гектора, и потеряет другого, Никанора, спустя всего два месяца после нашего выступления. Он помнит меня ребёнком, а мой отец был другом его юности, с которым они вместе мечтали... о чём? Не об этом, это уж точно.
Он обращается к Гефестиону:
— А тебе, валяющемуся в царской постели, лучше бы помолчать. Мне зазорно находиться с тобой рядом!
Он имеет в виду, что от Гефестиона зависит, кто из полководцев получит ко мне доступ, однако мой друг приходит в ярость.
— Что ты хочешь этим сказать, сын шлюхи?
На защиту отца устремляется Филот. Он взбешён и готов броситься в драку, но стража, по указке Локона, хватает его.
— Что за шум и гам? — с деланным удивлением говорит Локон. — Или у нас тут собрались философы, спорящие о сущности бытия?
Смех помогает несколько разрядить обстановку. Слуги устремляются к своим господам с влажными салфетками и наполненными вином кубками. Когда шум утихает, Гефестион поднимается на ноги. Никогда в жизни не испытывал я большую гордость за него, чем в тот час, при виде того, как он, являя образец терпения, отвечает на враждебные выпады дружелюбием и великодушием.
— Братья, — говорит он, — когда люди совместными усилиями стремятся, преодолевая невзгоды, к великой цели, они с готовностью подавляют порывы собственного тщеславия. Во всяком случае до тех пор, пока эта цель не достигнута. Но когда намеченное осуществилось, каждый желает получить свою долю добычи. Сейчас для нас настало самое опасное время, ибо все мы неожиданно для себя превратились в богачей и вельмож. Каждый считает, что его вклад в общее дело больше, чем у товарищей, и негодует, видя, как другие получают то, что он считает по праву принадлежащим ему. Что случилось со всеми нами, друзья? Клянусь Зевсом, когда мы проливали кровь и умирали на поле боя, нам приходилось только мечтать о возможности пировать, развалившись на подушках, как мы делаем это сейчас. Однако теперь, пребывая в безопасности и довольстве, мы дерёмся, словно амбарные коты. Неужели мы отвергли прежние добродетели и утратили свои достоинства? Думаю, пока это не так. Однако теперь перед нами открылись широчайшие горизонты, неведомые прежде никому, кроме царей Персии, и мы должны соответствовать высоте, на которую вознеслись. Мы взошли на вершину столь великую и недоступную, что у иных из нас не хватает дыхания. Её грандиозность подавляет нас, даже когда мы считаем её своей.
Гефестион призывает богов помочь нам и призывает нас, его товарищей, не оступаться и вместе стремиться к общей цели.
— Друзья, давайте здесь и сейчас вновь подтвердим нашу верность друг другу и нашему царю и поклянёмся связующими нас священными узами сохранить эту верность перед лицом удачи, так же как хранили мы её, преодолевая невзгоды, и навсегда остаться отрядом друзей и братьев. Готовы ли вы, мои товарищи, принести эту клятву вместе со мной? Это необходимо, ибо ныне мы уподобились пловцам, дрейфующим в море успеха, которых, если они не возьмутся за руки, волны разнесут в стороны. А в глубинах этого моря нас подстерегают опасные чудовища, готовые вырвать любого из братских объятий и увлечь на дно.
Призыв Гефестиона находит отклик в сердцах товарищей, и кризис удаётся преодолеть. К середине лета мы добираемся до Экбатан, откуда Дарий всего за несколько дней до нашего прибытия бежал на восток. Под конец с ним осталось тридцать тысяч пехоты, включая четыре тысячи уцелевших при Гавгамелах греков Патрона, и пять тысяч лучников и пращников, а также тридцать три сотни конников из Бактрии, возглавляемых Бессом и Набарзаном. Треть Азии всё ещё остаётся под властью царя, а людей и коней на этих землях вполне достаточно для того, чтобы собрать и выставить против нас войско, не меньшее, чем любое из тех, с которыми мы уже сталкивались. Но меня пугает не это.
С Дарием всё кончено. Я боюсь того, что его собственные приближённые обратятся против него раньше, чем я успею догнать его и спасти ему жизнь.
В Экбатанах меня ждёт письмо, оставленное царём. Его слуга, которого я сохранил в своей свите, подтверждает, что продиктованный текст заверен подлинной царской печатью.
Александру от Дария, привет.
Я пишу тебе, как человек человеку, опустив все царские титулы и обращения.
Знай, что я буду вечно благодарен тебе за доброту и заботу по отношению к моей матери и моей семье. Если этим поступком ты хотел показать, что твои человеческие достоинства не уступают достоинствам победоносного полководца, тебе это удалось. Я восхищаюсь тобой. А теперь, друг мой, если позволишь так обратиться к тебе (ибо мне кажется, что наше долгое противоборство, равно как и бремя царского сана, позволяет нам понять друг друга ), я позволю себе обратиться к тебе с просьбой. Не обращай меня в пленника. Когда судьба снова сведёт нас на поле боя, дай мне с честью сложить голову. Не надо оказывать мне милостей, сохраняя жизнь или возвращая трон, который в таком случае стал бы для меня седалищем позора. А ещё прошу тебя воспитать моего сына, как своего собственного. Твоему же великодушному попечению вверяю я и всех своих близких, ибо ведаю, что ты отнесёшься к ним как к родным.
Прямота и благородство Дария трогают моё сердце. Несмотря на его пожелание, я больше чем когда-либо хочу сохранить ему жизнь, ибо чту его не только как царя, но и как человека. По моему приказу из «друзей», копейщиков, агриан, наёмной конницы и тех фалангистов, которые не остаются охранять колонну с сокровищами, формируется быстрый отряд, устремляющийся на восток с поражающей воображение скоростью. И вот мы в Гиркании, в краю, лежащем между Парфянской пустыней и Каспийским морем.
Погода здесь неустойчивая, и местность являет нам множество знамений. Над нашей колонной вьются орлы и вороны. Каждый день после полудня разражается гроза. Небеса рассекают огромные огненные стрелы, хлещут проливные дожди. След бегущего врага, ясный и отчётливый поутру, к вечеру полностью смывается водяными потоками. Мы чувствуем, что это знаменует собой конец державы.
На шестой день от Патрона, греческого командира, который, надо отдать ему должное, остался верным Дарию, прибывает посланец. Патрон сообщает, что царские вельможи готовятся предать царя, и просит меня не щадить усилий ради спасения бывшего властителя. Своего гонца вождь наёмников предлагает нам в проводники. Сам он, по его словам, останется с Дарием, чтобы защищать того от его собственных сатрапов, однако без нашей помощи ему долго не продержаться.
Выжимая из коней всё, что возможно, мы на одиннадцатый день добираемся до города Раги, что в дневном переходе от Каспийских ворот. Пехотинцы больше не в состоянии выдерживать такой темп, даже кавалерийские кони валятся с ног. Дезертиры от Дария прибывают теперь к нам сотнями, говорят, что остальные просто разбегаются по домам.
Мне приходится дать отряду пятидневный отдых, после чего погоня возобновляется. За Каспийскими воротами возле деревни под названием Ашана мы подбираем Дариева толмача, брошенного своими из-за болезни. От него становится известно, что Дарий обезоружен и взят под стражу Бессом и Набарзаном. Бесс, командовавший правым крылом персидского войска при Гавгамелах, является сатрапом Бактрии, той самой страны, куда теперь устремляются дезертиры. Вся оставшаяся у царя кавалерия подчиняется ему, а следовательно, он если не номинально, то фактически изначально являлся хозяином положения.
Я беру с собой лишь «друзей» и копейщиков, а из пехоты только самых молодых и крепких парней: прочие остаются позади, под началом Кратера. С нами оружие и двухдневный паек. Стремительный ночной бросок к следующему полудню приводит нас к деревушке под названием Тири, где мы находим двух воинов Патрона, оставленных на попечении местных жителей из-за полученных ран. Они сообщают, что эллины, не имея сил оборонить царя и опасаясь за собственные жизни, ушли в горы. Дарий остался один, без защитников.
Намного ли они нас опережают?
На шестьсот стадиев.
На преодоление сорока из них у нас уходят весь день и ночь. Двигаться приходится по ухабистой, безводной пустыне, а кони наши измотаны до предела. Однако нам удаётся снова найти след, а потом и брошенный боевой штандарт Дария, золотого орла с распростёртыми крыльями.
Вечерней прохлады наш отряд дожидается, отдыхая в деревушке, настолько бедной, что у неё даже нет названия. Когда мы разводим костры и готовим скудный ужин, из жалкой мазанки выбираются скрывавшиеся там сын Мазея Антибел и вавилонский аристократ Багистан. От них мы узнаем о том, что Дарий ещё жив и находится в двухстах пятидесяти стадиях впереди, его везут на закрытой повозке, под стражей.
Я сокращаю отряд ещё больше, сажаю самых молодых и лёгких на последних коней, которые ещё в состоянии скакать, и к середине утра в пятидесяти стадиях перед нами мы видим предателей. Они тоже видят нас: их колонна рассыпается, и все пускаются наутёк кто куда.
Глава 29 КОНЕЦ ЦАРЕЙ
Тело Дария мы находим в канаве в трёх фарлонгах от главной дороги. Живот царя был пронзён насквозь несколько раз, из чего видно, что он был связан или его держали за руки. Раны смертельные, но не из тех, что убивают мгновенно: перед смертью Дарий претерпел страшные муки. Теламон склоняется над телом, чтобы расправить скомканный плащ и укрыть им поруганный труп бывшего владыки.
— Те, кто убил его, — замечает аркадец, — по крайней мере, соблюли приличия и напали спереди.
— Да, — добавляет Гефестион, — но добить его, чтобы избавить от страданий, им не хватило духу.
Столь гнусное предательство пробуждает во мне приступ безумной ярости. Я снимаю свой плащ и накрываю им тело. Да, игра «Убить царя» велась мною долго и упорно, но я отдал бы всё, чтобы она закончилась по-другому. Царской тиары Дария нет, и это наводит на мысль о том, что цареубийца вознамерился сам претендовать на высшую власть. Рядом с дорогой разбросаны обломки повозки.
— Они держали его в цепях. — Гефестион указывает на оковы, прикреплённые к обломку рамы. — Должно быть, во время подъёма на холм ось колесницы сломалась, и Бесс решил пересадить Дария на лошадь. Но тут царь отказался выполнить какое-то требование узурпатора и был убит.
— Отказался-то от чего? — спрашивает Теламон. — Отдать тиару?
— Нет, к тому времени изменники наверняка уже забрали её. Может быть, он просто не захотел ехать дальше.
— Хватит глазеть да судачить, это недостойно.
Я приказываю обмыть и запеленать тело, дабы передать его царице-матери для погребения в Персеполе, в царской усыпальнице.
— Несите его на носилках завёрнутым в мой плащ, — говорю я, прочитав вопрос в глазах десятника. — Несите так, как если бы это были мои собственные останки.
В Гекатомпиле я снова присоединяюсь к армии, однако оказываюсь во власти меланхолии, какой никогда прежде не испытывал. Передо мной встаёт непростая задача: по иному сформулировать для армии цель похода. Теперь, когда Дарий мёртв, многие сочтут, что задача выполнена, и захотят вернуться домой. Разумеется, остаётся ещё погоня за Бессом, который наверняка подкрепит свои притязания на трон формированием на востоке новой армии. Но что потом? Как удержать войско от распада?
Но моё отчаяние сильнее, чем простая озабоченность. Я ищу уединения и прошу оставить меня всех, кроме Гефестиона, Кратера и Теламона.
В своих покоях, в обществе ближайших друзей, я всё же чувствую себя так плохо, что не могу не только говорить, но даже пить вино. В глазах моих дорогих товарищей угадывается тревога, они опасаются за состояние моего ума. Каждый по очереди пытается как-то объяснить моё удручённое состояние, как будто определение и озвучивание оного способно избавить меня от его хватки.
— Смерть царя ужасна, это всё равно что конец мира, — говорит Кратер.
— Однако, — добавляет Теламон, — это показывает, что и царь всего лишь человек. Он истекает кровью, как простой смертный, и умирает так же, как любой из нас.
— Но тот, кто сам является царём, — подхватывает Гефестион, — не может не увидеть в уходе из жизни своего собрата указание на неизбежность собственного конца.
Нет. Не в этом дело.
Друг мой между тем продолжает:
— Для человека столь благородного склада, как ты, Александр, зло может видеться не столько в самом факте смерти Дария, сколько в том, как он её встретил. Беглецом, закованным в цепи и преданным собственными вельможами.
По его словам, случись нам захватить Дария живым, поддерживать порядок и управлять державой было бы гораздо легче: он мог бы взять на себя исполнение ритуалов и обязанностей, которые не годятся для македонцев. Сохранение Дария в качестве номинального владыки способствовало бы улучшению обстановки и в стране, и в армии.
— Мы потеряли нашего врага, — замечает Кратер. — Его поимка провозглашалась целью наших усилий, но этой цели более не существует, а заменить её нам нечем.
Воцаряется молчание.
— Успех, — говорит Теламон, — есть самое тяжкое бремя из всех возможных. Теперь мы победители. Все наши мечты сбылись.
— Это тоже своего рода смерть, — соглашается Гефестион. — Может быть, самая суровая из всех.
Ночь приходит и уходит.
— Простите, друзья, — говорю я, нарушив наконец молчание. — Идите отдыхать. Со мной всё в порядке.
Требуются минуты, чтобы убедить их, и ещё минуты, чтобы выпроводить за дверь. Распахнув створы, я мельком замечаю тысячи обеспокоенных моим состоянием людей, собравшихся вокруг здания. И хватаю Гефестиона за руку.
— Это из-за него, — срывается с моих уст. — Несомненно.
— Я не понимаю.
— Из-за Дария. Мне хотелось поговорить с ним. Услышать его мнение. Видишь ли, он единственный человек, который занимал ту вершину, на которой теперь должен стоять я.
Мой товарищ внимательно вглядывается в мои глаза. Всё ли со мной в порядке?
— Я хотел слишком многого, — сознаюсь я. — Хотел, чтобы он стал моим другом.
Глава 30 СВИТА
Проходит год. Наша армия продолжает своё всепобеждающее шествие. Как и в результате предыдущих кампаний, под моей властью оказываются огромные территории. Но всё это уже не овеяно прежним духом славы. Славы и справедливости.
Это чувство месяцами донимает меня, когда я остаюсь в своём шатре в окружении юношей из свиты. Со смертью Дария цель нашего похода была достигнута. Мы разграбили столицу Персии и сровняли царский дворец, символ преступлений, совершенных персами против Эллады и Македонии, с землёй. С этим покончено. Царь мёртв.
Теперь наши войска преследуют Бесса, присвоившего царскую тиару и провозгласившего себя владыкой Азии. По вступлении в афганские пределы я с почётом отпустил домой половину наших ветеранов. Несравненная фессалийская конница, все восемь отрядов, с богатыми дарами отбыли в свою Фессалию. Семь тысяч солдат македонской пехоты, получив заслуженное, отправились на родину. Союзники из полисов Эллады, равно как многие из наёмников, тоже получили возможность вернуться, а вместе с этим — больше сокровищ, чем они могли унести. Из ветеранов со мной остались добровольцы, которым повысили жалованье, ядро же наших сил теперь составили греческие и македонские подразделения, недавно прибывшие из Европы или эллинских полисов Малой Азии. Осенью, после смерти Дария, к нам присоединились три тысячи всадников и пехотинцев из Ливии, зимой мы нанимаем ещё одну тысячу сирийских всадников и восемь тысяч пехотинцев. Из Эллады и Македонии прибывают ревностные добровольцы. А почему бы и нет, если в моём распоряжении находятся все деньги мира? В Задракарте, в Гиркании, к армии присоединяется отряд воинов, обученных Тиграном, первое наше боевое подразделение, состоящее исключительно из персов. Теперь у нас есть египетские копейщики, бактрийские, парфянские и гирканские наездники. Знатные персы являются ко мне и приносят обеты верности из ненависти к презренному узурпатору Бессу. Вождь греческих наёмников Патрон, ранее служивший Дарию, приводит ко мне пятнадцать сотен закалённых бойцов, которые встречают самый радушный приём. В армии появляются новые командиры и новые подразделения, формируемые из уроженцев здешних мест. Преследуя Бесса по горам и пустыням, без них не обойтись.
Повседневное управление державой осуществляют чиновники, девять десятых которых персы. А кому ещё можно поручить руководство огромной, пёстрой и совершенно чуждой пониманию эллинов и македонцев страной? В иерархии управления находится место Артабазу, отцу Барсины (с которым я впервые познакомился мальчиком в Пелле, когда он с Мемноном нашёл убежище при дворе моего отца), и благородным Автофрадатам, братьям, до конца хранившим верность Дарию и явившимся ко мне после его гибели. Оба получают в управление провинции. В свою свиту, представляющую собой нечто вроде школы юных командиров, я зачисляю юношей из персидской знати, включая Кофена, сына Артабаза, двух сыновей Тиграна и троих сыновей Мазея. В конечном счёте получается, что из сорока девяти юношей свиты одиннадцать являются персами, а ещё семь — египтянами, сирийцами или мидийцами. Я не настолько слеп, чтобы не предвидеть недовольство, которое это вызовет, но, признаюсь, переоцениваю свою способность его сдержать.
Суть проблемы в следующем: численность свиты оговорена обычаем, и, принимая в неё азиата, я тем самым отказываю в приёме македонцу. Это вызывает недовольство и на родине, где родовитые семьи воспринимают подобный отказ как оскорбление, и в лагере, где начинаются разговоры о том, что я отдаю предпочтение чужакам в ущерб соотечественникам. Кроме того, свитские юноши обзаводятся любовниками. Это обычное дело. Пареньки тринадцати-четырнадцати лет, прибывающие из Македонии, охотно дают соблазнить себя высокопоставленным командирам, которые лет на десять-пятнадцать их старше. По большому счёту главное здесь не плотское вожделение, а своего рода политика. Политика — это всё. Юноши прибывают из дома, будучи знакомыми с командирами, которым предстоит стать их менторами, семьи же не только не возражают против подобных связей, но всячески их приветствуют. Такие узы скрепляют межродовые союзы, а юноши приобретают покровителей, способствующих их продвижению. Так, например, Клит, состоя в свите, был любовником Филиппа, что в немалой степени способствовало его назначению командиром царского подразделения «друзей». Теперь он делает своим подопечным паренька по имени Ангелид. Можно сказать, что каждый из юношей свиты предоставляет своему покровителю место в моём шатре.
Пока в свите состояли одни македонцы, всё шло прекрасно, но при появлении иноземцев казавшаяся такой устойчивой колесница опрокидывается. Македонские командиры не хотят брать под своё крыло азиатов, да и те, в свою очередь, боятся македонцев. Но что ещё хуже, так это взаимная ревность. Стоит мне оказать внимание сыну Тиграна, как Клит и прочие соотечественники начинают видеть в этом ущемление их собственных подопечных.
Всё это усугубляется и деньгами. Одно дело добиваться успеха и совсем другое — добиваться успеха небывалого, такого, какого добились мы. Это моя вина. Мне не удалось предложить армии перспективу достаточно впечатляющую, равную той, что была утрачена со смертью Дария. Кроме того, добиваясь сближения персов и македонцев, я в глазах последних зашёл слишком далеко, приняв и усвоив многое из обычаев недавнего врага.
Чтобы компенсировать это, я осыпаю соотечественников щедрыми дарами. Доблесть Арета, явленная при Гавгамелах, вознаграждается пятью сотнями талантов, сокровища Агамемнона меркнут в сравнении с богатством, дарованным мною Мениду. Назначив Пармениона правителем Экбатан, я дарю ему кровать из золота. Домой, матери, я шлю триремы с ладаном и сердоликом, корицей и кассией. С обратной почтой она меня укоряет.
Александру от Олимпии, привет.
Мой сын, твоя щедрость превратила некогда примерных командиров в мелких царьков. Пусть ты одаряешь друзей, руководствуясь добрыми намерениями, но это может повлечь за собой отнюдь не добрые последствия. Ты развращаешь их, ибо теперь каждый сотник мнит себя архонтом, а их родичи дома напускают на себя важный вид, претендуя на большее. Каждый военачальник, которому ты так благоволишь, преувеличивает свою роль в твоих победах и не только считает себя незаменимым, но и всякий раз, когда ты оказываешь честь кому-нибудь другому, мнит себя недооценённым и обойдённым. Они дуются, даже не пытаясь скрыть недовольство, а оставшиеся дома жёны и родичи подогревают его своими подстрекательскими письмами. Чем больше ты даёшь им, сын мой, тем больше ты подстёгиваешь их амбиции. Птолемей хочет воцариться в Египте, Селевк жаждет Вавилона. Но как могут позволять себе такие желания карлики, обязанные всем, что имеют, исключительно тебе?
Из того же письма:
Когда вы голодали, твои командиры были друг другу настоящими товарищами, а теперь каждый завидует другому и воспринимает чужой успех как личное оскорбление. Они более не товарищи, но соперники. Давая так много денег, ты делаешь их независимыми от себя. Давай им землю, сын мой, женщин или лошадей. Давай им в управление провинции, но не золото. Золото коварно: оно делает хороших людей дерзкими, а плохих и вовсе неуправляемыми.
Теперь у меня есть враги и в собственном шатре. Те, в чьи обязанности входит оберегать меня, превращаются в заговорщиков, чьи интересы расходятся с моими. И речь не о мальчишках из свиты, а о высших командирах, в которых пробуждается дух взаимной зависти и ревности. Каждый из них, зарвавшись, мечтает возвыситься над прочими и боится, как бы его не опередили.
Я знаю твоё сердце, сын мой. Оно слишком доброе. Любовь, которую ты питаешь к своим товарищам, ослепляет тебя, и ты не видишь их вероломства. Успех заставил каждого ревниво относиться к своему положению, и каждый боится, как бы другим не досталось больше, чем ему. Хочешь ты того или нет, но твой шатёр более не палатка командира, а царский двор, а при дворе царя окружают не воины, а льстецы и лизоблюды.
Однажды ночью (дело был в афганских землях) один из юношей свиты в сильном волнении врывается ко мне в купальню и сообщает, что против моей жизни составлен заговор. Его товарищ несколько дней назад сообщил об этом Филоту, в расчёте на то, что Филот немедленно уведомит меня. Но Филот этого не сделал.
Я созываю на совет македонцев. Филота приводят связанного. Его отец Парменион находится в шести тысячах стадиев к западу, командует сокровищницей в Экбатанах. Я предлагаю Филоту высказаться в свою защиту. Он говорит, что не воспринял известие о заговоре всерьёз и не захотел беспокоить меня по таким пустякам.
— Негодяй! — ревёт Кратер. — Как ты смеешь прикидываться тупицей перед лицом царя?
Допрашиваются четырнадцать юношей, у девяти из которых есть покровители, командиры «друзей» или царских телохранителей. Все юноши происходят из знатных семей. И все бесстыдно лгут.
— Надо подвергнуть их пыткам, как поступают во время войны с врагами, — предлагает Птолемей.
Всю ночь я совещаюсь со своими высшими военачальниками — Гефестионом и Кратером, Птолемеем, Пердиккой, Коэном, Селевком, Эвменом, Теламоном и Локоном, после чего решаю пытки к юношам не применять.
— Тогда отправь их домой, — предлагает Пердикка. Он полагает, что позор будет для них наихудшей казнью.
Гнусная измена повергает меня в отчаяние. Клянусь Зевсом, я начинаю жалеть о том, что мы победили в этой войне. Лучше пасть пронзённым копьём, чем дожить до того дня, когда те, кого я любил, начинают составлять заговоры и умышлять против моей жизни.
Более же всего меня страшит то, что вскрылась вина Филота.
— Как ты поступишь с Парменионом? — тут же спрашивает меня Гефестион.
Я не могу казнить сына и оставить в живых отца. Поступить так не может ни один царь.
А у Пармениона есть власть. Я сделал его наместником Мидии; теперь он командует Экбатанами, в его распоряжении двадцать тысяч солдат, многие из которых почитают его, и царская казна, 180 000 талантов.
Я приказываю подвергнуть Фи лота пытке, и он, едва затрещали кости, выдаёт сообщников. В заговоре замешаны семь человек. Совет решает дело менее чем за двадцать минут. Все будут казнены.
Но что мне делать с Парменионом?
Глава 31 АГОНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Весь день и ночь после пыток Филота я совещаюсь со своими полководцами, моими генералами в своей ставке во Фраде. Гефестион верен, как солнце. Кратер принадлежит более мне, чем самому себе. Теламон чтит свой собственный кодекс, но этот кодекс не допускает измены. Пердикка любит царя; Коэн, Птолемей и Селевк — своего главнокомандующего. Клит горяч и своеволен, но он не станет плести интриги, а выскажет наболевшее в глаза. Кроме них, Эвмена и Певкесты, я не доверяю никому.
— Никто не говорит правду царю. — Час поздний, и я произношу свою речь, будучи пьян. — И чем более велик царь, тем меньше откровенности. Кто осмелится заговорить со мной без обиняков? А ведь прямодушие всегда считалось сильной стороной македонцев. Мы грубы, но правдивы. Никто не боялся предстать перед Филиппом и высказать всё, что у него на уме, да и вы, друзья, служа мне, прежде поступали так же. Но этого больше нет. Что говорят обо мне солдаты? Можете не отвечать, я и так всё знаю: «Александр изменился, завоевания испортили его. Это не тот человек, которого мы любили». Почему? Потому что я веду их от победы к победе? Потому что отдал в их руки целый мир? Потому что осыпаю их сокровищами?
Я сам чувствую, что говорю слишком высокопарно. И вижу это в глазах моих товарищей. Птолемей, самый энергичный из моих военачальников, берёт слово.
— Александр, позволь мне обозначить опасность так, как я её вижу?
— Пожалуйста.
До этого я метался из угла в угол. Теперь сажусь.
— А вы, братья, — обращается Птолемей к своим товарищам полководцам, — призовите меня к ответу, если сочтёте мои мысли неверными, но поддержите меня, если увидите в них правду.
Он поворачивается ко мне.
— Друг мой, теперь каждый из нас тебя боится.
Эти слова поражают меня как гром.
— Это правда, Александр. Поверь. Каждый командир чувствует то же самое.
Я обвожу взглядом лица моих товарищей.
— Но как же это, друзья? Почему?
— Мы боимся тебя — и друг друга. Ибо ныне очевидно, что ты, бывший некогда нашим товарищем и другом, вознёсся на недосягаемую высоту. Как братья, мы мечтали низвергнуть владыку Азии, но лишь возвели на престол нового. Теперь им стал ты.
— Но это не так, Птолемей. Я остался тем, кем и был.
— Увы, нет. Да ты и не мог бы, при всём желании.
Он обводит жестом палату, в которой мы собрались, прежде принадлежавшую Дарию.
— Клянусь богами, взгляни, где ты находишься. Колонны из кедра, свод из слоновой кости.
— Но под ним по-прежнему мы.
— Нет, Александр.
Он мешкает, и я вижу, что, дабы продолжить, ему требуется вся его смелость.
— Я говорю откровенно, рискуя вызвать твой гнев. А что, если ты воспримешь мои слова превратно? Завтра ты отберёшь у меня мои войска и передашь их Селевку...
— Неужели ты считаешь, что я способен на такое непостоянство?
В комнате воцаряется молчание.
Филот.
Мои полководцы вспоминают о нашем бывшем товарище, закованном в цепи и ожидающем казни. И не только о нём. О его родственниках и друзьях по всей армии: об Аминте Андромене и его братьях — Симмии, Аттале, Полемоне; о моём собственном телохранителе Деметрии; о тридцати сотниках, сотне полусотенных. Должен ли я отнять у них жизни? И жизнь отца Филота, Пармениона?
Слово берёт Пердикка, самый суровый из моих военачальников, не считая Кратера.
— Александр, мы беседуем здесь как братья. Никого не виним. Мы пытаемся найти решение. Когда высказывался Птолемей, я завидовал его смелости.
Он делает паузу, но потом продолжает:
— Люди говорят, будто ты считаешь себя богом.
Я хочу возразить, но Пердикка тут же меня останавливает.
— Я отметаю это, как и все мы. Но, Александр, кем бы ни мыслил себя ты сам, во всём этом есть момент, чреватый куда более серьёзной опасностью. Если уж совсем начистоту, так ты ведь и впрямь стал богом. Ты совершил то, во что никто не верил и о чём никто даже не мечтал.
Он указывает на полководцев, своих товарищей.
— Каждому из нас есть чем гордиться, каждый не лишён дарований, и каждый считает, что достоин величия. Однако все мы сходимся на том, что достигнутое тобою было бы не по плечу никому другому. Ни твоему отцу, ни кому-то из нас, ни всем нам, вместе взятым. Ни одному человеку или группе людей из когда-либо живших. Ты единственный, кто мог совершить это.
Он встречается со мной взглядом.
— Мы боимся тебя, Александр. Мы любим тебя, но боимся и уже не знаем, как нам с тобой держаться.
— Пердикка, — говорю я, — ты разрываешь мне сердце.
— Но это ещё не самое большое горе. Беда в том, что страх подталкивает к заговорам. С этим ничего нельзя поделать. Любой из нас думает о том, что будут делать другие, когда явятся за его головой, и мы спрашиваем друг друга: а не нанести ли упреждающий удар?
Слёзы туманят мой взор.
— Я предпочёл бы умереть, но не слышать этих слов.
— Эти слова правдивы, — говорит Кратер. — Мы в аду.
Как-то раз, в детстве, я вбежал в кабинет отца, когда он был занят написанием письма. Его слуги погнались было за мной, но Филипп махнул рукой и подозвал меня к себе.
Закончив писать, отец вручил свиток мне и велел прочесть. Послание было обращено к некоему союзнику, и доставить его должен был один из знатных приближённых Филиппа. Приписка под прощальными словами гласила: «Человека, вручившего тебе это письмо, надлежит убить».
Когда я прочёл послание и вник в его суть, Филипп, к тому времени вставший и начавший переодеваться к вечернему пиршеству, дал мне понять, что на пиру собирается встретиться с обречённым на смерть человеком, а также с его отцом и братом. Я в испуге спросил, как же он будет держать себя с этими людьми.
— Шутить, смеяться и пить с ними вино, — заявил Филипп. — Пусть он считает, что мы лучшие друзья.
В этот момент случайно вошёл Парменион, тоже собиравшийся на пир. Он вызывал моё восхищение тем, что презирал пышные наряды и даже на самые торжественные приёмы и великие празднества одевался по-военному просто. Отец обнял его, и я почувствовал, что эти двое любят и уважают друг друга. Потом Парменион увидел в моей руке письмо и, видимо, будучи осведомлён о его содержании, понял, что Филипп познакомил с ним и меня.
— Александр, — тихо промолвил он, стоя передо мной, и больше не добавил ни слова. Я его понял.
Десять лет спустя, когда Филипп был убит, я, унаследовав трон, послал такое же письмо Пармениону, велев ему взять под стражу и казнить за соучастие в заговоре его зятя Аттала. Он так и сделал.
Прошло ещё десять лет. На сей раз я напишу Пармениону об измене Филота и отправлю к нему гонцов на беговых верблюдах. Когда он станет читать депешу, его друзья по моему приказу лишат его жизни.
— Быть царём, — говорила мне Сизигамбис, — значит ступать босыми ногами по лезвию бритвы.
Глава 32 ДИКИЕ ЗЕМЛИ
В Афганистане говорят на дари. На дари и ещё пяти тысячах других наречий. У каждого племени свой язык, совершенно непонятный даже для ближайших соседей. Впрочем, ты, Итан, прекрасно это знаешь. Речь идёт о стране, где я сражался с твоим отцом и откуда взял в жёны твою сестру.
Почему мы оказались в Афганистане? Потому что через него пролегает путь в Индию и к побережью Океана. И потому, что я не могу повести армию через Гиндукуш, в Пенджаб, оставив в тылу непокорённых вождей воинственных народов.
Изучи подённые записки, что велись в этот период, и ты увидишь, что на протяжении трёх лет армия с боями пробивалась через Арию, Парфию, Дрангиану, Бактрию, Арахозию и Согдиану, но при этом практически ни разу не встретилась с неприятелем в правильном сражении, на поле боя, лицом к лицу. Здешняя война — это бесконечные осады и операции против неуловимых местных бойцов, называющих себя «воинами-волками». Это не армия Бесса, который к тому времени уже сдался нам, а степные кочевники или горные племена. Первые, начиная военные действия, собирали по тридцать тысяч бойцов, вторые же, когда кланы объявляли всеобщее ополчение, могли выставить и втрое больше. Своим предводителем эти дикари провозгласили знатного перса Спитамена, прозванного Старым Волком за проседь в бороде и несравненное умение уходить от погони, скрываясь в горах.
Бороться с партизанами обычными средствами невозможно, тут приходится применять особые методы. Предвидя подобные затруднения, я ещё после Гавгамел провёл реорганизацию армии, сделав её более лёгкой и более мобильной. Сарисса была укорочена примерно на три локтя. У каждого солдата осталось двадцать фунтов походного снаряжения. Шлемы стали открытыми, от панцирей пехота отказалась полностью. Что же до кавалерии, то я удвоил количество «друзей», причислив к ним царских копейщиков, пеонийцев и лучших всадников из персов и иных азиатов. Мне нужны подразделения, способные совершать быстрые и дальние рейды по любой местности, находить пропитание по пути и самостоятельно действовать во враждебном окружении.
В соответствии с обстоятельствами пришлось менять и тактику. Имея дело с цивилизованным противником, полководец намечает стратегические цели (крепости, житницы, мосты, дороги и так далее), захват или уничтожение которых вынуждает врага сдаться. Но использовать подобные методы против диких племён бесполезно, да и невозможно. У них нет собственности, которой они опасались бы лишиться, да и жизни собственных сородичей значат для них очень мало. Им нечего терять.
В этом смысле они подобны диким зверям, войну с ними можно сравнить с охотой на опасных хищников, и жалость по отношению к ним уместна не более, чем по отношению к кабанам и шакалам. Воины из племён Афганистана оказались самыми свирепыми бойцами, с которыми мне вообще приходилось сталкиваться, а их вождь, Старый Волк, — единственным противником, которого я когда-либо боялся.
Воины-волки — фаталисты, они верят в судьбу и готовы умереть, отстаивая свою свободу. Разговаривать с ними бесполезно, им внятен лишь язык свирепой жестокости. Чтобы взять над ними верх, необходимо превзойти их в свирепости, наводя ещё больший ужас, чем они сами. При этом следует иметь в виду, что, будучи дикарями, они не считают за человека никого, кто не принадлежит к их клану и не связан с ними кровными узами: в их глазах он или зверь, или демон. Угроз они не боятся, на лесть не падки, а главная их черта — воинская гордыня. Подчинение для них хуже смерти. Они тщеславны, алчны, коварны, злобны, нечестны, малодушны, отважны, расточительны, упрямы и продажны. Они способны терпеть лишения превыше человеческих возможностей и могут вынести такие страдания плоти и духа, которые сломили бы каменную глыбу.
Называя войну с ними охотой, я имею в виду преследование, не прекращающееся до тех пор, пока последний враг не загнан в угол и не убит. Такие операции лучше всего проводить в зимнюю пору, когда снег выгоняет дикарей с гор. После реорганизации наши войска становятся пригодными для подобных действий. Мы поднимаемся в предгорья и, зная, что извести волков можно, лишь разрушив их логовища, не оставляем от вражеских деревень камня на камне. И ни единой живой души. Население подлежит поголовному уничтожению. Изгнание ничего не даст, дикари дождутся ухода войск и вернутся на прежнее место. О договорах и соглашениях можно забыть: подобной ерунде племена не придают ни малейшего значения. У них есть представление о чести и верности слову, но оно распространяется только на соплеменников. Обмануть чужака в их глазах не позор, а доблесть. Каждая их клятва — это притворство, каждое обещание — это обман. Я сотню раз присутствовал на переговорах с племенами, но если кто-то из них и произнёс там хоть слово правды, я никогда этого не слышал.
И всё же, несмотря на коварство и двуличность этих людей, ими невозможно не восхищаться. В каком-то смысле я даже полюбил их. Они напомнили мне о горных племенах нашей родины. Их женщины горды и красивы, их дети смышлёны и бесстрашны, они умеют искренне смеяться и быть счастливыми.
Приручить их до конца мне так и не удалось, и я решил вопрос иначе: породнился с ними. Твоя сестра, царевна Роксана, стала моей женой, а твой отец, Оксиарт, получил такой выкуп за невесту, какого ты не можешь себе представить. Мой отец наверняка одобрил бы эту сделку, которая вполне себя оправдала.
Что касается Спитамена, то в конечном счёте я одерживаю над ним победу не с помощью оружия, но силой золота. Вольным всадникам Афганистана — парфянам, арийцам, бактрийцам, дрангианцам, арахозийцам, согдийцам, даанам и массагетам — всё равно, за кого воевать. После двадцати с лишним месяцев безуспешных попыток затравить Старого Волка меня осенило, и я пустил в ход наличные. Поразительно, как быстро злейшие враги могут превратиться в лучших друзей. В считанные дни мы умиротворили огромную территорию. Я просто купил эту страну. Но не могу не признать, что, будь у Спитамена мошна потолще, мне бы его не одолеть. Взять его воинской силой я не смог, и дело решил только подкуп.
Драться за деньги афганские дикари готовы, но работать не желают ни за какую плату, считая наёмный труд занятием унизительным и недостойным воина. Предложить кому-либо сделать что-то за деньги значит нанести ему тяжкое оскорбление. Знаешь, как мы решали эту проблему?
Скажем, когда нам требовалось перевезти в Кабул сто кувшинов с вином, мы обращались к местному вождю с просьбой о ghinnouse, то есть об «услуге». Подходишь к нему и говоришь, что будешь весьма признателен, если он любезно согласится с ближайшим своим караваном, отправляющимся в Кабул, отвезти туда заодно и наш груз. Вождь соглашается, ибо, поскольку о плате никто и не заикался, никакого оскорбления не нанесено. Другое дело, что мы берём на себя «расходы по доставке».
Породнившись с твоей семьёй, я поручил своим людям проложить к горным владениям твоего отца дорогу, дабы он всегда мог рассчитывать на поддержку армии, как материальную, так и военную. Работы велись всё лето, а следующей весной, по возвращении из похода, я увидел, что дорога полностью разрушена. И сделали это, как выяснилось, не мятежники, а соплеменники твоего отца, с его ведома. Мне оставалось лишь покачать головой. Горные кланы предпочитают оставаться в изоляции, ибо это помогает им сохранить свободу.
Эту необычную войну, в которой всё делалось шиворот-навыворот, мы вели почти три года. Обычаи и правила, считавшиеся основой военного дела, приходилось отбрасывать, меняя на нечто прямо противоположное. Например, требование не дробить силы всегда считалось аксиомой, здесь же мне пришлось разделить три четверти армии на самостоятельные единицы, с собственной кавалерией, тяжёлой и лёгкой пехотой, лучниками, метателями дротиков, механиками и осадным обозом. Мы проводили «облавы». Две или три колонны вступали на определённую территорию, двигаясь параллельно и поддерживая между собой связь с помощью быстрых гонцов. Всем командирам ставилась задача при встрече с противником гнать его к соседней колонне. Только таким способом, зажав со всех сторон, противника удавалось вынудить к схватке лицом к лицу, но Старый Волк ухитрялся ускользать и из подобных тисков.
Другим способом достижения цели в такого рода войне является поголовное истребление. Увы, если ты хочешь победить, приходится учиться и этому. В подобных действиях нет благородства, и Теламон не без основания говорил о них, как о «бойне». Многие из наших товарищей так и не смогли к этому приспособиться. Я богато одаривал их и с честью отпускал в отставку, ибо ничего постыдного в такой, как называл это Кратер, «деликатности» не видел. Грязную работу выполняли другие, те, кому хватало на это духа.
Война против такого противника требует не только новых подходов, но и новых солдат и новых полководцев. Правда, иные ветераны оказываются способны не только приноровиться к новым условиям, но и проявлять самостоятельность и инициативу. Одним из них был Кратер, другим — Коэн.
Эти двое, наряду с Пердиккой, всегда являлись самыми жестокими и одновременно самыми изобретательными из моих военачальников, так что эта война без правил лишь позволила им как следует развернуться. Я со своими собственными силами предпочитал действовать во взаимодействии с ними, ибо уж их-то можно было послать в горы, не опасаясь, что они попадут в засаду и их попросту перережут. Птолемей и Пердикка тоже оказались готовыми к «волчьей войне». Первый проявил себя великолепным мастером осады, а второй — энергичным предводителем летучих отрядов лёгкой конницы и пехоты.
А вот Гефестион для этой кампании оказался непригодным: убивать женщин и детей он не мог. Я отнёсся к его позиции с уважением, однако не мог направить полководца с такими взглядами на войну со столь грозным противником, как Старый Волк. Слишком велик был риск того, что, пытаясь проявлять благородство, он погибнет сам и погубит вверенный ему отряд. Поэтому я перевёл его в ставку и сделал своим заместителем, то есть вторым по рангу человеком в армии. Другие военачальники восприняли это как оскорбление, да и сам Гефестион принял назначение без удовольствия, ибо оно ещё более отдалило его от многих заслуженных полководцев. Гефестиона обвиняли в том, что своим возвышением он обязан не военным заслугам, а лишь дружбе со мной, а все мои попытки заступиться за него лишь подливали масла в огонь. Гефестион и сам стал обижаться на меня, в результате чего между мною и человеком, которого я более всех любил и в понимании которого более всего нуждался, возникло горькое отчуждение.
В Афганистане вскрылся раскол между новыми людьми и старым корпусом. Правда, многих ветеранов, пришедших в армию ещё при моём отце, с нами уже не было: Антипатр и Антигон Одноглазый командовали гарнизонами в глубоком тылу, Парменион был убит, Филот казнён, Никанор, Мелеагр, Аминта сложили голову, десятки пали в боях, многие ушли в отставку или получили в управление города и провинции. Одного из немногих оставшихся, Клита Чёрного, я решил назначить наместником Бактрии. Он, однако, счёл это назначение унизительным, назвал его ссылкой в «собачью дыру» и взбесился настолько, что даже отказался пожать мне руку.
Как-то раз в Афганистане мне пришлось сформировать подразделение, которое было названо «недовольные». Его, как я уже говорил, составили в первую очередь ветераны старого корпуса, хорошие солдаты, многие из которых были старше меня лет на двадцать, помнившие Пармениона, любившие его и задетые тем, как я обошёлся с заслуженным полководцем. Будучи разбросанными по различным подразделениям, они сеяли заразу недовольства, и объединение их в один отряд стало своего рода карантинной мерой. Да и присматривать за ними стало полегче.
Разумеется, это было лишь временной мерой, откладывавшей окончательное решение вопроса, необходимость которого назревала уже давно.
Теперь большая часть командного состава армии представлена новыми людьми, молодыми (зачастую моложе меня) командирами, служившими только под моим началом и обязанными своим продвижением исключительно мне. Но Афганистан породил разброд даже среди них. «Волчья война» приучила их к самостоятельности и, соответственно, отучила от повиновения и дисциплины. Расхрабрившись и возомнив о себе невесть что, мои полководцы начинают тяготиться стычками с дикарями, мечтая о землях, подобных Вавилону и Египту, где есть деньги, слава и власть. Более того, чем более самостоятельно действовали отдельные отряды, тем в большей степени солдаты и младшие командиры начинали чувствовать себя не моими, а их людьми, ибо и продвижение, и награды они получали не из рук царя, а непосредственно от полководца. Дошло до того, что воины стали называть себя солдатами Коэна или Пердикки, а не Александра. Каждая победа, одержанная такими формированиями, приносит славу им, а не армии в целом, а каждый очередной акт жестокости в ещё большей степени обращает их в варваров.
Почувствовав, какое воздействие оказывает на армию эта «бойня», я пытаюсь закончить её поскорее и призываю военачальников действовать энергичнее, чтобы поскорее умиротворить страну и двинуться дальше. Это порождает ещё большую жестокость, но мало ускоряет дело: вместо намеченного года мы задерживаемся здесь на три. Нашими стараниями территории, равные по площади Македонии, совершенно обезлюдели, там не осталось никого, кроме собак и ворон. Вот что писал я матери из Мараканды:
Мой даймон на такой войне чувствует себя как дома, а я нет. Мой гений не испытывает угрызений совести по поводу сожжённых деревень и истребления населения целых провинций. Для меня эти акции лишены благородства и граничат с преступлением. Они ненавистны мне.
В Афганистане мой даймон начинает говорить со мной. Он выступает заодно с «воинами-волками», против которых мы сражаемся. Как и они, даймон не знает жалости. Как и они, он не испытывает страха смерти. Ты спрашивал, Итан, можно ли соотнести даймона с душой. Нет, это не душа. Душа должна властвовать над ним, но случается, что даймон берёт верх. В такие моменты человек превращается в чудовище.
В Мараканде моё копьё сражает насмерть Чёрного Клита. Я убил его в приступе пьяной ярости. То был самый постыдный поступок в моей жизни. Более преступный, чем Фивы, более жестокий, чем Тир, гораздо более гнусный, чем казнь Филота (заслужившего смерть изменой), и устранение Пармениона (продиктованное государственной необходимостью и связанное с предательством его сына).
Тот вечер начался, как и любой другой в описываемое время, с вина, похвальбы и споров, становившихся всё более ожесточёнными с каждой новой опустошённой чашей. Коэн только что вернулся из похода в горы с победой, честь которой с ним по праву разделили поддерживавшие его отряды Пердикки и Птолемея. Похвалы этим новым людям льются так же обильно, как и вино.
И тут Чёрный Клит встаёт на защиту «старых вояк».
У Клита был любовник, юноша из свиты по имени Ангелид. Страсть полководца к этому юноше не знала границ, но паренёк, смышлёный и честолюбивый, понял, что звезда Клита на закате (о том свидетельствовало моё намерение назначить его наместником Бактрии), и, горько пожалев о столь неудачном выборе покровителя, стал тайком подыскивать другого. Клит прознал об этом и обозлился не только на любовника, но и на весь мир.
Кто лучше, новые люди или старый корпус?
Когда Птолемей и Пердикка стали защищать первых, Клит обратился ко мне как к арбитру. Я воздал хвалу и тем и другим, дав таким образом понять, что желаю закрыть эту тему.
Но Клит не угомонился, а принялся самым вызывающим образом поносить последними словами не только новых людей, но и всех тех, кто сражался под моим началом, не послужив перед тем под командованием Филиппа. Когда Любовный Локон велел ему или уняться, или уйти, Клит в ярости швырнул в него чашу с вином.
— И как ты поступишь со мной, если я этого не сделаю? Так же, как с Филиппом?
Из трёх телохранителей, схвативших после убийства моего отца убийцу и прикончивших его на месте, двое, Любовный Локон и Пердикка, были моими друзьями. Многим такое стремление поскорее заткнуть рот человеку, который мог бы выдать сообщников, показалось подозрительным, и эту парочку заподозрили в причастности к заговору. А заодно, учитывая нашу близость, и меня.
Такие перешёптывания я слышал тысячу раз и всегда ограничивался тем, что с горестным вздохом отмахивался. Но в тот вечер меня прорвало. Вскочив со своего места, я вырвал у церемониального стража, свитского юноши Медона, копьё и не своим голосом закричал:
— Негодяй! Как ты смеешь называть меня отцеубийцей?
Гефестион попытался остановить меня, Птолемей и Коэн схватили меня за руки. Помещение наполнилось громкими криками. Трое юношей, в их числе и Ангелид, удерживали Клита.
И тут, не в силах больше сдерживаться, ветеран даёт волю затаённой обиде. Он обвиняет меня в высокомерии, неблагодарности, тщеславии, чванстве и себялюбии. Сестра Клита Эллиника была моей кормилицей. Теперь Клит призывает в свидетели эту достойную женщину, вскормившую меня своим молоком, а равно и свою правую руку, спасшую мне жизнь при Гранине.
— А теперь, Александр, ни я, ни память Филиппа ничего для тебя не значим. Ты рядишься в персидский пурпур и отдаёшь приказы об истреблении отважных людей, без которых ты был бы никем, разве что мелким, захолустным царьком.
Локон с Пердиккой выволокли Клита из зала, в то время как я, дрожа от ярости, изо всех сил пытался совладать с собой.
Но тут раздались крики: Клит снова ворвался в палату. В центре помещения находилась бронзовая жаровня, к которой он и направился, как оратор к трибуне. Но открыть рот не успел.
Обеими руками, ударом снизу вверх, я вогнал остриё всё ещё остававшегося у меня Медонова копья Клиту под панцирь, прямо в живот, а потом вырвал его и нацелил второй удар в сердце. Мы столкнулись вплотную, как два горных барана. Я физически ощутил, как моё остриё пронзает его тело и, сокрушив позвонки, с отвратительным звуком рвущейся плоти выходит из спины. Клит ещё жив. Он несколько раз ударяет меня по шее рукоятью своего меча, но тут я наваливаюсь на него всем весом, сломав уже перебитый копьём хребет. В тот миг я не ощутил ни торжества, ни сожаления.
«Этот человек больше не будет поносить меня!» — такова была единственная моя мысль.
Толкуют, будто в тот момент я был охвачен таким раскаянием, что пытался обратить своё оружие против себя. Нет. Это пришло позже. Скорее, я мгновенно протрезвел и ощутил немыслимый стыд. Такой сильный, что едва не лишился рассудка. Позднее мне рассказывали, что я заключил тело Клита в объятия и, взывая к небесам, умолял о его воскрешении. Я кричал, призывая врачей — это запомнилось и мне, — и друзьям с трудом удалось вырвать мёртвое тело из моих рук. Ужас, написанный на их лицах, лишь удвоил моё отчаяние.
Пять дней спустя приходит весть о том, что Спитамен во главе девятитысячного конного войска переправился через величайшую реку Согдианы Яксарт и теперь буйствует у нас под носом. Оплакивать Клита и заниматься самобичеванием некогда. Я собираю пять летучих отрядов и, возглавив один лично, поручаю командование остальными Кратеру, Коэну, Пердикке и Гефестиону, чья гордость будет уязвлена, если его снова оставят в тылу.
Старый Волк уже приспособился к нашей тактике преследования параллельными колоннами, научился проскальзывать между ними и взял за обычай увлекать нас в погоню и изматывать, пользуясь своим знанием местности. Чем больше мы устаём, тем чаще он наносит удары: ночью совершает налёты на лагеря, днём устраивает засады на пути прохождения колонн. В открытом бою бактрийские лошадки не соперницы нашим мидийским и парфянским скакунам, но они отличаются невероятной выносливостью. Всадники Старого Волка часами удирают от нас по пересечённой местности, а когда наши кони начинают валиться с ног от усталости, поворачивают и нападают. Используя эту тактику, Спитамен к востоку от Кирополя вырезал македонскую колонну, включавшую шестьдесят «друзей» под командованием моего отважного Андромаха, который держал левое крыло при Гавгамелах, восемь сотен наёмной конницы и пятнадцать сотен нанятой пехоты. Уцелело лишь триста пятьдесят человек: остальных перебили, а трупы, ограбленные и истерзанные, бросили на съедение волкам.
Можешь представить себе, в какое бешенство пришли мои люди, получив эту весть. В ярости они клянутся истребить врагов поголовно, и я, разделяя их гнев, вовсе не собираюсь призывать солдат к сдержанности.
Всеми пятью колоннами мы преследуем Спитамена до Яксарта. У Небдары есть брод, через который Старый Волк ускользал много раз. Это удаётся ему и теперь: оседлав противоположный берег, он всеми силами препятствует нашей переправе. Даже женщины из его лагеря, взобравшись на повозки, осыпают нас стрелами. А когда мы, подтянувшись, предпринимаем решительный штурм, разбойники бегут в Скифию, чтобы затеряться на родных просторах.
Я снова разбиваю отряд на пять колонн, и мы прочёсываем степь. Даже у этих диких саков и массагетов есть деревни. Даже у них есть убежища, где они зимуют. На протяжении шести дней мы движемся на север через пустоши, по следам копыт и повозок. Моя колонна левая, далее, слева направо, движутся по порядку колонны Коэна, Гефестиона, Кратера и Пердикки.
К полудню седьмого дня примчавшийся галопом от Коэна гонец докладывает, что идущая в центре колонна Гефестиона напала на широкий след — противник заново собирает силы. Не дожидаясь подмоги, Гефестион устремился за врагом один. За день мы одолеваем пятьсот стадиев, устремляясь туда, где был найден след. За сто стадиев до цели мы видим дым, за тридцать настигаем пеших солдат Коэна, сообщающих, что его конница, как и конница Кратера, ускакала вперёд, чтобы поддержать Гефестиона в завязанной им схватке. Скифы Спитамена не выдерживают напора и на своих низкорослых лошадках уносятся на север, исчезая во мраке.
— Что это за дым?
— Лагерь Волка.
Моя колонна вступает в сумрак. Теламон и Любовный Локон едут рядом со мной. Оказывается, что это не просто лагерь, а несколько деревушек, растянувшихся на пять стадий под меловыми утёсами, вдоль широкого песчаного русла пересохшей реки. Все палатки, хижины, шалаши и повозки сожжены. Земля под нанесённым ветром снегом черна от золы.
— Прекрасное место, — замечает Теламон. — И дерево на растопку есть, и вода, и утёсы от ветра прикрывают. Скорее всего, скифы зимуют здесь каждый год.
Подъехав поближе, мы видим тела врагов, взрослых мужчин и юношей, защищавших лагерь. Всех их не перечесть, но ясно, что счёт идёт на сотни. В центре находится наспех воздвигнутое заграждение из примерно полусотни перевёрнутых повозок: за ним пытались укрыться женщины и дети. Чтобы восстановить картину случившегося, особого воображения не требуется.
Гефестион, прибыв на место первым и зная, что остальные македонские командиры по прибытии будут придирчиво оценивать его действия, предпринял против врага самые суровые меры из всех возможных. Мы видим, где враг сомкнул кольцо своих повозок и где люди Гефестиона набрали хворосту, чтобы развести огонь. Остальное довершил ветер. Видим мы и тела женщин и детей, которые выбежали из-за повозок, пытаясь спастись от пламени, но встретили смерть от наших копий и дротиков.
Колонна Кратера, справа от Гефестионовой, должно быть, прибыла незадолго до нашей. Сам Кратер, спешившись, стоит в толпе македонских воинов и явно одобрительно хлопает кого-то по плечу. Слов его с такого расстояния не расслышать, но это очевидная похвала.
В кои-то веки Кратер хвалит Гефестиона.
Мы огибаем почерневшее кольцо повозок. Оставшиеся там погибли не от огня, а от удушья, дым прикончил их прежде, чем до них добралось пламя. Однако то, что огонь пожирал уже мёртвые тела, не делает вид превратившихся в головешки младенцев и обугленных скелетов их матерей менее удручающим зрелищем.
Я приближаюсь к кругу, в центре которого Гефестион. Как и Кратер, он ещё не видит меня. Но я вижу его. На его лице написана такая горечь, что я отдал бы всё, лишь бы этого не видеть.
Заметив меня, он берёт себя в руки. Ни в тот вечер, ни в следующий Гефестион не заговаривает о произошедшей резне, но спустя два дня, на стоянке по пути в Мараканду, у него происходит стычка с Кратером.
Всегда, с того самого дня, как армия выступила из Македонии, считалось, что этот поход преследует самые высокие цели. Теперь же Гефестион называет войну, которую мы ведём, гнусной» и «нечестивой».
Кратер откликается незамедлительно и резко.
— На войне не бывает ни правых, ни виноватых, а есть лишь победители и побеждённые. У тебя не хватает духу признать эту простую истину, потому что ты не солдат и никогда им не станешь.
— Если солдат — это такой человек, как ты, то я впрямь предпочту быть кем-нибудь другим.
Я приказываю им обоим остановиться, но взаимная неприязнь, копившаяся десять лет, прорывается наружу. Сдержать её не может ни тот, ни другой.
— На войне законно и оправданно всё, что способствует достижению победы, — заявляет Кратер.
— Всё? Включая избиение женщин и детей?
— Такую меру возмездия, — объявляет Кратер, — враг навлекает на себя сам.
— Как удобно для тебя!
— Навлекает на себя, говорю я, отказываясь подчиниться нашей воле и не желая смириться с неизбежным. Можно сказать, что такие избиения совершаются рукой противника, а не нашей.
Гефестион лишь улыбается, его губы болезненно кривятся.
— Нет, друг мой, — говорит он спустя момент, обращаясь не к одному Кратеру, но и ко мне, и ко всем присутствующим, и к себе самому. — Это наши руки вонзают мечи в их грудь, и наши руки запятнаны невинной кровью, от которой их уже никогда не отмыть.
Мы возвращаемся в Мараканду на девятый день. Я предаю земле тело Клита. Погребение скромное: пышные воинские почести все восприняли бы как издевательство. Мы все — и я, и армия — достигли самой низшей точки упадка.
Моё отчуждение от Гефестиона, хотя и более мучительное, чем когда-либо, дошло до такого состояния, что мы, по крайней мере, можем разговаривать с полной откровенностью. Когда, снова оставшись со мной наедине, он называет эту кампанию «отвратительной», я цитирую великого Перикла из Афин, который, высказываясь о приобретениях своего города, сказал: «...может быть, присвоив это, мы поступили неправильно, но теперь, когда приобретённое стало нашим, возвращать его было бы опасно и неприемлемо».
— Ага! — восклицает мой товарищ. — Значит, ты, по крайней мере, в состоянии признать, что эта нынешняя «бойня», которую мы ведём, может быть гнусной и несправедливой.
Я улыбаюсь: он ловко обернул мой довод в свою пользу.
— Может быть, мы и гнусны, но сие зло порождено самим всемогущим Зевсом. Это он вложил жажду завоеваний в наши сердца, и не только в твоё или моё, но и в сердце каждого солдата как нашей армии, так и всех армий мира. Поэтому, Гефестион, со своими претензиями обращайся к Нему (я указываю на бронзовое изваяние Зевса Гефестиона), а не ко мне.
В ту ночь я принимаю решение. Этой резне следует положить конец, пока она не уничтожила нас окончательно. Я реорганизую войско, и мы двинемся в Индию.
Нам нужна другая, достойная война.
Нам нужна война, которая будет вестись с честью.
Книга девятая ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ВРАГУ
Глава 33 НАГИЕ МУДРЕЦЫ
Против второго натиска муссона лагерь не устоял. Палатки снесены, крепления сорваны, дорожки превратились в полосы грязи. Мы расположились на возвышенности, и почва подсохнет быстро, однако настроение людей кажется испорченным, не говоря уж о времени и силах, которые придётся потратить на починку лагерного оснащения. Индийская жара изнуряет людей не меньше, чем зной пустынь, но к этому добавляется ещё и постоянная сырость, из-за которой у солдат начинают гнить ноги, а конские копыта набухают и размягчаются. Дождь тёплый, как моча, но стоять, тем паче идти под ним невозможно, ибо вода низвергается с небес потоками, наводящими на мысль не о ливне, а о водопаде. Лишь волы и слоны выносят это с восточным терпением.
У реки стоят две деревни, которые фактически слились с нашим лагерем, составив один небольшой город. Местные жители, включая женщин и детей, видят в армии источник заработка: они обстирывают и обшивают солдат, а почитаемые здесь молочные коровы снабжают войско молоком и сыром.
Вполне сжились с нами и гимнософисты, «нагие мудрецы» Индии. На рассвете мы видим, как они спускаются к реке и, бормоча что-то нараспев, совершают омовения. В сумерках они возвращаются и пускают плыть по течению крохотные зажжённые светильники, каждый из которых представляет собой не более чем широкий лист с укреплённым на нём промасленным фитильком. Это завораживающее зрелище. Десятки этих людей, выжженных на солнце до черноты и тощих, как стебли тростника, обитают в лагере. Среди них есть представители всех возрастов, и древние старцы, и зрелые мужи, и совсем ещё юноши. Кратер назвал их появление «заразой», и я опасался, что наши воины будут обходиться с ними презрительно и грубо, как это имело место в отношении вавилонян, но вышло наоборот. Македонцы воспринимают их как философов и относятся к ним с уважительным интересом, а те, со своей стороны, проявляют по отношению к грубоватым солдатам понимание, дружелюбие и благожелательное терпение.
В этот вечер, когда я со своими командирами обедаю на выходящей на реку тиковой террасе, разговор заходит о случившемся днём происшествии. При прохождении моего отряда через участок лагеря, граничащий с деревушкой Оксила, один из юношей моей свиты, смышлёный малый по имени Агафон, двигавшийся впереди, чтобы расчищать мне дорогу, наткнулся на кучку гревшихся на солнце гимнософистов, отказавшихся покидать облюбованное ими место. Началась перебранка, и некоторые из местных жителей уже взялись за дубинки, будучи полны решимости не позволить пришельцам обижать «святых». Мгновенно собралась толпа, так что, когда я подъехал, все спорили до хрипоты. Суть вопроса сводилась к следующему: кто более достоин права на проход — Александр или гимнософисты? Остановившись, я услышал, как Агафон возбуждённо дискутирует со старейшим из мудрецов.
— Смотри, — заявил паренёк, указывая на меня. — Этот человек завоевал весь мир! А что выдающегося совершил ты?
— А я, — не задумываясь, ответил философ, — победил в себе потребность завоёвывать мир.
Я восхищённо рассмеялся, приказал своим людям не тревожить мудрецов и обойти их сторонкой, а сам спросил старого философа, что я могу для него сделать, предложив высказать любую просьбу.
— Дай мне то, что держишь в руке, — отозвался он, и чудесная, спелая груша, находившаяся в этот момент у меня в руке, тут же перешла к нему. Он же немедленно вручил её ближайшему босоногому мальчишке.
На следующий день я провожу смотр армии. Периодические проверки необходимы для поддержания дисциплины и противодействия всякого рода разложению. Ясное дело, что, латая амуницию и начищая доспехи, солдаты ворчат, но когда приведённая в порядок армия выстраивается на поле, её блеск и великолепие окрыляют их, наполняя сердца гордостью и отвагой. Радует это зрелище и меня. На родине смотр такого рода занял бы не менее трёх часов, но держать так долго людей в полной выкладке на такой жаре нельзя, и я стараюсь уложиться часа в два. Кроме того, отрядам позволено стоять «вольно».
Армия, выстроившаяся передо мной, совсем не та, что покинула Европу восемь лет назад, и даже не та, что покинула Афганистан в прошлом сезоне. Левое крыло уже не украшает блистательная конница Фессалии, распущенная по домам в Экбатанах. Её место заняли вольные всадники: афганцы, скифы и бактрийцы. Эти племена, возглавляемые своими вождями, невозможно обучить европейской тактике, но сам их вид, татуированные лица и конские попоны из леопардовых шкур придают нашему войску своего рода дикое великолепие. «Преемники» — конное формирование Тиграна, присоединившееся к нам в Задракарте, обучено на македонский манер, хотя целиком состоит из персов. Наёмный кавалерийский отряд Андромаха ещё существует, но его командир пал на реке Политимет, в бою со Спитаменом.
Мои лучники теперь не македонцы, а мидийцы и индийцы, а копейщиками мне служат парфяне и массагеты. Единственные подразделения, не претерпевшие изменений, это фракийские метатели дротиков Ситалка (хотя сам Ситалк остался в Мидии, командование принял его сын Садок) и копьеметатели Агриании. Смена личного состава происходит каждую весну, как цветение гиацинтов: в армии есть сыновья и даже внуки солдат первого призыва, которые служат достойно, не хуже своих отцов.
Сердцевиной боевого порядка остаётся фаланга (теперь она формируется не из шести, а из семи отрядов), но даже она не состоит целиком из македонцев, в иных отрядах число моих соотечественников уже меньше половины. Много новых командиров — Альцет, Антиген, Белый Клит, Таврон, Горгий, Пейтон, Кассандр, Неарх и другие. В Зариаспе, в Афганистане, к нам прибыло подкрепление из Эллады и Македонии, 21 600 человек. Эти и другие подразделения, включая греческих наёмников Патрона и шесть тысяч царских сирийских копейщиков под командованием Асклепиодора, составляют основной корпус моей лёгкой пехоты. У меня есть конные лучники дааны, которые прежде воевали у Старого Волка, и шесть тысяч царских таксилианцев, пеших стрелков. «Наёмники-ветераны» Клеандра по-прежнему со мной, хотя сам Клеандр остался в Экбатанах. После гибели Чёрного Клита я взял царское подразделение «друзей» на себя, и теперь оно вместе с антимиотийцами, амфиполитанцами и боттиейцами именуется agema «друзей». Кавалерия «друзей» получает новое устройство, а общая её численность увеличивается с восемнадцати сотен до более чем четырёх тысяч, включая многочисленных персов, мидийцев, лидийцев, сирийцев и каппадокийцев.
Едина ли эта армия? Увы, нет. Македонцы, составляющие теперь лишь две пятых общей численности войска, чувствуют себя ущемлёнными и отнюдь не жалуют азиатов, особенно персов, неспособных, по их словам, даже правильно произнести моё имя. Для новых подданных я Искандер. То, что меня это очаровывает, приводит в ярость моих соотечественников, и чем старше человек, тем сильнее его недовольство. В настоящее время мои люди обучают обращению с сариссой двенадцать тысяч юношей в Египте и сорок тысяч персов. Македонцам, как бы ни жаловались они на скудность жалованья и трудности продвижения по службе, ненавистна мысль о том, что их заменят иностранцы.
Теперь я подхожу к «недовольным». На смотру они стоят между царскими телохранителями и отрядом фалангистов Пердикки. Не могу не признать, что выглядят они безупречно. Как жаль, что мне пришлось втиснуть их между безукоризненно надёжными подразделениями, чтобы сдержать их если не любовью, то железом.
Чтобы повысить боевой дух, я сформировал новые отряды, получившие свои знаки отличия. Например, на основе царских телохранителей создан укрупнённый отряд, в состав которого вошли ветераны фаланги, отличившиеся в кампании против Спитамена. Заклёпки их щитов и нагрудников сделаны из чистого серебра и стоят полугодового жалованья, хотя разговоры о том, что люди выдирают их и продают на вес, лживы.
Новые подразделения. Местные командиры. Всё это ставит перед командующим задачу «прокорма чудовища», то есть утоления вечной, неизбывной тяги к признанию, чести и новизне. При этом войска не должны расслабляться: по вечерам мои командиры обдумывают планы ложных высадок с реки и других проверок, которые должны держать в напряжении часовых.
Фессал, знаменитый актёр, прибывший из Афин, очарован армейской жизнью. Он находит всё увиденное очень похожим на театр.
— Александр, совершая обманные манёвры, не позволяющие противнику разгадать твои истинные намерения, ты поступаешь так же, как драматург. Например, в начале пьесы он изображает ужасный кризис в жизни царя, заставляя нас поверить в то, что мы имеем дело с историей о честолюбии, алчности или попранной чести. Зритель ждёт развития этой темы и, только когда представление достигает кульминации, неожиданно осознает, что всё это было лишь маскировкой, тогда как в действительности пьеса посвящена тому, как человек собственноручно определяет свою судьбу. И когда в финале все прозревают истину, то по силе эмоционального воздействия это сопоставимо с одной из твоих неудержимых кавалерийских атак. Драматург мог оживить пьесу, вставив в неё знамения, предсказания оракулов, чудеса, прямое вмешательство высших сил, и всё же мы, зрители, прозрев, начинаем понимать, что только собственный выбор главного героя сделал его тем, кто он есть, и определил его конец. Это трагедия, ибо кто из нас способен подняться над собой? Суть трагедии как раз в том, что человек есть узник собственной натуры, но слеп к этому. Он не осознает своей неволи и не в состоянии преступить её пределы. Будь у него такие внутренние силы, это уже не была бы трагедия. Сила трагедии в том, что она правдиво отражает сознание и царя, и простого человека и отображает жизнь. Мы собственными руками неосознанно готовим свою погибель. Все мы, кроме, возможно, этих гимнософистов. Они, похоже, сознательно стремятся к разрушению, полагая, будто в сердце небытия обретут процветание.
Собравшиеся смеются и аплодируют. Все, кроме Гефестиона, который привязался к этим индийским мудрецам и расстроен оттого, что к ним отнеслись с высокомерной снисходительностью.
Он выступает в их защиту.
— Они не варвары, Фессал. Они чужды рабского начала, свойственного вавилонянам, и в отличие от египтян не являются идолопоклонниками. Их древняя философия отличается глубиной и утончённостью. Это философия воинов. В своих попытках ознакомиться с ней я лишь слегка коснулся её поверхности, но даже это произвело на меня сильное впечатление. Вопреки твоему утверждению, мой друг, я заявляю, что эти аскеты действительно поднялись над собой, ибо очевидно, что они не родились в том состоянии, в каком мы видим их ныне, но пришли к нему в результате долгих трудов и немалых усилий.
В ответ слышатся смех и невежественные шутки, но Гефестион выслушивает их добродушно, без обиды. Мне радостно видеть, что он воспрял духом; теперь, когда армия ушла из Афганистана, я вижу это в его глазах, в глазах многих товарищей, да и в своих собственных. Теламон взирает на него с таким же удовольствием, как и я.
— К чему стремятся эти йоги, добровольно обрекая себя на бедность и отрекаясь от житейских благ? — продолжает Гефестион. — По моему разумению, они стремятся к слиянию своей личности с Божественной Сущностью, то есть желают увидеть мир таким, каким видит его Бог, и действовать по отношению к нему так, как действует Он. И побуждает их к этому не высокомерие, но смирение. Не смейтесь, друзья мои. Подумайте об аналогии, которую только что привёл наш друг Фессал, об аналогии с автором пьес. Для собственной пьесы драматург есть Бог, ибо это творение его воображения. И хотя представление об этих персонажах ограничено его замыслом и возможностями, драматург может и должен «видеть всё поле». И он испытывает сочувствие ко всем своим героям, иначе ему не удалось бы сделать их образы живыми и убедительными. Вот так взирает на нас и наш мир Всемогущий. Полагаю, это и есть то состояние, к которому стремятся гимнософисты. Не чёрствое безразличие, но благожелательное бесстрастие. Йог стремится любить злых, так же как и справедливых, признавая в каждом братскую душу и видя в нём спутника в путешествии по стезе жизни.
На сей раз смешков меньше: многие одобрительно постукивают по столу костяшками пальцев. Птолемей просит высказаться Теламона, заметив, что он видел, как наёмник увлечённо беседовал с несколькими из этих аскетов.
— По правде, — говорит он, — наш аркадец больше похож на этих нищенствующих философов, нежели на кого-либо из нас. Ибо хотя он принимает плату за свои ратные труды и без устали повторяет, что стезя наёмника достойна и почтенна, он ведёт скромную жизнь и почти всё полученное тут же раздаёт.
Птолемей призывает Теламона произнести речь.
— На какую тему?
— О Кодексе наёмника.
Все смеются: такого рода разглагольствования мы слышали часто. Когда Теламон отказывается, вместо него поднимается Любовный Локон. Приняв позу, безупречно копирующую аркадца, он пародирует речи наёмника столь точно, что вызывает общий восторг. Его осыпают монетами, а слова тонут во взрывах хохота.
— Я не служу деньгам; я заставляю деньги служить мне. В конце похода меня не волнует ни похвала, ни осуждение. Мне нужны деньги. Я хочу, чтобы мне платили. Таким образом, война для меня — это всего лишь работа. Не я её затевал, не мне её заканчивать. У меня и у моего командующего разные цели. Я служу только ради службы, сражаясь только ради сражений, совершаю утомительные пешие переходы лишь ради самих этих переходов.
Когда смех утихает, призывы товарищей вынуждают Теламона выйти вперёд.
— И впрямь, друзья, — признает он, — я беседовал с этими йогами, интересуясь их учением. Как оказалось, по их представлениям, все люди делятся на три типа: человек невежественный, tamas, человек действия, rajas, человек мудрый, sattwa. Мы, собравшиеся за этим столом, люди действия.
Таковы наши характеры и наши стремления. Но хотя я и прожил всю жизнь (а если принять доктрину Пифагора о переселении душ, то и предыдущие жизни) в таком качестве, мне всегда хотелось стать человеком мудрости. Вот почему я сражаюсь и вот почему избрал ратное призвание. Жизнь есть борьба, не правда ли? А раз так, то что может подготовить к ней лучше, чем военная служба? Разве вы не заметили, друзья мои, что эти мудрецы обладают достоинствами непревзойдённых солдат? Они привычны к боли, равнодушны к невзгодам, и каждый, заняв на рассвете свой пост, не покинет его, невзирая на жажду, жару, голод, холод или усталость. Он рад любой погоде, не нуждается в понуканиях и черпает силы из недр собственного сердца. Хотел бы ты, Александр, иметь армию с такой волей к битве? Мы бы сумели переправиться через эту реку быстрее, чем на счёт триста.
— Ты хочешь сказать, Теламон, — спрашиваю я, — что твоя солдатская служба есть подготовка к соответствующей твоему истинному призванию стезе мудреца?
Собравшихся это забавляет, но я говорю вполне серьёзно. Теламон отвечает, что мечтал бы обладать стойкостью и упорством гимнософистов.
— Мне, друг мой, далеко до этих людей, и я гожусь им только в ученики. Причём учиться придётся не одну жизнь.
Заодно наёмник заявляет, что нужными качествами в немалой степени обладаю и я.
— Надо отдать тебе должное, Александр, ты тоже не привязан к удобствам и не страшишься за свою жизнь. Тебя не интересуют земли, которые ты завоевал, а сокровища привлекают лишь постольку, поскольку могут служить для продолжения твоих походов. Но есть одно, к чему ты действительно привязан и что пагубно для твоей души.
— И что это, друг мой?
— Твои победы. Ты гордишься ими, а гордыня — это слабость.
Теламон указывает на террасу, лагерь, армию.
— Хорошо, если бы ты мог уйти отсюда сейчас, сегодня ночью. Встать и уйти! Не взять ничего! Способен ли ты на такое?
Все смеются.
— А ты думаешь, что я бы не смог?
— Ты не сможешь отказаться от своих побед и великого имени, как не сможешь и покинуть своих товарищей, которых ты любишь и которые, в свою очередь, любят тебя и полагаются на тебя. Кто настоящий владыка? Ты властвуешь над державой или она над тобой?
Смех звучит ещё громче.
— Ты знаешь, Теламон, что ты единственный, от кого я могу это стерпеть. Никому другому такое не сошло бы с рук!
— Но, мой дорогой друг, — очень серьёзно отвечает аркадец, — ты должен иметь в себе силы, чтобы встать и уйти. Быть солдатом — это далеко не всё. Кодекс воина не даёт ответов на все вопросы. Я это понял. Я прожил много жизней. Я устал. Я готов отбросить всё это, как изношенный плащ.
Все встречают его слова добродушным смехом и шутками.
— Не покидай нас! — восклицает Птолемей.
Остальные вторят ему, отпуская реплики в том же роде.
Теламон обращается ко мне.
— Александр, в детстве я учил тебя не поддаваться страху и гневу. Ты охотно учился. Ты победил лишения, голод, холод и усталость. Но властвовать над своими победами ты так и не научился. Они властвуют над тобой. Ты их раб.
Я чувствую, как подступает гнев. Теламон видит это, но продолжает:
— Замечание йога о том, что он «победил желание завоевать мир», как нельзя более уместно. Мудрец имел в виду, что он укротил своего даймона. Ибо что есть даймон, если не стремление к превосходству, которое присутствует не только во всех людях, но и во всех животных и даже растениях, обращая жизнь в непрерывную взаимную агрессию?
Этот удар попадает в цель.
— Даймон имеет нечеловеческую природу, — заявляет Теламон. — Этой сущности чуждо понятие о каких-либо ограничениях, и, неподконтрольная ничему, она пожирает всё, включая самое себя. Следует ли отсюда, что это зло? Но является ли злом стремление жёлудя стать дубом? Или тяга молоди лосося к морю? В природе желание доминировать удерживается в естественных пределах, ибо возможности животных ограниченны, и только в человеке это стремление выходит за разумные рамки. Что же говорить, друг мой, — он озабоченно смотрит на меня, — о таком человеке, как ты, чьи исключительные дарования позволяют с лёгкостью одолевать все преграды на пути осуществления твоих желаний? Нам всем известны случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством, — завершает Теламон свою речь, — осознав, что могут убить своего даймона, лишь убив себя.
Веселье в зале сменилось напряжённостью: все держатся скованно, опасаясь вспышки гнева с моей стороны. Я же, напротив, воспринимаю слова Теламона доброжелательно. Мне хочется услышать больше, ибо им затронуты вопросы, поиски ответов на которые занимают меня днями и ночами. Мой наставник читает это на моём лице.
— Хотя ты, Александр, и посмеиваешься надо мной из-за моего желания стать когда-нибудь мудрецом, ты и сам не чужд подобному стремлению, проявлявшемуся у тебя с детских лет. Как раз поэтому я и обратил на тебя внимание, когда ты мальчонкой таскался за мной по пятам, словно тень, не отставая ни на шаг.
Это воспоминание разряжает обстановку: все облегчённо смеются. Но Теламон серьёзен.
— Кроме того, я заявляю, что именно благодаря этому ты превосходишь своего отца. Заметь, я не говорю «превосходишь как военачальник», хотя так оно и есть. И не говорю, что ты отважнее как солдат, хотя так оно и есть. Главное твоё преимущество перед отцом не в этом, а в наличии нравственной цели. Ты всегда внутренне стремился стать человеком мудрости, тогда как Филипп вполне довольствовался возможностью сражаться да барахтаться в постели с любовницами и любовниками. Когда тебе не удаётся то, на что ты, как сам осознаешь, способен, ты испытываешь страдания. Твой отец понимал это. Он понимал, что, даже будучи ребёнком, ты превосходил его. Вот почему Филипп не только любил тебя, но и боялся. И вот почему, Александр, тебя, так же как меня и Гефестиона, тянет к этим индийским мудрецам. В их исканиях ты угадываешь нечто если не совпадающее с твоей сутью, то созвучное ей.
Глава 34 «Я СТАЛ НЕНАВИДЕТЬ ВОЙНУ»
В пенджабской армии, как называется теперь наше войско, ныне имеется ряд индийских формирований, включая царскую конную стражу Таксилы, лучников и пехоту под командованием раджи Сасигупты и отрядов других союзных царьков. У этих воинов есть древний обычай вплоть до начала боевых действий лично посещать вражеский стан (в котором в этой стране, где так распространены межплеменные браки, у них много родственников, наставников и товарищей) и по-братски общаться с представителями противника. Ночью многие наши индийские союзники переправляются на лодках за реку, к позициям Пора, а немало солдат Пора каждый вечер наведываются к нашим.
Македонцам этого не понять. Когда они в первый раз замечают высаживающихся на нашем берегу вражеских бойцов, их тут же захватывают в плен и тащат (порой не слишком деликатно) к своим командирам для допроса. Воины Пора недоумевают, наши индийские союзники негодуют. Они обращаются ко мне, и я, прослышав об этом обычае, приказываю немедленно отпустить пленных, вернуть им оружие и более не препятствовать таким встречам. Благородные традиции заслуживают уважения: все прибывшие к нам командиры Пора приглашаются за мой стол и отбывают назад с богатыми дарами.
Но такой подход чреват и нежелательными последствиями: знакомясь с воинами противника, македонцы проникаются к ним такой симпатией, что у них пропадает желание сражаться. Нельзя не восхититься этими стройными бойцами, дружелюбно прогуливающимися по нашему лагерю со своими зонтами и луками из рога и слоновой кости. Беседуя, они непринуждённо, словно журавли или цапли, стоят на одной ноге, прижав стопу другой к внутренней стороне бедра. Их чёрные волосы собраны в узлы, яркие красные или оранжевые штаны подвязаны над коленями. В ушах у них золотые серьги, а с лиц почти не сходят ослепительные улыбки. Настроить себя против врага легче, если ты видишь в нём разбойника или варвара, но кшатрии Пора явно не относятся ни к тем, ни к другим. Не говоря уж о том, что ни они, ни их царь никогда не делали македонцам ничего дурного.
Готовясь к нападению, я посылал за реку многочисленных разведчиков, и все они в один голос докладывали, что на том берегу раскинулась изобильная и прекрасно управляемая страна, хозяйство которой основано не на рабстве, а на свободном труде владельцев самостоятельных наделов, своим положением похожих на вольных держателей участков из нашей родной Македонии. Разведчики утверждают, что местные жители преданы своему царю и чтут его не из страха, а из великой любви. Земля в этом царстве ухоженная и плодородная, жёны работящие и верные, детишки смышлёные и весёлые. По всему выходит, что македонцам предстоит принести войну в земной рай, и их это вовсе не радует.
Кроме того, наступает сезон дождей. Река злорадно играет с нами, как с несмышлёнышами. С гор нежданно-негаданно сбегают стремительные потоки, результат дождей и гроз, отбушевавших слишком далеко, чтобы мы могли что-то увидеть, услышать и предусмотреть. В считанные минуты всё, что мы неделями не покладая рук возводили на берегу, сплетено ли это из тростника, сложено ли из брёвен или возведено из камня, оказывается смытым в реку. Любое судёнышко, застигнутое на реке бурным потоком, сносится вниз по течению с такой быстротой, что спасатели теряют его из виду, даже если галопом скачут по берегу в ту же сторону.
Солдаты пока не ропщут, но их лица выдают недовольство. Я продолжаю готовиться к наступлению. Девятнадцать сотен лодок и плотов строятся на месте или в разобранном виде доставляются с Инда и собираются заново. Под прикрытием предмуссонных ливней я перебрасываю их к намеченным для переправы точкам, выше и ниже по течению.
Армия готовится к форсированию водной преграды и обучается действиям против боевых слонов. Для конских копыт шьют чехлы вроде сапог, облегчающие передвижение по болотистой местности. Чтобы приободрить войско, я посылаю в тыл за деньгами и оружием. Два конвоя, из Амбхи и Регала, находятся в пути, но из-за размывших речные броды дождей до нас ещё не добрались. Мысленно наметив дату наступления и сохраняя её в секрете, я из-за названных задержек вынужден был переносить её дважды, а теперь уже и трижды. Между тем бездействие деморализует любую армию; оно чревато брожением и подталкивает к мятежу.
Однажды вечером у моей палатки появляется депутация недовольных командиров. Гефестион просит их прийти попозже, под тем предлогом, что должен подготовить меня к встрече с ними, дабы их просьба не навлекла на них мой гнев. Потом, прогуливаясь вдоль реки с ним и Кратером, мы обсуждаем их приход.
— У этих негодяев яйца распухли, вот и чешутся, — бросает Кратер в своей обычной бесцеремонной манере. — Клянусь богами, они вечно заводят одну и ту же песню.
И он, чтобы придать своему утверждению весомость, громоподобно испускает газы.
— Так-то оно так, — говорю я. — Но депутация — это что-то новое.
— Вышвырни эту депутацию, вот и всё.
— Но это не какие-то молокососы, а серьёзные, заслуженные командиры.
Я называю несколько уважаемых имён.
Кратер указывает на реку.
— Если они такие серьёзные, пусть серьёзно подумают, как лучше её форсировать.
По возвращении в лагерь мы допоздна занимаемся делами, и лишь спустя несколько часов после полуночи в моём шатре не остаётся никого, кроме Гефестиона и зевающих дежурных из свиты.
Я спрашиваю его, почему он в этот вечер почти не подавал голоса.
— Правда? Я и не заметил.
Это не срабатывает; мы слишком хорошо и долго знаем друг друга.
— Ну давай, говори.
Он бросает взгляд на мальчишек дежурных.
Я делаю им знак:
— Оставьте нас.
После их ухода Гефестион садится. Я вижу, что он выпил бы вина, но не позволяет себе этого.
— Я, — говорит наконец мой ближайший друг, — возненавидел войну.
На этом мне следовало бы его остановить. Зачем выслушивать остальное?
— Ты спросил меня, я ответил, — говорит он. — Продолжать?
Я хватаюсь за опорный шест шатра и сжимаю его, чтобы унять дрожь в руке.
— Дело не в усталости, — поясняет Гефестион, — и не в желании вернуться домой. Всё дело в самой войне.
Он поднимает глаза и встречается со мной взглядом.
— Сейчас ты чувствуешь гнев, — замечает Гефестион. — Твой даймон овладевает тобой.
— Нет, — возражаю я.
Но на самом деле он прав.
— Говори, — настаиваю я, — я хочу услышать всё.
— Раньше я осуждал кампанию, проводившуюся в Афганистане, но не только не возражал против великого похода далее на восток, но и приветствовал эту идею со страстью, равной, если не превышающей, твою собственную. Но теперь всё видится мне иначе. То, что мы делаем, Александр, нельзя назвать иначе как преступлением. В конечном счёте, это та же «бойня». Как бы ни воспевали войну поэты, какие бы гимны ни слагались в её честь, по существу, она не более благородна, чем грабёж и разбой. Только совершается этот разбой не отдельными людьми, а одними народами по отношению к другим. Ремесло солдата состоит в том, чтобы убивать людей. Мы можем называть их врагами, но они такие же люди, как и мы. Они любят своих жён и детей не меньше нас, не уступают нам в отваге и благородстве и служат своей отчизне с ничуть не меньшей преданностью. Что касается тех, кого я убил своей рукой или кого убили по моим приказам, то, будь у меня возможность воскресить их, всех до единого, я поступил бы так, чем бы это ни обернулось и для меня самого, и для нашего похода. Прости...
Он хочет прекратить этот разговор, но я требую продолжения.
— До Персеполя, Александр, я был всецело на твоей стороне, ибо считал, что преступления, совершенные персами на земле Эллады, вопиют об отмщении. Но вот отмщение свершилось. Мы убили персидского царя. Мы сожгли столицу Персии и сами стали властителями всех её земель. Что же теперь?
Жестом он указывает на восток, за реку.
— Теперь мы вознамерились обрушиться на этих достойных, счастливых земледельцев. Зачем? Что худого они нам сделали? По какому праву мы развязываем против них войну? В погоне за славой? Но подлинной славы, славы освободителей, наша армия лишилась давным-давно. Или нам стоит вспомнить слова Ахилла и заявить, что мы стремимся превзойти всех в «добродетелях войны»? Чушь! Любая добродетель, доведённая до крайности, становится пороком. Зачем нам завоевания? Чтобы обращать свободных людей в невольников? Но поверь, каждый из них с радостью променяет богатство, даруемое тобой, господином, на бедность, которую он сможет назвать своей собственной. Раньше мы вели войну, у которой имелись причина и оправдание. Теперь ничего подобного нет.
Он встаёт, расстроенно ероша пятерней волосы.
— Кто может выстоять против тебя, Александр? Ты стал дубом, по сравнению с которым все деревья в лесу кажутся травинками. Армия бурлит от отчуждения и недовольства, но ты одним словом способен принудить её к повиновению. Кто может сказать тебе «нет»? Я не смогу. Они тоже.
Мой товарищ смотрит на меня.
— Сначала я держал рот на замке, потому что боялся потерять твою любовь. То есть мне казалось, что я боюсь именно этого, хотя такое поведение отдаёт тщеславием и эгоизмом. Но потом стало ясно, что боюсь я совсем другого. Того, что ты потеряешь себя! Что твой даймон пожрёт тебя заживо! Он уже пожирает нашу армию! Я люблю Александра, но страшусь «Александра». Который из них ты?
Гефестион смотрит на меня с отчаянием.
— Мы переправимся через реку ради тебя. Мы добудем тебе твою победу. Что потом?
Он умолкает. Его обвинения не содержат ничего нового в сравнении с тем, что я сам говорил себе десять тысяч раз. Но произнести это вслух, мне в лицо...
— Ты самый смелый человек из всех, кого я знаю, Гефестион.
— Лишь самый отчаявшийся.
Он прячет лицо и плачет.
На его плаще застёжка, золотой лев Македонии. Он мой заместитель, второй по рангу человек в армии.
— Если меня убьют в этом бою, — спрашиваю я, — ты отведёшь армию домой?
— Тебе следует заменить меня, — говорит Гефестион вместо прямого ответа.
Я лишь улыбаюсь.
— На кого?
Следующий день можно было бы назвать «днём слоновьего дерьма». Наш прыткий десятник Дерюжная Торба, ходивший за реку в разведку, приволок в лагерь высохшую слоновью лепёшку, этакий блин цвета мастики, в полтора локтя высотой и с купальную лохань в окружности. Мы все видели помёт рабочих слонов, но боевой, судя по отходам, является настоящим гигантом. Неудивительно, что эта находка вызывает в лагере возбуждение. Каждый считает необходимым взглянуть на лепёшку, и все наперебой гадают, какого размера должен быть зверь, способный её уронить.
— Клянусь богами, — заявляет Дерюжная Торба, — если этакое страшилище на тебя наступит, то раздавит, как гнилую луковицу.
Наши солдаты знают о существовании боевых слонов (при Гавгамелах пятнадцать этих так и не вступивших в бой животных оказались в наших руках вместе с погонщиками), но вот сталкиваться с грозными великанами в сражении им ещё не приходилось. Теперь подобная перспектива выглядит весьма близкой, и люди пугаются. Не утешают и последние данные разведки. Пор, в распоряжении которого имелось пятьдесят чудовищ, призвал подвластных ему восточных раджей, которые привели втрое больше слонов, не говоря уж о многих тысячах лучников, пехотинцев и колесничих. Двести слонов выстроились с заполненными пехотой интервалами в тридцать локтей, образовав фронт почти в десять стадиев шириной и в три ряда в глубину. Запах и рёв слонов пугает коней: наши люди опасаются, что кавалерия не сможет не только произвести атаку на поле, но даже, когда эти звери на виду, выйти из реки. Людей, казалось бы привычных к опасности, страшит возможность пасть не от меча или копья, а оказаться растоптанным, пронзённым бивнями или поднятым хоботом в воздух и брошенным на землю с силой, способной вышибить мозги и переломать все кости.
Я инспектирую пехоту. Выясняется, что число неспособных занять место в строю из-за «случайных» травм возросло втрое. По всему лагерю люди собираются кучками и о чём-то толкуют. Вид у них подавленный. Стоит мне встретиться с кем-то взглядом, как он пристыжённо отводит глаза. Кратер с Пердиккой пытаются воздействовать на людей личным примером, Птолемей уговаривает меня начинать наступление. Мне хотелось бы подождать (деньги и снаряжение, за которыми было послано, скоро прибудут), но настроение в лагере вынуждает меня к незамедлительным действиям. Я созываю командиров.
— Македонцы и союзники, вы не та сила, которой были когда-то. Раньше, ведя вас в бой, я чувствовал ваше рвение и безудержную отвагу. Теперь, идя вперёд, мне приходится оглядываться, всякий раз боясь, что вас вообще не окажется на виду. Но и когда вы на виду, это не радует. Посмотрите на себя. Вы угрюмы, ворчливы и — давайте уж, как учил мой отец, называть вещи своими именами — при виде кучки слоновьего дерьма обделались сами.
Я обращаюсь к командирам снаружи, под насыпью, в расчёте на то, что всё войско соберётся и услышит мою речь.
— Я созвал вас сюда, чтобы раз и навсегда покончить с неопределённостью: либо мне удастся убедить вас идти вперёд, либо вы убедите меня повернуть назад. Есть ли у вас претензии ко мне, братья? Разве ваши труды не были удостоены справедливого вознаграждения? Если, по вашему мнению, это так, то мне, пожалуй, нечего вам сказать. Но если признать, что в результате помянутых трудов в ваших руках теперь вся Европа и Азия, а именно: Эллада и острова Эгейского моря, Иллирия, Фракия, Фригия, Иония, Кария, Киликия, Финикия, Египет, Сирия, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Вавилония, Сузиана и вся Персидская держава, не говоря уже о Парфии, Бактрии, Арии, Согдиане, Гиркании, Арахозии, Тапурии и половине Индии, — тогда в чём суть ваших жалоб? Подвёл ли я вас, сменив великодушие на скаредность? Но среди вас нет ни одного, кого бы я не сделал богатым. Разве я оставляю себе самую лучшую добычу? Вот моя кровать. Две доски и подстилка. Я ем вдвое, а сплю втрое меньше любого простого солдата. А что касается ран, пусть любой из вас разденется и покажет свои раны, а я, в свою очередь, покажу свои. Спереди, откуда воин получает удары, делающие ему честь, на моём теле не осталось места, не покрытого шрамами. Нет ни одного вида оружия, отметины от которого я не получил бы, служа вам, сражаясь ради вашей славы и вашего обогащения!
Я расхаживаю по сооружённой нами насыпи, словно актёр по сцене. И все взоры, как в театре, обращены ко мне.
— Друзья мои, по моему глубокому убеждению, человек, воодушевлённый благородным стремлением к подвигам, не признает никаких запретов и ограничений. Однако если вам всё же не терпится узнать, как же далеко намерен я зайти, отвечу, что являющееся моей целью побережье Океана лежит во многих лигах от того места, где мы пребываем ныне. И пусть каждый знает, что остановлюсь я только там. И никак не раньше. Конечно, друзья мои, вы устали. А вы думаете, я не устал? Но лишения и опасности — это плата за подвиги и славу. Что может быть лучше, чем прожить жизнь с честью и умереть, прославив своё имя в веках? Мы составляем армию, равной которой не было никогда. Минуют столетия, другие армии будут вести другие войны, но кто сможет сравниться с нами в наших подвигах? Оглядитесь по сторонам, братья. Посмотрите в глаза своих товарищей. Вы самая могучая боевая сила в истории! Завоевания всех тех, кто был до вас, и тех, кто придёт потом, меркнут перед испытаниями, которые вы преодолели, врагами, которых вы победили, победами, которые вы одержали. Неужели после всего этого вы поддадитесь нелепым страхам и поверите, будто за этой рекой нас встретит враг слишком сильный, чтобы его можно было победить? Но то же самое я слышал ещё перед выступлением из Македонии, теми же словами меня пытались уговорить остановиться у Евфрата, уверяли, будто нашими силами невозможно овладеть Вавилоном, Персеполем, Кабулом. Всякий раз я отвечал, что для нас нет ничего невозможного, и всякий раз оказывался прав. Может быть, мы добились слишком многого? Возможно, наша беда именно в этом, и коварство небес состоит в том, чтобы, истомив нас победами, свести на нет наш порыв, когда до величайшей цели остаётся всего один рывок. Братья, не поддавайтесь на эту уловку. Следуйте за мной! Дайте мне возможность завершить поход, как было задумано. Побережье Океана не может быть слишком уж далеко. Когда мы будем стоять на Краю Земли — а мы будем там, — тогда, клянусь небом, я не только удовлетворю все ваши пожелания, но дам вам больше, чем вы могли вообразить в самых дерзких мечтах. Я отошлю вас домой или поведу туда сам, тогда как те, кто останется, будут завидовать тем, кто уходит.
Я умолкаю. Никто не отвечает. Все боятся моего гнева.
— Говорите, друзья. Не бойтесь меня. Ваше молчание разрывает мне сердце.
Тишина длится целую вечность. Никто не отрывает глаз от земли.
Наконец вперёд выступает Коэн. Моё сердце охватывает печаль. Коэн, бесстрашный перед лицом врага, теперь должен пустить в ход эту непревзойдённую доблесть, только чтобы обратиться ко мне.
Мой старый друг говорит:
— Видя, что ты, Александр, желаешь не принуждать македонцев как деспот, но убедить их или позволить им убедить себя, я буду говорить не от имени моих братьев полководцев, которых ты одарил такими почестями и сокровищами, что мы последуем за тобой повсюду, но от имени простых солдат, чьи голоса не звучат на советах, но на чьи плечи ложатся основные тяготы и лишения.
Коэн говорит: уже после Персеполя многие сочли, что армия зашла слишком далеко, а за прошедшее с той поры время мы ушли в три раза дальше, подчинили себе столько же людей и присоединили территорию, вдвое превосходящую даже территорию Персидской державы. Мы сразились ещё в двадцати четырёх битвах и провели ещё девять осад. Что стало за это время с армией?
— Уж конечно, Александр, ты прекрасно знаешь, как много македонцев и эллинов выступило с тобой из Европы и как мало осталось их на сегодняшний день. Многих, истощившихся от непомерного напряжения, ты, одарив, отпустил домой, заслужив их благодарность. Другие получили землю и жён в завоёванных странах, и это тоже было правильным решением, ибо ты понял, что у них уже не лежит душа к этому походу. А сколько погибло на поле боя, умерло от ран и болезней, стало беспомощными калеками? Мы проделали путь в сто десять тысяч стадиев, и каждый локоть этого пути давался нам в упорных сражениях. Лишь немногие из уцелевших обладают ныне телесным здоровьем, а их дух истощён ещё более. Каждому солдату очень хочется увидеть мать и отца, если они ещё живы, и жену с детьми, выросшими в его отсутствие. Он стремится увидеть свою родную землю. Что в этом плохого? Разве он не заслужил этого? Разве не о достойном возвращении мечтал он с самого начала и разве не к этому поощрял его ты сам своей щедростью, позволившей ему превратиться из бедняка в зажиточного человека? Что касается меня, то после Гранина ты предоставил мне, вместе с другими недавно женившимися людьми, отпуск, позволив по своей великой доброте провести зиму дома с моей супругой. Это было восемь лет тому назад. У меня есть сын, которого я никогда не видел. Неужели, Александр, мне суждено сгинуть на твоей службе, так и не увидев лица моего ребёнка?
Коэн настойчиво убеждает меня в необходимости вернуть армию домой и вернуться самому. Увидеться с матерью, устроить дела в Элладе, а потом, если я пожелаю, собрать новую армию и организовать второй поход.
— Подумай о том, Александр, с каким несравненным пылом и рвением последуют за тобой молодые бойцы, увидев, что их старшие товарищи воротились домой со славой и щедрыми наградами и никто из них уже не будет прозябать в бедности.
Мой старый друг умолкает. Солдаты тысячами поддерживают его одобрительным гулом. Иные проливают слёзы, умоляя меня прислушаться к его совету.
Мне снова не удаётся заставить их понять меня, и это наполняет моё сердце таким гневом, что я боюсь, как бы оно не разорвалось. Говорить больше не о чем: мне остаётся лишь распустить собравшихся и, сжигаемому яростью, вернуться в свой шатёр.
Глава 35 СЕРЕБРЯННЫЕ ЩИТЫ
В ту ночь никто не сомкнул глаз. Клянусь богами, я задам жару всем этим нытикам. В полночь по моему приказу весь отряд «недовольных» разоружают и берут под стражу. По лагерю ползут слухи о том, что их предадут казни. Косвенно они подтверждаются следующим приказом: на рассвете выстроить армию с полной выкладкой, как это по обычаю делается, когда, в назидание прочим, казнят совершивших военные преступления.
«Недовольные» строятся отдельно: босые, с непокрытыми головами, в одних туниках.
Курьеры, прибывшие с наступлением ночи, докладывают, что обозы с деньгами и снаряжением находятся на расстоянии всего лишь нескольких стадиев. Я посылаю к колонне командиров с секретными приказами. Это возбуждает самые невероятные слухи.
В центре лагеря расчищается квадратная площадка, на которой устанавливают три сотни столбов, какие используют при казнях. «Недовольных » должны будут под стражей перевести туда.
Все мои приказы не передаются, как обычно, по цепочке, а оглашаются в лагере глашатаями, получившими их непосредственно от меня. Пусть мои высшие военачальники тоже попотеют от страха. Я не допускаю к себе Гефестиона, Кратера и Теламона. Разрешено остаться лишь Аристандеру старшему, вместе с которым мы совершаем жертвоприношение Страху. Жертвенные животные, одно за другим, истекают кровью. Знамения неблагоприятные, и я приказываю выбросить выпотрошенные трупы позади святилища. Пусть армия строит догадки и по этому поводу!
Обозы прибывают при свете факелов, за три часа до рассвета. Я велю поставить повозки квадратом, рядом с центральной площадью, и охрану их поручаю не македонцам, чьи языки без костей, а царским таксилианцам раджи Амбхи.
С наступлением рассвета я продолжаю приносить жертвы, но теперь призываю к себе Гефестиона, Пердикку, Птолемея, Коэна и Селевка.
Лагерь объявляется закрытой территорией, покидать его и проникать снаружи строжайше запрещается. Каждый задержанный будет казнён как дезертир или шпион.
Теламон направляется мною к «недовольным» с вопросом: им предлагается или отвергнуть своих нынешних молодых командиров, Матиаса и Ворону, и выбрать других, или подтвердить их полномочия, ибо слова представителей отряда будут восприниматься мною как общее волеизъявление.
Восходит жаркое индийское солнце. На моих глазах вперёд выводят «недовольных». Каждый из них герой. Я узнаю Эрикса, первым взобравшегося по приставной лестнице на высокую стену Аорна, Филона, всю ночь прикрывавшего своим щитом Белого Клита, когда они попали в засаду, устроенную дикими афганцами, Амомфарета, прозванного Полумесяц из-за страшного шрама на животе, следа от удара мечом. Этот малый прославился ещё и тем, что пожертвовал накопленную за три года добычу пострадавшим от наводнения жителям безвестной деревеньки на берегу Окса. Очевидно, все они считают, что этот рассвет будет последним в их жизни, но никто не хнычет и даже не просит у Теламона известить родных о его гибели.
Я ошибся.
В том, что между мною и этими солдатами возникло отчуждение, виноват я.
Армия, невыспавшаяся и переволновавшаяся, производит построение. Уже припекает. «Недовольные» стоят по стойке «смирно» внутри расчищенного квадрата, под присмотром вооружённой стражи. Матиас и Ворона остаются их командирами. Перед людьми высятся триста столбов, на каждый из которых я приказал накинуть покрывало, большущий мешок, закрывающий столб с верха до основания. Эти обвисшие тряпки напоминают саваны. Солдаты, сбитые с толку, растерянные и напуганные, не сводят глаз со зловещих столбов.
Облачённый в багровый плащ конных «друзей», я выступаю вперёд.
— Македонцы и союзники, когда я распустил вас прошлым вечером, всё во мне пылало от гнева. Вы почувствовали это, я знаю. Всю ночь в ваших палатках вы совещались между собой. Так, как и должно быть, ибо вы не рабы, скованные волей тирана, но свободные люди. Я тоже лежал, не смыкая глаз. Всю ночь напролёт в моей голове звучали слона, произнесённые от имени всех вас нашим славным товарищем Коэном. Я выслушал их и усиленно размышлял над ними.
Я выпрямляюсь. В лагере настолько тихо, что слышно, как в реке, на два стадия ниже по течению, прачки полощут бельё.
— Братья, поступайте, как хотите. Но знайте: я пойду дальше.
С моего помоста виден противоположный берег. Я делаю жест в направлении позиций Пора и вражеских укреплений.
— Принуждать следовать за мной никого не будут. Сейчас все вы увидите, что это не просто слова.
Я делаю знак армейскому казначею, и по его команде вперёд выступает начальник прибывшего поздно ночью денежного обоза. Его люди в соответствии с моими инструкциями выкатывают и деловито рассредоточивают перед союзными и иностранными формированиями армии около двух десятков повозок. Каждая занимает место перед отдельным отрядом, и возницы сгружают мешки с казной. Золото занимает мало место, так что времени на разгрузку уходит немного.
— Вот ваша плата, союзники и друзья. Здесь наградные: в одинарном размере для пехоты, в двойном для конницы, в тройном для командиров. Это всё, что вы должны были получить после окончания похода и полной победы. Давайте! Забирайте свои деньги!
В считанные мгновения речь переводят на пару десятков местных языков. Приглушённый гомон перерастает в ропот, ропот — в негодующие крики. Иноземцы, каждый на своём наречии, выкрикивают одно: «Нет! Нет! Подачки нам не нужны!» Они не коснутся денег, которых не заслужили.
— Берите! — повторяю я, направляясь к ним. — Берите и скажите, что переправились через эту реку с Александром и уничтожили его врагов. А тем, кто усомнится в вашей отваге, предъявите как доказательство эти деньги.
Возмущённые возгласы перерастают в рёв, уязвлённая гордость повергает воинов в бешенство. Парфяне, бактрийцы, дикие племена Скифии — саки, дааны и массагеты — вновь и вновь выражают упорное несогласие. Индийцы раджей Амбхи и Сисигупты молчат, но всем своим видом дают понять, что моё предложение для них неприемлемо. Наёмники из Фракии и Эллады, сирийцы, лидийцы, египтяне и мидийцы придерживаются того же мнения. Что же до Тиграна и персов, то они не удостаивают золото и взглядом.
Я подаю знак, призывая к тишине, а когда командиры восстанавливают порядок, обращаюсь к македонцам.
Армейский казначей выкатывает вперёд новые повозки. Мои соотечественники уже терзаются стыдом, но миновала ли опасность нового возмущения? Нет, я ещё заставлю их покорчиться на дыбе позора.
— Македонцы, вы высказали свои претензии, и я выслушал их. Вот. Это то, чего вы хотели.
Возницы сбрасывают с повозок ещё больше мешков с золотом. Мешки тяжёлые; многие при падении рвутся, и монеты рассыпаются по земле. Перед каждым отрядом вырастают холмики сокровищ.
— Вот ваши свидетельства об увольнении со службы. — Юноши из моей свиты демонстрируют свитки. — Вы свободны. Заберите их! Я вас больше не держу!
Ни один человек не двигается с места. Каждого пригвоздил к месту стыд.
— Что держит вас, македонцы? Я отпускаю вас с честью. Нагнитесь! Забирайте своё вознаграждение и отправляйтесь домой.
Юноши из моей свиты по моему поручению обходят ряды, протягивая людям свидетельства об отставке. Все как один убирают руки за спину.
— Я организую для вас обоз, братья. Собирайтесь, грузите свои пожитки и отправляйтесь домой. Только там, дома, не забудьте рассказать жёнам и детям, как вы бросили своего царя на краю земли, в окружении врагов. Упомяните и о том, что союзники, даже не знающие его языка, остались верными Александру, тогда как вы, его родственники и соотечественники, забрали свои сокровища и отправились на родину. Расскажите им об этом, и вы, я уверен, прославитесь на всю страну. Что уставились? Вы получили всё, что хотели! Проваливайте, чтоб глаза мои вас не видели! Уходите!
Мои соотечественники стоят как статуи. Всех удерживает не только стыд, но и беспокойство. Все ждут, как решится участь «недовольных». Будут ли их казнить? Отведут ли их сейчас к столбам, чтобы свершить расправу?
Теперь моя речь обращена к «недовольным». Я перечисляю их былые заслуги, называю Эрикса, и Филона, и Амомфарета и заявляю, что отчуждение между нами возникло по моей вине.
— Да, братья, я слишком рьяно побуждал вас идти всё дальше и дальше, ибо, осознавая ваше величие, ждал от вас чудес, хотя, возможно, не в должной мере поощрял ваши успехи и разделял ваши невзгоды. Я подвёл вас, друзья. Но и вы подвели меня. Вы разрушили мою веру в себя и в наших соотечественников. Вы поставили своё недовольство выше верности армии. Вы дулись и лелеяли свои обиды, что пристало капризным фаворитам, а не солдатам. Такие проступки, совершаемые во время войны, это не заблуждения, а военные преступления, карающиеся по всей строгости. Но, предоставив нашим союзникам и соотечественникам свободу выбора, я считаю себя не вправе отказать в том же и вам.
По моему приказу покрывала на столбах приподнимаются, и все видят, что к каждому прислонён недавно изготовленный, никогда не отражавший ударов, ослепительно сверкающий в лучах восходящего солнца щит. Я объявляю, что каждый из щитов обит не бронзой, а чистым серебром и на каждый пошла одна шестая таланта драгоценного металла.
— Вот вам награды, из-за которых вы так стервенели. Серебро на каждом щите стоит жалованья за три года.
Я делаю страже знак удалиться. Отряд «недовольных» остаётся на месте, поражённый немотой. Вся армия затаила дыхание. Пока солдаты отупело таращатся, я приказываю полностью сорвать покрывала со столбов. Рядом со щитами сложены триста новых мечей и сарисс, новая обувь, туники, шлемы, плащи: триста комплектов полного боевого снаряжения.
Армия взрывается криками. На восстановление порядка уходит столько времени, сколько необходимо, чтобы досчитать до ста.
— Это снаряжение предназначено для вас! — обращаюсь я к «недовольным». — Но я не принуждаю вас брать его. Если вы предпочтёте, чтобы стоимость серебра на каждом щите была возмещена вам звонкой монетой, я с почестями отпущу вас домой.
«Недовольные» поворачиваются к Матиасу и Вороне. Молодые командиры вытягиваются в струнку.
— Но не спешите. Прежде чем примете решение, выслушайте то, что я вам сейчас скажу.
Размашистым шагом я иду вдоль строя.
— Там, где бой будет самым яростным, туда я и пошлю вас. Туда, где задача будет самой опасной, первыми пойдёте вы. Там, где риск будет самым большим, вы займёте место в первых рядах. За рекой нас дожидаются боевые слоны Пора, в атаку на них предстоит идти вам. Вы победите их! Хватит отлынивать и прохлаждаться, вам даётся последняя возможность возродить свою честь и славу. Выбирайте, братья, но выбирайте сейчас!
Матиас и Ворона первыми делают шаг вперёд. По одному, по двое, потом уже скопом, триста ветеранов выходят вперёд и берут свои щиты. Люди сбрасывают свои опозоренные туники и облачаются в новые, знаменующие искупление и воссоединение. Войско восторженно ревёт.
За рекой Пор не может не слышать этого. В считанные минуты каждый его солдат будет поднят по тревоге, вся армия приведена в полную готовность.
Я выхожу перед строем.
— Братья, я намерен перейти эту реку! Кто пересечёт её вместе со мной?
Глава 36 БИТВА У ГИДАСПА
Эту битву мне нет нужды описывать в подробностях. Ты был там, Итан. Ты сражался, ты победил. Я не вижу необходимости пересказывать тебе то, что ты видел собственными глазами.
Вместо этого я буду говорить о роли этого сражения. О том, какое значение имело оно и для меня, и для армии.
Оно было тем единственным, что нам тогда требовалось: битвой героического масштаба с достойным и доблестным противником, отважно защищавшим свои позиции. В конце концов поле осталось за нами, но, что в данном случае было даже важнее, нам удалось сохранить жизнь и самому Пору, и сколь можно большему количеству его кшатриев. Одолев упорного и мужественного противника, мы не опустились до расправы и мародёрства, но смогли проявить великодушие и одержали победу не только над неприятелем, но и над тем разбродом и шатанием, который в последнее время был бичом нашей армии.
Сама же победа была блестящей, возможно, величайшей из одержанных под моим командованием. Я утверждаю это, ибо она потребовала совершенно новой стратегии и тактики, нетрадиционного подхода к организации наступления и изумительной слаженности и координации со стороны рассредоточенных соединений — трёх обособленных корпусов, отделённых друг от друга аж ста пятьюдесятью стадиями, и действовавших на фронте протяжённостью в двести пятьдесят стадиев по обоим берегам могучей реки. В этом сражении (которое, по правде говоря, представляло собой сложную комбинацию, сочетавшую удар с воды с сухопутной операцией) перед нашей армией встала самая сложная за всю её боевую историю задача по согласованной, выверенной по времени передислокации в труднейших условиях огромного воинского контингента. На семистах ладьях и одиннадцати сотнях плотов надлежало переправить сорок семь тысяч солдат и семьдесят пять сотен лошадей (большую часть пришлось переправлять ночью, во время муссона), со всем вооружением и боевым снаряжением, включая полевые баллисты и катапульты. Это потребовало величайшей гибкости и способности к импровизации со стороны находившихся в отрыве один от другого командиров, многие из которых говорили на разных языках. Наступление велось с форсированием естественных и искусственных преград, на беспрецедентно широком фронте, против неприятеля, сражавшегося не только ради победы, но и защищавшего свою родину и свободу. Одни лишь затраты физической энергии были таковы, что все предыдущие операции меркнут по сравнению с этим грандиозным свершением.
Всё начинается с броска в сто восемьдесят стадиев вверх по течению, по вязкой грязи, совершенного во время продолжавшейся всю ночь грозы, сопровождавшейся подобным потопу ливнем. Конечно, непогода скрыла нас от противника, но зато превратила русло реки, и без того вспухшее после ранних дождей, в завывающий бурный поток. Затем следует переправа через этот поток, причём ширина его составляет почти десять стадиев, и последнюю треть многим приходится преодолевать вплавь. И всё это имеет место до сражения, даже до построения в боевой порядок, осуществлённого уже на том берегу. Потом следует марш на сближение протяжённостью сто пятьдесят стадиев и происходящее на заболоченной местности столкновение с противником, чей фронт растянулся на двадцать стадиев, а силы составляют восемнадцать тысяч конницы, сто тысяч пехоты и две сотни боевых слонов. Последних доселе ни одна армия Запада даже не видела, не говоря уж о том, чтобы вступить с ними в бой и победить. И это только физические трудности. Душевных сил было затрачено не меньше, если не больше. Ибо по мере того, как разворачивалось сражение, оно преподносило нам множество неожиданностей. Обстановка чуть ли не ежеминутно резко и непредсказуемо менялась, причём помимо действий противника на это влияли и наши собственные, неизбежные при осуществлении операции такого размаха и такой сложности ошибки. Наиболее драматичный просчёт допустил я сам, направив на противоположный берег, предназначавшийся для захвата плацдарма, семитысячный передовой отряд, который оказался перед промытым стремительным потоком речным рукавом, преодолеть который можно было только вплавь.
По ходу дела нам приходилось отбрасывать один план за другим и придумывать новые, когда вопрос о жизни и смерти решали мгновения. Подчеркну, что принимать мгновенные, самостоятельные решения приходилось не только мне и высшим военачальникам, но и десяткам командиров подразделений. Из-за всей этой неразберихи, больших расстояний и продолжительности боя они потеряли связь как с командованием, так и друг с другом. Сражение длилось с вечера одного дня, когда первые колонны выступили к находившейся в ста восьмидесяти стадиях от лагеря переправе, до заката следующего, когда бой завершился на противоположном берегу. Сутки люди и кони были вынуждены обходиться без сна и еды, разве что некоторым счастливцам удавалось перехватить что-нибудь на бегу.
Это испытание солдаты и командиры выдержали блистательно. Атака конных лучников Даана на левое крыло противника, поддержанная фланговым ударом «друзей», оказалась столь яростной и кровопролитной, что превзошла даже столкновение с Дарием при Гавгамелах. Гефестион получил три раны, пробиваясь со своими людьми сквозь ряды неприятельской конницы, имевшей пятикратное численное превосходство. Пердикка, Птолемей, Пифон и Антиген, возглавлявшие пехоту с сариссами, и Таврон, командовавший стрелками из Мидии и Индии, выступившие против сплошной стены поддержанных пехотой неприятельских боевых слонов, хотя и понесли страшные потери, прорвали вражеский строй и, атакуя огромных животных, привели их в ярость и бешенство, заставив метаться по полю, топча своих же бойцов. Воцарился хаос, и, когда на противника обрушилось крыло Коэна, вражий хребет был сломлен.
Наши иностранные формирования показали себя великолепно. Скифские конные лучники отбросили неприятельских колесничих, возглавлявшихся сыном Пора, персидская конница Тиграна прорвала правый флаг индийцев, таксилианские царские всадники раджи Амбхи потеснили пенджабских копейщиков, а метатели дротиков из Фракии, действуя совместно с конными саками и массагетами, произвели сокрушительную контратаку. Ну а наступавшие в центре «серебряные щиты» Матиаса и Вороны, вместе с их братьями из царских телохранителей (первоначальных «серебряных щитов») Неоптолема и Селевка, были просто непобедимы.
Что же до меня, то и на переправе, и даже в самый разгар схватки мне приходилось думать не только о ходе боя, но и о своём коне. Когда Буцефал, которому уже миновал двадцать один год, переплывал поток со мной на спине, у него чуть не разорвалось сердце, однако моя попытка пересесть на Корону не увенчалась успехом: он мне просто этого не позволил. То же самое случилось и после возобновления битвы. При попытке передать его на попечение Эвагора Буцефал одарил меня столь гневным взглядом, что мне пришлось оставить это намерение. Он не давал мне сойти с него до тех пор, пока львиный стяг Македонии не восторжествовал над всем полем битвы.
Какая ещё армия смогла бы совершить то, что совершила наша? И это при том, что ещё в предшествующее сражению утро большая часть войска не просто не хотела идти в бой, но была близка к тому, чтобы взбунтоваться и обратить в ничто все наши усилия.
Думаю, этой победой я имею право гордиться более, чем какой-либо другой, и, насколько могу судить, мои полководцы и друзья придерживаются на сей счёт того же мнения. В отличие от многих других случаев от меня не требовалось никакого вмешательства для предотвращения излишних кровопролитных эксцессов: уважение к противнику само по себе держало воинов в узде.
Сам Пор явил в бою великое умение и отвагу. Бился он на спине своего боевого слона, который и сам показал себя героем. Индийский владыка получил множество ран, причём столь тяжких, что, когда по окончании битвы он спустился со слона, сил, чтобы взобраться туда снова, у него уже не нашлось. Говорят, мудрое животное усадило его на себя хоботом.
Когда я послал раджу Амбхи к Пору с требованием признать своё поражение, он, хотя и знал, что сражение им проиграно, отказался капитулировать перед человеком, которого считал своим врагом. Сдался он лишь после того, как я направил к нему его друга Беоса, предложившего самые почётные и достойные условия и для него, и для его людей.
— Как должно тебя принимать? — спросил я Пора, когда его доставили ко мне.
— Как царя, — ответил он, и мы обращались с ним со всем почтением, подобающим царю.
Одержанная победа предоставила мне приятную возможность проявить великодушие. Благородный противник заслуживает благородного обхождения. Условия, на которых мы с Пором договорились о мире, более походили не на капитуляцию побеждённого перед победителем, а на договор о союзе, скреплённый щедрыми дружескими дарами. Все пленные были освобождены в тот же день, без выкупа и каких-либо условий, получив назад оружие. Во дни, последовавшие за примирением, мы с моим новым другом с удовольствием соперничали в дружелюбии и щедрости.
Павшие с обеих сторон были погребены с почестями в общем кургане, а оставшиеся в живых, оплакав павших, в память о них обменялись обетами, поклявшись никогда впредь не поднимать оружие друг против друга.
Наконец, и это самое главное, войско вновь обрело «dynamis», жажду битвы. Долгая, утомительная и губительная для морального состояния борьба с разбойниками и головорезами завершилась. Даром, который преподнёс Пор македонской армии, стала она сама, её возрождённая гордость и заново пробуждённый боевой дух.
Время шло к закату, битва завершилась. Начался дождь. Не такой потоп, как в прошлый день, но очистительный дождь, придавший небесам молочный оттенок. Верхом на Короне я вернулся к побережью напротив нашего лагеря. Целители и лекари из формирований Кратера и Мелеагра, находившиеся в резерве на той стороне Гидаспа, теперь переправились сюда, ибо раненым в схватке требовалась неотложная помощь. Прямо посреди лукового поля был устроен полевой лазарет, куда на всех имевшихся в наличии повозках и телегах свозили раненых, как македонцев, так и индийцев. Присмотревшись, я различил там двух наших целителей, Марсия из Кротона и Луку с Родоса. На моих глазах к ним подбежал мальчик, видимо с каким-то посланием. Неожиданно оба врача вскочили, выбежали из-под навеса и со всей быстротой, на какую были способны, помчались прямо по раскисшему полю по направлению к проходившей у береговой насыпи размокшей дороге.
Я проследил за ними взглядом, увидел толпу солдат, в отчаянии сгрудившихся над чьим-то телом. Было очевидно, что кто-то расстался с жизнью. Причём кто-то видный и уважаемый.
Каждый волосок на моём теле встал дыбом. Гефестион? Нет, я ведь его видел: он ранен, но его жизни ничто не угрожает. Кто же? Кратер? Птолемей? Пердикка?
Я перешёл на рысь, потом на галоп. Индийцы выращивают на насыпных грядках овощи, и сейчас копыта Короны топтали их, разбрызгивая ошмётки и сок. Когда я оказался примерно в тридцати локтях от группы воинов, некоторые из них узнали меня и вскочили, побледневшие и напряжённые. И тут в их числе я увидел своего конюха Эвагора.
Теперь стало ясно, что они хлопотали не над человеком.
Я спешился и направился вперёд сквозь ряды солдат, которые расступались передо мной, снимая шлемы и подшлемники. Буцефал лежал на правом боку, и я сразу увидел, что его великое сердце больше не бьётся. В своём воображении я тысячу раз рисовал себе этот скорбный миг, неизбежность которого полностью осознавал, однако это никоим образом не смогло подготовить меня к ужасной действительности. Ощущение было такое, будто кто-то с титанической силой ударил меня в солнечное сплетение. При этом я чувствовал не столько скорбь по Буцефалу, ибо верил, что его вольный дух пребывает в блаженстве, сколько сострадание и жалость к себе, оставшемуся в одиночестве. И ко всему нашему народу, лишившемуся сего светоча доблести и величия духа. Я пошатнулся, упал на одно колено и удержался в этом положении, лишь схватившись за руку Эвагора.
Один из солдат держал голову Буцефала на коленях. При моём приближении он заметно растерялся, не зная, вставать ли ему, как подобает при виде царя, или оставаться на месте.
— Положи его голову сюда, — молвил я, тронув бойца рукой за плечо, однако снять и расстелить плащ так и не смог: у меня совершенно не было сил. Эвагору пришлось мне помочь.
Было очевидно, что воины сделали всё возможное, чтобы спасти Буцефала, однако они были бессильны. Годы и переутомление вынесли ему свой безжалостный приговор.
— Узнай имена этих благородных людей, — приказал я Эвагору после того, как немного собрался с силами.
Они оказались всадниками-одриссами из отряда Менида, возглавлявшегося, во время его отсутствия, Филиппом, сыном Аминты.
Лекарям Марсию и Луке я приказал вернуться к их обязанностям. Раненые солдаты, как я понял, тоже одриссы, нуждались во врачебной помощи. Они не уходили. Как и у македонцев, у этих сынов Фракии имелся обычай убивать коня на могиле его всадника и хоронить обоих в общей могиле, чтобы они оставались неразлучными и в ином мире. Здесь, на луковом поле, под непрекращающимся дождём, они предложили мне заполнить могилу Буцефала телами их коней. И их собственными.
— Нет, друзья мои, — был мой ответ. — Но каждую предложенную вами каплю крови я верну вам отлитой из золота. А сейчас я с благодарностью прошу вас вернуться в свои подразделения.
А вот панегирик, который был произнесён мною над могилой Буцефала два дня спустя.
— Когда я впервые увидел этого коня, он был четырёхлетком, едва познакомившимся с удилами. На конской ярмарке в Пелле его демонстрировали среди других великолепных скакунов. Буцефал затмевал всех, как солнце затмевает звёзды, но покупателя на него не было, ибо он яростно лягался, не позволяя никому сесть на него верхом. Мой отец отказался от приобретения, заявив, что этого коня невозможно объездить. Мне в ту пору было тринадцать, и я, как это свойственно мальчишкам, тем паче царского рода, был весьма высокого мнения о своём предназначении. С первого взгляда я понял, что тот, кого признает сей скакун, будет достоин власти над миром. А ещё я понял, что смирить столь высокий дух возможно, только разбив своё сердце. Ни один наставник не дал мне столько, сколько этот конь. Ни одна военная кампания не пополнила мои познания в большей степени, чем общение с этим животным. Тысячи дней и ночей, будучи юношей и став мужчиной, я неустанно трудился, стараясь поднять себя до тех высот, на коих обитала его душа. Он требовал меня всего, но, приняв этот дар, воздал за него сторицей, дав мне гораздо больше. Наша армия стоит здесь благодаря Буцефалу. Это он прорвал строй «священного отряда» при Херонее, чего не смог бы никакой другой конь. При Иссе и Гавгамелах кони «друзей» мчались в атаку, следуя не за мной, а за Буцефалом. Да, он мог быть неистов, да, он мог быть неукротим. Но нельзя подходить к столь высокому духу с обыденными, привычными мерками. Почему Зевс являет Земле чудеса и посылает тех, кто одарён превыше мыслимых возможностей? Не потому ли, почему, по воле Его, комета перечёркивает небеса в своём ужасающем величии? Ему угодно показать, что может существовать нечто несравненно большее, чем дано видеть нам в повседневности.
Заканчивая панегирик, я возгласил:
— На этом месте будет заложен город с именем Буцефалия. И да благословят небеса всех, кто обретёт жилище в его стенах.
Взявшись за лопаты, мы насыпали над могилой моего незабвенного друга земляной курган.
— Друзья мои, многие из вас пытались утешить меня в моём горе, напоминая о долгой жизни, выпавшей Буцефалу, о его любви ко мне, о его смелости и славе, о том даже, что его место среди звёзд. Вы указывали мне на то, что передо мной лежит весь необъятный мир и, обыскав все его уголки, я могу найти для себя любого коня и вырастить из него нового Буцефала. Увы, я в это не верю. Нигде под небесами нет и не может быть ему равного. Он был, но более его нет. Воистину, когда настанет и мой час, надежда на встречу с ним в иной жизни сделает для меня расставание с миром менее горестным.
И тут над равниною прокатился громовой раскат. Небо осветилось всполохами молний. Люди и я вместе с ними застыли, поражённые мощью и величием этого знамения.
— Македоняне и союзники, я знаю, что подверг вас тяжким испытаниям. Требования, предъявлявшиеся мною к вам, непременно сломили бы любого другого и были посильны лишь для вас, с вашей безмерной стойкостью. Вы всегда верили мне, братья, так поверьте же ещё раз. Победа сделала нас прежними! Мы снова обрели себя. Всё остальное не имеет значения. Так идём же вперёд, с верой в своё предназначение. Вперёд, и никакая сила в мире на сможет нас остановить!
Эпилог ИТАН
То были последние слова, сказанные мне Александром для записи. В следующий вечер, когда я предстал перед ним, он поблагодарил меня за столь долгое пребывание в роли его исповедника (что, как заявил царь, сослужило добрую службу) и велел мне возвращаться к моим постоянным воинским обязанностям.
Что я и сделал.
После тридцатидневного отдыха армия продолжила продвижение на восток. Форсировав Акесин, ещё один могучий поток, а за ним Гидраот, она присоединила к владениям Пора обширные земли его недругов. Но тут юго-западный муссон принёс дожди. Семьдесят дней подряд армия, словно в душной парилке, хлюпала по превратившейся в сплошное болото земле, под непрекращающимися ни днём ни ночью, подобными неистовым водопадам ливнями. Боевой дух неуклонно падал. Хуже того, когда местных жителей спрашивали о расстоянии до Восточного Океана (находившегося, по утверждению Александра, «недалеко» и провозглашённого им конечной целью похода), из их ответов следовало, что, дабы добраться туда, надобно преодолеть тысячи стадиев, причём путь пролегает через широкие реки, подпирающие небеса горы, безжизненные пустыни и страны, обороняемые неисчислимыми и могучими воинствами. Если этот Океан вообще существует. И это после того, как, по подсчётам участников похода, армия за последние восемь лет оставила позади сто двенадцать тысяч стадиев.
Наконец на реке Гифасис к нему явилась делегация военачальников и «друзей», которые от имени всей армии стали молить его о милосердии. Они утверждали, что силы, стойкость и выносливость македонцев исчерпаны. Дальше на восток войско идти не может.
Александр с негодованием отверг их просьбу и в ярости вернулся в свой шатёр. Прежде подобное неудовольствие мигом привело бы армию к покорности, но теперь люди были решительно настроены настоять на своём. Когда царь уразумел, что никакие слова и действия не заставят солдат отступиться от их намерений, он устроил публичные жертвоприношения. Было явлено множество знамений, недвусмысленно указующих на то, что высшие силы едины с его воинами. Боги и солдаты желают одного и того же.
Царь во всеуслышание объявил, что во исполнение воли небес его армия поворачивает назад.
Он, никогда не терпевший поражения ни от вражеских армий, ни от неодолимых стихий природы, вынужден был уступить, снизойдя к слабости своих соотечественников. Узнав о его решении, они тысячами собрались у царского шатра, рыдая от счастья. Люди благословляли и восхваляли его, предвкушая путь домой и лелея счастливую надежду увидеть наконец своих жён и детей, престарелых отцов и матерей и любимую родину, с которой они так долго были разлучены.
Но и повернув на запад, Александр продолжил политику завоеваний, подчинив множество стран и народов, значительнейшими из которых были оксидраки, маллы., брахманы, агалассы, сидраки, такие царства, как Мусикан, Портикан и Самбус. Кроме того, он проложил неведомые дотоле пути к Арабскому океану и Персидскому морю.
В Сузах он устроил пышную, торжественную церемонию бракосочетания девяноста девяти виднейших командиров «друзей» с дочерьми представителей персидской знати. Сам он взял в жёны старшую дочь Дария Статиру, предназначив Гефестиону её младшую сестру Дрипетис. Ему очень хотелось, чтобы сыновья, его собственный и его ближайшего друга, были двоюродными братьями. Он щедро одарил «друзей», дал за всеми невестами богатое приданое и обещал золотую чашу каждому македонскому солдату, который возьмёт себе жену на Востоке. Таких (по спискам на выдачу награды) набралось около десяти тысяч.
В Экбатанах спустя два года после того, как армия повернула назад, Гефестион неожиданно подхватил лихорадку и умер. Казалось, что сама земля не сможет выдержать силы обуявшего Александра горя. Дабы почтить усопшего друга, он повелел возвести монумент в сто двадцать локтей высоты, стоимостью в десять тысяч талантов, приказал в знак траура остричь гривы всем лошадям и мулам и даже обрушить венцы сторожевых башен, дабы и они выглядели скорбящими.
Я служил командиром «агемы» «друзей», так что по долгу службы, находился при его особе от шести до двенадцати часов в сутки. Могу заявить и прошу мне поверить, что хотя внешне Александр выглядел столь же бодрым и деятельным, как всегда, но смерть Гефестиона сделала его другим человеком.
Впервые он начал заговаривать о своей возможной смерти, высказывая мрачные предчувствия относительно будущих настроений и предсказывая неизбежную борьбу за раздел его наследия. У Роксаны в ту пору родился младенец, и царь тревожился за его судьбу, как, впрочем, и за мою. Он опасался, что после его ухода честолюбцы и властолюбцы найдут способ дискредитировать нас, лишить всех прав, а то и убить, дабы мы самим своим существованием не смогли препятствовать осуществлению их замыслов.
По возвращении в Вавилон Александр посвятил своё внимание подготовке новых кампаний: следующий поход намечался в Аравию. Однако поздней весной одиннадцатого года с начала вторжения в Азию он неожиданно занемог. Состояние его, несмотря на все усилия врачей, стало стремительно ухудшаться.
Солдаты, возбуждаемые слухами о том, что царь умер, и не желая внимать увещеваниям командиров, уверявших, что он ещё жив, собрались взволнованной толпой у дворца, требуя доступа к его особе. В конце концов разрешение было получено. Один за другим товарищи по оружию проходили мимо царского ложа. Говорить Александр уже не мог, однако он узнавал каждого из ветеранов и благословлял его взглядом. А в тот же вечер его дух навсегда покинул земную юдоль.
Это случилось пятнадцатого таргелиона по афинскому календарю, или двадцать восьмого десиуса по македонскому, в год сто четырнадцатой олимпиады.
Александру было тридцать два года и восемь месяцев.
Мне не под силу передать в полной мере картину уныния и скорби, охвативших всех при известии о его кончине. Скажу лишь, что горестно оплакивали его как персы, так и македонцы. Первые лишились милосердного и щедрого властелина, вторые — несравненного и блистательного вождя.
Масштаб сверхчеловеческой личности и невероятных свершений Александра был таков, что стоило ему покинуть этот мир, как хроника его деяний, не пробыв и часа достоянием истории, перешла в область легенд и героических преданий. А порой и просто волшебных сказок. С его уходом в центре мира образовалась ощутимая пустота, но в то же время он и из могилы продолжал оказывать на ход событий столь сильное влияние, что, даже когда его полководцы принялись делить между собой созданную им империю, они смогли достичь соглашения и не пролить моря крови лишь потому, что чувствовали на себе его взор. Их встречи и переговоры проходили в его шатре, перед его пустым троном, на котором покоились его царская корона и скипетр. Люди боялись задеть даже тень Александра, полагая, что воля того, кто превзошёл всех в мире, способна преодолеть всё и гнев его настигнет их даже из подземного мира.
И теперь, возможно, будет не столь уж неуместным для очевидца поведать обо всём голосом своего сердца.
Право оценивать Александра как царя я оставляю будущим историкам: моя задача в том, чтобы рассказать о человеке. Многие ставили ему в вину порок самовозвышения (будто они смогли бы избежать этого, оказавшись на его месте), но я всегда знал его как человека исключительного благородства и великодушия. Ко мне, зелёному юнцу, он относился как к товарищу и солдату, открывая своё сердце без тени высокомерия и фальши.
Никто не придавал меньшее значение масштабу своих свершений, нежели он, всегда заявлявший, что хочет быть всего лишь солдатом. Кем и являлся. Он был неподвластен ни жаре, ни холоду, ни голоду, ни усталости, ни, что ещё важнее, алчности и скаредности. Снова и снова я лицезрел примеры того, что о товарищах он заботился куда больше, чем о себе. Домом ему служила лагерная палатка, постелью — собственный плащ. Он и одевался как солдат, практично и просто, презирая всякого рода роскошества и пышность. Зима и лето были для него одинаковы, ад в его представлении являлся местом, где люди обречены на безделье. Он обретал себя перед лицом невзгод, взыскуя не покоя и неги, но трудностей и опасностей. Не было до него человека, внушавшего такую любовь соратникам и такой ужас врагам. Он был прекрасным оратором, но для того, чтобы воспламенить сердца своих боевых товарищей, вовсе не нуждался в словах: ему стоило лишь явиться пред ними. Один лишь вид их царя делал робких солдат смелыми, а смелых превращал в легендарных героев. То, что он совершил, не сводится к тринадцати годам непрекращавшихся военных кампаний. Кто в мире одержал столько побед и завоевал столько земель? Кто сможет повторить его деяния в будущем?
То, что Александр сказал своему любимому Буцефалу, вполне применимо и к нему самому: он принадлежит не кому бы то ни было, включая самого себя, но небесам.
Почему Зевс являет Земле чудеса и посылает тех, кто одарён превыше мыслимых возможностей? Не потому ли, почему, по воле Его, комета перечёркивает небеса в своём ужасающем величии? Ему угодно показать, что может существовать нечто несравненно большее, чем дано видеть нам в повседневности.
Однако я должен добавить, что Александр во всём был человеком, возможно, даже слишком человеком, ибо его свершения, причём не только благие, были полны страсти и благородного воодушевления и никогда не диктовались холодным, бессердечным расчётом. Мир, в котором он обитал, был населён не его современниками, а героями легенд, в нём жили Ахилл и Гектор, Геракл и Гомер. Парадоксально, но хотя ни один другой человек не повлиял на свою эпоху столь сильно, как сделал это Александр, сам он принадлежал не ей, а веку полубогов и великих, благородных героев. Тому воспетому поэтами веку, которого, возможно, в действительности никогда и не было, но который существовал в его воображении.
Мне неведом ни один человек, знавший его лично и после его смерти сказавший о нём хоть одно дурное слово. Ошибки и преступления реального человека полностью затмило ослепительное сияние его призрака, и по прошествии времени мы думаем о нём со всё большим благоговением и трепетом, словно с расстояния нам становится виднее, кого мы лишились.
Ну а закончу я этот документ рассказом об одном случае, приключившемся в Индии. На реке Гифасис, когда его армия отказалась идти дальше, он воздвиг три величественных алтаря, дабы навеки обозначить, как далеко простёрлась его десница. Я, в числе многих придворных и военачальников, присутствовал при освящении этих монументов. День был ясный и ветреный, какие обычно и стоят в этой стране в перерывах между подобными водопадам неистовыми ливнями. По завершении церемонии, когда все уже собрались вернуться в воинский стан, Теламон, наёмник, предстал перед царём. Между ним и Александром долгие годы существовало полное взаимопонимание, и во всей армии лишь ему могло быть позволено попросить отставки в любое время, когда ему заблагорассудится. Что он сейчас и сделал.
Александр поначалу выслушал эту просьбу с удивлением и неверием, ибо и представить себе не мог, что вдруг разлучится со старым другом и соратником в столь многих кампаниях. Прежде всего ему пришло в голову, что наёмник недоволен своим положением, и он спросил: чего ему недостаёт? Чего он хочет? Сокровищ? Женщин? Почестей и чинов?
Аркадец с улыбкой ответствовал, что всё это ему опостылело. Всё, к чему он стремился прежде, есть лишь пусть блистательная, но видимость, нечто вроде сосуда, скрывающего подлинную суть. Важно же не что снаружи, а что внутри.
Поражённый этими словами, Александр спросил наёмника, куда тот собирается отправиться и чем заняться.
Теламон указал на восток, в сторону большой дороги, по которой во множестве брели индийские паломники.
— Вот что меня интересует, — сказал он и добавил, что хотел бы стать их учеником.
— А о чём ты желаешь узнать? — осведомился Александр.
— О том, что делать, если человек перерос в себе воина.
Александр улыбнулся и протянул ему правую руку.
Теламон ударил ладонью по ладони и сказал:
— Идём со мной.
Я стоял слева от Александра, почти вплотную, и мне показалось, будто на какой-то миг царь и вправду задумался над этим предложением. Затем он рассмеялся. Разумеется, ни о каком паломничестве не могло быть и речи: его ждали новые цели, новые проблемы и новые заботы. Конюхи подвели лошадей. Что-то побудило меня остаться близ Теламона. Когда Александр уже собрался сесть в седло, его слуха неожиданно коснулась нежная, печальная мелодия. Царь повернулся на звук, в сторону временного лагеря царских копейщиков, и увидел, что этот меланхолический мотив выдувает ветер, блуждая между древками составленных вертикально кавалерийских сарисс.
— Сариссы поют, Теламон, — сказал Александр. — Скажи мне, неужели ты позабудешь их песню?
Царь и наёмник обменялись прощальными взглядами. Затем один из юношей свиты помог ему взобраться на спину Короны.
Со временем, конечно, я кое-что подзабыл, но вот песнь сарисс задержалась в моей памяти. Помнится также: Теламон собрался было что-то ответить, но тут Александр обернулся и, словно мелодия подсказала ему слова, продекламировал:
Грустен сариссы напев, как печальная песня свирели. Он призывает меня голосом мягким и нежным Брань позабыть и мирному делу предаться. Но всё, что ведомо мне, это одна лишь война.В это мгновение порыв ветра приподнял край Александрова плаща. Я приметил, как его бедро сжало бок Короны. Потом он натянул поводья и в окружении свиты поскакал в лагерь.
Благодарности
Свою глубочайшую благодарность автор выражает в первую очередь, разумеется, античным авторам: Арриану, Курцию, Диодору, Юстину, Плутарху, Полибию и другим, но в то же время он в высшей степени признателен многим современным исследователям, чьи концепции, воззрения и оценки деятельности Александра, не говоря уж о реконструкции походов и битв, были использованы в этой книге самым беззастенчивым образом. Назову имена: А. Б. Босуорт, П. А. Брант, Питер Конолли, А. М. Дивайн, Теодор Додж, Дональд Инглз, Робин Лэйн Фокс, Дж. Ф. С. Фуллер, Питер Грин, Дж. Т. Гриффит, Джордж Гротт, Дж. Р. Гамильтон, Н. Дж. Л. Хэммонд, Виктор Дэвид Хэнсон, Б. X. Лиддел Харт, Вальдемар Хекель, Д. Дж. Хогарт, Е. У. Марсден, Р. Д. Милне, сэр Аурел Стейн, Джон Уорри, Бенджамин Виллер и Ульрих Вилькен. Сознаюсь также, что кое-что было позаимствовано мною из воспоминаний и высказываний Цезаря, Вегеция, Наполеона, маршала Сакса и Фридриха Великого. Особенно много я почерпнул у барона де Марбота, весьма просветившего меня в отношении особенностей ведения кавалерийского боя. Мне весьма приятно поблагодарить переводчиков и редакторов «Классической библиотеки», чьи примечания и комментарии ко всем текстам серии, а паче того превосходнейшие приложения бесценны для всякого исследователя, а подготовка текстов безупречна. Особо поклонюсь своему, не побоюсь сказать, выдающемуся издателю Биллу Томасу, предложившему саму идею, а также редактору Кэти Хэлл, вносившей по ходу дела в рукопись неисчислимые и неоценимые поправки. Большое спасибо моему фактическому соавтору Принтеру Боулеру и, конечно же, Джейн Краай, которая первая прислала мне статью о битве при Гавгамелах и сказала: «Это может вас заинтересовать». В вопросах, касающихся Востока, мне очень помогли ценные указания Эрики Поузли, а со всем, что касается кавалерийских коней, включая ветеринарные аспекты, я смог справиться лишь благодаря мудрым наставлениям доктора Линды Риджиг и доктора Брэда Дигерта. Стивен Уайт проявил энергию и настойчивость в поддержке и продвижении моего проекта, ну а доктора Хип Кантзиос я с полным основанием могу назвать своим гуру во всём, имеющим отношение к Элладе и эллинам.
Эпиграф воспроизведён с разрешения правообладателей серии «Классическая библиотека» и представляет собой заимствование из 5 и 6-й частей труда Ксенофонта «Киропедия» (издании «Классической библиотеки», т. 51 и 52) в переводе Уолтера Миллера (Кембридж, Масс.: Гарвард Юниверсити Прес., 1914 г.).
Хронология (до Р. X.)
Около 547 г. Завоевание Киром Великим Ассирии и Вавилона. Создание Персидской империи.
490 г. Армия Дария вторгается в Грецию. Марафонская битва.
480/479 г. Ксеркс вторгается в Грецию. Битвы при Фермопилах, Саламине, Платее.
356 г. У Филиппа и Олимпиады рождается сын Александр.
338 г. Битва при Херонее. Филипп Македонский побеждает противостоящий ему эллинский союз.
336 г. Убийство Филиппа. Александр в возрасте двадцати лет становится царём.
334 г. Армия Александра переправляется в Азию. Битва при Гранике.
333 г. Битва при Иссе. Александр побеждает Дария Третьего.
332 г. Осада Тира и Газы. Александр овладевает Египтом.
331 г. Битва при Гавгамелах.
331/330 г. Александр захватывает Вавилон, Сузы, Персеполь и Экбатаны. Смерть Дария.
330-327 г. Александр проводит кампанию на территории Афганистана.
326 г. Александр переваливает через Гиндукуш и вторгается в Индию. Битва при Гидаспе.
326 г. Воины Александра отказываются идти дальше.
323 г. Александр возвращается в Вавилон.
323 г. Александр в возрасте тридцати двух лет умирает.
Примечания
1
Анахронизм: г. Антиохия был основан Селевком после смерти Александра и распада его державы. — Прим. пер.
(обратно)2
В действительности Статира была дочерью Дария. — Прим. пер.
(обратно)

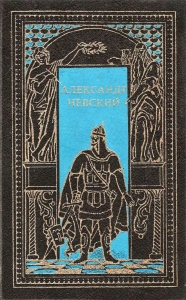
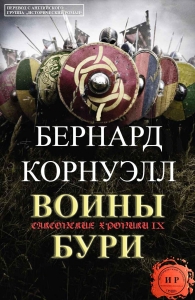
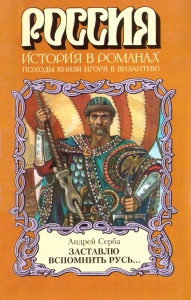



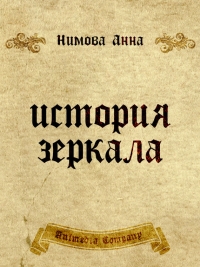
Комментарии к книге «Александр Великий. Дорога славы», Стивен Прессфилд
Всего 0 комментариев