Мичо Каламата Под властью пугала
ПРЕДИСЛОВИЕ
Албанский писатель Мичо Каламата пришел в литературу после войны, где-то в середине 50-х годов. Он получил известность в первую очередь как юморист и сатирик. Большой популярностью пользовался его сборник «Шипы и розы» (1973) и сатирический роман «Последний в роду» (1971). В 70-е годы стали появляться его книги, посвященные героической национально-освободительной борьбе албанского народа в период второй мировой войны. Ей писатель посвятил и один из последних своих романов — «Трудные тропы» (1974).
Произведение «Под властью пугала» можно отнести к жанру исторического романа, хотя в нем автор в определенной степени отдает дань и политической сатире.
Писатель обращается к событиям почти полувековой давности, к периоду 1928–1939 годов, когда албанский народ страдал под гнетом феодально-буржуазного режима короля Ахмета Зогу. Албания того времени, имевшая миллионное население и расположенная на территории, приблизительно равной площади Крымского полуострова, была отсталой аграрной страной. Промышленность в современном понимании слова находилась на зачаточной стадии развития. В сельских местностях господствовали крупные феодалы — беи. В горах были сильны пережитки патриархально-родовых отношений: представители родовой аристократии и феодальной знати — капеданы, байрактары — обладали поистине неограниченной властью в «своих» районах. Они опирались на неписаные «законы гор», в обычае была кровная месть (о ней упоминается и в романе).
От пятивекового турецкого ига Албания освободилась в результате упорной борьбы. Однако плодами победы, одержанной народом в 1912 году, воспользовались крупные землевладельцы, купцы, предприниматели, представители высшего чиновничества, состоявшие на службе еще в турецкой империи. Более сильные соседи постоянно угрожали независимости Албании. Народ неоднократно поднимался на борьбу против итальянских, сербских, греческих захватчиков, стремившихся разделить страну и лишить ее самостоятельности. Летом 1920 года была сорвана очередная серьезная попытка итальянского империализма силой оружия установить контроль над Албанией. После восстановления независимости в стране необходимо было преодолеть тяжелое наследие прошлого, начать борьбу за социальный и экономический прогресс.
Однако часто сменявшиеся в начале 20-х годов правительства руководствовались интересами феодалов. Немедленного рассмотрения требовал, например, аграрный вопрос, но правящая верхушка постоянно откладывала его решение. В эти годы на политической арене появился Ахмет Зогу. Щеголеватый, молодой и весьма энергичный офицер, уже в двадцать с небольшим лет получивший звание полковника, которое довольно часто присваивалось служившим в австрийской армии представителям родовой албанской знати, Ахмет Зогу продвигался к власти, не выбирая средств. Он был выходцем из захудалого рода байрактаров в горном районе Мати, где, как говорили его противники, семья Зогу владела одной деревенькой и небольшим лесным угодьем. Ахмет Зогу активно включился в политическую борьбу, которую вели в ту пору многочисленные претенденты на власть в Албании. Рвение Ахмета Зогу при установлении «спокойствия и порядка» было настолько очевидным, что его неоднократно назначали министром внутренних дел. В декабре 1922 года он впервые стал премьер-министром и с этого времени начал утверждаться как лидер правых сил албанского общества.
Косность и обскурантизм правящей верхушки Албании вызвали широкое демократическое движение, которое в мае 1924 года вылилось в восстание. Это восстание по своему значению приравнивается к буржуазно-демократической революции. В результате его было сформировано прогрессивное правительство, провозгласившее демократические свободы и программу проведения ряда реформ буржуазного характера. Главой правительства стал епископ православной церкви Фан Ноли — известный политический и общественный деятель Албании, поэт, переводчик, музыковед. В романе М. Каламаты он упоминается довольно часто как один из главных противников Ахмета Зогу («преподобный противник», «бородач» и т. п.). Фан Ноли после поражения революции и реставрации власти Ахмета Зогу покинул страну и стал одним из лидеров радикального крыла албанской революционно-демократической эмиграции. В ноябре 1927 года Фан Ноли присутствовал на организованном в честь десятой годовщины Октябрьской революции конгрессе друзей Советского Союза в Ленинграде. Он говорил тогда, что решить албанские социальные проблемы можно, лишь осмыслив и применив опыт Советского Союза, восхищался тем, что «лично увидел первое рабоче-крестьянское государство, которому предстоит великая будущность и которое является прообразом будущих таких же рабоче-крестьянских республик».[1]
Контрреволюционный переворот надолго отодвинул разрешение социально-экономических задач. К тому же Албания — самое молодое и самое слабое государство на Балканах — занимала чрезвычайно выгодное стратегическое положение. В тот период, о котором идет речь в романе, победу в конкурентной борьбе империалистических держав за влияние в Албании одержала фашистская Италия. Вся система политических и финансово-экономических отношений, связывавшая оба государства, была построена так, чтобы обеспечивалась максимальная зависимость Албании от своей «великой покровительницы». Засилье итальянцев было везде и во всем. Так называемый Национальный банк Албании находился в руках итальянских акционеров, в промышленности господствовали итальянские компании, советниками (или, как их называли, организаторами) в министерствах были также итальянцы. Даже пятерых сестер короля учили верховой езде и автоделу итальянские инструкторы, и итальянский тягач всякий раз брал на буксир легковой автомобиль принцесс, когда тот застревал в многочисленных колдобинах на магистральной дороге из Тираны в Дуррес.
М. Каламата описывает странный, словно нереальный мир, который тем не менее существовал в действительности. Он показывает жизнь Албании как бы в разрезе, ведя читателя через все слои общества, с одной стороны, разоблачая паразитический образ жизни короля и придворной камарильи, а с другой стороны, реалистически изображая беспросветную нищету народа. М. Каламата выводит в романе и реальные исторические лица, и вымышленные, которые не менее достоверны, ибо зачастую в создании этих образов писатель использует конкретные прототипы. В том и в другом случаях он пишет колоритные, живые, очень точные портреты людей определенного класса или среды.
В изображении правящей верхушки преобладает гротескная манера. Впервые читатель знакомится с Ахметом Зогу в тот момент, когда он, побуждаемый своим английским другом и покровителем, бывшим посланником сэром Джейризом,[2] принимает решение об изменении формы правления — «соглашается» стать королем албанцев. Историк мог бы упрекнуть писателя, ибо идея создания монархии не была подсказана англичанами «в пику» Муссолини, как это показано в романе. В опубликованных после окончания второй мировой войны итальянских дипломатических документах приводится переписка Муссолини с итальянскими дипломатическими и консульскими представителями в Албании. В переписке раскрывается обширный план действий по возведению на албанский престол Ахмета Зогу и выявляется, какие надежды возлагали итальянские фашисты на своего подопечного. В Риме было предусмотрено все: размеры жалованья будущему королю, его брак, порядок престолонаследования и даже текст обращения, с которым должен был выступить Зогу в день коронации. Однако в данном случае, когда речь идет о литературном произведении, а не об историческом исследовании, не столь уж важно, кто именно из иностранных представителей пользовался безграничным честолюбием и беспринципностью Зогу. М. Каламата правильно подмечает характерную черту психологии Зогу — тот никогда не отличался щепетильностью в финансовых вопросах. Когда-то, в конце первой мировой войны, Ахмет Зогу грабил итальянские обозы. Через несколько лет, уже в качестве главы албанского государства, он вымогал крупные суммы у своих «итальянских друзей» под предлогом оздоровления экономики страны. На самом же деле львиная доля этих средств шла на его личное обогащение, на расходы королевского двора и на содержание аппарата подавления.
Итальянские фашисты, поддерживая Ахмета Зогу, не питали на его счет никаких иллюзий. Он неоднократно прибегал к политическому шантажу, угрожая переметнуться к другому покровителю — будь то соседняя Югославия или далекая Германия. Итальянцы до поры до времени терпели его, ибо у них не было никакой гарантии, что новый кандидат обойдется дешевле. Об их отношении к Зогу может свидетельствовать любопытная характеристика, данная ему в одном из официальных отчетов итальянского посланника О. Коха: «Неумолимый ход событий сметет эту маленькую фигурку, слишком ничтожную, чтобы она даже где-то в придаточном предложении могла остаться на страницах книги судьбы при очередном и неумолимом ее повороте».[3]
Из приближенных к королю людей в романе выведены наиболее одиозные деятели режима. Это, например, «папаша» Абдуррахман Кроси, неграмотный человек, интриган, занимавший мало значившее в албанских условиях место депутата парламента, но на деле обладавший большой властью в государстве — только он один пользовался неограниченным доверием Зогу. Когда-то Абдуррахман Кроси был его воспитателем, а по роли «друга дома», которую он стал играть при королеве-матери, его не без оснований называли албанским Распутиным.
Сатрапом восточного типа был кровавый министр внутренних дел Муса Юка. Что касается образов других беев, выведенных на страницах романа, то они скорее созданы художественной фантазией писателя. В этих характерах собраны все жестокие и дикие черты среды, породившей их и сделавшей вершителями судеб простого народа Албании. Беи были носителями нравов и традиций турецкой империи, где албанская феодальная знать занимала привилегированное положение. Ликвидацию турецкого господства и провозглашение независимости Албании в 1912 году беи приняли без энтузиазма. Так, например, Турхан-паша Пермети, некогда представлявший при дворе российских императоров Блистательную Порту в качестве посла, чувствовал себя ущемленным судьбой, занимая пост премьер-министра в никому не известной Албании.
Ностальгические воспоминания беев о блестящем прошлом, стремление воспроизвести в миниатюре и сохранить возможно долее этот мир в своих владениях, характеризуют таких персонажей, как Гафур-бей Колоньяри. Писателю удалось наглядно показать, что этот класс обречен на гибель, так как давно стал социальным анахронизмом, но, с другой стороны, он оказался необычайно живучим, ибо так называемая цивилизованная капиталистическая Европа была заинтересована в торможении социального и экономического прогресса в странах, являвшихся, подобно Албании, объектом экспансионистских устремлений.
М. Каламата точно раскрывает подоплеку интриг, постоянно возникавших при королевском дворе и создававших гнетущую атмосферу всеобщей подозрительности и трусливой ненависти друг к другу. Родовитые беи часто тяготились необходимостью подчиняться королю, который был ниже их по родовой иерархии. М. Каламата ничего не говорит о заговорах знати, о попытках свергнуть или убить Ахмета Зогу, что усложнило бы основную сюжетную линию, но он прекрасно передает обстановку при дворе — этих людей можно сравнить со скорпионами посаженными в одну банку.
Пожалуй, стоит привлечь внимание читателя еще к одной фигуре в романе — Ферид-бею Каменице. Прототипом этого героя послужил известный албанский политический и общественный деятель Фаик Коница, происходивший из богатого и влиятельного рода беев Южной Албании. Он принимал участие в албанском культурно-просветительном и национально-освободительном движении начала XX века, занимался литературой, меценатствовал. В Брюсселе, а затем в Лондоне он издавал журнал «Албания», в США субсидировал газету «Диелы» («Солнце»), первым директором которой был Фан Ноли. Судьба Фаика типична для интеллигенции реформистского крыла в национально-освободительном движении, — интеллигенции, предрасположенной к компромиссам, в том числе и к компромиссам с совестью. Человек с эластичными принципами, обеспеченный и потому равнодушный к социальным проблемам, Фанк Коница отказался от идеалов борьбы за независимость, демократию и прогресс. Он фактически предал Фана Ноли, с которым его связывало почти двадцатилетнее знакомство, когда после поражения революции 1924 года встал на сторону Зогу. М. Каламата беспощадно разоблачает цинизм Ферид-бея, понимавшего унизительность своего положения при Ахмете Зогу. Кстати, Фан Ноли в своей знаменитой, ставшей для албанцев хрестоматийной, сатирической «Песне о Салеп-султане», написанной по случаю провозглашения Ахмета Зогу королем, вылепил гротескный образ Ферида (именно он назвал так Коницу), угодливо вошедшего в лакейское окружение новоиспеченного монарха. Беседа Ферид-бея с молодым писателем в третьей части книги достаточно полно передает настроения албанской интеллигенции — здесь в словесном поединке сталкиваются конформизм и идейная непримиримость. В этой связи хотелось бы еще раз сослаться на О. Коха, который в своих донесениях умел очень точно определить албанскую действительность того времени: «Несмотря на все наши усилия, албанская молодежь растет чуждой нам. Мы воспитываем молодых людей в наших школах и колледжах. Когда же они возвращаются домой, то там вынуждены соглашаться на самые незначительные должности. Молодежь знает, что стать образованным человеком в Албании — это значит обречь себя на голодное существование, ибо ничего другого так не боится Зогу, как дыхания свободы…».[4]
Остро сатирическое описание буржуазно-феодального режима Ахмета Зогу перемежается в романе М. Каламаты реалистическими картинами народной жизни. В книге много сочных жанровых сценок и незамысловатых юмористических историй, которые в большинстве своем несут вполне определенную политическую нагрузку. Разговоры в кофейне Хаджи великолепно передают царившую в столице атмосферу насмешливого скептицизма по отношению к режиму. П. Кварони, итальянский дипломат 30 — 40-х годов, продолжительное время занимавшийся Албанией, констатировал эту характерную особенность быта Тираны. Он писал в воспоминаниях, что ни сам Зогу, ни его окружение не пользовались симпатиями в стране. Зогу часто ездил за границу, главным образом в Австрию, на лечение. Может быть, поэтому, размышлял Кварони, не предпринимались серьезные попытки свергнуть его и любимым занятием многих албанцев были «душеспасительные» беседы в кофейнях о том, что будет тогда, когда король наконец-то умрет. Но Кварони был не совсем прав в своих наблюдениях. Дело не ограничивалось беседами. В Зогу стреляли, против него устраивали заговоры, поднимали восстания, как, например, восстание 1935 года в Фиери, о котором упоминается в романе. На севере страны то и дело возникали очаги антиправительственных мятежей, ибо там, в горах, находили себе прибежище недовольные королем байрактары.
Однако неизмеримо большую опасность для режима представляло движение народных масс, трудящихся. Оно объединяло крестьян, рабочих, ремесленников, мелкую буржуазию городов, прогрессивную интеллигенцию, учащуюся молодежь и носило общедемократический, антиимпериалистический характер. После подавления революции 1924 года легальная деятельность прогрессивных организаций была запрещена. Политические эмигранты обосновывались за рубежом, где возникли самые разные организации, в том числе и коммунистические.
Албанские революционеры активно откликались на все крупные события, происходившие в мире. Так, в годы национально-революционной борьбы в Испании албанцы сражались на стороне республики в интернациональных бригадах. Многие из них вступили в ряды коммунистической партии именно в Испании. На страницах романа революционную албанскую молодежь представляют Скэндер и его друзья. Подобно народному герою Албании Асиму Вокши, сражаясь против фашизма, погиб в далекой Испании Скэндер. Настроения молодежи живо воссоздаются в спорах Скэндера с друзьями, с сестрой Шпресой. Перед читателем проходят образы людей, из которых в годы второй мировой войны формировалась партизанская армия, принесшая освобождение Албании от фашистского ига и произвола внутренней реакции.
В романе четко обозначены социальные и идеологические противоречия, которые раскололи албанское общество на два непримиримых лагеря. Рассказывая трогательную, казалось бы, наивно-сентиментальную историю бедной девушки Сили, погубленной развратным Гафур-беем, М. Каламата умеет не только достоверно передать нравственную атмосферу албанской жизни, но и показать, как брат девушки Лёни начинает осмысливать происшедшее не только с личной точки зрения — он уже воспринимает трагическую смерть сестры как печальный итог общего социального бедствия, каким был для страны и народа режим Зогу. Лёни отказывается от возможности осуществить «законное» право кровной мести — тайно убить ненавистного бея — и избирает путь открытой борьбы против угнетателей.
Роман завершается трагической страницей в истории Албании — днями национального унижения, когда предательство правящих классов привело страну к итало-фашистской оккупации. Однако день 7 апреля 1939 года стал и днем начала национально-освободительной борьбы. Героическое сопротивление албанского народа в годы второй мировой войны внесло свою лепту в великую битву народов против фашизма, возглавленную Советским Союзом. 29 ноября 1944 года Албания завоевала свободу, и перед ее народом открылся путь строительства нового, социалистического общества. С мрачным миром феодально-буржуазной реакции, о котором так убедительно и с таким гневом рассказывает Мичо Каламата, было покончено навсегда.
Н. Смирнова
ЕГО ВЫСОКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
I
Автомобиль остановился у высоких решетчатых ворот президентского дворца.
Двое часовых в красных мундирах с черной оторочкой встали по стойке «смирно» и, вскинув длинные винтовки, неумело взяли «на караул». Придерживая волочащийся по земле парадный палаш, к машине подбежал офицер. Он распахнул дворцу и приложил руку к феске с огромным орлом, над которым колыхался великолепный султан из конского волоса.
Из открытой дверцы автомобиля сначала показались лакированные необычайного размера туфли, затем ноги, длинные и тонкие, как ходули, беловолосая голова, похожая на пук шерсти, какую обычно прядут пастушки, и наконец перед офицером выпрямилась долговязая фигура сухого, как пастуший посох, старика.
— Пожалуйста, ваше превосходительство, — обратился к нему офицер по-французски. — Господин президент ждет вас.
Его превосходительство оскалил зубы, изобразив улыбку, водрузил на голову черный цилиндр и последовал за офицером, четко печатавшим шаг по мощенной гравием аллее дворцового парка. Его превосходительство попробовал было идти с ним в ногу, но тут же оставил эту затею и засеменил дальше, с любопытством оглядываясь по сторонам. Он заметил, что парк полон гвардейцев: то тут, то там из-за розовых кустов вдруг появлялись часовые, словно вырастая из-под земли. Они вытягивались в струнку и отдавали честь. В ответ его превосходительство небрежно касался цилиндра белыми перчатками, зажатыми в правой руке.
Неожиданно они столкнулись чуть ли не нос к носу с двумя часовыми, которые растерянно попятились и застыли неподвижно. Рука его превосходительства уже потянулась было к цилиндру, как вдруг он заметил на лице часового постарше улыбку, что явно нарушало воинский устав президентской гвардии. Его превосходительство, остановившись, протянул солдату руку.
— Здравствуйте! — с трудом выговорил он по-албански, потом добавил на английском языке: — How do you do?
Гвардеец сжал его руку в своей и, сильно тряхнув, пробормотал:
— Здравствуйте, господин посланник.
Офицер тоже остановился, круто повернулся и сердито взглянул на часовых, однако лицо посланника выражало неподдельное удовольствие.
— Пожалуйте, ваше превосходительство, — снова сказал офицер и, так же печатая шаг, двинулся дальше.
Проводив их взглядом, часовой помоложе спросил того, что постарше:
— Кто это?
— А ты не знаешь?
— Нет.
— Это Джейриз.
— Дериз?
— Какой Дериз, что ты мелешь! Эх ты, дубина! Это господин Джейриз, английский бей.
— Английский бей?
— Ну да, друг нашего паши.
Тем временем сэр Джон Джейриз, кавалер шотландского рыцарского ордена и кавалер ордена Бани Второй степени, шагал за офицером, не отрывая взволнованного взгляда от президентского дворца, походившего, как ему казалось, на крепость. И в самом деле, недоставало лишь рва с водой, чтобы дворец, обнесенный высокой стеной с бойницами, приобрел вид настоящей средневековой цитадели. Повсюду часовые, полно солдат и офицеров.
Сэр Джейриз много раз бывал в этой крепости и спокойно обошелся бы без провожатого, он даже с закрытыми глазами нашел бы кабинет президента. Но пусть все будет так, как положено!
У подъезда навстречу им бросился старший адъютант президента, красавец в блестящем мундире, расшитом золотыми галунами и с красно-черной перевязью на груди. Сопровождавший англичанина офицер отдал честь, щелкнул каблуками и удалился. Старший адъютант не успел вымолвить ни единого слова приветствия высокому гостю: на площадке появился сам президент республики.
В коричневом костюме, ладно облегающем его стройную, высокую фигуру, он по-спортивному легко сбежал по ступеням.
Сэр Джейриз на мгновение застыл в изумлении. Он хорошо знал президента, и уж ему-то было известно, как педантично тот следовал правилам протокола. Рассказывали, что с тех пор, как его провозгласили президентом, он окружил себя поистине королевской пышностью и так вознесся, что даже самых высокопоставленных иностранных персон принимал в своем кабинете сидя, неукоснительно соблюдая правила протокола, прямо как наследственный монарх или глава какого-нибудь крупного государства. А вот сейчас, для него, сэра Джейриза, старого друга, он сделал исключение, без всяких церемоний сам вышел навстречу с обнаженной головой, с радушной улыбкой, протянув для рукопожатия руку. Такой прием очень польстил сэру Джону, пощекотал его самолюбие, но только на какой-то миг: он тут же вспомнил, что это не официальный визит, а сугубо частная встреча. Так что, приветствуя старого посланника не как представителя его величества короля Великобритании, а как своего друга, президент и в самом деле придерживался протокола. Он просто выполнял обязанности хозяина дома, вот и все!
— Добро пожаловать! — приветливо улыбаясь, сказал по-французски президент, крепко пожимая гостю руку.
— Здравствуйте, ваше превосходительство. Очень рад вас видеть. — Произнеся эту стереотипную формулу приветствия, сэр Джон склонился в почтительном поклоне.
Старый дипломат с удовольствием отметил, что его молодой друг и впрямь выглядел английским джентльменом. Правда, он излишне франтоват, но так безукоризненно вежлив и корректен, словно воспитывался в Итоне и Оксфорде. Да и помещение, куда они вошли, было обставлено со вкусом, хотя и, возможно, чересчур роскошно, принимая во внимание не очень-то высокое происхождение хозяина, его более чем скромное образование и великую бедность народа, которым он правил.
Как только адъютант, поставив на стол чай и коньяк, удалился, бывший посланник закурил и начал разговор по-турецки. Он знал, что президент плохо говорит по-французски, тогда как турецким они оба владели хорошо.
— Примите мои поздравления, ваше превосходительство! — заговорил он таким тоном, словно они только что встретились. — Вы добились блестящих успехов! Сколько я не был в вашей стране? Каких-то два-три года! И за это время произошло так много примечательного, что я даже затрудняюсь, с чего начать: поздравлять ли вас со стабилизацией вашего режима, с заслуженным избранием на пост президента или с блестящими успехами вашей дипломатической деятельности?
— Благодарю вас! — Президент приложил руку к сердцу.
И в это мгновение бывшему посланнику показалось вдруг, что вернулось то славное время, когда он держал в кулаке этого «байрактара[5] бандитов», как его тогда называли, и учил его «цивилизованной политике».
— Я с особым удовольствием поздравляю вас с тем, как вы удачно отделались от коварного старика! — продолжал сэр Джейриз. — Ну и ловко же вы его провели!
Собеседники рассмеялись. Однако президент через минуту был уже снова серьезен, а бывший посланник все не мог сдержать самодовольного смеха. Он считал делом своих рук вызволение этой «птицы», Ахмета Зогу,[6] из когтей югославской «лисы».[7] Поговаривали, что «старик» чуть не лопнул от бешенства. Он помогал Ахмет-бею советами, снабжал его деньгами, оружием, регулярными войсками, разведывательными данными. Он отправил его в Албанию в полной уверенности, что будет иметь в его лице послушного вассала. А что получилось? Этому мелкому байрактарчику пришлась не по нутру такая роль, и он, как только оказался на коне, повернулся спиной к своему благодетелю, откупившись от него каким-то жалким монастырем.[8]
И все же бывший посланник оборвал свой смех, наткнувшись на немигающий взгляд голубых глаз президента. Разумеется, не ради поздравлений и шуток по адресу югославского премьера сэр Джон Джейриз прибыл в Албанию, и уж тем более не ради охоты, как писали в те дни газеты. «Что же тебя сюда привело? — вопрошали глаза „байрактара бандитов“. — Сбрось маску, английский бей! Мы хорошо изучили друг друга, а потому можем быть откровенны. Я ведь знаю: стоит мне сделать что-нибудь неугодное его величеству королю Великобритании, ты меня из-под земли достанешь. Ты-то уж денег не пожалеешь: наймешь какого-нибудь дубину байрактара, который отправит меня к праотцам…»
Бывший посланник с самым что ни на есть серьезным видом медленно произнес:
— Прежде чем сообщить о цели моего приезда, Ахмет-бей, позвольте мне задать вам один вопрос.
Сэр Джейриз намеренно назвал президента «Ахмет-беем», дав этим понять, что хочет говорить с ним доверительно, как в былые времена.
— Я весь внимание, господин посланник! — не задумываясь, ответил президент, словно позабыв, что господин Джон Джейриз уже давно не посланник.
— Что вы намерены делать дальше?
Если бы такой вопрос задал Ахмет-бею кто-нибудь другой, он не только не удостоил бы его ответом, но, скорее всего, приказал бы своим молодцам вышвырнуть вон нахала. Но тут дело обстояло иначе. С сэром Джоном Джейризом его связывало многое: когда-то они сообща плели сети интриг, он в какой-то степени чувствовал себя должником этого маститого английского дипломата, пришедшего ему на помощь в самый критический момент его карьеры. Разве мог он забыть ежедневные встречи в двадцать четвертом году, когда они запросто приходили друг к другу обсуждать планы предстоящих действий, или время эмиграции в Югославии, когда Джейриз сделал все, чтобы вернуть Ахмет-бея к власти. Вот почему президент республики, немного помедлив, ответил:
— В принципе я собираюсь и дальше укреплять свой режим, опираясь на верных людей; хочу усилить армию и жандармерию — разумеется, я рассчитываю при этом на помощь офицеров его величества короля Великобритании, — а еще буду формировать правящий класс, не забывая, — тут президент улыбнулся, — совета вашей милости: чем меньше людей у власти, тем лучше, не так ли?
— Совершенно верно. Вы должны брать за образец мою страну. У нас власть сосредоточена в руках нескольких семейств, их можно буквально пересчитать по пальцам. Вот почему положение в Британской империи так устойчиво. Конечно, у нас демократия, но, что бы там ни говорили всякие ученые, газетчики и прочие писаки, власть всегда находится в сильных руках лордов и финансистов. Власть — это такое блюдо, которым нельзя потчевать досыта. Жажда власти должна поддерживаться постоянно! Пусть будет как можно больше жаждущих власти. А вкусить ее давай не всем, только самым надежным, но и этим лишь небольшими, точно отмеренными дозами, по каплям, как лекарство.
— Да, да.
— Но меня, Ахмет-бей, сейчас беспокоит другое. Вы провозгласили себя западниками и объявили, что установите в своей республике демократию. Это очень хорошо. Вы тем самым завоевали симпатии и поддержку цивилизованных наций. Но нам, британцам, поддерживать демократию несложно, у нас вековой опыт, мы научились маневрировать при любых обстоятельствах, у вас же совсем иное дело. С одной стороны, у вас нет такого опыта, а с другой — ваши возможности маневрировать очень ограничены, по крайней мере формально. Но уверены ли вы, что у вас и дальше все пойдет так же гладко?
— Уверен.
— Я тоже в этом не сомневаюсь, пока во главе государства стоите вы. Но одно из условий демократии — периодические выборы. Они, естественно, должны проводиться и у вас. Через три-четыре года вам предстоят выборы президента. Можете ли вы их себе позволить? Уверены ли вы, что вас изберут на следующий срок?
Президент усмехнулся.
Да, сейчас его друг говорил откровенно, без недомолвок, совсем как в былые времена.
— Депутаты — мои люди, — ответил он коротко.
— Не сомневаюсь, Ахмет-бей, но всегда ли они будут вашими?
Президент нахмурился. Он и сам не слишком был уверен в этом. Он знал, что большинство из них, да что там большинство — все как один уже служили до него трем, а то и четырем хозяевам, так что при случае предадут и его.
— Кроме того, Ахмет-бей, надо учитывать и внешние обстоятельства, меняющуюся конъюнктуру, — продолжал бывший посланник.
Президент, крайне заинтригованный, смотрел на него, не отрывая глаз. После небольшой паузы сэр Джейриз опять заговорил спокойно и неторопливо:
— Простите меня, Ахмет-бей, но мы с вами привыкли говорить начистоту, а поэтому, я надеюсь, вы позволите мне и сейчас быть с вами откровенным, как прежде. Но имейте в виду, я здесь никого не представляю и приехал к вам в гости просто как ваш старый друг.
— Разумеется, — ответил президент, и в глазах его промелькнула хитрая искорка. Он прекрасно понимал, что, будучи посланником, сэр Джейриз представлял лишь правительство его величества короля Великобритании, а сейчас, в качестве «старого друга», он, возможно, представляет нечто большее. — Я счастлив, что имею возможность снова беседовать с вами и воспользоваться вашими ценными советами, — подтвердил он, хотя эти стереотипные слова из дипломатического лексикона никак не подходили для задушевной беседы двух старых друзей.
Сэр Джейриз мгновенно перешел на такой же тон, отбросив задушевность.
— Итак, ваше превосходительство, я буду говорить прямо, зная, что все, что я скажу, будет воспринято как советы друга, желающего вам добра, чем они и являются на самом деле, а не как официальное мнение моего правительства, которое я некоторое время имел честь представлять в вашей стране.
— Я, разумеется, понимаю, сэр Джейриз, что вы сейчас не представляете никого и что, приехав к нам, нанесли мне любезный визит по своему личному желанию. Я вам признателен за это. И рад выслушать своего старого друга.
— В таком случае, Ахмет-бей, позвольте сказать вам, что меня глубоко волнует будущее вашей страны, и в особенности ваше лично.
— Очень вам признателен!
— И отнюдь не процедура предстоящих выборов беспокоит меня больше всего, я почти уверен в вашей победе. Меня беспокоят внешние обстоятельства, изменчивая политическая ситуация, которую зачастую невозможно предугадать и трудно удерживать под контролем.
Сэр Джейриз на минуту умолк, затягиваясь сигаретой, а президент, откинувшись на спинку кресла, в нетерпении выстукивал по подлокотнику маршевый ритм.
— Что ж, Ахмет-бей, давайте проанализируем факты: за последнее время вы связали себя серией договоров и конвенций с Италией Муссолини. Эти договоры позволяют итальянцам установить определенный экономический и политический контроль над вашей страной. Я понимаю, что таким способом вы застраховали себя от посягательств своих соседей на материке, но одновременно оказались под угрозой зависимости от заморского защитника. Вряд ли можно сомневаться насчет намерений господина Муссолини в отношении вашей страны, ведь он и не скрывает своих агрессивных планов. О, я уверен, вы сделаете все, чтобы помешать их осуществлению, я глубоко верю в ваши дипломатические способности, однако господин Муссолини очень хитер, это беспардонный политик. Он не ограничится экономическим и финансовым контролем — он потребует большего.
— Господин Пашич тоже был хитрым политиком, — самодовольно заметил президент.
— Совершенно верно. Однако, прошу прощения, Ахмет-бей, я, возможно, слишком злоупотребляю нашей старой дружбой, касаясь таких щекотливых вопросов с чрезмерной прямотой и даже бестактностью. Прошу, остановите меня, если я нарушу приличия.
— Напротив, сэр Джейриз. Я чрезвычайно высоко ценю вашу откровенность и очень рад, что именно с вами могу поговорить об этом. Вы же знаете, с другими дипломатами я не могу вести таких бесед, они обо всем доложат в своих официальных отчетах, а мои советники слишком подобострастны и вряд ли посоветуют что-то, не будучи заранее уверены в положительной реакции с моей стороны. Поэтому, прошу вас, говорите обо всем совершенно свободно.
— Благодарю! Я воспользуюсь этой свободой, так как наша беседа не будет иметь никаких официальных последствий.
— Разумеется.
— Итак, Ахмет-бей, разрешите заметить, что Италия достаточно крупная держава и на международной арене имеет определенный вес. Неизвестно, какие комбинации возможны в будущем между великими державами. Пока его величество король Великобритании несколько ослабил внимание к вашей стране, предоставив Италии свободу действий, однако мы не откажемся от своих интересов в Албании и на Балканах, а потому было бы нежелательно, чтобы ваша страна полностью оказалась под влиянием Италии, и уж тем более была бы захвачена ею.
— Этого мы никогда не допустим.
— Я нисколько не сомневаюсь в вашей решимости, но, как я уже говорил, трудно предсказать, какие политические комбинации могут сложиться в будущем, и не исключено, что моя страна не сможет прийти вам на помощь. Я знаю, вы будете сражаться, но, хоть вы и героический народ, вряд ли сумеете противостоять военной мощи Италии.
Президент пристально вглядывался в лицо своего друга, пытаясь разгадать, что же в самом деле у того на уме. Протянув руку, он достал сигарету из серебряной сигаретницы, щелкнул зажигалкой и снова откинулся на спинку кресла.
— Все это меня очень тревожит, Ахмет-бей, — заключил бывший посланник, — поэтому я приехал дать вам дружеский совет, если вы, конечно, согласитесь его принять.
— Прошу вас, продолжайте!
— Мне подумалось, что в этих обстоятельствах было бы разумным изменить у вас форму правления, провозгласить монархию!
Президент республики вскочил с кресла и зашагал по комнате.
Провозгласить монархию! Это же его стародавняя мечта!
Когда-то он был известен как ярый монархист. Еще в те времена, когда он двигался к вершине власти и наконец достиг ее, однажды его осенила идея, что он и сам мог бы стать королем. А почему бы нет? Тем не менее, когда в двадцать четвертом году он взял в свои руки бразды государственного правления и с помощью югославских войск стал полновластным хозяином страны, он не осмелился провозгласить монархию. Тогда он опасался негодования народа, который и без того затаил против него гнев и был бы возмущен таким шагом. К тому же он не знал, как воспримут это великие державы, еще не поделившие добычу и ссорившиеся из-за Албании. По, несмотря ни на что, он всегда мечтал о монархии, и все знали его заветное желание — стать когда-нибудь королем в своей стране.
И вот теперь английский бей предлагает ему провозгласить монархию. «С чего это вдруг англичанам вздумалось устанавливать в Албании монархию? Уж не собираются ли они посадить здесь какого-нибудь своего принца? Неужели до сих пор они не поняли, что своей страной буду править я сам?»
Он резко остановился и, усаживаясь в кресло, сухо спросил:
— Какую же пользу принесет нам изменение формы правления?
— Полагаю, немалую. Во-первых, вы поднимете авторитет своей страны, ибо как может республиканская Албания существовать в окружении монархических соседей.
— Авторитет страны не зависит от формы правления.
— Вы правы, и все же монархическая форма правления способствует устойчивости режима, оберегает его от конституционных колебаний, а для вашей страны это очень важно. Кроме того, это выбьет почву из-под ног ваших недругов и господина Муссолини, которые были бы не прочь спровоцировать беспорядки и захватить вашу страну.
— Вы же сами сказали, что Муссолини — беспардонный политик. Преследуя свои цели, он не станет обращать внимания на форму правления.
— Это верно, но монархию свергнуть гораздо сложнее, чем такую неустоявшуюся, лишенную традиций республику, как ваша. Что же касается внутреннего положения, то только с помощью монархии вы сумеете добиться устойчивости в вашей феодальной стране, где ни один бей или байрактар не желает никому подчиняться.
— В этом вы правы.
— Если же во главе государства станет король, то это положит конец анархии. А короля, без сомнения, признают все беи.
Президент молчал.
Ему вспомнилось, что некоторые из его приближенных тоже советовали ему провозгласить монархию, предлагали даже устроить дело так, что они сами обратятся к нему, Ахмету Зогу, с просьбой занять албанский престол. Президент тогда уклонился от определенного ответа, эти советы он воспринял как угодливое заискивание, пустую медоточивую болтовню людей, пресмыкающихся перед ним с целью урвать побольше для себя. Ну а у английского бея нет никакого резона заискивать перед ним. Тогда зачем же он дает ему такой совет? Что скрывается за этим? Кого они собираются сделать королем в его стране?
Эти мысли роились в голове президента, мешая подобрать такой ход, который прояснил бы истинные цели англичанина, чтобы каким-нибудь окольным путем выведать правду.
Сэр Джейриз в упор глядел на него своими неподвижными, как у змеи, глазами.
Президент почувствовал неловкость от затянувшегося молчания и, стараясь скрыть смятение, выговорил:
— Возможно, вы и правы, ваше превосходительство. У монархии есть свои преимущества, но для моей страны (он сделал акцент на словах «моей страны») установить монархию прежде всего означает решить, кто станет ее монархом. У нас не было и нет законной королевской династии, а поэтому на королевский трон придется подыскивать какого-нибудь иностранца, как уже было с князем Видом.[9] Если мы оставим это дело на усмотрение великих держав, начнется грызня, каждая из них выдвинет своего ставленника. Не следует забывать также, что мой народ (тут он сделал ударение на словах «мой народ») в большинстве своем исповедует мусульманство и провозглашение королем христианина было бы неуместно. И уж тем более неуместен был бы иностранец-мусульманин, ведь моя страна пытается покончить с восточной ориентацией. Кроме того…
Сэр Джейриз не дал ему договорить. Он понял свою ошибку — надо было сказать сразу все. Он даже рассердился на себя за такой промах. Поэтому он и прервал президента.
— Зачем же искать иностранца? Как вы сами заметили, если довериться великим державам, те затеют ссору, и в нынешней ситуации верх наверняка одержит Италия, которая и всучит вам какого-нибудь незаконного отпрыска Савойского дома. Что же до мусульманского принца с Востока, то это просто немыслимо в такой момент, когда вы ориентируетесь на Запад. Да и к чему вам иностранец? Обычно в таких случаях подыскивают какого-нибудь захудалого германского князька, реакционера до мозга костей, пустоголового и без гроша в кармане, чья единственная заслуга в том, что он является законным, а то и побочным отпрыском какой-нибудь королевской фамилии. Стоит ему сесть на трон, как он примется грабить народ, чтобы нажить состояние себе и своим приближенным, которым не будет никакого дела до вашей страны.
Лицо президента просветлело, и он приветливо посмотрел на своего друга.
— По-моему, вопрос ясен, — продолжал сэр Джейриз. — Будущий монарх должен быть уроженцем своей страны, а конкретно я имею в виду именно ваше превосходительство. Кто, как не вы, достоин стать монархом в своей стране? Советуя вам изменить форму правления, я ни на минуту не забывал о ваших пожеланиях и наших прошлых беседах. Тогда я отговаривал вас от такого шага, потому что это было несвоевременно; ну а сейчас я сам говорю вам: провозглашайте монархию, время приспело.
Президент, чтобы не выдать своих чувств, наклонился к столу и принялся наливать в бокалы коньяк.
Старый дипломат, вставая, поднял бокал:
— Вы только подумайте, Ахмет-бей! Провозгласив себя королем, вы навечно закрепите свой режим и до конца выполните задачи, которые ставите перед собой, стремясь к прогрессу своей страны. С другой стороны, вам не нужно будет опасаться выборов, вы лишите своих внутренних и внешних врагов возможности строить козни против вас на этих выборах. В конце концов, какие бы испытания ни выпали на вашу долю, пусть даже самые тяжкие, для всех вы останетесь законным монархом этой страны. А Великобритания и великие державы сделают все, чтобы вернуть вам трон. Так что разрешите мне, Ахмет-бей, пожелать вам успеха и первым назвать вас ваше величество.
— Благодарю вас, ваше превосходительство! — поднимаясь, ответил его будущее величество.
Во время последней тирады сэра Джейриза президент уже успел полностью овладеть собой и теперь обдумывал, рассчитывал и взвешивал следующий ход с присущим ему хладнокровием. Когда они снова уселись, он проговорил совершенно спокойно, с непроницаемым видом:
— Надо кое-что выяснить, сэр Джейриз. — Он пододвинул гостю сигаретницу и поднес зажигалку. — Вы мой лучший друг, поэтому, я уверен, вы до конца будете откровенны со мной.
— Разумеется.
— Согласятся ли великие державы на изменение режима в моей стране?
— Думаю, что да. Если уж на это соглашается Соединенное Королевство, старейшая и могущественнейшая конституционная монархия в мире, то, я полагаю, согласятся и остальные. Я не сомневаюсь, что его величество король Великобритании одним из первых официально признает вас равным себе, а остальным ничего не останется, как последовать его примеру.
— Благодарю вас; такое проявление дружбы и уважения со стороны его величества было бы большой честью для меня. Разрешите мне провозгласить тост за здоровье его величества короля Великобритании.
Немного погодя президент спросил:
— А Италия? Как, по-вашему, отнесутся к этой перемене итальянцы?
— По моему мнению, Ахмет-бей, Италия до поры до времени заинтересована в устойчивости режима у вас. Провозгласив монархию, вы обеспечите эту устойчивость и, таким образом, дадите возможность Италии провести в жизнь столь выгодные для нее дополнительные статьи договоров и конвенций. Я уверен, что господин Муссолини одним из первых поздравит вас. Так поступил бы всякий умный политик. А Муссолини как раз из таких.
— А как, вы полагаете, прореагируют соседи?
— По-моему, они не должны вас особенно беспокоить. Возможно, ваше решение будет им не по вкусу, ведь у них, как известно, особые планы в отношении Албании. И все же право на вашей стороне. Если у них самих монархия, то почему бы и вам ее не иметь?
— А американцы?
— И о них не беспокойтесь. Они, конечно, республиканцы, но в политике реакционней любых монархистов. Могу вас заверить, английская дипломатия вас поддержит. Главная ваша забота — убедить всех, что изменение формы правления — настоятельная необходимость, так как страна возвращается к своей традиционной форме правления, а республика была аномалией, продиктованной обстоятельствами. И потом надо подчеркнуть тот факт, что установление монархии крайне необходимо, чтобы преградить путь большевизму, поскольку Албанская республика в монархическом окружении может стать очагом интриг мирового коммунизма.
— Это сойдет для публики, для простого люда. Но удовольствуются ли такими доводами политики?
— Почему же нет? Разве они сами не объявили поход против коммунизма? В конце концов, вы поставите их перед свершившимся фактом, и волей-неволей им придется примириться. Удастся ли вам изменить форму правления, не встретив противодействия внутри страны, — вот что главное.
— Об этом я уж позабочусь сам.
— Все должно произойти на основе конституции, без какого бы то ни было нарушения демократических прав. Прежде всего необходимо беспрекословное согласие парламента.
— Парламент согласится.
— Отлично!.. Однако, простите меня, может, я злоупотребляю советами…
— Что вы, продолжайте, прошу вас!
— По-моему, будет лучше, если вы сначала поставите в известность только своих доверенных лиц, тех, кто займется подготовкой общественного мнения и практическими вопросами. Кроме того, мне кажется, инициатива должна исходить от народа, а парламент лишь исполнит, так сказать, его волю. Это заткнуло бы рот вашим противникам внутри страны и одновременно политическим эмигрантам.
— Внутри страны, я уверен, не будет никаких возражений, а беглецов никто не принимает всерьез. Они разбились на группировки и грызутся между собой.
— Тем лучше. Грызутся — значит не будет времени бороться против вас. Но вам все-таки следовало бы обратить внимание на албанцев в Америке. Вы знаете, что на американцев печать оказывает большое влияние, а среди албанцев в Америке, насколько мне известно, есть неплохие журналисты. Они могут вам навредить.
— Мы обязательно примем меры.
— Знаете, кого я прежде всего имею в виду? Ферид-бея Каменицу. Он довольно способный журналист, имеет кое-какие связи и может серьезно повредить вашему делу.
— Ну, не думаю. Не так уж он опасен. Да, господь одарил его острым умом и незаурядными способностями, но ведь он сын бея и, как все беи, ленив, любит беспечную жизнь и комфорт, а потому постоянно нуждается в деньгах. Ну а сейчас острый язык — это все, что у него осталось, вот он и треплет им, да только нам от этого ни жарко ни холодно, как говорится: собака лает, ветер носит.
— И все же я бы на вашем месте пригляделся к нему повнимательней. Вспомните его резкие статьи против вашего превосходительства… Если он снова возьмется за перо…
— Не возьмется. Он станет ярым сторонником монархии, вот увидите.
Встретив вопросительный взгляд собеседника, президент пояснил:
— Он по уши в долгах, доходов у него никаких, а счета растут.
— Я уверен, что вы позаботитесь о таком выдающемся патриоте, как Ферид-бей.
— Разумеется, это мой долг — поддерживать национальные таланты, защищать патриотов. Noblesse oblige.[10]
— А какие у вас планы в отношении вашего преподобного противника?
— С этим мы вряд ли сможем договориться.
— Чем занимается его преосвященство в настоящее время?
— Пишет стихи.
— В самом деле? Да это же замечательно! Уж если политик занялся поэзией, это верный знак того, что он потерпел крушение в политике.
— В поэзии его ждет та же судьба.
— Вы правы. Все писатели, занимающиеся политикой, терпят фиаско в литературе.
— Они, как правило, терпят фиаско и тут и там.
Сэр Джейриз остался очень доволен тонким, почти английским остроумием своего «ученика».
— И еще одно, Ахмет-бей. Я думаю, вам надо принять титул «короля албанцев», а не просто короля Албании. Это встревожит соседей, но ведь это ваше право. А потом, ведь Александр тоже носит титул короля сербов, хорватов и словенцев? Это заставит призадуматься и албанцев в Америке: понравится им это или нет, а они вынуждены будут признать вас, если не захотят потерять связь со своими семьями здесь, в вашем королевстве.
— Вы совершенно правы.
— А теперь, ваше превосходительство, желаю вам успеха, и, поверьте, я всегда останусь вашим верным другом, — сказал сэр Джейриз и встал.
— Прошу вас, побудьте у нас еще немного! Мы должны непременно зайти к моей матери.
Это неожиданное приглашение польстило престарелому дипломату. Президент все-таки нарушил ради него правила протокола…
— Извините меня, но…
— Нет, нет, прошу вас. Мама все время интересуется вами. Она вас хорошо помнит, — сказал президент и, взяв англичанина под руку, повел по дворцовым коридорам.
Было уже поздно, около полуночи, когда бывший посланник вышел из дворца. Президент сам проводил его до высоких решетчатых ворот. Это уж совсем было необычно. Солдаты-гвардейцы, увидев их вдвоем, немного удивились, но остались довольны: английский бей, кажется, близко сошелся с их пашой. Что же до адъютанта в галунах и аксельбантах, то он тоже удивился, но никакого удовольствия не выказал.
II
Приближалась полночь, и Риза-эфенди поднялся, чтобы приготовить себе постель: он был уверен, что до самого утра его никто уже не побеспокоит. Достав из шкафа тюфяк, одеяло и подушку, он постелил себе на скамье рядом с телефоном и начал неторопливо раздеваться: снял феску, обнажив черноволосую, с проседью, коротко стриженную голову, потом пиджак, жилетку и уже принялся развязывать галстук, как вдруг раздался телефонный звонок.
— Алло!
В трубке послышался повелительный мужской голос:
— Телефонная станция?
— Да.
— Свяжи меня срочно с домом господина Мусы Юки!
— А кто говорит?
— Дворец президента.
Риза-эфенди переключил вилку и напряженно прислушался. В доме господина Мусы трубку сняла служанка. Она сообщила, что его милость молится.
— Срочно позови его к телефону! — приказал голос из президентского дворца.
— Я же вам сказала, господин, он молится. Не могу же я прервать его молитву.
— Иди и позови!
— А кто его требует?
— Президент.
— А-а… Сейчас позову.
«Зачем он вызывает его так срочно? — недоумевал телефонист. — Что случилось?» Но раздумывать над этим ему не пришлось. Тот же голос снова приказал:
— Алло! Станция? Срочно соедини меня с господином Кочо Коттой!
Потом он требовал поочередно господ Джафер-бея Юпи, Фейзи-бея Ализоти, Нуредин-бея Горицу и Гафур-бея Колоньяри.
«Видимо, все-таки что-то случилось», — подумал телефонист.
С самого двадцать четвертого года, когда в Тиране был переполох и телефонную станцию охраняли войска, он не мог припомнить случая, чтобы в такой поздний час во дворец вызывали столь важных господ, всех приближенных президента.
Он немного подождал, не потребуют ли еще кого, потом стал одеваться. «На всякий случай надо быть наготове. Неизвестно, что там может произойти». Он свернул постель, снова засунул ее в шкаф, надел феску и сел у аппарата, то и дело поглядывая на дверь.
Однако больше его никто не побеспокоил. Так он и просидел до утра в ожидании.
Но не один Риза-эфенди провел ту ночь без сна. Адъютант в аксельбантах и золотых галунах, вызывавший по телефону приближенных президента, теперь нервно расхаживал по главной аллее дворцового парка, от высоких решетчатых ворот и до парадного подъезда. Он тоже недоумевал: зачем понадобилось собирать всех в такой час? Что произошло? Зачем приезжал бывший английский посланник?
Останавливаясь время от времени в определенном месте парка, откуда были видны освещенные окна президентского кабинета, он впивался в них взглядом, словно пытаясь разглядеть, что делается там за тяжелыми портьерами. О чем они там разговаривают?
В отличие от Ризы-эфенди адъютант в аксельбантах и золотых галунах мучился не просто от любопытства. Ему необходимо было узнать, что там происходит.
А в кабинете президента тем временем государственные мужи, сидя вокруг большого стола заседаний, с тревогой следили за его превосходительством, который, нахмурившись, расхаживал взад и вперед в своих лакированных туфлях по толстому ковру. Они догадывались, что собрали их по очень важному и неотложному делу, но какому? Что произошло? Почему президент молчит? Они недоуменно переглядывались, как бы ища ответа, но читали в глазах друг у друга лишь сомнение и тревогу. Их хозяин в самых важных делах никогда с ними не советовался, он продумывал все сам и, только приняв решение, вызывал их, чтобы распределить роли и обязанности.
Наконец его превосходительство прекратил мерить шагами кабинет. Внезапно остановившись у двери, он повернул ключ и снова сел во главе стола. Этот жест еще больше встревожил столпов государства. На несколько мгновений воцарилась такая тишина, что было слышно дыхание присутствующих. Все взоры обратились на президента.
По возрасту президент был намного моложе всех собравшихся в его кабинете, но именно он был их главой, превзошел их умом, ловкостью и умением не останавливаться ни перед чем. Он тоже обвел их взглядом своих голубых глаз, которые так отличались от глаз этих людей — различных по цвету и все же одинаковых: беспокойно бегающих, пытающихся угадать мысли другого еще до того, как тот откроет рот. У них и рты были одинаковые: ожидающе полуоткрытые, готовые растянуться в улыбке и произнести медоточивые слова, тогда как их обладатели готовы вонзить собеседнику нож в спину.
— Господа! Дело чрезвычайной важности заставило меня побеспокоить вас в такое позднее время, — медленно начал президент, тщательно подбирая слова. В его мягком голосе, почти в каждом слове слышался матьянский выговор, особенно в звуке «и», который он растягивал в «эи».
Все застыли в ожидании. Лишь господин Кочо Котта повел плечами, как бы желая показать, что совершенно не разделяет общей тревоги.
— То, о чем пойдет речь, должно оставаться в строгой тайне, об этом не должен знать никто до тех пор, пока не придет время действовать.
— Вы же знаете нас, ваше превосходительство, — вскинулся Джафер-бей Юпи. — Я думаю, и, надеюсь, не только я один, что, если бы мы не умели молчать, сегодня нас не пригласили бы сюда.
— Верно, — подтвердили в один голос двое или трое.
— Именно так, — заключил Муса-эфенди.
— Вы, ваше превосходительство, уже не роз имели случай убедиться в нашей преданности, — добавил Фейзи-бей, лысый щекастый толстяк, с торчащими усами и белесыми глазами. Он был опытный политик и рьяный сторонник режима, но президент не очень-то доверял ему, потому что этот господин, до того как стать его «преданным соратником», успел уже сменить нескольких хозяев.
— Мы верны вам до гроба, ваше превосходительство, — на октаву выше вступил Кочо Котта, захлебываясь словами; почему-то казалось, будто он говорит не по-албански, а по-гречески. Он действительно по-гречески говорил лучше, чем по-албански, и «сплетники, противники режима и большевики» злословили, что его «патрида»,[11] — Греция, хотя сам он клялся, что родители у него албанцы и что греческий он выучил в Афинах, в университете. Чтобы уверить всех в своем албанском происхождении, он часто расхаживал в народном костюме, но сведущие люди, завсегдатаи библиотек, поговаривали о каких-то документах, которые он якобы когда-то подписал, о статьях и заявлениях, которые он публиковал в греческих газетах о Северном Эпире[12] утверждали даже, что греки признают в нем своего соотечественника. Теперь же он считался одним из самых преданных президенту министров и назывался уже не Костаки Котопулос, а Кочо Котта, с двумя «т».
— В нашем молчании будьте уверены, ваше превосходительство, — заверил и Нуредин-бей Горица, поднимаясь и прижимая руку к сердцу. Сухопарый, с черными усами на морщинистом лице, с изысканными манерами, он, по мнению некоторых, был человеком большой культуры, хорошо владел пятью или шестью языками, так как рос и воспитывался в Англии, а потом много лет провел на службе у турецкого султана, подвизаясь в качестве дипломата при европейских дворах.
— Преданность вашему превосходительству мы доказали на деле, — сказал Гафур-бей Колоньяри.
Среди приглашенных на совещание он был самым молодым после президента; хотя ему было около сорока, краснощекий и пышущий здоровьем, он выглядел гораздо моложе.
Ахмет-бей пристально на него поглядел. «О каких же это доказательствах преданности толкует Гафур-бей? Правда, он присоединился ко мне в двадцать четвертом, когда все остальные от меня отступились, но ведь не от хорошей жизни он это сделал! Просто взбунтовались его крестьяне, вот он и испугался за свои поместья. А до этого куда только не носило его по мутным волнам политической жизни двадцатых годов».
Гафур-бей тоже в упор посмотрел на президента своими выпуклыми черными глазами, но, не выдержав, потупился.
Только двое никак не выразили своей преданности, да президент и не нуждался в этом. Первый, Абдуррахман Кроси, с квадратной головой, крупными глазами и жесткими усами, закрученными вверх «под кайзера», был своим человеком во дворце. Газеты называли его «духовным отцом» президента, а кто-то даже пустил слух, что он и в самом деле отец его превосходительства. Второй, Муса Юка, усатый, с насупленными бровями, представительный и всегда мрачный, как туча, был самым верным человеком президента. Когда-то Муса Юка был «бандитом», и президент вытащил его из грязи и возвел на высокий государственный пост и этим вконец испортил его репутацию, так как с того дня Муса Юка прослыл лакеем президента.
— Я это знаю, господа, — произнес президент, выслушав их заверения. — Я уверен в вашей преданности, вы могли бы и не говорить об этом. Вы, несомненно, самые близкие мне люди, мои верные товарищи и соратники, опора нашей власти.
В его голосе ни намека на иронию — он действительно был убежден в том, что говорил.
Разве эта уверенность президента в своих соратниках не является свидетельством их патриотизма, не опровергает утверждения о том, что его окружение состояло якобы из людей политически растленных и беспринципных, из мошенников, не раз менявших свои знамена, из прохвостов, лицемеров и подхалимов, людей безликих и двуличных? Нет, эти обвинения не имеют никаких оснований. Наоборот. Преданнейшие люди Ахмета Зогу, те, кого он удостоил почетной медали «Моим Товарищам», обладали твердым идейным принципом: деля людей на волков и овец, они были убеждены, что лучше быть, разумеется, волком. Вот почему они и грызлись между собой, как волки, и сбивались в стаю, заслышав овечье блеянье. Всякие иные принципы не имели в их глазах никакой цены, они растворялись, как соль в воде, или отбрасывались, как грязная ветошь. У кого это язык повернулся сказать, будто они были отъявленными карьеристами, готовыми за деньги продать мать и отца. Выдумки — они были страстными и пламенными патриотами. В этом нет никакого сомнения, ведь это подтверждают и газеты того времени, до небес превозносившие их преданность родине. Сомнение вызывает только вопрос, где была их родина, потому что эти государственные мужи, опора режима, сохраняя верность своим убеждениям, часто меняли патриды и ватаны.[13]
Воодушевленные словами президента, все они поднялись, как по команде, и поклонились, прижав руку к сердцу.
— Если бы я не знал вас, — продолжал президент, — то не пригласил бы сегодня, чтобы посоветоваться по одному очень важному делу. Я с самого начала подчеркнул, что дело это секретное и от этого зависит его успех.
Он сделал паузу, затянулся сигаретой и затушил ее в серебряной пепельнице.
— Перейду к сути, господа! Великие державы требуют, чтобы мы изменили форму правления и снова вернулись к нашему традиционному строю — монархии. Этот вопрос мы и должны сегодня решить. Итак, каково ваше мнение? Что мы им ответим?
В комнате наступило полное молчание. Все сосредоточенно о чем-то думали, и никто не осмеливался заговорить.
— А почему мы должны обязательно устанавливать монархию? — воскликнул наконец Фейзи-бей. Ему припомнился разговор с президентом тет-а-тет года три назад, когда было решено провозгласить республику. Фейзи-бей предлагал сохранить монархию с регентством, но Ахмет-бей «уговорил» его упразднить регентство и провозгласить республику. Поэтому Фейзи-бей был уверен, что президент — убежденный республиканец, и уж тем более теперь, когда он сам президент республики. С провозглашением же монархии ему придется уступить бразды правления монарху, который наверняка будет ставленником великих держав.
— Мы должны это сделать потому, что такая небольшая республика, как наша, не может существовать в окружении сильных соседей с монархическим режимом. Республика среди этих монархий — опасный очаг, осиное гнездо большевизма.
— По-моему, ваше превосходительство, — вмешался Нуредин-бей, — форма правления здесь совершенно ни при чем, ведь мы боремся против опасности коммунизма и проводим такую же политику, как наши соседи.
— Кроме того, — с жаром подхватил Джафер-бей, которому возражение Нуредин-бея придало уверенности, — мы еще не укрепили как следует республиканский строй, в верности которому мы поклялись!
— Правильно, — поддержал его Кочо Котта, — республика — самый прогрессивный строй, а монархии сейчас не в моде. К чему нам монархия, когда у нас республика и возглавляете ее вы, ваше превосходительство, спаситель нации!
— Верно сказано! — пробасил Муса Юка.
— А что думаете вы, Гафур-бей? — спросил президент.
— Я согласен с общим мнением. Монархия устарела.
— Не забывайте, господа, что, изменив форму правления, мы снова вернемся к привычному для албанского народа строю и добьемся стабильности и порядка в стране, — попытался убедить своих соратников президент.
— Мы добьемся порядка и с республикой, — возразил Джафер-бей.
— Нам и с республикой хорошо.
Все заговорили наперебой.
Один лишь Абдуррахман Кроси не проронил ни слова. Казалось, он вообще не понимал, о чем идет речь. Или, может, он заранее знал, что замышляет его «сынок»?
— Да вы, господа, как я погляжу, убежденные республиканцы! — перебил президент. Теперь в его голосе зазвучала ирония. — И все же пожелание великих держав придется исполнить. И мы должны сейчас принять решение об изменении формы правления.
— Ни в коем случае!
— Мы против!
— Не соглашайтесь, ваше превосходительство! — воскликнул Кочо Котта, решительно вскакивая. Он очень торопился высказаться и, как всегда, забормотал скороговоркой. — Зачем нам король-иностранец, когда у нас во главе государства стоите вы, ваше превосходительство!
— Опять хотят нам навязать какого-нибудь неверного? Tovbe estagferullah![14] — с ненавистью проворчал Муса Юка, скосив глаза в сторону Кочо Котты, единственного «неверного» на этом совещании. Но Кочо Котта сделал вид, будто не расслышал его слов.
— Не следует повторять печальный опыт с князем Видом, — подтвердил Нуредин-бей в тон ворчливой тираде Мусы Юки. — Сейчас не та ситуация. Албания доказала, что может быть республикой.
— Тем более что ее возглавляет гениальный президент! — подхватил Джафер-бей.
— Ни в коем случае не соглашайтесь! — повторил Фейзи-бей слова Кочо Котты.
— А я хочу сообщить вам, господа, что согласился! — с пафосом заявил президент.
— Согласились?
— Не может быть!
— Да что вы!
Ошеломленные и сбитые с толку, они заговорили нестройным хором. Но вскоре снова наступило гробовое молчание, как будто случилось что-то ужасное.
— Неужели это правда? — нарушил тишину своим запоздалым восклицанием Гафур-бей.
Он в эту минуту уже лихорадочно соображал, кого могут сделать монархом. Наверное, какого-нибудь итальянского герцога или германского князька? Эх, если бы узнать кого! Он бы раньше других связался с ним, предложил бы свои услуги, он бы… Но почему этот согласился? Что здесь затевается?…
— Правда, господа, — невозмутимо ответил президент. Он взял сигарету и постучал ею о ноготь большого пальца. — Я согласился. Я дал слово изменить форму правления. А вы знаете, если я даю слово, то держу его.
— Макьявелли, ваше превосходительство, говорил, что государь не обязан выполнять своего обещания, если это ему невыгодно, — сказал Нуредин-бей.
— Но, давая слово, господа, я руководствовался прежде всего интересами родины, интересами Албании. Наша страна многое выиграет от этого исторического шага. Ведь Албания — страна феодалов и байрактаров, где каждый считает себя первым и не хочет никому подчиняться. Поэтому я убежден, что в стране не будет спокойствия до тех пор, пока во главе нации не станет король, признанный в качестве вождя и своим народом, и великими державами. Установив монархию, мы укрепим независимость и поднимем авторитет нашего государства.
А Гафур-бей бился над загадкой, какая роль отведена Ахмету Зогу в будущей монархии. «Разве он согласится стать простым премьер-министром и править как бы неофициально, за кулисами? Нет, это отпадает. Я-то знаю, как он честолюбив, знаю, о чем он мечтает… Но тогда почему же он решился на провозглашение монархии?!»
И вдруг его мозг молнией пронзила догадка. Не успел президент закончить фразу, как он вскочил на ноги и выпалил:
— Прекрасно, ваше превосходительство!
Все изумленно уставились на него, а он, повернувшись к ним, спросил с наигранным удивлением:
— А почему вы думаете, господа, что мы непременно должны поставить королем иностранца? Если великие державы захотели сделать нашу страну монархией, мы не станем возражать, но уж монарха, короля, выберем мы, а не они. Да мы его уже имеем!
Нуредин-бей, дипломат, прошедший выучку при султанском дворе и дипломатических салонах Европы, по-кошачьи быстро вскочил, перебивая его:
— Вы угадали мою мысль, Гафур-бей! Браво! Вы сказали первый, значит, будете дольше жить. Да, господа, на таких условиях мы все согласимся!
— Я то же самое собирался сказать, — вмешался Фейзи-бей. — И я за монархию, господа. Монархия — наилучший строй, она нам подходит. Сама история это подтверждает. Наполеон, например, превратил республику в империю для того, чтобы…
— Титулы, которыми вы, ваше превосходительство, обладаете, недостаточны, — вдруг заговорил Джафер-бей, прерывая своего коллегу. — Вашей гениальности под стать лишь королевский титул. Позвольте мне первым поздравить вас и обратиться к вам со словами «Ваше величество»!
Все снова заговорили разом, каждый старался найти слова покрасивее, чтобы выразить свое восхищение «гениальным решением», которое принял в своей мудрости президент.
Наконец и он разомкнул уста:
— Господа! Благодарю вас за искреннее доверие, за поздравления, но разрешите напомнить, что ничего подобного у меня и в мыслях не было! Соглашаясь с пожеланием великих держав, и особенно Великобритании, относительно провозглашения монархии, я заботился только об интересах своей родины, ради которой готов пожертвовать всем.
— Ваше превосходительство, — сказал Нуредин-бей, — вам нет необходимости напоминать нам об этом, и все же мы настаиваем на нашем праве самим избрать будущего монарха. Им можете быть вы и только вы. Иначе мы ни за что не согласимся на изменение формы правления.
— Верно!
— Совершенно справедливо!
— Нуредин-бей дело говорит!
— Вы нас созвали на совет, и вот вам наш совет, ваше превосходительство.
— Решено, и дело с концом! — заключил господин Муса Юка.
— Пусть будет по-вашему! — решил президент.
Не успел он это сказать, как господин Кочо Котта подскочил к президенту, схватил его руку, поцеловал ее и воскликнул дрожащим от волнения голосом:
— Ваше величество! Как я рад обратиться к вам так! Греческая пословица гласит… Он протараторил что-то и тут же перевел: плохо, когда правят многие, должен быть лишь один правитель. Поэтому давайте поскорее провозгласим монархию, а спасителя нации — королем!
Сказав это, его милость так расчувствовался, что пришлось ему достать платок и высморкаться.
Остальные последовали примеру господина Котты: по очереди подходили к президенту, чтобы приложиться к его руке и высказать свои поздравления. Президент обнимал каждого и похлопывал по плечу.
— И почему вы нам сразу не сказали, ваше величество, да на черта нам эта республика? — воскликнул Фейзи-бей.
— Вот-вот, — вмешался Муса Юка, — был бы Зогу, а уж республика или монархия — нам все равно.
Обыкновенно мрачный, сейчас он был весел и доволен.
Один Абдуррахман Кроси опять не сказал ни слова. Он крепко обнял «сына» и, улыбаясь, снова уселся на свое место.
Гафур-бей тоже приложился к руке президента и обнял его, сияя улыбкой, а про себя подумал: высоко же взлетела эта матьянская ворона! Разбойник с гор, байрактар-неуч станет в один ряд с коронованными правителями Европы. Вот это да!
— А теперь за дело, — приказал президент.
— Нет, нет, ваше величество! — возразил Гафур-бей. — Перед тем, как начать, прикажите, чтобы принесли шампанского. За это надо поднять бокалы!
— Вот именно!
— Шампанского!
— Значит, вы мне не подчиняетесь, — сказал президент притворно-сердитым тоном. — Нехорошее начало для короля, вступающего на трон, — добавил он, встряхивая колокольчиком.
— Напротив, ваше величество, — сказал поднимаясь Нуредин-бей. — Короли выражают волю народа, и вы, ваше величество, правильно делаете, начиная с того, что выполняете пожелание своих подданных.
— Мы — народ, ваше величество, — заявил Фейзи-бей.
— Да, да, мы — народ, — повторил Джафер-бей.
— Vox populi, vox dei, — сказал Кочо Котта и тут же перевел: — Глас народа, глас божий.
После того как прозвенели бокалы с шампанским, которое, судя по всему, «его величество» приказал приготовить заранее — так быстро его принесли, — после того как снова и снова прозвучали поздравления и комплименты, которые у государственных мужей всегда были на кончике языка, они опять уселись вокруг большого стола, а президент, садясь во главе, произнес повелительным тоном:
— А сейчас, господа, давайте поговорим, какие меры необходимо принять. Два момента имеют особое значение: во-первых, вся процедура должна соответствовать конституционным нормам. Нельзя пренебрегать ни единым, даже самым незначительным и формальным, положением основного закона. Во-вторых, надо организовать дело так, чтобы предложение исходило от народа и было одобрено единогласно, понятно? Никаких случайностей. Особое внимание надо обратить на печать: не публиковать ни одной статьи без тщательнейшей проверки, не пропускать даже отдаленных намеков на то, что есть в Албании люди, не одобряющие провозглашения монархии. Затем надо будет решить все остальные вопросы: бюджет, пропаганда, необходимый церемониал и тому подобное.
Президент остановился, закуривая новую сигарету. Он много курил.
Воспользовавшись паузой, заговорил Гафур-бей. Ему не терпелось приняться за работу.
— Ясно, ваше превосходительство. Могу вас заверить, что все будет сделано exactement[15] по вашим указаниям. К печати будут приняты меры. А что касается зарубежной…
— Мы говорим только о нашей албанской печати, — перебил президент. — С иностранной печатью мы, конечно, ничего поделать не можем.
— А как быть, ваше превосходительство, с зарубежной албанской печатью, именно ее я имею в виду.
— Ее мы должны заставить замолчать, — добавил президент, поясняя свою мысль: — Из всех албанских газет какой-то вес имеет лишь «Диелы», издаваемая в Америке. Все остальные — чепуха, листки, которые никогда не попадают в руки серьезным политикам.
— Газету «Диелы» выпускает ваш противник, — заметил Джафер-бей. — Его последние статьи полны нападок на вас.
— И он должен замолчать, — сказал президент.
У Мусы-эфенди сверкнули глаза. Заметив, как он весь напрягся, президент успокоил его:
— Нет, в этом нет необходимости, Муса-эфенди.
— А что будем делать со вторым?
— С кем?
— С тем… бородатым…
— Ничего. Все знают, что он против меня, но серьезные политики не станут к нему прислушиваться.
— Он принялся стихи писать.
— Переводит Омара Хайяма.
— Пусть сочиняет, пусть переводит, — сказал президент, — он бессилен нам повредить. Поездка в Москву дискредитировала его в глазах общества, и мы смело можем обвинить его в большевизме.
— Верно, ваше превосходительство!
— По-моему, ваше превосходительство, — вмешался Нуредин-бей, — было бы хорошо сразу же после провозглашения монархии объявить амнистию всем политическим заключенным и эмигрантам. Это значительно поднимет наш престиж в глазах цивилизованного мира и покажет, что мы достаточно сильны, чтобы не бояться своих врагов.
— Все это так, — заметил Фейзи-бей, — но ведь они прибавят нам хлопот. Стоит им оказаться на свободе, как они тут же зашевелятся.
— Пусть лучше гниют в тюрьмах, — отрезал Муса Юка.
— А еще лучше бы — в земле, — выдавил из себя Абдуррахман Кроси, впервые открывая рот и показывая в ухмылке крупные нечищеные зубы. — Мертвецы не шевелятся.
— Я думаю все же, что мы больше выиграем, объявив амнистию, — настаивал Нуредин-бей.
— Я согласен с Нуредин-беем, — сказал Гафур-бей. — Они нам ничем не могут повредить.
— Да, — сказал Нуредин-бей. — Наши противники были опасны, когда представляли организованную силу. А отдельные амнистированные личности — это уже не организация. А раз так — нам нечего их бояться.
— Но они снова могут объединиться, — сказал Муса Юка.
— Мы не допустим, господин Муса, — ответил Нуредин-бей, — за этим проследит министерство внутренних дел. Каждый сам по себе пусть делает, что хочет, пусть занимается своими делами, если им угодно стоять в стороне, но объединяться — извините, мы не позволим. Сила наших врагов — в организации, и это надо иметь в виду.
— И все-таки это опасно, — сказал президент в раздумье. — Среди них есть неглупые люди, они найдут способ, как нам повредить.
— Ничего они нам не сделают, — повторил Нуредин-бей. — Человек, даже самый способный и умный, сам по себе слаб и бессилен. Люди становятся сильны, лишь когда объединяются и представляют единое целое.
— Кроме того, наши противники политически обанкротились, — поддержал своего приятеля Гафур-бей. — Их знамя разорвано, его уже не сшить. Нам теперь надо опасаться другого знамени — коммунистического.
— Те, кто до вчерашнего дня были нашими врагами, выступают против коммунизма, — сказал Джафер-бей.
— Поэтому, стоит нам поднять знамя антикоммунизма, как многие из них не только перестанут выступать против нас, но и присоединятся к нам, — сказал Нуредин-бей. И добавил: — Амнистия войдет в политический актив вашего превосходительства.
— Мы это еще продумаем, Нуредин-бей, — закончил дискуссию президент и продолжил давать указания.
— Вы, господин Котта, Муса-эфенди и Джафер-бей подготовите роспуск парламента и выборы в учредительное собрание. Гафур-бей и Нуредин-бей займутся печатью и организацией церемониала. Господин Фейзи-бей изыщет необходимые средства. Что касается Абдуррахмана, — сказал президент, смягчая тон, — то он поможет нашему делу в горах, среди байрактаров и родовой знати. Согласен?
— Как бог свят!
Покидали дворец на рассвете. Адъютант в аксельбантах и золотых галунах проводил их до больших решетчатых ворот и отдал честь. Они, ухмыляясь, отсалютовали в ответ. Только Муса Юка не ответил и направился прямо к машине, бросив на него из-под кустистых бровей косой взгляд. Но адъютант этого не заметил.
III
Нуредин-бей Горица низко поклонился. Его превосходительство президент даже не поднял головы.
Нуредин-бей почувствовал себя оскорбленным и в ожидании застыл у двери.
Уже не впервые президент разыгрывал такую шутку с Нуредин-беем: заставлял его стоять столбом несколько минут, словно не замечая его присутствия. Это бесило Нуредин-бея. Он считал себя во всех отношениях выше «этого неотесанного горца». Его знатный род насчитывает несколько пашей и придворных султана. Отец его был преуспевающим дипломатом Империи, сам он сформировался как политик при королевских дворах Европы. Как жаль, что пала Империя! Если бы не это, он был бы сейчас по крайней мере послом в каком-нибудь государстве Запада, а может, занимал бы другой высокий пост, был бы, например — почему бы и нет? — министром. Он считал себя прирожденным дипломатом и похвалялся, что в былые времена обводил вокруг пальца самых хитроумных политиков Европы. Он мечтал возобновить свою дипломатическую карьеру, снова возглавить какую-нибудь миссию за границей, и хотя теперь представлял бы крохотное государство, не имеющее никакого веса на международной арене, но какое это имеет значение. А «неотесанный байрактар» мешал ему осуществить эту мечту, не отпускал его от себя, называя «своим главным советником», выматывал всю душу своей «доверительностью», часто советуясь с ним даже по самым интимным вопросам. Нуредин-бей был зол и на самого себя. Поступая на службу к «этому неучу», он рассчитывал, что со своим опытом, образованием и способностями станет вертеть им, как захочет, сделает его своей марионеткой, но из этого ничего не вышло. Всякий раз, когда Нуредин-бей был уверен, что поймал его, неотесанный байрактар выскальзывал, как уж. Все получалось наоборот: самого Нуредин-бея использовали в качестве слуги. Казалось, президент вел себя с ним по-свойски, а все же умудрялся сохранить дистанцию и в нужный момент поставить Нуредин-бея на место, дав понять, кто президент, а кто подчиненный. Вот один из его приемов: несколько минут будто не замечает стоящего Нуредин-бея, заставляя его понять и почувствовать, что он всего лишь чиновник в аппарате президента. «Зачем он так старается подчеркнуть разницу в нашем положении? — задавал себе вопрос Нуредин-бей. — Почему бы ему не поручить мне какой-нибудь важный пост, ведь у меня такой опыт! Как подумаешь, что за мелкая сошка, неучи, первостатейные скоты входят в кабинет министров, а я, с моим умом и талантом, всего лишь полуофициальный советник, — лопнуть можно от злости. Не доверяет он мне, что ли? Да нет. Здесь, видимо, не в доверии дело. Если вспомнить беседы с ним тет-а-тет, то кажется, что он очень даже доверяет мне. У кого еще он спрашивает совета по всем щекотливым вопросам? Ничего не понимаю! Вот уж действительно, гораздо сложнее понять невежу, неуча, чем культурного человека. Неуч, как ребенок, все делает по наитию, как ему вздумается. Нет, пора с этим кончать. Попрошу, пусть назначит меня в какую-нибудь миссию за границей; все равно где, лишь бы подальше от него, подальше от этой публики, от этой страны…»
Его превосходительство кончил писать, положил перо на стол, поднял голову и, словно только сейчас заметив присутствие своего советника, встал с улыбкой:
— Прошу вас, Нуредин-бей.
Это тоже бесило Нуредин-бея. Сперва продержит его на ногах несколько минут, а потом ведет себя как равный с равным, совсем по-другому, чем с остальными. Поди раскуси его!
— Я позвал вас, Нуредин-бей, чтобы обсудить очень деликатный вопрос. Вы же знаете, говорить об этом, кроме вас, мне не с кем. Вы единственный из моих товарищей, кто может дать дельный совет.
Нуредин-бей поклонился, давая понять, что находится в полном распоряжении его превосходительства.
— Как вам известно, — неторопливо продолжал президент, попыхивая сигаретой, — все идет так, как было задумано. Господин Кочо Котта и Муса-эфенди готовят роспуск парламента; Гафур-бей обрабатывает общественность; Абдуррахман отправился в горы совещаться с тамошней знатью. За это время мы мобилизовали и других людей, преданных нашему делу. Остается лишь несколько мелочей, но мелочей очень тонких. Однако прежде посмотрите этот проект амнистии. Что вы о нем думаете? Так ли уж необходимо объявлять амнистию?
— Я считаю, необходимо, ваше превосходительство, — сказал Нуредин-бей. — Она произведет благоприятное впечатление на великие державы, так как покажет им, что вы не страшитесь внутренних врагов. С другой стороны, ее с одобрением воспримет народ, он воочию убедится в вашем либерализме и великодушии. Нам следует время от времени делать народу такие уступки. По-моему, мы должны действовать, как рыболовы, когда клюет большая рыбина: до тех пор отпускать и подтягивать леску, пока рыба не устанет, а тогда вытаскивать ее на берег. Тянуть же беспрерывно нельзя, леска может лопнуть.
Президент чуть помедлил в раздумье, потом подписал лежавшую перед ним бумагу.
— Ладно, Нуредин-бей, с этим покончено. Теперь перейдем к другому вопросу. Вы знаете Ферид-бея Каменицу?
— Да.
— Насколько мне известно, вы даже родственники?
— Да, ваше превосходительство, мы троюродные братья.
— В таком случае с вами я могу говорить откровенно. Я был высокого мнения о Ферид-бее, уважал его как патриота, как известного журналиста и труженика на ниве албанской словесности. Как вы знаете, со своей стороны я сделал все, чтобы сблизиться с ним, и был готов предложить ему любую должность, любую помощь, только бы он согласился сотрудничать со мной. Однако до сих пор Ферид-бей не только не принял моих предложений, но и выступает против меня в прессе. Он, несомненно, попал под влияние моих противников. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, я бы так не беспокоился, но ведь Ферид-бей — человек известный, пользуется большим авторитетом как политик, прекрасно владеющий пером. Вы-то знаете, что все его нападки — клевета, но многие верят тому, что он пишет. Самое плохое — что его ничем не остановишь. Вот, посмотрите, это его последние статьи.
Президент взял несколько газет и начал цитировать строки, отчеркнутые красным карандашом:
— «Ахмет Зогу со своими бандитами и под охраной сербских войск спустился с гор и захватил столицу, а палата представителей, или, точнее, палата предателей, сделала его президентом республики».
«Ахмет Зогу — платный шпион сербов и итальянцев, невежда и подлец, лишенный каких бы то ни было идеалов».
«Ахмет Зогу собрал вокруг себя самых гнусных врагов албанской нации, потому что только они были и остаются его восторженными сторонниками».
«Ахмет Зогу подавил элементарнейшие свободы в Албании. Свобода личности так глубоко почитается при его режиме, что народ уже снова напрактиковался в пресловутом притворстве, без которого трудно было обойтись во времена Турции».
Президент с досадой отшвырнул газеты и сердито зашагал взад и вперед по кабинету.
Нуредин-бей испугался. Он никогда не видел президента в таком раздражении.
— Нет смысла продолжать, Нуредин-бей, — сказал президент, с трудом сдерживая гнев. Чтобы успокоиться, он опять закурил и сел на место. — Буквально все его статьи полны такой клеветы. Я не собираюсь опровергать его и вступать с ним в полемику. Мне жаль только, что наш известный соотечественник пишет такие гадости.
А Нуредин-бей подумал, что его троюродный братец в своих статьях не так уж далек от истины и, по всей видимости, неплохо информирован. Но вслух он сказал совсем другое:
— Я уверен, ваше превосходительство, что Ферид-бей плохо информирован о событиях в Албании и тем более о высокой патриотической деятельности вашего превосходительства. Он жертва интриг, которые плетут ваши враги. Стоит ему во всем разобраться и узнать истину, как он сам опровергнет все, что написал.
— Не думаю, Нуредин-бей. Он прекрасно знает, как обстоят дела, но не желает сказать правду.
— Я его знаю как человека мужественного, стойкого. Ради отечества он готов на все.
— Прежде я тоже так считал, но… эти последние статьи заставили меня изменить мнение о нем. Если и дальше так будет продолжаться, мы будем вынуждены принять меры.
Нуредин-бей почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Он знал, что подразумевает президент под словом «меры». Ему живо вспомнились убийства противников режима в стране и за границей, убийства из-за угла, — хоть они и были совершены неизвестными лицами якобы из кровной мести, но все понимали, что это дело рук Ахмет-бея… И он поспешил успокоить президента:
— Я убежден, ваше превосходительство, что Ферид-бей — истинный патриот и для блага своей страны не только прекратит писать такие статьи, но и станет одним из самых горячих наших приверженцев. Ему надо лишь разъяснить обстановку и высокие стремления вашего превосходительства.
Президент заговорил не сразу. Он снова затянулся сигаретой, принял задумчивый вид, потом медленно произнес:
— Не знаю, Нуредин-бей. Мне жаль, что меня не понимает такой патриот, как он, и особенно теперь, когда нация переживает ответственнейший момент. Если вы полагаете, что Ферид-бея можно привлечь на нашу сторону, я готов сделать все для этого.
— Я уверен, что он станет соратником вашего превосходительства.
— Что ж, вам виднее, Нуредин-бей.
— Если вы позволите, ваше превосходительство, я возьму на себя посредничество в этом деле.
— Об этом-то я и хотел просить вас. Никто не сделает это так, как вы. Передайте ему, что я готов забыть прошлое и не только не стану держать зла на него, но ради отечества выполню любое его пожелание.
— Как вам будет угодно!
— Переговорите с ним, предложите все, что сочтете нужным, лишь бы убедить его в наших добрых намерениях.
— Я нимало не сомневаюсь в вашем великодушии.
— Насколько мне известно, — продолжал президент, — в последнее время Ферид-бей переживает финансовые затруднения, ему докучают кредиторы. Мы согласны ему помочь, вернее, это наш долг — помочь ему. Патриотический долг, не так ли, Нуредин-бей?
— Совершенно верно!
— Все его долги мы оплатим из наших личных фондов. Прошу, скажите ему об этом.
— Я все исполню!
— А от моего имени скажите, что он сможет занять любой пост в моем кабинете, если, конечно, пожелает приехать в Албанию.
— Простите меня, ваше превосходительство, но, насколько я знаю, Ферид-бей не собирается в Албанию.
— Почему?
— Да потому, что он вырос за границей, привык жить с комфортом, любит книги, общается с выдающимися деятелями культуры, с художниками. Здесь он, к сожалению, будет лишен всего этого. Поэтому, с вашего позволения, я полагаю, он должен занять другой пост.
— Продолжайте.
— Предложите ему место посланника нашей миссии в Соединенных Штатах. Никто не сможет лучше его представлять ваше превосходительство в этой стране.
— Это очень ответственный пост, Нуредин-бей. На этом посту должен быть верный человек.
— Я думаю, Ферид-бей будет служить вам верно.
— Сомневаюсь. Трудно в это поверить, учитывая его прошлое, его последние статьи.
— И не сомневайтесь, ваше превосходительство. Позвольте мне процитировать вам Макьявелли: государи находят самых верных слуг среди тех, кто поначалу относился к ним настороженно или враждебно, — они вынуждены служить преданно, чтобы исправить неблагоприятное мнение, сложившееся о них.
Президент на несколько мгновений задумался, потом решительным тоном сказал:
— Согласен, Нуредин-бей. Решайте все сами. Когда вы можете выехать?
— Когда прикажете, ваше превосходительство.
— Отправляйтесь сегодня же.
— Как вам будет угодно!
Нуредин-бей встал, собираясь уходить, но президент остановил его.
— Задержитесь, пожалуйста. Я хочу посоветоваться с вами еще по одному делу. Сядьте.
Он встал и принялся ходить из угла в угол. Видно было, что ему трудно начать разговор. Наконец он снова сел.
— Это дело личное, Нуредин-бей, и его надо уладить, так как оно непосредственно связано с нашей государственной политикой. Курите, прошу вас.
— Спасибо!
— Как вы знаете, несколько лет назад я обручился. Я пошел на это, скорее, из политических соображений, и сейчас, несмотря на предстоящие перемены, мне, видимо, придется сдержать слово.
Нуредин-бей помедлил с ответом. Он спрашивал себя: что еще пришло в голову этому выскочке? Его уже не устраивает дочь крупнейшего феодала Албании. Уж не собирается ли он жениться на королевской дочери? Наверняка так оно и есть.
— Я думаю, — произнес он уверенным тоном, — что в новых условиях вы, ваше величество, свободны от обещаний, данных ранее. Причина, побудившая вас дать это обещание несколько лет назад, больше не существует. Кто станет вашей супругой — теперь не только ваше личное дело, оно имеет теперь политическое и общенациональное значение.
— Все это так, но и разрыв помолвки тоже вопрос политический. Вы знаете, это ведь не кто-нибудь, а сам Шевтет-бей Верляци. Что, если он почувствует себя оскорбленным и выступит против нас?
— Вряд ли, ваше превосходительство. Шевтет-бей — крупный феодал, это правда, но он не случайно к вам присоединился. Макьявелли говорил, что, когда знать не в состоянии противостоять народу, она объединяется и выдвигает из своей среды государя, чтобы иметь возможность его именем осуществлять свои цели. Государем в нашей стране являетесь вы. Шевтет-бей прекрасно знает, что без вас, и уж тем более против вас, его дело пропащее. А поэтому, хочешь не хочешь, надо вести себя смирно. Он не решится отойти от вас.
— Все это так, Нуредин-бей, но люди не всегда руководствуются здравым смыслом. Мы, албанцы, часто оказываемся жертвами страстей. Стоит затронуть наше самолюбие, и мы теряем рассудок.
— Возможно, но Шевтет-бей — опытный политик, и я не думаю, чтобы он утратил выдержку. Во всяком случае, ваше превосходительство, я думаю, его надо предупредить о том, что может с ним произойти, если он решится на какие-нибудь опрометчивые действия. Было бы хорошо, если бы наша печать вскользь упомянула об аграрной реформе. А еще лучше создать правительственную комиссию по этому вопросу, хотя бы для проформы. С одной стороны, это надолго утихомирит крестьян, а с другой — и это самое главное, — наши беи и феодалы почувствуют, что их собственность под угрозой и еще теснее объединятся вокруг вас. Они ведь знают, ваше превосходительство, что, пока во главе государства стоите вы, им нечего беспокоиться за свои владения.
— И когда, по вашему мнению, следует объявить о разрыве помолвки?
— Сразу же, как только всем станет известно, что вы, ваше превосходительство, будете провозглашены монархом. Шевтет-бей и сам сообразит, что этот брак неосуществим.
— Благодарю вас, Нуредин-бей. Счастливого пути, — сказал президент, поднимаясь и протягивая руку. — По поводу финансирования вашей поездки зайдите к Фейзи-бею. Я распоряжусь. До свидания!
Из кабинета президента Нуредин-бей вышел довольный. Он уже предвкушал приятное путешествие за океан. В коридоре он столкнулся с красивой женщиной и низко ей поклонился.
— Добрый вечер, госпожа Клара! — сказал он по-турецки.
— Добрый вечер, Нуредин-бей!
— Как ваше здоровье? Как поживает Садия?
— Спасибо, хорошо!
Он спросил о Садии, памятуя о том, что президент очень любит эту девочку, которую даже назвал в честь своей матери. Нуредин-бей был свой человек во дворце и знал, что его превосходительство любит ее не только из-за имени.
Он вышел, а женщина без стука вошла в кабинет президента.
IV
Президент посмотрел на часы и нахмурился. Уже за полночь. Скоро рассветет. Он снова зашагал по комнате с сигаретой в руке. Сейчас, в пижаме, он утратил ту элегантность, которой все завидовали.
Она, лежа на спине, равнодушно рассматривала игривую роспись потолка в президентской спальне. Что он все ходит, ходит, а к ней не подойдет…
Потушив сигарету, он взглянул на нее.
— Что с тобой сегодня, дорогой?
Настоящая красавица, с бархатными глазами и мелодичным голосом, она говорила по-турецки, и в ее устах речь звучала музыкой.
— Я должен сообщить тебе одну неприятную вещь, Клара.
Она, побледнев, приподнялась на постели; грудь ее обнажилась.
— Мы должны расстаться, дорогая.
Она натянула одеяло, прикрывая грудь. Кровь бросилась ей в лицо, она смотрела на него в растерянности, приоткрыв рот. В эту минуту она показалась ему еще желаннее, и президент, запнувшись, замолчал. Но она не заметила его смятения. Расстаться? Она мечтала всегда быть с ним вместе, стать его женой. Ее муж был гораздо красивее, воспитаннее и добрее, но она бросила его. Этому человеку она подарила своего первенца, прелестную девочку, так похожую на него.
— Расстаться! — воскликнула она. — Но почему?
— По причине государственной важности я вынужден прекратить наши отношения. — Говоря это, он старался не встречаться с ней взглядом. — Мне тоже трудно, Клара, но я вынужден так поступить.
— Я не понимаю, mon cher. — Она старалась говорить спокойно и ласково. — Почему мы должны расстаться? Что это за государственная причина?
— Я не уполномочен говорить.
Кто же мог уполномочить его, президента республики?
— Вы мне обещали… — начала она жалобно.
— Я тебе ничего не обещал. — прервал он.
— Нет, вы мне обещали. Разве вы не говорили, что, если бы я не была замужем, вы женились бы на мне?
— Говорил, но ты была замужем.
— Но ведь сейчас нет!
— А сейчас ты вдова.
— Сейчас я свободна.
— Да. Ты свободна!
Слово «свободна» он произнес с издевкой, и она почувствовала комок в горле.
— Да, госпожа, вы свободны, но это ничего не меняет. Так или иначе мы должны расстаться. Вы прекрасно знаете, что мое положение не позволяет мне жениться, на ком мне захочется.
— Ну хорошо, милый, — покорно, почти умоляюще сказала она. — По государственным причинам ты не можешь на мне жениться, но я не понимаю, почему нам надо расстаться?
Он опять закурил и сказал сухо, будто речь шла о чем-то постороннем.
— Я сегодня прочел полицейский протокол о несчастном случае с вашим мужем.
Побледнев, она выпустила из рук одеяло, вскрикнула:
— Неправда!
— Что неправда?
Она закрыла лицо руками и разрыдалась.
Но он не стал ее успокаивать. Раздвинул шторы и, устремив взгляд в предрассветный сумрак, продолжал говорить:
— Теперь вы понимаете, госпожа, почему мы должны расстаться? Я вам раньше ничего не обещал, а сейчас обещаю: этот протокол будет уничтожен и вы, как прежде, будете свободны. Свободны, вы догадываетесь, что я имею в виду?
Она приподняла голову, спросила:
— А как же я буду жить здесь, в чужой стране?
— Будете получать пенсию за мужа. Если хотите, можете вернуться на родину.
— А Садия? Вы же знаете, что она…
Он резко обернулся и в нерешительности посмотрел на нее, потом сказал:
— Ее вы возьмете с собой.
— Нет, я не хочу возвращаться на родину.
— Тогда оставайтесь.
— Мы могли бы по крайней мере остаться друзьями, — просительно сказала она. — Ради нашей дочери.
Он не ответил.
Продолжал смотреть в окно.
В рассветной дымке прочерчивались контуры горы Дайти.
V
Гафур-бей взглянул на бумагу и брезгливо, словно грязную тряпку, отодвинул ее от себя кончиками пальцев. Потом, позвонив, приказал:
— Пусть войдет Вехби Лика!
Ожидая господина Вехби, он подошел к шкафу, достал бутылку раки,[16] налил рюмку и выпил. «Вон как обернулось дело, — размышлял он, наливая себе еще. — Кто бы мог подумать, что этот неотесанный байрактар так далеко пойдет? Король! Скажи мне кто-нибудь лет семь-восемь назад, когда этот невежда только начинал свою карьеру, что в один прекрасный день он станет королем, да я бы его на смех поднял. Ладно, если бы он был знатного рода, но ведь это сын Джемаль-паши, который Албанию-то и в мыслях никогда не держал. А вот теперь я должен быть его лакеем и поминутно называть его ваше величество. Или, может, ваше высокое величество? Почему бы и нет? Предложу-ка я именовать его официально „ваше высокое величество“! Он будет польщен, а издевки не заметит».
— Войдите!
Низенький, мешковато одетый человек, с длинным носом на узком лице и с жидкими волосами, показался в дверях, держа в руке поношенную шляпу.
— А-а, господин Вехби, прошу вас. Как самочувствие? — спросил Гафур-бей по-турецки.
Человек низко поклонился и по-турецки ответил:
— Очень хорошо, благодарствую, Гафур-бей. А ваша милость как себя изволит чувствовать?
Гафур-бей больше любил говорить по-турецки, но, вспомнив, что он все-таки чиновник на службе албанской республики, ответил по-албански:
— Хорошо, Вехби-эфенди, хорошо, присаживайтесь.
Тот робко присел, положив шляпу на соседний стул.
— Прежде всего, Вехби-эфенди, давайте выпьем по рюмочке. Надеюсь, вы не против, — сказал Гафур-бей, ставя на стол бутылку и две рюмки. — Ну, будем здоровы!
— Будем здоровы, Гафур-бей!
— Еще по одной?
— Нет, благодарствую.
— Да уж выпейте еще одну.
— Спасибо!
— Ну а сейчас слушайте, зачем я вас позвал. Дело очень тонкое, и если хотите знать, я выбрал именно вас, потому что желаю вам добра. Ведь мы были друзьями, кажется, мы даже какие-то дальние родственники.
— Позвольте заметить, бей, мы действительно родственники по материнской линии!
— Вот-вот! Я и хочу, как родственнику, помочь вам.
— Благодарствую!
— Вы только что из Турции, не так ли? Наверняка вернулись на родину для того, чтобы еще лучше служить ей. Вы же знаете, что Албании нужны умные люди, талантливые журналисты вроде вас.
— Именно так, Гафур-бей, — с жаром поддержал Вехби-эфенди. — Вы меня правильно поняли. Я всю жизнь мечтал трудиться на благо отечества. И теперь, когда Албания наша, мы должны засучив рукава трудиться денно и нощно, должны жертвовать всем, даже жизнью, ради Албании.
Гафур-бей в упор посмотрел на него, его губы искривились в легкой усмешке. Он знал своего «родственничка» как свои пять пальцев. Этот прохвост никогда и думать не думал об Албании… Этот разговор он завел, чтобы поиздеваться над ним, но тот будто и не заметил насмешки и ответил в тон, таким образом сведя всю его иронию на нет.
— Я-то вам верю, Вехби-эфенди, я-то знаю, какой вы пламенный патриот. А между тем здесь, у нас — я имею в виду Албанию, — находятся люди, которые думают, будто вы приехали лишь потому, что вас выгнали из Турции, что тамошние газеты якобы вам отказали — одним словом, что вы были им не нужны.
— Это неправда, Гафур-бей, — возразил его собеседник. — Турецкие газеты отказывались печатать мои статьи потому, что я всегда отстаивал истину, боролся за свои идеалы. Обидно, как меня здесь не понимают. Я всю жизнь страдаю от того, что меня не понимают.
— Это так, Вехби-эфенди, но вам пришлось бы еще хуже, если бы вас понимали. Ну да ладно, оставим это. Я вас позвал сюда не для того, чтобы выслушивать вашу биографию. Я намерен поговорить с вами про другую биографию, которую вы должны сочинить.
— Сочинить биографию?
— Да, я думаю, у вас это получится.
— Я не историк, Гафур-бей.
— Знаю, что не историк, но как журналист вы уже доказали, что можете сочинить все что угодно. Нет-нет, никаких возражений. В вашем ремесле есть свои секреты. Я буду краток. Дело вот в чем… Но, прошу вас, выпейте еще рюмочку.
— Спасибо!
— Прежде чем сказать вам, что надо делать, хочу предупредить: все, что я скажу, должно остаться между нами. Никому ни слова. Это государственная тайна.
— Будьте уверены, Гафур-бей. Все, что…
— Не надо. Я уверен, что вы умеете держать язык за зубами. Итак, начнем. В нашей стране скоро изменится форма правления, вы меня понимаете?
Вехби-эфенди растерянно молчал.
— Нет, не понимаю, — наконец выговорил он.
— Поясню: в Албании будет провозглашена монархия. Эта форма правления традиционна для нашей страны, к тому же ее требует современная политическая обстановка, поскольку Албания, как республика, не может существовать в окружении монархий. Этого хотят и великие державы. Они считают, что монархия может пресечь распространение коммунизма. Изменение формы правления укрепит независимость нашей страны и высоко поднимет авторитет албанского государства…
Подробно разъясняя мотивы, по которым будет изменен режим, Гафур-бей рассчитывал на то, что человек, выбранный им, не удержит в тайне ничего, а пойдет болтать направо и налево.
— Какая радость, Гафур-бей, — сказал Вехби-эфенди, выслушав до конца своего родственника. — И так рад! Я всегда был убежденным монархистом.
Гафур-бей взглянул на него, и губы его снова сложились в ироническую улыбку. Вехби-эфенди врал без зазрения совести. Не так давно в Турции он разразился статьями против монархии, в защиту Турецкой республики.
— Но, простите меня, позвольте полюбопытствовать, кто будет королем?
— Вот кто, — ответил бей, подтолкнув к нему бумагу, лежавшую перед ним.
Увидев вытянувшееся от изумления лицо журналиста, Гафур-бей спросил:
— Что, не нравится?
— Наоборот, Гафур-бей. — Вехби Лика поспешил выказать свой восторг. — Это единственный албанец, который достоин такой чести, единственный человек, который заслуживает того, чтобы быть посажен… чтобы сесть на трон Скандербега.[17] Это гениальнейший представитель нашей нации. Я очень рад, что настал наконец этот день. Я всегда мечтал…
— Правда? — усмехаясь, спросил Гафур-бей по-турецки.
— Да, Гафур-бей, правда, — ответил Вехби серьезным тоном и добавил, будто в неудержимом восхищении: — А какой он представительный! Настоящий король!
— Вы меня удивляете, Вехби-эфенди.
— Чем?
— Уж очень вы быстро все схватываете.
— Гафур-бей, я журналист и пристально следил за событиями в Албании, особенно за деятельностью его превосходительства, президента республики, и то, что я увидел, сделало меня его искренним сторонником. Вот человек, который нужен Албании, сказал я себе еще в самом начале, когда его звезда только показалась в созвездии албанских политиков. Я бесконечно счастлив служить нашему новому королю.
— Что ж, начинайте службу! Напишите его биографию. Нам нужна биография, достойная короля. Это должна быть официальная биография его величества, вы меня понимаете?
— Да, но…
— Это должно быть самое лучшее из всего, что вы писали до сих пор, ваш шедевр. Этот шедевр станет для вас ступенькой на пути к высшим постам в королевстве, ключом, который откроет двери вашей карьеры. Поэтому вы, должно быть, догадываетесь, что, остановив на вас свой выбор, я вам по-родственному помогаю.
— Еще раз благодарю вас, но…
— Что но?
— Э-э, Гафур-бей, — смешался тот, вертя в руках бумагу. — Я сказал, что пристально следил за деятельностью его превосходительства, и о многом имею ясное представление. Но, как бы вам сказать, — у меня нет сведений о раннем периоде его жизни, о некоторых подробностях его карьеры, о его семье. Вы знаете, что семья для монарха имеет особое значение. Он не может происходить из рядовой семьи, а должен быть потомком или членом высокого рода, наследником прославленных в истории деятелей. Надо найти и изучить все документы. Чтобы их разыскать, потребуется время и расходы.
«Документы он найдет, как же! — подумал бей и про себя выругался. — И кому он это говорит, скотина! Будто я не знаю, что, если понадобится, этот писака и меня „документально“ сделает прямым потомком Чингисхана!»
Родственник выводил его из себя чрезмерным притворством, но он сдержался и встал, давая понять, что разговор окончен.
— Документы разыщете сами, Вехби-эфенди. Возьмите бумагу с собой. Здесь основные данные: когда родился, отец, мать, дед, основные этапы деятельности и т. п. Проконсультируйтесь у господина Абдуррахмана Кроси — духовного отца его превосходительства. Он может о многом рассказать вам: о матери и т. д. Я вам устрою встречу с ним.
— Благодарю!
— Вот все, чем я могу помочь в этом деле. Если хотите, дам вам один совет.
— Разумеется!
— Не будьте слишком щепетильны. Оставьте будущим историкам гадать и препираться из-за подробностей.
— Да, Гафур-бей, но…
— Не забывайте, что историю делают не герои, а историки, они ее пишут, ясно?
— Да-да!
— Что касается денег, зайдите в канцелярию. Я там распорядился насчет аванса.
У Вехби-эфенди заблестели глаза, потирая руки, он повторил:
— Благодарю!
— Вот, пожалуй, и все, Вехби-эфенди, — сказал Гафур-бей, протягивая ему руку. — Советую вам, как родственник: займитесь этой биографией всерьез. Не жалейте эпитетов, высоких слов и звучных фраз. До свиданья!
Как только журналист исчез за дверью, Гафур-бей достал платок и вытер руки, словно на его ладонях остались пятна от прикосновения к бумаге и от рукопожатия Вехби-эфенди. Потом налил еще рюмку раки.
VI
Ферид-бей Каменица расплатился с шофером, вылез из такси и направился к своему особняку.
Нуредин-бей вслед за ним поднялся по ступенькам веранды. Он внимательно оглядел небольшой сад, обнесенный решеткой. На другой стороне асфальтированной улицы был парк, за ним упирались в небо многоэтажные дома. Даже сейчас, поздно ночью, бесчисленные огни сияли в окнах. Издалека, с центральной улицы, приглушенно доносился шум машин.
Ферид-бей не отнимал пальца от кнопки звонка.
Оба они были во фраках — возвращались с официального приема. Ферид-бей был навеселе: цилиндр, сдвинутый на затылок, открывал светлые с проседью волосы, на шее шелковый шарф, один конец которого переброшен через плечо.
— Может, она заснула, Ферид-бей?
— Не думаю. Который час? — спросил Ферид-бей, еще раз нажимая на кнопку звонка…
— Скоро два. А у вас нет своего ключа?
— Ах да! Кажется, есть.
Он стал шарить по карманам, но в этот момент дверь отворилась. Перед ними стояла миловидная девушка в распахнутом халатике, из-под которого виднелась ночная рубашка. Увидев Ферид-бея, она сделала движение, чтобы обнять его, но, заметив вдруг Нуредин-бея, вскрикнула от неожиданности, попятилась и, запахнув халат, кинулась через холл в свою комнату.
Ферид-бей засмеялся.
— Даже мисс Мэри поражена твоим внезапным визитом, братец. Прошу!
Он указал гостю на вешалку, сам же швырнул цилиндр в кресло, шарф — в другое, а перчатки — на стол.
В гостиной Нуредин-бей с интересом посмотрел на стеллажи, набитые книгами в роскошных переплетах, потом опустился в кресло, на которое ему указал хозяин дома.
— Наконец-то мы одни, братец, — сказал Ферид-бей. — Что будем пить?
— Я не буду, Ферид-бей, мы уже и так много выпили.
— Тогда кофе?
— Как хотите.
— Надеюсь, мисс Мэри уже пришла в себя, — сказал Ферид-бей, поднимаясь, чтобы нажать кнопку звонка около камина.
Некоторое время они молчали, неподвижно сидя друг против друга.
Вошла мисс Мэри в черном платье с белым передником и поклонилась.
— Добрый вечер, господа!
— Добрый вечер, мисс Мэри! — сказал Ферид-бей. — Извините, что побеспокоили вас в такое время. Разрешите представить вам моего друга, Нуредин-бея Горицу. Вы знаете, он на родине что-то вроде визиря или министра и, по-моему, мы троюродные братья. Нуредин-бей, мисс Мэри — моя хозяйка.
Мисс Мэри с улыбкой сделала книксен. Нуредин-бей кивнул в знак приветствия, не приподнимаясь, однако, со своего места. И знакомство ему совсем не понравилось. Он заметил иронию, если не насмешку, в глазах Ферид-бея и почувствовал себя не очень-то уютно. Чего это ему вздумалось представлять свою служанку? Было ясно, что мисс Мэри не только служанка, но так или иначе незачем его с ней знакомить.
Ох, как нелегко было Нуредин-бею разговаривать с Ферид-беем, воспитанным в западном духе. Он и сам вырос за границей, подвизался при дворах, имел довольно большой дипломатический опыт, но с «братцем» чувствовал себя робким провинциалом. Тот подавлял его своей независимостью, уничтожал тонкой иронией. И вот сейчас ему предстоит очень трудный разговор с этим человеком. Как же к нему приступить?
— Мисс Мэри, сварите нам кофе, пожалуйста. Его милость любит не очень сладкое.
— Хорошо!
Мисс Мэри ушла, но разговор не завязывался.
— Удивительный народ эти американцы, — заговорил Нуредин-бей только для того, чтобы прервать молчание и перейти к делу.
— Чем же?
— К чему такая церемония с вручением цилиндра?
— Было бы совсем неплохо, если бы и в Албании существовали такие церемонии, — ответил Ферид-бей. — По крайней мере это лучше, чем турецкие обряды ваших ходжей и византийские — вашего православного духовенства. К сожалению, мы, албанцы, привыкли к диким ритуалам дервишей и нам трудно понять простую символику таких церемоний, как сегодняшняя.
— И вы дорожите призом, который вам вручили?
— Дорожу, и даже очень! — сказал Ферид-бей. Видимо, он и вправду им дорожил, так как ответил очень серьезно, с оттенком возмущения тем, что его гость задает, а ему приходится отвечать на такие глупые вопросы. — Этот цилиндр, братец, вручается раз в год самому интеллигентному и образованному джентльмену Америки. Я поднял престиж Албании, получив этот цилиндр. Я, албанец, получил в этом году high hat,[18] а до меня его получали наиболее известные люди страны, и даже их президент. Теперь никто не посмеет назвать нас варварами.
— Поздравляю, Ферид-бей! Вы действительно поднимаете престиж нашей Албании. Никто не сомневается в вашей образованности и способностях. Во всем мире вас знают как выдающегося человека, а в Албании — еще и как большого патриота. Я сожалею лишь об одном.
— О чем же?
— Что ваши знания, талант и образование не служат отечеству.
— А разве то, что я делаю здесь, не служение Албании?
— Да. Но мне всегда казалось, что, если бы ваша милость приехали в Албанию и взялись за дело, вы многое могли бы изменить.
— Вряд ли я смогу жить в стране невежд, Нуредин-бей. Албанцы — полудикий народ: они неграмотны, забиты, тупы, мстительны. Таким людям, как я, не место среди них. Возьмем, к примеру, моего друга епископа. Он человек образованный, а чего добился? Понимает ли его кто-нибудь в Албании?
— Вы другое дело, Ферид-бей. Вы из нашего круга. Вас поймут.
— Не думаю, Нуредин-бей. Албании больше подходит Ахмет-бей. Невежественным народом надо и править самыми грубыми методами, а это легче делать невежде, неучу. Каковы овцы, таков и пастух.
— Я удивляюсь вам, Ферид-бей. Почему у вас такое мнение о нашем президенте? Он не…
— Оставьте, Нуредин-бей, каждый кулик свое болото хвалит… Ахмета Зогу вы знаете лучше меня, поэтому давайте не будем приукрашивать, ведь мы с вами одни. Я не отрицаю, он большой ловкач и многого добился, с чем его и поздравляю; оказался пронырливее, изворотливее и хитрее других прохвостов, пытавшихся оседлать Албанию. Но во всем остальном он невежда, и не пытайтесь убедить меня в обратном…
— Невежда не смог бы добиться того, чего добился он…
— Почему бы и нет, когда у него такие умные советники, как ваша милость.
— Вы неправы, Ферид-бей. Конечно, мы помогаем ему советами и решаем некоторые технические вопросы, но сам он поражает нас своими способностями. Это очень волевой, практичный, дальновидный, смелый…
— Ну естественно. Если бы он не был таким, разве сумел бы так подчинить себе всех вас. Но от этого он не перестает быть невеждой и тупицей…
— Не стоит снова перечислять эпитеты. Я уже встречал их в ваших статьях. И он их тоже читал.
— Да ну! Просто поразительно! Вот уж не предполагал, что ваш президент читает газеты. Я думал, он вообще не умеет читать.
— Вот видите! Вас неправильно информировали, Ферид-бей, а потому…
— Ваша милость пожаловали сюда, чтобы правильно меня проинформировать, я угадал?
— Может.
— Не «может», а «может статься».
— А не лучше ли «может быть», Ферид-бей?
Ферид-бей засмеялся.
«Начало неплохое», — подумал Нуредин-бей. Ферид-бей любил пошутить. Он был насмешлив и любил подтрунивать над собеседником, но как джентльмен — ведь таковым он себя считал — умел с достоинством выслушать любую ядовитую шутку по своему адресу. Поэтому игра слов, задевшая его пристрастие к стилистике албанского языка, судя по всему, пришлась к месту.
Мисс Мэри внесла поднос и разлила кофе по чашкам.
— Что нового, мисс Мэри?
— Мистер Симпсон приходил после обеда…
— И что он ко мне привязался, этот мистер Симпсон!
— Он сказал, что…
— Не надо, Мэри, не имеет значения, что сказал мистер Симпсон.
— Еще приходил мистер Бейкер…
— Какой еще к черту мистер Бейкер?
— Бакалейщик, сэр. Он сказал, что…
— Нет, нет, прошу вас, Мэри, оставьте. Зачем утомлять нашего гостя всякой ерундой про мистера Симпсона и мистера Бейкера. Можете идти. Господину Нуредин-бею постелите в комнате для гостей. Покойной ночи!
— Покойной ночи, сэр!
Нуредин-бей проводил глазами мисс Мэри, пока та не скрылась за дверью.
— Какие ножки, — заметил он.
— Неужели? Не замечал.
— Странно, Ферид-бей, ведь вы такой поклонник красоты.
— Да, Нуредин-бей, но, оценивая женщину, надо смотреть сверху вниз. Сначала лицо, потом… Словом, до ножек я еще не добрался.
— Желаю вам не застрять на полпути, Ферид-бей.
Ферид-бей снова рассмеялся. Ему пришлась по душе и эта шутка.
— Поздравляю, Нуредин-бей. Я вижу, вы отточили свой юмор. Да и не удивительно, ведь вы живете среди шутов.
Улыбка исчезла с лица Нуредин-бея, он не сразу нашелся, как ответить на эту ехидную насмешку. Он понимал: в остроумии Ферид-бея ему не одолеть, а потому решил принять серьезный тон и перейти к сути своей деликатной миссии. Того же, очевидно, ждал и Ферид-бей, который вдруг сказал:
— Довольно о ножках мисс Мэри, Нуредин-бей. Я полагаю, вы переплыли океан не для того, чтобы поговорить о ее ножках.
— Вы правы, Ферид-бей. Я приехал поговорить не о ее ножках, а о ее напоминаниях вам про мистера Симпсона и мистера Бейкера.
— Правда?
— Этим озабочен даже сам президент. Оставим шутки и намеки, Ферид-бей, и приступим к сути дела.
— Вот это мне нравится. Мне тоже хотелось бы проникнуть в самую что ни есть суть.
— В ближайшее время в Албании произойдут крупные перемены. Меня сюда послал Ахмет-бей для переговоров с вами. Не годится, чтобы известнейшие люди нашей страны продолжали злиться из-за прошлогоднего снега. Сейчас его превосходительство нуждается в вас, а вы в нем.
— Его превосходительству, видно, уже сообщили, в чем я нуждаюсь.
Ферид-бей никак не мог обойтись без иронии.
— Да, и он готов выполнить любое ваше условие.
— Благодарю его превосходительство за заботу, которую…
— Ферид-бей! Ну почему вы так плохо о нем думаете? Он прекрасный человек, великодушный, щедрый, патриот…
— Я знаю все, что вы можете сказать о нем…
— А я отлично знаю все, что думаете о нем вы. Вот, к примеру, что вы писали о нем: «Ахмет Зогу — это всего лишь дубинка в руках сербского и итальянского правительств», «Ахмет Зогу, самозваный глава республики, собирается открыть албанскую скупщину, палату бессловесных», «Албания попала в руки людей, которые привыкли относиться к ней как к своей вотчине, продавая ее всякому, кто больше заплатит. Ныне Ахмет Зогу заключил сделку о продаже ее Италии», «Правительство Ахмета Зогу — правительство Албании, но не албанцев», «У Ахмета Зогу…»
— Поздравляю, братец. У вас великолепная память. Я и сам уже позабыл, что писал о нем.
— Ваши статьи полны именно такими оборотами. А уж о его соратниках…
— О, не напоминайте мне о них! Тут и я могу повторить все, что писал. Да. «Гилярди — прожженный авантюрист. Таф Казиу и Бази из Цаны — самые обыкновенные преступники. Ильяз-бей — пропойца, готовый продать Албанию за рюмку раки». Уж не собираетесь ли вы защищать и этих мерзавцев? Или, быть может, вы станете отрицать, что Мюфит-бей Либохова сказал: «Моя честь мне дороже чести Албании»?
— Нет, я не собираюсь их защищать. Может, вы и правы в отношении кое-кого из его окружения, но сам-то он совсем не такой.
— Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
— И все же он благороден и великодушен настолько, что не сердится на вас, несмотря на ваши выпады по его адресу. Он убежден, что вы были неправильно информированы.
— Возможно. Ну и какие же крупные перемены должны произойти в Албании? Уж не собирается ли матьянский бей провозгласить себя королем? Ба!.. Да я, кажется, попал в точку! Вы хотели поразить меня, а вышло наоборот!
— Откуда вы знаете?
— Ничего я не знаю. Я просто это предвидел. Помните, я писал в одной своей статье: он так тщеславен, что вряд ли удовольствуется титулом президента. Разве вы не читали?
— Нет, не читал.
— И чего же хочет от меня его будущее величество?
— Немного — чтобы вы поддержали его. А за это…
— Он готов купить меня любой ценой.
— Но надо, Ферид-бей. Я этого не говорил. Он хочет помириться с вами во имя Албании. Выступая против него, вы как патриот и политик ничего не выигрываете, а, присоединившись к нему, выиграете многое: сможете, если захотите, получить любой портфель или даже стать премьером.
— Если бы я хотел жить в Албании, то давно бы уже был там.
— Никто не заставляет вас возвращаться в Албанию. Такого условия он вам не ставит. Хотите — оставайтесь здесь.
— Ну да. Притаиться в уголочке, сидеть смирно и довольствоваться его подачками.
— Нет. Для вас есть хорошая работа. Как вы знаете, место посланника албанской миссии свободно. Кто лучше вас справится с этим? Вы знаете страну, дружите с известными людьми, лично знакомы со многими государственными деятелями, и даже с самим президентом. Вы, по общему мнению, человек незаурядный, образованный. Это место создано для вас. Соглашайтесь, и вы тут же будете избавлены от Симпсонов и Бейкеров, получите возможность жить так, как вы привыкли.
— Вы предлагаете это от своего имени?
— Ну что вы! Меня уполномочил сам президент. Я бы ни за что не додумался до этого.
— Не такой уж он и тупица, ваш президент.
— Наоборот. Он самый выдающийся человек в Албании.
— Возможно.
— Он поручил мне все обговорить с вами и решить.
— Не торопитесь, братец. Такие дела сразу не решаются. Расскажите-ка мне, как обстоят дела в Албании.
Нуредин-бей принялся обстоятельно рассказывать о положении дел и о политических деятелях в Албании. Он не жалел красок, чтобы представить в радужном свете действия своего президента, подчеркивая его «высокие патриотические мотивы». Ферид-бей то и дело перебивал его вопросами. Наконец он встал с кресла и, походив из угла в угол, заключил:
— Да. Теперь я вижу: Ахмет-бей — полновластный хозяин Албании. Любая попытка свергнуть его в нынешних международных условиях — преступление против Албании. Народ мечтал о спокойствии и порядке, Ахмет-бей их обеспечил, а став королем, упрочит окончательно. Да, наш президент действительно крупный политик.
— Я рад, Ферид-бей, — живо отозвался Нуредин-бей. — Ваши слова означают, что мы договорились. Только что вы называли его моим президентом, а сейчас, слава богу, признали и своим.
— Да. Почему бы мне его не признать? Мы должны показать миру, что албанцы — единая нация и сами могут управлять своей страной. Хватит с нас восстаний и заговоров. В этом мы сходимся с Ахмет-беем.
— Так может говорить лишь истинный патриот Албании. А когда вам станет известно, Ферид-бей, каким высоким патриотизмом проникнуты все его помыслы, то и во всем остальном вы согласитесь с ним. Ведь Ахмет-бей так озабочен вашими статьями не потому, что они направлены против него лично, — они затрагивают нацию в целом. Ему жаль, что такой уважаемый патриот, как вы, которого он считает своим учителем, стал жертвой происков его политических врагов. Хотите, я дословно повторю наш с ним разговор о вас? «Господина Ферид-бея Каменицу, — сказал он, — я ценю, уважаю и считаю своим учителем. Мне очень жаль, что он меня не понимает. Мои враги там, вдали от Албании, умышленно ввели его в заблуждение. Но ничего. Во имя родины, во имя Албании…» Кстати, Ферид-бей, он произносит не Албания, а Албанэия, по-матьянски, но не в этом дело. Он всей душой предан родине. Так на чем я остановился?… «Во имя Албании, — сказал он, — я забуду все оскорбления в мой адрес. Главное, чтобы Ферид-бей поверил в мои патриотические устремления. Я хочу ему доказать, что мы, албанцы, в состоянии управлять своей страной. И если Ферид-бея беспокоит то, что у нас пока нет демократии, он должен понять, что стране сейчас нужна сильная рука для обуздания анархии и искоренения большевизма. Разве я виноват, что история возложила это бремя именно на меня? Могу заверить господина Ферид-бея, что со временем мы ослабим гайки и будем управлять самыми демократичными методами».
Произнеся длинную тираду, Нуредин-бей ощутил облегчение, будто сбросил с плеч тяжелый груз. Он чувствовал, что его слова находят в душе Ферид-бея отклик, заставляют задуматься.
— Удивляюсь только, братец, откуда взялась у этого нашего неуча такая сообразительность. Здесь ведь не обошлось без вас, а?
Нуредин-бей самодовольно усмехнулся. Теперь его родственник запел по-другому. Если он снова и назвал президента «неучем», то со словом «наш» это прозвище звучало не оскорбительно, а ласкательно.
— Вы его недооцениваете, братец. Может, его превосходительство и не очень образован, но зато большой политик. Вот, например, недавно он заговорил со мной о разрыве помолвки с дочерью Шефтета Верляци. Мне бы такое даже и в голову не пришло, а он дальновиднее, он и это принял в расчет.
— И что же он решил?
— Разорвать.
— Правильно! Теперь, когда он станет королем, ему нужна другая жена. По-моему, ему следовало бы жениться на дочери какого-нибудь американского миллионера. Есть много миллионерш, мечтающих о высоких титулах. Американские миллионы пополнили бы казну нового королевства.
— С вашей помощью можно это устроить.
Ферид-бей прыснул со смеху.
— Браво, Нуредин-бей! Нет, вы только подумайте! Поначалу мне предлагаете стать посланником, то есть его лакеем, а теперь требуете, чтобы я пошел в сваты! А взбредет в голову его величеству завести гарем на манер восточных султанов, так, может, вы меня туда евнухом препроводите?
— Ну зачем вы так, Ферид-бей. Вы же сами подали идею — женить его на американской миллионерше. — Нуредин-бей был недоволен таким поворотом в разговоре, поэтому поспешил снова заговорить о своем президенте. — Мы остановились на достоинствах Ахмет-бея. Я абсолютно уверен, что он гений. Судите сами. Недавно я начал разъяснять ему Макьявелли. И представьте, не прошло нескольких месяцев, как он стал поражать меня такими толкованиями и практическими выводами, до которых я никогда бы не додумался!
— Здесь нечему удивляться, Нуредин-бей. В Албании любой байрактар, бейчик усваивает Макьявелли еще с пеленок. Был бы жив Макьявелли, он бы многому сумел поучиться в Албании. Мы народ замкнутый и не можем объективно судить о себе, но зато имеем богатый опыт в политике, ведь мы наследники Рима, Византии и Турции. От Турции мы унаследовали систему правления. Всем известно, что турецкая система правления — наихудшая в мире, а мы взяли у этой системы все самое плохое.
— Может быть, и так, Ферид-бей, и все же Ахмет-бей неподражаем, он гений.
— Хотя Албания и заслуживает лучшего… Ах, если бы ее возглавлял кто-нибудь подостойнее!
— Мы сами виноваты. Вы помните, как я просил вас тогда…
— И не напоминайте. Если бы я вас послушался, был бы сейчас… эмигрантом в Европе, над рекой, как епископ. Вы читали его стихи? Над рекою, да над Шпрее, ра-та-та-та та-та-та.
— Так или иначе, надо думать о будущем. Как вы считаете?
Ферид-бей не ответил.
Он съежился в кресле, упершись подбородком в ладонь, и глубоко задумался.
Он был ужасно зол на себя. Как хотелось ему остаться противником «невежды горца», без пяти минут короля. Это возвысило бы его как человека, преданного родине и демократии, и, кто знает, открыло бы перед ним широкую перспективу. Его остроумные издевки над самозванным королем принесли бы ему славу талантливого журналиста. Но он понимал, что не может себе это позволить, — слишком дорого ему обойдется. Комфорт, избранное общество известных художников и деятелей культуры, любимые книги по философии — вот к такой жизни он привык. А разве будет доступно ему все это без денег? Когда-то полученное наследство уже давно растрачено, и теперь он живет на деньги, что ссудили ему земляки, но надолго ли хватит этих денег при том образе жизни, который он ведет? Ему нужно столько денег, чтобы они, как воздушный шар, подняли бы его наверх, в high life[19] американского общества. Если сейчас он не примет предложения, сделанного братцем от имени «неуча», надо будет все равно где-то искать работу. Ему как-то предложили отправиться в Китай — преподавать английский язык, посулили «приличный оклад и виды на будущее», но Китай далеко, а он не может жить без интересного общества. Можно, конечно, найти работу и здесь. Образованный и способный журналист, он мог бы устроиться в одну из крупных газет, но тут ему придется тянуть лямку, оставаясь в тени, смешавшись с рядовым людом. Он будет вынужден отказаться от привычного уклада жизни, от своего особняка, снять квартиру подешевле и, уж конечно, расстаться с прелестной Мэри. Ведь она наверняка бросит его, как только узнает, что денег у него нет. «Нет, нет и тысячу раз нет, — решил он про себя. — Жизнь дается один раз, зачем же ее портить и осложнять из-за каких-то принципов, которые, в конце концов, никто и не оценит? Как подумаешь, полные ничтожества, безмозглые ослы, бездари наслаждаются жизнью только потому, что у них есть деньги, — лопнуть можно от злости. В этом мире процветают только те, у кого есть деньги. А я, родился я, что ли, не вовремя? Да, наверно. Я аристократ, аристократ до мозга костей — по происхождению, по воспитанию, по образованию, по укладу жизни. Но время аристократии прошло. Настал век черни. Одно из двух — или оставайся честным и гни спину, как раб, или стань подлецом и пользуйся благами, которые сулит тебе король-невежда. Кому ни служи, все равно будешь рабом. Тогда почему бы не согласиться на предложение матьянского бея? Хуже не будет. Ведь он явно умнее, изворотливее и хитрее всех остальных беев и бейчиков Албании. Подчинились же ему другие, такие же патриоты, как и я! Вот братец, например… Славного рода, блестяще образован, искусный политик, а ведь тоже пошел к нему на службу. Ахмет Зогу всех обвел вокруг пальца. А теперь вот и королем станет. Хочешь не хочешь, а он мой государь, если я собираюсь остаться албанским подданным. Так, может, согласиться? Стоит лишь сказать да, и у меня будет особняк, общество, любимые книги и прелестная Мэри и все, что угодно. В конце концов, лучше быть его посланником, чем служить у какого-нибудь грубияна издателя. Его провозгласят королем — тем лучше. Буду посланником короля, хоть и короля-невежды, да зато не придется зависеть во всем от какого-нибудь болвана босса».
Нуредин-бей не мешал его раздумьям, но понял, что должен помочь ему решиться.
— Может быть, вам будет трудно, Ферид-бей, объяснить этот поворот своим землякам, живущим здесь, но…
Ферид-бей взглянул на него испытующе, будто спрашивая, всерьез ли он это говорит, и тут же перебил его:
— Это меня не беспокоит, братец. Мне не впервой совершать политические повороты. Я в политике всегда следую советам моего покойного деда, да будет земля ему пухом. Он говорил: «Врага никогда не окружай со всех сторон, оставь ему путь к отступлению, иначе он будет опасен. Да и сам во всякой сваре оставь себе лазейку, чтобы можно было ускользнуть». Если вы, Нуредин-бей, внимательно читали мои статьи, то, думаю, заметили, что я всегда косвенно одобрял и поддерживал действия Ахмет-бея, хотя и резко осуждал некоторые перегибы. Даже в самых резких моих выступлениях против его превосходительства, осуждая террор и произвол правительства, я одновременно подчеркивал, что в нынешних условиях он лучше всякого другого правителя. Ведь я разошелся с моим другом епископом именно потому, что его сторонники устраивали заговоры против Ахмета Зогу и стремились его свергнуть. Чего они хотели? Снова поставить у власти Фана Ноли? Вряд ли они добились бы успеха, но даже если бы это им удалось, то такой переворот привел бы к полнейшему хаосу в Албании и спровоцировал бы интервенцию иностранной державы, уполномоченной вмешаться в случае неспособности правительства. Видимо, президент внимательнее читает газеты, чем вы, Нуредин-бей. Он заметил эти нюансы, потому и прислал вас сюда. Мне сейчас ничего не стоит убедить соотечественников в том, что я всегда так думал.
— Вам виднее, Ферид-бей. Но, заняв новый пост, вы должны позаботиться о том, чтобы ваша газета не попала в руки противников президента, иначе они будут продолжать публиковать статьи с выпадами против него, а заодно и против вас.
— Этого не будет.
— Вы уверены?
— Да, Нуредин-бей. Между нами говоря, наши земляки здесь — это несколько простаков в Бостоне, лавочники, чистильщики обуви, носильщики — в общем, профаны, которых можно водить за нос как угодно. Они ничего не смыслят в политике и готовы верить каждому моему слову. Вряд ли они смогут нам помешать. Более того, мы, без сомнения, сможем перетянуть их на свою сторону.
— Значит, все решено?…
Ферид-бей встал, подошел к большому столу и достал из ящика пачку бумаг. Нуредин-бей настороженно следил за ним. Тот вернулся и небрежно бросил бумаги на стол перед Нуредин-беем.
— Сначала, братец, скажите, что мне делать вот о этим?
— Что это?
— Счета. Я не могу их оплатить.
Нуредин-бей проглядел несколько счетов, держа их кончиками пальцев.
— На сколько здесь?
— Я и сам не знаю.
— Его превосходительство поручил мне выполнить любое ваше условие. Вот чек. Заполняйте сами.
Ферид-бей даже не прикоснулся к чеку. Он достал из буфета бутылку виски и два бокала.
— Выпьем за удачу, братец, — сказал он усаживаясь и с усмешкой добавил: — А ведь мы с вами заслуживаем лучшей участи, чем быть министрами невежды байрактара.
Нуредин-бей вздохнул.
— Что поделаешь, братец, судьба.
Ферид-бей наполнил бокалы.
— Выпьем за мой новый пост.
— И за вашу удачу!
— Передайте привет его величеству и заверьте его, что в моем лице он будет иметь преданного друга и неплохого посланника.
— Выпьем за здоровье его величества!
— И за наше с вами, братец, и за наше!
VII
Господин Вехби Лика посмотрел на часы, недовольно фыркнул, встал со стула и принялся шагать по коридору, бросая косые взгляды на господ, ожидавших, как и он, вызова к министру. «Почему так долго не вызывают?» — возмущался он про себя.
Он снова сел, закурил и погрузился в размышления. «Как-то они встретят мое произведение? Поймут ли, каких мне стоило усилий из этой ничтожной жизни сделать блестящую биографию? Бандита я превратил в национального героя, стычки из-за добычи сделал настоящими битвами, побеги, которые он совершал всякий раз, оказавшись в пиковом положении, стали у меня гениальным стратегическим отступлением, я вывел его родословную из доисторических времен, записал ему в родню всех европейских королей. Чего еще нужно? Если они не дураки, то должны признать, что я создал настоящий шедевр. Да-да. Самые лучшие книги по истории написаны людьми, не имевшими о нем ни малейшего представления. И моя тоже войдет в этот разряд. Сколько же мне заплатят? Ну да это неважно. Гафур-бей сказал, что биография, как ключ, откроет передо мной все двери. Прежде всего пусть мне разрешат издавать газету. Все крупные политика с этого начинали свою карьеру. А вообще-то, если что-нибудь заплатят — тоже не плохо. Ага, кажется, открывают дверь…»
Он уставился на дверь: ему показалось, что за ней послышались шаги и голоса.
Дверь действительно отворилась, но появился не министр, а господин Кочо Котта. Он быстро прошел мимо, не глядя на ожидавших, которые повскакивали со стульев и стали кланяться, прижимая руку к сердцу. Дверь тут же захлопнулась, господин Вехби Лика не успел даже рассмотреть, есть ли кто-нибудь еще у министра, но — была не была — решил войти. Тихонько постучал и повернул ручку.
В кабинете было трое: министр — господин Джафер-бей Юпи, Муса Юка и Гафур-бей Колоньяри. Склонившись голова к голове, они рассматривали списки депутатов, которых предстояло избрать в учредительное собрание. Он расслышал слова Гафур-бея:
— …Я не говорю, что он нелоялен, но это такая дубина. Столько лет в депутатах, а мы еще ни разу не слышали, чтобы он выступал.
— А к чему нам болтовня, Гафур-бей, — возразил Муса Юка. — Насчет поговорить у нас есть господин Михаль Касо. А этот пусть молчит, лишь бы руку поднимал!
— Я тоже так думаю. Я согласен с господином Мусой, — сказал Джафер-бей. — По-моему…
В это мгновение министр вдруг заметил Вехби Лику и раздраженно крикнул:
— А тебе чего здесь надо?
Остальные тоже повернулись к нему.
— Извините, господин министр, но я… э-э… мне сказали… — смешался Вехби.
Гафур-бей прошептал что-то на ухо министру.
— А-а! — протянул Джафер-бей. — Ну ладно, ладно, господин Вехби. Подождите там. Вас позовут.
Вехби-эфенди вышел из кабинета смущенный и обиженный. Уселся опять на свой стул и нервно закурил. «И зачем я поторопился? Сам виноват. Ну почему я такой нетерпеливый? О ком это они говорили? Многие депутаты не выступают. Может, речь шла об Ахмет-бее Ресули? Он настоящая дубина. Или о Хюсни Тоске? Да, да, наверняка о нем. Хотя они все болваны и скоты. Людей образованных и достойных вроде меня депутатами не делают. Нет, таких держат впроголодь. В этой стране никто не делает карьеру благодаря уму и способностям. Отсюда и пошла поговорка: „Девяносто девять уловок, и один раз смелость“. Хотя сейчас и это устарело. Смелость уже ни к чему. Нужны лишь девяносто девять знакомств да подхалимство. Такие времена настали, что и свинью дядей назовешь…»
Из этих мрачных раздумий Вехби Лику вывел голос самого Гафур-бея, который, приоткрыв дверь, позвал:
— Прошу вас, Вехби-эфенди!
Журналист схватил с соседнего стула шляпу и, прижимая к себе портфель, лежавший у него на коленях, скользнул в кабинет министра.
Господа, видимо, уже покончили со своим делом, и на этот раз министр встретил его с улыбкой. Приподнимаясь, он протянул руку.
— Очень рад, господин Вехби, как самочувствие?
— Хорошо, спасибо.
— Рукопись принесли?
— Так точно!
— Вы знакомы с господином Мусой Юкой… Разрешите представить, Вехби Лика, журналист.
— Знаю, знаю, — проворчал Муса Юка, нехотя протягивая ладонь.
— Садитесь, Вехби-эфенди. Надеюсь, вы нас порадуете.
— Я старался, господин министр.
— Тогда начнем.
Вехби-эфенди сел напротив Гафур-бея и принялся вытаскивать папку из портфеля.
— Я сделал все, что мог, господин министр. Еле-еле собрал документы. Даже в Матьянский край ездил. Поговорил со стариками, нашел смельчаков, сражавшихся вместе с его превосходительством. Мне очень помог господин Абдуррахман Кроси, а что получилось — вам судить, ваша честь.
— Ну, читайте! — приказал министр.
Господин Вехби положил на стол отпечатанные на машинке листы бумаги и снова заговорил:
— Я начал с семьи. В первой главе рассказывается о родословной его величества.
— Ладно, послушаем, — сердито пробурчал Муса Юка.
Вехби-эфенди откашлялся и начал читать:
«Родословная его величества, нашего короля, теряется в туманной глубине веков. В монастырских хрониках средневековья упоминание о семье Зогу встречается уже в девятом веке, когда германский принц из рода Гогенцоллернов взял в жены албанскую принцессу из Матьянского принципата, называвшегося тогда Эмантия. Другие документы свидетельствуют о том, что знатный албанский род Зогу имеет кровные связи со всеми королевскими фамилиями Европы и что сам его величество является прямым потомком национального героя Албании Георгия Кастриота Скандербега. Но предоставим слово историческим документам!»
Вехби-эфенди прервал чтение и поднял голову, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на слушателей столь удачное начало. Господин министр, сняв очки, протирал их шелковым платком, Муса-эфенди сердито смотрел из-под нахмуренных бровей, а по сжатым губам Гафур-бея ничего нельзя было понять.
— Дальше!.. — приказал он, не поднимая головы.
«Как известно, — продолжал Вехби-эфенди, — в одиннадцатом веке начались крестовые походы. Европейские короли и принцы отправились в Иерусалим для освобождения гроба господня, захваченного турками. Среди них был и германский император Фридрих, по прозвищу Барбаросса, который со своим войском проходил через Албанию. Один из его племянников, по имени Курт, остановился со своей свитой в Матьянском крае, где правила знаменитая семья Зогу. Князь Курт женился на единственной дочери матьянского правителя и стал его законным наследником. То, что наш король — прямой потомок этого высокородного князя, подтверждают наряду с многочисленными документами, находящимися в архивах королевских дворов Европы, также названия некоторых деревень и гор в Матьянском крае: например, гора Аламана, то есть Германца, деревня Бургайет и др. Да и сама внешность нашего короля, светлые волосы, голубые глаза, высокий рост и атлетическое сложение говорят о том, что в нем сильна кровь германской расы, которая…»
Муса-эфенди не выдержал. Он прервал автора:
— Ты что это несешь? Хочешь сделать гяура из его величества! Tovbe estagferullah!
— Я только хотел доказать, Муса-эфенди, что его величество происходит из древнего рода, — робко возразил Вехби Лика.
— Ну уж нет! Мы не желаем, чтобы ты делал из него неверного!
— Муса-эфенди прав, — сказал министр, надевая очки.
— Как вам будет угодно, — ответил Вехби-эфенди несколько обиженно, достал карандаш и сделал пометки на полях. Он пропустил несколько страниц и стал читать дальше:
«История свидетельствует, что в XV веке одна из ветвей рода Зогу пришла с севера Албании и поселилась в Матьянском крае. Легенды рассказывают, что Мамина, сестра Скандербега, вышла замуж за владетеля крепости Бургайет, происходившего из рода Зогу. Таким образом, его величество наш король — прямой потомок национального героя…»
— Ну вот. Сейчас то, что надо! — перебил довольный Муса-эфенди. — Вот с этого и начинай, слышь? А то заморочил нас крестами да гяурами!
— Продолжайте! — приказал министр.
— «Его величество родился восьмого октября тысяча восемьсот девяносто пятого года в Бургайете. Великая радость охватила тогда албанцев. Три месяца подряд продолжался пир у Джемаль-паши, отца нашего короля; более тридцати тысяч мужей съехались со всех концов Албании, чтобы поздравить счастливого отца с замечательным подарком, коего удостоил его господь. Все предчувствовали, что из младенца, качавшегося в колыбели, вырастет не простой человек, а будущий вождь нации, гениальный король, который…»
— Прекрасно! — похвалил министр.
— Молодец! — воскликнул Муса-эфенди.
«Давай, давай, милок, — подумал Гафур-бей. — Ври, не стесняйся. Я хоть и знал, что ты на выдумки мастак, но что ты такой пройдоха — не предполагал! Чем наглее ложь, тем труднее ее опровергнуть. Раньше был Ахмет-бей, сын Джемаля, а сейчас выходит Джемаль, отец Ахмета!»
— «…Получив материнское благословение, Ахмет-бей Зогу, преисполненный уверенности и бесстрашия, с оружием в руках, повел за собой две тысячи матьянских храбрецов…» — читал историк.
«Так-так. И материнское благословение приплел», — подумал Гафур-бей.
— «…встретился с черногорскими войсками у горы Какарити. Здесь и произошла знаменитая Какаритская битва».
«Ишь ты, битва! И он это называет битвой. Ну и ловкач! Браво! Словно никто и не знает, что Ахмет-бей тогда на грабеж отправился с веревкой за поясом. Плети-плети, милок, небылицы, все они получат законную силу. Может, так же написаны и родословные других королевских фамилий, — размышлял Гафур-бей. — Кто знает? У нас, например, матьянские паши стали прославленными героями, они, видите ли, сражались за Албанию, будто никому не известно, что они были преданы султану, а на Албанию им было наплевать. Ну-ка, что он расскажет о Какаритской битве? Как оправдает бегство Ахмет-бея, ведь тот при первых же выстрелах пустился наутек до самой Мати».
Но историк продолжал с чувством и даже с пафосом в голосе:
«…Несмотря на то что несколько раз находился на краю гибели, Зогу бесстрашно и самоотверженно сражался в первых рядах, проявив выдающиеся воинские качества: беспримерную отвагу, великолепное владение оружием и талант гениального стратега в расстановке войск. Его храбрецы убедились во время этого сражения, что Зогу — настоящий полководец…»
А Гафур-бей с нетерпением ждал конца: как оправдает историк бегство с поля «битвы».
«Исход боя еще не определился, когда Зогу получил сообщение, что сербская армия подошла к Мати и намерена его окружить. Тогда, не теряя ни минут, наш полководец отступил от Какаритских гор и двинулся к Мати. Прибыв туда, он тут же созвал местную знать…»
Гафур-бей вскинул голову и с полуоткрытым от удивления ртом уставился на журналиста.
«Я полагаю, — заявил Зогу, — что, пока не закончится Балканская война, нам следует ограничиться защитой наших рубежей в районе Мати, а дальше будем действовать по обстоятельствам». Совет знати согласился с ним, видя, что их предводитель мудр и его суждения по всем военным, политическим и дипломатическим вопросам гениальны.
— Прекрасно!
— Здорово сварганил! — одобрил Муса-эфенди.
Историк оторвал глаза от рукописи и посмотрел на слушателей, сияющий и довольный.
— Продолжайте! — снова сказал министр.
Гафур-бей закурил. Он уже не прислушивался к тому, что читал историк, а, задумавшись, пытался припомнить все, что ему самому было известно о жизни Ахмета Зогу. «Да, — сказал он себе. — Ахмет Зогу действительно большой стратег. Бежать с поля сражения тоже надо уметь, а наш президент столько раз продемонстрировал это умение. Бежал из Какарити, бежал из Дибры, бежал во время боев с мятежниками в 1914 году, бежал из… этот стратег драпанья отовсюду бежал, спасая свою шкуру».
«Его превосходительство Зогу…»
Гафур-бей очнулся. «Ну-ка, ну-ка… А как он объяснит бегство Зогу в июне двадцать четвертого?»
«…которого правительство назначило командующим своими войсками, не желая, чтобы напрасно пролилась албанская кровь, отступил из Тираны и перешел в Югославию…»
— Браво! — невольно вырвалось у Гафур-бея.
— Простите? — переспросил Вехби-эфенди, не ожидавший, что его прервут.
— Вы молодчина! Хорошо написали. — А про себя подумал: «Да это же просто фокусник! „Не желая, чтобы пролилась албанская кровь“. Ну и ну! Будто не знает, плут, как жалеет албанцев его величество! Ну вот, июньское бегство тоже оправдано. Кто это сказал, что лучше иметь одного историка, чем десять генералов? С генералами можно лишь избежать поражения в войне, а с историком выигрываешь все битвы».
— «…Однако наш премьер-министр, будучи истинным патриотом, не мог долго оставаться в эмиграции, вот почему тринадцатого декабря он перешел границу, двадцать четвертого декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года вступил в Тирану и восстановил законность и порядок».
Уже стемнело, когда историк закончил читать свой шедевр. Господин министр не высказал ни одного замечания.
— Молодец, Вехби-эфенди! — сказал он.
Не было замечаний и у Мусы-эфенди.
— Молодчина, Вехби-эфенди! Здорово сварганил!
И только Гафур-бей счел нужным дать автору несколько ценных указаний:
— В целом мне понравилось, Вехби-эфенди, но у меня есть кое-какие замечания и дополнения.
— Я весь внимание! — ответил Вехби-эфенди, снова достав карандаш и приготовившись делать пометки.
— Во-первых, Вехби-эфенди, я заметил, что в жизнеописаниях великих людей всегда есть такие, как бы это сказать, сверхъестественные знаки, которые предвещают рождение вождя или великого человека. Не было ли при рождении его величества таких предзнаменований?
— Очень уместное замечание, — согласился министр. — Наш народ религиозен и должен знать, что его величество ниспослан самими небесами.
— Да, ваше превосходительство, вы правы. Были предзнаменования и накануне рождения его величества.
— Какие же?
— За несколько лет до его рождения одной старухе в Бургайете приснился сон, что…
— Нет, нет, это слишком банально. Не было ли какого-нибудь другого знака?
— Был и другой. Говорят, что в ту ночь, когда родился его величество, в небе над Мати показалась хвостатая звезда, которая промчалась над домом Джемаль-паши.
— Почему же вы это не вставили?
— Да я просмотрел календарь того года, а там ни о какой комете не упоминается. Астрономы не отметили такого явления, а я придерживался только фактов.
— Ну как же так, Вехби-эфенди, нам ведь и легенды нужны.
— А потом, разве были у нас астрономы в то время? — усомнился Муса-эфенди.
— Я имею в виду французских и английских астрономов.
— А они-то откуда знают, пролетала хвостатая звезда над домом Джемаль-паши или нет? Франция и Англия далеко от Албании, — заметил Муса-эфенди.
— И еще одно, — добавил Гафур-бей. — Не было ли в детстве его величества такого случая, чтобы проезжал через те края какой-нибудь известный человек или, к примеру, святой, ходжа или дервиш и чтобы он возложил руку на голову Ахмет-бею и предсказал ему великое будущее? У всех великих людей было такое.
Вехби-эфенди испытующе посмотрел на него: уж не насмехаются ли тут над ним, но, увидев, что его милость абсолютно серьезен, помедлил минуту, будто припоминая, а потом ответил:
— Да, Гафур-бей. Такой случай был, и это не легенда, а исторический факт.
— Ну-ка, выкладывай!
— Когда его величеству было только три дня, к Джемаль-паше приехал в гости известный патриот Дервиш Хима и, как только он увидел младенца, тут же обратился к местной знати и другим мужам, находившимся в комнате, с пророческими словами: «Внемлите мне, господа, этот ребенок родился для спасения Албании, он станет ее вождем».
— Вот здорово!
— Потом произошел еще один исторический случай. Когда его величество ездил во Влёру в тысяча девятьсот двенадцатом году — ему было тогда семнадцать лет, — Исмаил Кемаль, тоже известный патриот, обнял его, поцеловал в лоб и произнес со слезами на глазах: «Добро пожаловать, сын мой! Все, что мы делаем сегодня здесь, — для тебя, ведь тебе жить в Албании и править ею».
— Очень хорошо, Вехби-эфенди. Это тоже надо вставить, — сказал министр.
— Как вам будет угодно!
— Во-вторых, Вехби-эфенди, — снова заговорил Гафур-бей, — слова «его величество» необходимо заменить на «его высокое величество», так как именно такой официальный титул будет присвоен его превосходительству, когда он станет королем. Как вы думаете, господин министр?
— Непременно, Гафур-бей.
— Как прикажете! — поклонился журналист.
— А теперь, господин министр, надо поскорее опубликовать произведение.
— Это мы берем на себя, — объявил министр.
— Хорошо бы еще перевести его на какой-нибудь европейский язык, — продолжал Гафур-бей. — Пусть весь мир узнает, какой у нас король.
— Прекрасно. Переведем, — решил министр, поднимаясь и давая понять Вехби-эфенди, что он может идти. Но тот не уходил. Он застыл на минуту, глядя на министра, будто собирался что-то сказать.
— До свидания, Вехби-эфенди! — сказал министр.
— Простите меня, ваше превосходительство, но я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к вам по поводу прошения, которое я подавал.
— А в чем дело?
— Я просил разрешения издавать газету. Я, как вы знаете, по профессии журналист, и сейчас, когда спаситель нации будет провозглашен королем, я думаю, нам понадобится новая газета, такая, что могла бы разносить по всей Албании голос правительства.
— Вы подали прошение?
— Так точно!
— Хорошо, Вехби-эфенди, мы рассмотрим этот вопрос. До свидания!
Как только Вехби-эфенди исчез за дверью, министр повернулся к господину Мусе Юке:
— Как вы думаете, Муса-эфенди, дать ему разрешение?
— Это уж вам решать, ваше превосходительство.
— Я думаю, можно дать, — сказал Гафур-бей. — Он неплохой журналист и готов нам преданно служить.
— Но честолюбец, — сказал Муса Юка.
— Мы все хотим больше, чем имеем, — заметил министр.
— А не зарывается ли он? Что-то слишком многого хочет?
— Да вряд ли он чего-нибудь добьется, мозгов не хватит, — сказал Гафур-бей.
— Уж не знаю. Может, и не хватит, а хочет он многого.
— Известное дело, Муса-эфенди. Чем меньше мозгов, тем больше мечтаний. Пожалуй, разрешим ему.
— Но он еще пособия просит.
— И это можно.
VIII
Лоб патера Филиппа покрылся испариной, но не духота июльского вечера была тому причиной.
— Как же так, eccellenza,[20] как могло королевское правительство допустить такое? Мы в полном отчаянии! Мы ко всему были готовы, но, что над нами будет поставлен властитель-мусульманин — этого никак не ожидали! Мы были уверены, что вы этого не допустите!
Он говорил на чистейшем итальянском, и eccellenza, седовласый господин сурового вида, слушал его стоя, с рюмкой коньяку в руке. В том углу ярко освещенного зала, где они находились, их никто не мог подслушать, и все же eccellenza был как будто встревожен восклицанием патера. Прежде чем ответить, он осмотрелся вокруг. Остальные приглашенные — штатские во фраках, офицеры в парадных, с аксельбантами и позументами, мундирах, при шпагах и регалиях, полуобнаженные дамы в длинных декольтированных платьях — прохаживались по залу или разговаривали, стоя группками, в салоне иностранной миссии, устроившей коктейль по случаю национального праздника.
— Успокойтесь, патер, — сказал он тихо, почти шепотом. — Изменять форму государственного правления — ваше внутреннее дело. Правительство его величества не может вмешиваться в ваши дела. Сам великий дуче нам…
Патер Филипп с сердцем перебил его:
— Нет, eccellenza. Вы должны что-нибудь предпринять!
Eccellenza пожал плечами.
— Католики Албании не могут согласиться, чтобы государем стал мусульманин, — сердито продолжал патер Филипп. — Мы тоже за монархию, но только с государем из славного Савойского дома. Поэтому мы с одобрением встретили известие о провозглашении монархии. А теперь, что же нам делать?
— Ничего, патер. Вы поступили бы разумно, поздравив в числе первых нового короля.
— Мы были уверены, что вы этого не допустите.
— Повторяю, нам нельзя вмешиваться…
Патер Филипп посмотрел ему прямо в глаза. Было ясно, что он не принял всерьез этого заявления, потому eccellenza тихо добавил по-латыни:
— Exceptio probat regulam.[21]
Но и это не успокоило патера.
Eccellenza отошел от небольшой группы гостей и жестом подозвал патера.
— Inter nos,[22] патер, — сказал он тихо, — я могу вам сказать одно: наш dux.[23] дальновиден и решителен. Совершенно не имеет значения, кто займет трон. Experto crede[24]
— Я вам верю, eccellenza, но это же просто немыслимо для нас. Мы должны что-то предпринять.
— И что же вы предпримете?
— Обратимся в Лигу Наций и потребуем автономии для католических районов Албании — Шкодранского и Мирдитского.
Eccellenza изобразил на лице удивление.
— Вы хотите отделиться от Албании? Разве ваши католики не такие же албанцы, как и все остальные?
— Да, но мы прежде всего католики.
— И к кому же вы присоединитесь?
— Вы меня не так поняли, eccellenza. Мы не собираемся отделяться от Албании, мы хотим автономии в границах Албании, с такими же правами, cum privilegio,[25] как у кантонов Швейцарии.
— Что же, это ваше дело, патер, — сказал eccellenza, снова пожимая плечами.
— А что бы вы посоветовали?
Eccellenza ответил по-латыни:
— Nitor in adversum. Facilis est descensus averni.[26]
Патер Филипп помрачнел, на минуту задумался, потом произнес уже более спокойным тоном:
— Вы для нас pater familiae, in loco parentis.[27] Как вы скажете, так мы и поступим.
— Как только будет провозглашена монархия, патер, мой вам совет: приветствуйте ее первыми. Монархия укрепит власть, преградит путь большевизму и беспорядкам в вашей стране. Этого же хочет и наш дуче. Она обеспечит вам, fidei diffensor,[28] еще больше привилегий. Вы по-прежнему останетесь imperium in imperio.[29]
Отчаяние охватило патера Филиппа. Вот и последняя надежда рухнула. Fratelli,[30] не только не собираются предотвратить беду, но даже советуют поспешить с поздравлениями к новому королю. Volens nolens[31] придется признать «неверного» государем.
— Извините, eccellenza, — сказал патер Филипп, смягчая тон. — Я не политик и не могу хладнокровно судить о таком деле. Я поэт и потому принимаю все так близко к сердцу.
— Сердце и чувства — самые плохие советчики в политике, патер.
— Вы правы. Мы доверяем вам и великому дуче. Но еще раз прошу вас, не оставляйте нас надолго под властью этого жестокого короля-еретика.
— Вам, патер, как поэту, было бы неплохо поздравить нового короля стихами, и чем скорей, тем лучше.
— Нет, это не для меня!
— Тогда, может, это сделает патер Георгий?
— Он тоже не согласится.
— Почему не согласится? Что ему стоит? Ведь сочинил же он в свое время оду в честь чужеземного короля, — злорадно напомнил eccellenza, — а этот — ваш соотечественник.
— Но он не католик.
Eccellenza пожал плечами — такая у него была привычка — пожимать плечами, когда оспаривали или отвергали его доводы.
— И все-таки постарайтесь превозмочь себя, патер. Католики, и католическое духовенство в особенности, должны проявить энтузиазм по случаю коронования нового монарха. Это так важно для вас.
— Как прикажете, eccellenza!
— Пожалуйста, передайте привет монсеньеру.
Дипломат поставил бокал на поднос проходившего мимо официанта и отошел от патера, протягивая руку какому-то высшему военному чину в регалиях. Патер Филипп немного постоял в задумчивости, а потом, тоже увидев знакомого, направился к нему. Он прошел мимо разноликой группы, где стояли штатские, офицеры, дамы, иностранцы — все они живо обсуждали последние события. В салоне иностранной миссии, как и по всей Албании, только и говорили что о предстоящем провозглашении монархии. Это был вопрос дня, и зарубежная печать тоже писала о нем. Патера больше всего сердили те иностранные, особенно итальянские, газеты, которые ни единым словом не осуждали готовившуюся «подлость», а, наоборот, всячески ее поддерживали или же, как Пилат, умывали руки, упирая на то, что это якобы внутреннее дело Албании. Как будто им было не известно, что в этой стране все делается с соизволения Великого Союзника! Было отчего выйти из себя достопочтенному патеру. А тем временем Вехби Лика самодовольно разглагольствовал перед группой гостей, где выделялись полная дама и светловолосая девица, в длинных декольтированных платьях, с голыми руками.
— Мы, журналисты, умеем читать между строк, ремесло научило нас читать межстрочия.
— Межстрочия? — удивилась пышная дама.
В этот момент Вехби-эфенди смолк и почтительно поклонился.
— Добрый вечер, патер!
— Добрый вечер! — ответил патер, не замедляя шага.
— Кто это?
— Неужели вы его не узнали, госпожа? Это же патер Филипп, поэт.
— Ах! Так это и есть патер Филипп?
— А патера Георгия здесь нет?
— Нет, мадемуазель. Он редко приезжает в Тирану.
— Как я люблю его стихи!
— Он большой поэт.
— Я этого не знала, — вмешалась полная дама.
— Патер Филипп тоже поэт.
— Так разъясните же нам, что это за межстрочия, Вехби-эфенди, — попросил гвардейский офицер с тонкими колечками усов. Он то и дело подкручивал эти свои усы, вперив взгляд в декольте желтоволосой девицы.
— Да, господин подполковник, — ответил Вехби-эфенди. — Газета состоит из строчек и межстрочий. Обычные черные буквы — строчки, а белые…
— Белые буквы? И что вы такое говорите, Вехби-эфенди?
Журналист рассмеялся:
— Вот именно, госпожа, белые буквы или межстрочик. Так мы, журналисты, называем промежутки между черными строчками, понимаете?
— Видит бог, я ничего не понял, — сказал подполковник.
— Вы нас совсем запутали, господин Вехби, — захихикала девица.
— Дело вот в чем, мадемуазель, — объяснял Вехби-эфенди. — Я догадался о государственных переменах еще в июне.
— Еще в июне?!
— Да. Как только я узнал, что распустили парламент, я сразу же спросил себя: что бы это значило. И чем будет заниматься учредительное собрание? Газеты сообщали, что парламент распущен из-за конфликта с сенатом по вопросу о назначении министров. Но мне это показалось сомнительным. Поэтому я стал внимательнее вчитываться в каждую строчку. И в конце концов нашел отгадку в итальянских газетах. Они утверждали, что конституция республики была принята в нездоровой обстановке и поэтому ее надо изменить, обеспечив албанцам более авторитетное государственное руководство. Что за «более авторитетное государственное руководство?» — подумал я про себя. И тут же меня осенило: собрание провозгласит монархию.
— А откуда вы узнали, кто будет королем? Тоже из межстрочий? — спросил большеголовый господин отталкивающей внешности со щеткой усов на морщинистом лице.
— Да, Мехди-бей, именно из межстрочий, — ответил Вехби Лика, сделав вид, будто не заметил в вопросе ехидной нотки. — Если помните, именно моя газета первой сообщила, что именно наш президент будет провозглашен королем.
— Да, это нам известно, но кто вас информировал? — не унимался Мехди-бей.
— Никто. Видите ли, когда газеты начали вдруг подчеркивать, что новая система государственной власти — внутреннее дело албанцев, я понял, что королем у нас станет албанец, и на сей раз его назначат не великие державы, как бывало раньше. И тогда я задал себе еще один вопрос: кто же достоин занять самый высокий пост в нашей стране? Естественно, президент.
— Да, но некоторые иностранные газеты объявили, что королем станет Алтендре Кастриот, прямой потомок Скандербега.
— Это были просто догадки.
— Видно, не умеют читать межстрочия! — насмешливо заключил Мехди-бей.
— Выпьем за здоровье нашего президента, будущего короля Албании, — выкрикнула дородная дама, поднимая рюмку с ликером.
— Да здравствует президент!
— Пусть живет вечно, как наши горы!
— Еще дольше!
Мимо них проходили Муса Юка и Гафур-бей Колоньяри. Оба были во фраках.
— Муса-эфенди, выпейте с нами за здоровье президента, будущего короля.
Муса Юка насупился.
— Не хмурьтесь, Муса-эфенди, — со смехом сказал Вехби Лика. — Нет больше секретов. Все уже знают. Мы прочли о требовании народа провозгласить монархию, во главе которой станет его превосходительство президент, поэтому и пьем за нашего нового короля.
Дородная дама подала ему бокал, и Муса Юка воскликнул:
— На счастье!
— За здоровье президента! — поддержал Гафур-бей.
— Когда же наступит знаменательный день? — спросил Вехби Лика.
— Скоро, Вехби-эфенди.
— Господин Муса, можно еще один вопрос? Как будет титуловаться наш король? — Увидев, что тот замялся, не зная, что ответить, Вехби-эфенди объявил: — Говорят, он примет имя Скандербега Третьего.
— Почему же Третьего, а не Второго? — с иронией спросил Гафур-бей.
— Потому что Вторым считают Гьона, сына Скандербега.
— Гьон никогда не был королем, Вехби-эфенди. А потом, почему его величество должен именоваться Скандербегом? Разве его собственная фамилия непригодна для династии? Зогу. Зогу Первый.
— Браво, Гафур-бей! Гениальная мысль!
— Выпьем же за нашего короля, Зогу Первого! — воскликнула девица.
— До дна! — крикнул подполковник.
Вокруг них столпилось много народа. Вехби Лика увидел Нуредин-бея и кинулся к нему.
— С возвращением, Нуредин-бей!
— Рад видеть вас в добром здравии, Вехби-эфенди.
— Ну как вы съездили? Что нового в Америке?
— Как я вижу, Вехби-эфенди, к старой пословице «берегись новоявленного богача и молодого зятя» надо теперь добавить «берегись и новоиспеченного журналиста».
— Что вы, Нуредин-бей, во-первых, какой же я новоиспеченный журналист. Слава богу, состарился на этой работе. А потом, я расспрашиваю вас не как журналист, а как друг.
— Тогда и я вам отвечу как другу: ничего нового.
— А с Ферид-беем Каменицей встречались?
— Нет. С чего вы взяли, что я мог встретиться о нашим противником?
— Но в последнее время Ферид-бей очень переменился. Он больше не пишет статей с критикой нашего режима. Наоборот, хорошо отзывается о нашем президенте. Позавчера я прочел его статью, где он выступает за изменение формы правления.
— Вот как? Я не читаю его статей.
— Грех, Нуредин-бей. Ведь это, можно сказать, шедевры нашей журналистики. На такие повороты способно лишь искусное перо.
— Не понимаю, о чем вы, Вехби-эфенди. До свидания!
Вехби Лика был оскорблен холодностью и недоверием Нуредин-бея. Его злило, что тот ничего не сообщил ему о Ферид-бее. Об их встрече уже все знали и повсюду шептались, ведь в этой маленькой стране ничего невозможно удержать в тайне, и близкие к верхам люди имели обычай проводить время, обсуждая наиважнейшие государственные секреты. А Вехби-эфенди позарез нужны были такого рода новости. Он мечтал, чтобы газета, которую он издавал, была хорошо информированным официозом правящих кругов. Этого требовал и его престиж опытного журналиста, и особенно его пустой карман. Он расстроился, что не удалось вырвать у Нуредин-бея ни единого слова для газеты.
В тот момент он заметил патера Филиппа, как-то сиротливо стоявшего в углу зала. С улыбкой до ушей Вехби-эфенди направился к нему, дружески протягивая руку:
— Как хорошо, что вы пришли сюда, патер!
— Я, Вехби-эфенди, случайно оказался в Тиране и вот, попал на прием.
— И очень хорошо, что пришли. Ведь здесь собралась элита, сливки общества, и вас бы здесь недоставало.
— Уж и не знаю, Вехби-эфенди, сливки или сыворотка. Я по крайней мере здесь случайно.
— И патеру Георгию следовало бы приехать. Уж он-то действительно принадлежит к сливкам. Конечно, у наших людей нет еще того блеска, о каком мечтаем, но я уверен, что мы пойдем вперед по пути цивилизации, лишь когда во главе будет стоять избранная интеллектуальная и духовная элита и нацию поведет гениальный вождь. Что вы скажете о провозглашении монархии? Как к этому относятся духовные отцы нации?
— Я могу говорить только о католическом духовенстве, Вехби-эфенди. Мы очень рады. Наконец-то наш народ выдвинул великого человека, достойного быть увенчанным короной Скандербега. Palmam cui meruit forat.[32]
— Вы знаете, его величество будет именоваться не Скандербег Третий, как говорили, а Зогу Первый.
— Очень, очень правильно. Род Зогу известен своим патриотизмом и достоин основать новую династию.
— Надеюсь, это не только ваше личное мнение?
— Мы все единодушны, Вехби-эфенди. Католическое духовенство счастливо первым приветствовать это знаменательное событие. Мы молим бога, чтобы он послал долгую жизнь его величеству на благо и процветание албанского народа. Теперь наша нация пойдет вперед.
— А вы не собираетесь написать стихи в честь его величества, патер?
— Стихи не булки, их не испечешь, когда захочется, так что я ничего не обещаю. Скажу одно: провозглашение монархии — историческое событие, которое вдохновит наших поэтов.
— И вас тоже?
— Дай бог!..
— Желаю вам успеха. Выпьем за здоровье его величества!
— Выпьем, Вехби-эфенди!
IX
Жара еще на наступила. В то августовское утро магазины были закрыты, на каждом доме, на каждом электрическом столбе были вывешены флаги. Народ выстроили шпалерами по обе стороны улицы, ведущей к парламенту. Съехавшиеся из разных областей «отцы нации», стоя группами, толпились на мостовой в дальнем конце улицы. Впереди расположился президентский оркестр. Жандармы и гвардейцы, построенные в две шеренги вдоль улицы, суетились перед «отцами нации», выравнивая ряды школьников и оттесняя их к тротуару.
Как разительно отличались эти господа депутаты и министры во фраках, белоснежных рубашках, в цилиндрах или в черных тюляфах[33] от толпы на тротуарах! Лишь кое-где можно было увидеть школьника в национальном костюме, какую-нибудь прилично одетую даму или господина, большинство же пестрело лохмотьями, старыми тюляфами, белыми телешами.
— Гляди-ка, гляди-ка, — послышалось в толпе. — Еле ноги передвигают.
— Ходить разучились, — ответил другой.
— И все, как один, жирные, — заметил третий.
— Разжирели на народных харчах.
— Скажи лучше, на конюшне у Ахмет-бея! — гневно поправил первый.
— И вовсе нет, не все жирные. Вон смотри, есть и тощие, кожа да кости.
— А это новые депутаты.
— Погоди, скоро и они разжиреют.
— Ты их знаешь?
— Знаю. Вон Ильяз-бей, за ним Джафер-бей, Фейзи-бей, Абдуррахман-бей…
— Ладно, брось, не перечисляй!
— Ну, братцы, с такой компанией нам далеко не уехать!
— Кто там болтает? Кто там против правительства? — рявкнул жандарм с мостовой.
— Никто! — выступил вперед, заслоняя собой смельчака, старик в белой телеше. — Ты что, не видишь, всех распирает от радости?
В этот момент три малыша школьника в национальных костюмах выбежали из толпы с букетами в руках. Жандарм кинулся к ним, но офицер прикрикнул:
— А ну, не тронь, ты! Не видишь, что ли, у них цветы для депутатов!
Прошли депутаты, а за ними прокатила вереница их машин, осыпав пылью толпу, которая начала расходиться, исполнив приказ властей и утолив любопытство.
В 9 часов депутаты заняли свои места в парламенте. В ложах для гостей расселись с дамами представители зарубежных государств.
Отсутствующих не было.
Даже оскорбленный Шевтет-бей Верляци, несостоявшийся тесть Ахмет-бея, сидел на своем месте. Он попытался было увильнуть от этого исторического заседания, но Ахмет-бей в срочном порядке послал министра иностранных дел в Эльбасан, и его на самолете доставили в Тирану.
Долговязый и высохший, как мумия, старик поднялся со своего места и, мешая албанские и французские слова, объявил заседание открытым.
Итак, учредительное собрание начало свою работу. А мы давайте почитаем протоколы, опубликованные в официальном вестнике Албанского королевства, чтобы познакомиться с ораторами, которые увековечили свои имена, выступив на этой памятной ассамблее. И если кому-нибудь из вас их речи покажутся странными, не надо удивляться: действительность порой диковинней всякой выдумки, ведь даже самая необузданная фантазия все же имеет какие-то логические основы.
Сразу же после открытия министр юстиции огласил послание его превосходительства президента республики. Затем собрание избрало председателя, одобрило жалованье депутатов и назначило комиссию по срочному пересмотру некоторых статей Основного закона, что было необходимо для провозглашения Албании монархией (royame), а спасителя нации, Ахмета Зогу, — королем (roi).
На следующий день господин Пандели Евангели, избранный председателем, так открыл очередное заседание:
«Господа депутаты!
Назначенная вами комиссия принимая во внимание что форма государства должна подходить той нации которой предназначена и не должно слепо следовать различным догмам социальных наук и учитывая что Албании в силу ее исторических традиций для того чтобы сделать более крупные шаги по пути прогресса считает необходимым прокламировать Албанию наследственной демократической парламентской монархией поскольку народ по всей Албании ждет прокламирования его величества Зогу Первого королем прошу представительное собрание одобрить соответствующие артикулы и предлагаю провести по этому случаю трехдневные празднества».
Еле-еле доведя до конца эту сумбурную без точек и запятых тираду, почтенный депутат сам едва не отдал концы. Его осипший голос был едва слышен, а длинные, тощие, как щепки, ноги подкашивались. Но «отцам нации» недосуг было обращать внимание на страдания своего коллеги. Они, все как один, поднялись и стали рукоплескать, скандируя:
— Да здравствует его величество!
— Да здра-а-а-авствует!
На улице, перед парламентом, учителя, услышав эти возгласы, торопливо собрали своих учеников, которые разбежались и играли кто во что, построили их в шеренгу и, дирижируя хором, заставили кричать: «Да здра-а-а-авствует!»
Когда рев отцов в стенах парламента смешался в хором их сыновей на улице, некоторые решили, что дело сделано: Албания провозглашена королевством (royame), а Ахмет Зогу — королем (roi).
Но какое там, все еще только начиналось.
Вопрос серьезный, и «отцам нации» надлежало решить его с величайшей мудростью, как и подобает учредительному собранию, на которое возложена столь ответственная и деликатная историческая миссия.
Внимание!
Сейчас начнутся дебаты.
Кто-то выразит несогласие с этим предложением. Кто-то покажет себя последовательным республиканцем, а кто-то, ставя интересы отечества превыше всего, возможно, вообще заклеймит подлый фарс, который разыгрывается сегодня. Ведь есть среди депутатов честные, принципиальные, несгибаемые мужи. Вот сейчас разгорятся страсти и…
Уверены ли вы, господа гвардейские офицеры, что уважаемые депутаты сдали свои пистолеты в гардероб?
Ну, тогда начнем.
Слово берет Абдуррахман-бей:
— В Албании, пережившей революционные и другие потрясения, до сих пор не было окончательной формы государственного управления. И вот наконец спаситель нации, нынешний глава, а завтрашний король… (аплодисменты) с беспримерным умением вывел Албанию на путь прогресса. Могут сказать, что монархия устарела или что она уничтожает права народа. Нет, господин председатель. Кое-кто может сказать, что республика лучше. Но я говорю: нет. Так что давайте примем статьи о новой монархической форме правления и преподнесем венец спасителю нации, Ахмету Зогу.
Аплодисменты.
И почему это господа думают, что монархия устарела и уничтожает права народа? Если его милость говорит: нет — значит, нет!
Слово берет Фейзи-бей Ализоти:
— Многоуважаемый депутат, выступивший передо мной, упомянул о различных формах государственного правления и кратко обосновал необходимость провозглашения монархии. Я не стану утомлять вас подробными объяснениями, какой строй лучше — республика или монархия, в каких они реляциях между собой, откуда берут начало, все это займет слишком много времени. Посему пусть албанским государственным режимом будет монархия, а титул короля да будет присвоен Ахмету Зогу, которого следует именовать королем албанцев, а не королем Албании!
Аминь!
И действительно, господа депутаты, к чему пространные объяснения? Лучше согласиться с Фейзи-беем и проголосовать. Ведь именно за это и платят. К чему болтовня?
Но нет, не так скоро. Собрание решило всесторонне рассмотреть вопрос, взвесить, разобрать и научно обосновать, а то, пожалуй, грядущие поколения скажут, что они, выполняя честолюбивую волю одного авантюриста, одобрили решение необдуманное, навязанное сверху.
Слово берет Джафер-бей Юпи:
— Спасителю нации Ахмету Зогу дать высокий сан монарха, посадить на трон Кастриота и удостоить короны Скандербега.
Как прикажете! Господа депутаты, смирно!
Пардон.
Джафер-бей вовсе не командует, он дискутирует. Послушаем же.
— За великие подвиги ему было дано звание министра, но разве этого было достаточно?! Премьер-министра, потом главы республики, но разве было достаточно этого. Мы именуем его спасителем нации, но и этого недостаточно. Сделаем же спасителя нации монархом, королем!
Хорошо, Джафер-бей. Только не кричите так, а то у нас нервы слабые. Да еще жара. Если Ахмет Зогу захочет, мы его и императором провозгласим. Хоть сию минуту.
Обсуждение продолжается.
Господин Явер:
— Мы сегодня стоим перед угрозой большевизма, и республиканский строй не в силах противостоять ей. Да здравствует спаситель нации!
Сулейман-бей:
— Некоторые могут спросить: зачем республиканский строй менять на монархию? Нет, господин председатель! На крупном и упитанном теле фрак может сидеть прекрасно, на щуплом же выглядит уродливо и смешно. Поэтому голосуем за монархию.
Депутат из зала:
— Не вижу необходимости в дальнейших прениях. Давайте поскорее примем решение об изменении режима и провозгласим Ахмета Зогу королем.
Голоса:
— Правильно!
— Помираем от духоты?
— Голосовать!
Нет. Предложение отклоняется. Вопрос, вынесенный на обсуждение, очень важен и касается будущего нации, поэтому требуется серьезно все обдумать и взвесить.
Слово берет депутат Хюсни Тоска.
Оживление и шум в зале. Сенсация! Его милость берет слово впервые, хотя ходит в депутатах уже четыре года.
Хюсни Тоска:
— Да здравствует Ахмет Зогу!
Фитри-бей:
— Его превосходительство, глава нашей республики, будущий король не кто иной, как дух Скандербега, парящий над Албанией.
Хонджо-бей:
— Я безмерно счастлив, что трон Скандербега займет его величество Ахмет Зогу.
Бенджо-бей:
— Это собрание, господин председатель, напоминает нам Совет албанских князей в Леже.[34]
Болван-бей:
— Уже столько веков у нас не было такого вождя, как Ахмет Зогу.
Дуб-бей:
— Учитывая события прошлого, Албания не может существовать без Ахмета Зогу.
Глуп-бей:
— Мне очень жаль, что я не оратор и не могу выразить как подобает своих чувств, своего горячего желания увидеть Албанию монархией и Ахмета Зогу — монархом.
Однако все научные и политические аргументы не смогли склонить «отцов нации» к тому, чтобы они закрыли этот вопрос и, подняв свои драгоценные персты, приняли раз и навсегда решение.
Поэтому «дебаты» продолжались бы до скончания века, если бы не выступил еще один депутат из зала. Он привел самый веский, продуманный и научно обоснованный довод.
— О аллах! — сказал он. — Школьники забросили занятия и ждут на улице! Давайте же не будем мучить бедных ребятишек и провозгласим Ахмета Зогу королем!
Аргумент, столь убедительный и мудрый, побудил собрание объявить наконец закрытыми «дискуссию и дебаты». Депутаты единодушно проголосовали за провозглашение Албании монархией и Ахмета Зогу королем. Все как один подняли пальцы.
Возгласы. Аплодисменты. Овации. Все встают.
Слово берет Гафур-бей:
— Предлагаю именовать нашего короля не «его величество», а «его высокое величество».
— Браво!
— Да здравствует его высокое величество!
— Да здра-а-а-авствует!
Депутаты снова уселись.
— Вроде бы все.
— Слава богу. Ужас какая духота.
Нет, оказывается, еще не все.
— Что? Опять председатель выступает?
— О чем говорит почтенный председатель?
— Создать…
— Громче, ничего не слышно!
— Создать комиссию и предложить корону спасителю нации.
Комиссию? Ну конечно же! Как это никому раньше не пришло на ум. Предложить корону! А если его превосходительство ее не примет? Не дай бог! Вот о чем не подумали «отцы нации». Теперь, пока комиссия не вернется с известиями, придется сидеть и гадать на четках: примет — не примет, примет — не примет. О господи!
Комиссия сформирована. В нее вошло более трети депутатов. Двадцать четыре человека, ни больше ни меньше. Шевтет-бей, оказывается, тоже в комиссии.
На следующий день, 1 сентября, комиссия отправилась в президентский дворец.
Адъютант в золотых галунах и аксельбантах распахнул перед ними решетчатые ворота и отдал честь. По обе стороны аллеи выстроились гвардейцы.
— Как интересно, Фейзи-бей. Даже не верится.
— Да воистину, великое историческое событие.
— Да я не об этом. Вспомните, Фейзи-бей. По-моему, именно мы преподносили корону князю Виду.
Фейзи-бей Ализоти оглядел членов комиссии и тоже удивился.
— Странно! Как это вы подметили?
— Смотрите, Шевтет-бей, Джафер-бей, Нуредин-бей, Гафур-бей, я и ваша милость.
— Удивительное совпадение!
— Мы тогда надеялись, что князь нас вознаградит, как полагается, а ничего не получили.
— Да. Он не успел.
— А на этот раз?
— Теперь мы получим все. Не беспокойтесь.
— Дай бог!
— Пошли ему господи удачу, ведь ни он без нас, ни мы без него никуда.
— Аминь!
Его превосходительство принял делегацию в зале.
Выслушав постановление собрания, он произнес одну лишь фразу:
— Решение собрания для меня закон.
Некоторые члены комиссии ухмыльнулись. Они-то знали, что все наоборот: всякое решение президента — закон для собрания.
Не успел его превосходительство договорить, как вдруг загремел орудийный салют в честь нового короля, послышались восторженные возгласы президентской гвардии, зазвонили колокола, а муэдзины с минаретов принялись призывать аллаха ниспослать благословение на этот знаменательный день.
Появление комиссии, принесшей благую весть о том, что его превосходительство принял корону Скандербега, вызвало среди учредительного собрания бурю восторга и неудержимый поток пламенных речей.
Первым взял слово депутат из Шкодры, представитель католического духовенства. Он, так сказать, внес в ассамблею новую ораторскую струю, подняв уровень речей на поистине цицероновскую высоту.
— Встань, Александр![35] Встань, Пирр![36] — воскликнул он. — Встаньте, мужи Албании! И ты, о великий Скандербег, узри и возрадуйся — албанцы выполнили твой завет. О Скандербег! В эту минуту твой правнук Зогу встает на твое место. Где ты, о Наим![37] Где ты, о Васо?[38] Придите же сюда и сложите по стиху! О благословенный день! О счастливый день! Смотрите, вот Пирр! Вот и великий Александр! Вот и Скандербег!..
Некоторые депутаты вскочили, чтобы посмотреть, куда указывал палец оратора, и снова сели, потому что не увидели ни Пирра, ни Александра и ни Скандербега, а только лысину Фейзи-бея Ализоти, черный тюляф Абдуррахмана Кроси да насупленную физиономию Мусы Юки.
Не успели еще стихнуть ахи и охи депутатов из Шкодры, как собрание вновь взволновал депутат из Гирокастры, который, бия себя в грудь, провозгласил:
— Я единственный, кто давно уже сумел оценить Ахмета Зогу как человека, которому суждено править Албанией. И вот, мой идеал стал идеалом всего албанского народа…
В тот же день, после обеда, его высокое величество Зогу Первый сам явился пред собранием, облаченный в парадный мундир. Под рукоплескания отцов нации он подписал акт присяги.
«Я, Зогу, король албанцев, клянусь именем всемогущего бога хранить национальное единство, государственную независимость и целостность…»
Только-только закончил он присягать, как прибыли машины с дамами, супругами и дочерьми министров. Все были разодеты в пух и прах, все с цветами. Через распахнутые двери в парламент ворвался гром пушек, звон колоколов, оглушительные звуки фанфар и выкрики муэдзинов с минаретов. Над Тираной пролетел самолет, разбрасывая листовки. При виде дам и девиц у его высокого величества заблестели глаза. Когда они окружили его и забросали цветами, он сразу почувствовал прилив уверенности в себе. С вожделением он оглядывал «сливки» женской части албанского общества, его глаза ощупывали один бюст за другим… Дамы проводили его до дверей парламента… А почтенные депутаты продолжали галдеть и после его ухода…
— Да здравствует его высокое величество!
В тесной ложе английский дипломат, поджав губы, сказал своему секретарю:
— Ну что за народ эти балканцы! Ни в чем не знают меры. Король Англии довольствуется саном «его величество», а это ничтожество придется теперь официально именовать «его высоким величеством».
— У них есть пословица на этот счет, сэр, правда не совсем приличная.
— Какая?
— Они говорят: «Скажи дураку…» — Секретарь досказал пословицу шепотом, на ухо дипломату, чтобы не услышала его супруга.
Тот прыснул со смеху.
В соседней ложе Нуредин-бей объяснял американскому посланнику:
— Этим актом, ваше превосходительство, мы воздвигли в Албании надежную плотину, чтобы сдержать напор большевизма.
— Oh yes, yes, — кивал заокеанский республиканец.
БОЛОТО
I
— Что ты там копаешься? Долго мы тебя будем ждать? — крикнул младший брат Агим.
— Ты бы сказал ей сначала доброе утро! — пожурил его старший. — Чего кричишь? Тоже, хозяин нашелся!
Шпреса засмеялась и ласково взъерошила волосы мальчику, но тот сердито тряхнул головой и отскочил в сторону.
— Доброе утро, Скэндер!
— Доброе утро, Шпреса!
— Ружье возьмешь?
— Возьму. Лёни говорит, на болоте утки есть.
Лёни стоял около волов, держа бодило крючком вверх. Высокий, худощавый, со смуглым обветренным лицом, он, улыбаясь, смотрел, как маленький Агим помогает матери грузить вещи на телегу.
— Доброе утро, Лёни!
— Доброе утро, Шпреса!
Лёни, смущенно улыбаясь пожал ей руку и, не зная, что сказать, прикрикнул на волов:
— Ну, Кутё! Ну, Баляш!
— Как ваше здоровье? Как поживает Силя? А Вандё как?
— Хорошо, — тихо ответил он, опуская глаза.
По всему было видно, что он не привык разговаривать с городскими девушками, да еще с такими красивыми.
Она быстро взглянула на его иссиня-черные, коротко остриженные, падающие на лоб волосы. Белая такия[39] ему очень шла.
Рефия постелила поверх рогожи коврик и с легкостью, неожиданной при ее полноте, влезла на телегу. За матерью села и Шпреса; юбка ее поднялась, обнажив колени. Шпреса быстро ее одернула и бросила взгляд на Лёни, но тот стоял, не поднимая головы.
— Поехали, папа, — крикнул Агим, устроившись на телеге раньше всех.
Отец, высокий, седоволосый, с резкими чертами лица, сидел на крыльце и разговаривал с Кози, щуплым крестьянином в потрепанной одежде из домотканой шерсти и в пропотевшей по краю феске.
Еще не рассвело, когда телега тронулась, монотонно скрипя несмазанными колесами. Шпресе эти звуки поначалу показались очень приятными.
Лёни со Скэндером молча шли впереди.
— Давно вы не приезжали, — сказал наконец Лёни.
Он был моложе Скэндера, а рядом с ним выглядел совсем мальчишкой. Скэндер, резкими чертами лица походивший на своего отца, да еще с усами, выглядел очень внушительно.
— Да, Лёни. Года два-три. — Голос его прозвучал неожиданно мягко.
— Да нет, уже целых пять лет. С тех нор как умерла мать.
— Неужели? Так давно? Да, да. Ты прав.
— Мы вас все время ждали. Отец каждый год оставляет для вас две индейки. «Не режьте их, — говорит, — они для учителя». Они старые друзья, наши старики.
— Да. И мой отец очень любит Кози.
— Ты, наверно, забыл наш домишко.
— Я его никогда не забуду, Лёни. Сколько раз я приезжал к вам, помнишь?
— Ну как же. Все помню.
— Я был маленький, меньше Агима, когда мы приехали в первый раз. Ты ходил в платьице, только-только встал на ноги. Помнишь?
— Нет, не помню.
Оба рассмеялись.
— Ты стал совсем взрослый, настоящий мужчина, — сказал Скэндер. — Если бы я тебя встретил на базаре, не узнал бы.
— А я тебя, как только увидел, сразу узнал.
Они дошли до самого моста, припоминая подробности своего детства, потом свернули на проселок и пошли вдоль реки. Далеко впереди слабо осветились вершины гор, зарозовели легкие облака. Солнце извещало о своем восходе: рождался еще один жаркий августовский день.
— Будет дождь, — сказал Скэндер.
— Откуда ты знаешь?
— А вон видишь красные облака? Итальянцы говорят: красно небо вечером — к хорошей погоде, а утром — жди дождя.
— У нас по утрам всегда так, а дождя нет.
Невдалеке с пронзительным писком вспорхнул из травы кулик. Воробьи затеяли ссору в ветвях ивы, домашние утки с шумом плескались на мелководье. От реки поднимался легкий пар; вода, плавно колышась, сливалась вдали с туманом. Еще не просохла предрассветная роса, но из-под ног уже поднималась мелкая, как мука, пыль.
— Много уток на болоте?
— Да, есть.
— Ты охотился?
— Я? Нет. С чем охотиться-то?
Наконец показалось солнце. Оно выглянуло сначала краешком, разбросав во все стороны полосы лучей, изломанные рдеющими облаками. На песчаном островке, там, где река разделялась на два рукава, пробудились от дремоты птицы. Взлетели чайки, за ними, лениво взмахнув крыльями, с резким криком поднялась цапля.
Туман рассеивался.
Они долго шли молча, с наслаждением вдыхая свежесть летнего утра. Потом Лёни свернул вправо, и Скэндер вскоре почувствовал тяжелый запах болотной гнили. Все кругом изменилось. Вместо жирной черной земли, кукурузных полей да межей, поросших колючим кустарником, ивняком, а кое-где засаженных фруктовыми деревьями, теперь во всю ширь расстилалась голая равнина, замыкавшаяся на горизонте стеной тумана. Земля здесь была белесая, растрескавшаяся от сухости, поросшая редким кустарником, осокой и чертополохом. Дорога, что тянулась от реки, будто раздробилась на десятки тропинок: следы колес веером расходились в разные стороны. Тот, кому не известна были эти места, остановился бы в нерешительности, не зная, по какой тропе пойти, но Лёни уверенно направился по одной из них и вскоре вывел своего спутника на кромку болота.
— Отдохнем немного.
— Как хочешь.
Они присели на краю канавы. Кто-то прокопал ее, в надежде осушить клочок земли, засеянный кукурузой, но, видно, зря старался: из липкой грязи торчали лишь редкие чахлые стебли.
— Закуривай.
— Я не курю.
— Правильно. И не начинай.
— А сам почему куришь?
Скэндер засмеялся.
— Что делать, Лёни. Заботы заели, покуришь — и вроде легче становится. А у тебя, видно, нет забот.
— Если бы табак спасал от забот, мы бы все таскали с собой по целому мешку.
— Это верно. Далеко еще?
— Уже пришли. Вон там свернем налево и будет деревня. Не помнишь, значит?
— В последний раз мы шли не по этой дороге. Кажется, вон там.
— Через Дуналары. Мы там ходим зимой. А здесь короче.
— А вон и телега.
Лёни обернулся — подвода показалась из-за поворота и двигалась к ним, поднимая клубы пыли.
Скэндер вдруг вскочил, бросив окурок, схватил ружье и быстро прицелился. Над ними летела горлица. Скэндер опустил ружье.
— Слишком высоко, — сказал он, следя, куда она сядет. — Я пойду к тополям. Пошли?
С дороги донесся скрип телеги. Впереди с бодилом в руке скрестив ноги сидел джа[40] Кози. Около него, прислонившись к борту телеги, ехал учитель, посредине сидела, неловко вытянув ноги, госпожа Рефия. Агим то и дело вскакивал и пытался устоять, не держась. Шпреса сидела сзади и смотрела на тянувшиеся за колесами следы.
— Вот я и говорю, — рассказывал Кози, — даже на семена не хватило. Отдай треть, отдай десятину, смотришь — ничего и не осталось, детей нечем кормить. Да разве он тебе оставит, проклятый! Присылает своих надсмотрщиков, и те забирают все подчистую. Ему и дела нет, как у тебя, есть хлеб или нету хлеба…
Волы вдруг остановились. Стадо коров запрудило всю дорогу, поднимая к небу облако пыли. Агим принялся считать: одна, две, три… За коровами шли два мальчугана его возраста, у каждого матерчатая сумка через плечо и палка в руке. Они с любопытством рассматривали женщин на телеге, а заметив Агима, пошептались, и один из них, обросший рыжими патлами, в сдвинутой на затылок феске, показал ему язык.
Шпреса засмеялась, а рассерженный Агим готов был спрыгнуть, чтобы схватиться с обидчиком. Она удержала его за руку.
— Пусти! Я ему покажу!
— Сиди.
— Пусти. Ну, если я ему не…
— Сиди. Знаем, что ты смелый, — сказала ему мать. — Еще не приехали, а ты уже ищешь, с кем бы подраться.
— А чего он дразнится.
— Ладно, ладно. Сиди.
Телега тронулась.
Волы как будто узнали родную улицу и пошли веселей.
Улица была пустынна. Лишь петух с криком гнался за курицей, да чуть подальше несколько гусей важно выходили из открытой калитки. Где-то неподалеку заревел осел, и Агим рассмеялся.
— Замолчи! Чего зря смеешься! — сказала мать.
Подъехали к самому краю болота и свернули налево. Шпреса увидела камыши, стоячую воду, заросшую травой, и крестьянина в лодке, груженной соломой. Телега остановилась.
Молоденькая крестьянская девушка в длинном цветастом платье открыла им ворота и посторонилась, пропуская телегу. Шпреса узнала Силю, свою подружку детства, и помахала ей рукой. Как сильно она изменилась! Где та щупленькая чумазая девочка с длинными косами, какой Шпреса помнила ее пять лет назад. Силя превратилась в красивую девушку с вьющимися золотистыми волосами. Румяные щеки, смеющиеся голубые глаза. Как могла вырасти в этом месте такая красавица! Жаль, что так плохо одета. Но и это старенькое платье ей к лицу. Какая она в нем высокая! Или она на самом деле такая высокая?
Шпреса спрыгнула с телеги и кинулась к подруге. Они расцеловались, затараторили, перебивая друг друга.
— Как ты тут, Силя? Как ты выросла! Как я рада тебя видеть!
— Здравствуй, Шпреса! Как хорошо, что ты приехала! Вы совсем нас позабыли. Сколько мы не виделись?
— Помоги слезть госпоже Рефии, — прервал их Кози. Силя бросилась к телеге.
«Не такая уж она высокая, — решила про себя Шпреса, — но какая хорошенькая!»
Силя протянула руку, помогая слезть с телеги госпоже Рефии, которая двигалась теперь с трудом, неуклюже. Оказавшись на земле, она обняла девушку:
— Здравствуй, доченька. Да ты совсем невестой стала! Дай-ка я тебя поцелую.
Учитель слез с телеги вслед за Кози, пожал Силе руку и поцеловал в лоб.
— Пожалуйте, пожалуйте в дом, господин Демир! — приговаривала Силя, выхватывая узелок из рук госпожи Рефии и сдергивая коврик с телеги.
Двор был чисто выметен и побрызган водой из колодца, что виднелся справа: на веревке, привязанной к журавлю, ведро, рядом колода для скотины, полная воды. Большая шелковица затеняла весь двор, и солнце, едва пробиваясь сквозь ее листву, выложило на земле мозаику световых пятен.
Никто бы не обратил внимания на рогожу, постеленную под шелковицей, если бы Агим, шагавший впереди всех, не закричал:
— Гляди, Шпреса, гляди!
— Ты что, сынок, никогда не видел теленка, что ли? — прикрикнула Рефия.
Но Шпреса взглянула и рассмеялась. За ней рассмеялись и госпожа Рефия, и учитель.
Силя вначале не поняла, почему все смеются, я немножко встревожилась, а потом тоже расхохоталась. Теленок стоял у рогожи и лизал старое одеяло, покрывавшее маленькую копну сена, но, когда раздался смех, «копна» вдруг зашевелилась, оттуда высунулась голова мальчугана. Он приподнялся, хлопнул по морде теленка, лизавшего ему щеки, а заметив смеявшихся, снова спрятался под одеяло.
Это еще больше всех рассмешило.
— Бесстыжий, — сказала сквозь смех Силя. — Каждое утро только и знает, что вылизывает мне мальчишку, будто ему солью щеки кто помазал. Вставай, Вандё, вставай! Гости приехали. Вот и Гим здесь!
Вандё не высовывал головы.
Госпожа Рефия присела около него и, потихоньку стаскивая одеяло, ласково проговорила:
— Что же ты, от тети Рефии прячешься, плутишка? Вставай! Посмотри, что я тебе привезла!
Она вынула из передника две длинные карамельки и красного петушка на палочке.
Вандё озорно зыркнул глазами, неожиданно выхватил у госпожи Рефии подарки и юркнул с ними под одеяло.
Теперь уж никто не мог удержаться от смеха. Даже Кози, проходивший мимо с распряженными волами, улыбнулся и покачал головой.
Шпреса оглядела закопченную балку и соломенную крышу. Кроме сундука, двух-трех шерстяных домотканых одеял на нем и софры,[41] висевшей на стене, в хижине ничего не было. На земляном полу две рогожи, между ними очаг.
Госпожа Рефия опустилась на коврик, постланный Силей, и вытянула ноги. Господин Демир сел скрестив ноги напротив, а Шпреса примостилась около матери. Агим остался стоять. Кози, войдя, сел рядом с учителем и положил перед ним кисет.
Силя обошла гостей с деревянным подносом.
— Жениха тебе, доченька! — пожелала ей госпожа Рефия, беря с подноса чашку молока.
— Счастья вам, Кози!
— Дай нам бог встретиться в счастливый день, господин Демир!
Молоко показалось Шпресе очень вкусным.
В дверях появился Вандё. Он оделся, в руках держал подарки.
— Иди сюда, Вандё, иди к тете.
Он спрятался за дверь.
Агим подкрался, чтобы схватить его, но тот бросился наутек.
— Поймал! — послышалось со двора.
— Пусти!
— Пошли в дом.
— Не пойду.
— Друзья мы с тобой или нет? Пойдем.
— Пусти, я сам пойду!
Агим вошел первый, за ним и Вандё. Хотя они были почти одногодки, восьми-девяти лет, щуплый Вандё казался младше. Он был похож на сестру.
Госпожа Рефия усадила его к себе на колени и погладила по вихрастой голове.
— Так быстро забыл тетю Рефию, а?
— Нет, тетя Рефия, он вас не забыл, — сказала Силя. — Даже вчера спрашивал, когда снова поедем к тете Рефии. Просто стесняется он.
— А со мной за руку поздороваешься? — спросила Шпреса.
— Поздоровайся и с господином Демиром, — велел Кози.
— Ну, пошли, — сказал Агим.
— Погоди, Вандё, — остановила их Рефия. — Шпреса, подай-ка мне вон тот узелок.
Положив узел на колени, она развязала его и, покопавшись, достала брюки и голубую ситцевую рубашку.
— Бери. Тетя Рефия сшила для тебя.
Вандё посмотрел на нее, но не двинулся с места.
— Зачем же вы тратились, госпожа Рефия, — сказала Силя.
— А это тебе, — протянула ей Рефия цветастый ситец. — На платье…
— Зачем же, это совсем не нужно…
— Тебе Шпреса сошьет, — прервала ее Рефия.
Тем временем Агим с Вандё поладили и исчезли во дворе.
Выйдя из дома, Вандё поманил за собой Агима и побежал в сад, к инжиру. Не успел еще Агим сообразить, в чем дело, как Вандё ловко, словно белка, взобрался на дерево и принялся срывать самые спелые ягоды.
— Брось и мне!
— Залезай сам.
— Я боюсь порвать костюм.
— На, лови!
Агим подставил ладони, но Вандё, лукаво подмигнув, вдруг отправил инжирину, вместе с хвостиком и кожурой, себе в рот.
— Эх ты, обманщик! — обиделся Агим и, ухватившись за ветку, полез наверх.
Лёни со Скэндером возвратились нескоро, перед самым обедом. Родители, скрестив ноги, сидели во дворе, на рогоже, постланной в тени шелковицы. У колодца Шпреса с Силей что-то готовили на огне.
Скэндер повесил двустволку на сучок шелковицы и снял патронташ вместе с несколькими горлицами.
— Иди присаживайся, — позвал Кози.
— Только умоюсь, — ответил Скэндер, направляясь к колодцу.
— Силя! Полей Скэндеру.
Она взяла ведро, чтобы полить Скэндеру на руки, и встретилась с ним взглядом.
— Здравствуй, Скэндер, как поживаешь?
Он на мгновение смутился. Он помнил девчушку с косичками и совсем не ожидал увидеть ее такой взрослой и красивой.
— Спасибо, хорошо, Силя, а ты как?
Они пожали друг другу руки.
— Как ты выросла! — удивился он.
Она покраснела и опустила голову.
II
После обеда все разошлись кто куда.
Лёни со Скэндером снова пошли охотиться на горлиц и уток, предупредив, что вернутся поздно, когда стемнеет.
Вандё и Агим вместе с деревенскими мальчишками поиграли в чижика, потом полезли в соседский сад за инжиром и виноградом.
Ребята по-дружески встретили городского гостя.
Рыжий, что дразнил его утром, тоже с ним помирился. Увидев его, Агим полез было в драку, но тот замахнулся своей пастушьей палкой, а на угрозы и бровью не повел. Ребята вмешались и заставили их помириться: они сцепили мизинцы, прежде поплевав на них. Вечером ребята проводили Агима до самого дома, а когда все ушли, он изрядно надоел родителям рассказами о своих приключениях за день.
Силя со Шпресой не теряли времени даром. Они зарезали индюшку, ощипали горлиц и приготовили ужин. Силя сварила молочный кисель. Кози отправился в Дэлыньяс, соседнюю деревню, купить раки в лавке Кома, так что дома остались лишь Демир да госпожа Рефия, вздремнувшая в тени шелковицы.
К вечеру все снова собрались вместе. После дневного пекла наступила летняя ночная прохлада. Полная луна посеребрила землю, резко очертив тени деревьев, плетней и стогов. Пахло болотом, сеном от стоявших у дома стогов и навозом. Кваканье лягушек, выкрики диких птиц на болоте перебивали монотонную песню сверчков, сменивших дневных цикад. То и дело над ухом раздавался тонкий пронзительный писк, словно сигнал тревоги, не предвещавший ничего доброго деревне, которая была комариной вотчиной. Если бы не яркий свет луны да не костер, на котором готовили ужин, от комаров не было бы спасения, ведь ужинали во дворе, под соломенным навесом хижины. Кози расстелил две новые рогожи и коврик, вынес круглую, ничем не покрытую софру, расставил на ней тарелки с закуской и стопки для раки. Он то и дело наполнял их из литровой бутылки. С гвоздя, вбитого в глинобитную стену, свисала керосиновая лампа. Вокруг закоптелого стекла кружились мотыльки и всевозможная мошкара.
Демир Петани сидел скрестив ноги на почетном месте, под самой лампой, с новым полотенцем на коленях. Справа от него, вытянув ноги в сторону, опершись на прислоненную к стене подушку, сидела госпожа Рефия. Кози расположился по левую руку от господина Демира. Скэндер с Лёни устроились напротив, на краешке рогожи, освободив место зашедшим в тот вечер односельчанам, Пилё Нуши и Уану Ндриу. Услыхав о приезде учителя, оба заглянули поздороваться с гостем, и Кози пригласил их поужинать.
Пилё — смуглый крестьянин с проседью в волосах, с редкими усами, со сросшимися над переносицей бровями и хмурым лицом. Уан, напротив, был веселого и добродушного нрава, рыхловатый старик с белоснежной шевелюрой и усами.
Силя и Шпреса суетились у огня, и то одна, то другая подносили закуски. Агим с Вандё, усевшись на бревне у костра, жарили кукурузные початки.
— Ну, твое здоровье, Кози! Будь счастлив!
— Будь здоров, Уан!
— За ваше здоровье, господин Демир, за вас, госпожа Рефия! Будьте и вы здоровы, молодые люди! Будь здоров, Пилё!
Разговор шел о прошлых днях, когда учитель прятался в этих местах. Вот почему Пилё обратился к Уану:
— Ну-ка, Уан, расскажи нам ту историю с индейкой.
— Да я уже рассказывал.
— Ну так расскажи еще раз.
— Давай, Уан. Мы послушаем, — ободряюще улыбнулся учитель.
— Так вот, — начал Уан, усаживаясь поудобней и снимая такию, словно она ему мешала. — Так вот, значит, приходят как-то к нам в деревню эти пентюхи с гор со своим начальником. Ура, вперед, где бы чего загрести. А с нас, голытьбы, что возьмешь? У нас беи еще до них все загребли, ничего им не оставили! Стоят себе наши домишки, голые да пустые, как могила. Ну и вот, решили они к ночи двигаться дальше. Но закусить-то надо, и разошлись по нашей деревушке — пять человек на каждый двор. Заявляются они к деду Наси. Увидал их дед, чуть кондрашка его не хватил. «Ой-ой, — думает, — вот так штука». Ну да их начальник оказался ничего, смирный старик, не буян. Только они расселись, подзывает он деда Наси:
— Эй, ты, — говорит, — а есть у вас такие, ну, что кричат гур-гур-гур?
— Есть, а как же.
— Ага. Тогда зарежь-ка нам такую!
Уан старательно воспроизводил дибранский диалект, и оттого, может быть, что часто рассказывал эту историю, у него получалось совсем неплохо; его рассказ всегда вызывал смех. Скэндер, который до этого сидел задумавшись, теперь словно очнулся и внимательно слушал. Лёни хохотал с самого начала, остальные еле сдерживали смех. Одна лишь госпожа Рефия не слушала, о чем говорят, она следила за мальчиками, которые ссорились у костра из-за поджаренного початка.
— «Ну ладно, — думает дед Наси. — Индюшатины захотелось? Будет им индюшатина». Пошел он и зарезал двух индюков. Жена его, Валя, приготовила их, значит, под соусом, повырезала мякоть да и накормила детей. А детей-то у них целый выводок — восемь человек, мал мала меньше. Подает она, значит, остатки этим пентюхам. Те сожрали все, что было, косточки обглодали, пальцы облизали, да и пошли со двора. Идут, молчат. Подошли к шелковице, где у них было договорено собраться всем вместе, уселись на землю да свернули по цигарке. А их начальник сидит уж больно задумчивый. Все старается чего-то сообразить, бедный, да никак. Наконец спрашивает:
— Эй, Джетан!
— А?
— Тебе что досталось?
— Шейка.
— Селим!
— Чего?
— А тебе что?
— Шейка.
— А тебе, Суль?
— И мне шейка.
— А тебе?
— И мне шейка.
Бедный старик аж рот разинул. «Э, — говорит, — да он нам аиста скормил!»
Мальчики все еще ссорились у костра, когда вдруг грянул дружный смех.
Скэндер рассмеялся вместе со всеми, потом опять погрузился в размышления. «Веселятся бедняки. Находят ж они чем позабавиться. Смеются над своими мучителями. Недаром говорят: смех — оружие слабого. Это естественно. Изменить что-то они не в силах, только и могут, что посмеяться. Да уж насчет того, чтобы поднять на смех кого-то, им равных нет, от них не спасешься. Ну а тех кровопийц разве проймешь насмешками? На зверя пуля нужна!»
— Ну ладно, что было, то было, — произнес Пилё, словно угадав мысли Скэндера. — А вот дальше как будет?
— Сейчас, слава богу, эти пентюхи вроде бы оставили нас в покое, — сказал Уан.
— Только их нам и не хватает. И так еле-еле душа в теле. Что-то беи наши совсем расходились. Сколько им ни давай, все мало. Ты посмотри только, что творит Гафур-бей вместе со своими холуями! — И Пилё тяжело вздохнул, как бы прекращая разговор, но, заметив, как пугливо озирается Уан, крикнул:
— Чего это ты оглядываешься?
— Потише, Пилё, не кричи, а то услышат…
— Здесь все свои.
— Свои-то свои, да ведь нынче и у заборов есть уши, да что там, камни на дороге и те могут подслушать.
— Ну и что? Хуже не будет.
— Ну да. Бывает и похуже.
— У добра да у горя нет конца, — сказал Кози.
— Да, да, — качнул головой Пилё, словно разговаривая сам с собой. — Мы стали трусливы, как зайцы, боимся даже слово сказать о своих бедах. Вот этим-то страхом они нас и держат под пятой.
— Терпение, Пилё, терпение, бог думает и о нас.
— А бог-то чей, ихний и есть, Уан. Они его для себя приспособили. А мы пялимся на его бороду, да что толку.
— Не богохульствуй, Пилё, — вмешался Кози. — Не говори так. — Он поднял стопку и, пытаясь переменить тему разговора, обратился к Уану. — Ну и насмешил же ты нас, Уан. Дай бог, чтобы этот смех был на счастье. — Будьте здоровы!
— Удачи тебе, Кози!
Пилё залпом выпил и повернулся к учителю:
— Как вы думаете, господин Демир, почему, когда мы смеемся, всякий раз говорим: «Дай бог, чтобы на счастье»?
— Как тебе это объяснить, Пилё. Наверно, из суеверия.
— А мне кажется, мы говорим так из страха, — сказал Пилё. — Мы даже смеяться боимся. У нас так мало радости, что когда, случается, посмеемся от души, так сразу кажется, будто грех какой совершили, боимся, не к плохому ли это.
— Пилё прав, — заговорил Лёни. — Господь разделил все пополам. Одним отдал радость да веселье, а нам лишь печаль да горе. Потому стоит нам засмеяться, как уже кажется, что в грех впадаем.
— Не впадай же и ты во грех, сынок. Не упоминай всуе имя господне, — с укором сказал Уан.
— Чепуха, — отрезал Пилё. — Просто наш народ боится смеяться.
— Ну уж нет, Пилё, есть у нас и такие, что скалят зубы почем зря.
— Ну да ведь не так страшен черт, как его малюют, — сказал учитель. — И в аду бывает весна.
— Бывает, бывает, господин Демир, да только людям не до нее, коли заботы донимают. Помните, что вы говорили нам о беях?
— Другие времена, Пилё, что о них вспоминать?
Уан попытался повернуть разговор на другое: он очень боялся, что Пилё выпьет еще и тогда наговорит невесть чего. Чем дальше в лес, тем больше дров. Улучив момент, он обратился к Скэндеру:
— Знал бы ты, сынок, сколько перенес твой отец! Его кругом искали. Вот этот дед прятал его целых четыре месяца… — Он похлопал Кози по плечу. — А жандармы да эти пентюхи горцы переворошили все стога, обшарили все сараи, а найти не нашли — куда там! У деда Кози было такое местечко — днем с огнем не найдешь. Уж на что мы, и то не могли догадаться, где он его прячет. И как ты только додумался до островка на болоте, а, Кози?
— Нужда заставит — до всего додумаешься.
— Знаешь, Скэндер, три раза приходили жандармы в эту халупу, обшарили всю как есть, — добавил Пилё. — Даже из наших деревенских ни один не сообразил, что можно спрятаться на болоте.
— А островок тот далеко? — спросил Скэндер.
— Нет. Тут рядом.
— Сходим завтра, Лёни?
— Сходим.
— Там хорошее место для охоты, — сказал господин Демир. — Помнится, сидишь один круглые сутки, а утки и гуси садятся так близко, прямо хоть руками лови. Я боялся, как бы меня случайно не обнаружил какой-нибудь охотник. Лучшего места для засады на уток на всем болоте не найти.
— А еду как вы ему носили? — спросил Скэндер.
— Дед Кози обо всем позаботился, — ответил Пилё. — Даже мы ничего не замечали.
— Лёни носил, — добавил Уан. — Он тогда был совсем малец, меньше, чем Вандё сейчас, но такой чертенок: брал сумку с едой и отправлялся вроде бы на реку, а потом кругами, кругами, да и к островку.
— А лодку? Где же вы прятали лодку?
— Какая лодка! Его бы тут же заметили.
— Как же он переправлялся?
Лёни сидел опустив голову. Он чувствовал, Шпреса стоит в дверях и внимательно слушает, глядя на него.
— Расскажи Лёни, — попросил Скэндер.
— Пешком ходил.
— Пешком? Но ведь болото даже летом глубокое, а зимой и вовсе. Как же ты ходил?
— Так и ходил, Скэндер, — ответил за Лёни его отец. — Я прямо готов был выть от тоски, когда он отправлялся на болото в такой холод да босой. А что было делать? Придет он продрогший, я ему ноги разотру полотенцем, закутаю в одеяло, а снова идти надо.
— Не понимаю… — начал было Скэндер.
— Я объясню, — прервал отец. — Река когда-то протекала здесь, а потом переменила русло, тут неподалеку от дома оно и проходит. А островок — это небольшой холмик у старого русла. Зимой вода покрывает берег, но не больше чем на две-три ладони. Кто это место хорошо знает, доберется до островка без особого труда. Правда, Лёни?
— Да, да, господин Демир!
— Лёни тут все знает как свои пять пальцев, летом корову тут нас. Еще и заметок себе понаделал: тут колышки воткнул, там травинки связал, так, Лёни?
Лёни кивнул.
— Завтра обязательно меня сводишь на тот островок, — сказал Скэндер.
— А ты знаешь, Скэндер, — снова вступил в разговор Уан, — однажды его выследили и поймали у реки, открыли сумку и спрашивают: «Куда тебе столько еды? Кому несешь?» Думаешь, он им что-нибудь сказал?! Молчит, как скала, и все тут. — Уан стукнул кулаком по софре.
— Вылитый отец, — сказал Пилё. — Кози ведь тоже чуть не забили насмерть, а ничего не выпытали.
— Расскажи-ка, Лёни, как тебя колотили жандармы, — сказал Уан.
— Да разве ж я помню, дядя Уан. Я тогда был маленький.
— Помнишь, помнишь.
— Побои да долги не забываются, — сказал Пилё.
— Они тогда так избили Лёни, что он встать не мог. Две недели отлеживался. Даже палец ему сломали. Вот, смотрите! Видите, он у него скрюченный.
Лёни попытался вырвать руку, но Уан держал ее крепко, показывая всем искривленный мизинец.
— Довольно, Уан, хватит этих историй, — сказал господин Демир, заметив смущение Лёни. — Спой-ка нам лучше. Твое здоровье, Кози! Счастья тебе и удачи!
— Будем здоровы, господин Демир. Вот так-то лучше. Давай. Пилё, запевай.
— Споем, Кози, погоди. У меня, господин учитель, до сих нор камень на сердце, — сказал Пилё со злостью. — Нас всех тогда согнали к церкви, связали ноги да и выпороли по очереди. Век не забуду. Того унтер-офицера, что меня порол, до сих пор во сне вижу. Эх, повстречайся он мне!
— Ну и встретишь, что ты ему сделаешь? — спросил Уан.
Пилё тряхнул головой.
— Не знаю. Но хотелось бы мне с ним повстречаться, — медленно проговорил он и залпом выпил раки.
Скэндер, не отрываясь, смотрел на Пилё. Обветренное, изрезанное морщинами и все же красивое лицо крестьянина было угрюмее обычного.
Лёни поднялся и пошел к дому, но в дверях стояла Шпреса, и он свернул к костру, достал из огня два кукурузных початка, оставленных ребятами. Мальчишки уже давно подкрались к взрослым и тихонько сидели, внимательно слушая их разговоры.
Скэндер старался детально восстановить события.
Он знал, что его отец уже в те времена был дружен с Кози Штэмбари. Сам он был еще ребенком и мало что помнил, но с детства привык относиться к дяде Кози и его семье как к родным, хотя почти ничего не знал о том, что тогда произошло и почему родители так любят этого бедного крестьянина и его семью. Теперь из рассказа деда Уана ему все стало ясно.
Скэндер знал теперь, что эти простые люди не только делили с его отцом хлеб своих детей и свое убогое достояние, но даже готовы были принять ради него побои и издевательства. Маленький Лёни и тот стойко вынес пытки жандармов, а не выдал человека, чья жизнь зависела от одного его слова. Теперь Скэндер понимал, почему отец так любит и ценит этого парнишку.
Скэндеру захотелось подойти к Лёни. Он стал для него близким, словно родной брат. Но в этот момент Уан поднял стакан:
— Твое здоровье, Скэндер!
— За вас, джа Уан!
Пилё откашлялся и запел. Уан тут же подхватил, остальные затянули на октаву ниже, создавая фон. В низких протяжных голосах слышалась глубокая тоска, надсадный плач. Не песня, а скорее стон.
«Почему в наших песнях столько горечи? — думал Скэндер. — И слова и мелодия так хороши, а песня не радует душу. Да и с чего веселиться народу? У нас и разговора другого не услышишь, только о заботах да о невзгодах. И нет идеала, который захватил бы нас целиком, заставив позабыть о повседневном прозябании, хотя какие уж тут идеалы, когда мы все превратились во вьючный скот! Человек надрывается с утра до вечера, с вечера и до утра, думая лишь об одном: как прокормить своих детей. Мечется, унижается, выбивается из последних сил — и все ради куска хлеба. И недосуг нам поднять голову и оглянуться вокруг. Вот, например, Лёни или Силя, что с ними будет? Заведут семью, пойдут дети, прибавится забот, и уж никогда не оторвать им взгляда от земли. А ведь это люди, наделенные и разумом и чувствами. У Пилё душа как огонь. Лёни умен, все схватывает на лету. Как же плохо мы знаем крестьян!»
Гости ушли, и все улеглись спать, а он все думал и думал. Ему постелили под навесом на рогоже, рядом с Лёни. Подложив руки под голову, он лежал, смотрел на звезды и размышлял.
Луна склонилась к западу. На рогожу упала тень от навеса. Звезды на небе казались совсем редкими. Болото затихло, и лишь сверчки своей монотонной музыкой нарушали ночную тишину.
«Как велика вселенная! — думал Скэндер. — Астрономы говорят, что наш мир в сравнении с ней — песчинка на краю мироздания. А что мы значим в этом мире?»
— Звезды считаешь? — сонно спросил Лёни.
— Нет, просто смотрю.
— Не считай, а то бородавки на руках вскочат.
— Мне нравится смотреть на звезды. А тебе?
— Мне не до звезд!
— А почему?
— Крестьяне мы, Скэндер. Нам так пригнули загривок, что и головы не поднять, какие уж там звезды.
Этот глубокомысленный ответ поразил Скэндера.
— Ты знаешь, что такое звезды, Лёни?
— Слыхал, будто это огонь, а больше ничего не знаю.
— А видишь эту светлую полосу через все небо?
— Солому Крестного отца?[42]
— Да. Так вот эта туманность состоит из миллиардов звезд, и каждая больше нашей земли в сотни раз. Они далеко от нас, очень далеко. Миллиарды километров. А вон видишь те семь звезд наподобие ковша? Это Большая Медведица. А вон та звезда напротив двух крайних звезд Медведицы называется Полярной звездой. Ты слыхал о ней?
Лёни не ответил. Он спал, подложив ладонь под щеку.
«Ну и дурак же я, — рассердился на себя Скэндер. — Ведь говорил же он, что ему не до звезд. Да. Им земных забот хватает. Но небо так прекрасно! Придет ли такое время, когда всем будет доступна его красота?…»
III
Гафур-бей засел на краю болота, у заводи, где крестьяне держали свои челноки. Он не впервые охотился здесь и знал, что утки непременно должны пролететь над ним. Ну вот! Уже слышны их крики, сердце у бея сладко замирало.
Утренняя свежесть заставляла его ежиться: одет он был легко: рубашка, спортивная куртка, парусиновые штаны и высокие сапоги. Но он знал, что скоро рассветет, утки поднимутся с болота, полетят в его сторону и охотничий азарт согреет его.
Светало.
Горизонт раздвигался. Уже можно было различить тростник вдалеке и недвижную воду болота. Уже вырисовывался силуэт горы Томори, обозначились скрывавшиеся во мраке расщелины и трещины на горе Шпирагу, похожие на старческие морщины. Хлопая крыльями, с болота поднялась стая уток.
Бей по звуку понял, что утки поднялись, и изготовился стрелять.
И вдруг…
Выстрел. За ним второй…
Утки шарахнулись в сторону. Повернули на север.
Бей разозлился.
Кто там стреляет? Кто посмел охотиться на его болоте?
И снова два выстрела подряд. Утки разлетелись.
Напрасно бей напрягал зрение, пытаясь разглядеть охотника: солнце еще не встало и ничего не было видно.
Еще один выстрел.
Ах, чтоб им… Охотиться тут без его позволения? Интересно, как они сюда добрались? На челноке? Но ведь они все на месте!
Бей закинул ружье за плечо, закурил и принялся нервно расхаживать по кромке болота. Каждый новый выстрел приводил его в бешенство. Наконец он не выдержал, швырнул недокуренную сигарету, закричал во всю глотку:
— Шеме! Эй, Шеме!
Из-за кустов показался высокий белый тюляф с шишечкой, а затем голова управляющего с полоской усов от уха до уха.
Бей знаками велел ему поторопиться, Шеме побежал рысцой, волоча за собой длинное ружье.
— Я тут, бей, — запыхавшись, доложил он.
Его слова пришлись в спину бею, который круто повернулся, когда прогремели один за другим еще два выстрела.
— Слышишь? — Бей повернул к управляющему потемневшее от гнева лицо. — Ты слышишь?
— Как прикажете, бей.
— Прикажете, прикажете. Выходит, я уже тут не приказываю! Кто это стреляет?
— Не знаю, бей.
— А что ты знаешь? Разве я тебе не приказывал, чтобы никто не смел охотиться на этом болоте? Что же ты, болван, тут охраняешь, свои дурацкие усы, что ли?
Гафур-бей был вне себя. Кто другой ужаснулся бы, глядя на его перекошенное лицо, выпученные глаза и гневно вздрагивающие усы, но только не Шеме-ага,[43] который и бровью не повел. Он хорошо знал своего хозяина и уже давно привык к его воплям и ругани.
— Может, какой охотник из города. Они ведь не знают, что вы, бей…
— Может быть, может быть! Ты мне точно скажи, кто это!
— Не знаю я.
— Иди и посмотри!
— Как же я пойду?
— Черти тебя понесут! Лезь в болото! Вон лодка!
Шеме-ага положил ружье на землю и полез в лодку. Лодка закачалась, и он чуть не плюхнул в воду, но удержался, быстро присев и схватившись обеими руками за борта. Потом взял шест и уперся им в берег, но челнок не сдвинулся с места.
Бей вскипел.
— Ты что, болван, не видишь, что лодка привязана!
Осторожно перевалив через борт свое грузное тело, с опаской переступая ногами, Шеме вылез из челнока. Его мясистое лицо покрылось испариной. Отвязав лодку, он медленно и осторожно залез обратно, присел на корточки и уперся шестом в илистый берег. Лодка тронулась. Он вытащил шест, чтобы еще раз оттолкнуться, но не достал до дна, лодка качнулась, Шеме потерял равновесие и упал в воду. На мгновение он исчез под водой, а на поверхности остался тюляф, который тут же стал медленно погружаться вслед за хозяином.
Бей раскатисто захохотал. Пусть хоть этот расплачивается за подлость, которую ему подстроили. Испортить ему охоту на его же болоте!
Шеме-ага показался на поверхности с растопыренными руками, открыл рот, чтобы закричать, но не успел и снова скрылся под водой. Барахтаясь руками и ногами, он всплыл опять, попытался ухватиться за тростник, но тот сломался. Шеме завопил:
— Бей! Помоги!
Бей протянул ему дуло ружья.
Почувствовав под ногами землю, Шеме-ата, хрипло дыша, закашлялся, выплевывая ил, и вцепился в глинистый берег.
Бей взглянул на него, и его снова одолел неудержимый смех.
— И как это тебя угораздило, растяпа! Вот так прыжок! Прямо как мешок с цементом! С лодкой не можешь справиться, идиот! Дурак я, за что только тебе деньги плачу! Тьфу!
Шеме-ага рассердился, но не подал виду.
— Я не знал, что здесь так глубоко.
— Не знал, не знал! Живешь тут и не изволишь знать: где держат лодки, там самое глубокое место на болоте! Да здесь три метра глубины, болван!
— Я не знал.
— А что ты знаешь? Давай отправляйся, куда я велел.
— А как?
— Как знаешь. Вплавь!
— Я плавать не умею.
— Тогда убирайся! Чтоб духу твоего не было!
Бей повернулся к нему спиной, отошел на несколько шагов и остановился, всматриваясь. Уже развиднелось, но никто не появлялся. Управляющий побрел обратно в кусты, дрожа от холода и встряхиваясь. В кустах он разделся, оставшись в длинных подштанниках, выжал одежду и развесил сушить.
Бей в гневе и растерянности, не зная, что предпринять, пошел по краю болота. Пройдя немного, он резко остановился, широко расставив ноги и выставив перед собой двустволку, — навстречу ему шел рослый крестьянский парень, босой, в рубахе и парусиновых штанах, подвернутых выше колен. В одной руке у него было ружье, в другой — несколько уток, связанных стеблем камыша.
— Эй, ты что здесь делаешь?
— Я?
— Ты, а кто же, я, что ли?
— Я здесь живу.
— Ты чей?
— Сын Кози.
— Кто тебе позволил охотиться?
— Никто. А что, нельзя?
— Ты разве не знаешь, что это мое болото?
— Болото государственное, бей.
— Значит, государственное. Ты мне будешь указывать, чье это болото, щенок! Ты что, не знаешь, скотина…
— Не ругайся, бей. Попридержи язык! — оборвал его парень, отшвырнув в сторону уток и подняв ружье.
Бей направил на него свою двустволку и положил палец на предохранитель.
— Ах так! Ружье на меня поднимаешь!
— Ты сам в меня целишься.
— Ну-ка, бросай ружье и убирайся отсюда, иначе плохо будет!
Его трясло от бешенства, он был уверен, что парень испугается, но, смотри-ка, стоит себе как ни в чем не бывало, да еще насмешливо глядит на него.
— Ружье я не брошу, бей. Стреляй, если хочешь.
«Выстрелю, — решил бей. — Выстрелю для острастки в воздух, повыше головы», — подумал он. Но в тот миг, когда он собирался нажать курок, вдруг кто-то выбил ружье у него из рук и схватил его за ворот.
— Вы что это! — сердито крикнул Скэндер, незаметно подошедший сзади.
Гафур-бей попятился.
— А тебе чего здесь надо?
— Не ваше дело.
— Отдай мое ружье.
— Возьмите.
Лёни тоже подошел поближе.
Бей взял ружье и грозно посмотрел на них. Они стояли рядом, готовые в любой момент дать ему отпор. Бей поискал глазами управляющего, но тот был далеко — в одних подштанниках он прыгал вокруг костра, пытаясь согреться, ну прямо как индеец.
— Вы за это поплатитесь, так и знайте! — прорычал бой, вскидывая двустволку на плечо. — Особенно ты, щенок.
— А ну замолчите! — угрожающе сказал Скэндер.
— Я…
Но тут у бея аж глаза полезли на лоб от удивления. Что это за девушки сюда идут? Ну прямо богини, честное слово! Уж не нимфы ли? Он знал толк в женщинах, но таких красоток еще не встречал: одна черноволосая, видимо, городская, одета на французский лад, в коротком платье, в босоножках, а ножки белые. Другая, в длинном платье, блондинка, тоненькая, идет босиком. Двое мальчиков рядом с ними как пажи знатных дам.
Лёни со Скэндером повернулись в ту сторону, куда смотрел бей.
Шпреса с Силей шли неторопливо, взявшись за руки.
— Сколько уток! — закричал Агим. — Это ты настрелял, Скэндер?
— А вот селезень, — сказал Вандё.
— Откуда ты знаешь?
— Ты что, не видишь, у него зеленая голова!
— А вот еще один с зеленой головой! — громко объявил Агим.
— А вон еще! — добавил Вандё.
— Давай посчитаем.
— Ну как охота, Скэндер? — спросила Шпреса. Она почувствовала, что Силя сжимает ей руку, и повернулась к ней. Саля стояла потупившись. Она узнала Гафур-бея и перепугалась.
— Пойдем, Шпреса, — шепнула она.
— Кто это?
— Пошли, Лёни, — сказал Скэндер. — Пошли!
Вандё, повесив уток на руку, пошел впереди. Агим остановился перед Лёни.
— Дай мне понести ружье, дядя Лёни!
— Бери.
— Нет, я понесу! — закричал Вандё, бросая уток.
— Нет я!
— Не ссорьтесь, — вмешался Скэндер, — понесете по очереди, сначала Вандё, а ты бери уток.
— Уток я понесу, — сказал Лёни. — Бери ружье, Агим.
— Вынь патроны, — остановил его Скэндер.
— А там их нет.
Скэндер взглянул ему в глаза. Гафур-бей, кусая губы, стоял неподвижно, как столб. Они прошли мимо. Шпреса поглядела на него, насмешливо улыбаясь. Назвать его уродом было нельзя. Сейчас, поостыв, он выглядел не таким свирепым, и лицо его казалось даже приятным. Но Силя не подняла на него глаз. Ей было страшно. С детства она много слышала от бабушки и матери о жестокости беев, и они казались ей не людьми, а злыми драконами. И хотя сейчас перед ней стоял обыкновенный человек, высокий плотный мужчина с сединой на висках, все равно бей оставался для нее чудовищем и врагом крестьян.
Гафур-бей сдвинулся наконец с места, круто повернулся и пошел к кустам.
— Шеме! Эй, Шеме!
— Я тут, господин!
— Да где же ты, болван?
Шеме, теперь уже в штанах, с подштанниками в руке вышел из-за кустов.
— Коня мне! Быстро!
— Уезжаете, бей?
— А что мне здесь делать?
Шеме подвел ему оседланного коня.
— Слушай. Ты видел тут девушки прошли?
— Видел.
— Кто они?
— Одну не знаю, а другая — дочь Кози.
— Которая?
— Светловолосая.
— Ага!
Первая уже не интересовала Гафур-бея.
— Почему ты никогда не говорил мне, что у Кози такая дочь?
— А вы меня и не спрашивали, бей.
— Я что же, обо всем тебя должен спрашивать, идиот? Сам не можешь сообразить? Иметь такую куропаточку под носом и охотиться на уток на болоте! Ну и балбесов же я понабирал! Одевайся!
— У меня еще одежда не высохла.
— Зато мозги у тебя высохли! — заорал бей, вскакивая в седло.
Он пустил коня вскачь в ту сторону, куда пошли девушки, но не догнал их. Они успели свернуть с проселка на тенистую тропку, что вела к дому Кози.
IV
— Опять звезды считаешь, Скэндер?
— Нет, Лёни, думаю.
— О чем?
— О том, что я здесь всего каких-то три дня, а так хорошо узнал вас, Пилё, джа Уана…
— Да ведь ты нас давно знаешь.
— Знаю, конечно, но раньше я смотрел на вас глазами ребенка. Прошло пять лет, и теперь я все воспринимаю иначе. Знаешь, я хочу понять, что от чего: честность от бедности или бедность от честности?
— Наверно, второе.
— Почему?
— Потому что, сколько ни работай, все равно не разбогатеешь. Вот мы, крестьяне, работаем, работаем, из сил выбиваемся, а нищете конца не видно.
— Ты прав, Лёни. Богатеи не трудятся, а добра у них хоть отбавляй. Кто не крадет, не грабит, не подличает, тому в нашем королевстве туго приходится.
— Да, Скэндер. Давай спать. Завтра надо отправиться затемно, чтобы добраться до города по холодку.
Лёни улегся поудобнее, подложил ладонь под щеку и закрыл глаза.
Скэндер продолжал размышлять про себя. «Если честные бедны, то мы, выходит, самые честные в Европе, ведь беднее нас нет. Нет, что-то тут не так. Хотя, может, он и прав. Как плохо мы знаем свой народ! Вот я, к примеру, вбил себе в голову, что наши крестьяне — люди темные, забитые, набожные до фанатизма, приниженные и трусливые. Кто нам внушил все это? Разве они такие? Мы порой презираем лябов[44] за их покорность, бессловесность, но, поставь в такие же условия наших смельчаков горцев, разве они поведут себя иначе? Как бы не так. В горах легко быть смелым. Допек тебя кто-то, уложил его на месте, да и махнул в горы, поди поймай. А здесь, на равнине, ничего не поделаешь, даже если вооружен до зубов. Куда пойдешь? В кустарник? В болото? Потому-то беи и наступили людям на горло, выжимают из них последние соки, так уж повелось исстари, а сейчас хуже, чем когда-либо: бей, управляющий, жандарм, ростовщик, торговец — все у них на шее, целая свора. С малых лет и до конца своих дней крестьянин кормит их и поит, вся его жизнь — вечный страх. Хотя и в этих краях бывали храбрецы, которые никого и ничего не боялись…»
Вдруг он привстал и окликнул Лёни:
— Ты спишь?
— Нет.
— Вот скажи, если бы ружье было заряжено, ты бы выстрелил в бея?
— Нет.
— Почему?
Лёни не ответил.
— Почему же? — настаивал Скэндер, усаживаясь на постели.
— Потому что… погубил бы всю семью.
— Но ведь он собирался выстрелить.
— Нет, и он бы не выстрелил.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю я его. Он хорохорится, орет да грозится, а на самом деле трус, куда ему. Только и умеет, что куражиться.
— Что-то не верится.
— Это я точно знаю. Когда рядом слуги да жандармы, то, кажется, он тебя растерзает, а нет их — и тронуть не посмеет. Я как увидел, что он один, так и успокоился.
— Что-то мне не верится.
— Почему?
— Он ведь бей, ему ничего не стоит расправиться с крестьянином.
— Жестокий он, это верно, но нас боится. Как завидит Пилё, так в сторону.
— Почему?
— Боится его. С тихими да боязливыми он настоящий зверь, а нарвется на кого посмелее, сразу хвост подожмет и даже глаз на тебя не поднимет.
— А что ему сделал Пилё?
— Еще когда твой отец был учителем у нас в деревне, Пилё нагрянул однажды к бею в дом с несколькими крестьянами, но не нашел его, а нашел бы — конец бею.
— А где же он был?
— Да его женщины в сундук спрятали.
— А что потом?
— А потом, когда Зогу пришел к власти, Пилё отсидел в тюрьме года два. У бея руки длинные, Скэндер. На его стороне и правительство, и жандармы. Он шишка, друг короля! Что тут поделаешь. А что бы ты ему сделал?
— Не знаю, но я бы ему показал где раки зимуют.
— Ничего бы ты не сделал. Положим, набрался бы смелости и пристрелил его, а дальше что? Только себя погубишь! Убьешь одного, двух, думаешь, их от этого меньше станет. Они все друг с другом связаны. Один ему двоюродный брат, другой — троюродный, третий — его кум, одним словом, все они друг другу родня. Один тебя не сожрет, так уж другой наверняка.
— Нет, Лёни, я бы не вытерпел.
— Терпи не терпи, все одно: ты у них в руках. У кого земля? У них. Хибара твоя, скотина — ихняя, правительство — ихнее, болото — и то ихнее. Бей захочет, так хоть завтра тебя выгонит вон. И куда тогда податься, головой в петлю?
— А как он вообще, этот ваш бей, не очень распутничает?
— Да как все. Слава богу, некогда ему тут долго торчать, он больше живет в Тиране, а сюда наезжает поохотиться да собрать треть и десятину. Как приедет, весь дом гудит день и ночь, навезет с собой друзей, женщин, музыка, песни — гуляет вовсю. Да и наших деревенских девушек в покое не оставляет, четырех служанок держит в доме.
— Служанок?
— Да, так зовут у нас деревенских девушек, что живут в доме у бея.
— Знаю, но как же они попадают туда? А родители что?
— А что они могут поделать? Есть такие, у которых куча детей, вот из-за нужды да из страха и отдают девушек, лишь бы прокормить остальных.
Скэндер скрестил ноги на подстилке и закурил.
— Это же настоящее рабство, — возмущенно сказал он. — Продавать девушку! Не понимаю, неужели вы действительно так боитесь бея?
Лёни тоже привстал.
— Куда нам тягаться с беем, Скэндер. Мы все как кукушкины птенцы, каждый сам по себе. Вот быть бы всем вместе, тогда знали бы, что делать. А то поодиночке он нас и грызет. Некоторые пробовали было тягаться с ним, а что из этого вышло? Ты слыхал историю о Ндине, Ндине-разбойнике?
— Нет.
— Гафур-бей послал к нему управляющего — забрать его дочь в служанки, а Ндин возьми да и застрели его и с ним еще одного пса. А сам стал разбойником. Ну и чего добился? Землю у него забрали, лачугу сожгли, дети остались без крыши над головой, пошли по миру, а его самого убили жандармы. В конце концов бей добился своего — взял его дочку служанкой к себе в дом.
Скэндер лег навзничь, подложив руки под голову. Улегся и Лёни.
Скэндер вдруг позвал:
— Лёни!
— Ну, — сонно отозвался тот.
— А если с тобой случится такое?
Лёни рывком сел.
— Со мной? Ну уж нет, Скэндер! Голова у него одна, а рук у меня две. У нас только честь и осталась. Если и ее возьмут, то чем мы будем отличаться от скотины!
— А ты не боишься, что сам себя погубишь?
— Подумаешь, не я первый, не я последний.
— Вот сейчас ты мне нравишься. Так и надо говорить, — сказал довольный Скэндер.
— Не важно, что мы говорим, Скэндер, важно, что делаем. Есть такие: на словах горы своротят, а как дойдет до дела, так куда что девалось.
— Я знаю, ты никогда не сдашься, — убежденно сказал Скэндер.
— Сдаваться? Да ты посмотри, как мы маемся. Я порой задумаюсь над нашей жизнью, места себе не нахожу, такая злость берет на все. Но что мы можем поделать?
Скэндер снова сел, собираясь что-то спросить, но Лёни его опередил.
— Вот ты ученый, Скэндер. Скажи мне, правду говорят, будто в России больше нет беев?
— Правда.
— А в других странах?
— Там есть.
— Значит, не только у нас эти кровопийцы?
— Во всех странах, кроме России, то же, что и у нас.
— А у нас когда же будет, как в России?
— Когда будет? Как тебе сказать? Наверно, когда ты и я поймем, что во всех наших бедах виноваты беи.
— Положим, мы-то с тобой понимаем, а остальные?
— А ты растолкуй своим товарищам, те передадут своим, так один за другим все и поймут.
— Ну ладно, положим, все поняли, а дальше что?
— Потом надо организоваться.
— Как это?
— Надо объединиться всем вместе, понимаешь? И действовать все как один, а не каждый сам по себе. Вот это и значит организоваться.
— А дальше?
— А дальше ударим по ним, чтобы и духа не осталось.
— Но у них правительство, жандармы!
— Мы тоже вооружимся, и там посмотрим, кто сильнее. Подумай сам, откуда они берут жандармов? Из народа берут. Жандарм — такой же крестьянин, как и ты. Ты видал когда-нибудь, чтобы бей был жандармом?
— А в России, как они все это сделали?
— В России? Знаешь, там было еще хуже, чем у нас. Там крестьян продавали и покупали, как скот, беи были еще сильнее, чем наши, но Ленин поставил их всех на место. Ты слыхал о Ленине?
— Слыхал.
— Правда?
— Чего ты удивляешься?
— А читать ты умеешь?
— Умею.
— Ты сколько учился?
— Два года.
— Какие-нибудь книги читал?
— А то. Однажды мне один охотник дал почитать книгу. Хорошая книга. Я ее и отцу прочитал.
— Как она называлась?
— Не помню. Сказки.
— А еще что-нибудь читал?
— Еще мне Пилё давал одну. Постой, как же она называлась… Да! «Албания — чем она была, чем является и чем будет».[45]
— Понравилось?
— Очень.
— Я дам тебе несколько книг, Лёни, но читай их только сам и никому не показывай.
— Почему?
— Это запрещенные книги. Найдут их, посадят в тюрьму.
— Дай мне их обязательно, ну а посадят, уж так и быть, ради них пусть сажают.
Оба засмеялись.
— Спите-ка, хватит байки рассказывать, — донесся до них голос Кози.
Но им не спалось. Они еще долго разговаривали и заснули только на рассвете.
— Хороши, — насмешливо сказала Шпреса, останавливаясь возле них. — Ночью болтаете, а утром вас не поднять.
— О чем вы шептались всю ночь? — спросила Силя. — Сказки рассказывали?
— Сказки, а как же, — ответил Лёни, поднимаясь.
— А какие сказки?
— Про дракона, который захватил колодец и требует себе на съеденье каждый день по девушке, — ответил Скэндер.
V
Вечер еще не наступил.
С невысокого холма была видна часть города. На пересечении прямых центральных улиц располагались магазины беев, муниципалитет, церковь, колокольня с часами, немного поодаль, среди садов и огородов, прятались приземистые домишки и глинобитные лачуги городской бедноты, из-за высоких деревьев выглядывал кончиком полумесяца минарет мечети. Еще дальше, насколько хватало глаз, простиралась зеленая ширь полей с рваными пятнами болот, которая на горизонте переходила в тонкую темную полоску, сливавшуюся с голубым небом в редких клубах облаков.
Они сидели втроем на сухой траве и, казалось, любовались этой картиной, но внимание их было занято другим: Скэндер и Рауф сосредоточенно слушали третьего, Йовани, мужчину лет тридцати, в светлом плаще и шляпе. Он говорил витиевато, тщательно подбирая слова и выразительные сравнения.
— Прошло уже четверть века со дня провозглашения независимости, — говорил он негромко, но тоном опытного оратора. — И кто же играет ныне главные роли на политической сцене нашей страны?! Все та же группка актеров — ловкие интриганы, феодалы, политические авантюристы, шпионы и доносчики. Они верой и правдой служили и продолжают служить иностранным державам, эти заклятые враги нашего народа: Эсат-паша, Ахмет-бей Зогу, Шефтет-бей Верляци, Мюфит-бей Либохова, Джафер-бей Юпи, Фейзи-бей Ализоти, Кочо Котта, Муса Юка, Дён Марка Дёни — целая свора профессиональных изменников. В свое время они второпях выскочили на сцену, покинув тонувший турецкий корабль. Одни — чтобы спасти свои владения, хотя бы в этой части Османской империи, другие — в надежде поправить свою неожиданно прервавшуюся карьеру, и все до единого — с целью урвать кусок покрупнее у нашего нищего народа. Эту группку актеров сопровождали хор священнослужителей и ходжей и оркестр беспринципных продажных газетчиков, которые, выдвигая иногда и своих солистов, пели осанну презренным комедиантам. Режиссерами же всегда были иностранцы: англичане, сербы, итальянцы, греки, а порой и все вместе. К несчастью, это отвратительное представление затянулось слишком надолго и ныне превратилось в подлинную трагедию нашей страны…
— Извини, — прервал его Скэндер, — но не все же были изменниками. На нашей политической сцене, как ты ее называешь, были и достойные люди — честные политики, патриоты, идеалом которых было благо Албании. Авни Рустеми, Фан Ноли, Луидь Гуракути, Байрам Цурри[46] и многие другие — все они боролись во имя нашего народа. Албанию освободили не беи и политические проходимцы, а народ, истинные патриоты, которые жертвовали всем ради ее независимости.
— Да, ты прав, Скэндер. Патриоты боролись за Албанию, а предатели ее захватили. В политике чаще всего так и случается: сеет один, а пожинает другой. Мы не исключение. Народ, проливавший кровь во имя Албании, голодает, забит и задавлен. Патриотов, боровшихся за ее свободу и независимость, разметало в разные стороны, словно птенцов кукушки, они живут изгнанниками во всех концах Европы или томятся в тюрьмах Ахмета Зогу. Те же немногие, кому не удалось бежать за границу и которые не брошены в тюрьму, по воле Ахмета Зогу влачат жалкое существование по забытым углам, занимают ничтожные посты или вовсе сидят без работы. Принимаются продуманные меры для их дискредитации, унижения их достоинства, начиная с распространения лжи и сплетен и кончая провокациями и судебными процессами на основании сфабрикованных обвинений. В большинстве случаев эти сплетни и обвинения касаются их морального облика.
— Да, тут я с тобой согласен, — сказал Скэндер, — но я имел в виду не их, а настоящих патриотов, тех, кто активно трудился и боролся во имя свободной Албании.
— Трудились и боролись, а ничего не добились.
— Но почему? — неожиданно вмешался Рауф, самый молодой из троих, в полотняном костюме, заросший, с заостренными чертами лица и мозолистыми руками. До сих пор он сидел молча, несколько неприязненно слушая цветистую речь Йовани, в которой он не все понял.
— Вот именно, — подхватил Скэндер. — Почему им ничего не удалось добиться?
— Потому, что не умели действовать, как надо.
— Неубедительно, — возразил Скэндер.
— Почему?
— По-моему, ты повторяешь ошибку тех журналистов, которые выставляют всех борцов прошлого дураками, невеждами и трусами. Это неверно. Они были умные, честные и высокообразованные люди. Куда до них Зогу и его прихвостням.
— Но несмотря на это, они потерпели поражение.
— Да, их разгромили. Но почему?
— Потому что, когда все беи страны объединились вокруг Ахмета Зогу для защиты своих интересов, ничего не было сделано для того, чтобы мобилизовать против них народ. Ахмету Зогу и его сторонникам было наплевать на патриотические речи Луидя Гуракути, блестящую сатиру Фана Ноли и саркастические остроты Ставро Виньяу.
— Надо было драться, — добавил Рауф.
— Но ведь и это было, — стоял на своем Скэндер.
— Заговоры, мелкие неорганизованные мятежи и вооруженные стычки — разве это борьба?
— А Июньское восстание?[47]
— По-твоему, оно отличалось от остальных?
— Конечно, отличалось. Июньское восстание потому и победило, что это было всенародное движение.
— Однако почему его лидеры не удержали власти?
Скэндер промолчал.
— Молчишь? Так я тебе скажу, почему: руководители восстания не верили в народ. Придя к власти, они сразу же принялись налаживать отношения с беями, искать примирения с ними, не дали народу того, что обещали.
— Но не забывай, что Зогу сверг правительство Фана Ноли с помощью иностранных войск, — сказал Скэндер. — Демократическая власть была подорвана не изнутри, а извне.
— Все это так, однако…
— Ну хватит вам, — раздраженно перебил их Рауф, бросая окурок. — Это все дела прошлые, а я хочу знать, что мы должны делать сейчас, сегодня!
— Мы должны хорошо знать прошлое, чтобы не повторять его ошибок, — заявил Скэндер. — Второе Июньское восстание — вот что нам нужно, Рауф, только без ошибок и просчетов первого. В этом все дело.
— Вряд ли возможно такое восстание в настоящий момент, — возразил Йовани. — Во всяком случае, оно ничего не принесло бы Албании, кроме вреда.
— Ты так считаешь?
— Ахмет Зогу накрепко привязал Албанию к фашистской Италии. По особому соглашению Италия немедленно окажет военную помощь Зогу в случае каких-либо волнений или восстания. А стоит итальянским войскам явиться сюда, они уже не уйдут. Плакала тогда наша независимость.
— Хороша независимость! — вскипел Рауф.
— По-твоему, выходит, чтобы не потерять независимость, мы должны сидеть смирно и не рыпаться, так что ли? — сердито спросил Скэндер.
— Можешь рыпаться, если хочешь.
— А тогда к чему все наши разговоры, собрания? — воскликнул Рауф.
— Если итальянцы вступят в нашу страну — конец нам. Они сотрут нас с лица земли. Не будет ни Албании, ни албанцев.
— Не поубивают же они нас всех!
— Нет, убивать они не станут, а возьмут да и поселят здесь миллионов восемь-девять итальянцев, попробуй отыщи нас тогда, соскучишься по албанской речи в собственной стране.
— Не так-то просто уничтожить Албанию, — сказал Скэндер. — Нечего бояться итальянского пугала, надо работать и работать, чтобы не допустить этого.
— А я разве говорю, что не надо работать? Только ведь работать надо с умом. Сначала надо подготовить, воспитать и обучить людей, а уже потом бросать их в дело.
— Когда?
— Когда возникнет революционная ситуация.
— Чепуха, — прервал Рауф. — Не знаю, что ты донимаешь под революционной ситуацией, но нас уже так приперло, что дальше некуда. Хуже не бывает. Народ с голоду мрет, а у него на шее Ахмет Зогу, беи, торговцы, жандармы, попы, ходжи, ростовщики — никаких сил больше нет. Ты никогда не играл в кучу малу по-дибрански? Взберутся к тебе на спину несколько человек, не выдержишь, упадешь, и все остальные падают с тобой вместе.
— Ты говоришь, если итальянцы придут сюда, то уничтожат нас как нацию, не будет больше Албании. Но ведь мы и так уже исчезаем как нация! Что делает Зогу со своей кликой? Он как торговец на ярмарке: некогда построить лавку или балаган, спешит нажиться, набить карманы, а то вот-вот стемнеет, ярмарка кончится и надо будет отправляться восвояси. Так они действуют, потому и довели народ до точки. Вот мы любим хвастаться, что албанец — человек слова, храбрый, щедрый, гостеприимный, но посмотри, что делает с албанцем нужда! Храбрый албанец трепещет перед жандармом и чиновником, перед судьей и адвокатами. Щедрому албанцу нечего предложить гостю, ведь он сам живет на вареной кукурузе. Албанец, человек чести, превратился в притворщика, лгуна, подхалима, yalan sahit,[48] шпионит за своими близкими, только бы выжить. Клика Зогу превратила страну в рай для доносчиков и проходимцев. Честность никого не прокормит. Чем изощренней ложь, тем выше ценят лгуна. Ложь и правда сплелись в такой клубок, что только мечом и можно разрубить. А ты нам говоришь, не рыпайтесь, потому что у Ахмета Зогу за спиной Италия! Нет, тысячу раз нет! Без свержения Ахмета Зогу и его клики, что так по-хозяйски расположились на нашей пропитанной кровью земле, Албанию не спасти!
— Ну зачем так, дружочек? Не надо горячиться! Я же не говорил, что ничего не надо делать.
— Действия, которые ты предлагаешь, напоминают мне сказку об осле, как он волка повстречал, — насмешливо проговорил Рауф. — «О господи, сделай так, чтобы это был сон!»
— Что же, по-вашему, мы не должны считаться с тем, что правительство заключило договоры с Италией, по которым она имеет право вмешиваться в наши внутренние дела?
— Нет. Мы так не говорим, наоборот. Фашистская Италия — наш главный враг, клика Зогу — ее орудие. Поэтому мы должны бороться за изменение нынешнего положения, опираясь на ненависть нашего народа к итальянскому фашизму.
— Его все ненавидят, — подтвердил Рауф, — все как один!
— А поэтому, если мы сумеем объединить все наши силы, клика Зогу не продержится и суток.
— Как же мы их объединим? — спросил Рауф.
— Вот об этом и надо думать!..
На западе солнце уже погружалось в море, как большая красная софра. Облака причудливой формы окрасились багрецом.
— Как красиво!
— Что?
— Закат солнца.
Рауф со Скэндером понимающе переглянулись, будто говоря: «Мы ему о том, что наболело, а он нам о закате!»
— Как подумаешь, что мир так велик, так прекрасен, а жизнь так коротка! — продолжал Йовани.
— Ты послезавтра едешь в Италию, опять сможешь наслаждаться этим большим миром, — сказал Скэндер.
— Да. Хоть на какое-то время вырвусь из этой мрачной тюрьмы.
— А я даже не представляю, какая там жизнь за морем, — сказал Рауф.
— Счастливец!
— Почему это?
— Довольствуешься малым. Чем меньше человек знает, тем он счастливее.
— Что за дикость, — сердито сказал Скэндер. — Ахмет Зогу позакрывал школы и плачется, что у нас излишек интеллигенции, а восемьдесят процентов населения неграмотно.
— Ахмет Зогу тут ни при чем.
— Они как раз и говорят: чем народ неграмотнее, тем счастливее.
— Сами-то они уж больно грамотные. Не видишь разве, как они управляют? На каждом шагу ошибки.
— Ошибка ошибке рознь. Они прекрасно знают, где им надо ошибиться, а где нет.
— Что-то я не понимаю.
— Пошли, — недовольным тоном сказал Рауф. Ему не по душе был весь этот разговор. Не впервые они спорили, но сегодня Скэндер был особенно запальчив, и дело могло дойти до ссоры.
— Пошли.
Когда они вошли в город, уже стемнело, кое-где зажглись тусклые огни.
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, Йовани!
Рауф взял Скэндера за локоть.
— Ну что ты кипятишься?
— Просто удивительно, Рауф, откуда у него такие взгляды? Поговорить он мастер, ничего не скажешь. Все тебе растолкует: и первобытный коммунизм, и стоимость, и прибавочную стоимость, а как дойдет до дела, так ничего, кроме рассуждений, от него не дождешься.
— Он такой образованный — целыми днями сидит над книгами. Да и чего от него ждать? Он ведь из богатых, сын Танаса Лимы, самого крупного торговца в городе.
— Погуляем немного?
— Как хочешь.
VI
Как обычно, Скэндер застал своих домашних на веранде. Отец сидел за столом, перед ним — рюмка раки и блюдце с маслинами, мать шила, Шпреса склонилась над книгой, Агим чинил воздушного змея.
— Добрый вечер!
— Добрый вечер!
— Пришло письмо от тети, — сообщил Агим.
— Да? Ну и что она пишет?
— Господину Зетиру не удалось выхлопотать тебе стипендию, — ответила мать.
Скэндер опустился на стул.
— Я так и знал, что не дадут мне стипендию, — хмуро произнес он. — Агим, принеси попить.
— Господин Зетир устроил тебя на курсы.
— Какие курсы?
— Открываются курсы офицеров жандармерии.
— Вот как! — Он взял у Агима стакан. — Значит, господин Зетир советует идти в офицеры.
— Что ты на это скажешь? — спросила мать.
Все смотрели на Скэндера выжидающе, особенно отец.
— Не пойду! — решительно ответил он.
Отец поднял рюмку, отпил глоток и повернулся к Шпресе:
— Принеси рюмочку и Скэндеру!
— Но почему же, сынок? Чем плохо быть офицером? — уговаривала мать. — Поедешь в Италию, получишь мундир. И жалованье хорошее. Тетя пишет, что ты не пожалеешь.
— Нет, мама, я не пойду. Не хочу быть жандармом.
— Ладно, жена, оставь, — сказал учитель.
— О господи, оба вы одинаковые, что один, что другой. Твой отец говорит: «Не хочу, чтобы мой сын был жандармом», а кем же ты будешь? Стипендию не дают, офицером быть не хочешь. Что будем делать?
— Подумаем, — коротко ответил учитель.
За ужином все молчали. Слышался лишь стук ложек и вилок. Неожиданно Агим произнес:
— А как пошел бы Скэндеру мундир! Отрастил бы себе длинные усы, как у жандарма Камбери!
Все рассмеялись.
— Да замолчи ты! — сквозь смех сказала Шпреса. Сравнение с жандармом Камбери, известным грубияном и хамом, еще больше убедило ее в правоте брата.
После ужина учитель позвал Скэндера:
— Пойдем поговорим. Шпреса, принеси нам кофе в гостиную.
Демир сел за свой стол, где обычно проверял школьные тетради. Скэндер остался стоять.
— Давай спокойно все обсудим, — сказал учитель. — Это письмо и меня расстроило. Вот уж не ожидал, что господин Зетир может додуматься до такого. Ждали одного, а вышло другое. Не думаю, чтобы он сам до этого дошел: они хотят меня сломить, сделать соучастником своих подлостей и преступлений. Но ничего у них не выйдет! Я только одного боялся, Скэндер, что ты согласишься.
— Как ты мог подумать, отец!
— Ты молод, думал я, прельстишься карьерой, мундиром, Италией, мало ли?
— Ни за что!
— Я очень рад, что ты против, но надо подумать, что нам теперь делать.
Скэндер нахмурился.
— Надежды на стипендию больше нет, — продолжал отец. — На курсы ты не идешь. Но без работы тоже нельзя. Может, похлопотать насчет места в каком-нибудь учреждении? Пойдешь в чиновники?
— И служить не хочу, — сказал Скэндер. — Чиновник то же самое, что жандарм.
— Знаю, Скэндер. Чтобы сделать служебную карьеру, надо уметь пресмыкаться перед начальством и притеснять народ, надо подличать, лавировать, брать взятки. Ты на это не способен, я знаю, в меня пошел.
В его голосе послышалась гордость за сына, и Скэндер смущенно опустил голову. Сам он всегда гордился отцом, его мужественным характером, всей его жизнью.
— А может, ты пойдешь учительствовать, в деревню, например? — спросил отец, скручивая цигарку. — Учитель — неплохая профессия, Скэндер.
— Это благородная профессия, отец.
— Учитель служит не правительству, а родине. Он воспитывает новое поколение. Так ведь?
— Конечно, так, отец. Но…
Вошла Шпреса с чашечками кофе, и он умолк.
— Ты что-то хотел сказать, Скэндер? — спросил отец, когда она вышла.
— Пожалуй, я пошел бы учителем, все равно куда. Если же не удастся устроиться, тогда…
— Тогда что?
— Тогда придется искать другую работу.
— Какую?
— Да любую.
— Трудно, сынок, трудно. Ведь у нас теперь безработных больше, чем работающих. В нашем городке и то безработных около трехсот человек.
— Может, в другом месте что-нибудь найду.
— Везде одно и то же, и потом, Скэндер, разве ты зря учился? Получил среднее образование, чтобы быть чернорабочим?
Скэндер молчал.
До этого разговора он ни разу не задумался, что надо поискать работу. Все его помыслы были связаны со стипендией, которую он получит. Отказ застал его врасплох, он досадовал на себя, что не предусмотрел такого поворота дела.
Демир закурил и отхлебнул кофе.
— Да ты не расстраивайся, Скэндер, — сказал он, угадав мысли сына. — Пей кофе. Отец все за тебя обдумал. Ты будешь учиться на наши собственные деньги. Чего ты так удивился?
— Нет, отец, я так не могу.
— Почему?
— Мы и так еле сводим концы с концами. Не хочу я, чтобы вы жили стесненно из-за меня.
— Без лишений и страданий ничего не добьешься. Человек даже на свет появляется в муках и страданиях. Не думай об этом. Перебьемся как-нибудь. Кое-что мы скопили. Продадим дом и оливковую рощицу в деревне. Лишь бы ты смог продолжать образование.
Скэндер в растерянности зашагал по комнате, потом сел. Машинально достал сигарету, но, вдруг вспомнив, где находится, нерешительно взглянул на отца.
— Ну и что ты надумал? — спросил отец, поднося ему зажигалку.
— Хорошо, отец, но…
— Никаких по, Скэндер. Давай лучше обсудим, куда ты поедешь, что будешь изучать и как нам поскорее получить паспорт. А для этого, хочешь не хочешь, придется нам еще раз постучаться к господину Зетиру. Я сегодня же ему напишу…
На другой день Скэндер встал поздно, потому что заснул только под утро. Шпреса принесла ему кофе и растворила окно.
— Ну и накурил же ты! Почему окно не открыл?
— Хорошо, что ты мне напомнила. Пошли Агима, пусть купит сигарет.
— Его дома нет.
— А где он?
— Не знаю. Куда-то ушел с приятелями. Что же вы с отцом решили? — спросила она, присаживаясь на краешек его кровати.
— Поеду учиться на деньги семьи.
— Как хорошо!
— Ничего хорошего, Шпреса.
— Почему?
— Ты представляешь себе, что значит для отца посылать мне каждый месяц по четыре-пять наполеонов?[49] Это все, что имеет наша семья. Чтобы содержать меня, вам придется экономить на всем.
— Ну что ты расстраиваешься, Скэндер? Еще год-другой, я кончу институт, стану учительницей. Буду тебе посылать все свое жалованье.
— Знаешь, Шпреса, — сказал он, протягивая ей пустую чашку, — я постараюсь найти какую-нибудь работу, может, хоть часть денег сам заработаю.
— Не беспокойся об этом. Главное — учись. А мы как-нибудь проживем.
Он погладил ее по руке.
— Знаю, что проживете, но… Вот что, принеси-ка мне теплой воды, я побреюсь.
— Сейчас.
Он встал, оделся и достал из тумбочки бритвенный прибор.
Шпреса принесла в тазике теплую воду.
— Вот и сигареты нашла. — Она положила на стол пачку «Диаманта».
— Где ты их раздобыла?
— У мамы в шкафу.
— Спасибо, сестричка!
Она присела на стул и некоторое время молча смотрела, как он бреется.
— Скажи, Скэндер, почему ты отказался пойти на офицерские курсы?
— Тебе мама велела меня спросить?
— Нет, я сама хочу знать.
Он внимательно поглядел на нее и отчетливо произнес:
— Потому что не хочу быть орудием в руках Ахмета Зогу и его прихвостней.
Она оглянулась вокруг.
— Что, испугалась?
— Нет.
— Так-то, сестричка, не хочу быть орудием его высокого величества, этого предателя, который давным-давно продал Албанию фашистской Италии. Ну и обрадовал же меня господин Зетир! Это мне стать жандармом, пугалом для народа!
Она вскочила со стула, выпрямилась и глядела на него удивленно и растерянно.
— Тебе, видно, еще никто такого не говорил, а, сестричка? Да, да. Вы, девушки из института «Мать-королева», — любимицы режима. Вы находитесь под покровительством этих распутниц, сестер Ахмета Зогу! А ты читала, что пишут газеты? «Счастливы родители, чьи дочери пользуются высокой привилегией общения с сестрами августейшего суверена!» Вот уж действительно есть чему радоваться! Ведь вы же прелестные девы, цветы королевства, будущие матери нации. Вот такими сказками вас потчуют, а в других школах молодежь мыслит, спорит, живет полной жизнью.
— Потише, — сказала она, — не кричи так.
— Как подумаешь, до чего докатилась наша страна, до какой беспросветной жизни дошел наш народ, хочется выкричать все, что накопилось на душе.
Он умылся и стал вытираться.
— Я удивляюсь вам, Шпреса, — продолжал он, бросив полотенце на кровать и усаживаясь напротив нее. — Неужели вы не видите, прелестные девы, цветы королевства, кто правит нашей страной? Вы этим не интересуетесь?
— Нет.
— А ведь нашей страной, сестричка, правят люди, которым до Албании никакого дела нет и никогда не было. Это те самые люди, которые преследовали, бросали в тюрьмы и пытали наших патриотов. Знаешь ли ты, что министр Фейзи-бей Ализоти, приближенный Зогу, был турецким префектом в Корче и собственноручно избивал патриотов, которые боролись за свободу Албании? Разве отец тебе не рассказывал? Ведь и его тогда били эти подлецы. А про Мехмет-бея Коницу не слыхала? Когда он был турецким консулом на Кофру, шпионил за Фемистокли Гэрмени.[50] А Кочо Котта в своих заявлениях и статьях, которые он публиковал в греческих газетах, требовал присоединить Корчу и Гирокастру к Греции? Об этом ты тоже не слыхала? А уж об остальных и говорить нечего. Одни шпионы и предатели! И ты еще спрашиваешь, почему я не хочу быть жандармским офицером! Зачем? Чтобы служить предателям?
Она промолчала.
— Но король не такой, — начала она робко. — Он…
— Он самый грязный из всех, реакционер до мозга костей. Да он продался Италии с головой…
— Прошу тебя, Скэндер, не занимайся политикой, — умоляюще произнесла она.
— Да разве возможно в наши дни не заниматься политикой? С ней связано абсолютно все. А те, кто утверждают, будто далеки от политики, на деле поддерживают политику предателей, которые нами правят. А им только того и надо. «Пусть каждый занимается своими делами, — говорят они, — а мы за вас, мол, будем заниматься политикой».
— Ты бы сначала закончил институт, получил диплом, стал на ноги, а потом бы и занимался политикой.
— Ну положим, я кончу институт, получу диплом, а дальше что? Разве судьбу Албании решают только те, у кого есть диплом? Как вы там вообще живете в вашем институте? Неужели никогда не разговариваете о подобных вещах?
— Нет, мы этим не интересуемся.
— Не поверю. Наверняка и у вас есть девушки, которые задумываются о судьбе своего народа, просто ты, наверно, не дружишь с ними.
— Я ни во что не вмешиваюсь и не хочу вмешиваться.
— Плохо, сестричка, ты должна всем интересоваться.
VII
Скэндер прошел через сад и поднялся по широким ступеням, ведущим к двухэтажному особняк. У входа его встретила госпожа Хава, его тетка.
Она очень походила на госпожу Рефию, только была холеная, лучше одета, волосы изящно уложены.
— Добро пожаловать! — Она расцеловала его, оставив на щеках следы неяркой помады. — Как вы там, все здоровы?
— Здоровы, тетя, спасибо. Вам большой привет от мамы, отца, от Шпресы…
— От Шпресы? Почему она не приехала?
— Приехала, тетя, приехала, только я отвез ее в интернат.
— Как же так? Ведь мы ее тут ждем!
— Мы опоздали на три дня, и ей не разрешили поехать со мной. Какие-то там формальности надо пройти перед началом учебного года.
— Скажите, пожалуйста!
Разговаривая, они вошли в гостиную. Пол был застлан большим ковром, посередине стоял круглый стол, покрытый стеклом, и несколько кожаных кресел. По углам возвышались две пальмы в больших кадках.
— А вы бы сразу приехали сюда, — продолжала госпожа Хава, — мы бы потом отвезли ее в интернат.
— Да она еще придет, ведь здесь недалеко, — сказал Скэндер, ставя за дверь чемодан и кладя на него плащ.
— Сание! Отнеси чемодан в комнату для гостей! — приказала служанке госпожа Хава. — И скажи Тефте, пусть спустится сюда.
— А вы как поживаете, тетя?
— Да неплохо.
— Поздравляю вас с помолвкой Тефты.
— Что сейчас поздравлять? Мы вас так ждали, почему вы не приехали?
— Мы слишком поздно получили телеграмму.
— Неужели к вам так долго идут телеграммы?
— Когда пришла телеграмма, нас не было дома, мы уезжали в деревню. Мама вам, наверное, писала.
— И правда. Она же мне все объяснила.
В одной из дверей гостиной показалась двоюродная сестра Скэндера — Тефта. Хорошенькая светловолосая девушка, чуть повыше матери, с кроткими, овечьими глазами. На ней было белое, в цветах платье с короткими рукавами.
— Иди сюда, Тефта, поздоровайся со Скэндером.
Она состроила обиженную гримаску, делавшую ее похожей на прелестного, но избалованного ребенка.
— Не хочу. Я сердита на него.
— За что же, что я такое сделал?
— А почему ты пришел без Шпресы?
— Я уже тете объяснил, Шпресу не отпустили из интерната.
— Не надо было вообще туда заезжать. Пришли бы прямо сюда, — все с той же миной сказала она.
— Да ты не сердись, Шпреса никуда не денется, послезавтра, в воскресенье, жди, она придет. Давай руку.
Она протянула руку и обняла его.
— Осторожней, — с укором сказала она, как будто не сама обняла брата. — Ты мне прическу испортил! Мама, сейчас Хюсен придет. Скажи Сание, пусть приготовит чай. — Она уселась в кресло.
Госпожа Хава с улыбкой посмотрела на дочь и вышла.
— Да садись же, Скэндер, что ты стоишь?
Он сел, достал сигарету.
— А мне не предложишь?
— О, извини, пожалуйста. Я не знал, что ты куришь.
— Курю, еще как. Только папе не говори, а мамы я не боюсь. Знаешь, Скэндер, я так расстроилась, когда узнала, что ты не хочешь поступать на курсы! Отец ведь с таким трудом все устроил. Почему ты не хочешь быть офицером?
— Военная карьера не для меня. Ты же меня знаешь, я не выношу муштры, люблю вольную жизнь.
— Ты такой же, как Хюсен. Он тоже говорит: «Не выношу армейской дисциплины». А мне так нравится мундир! Он бы тебе очень пошел! Ты такой стройный, высокий, элегантный — все девушки бы по тебе обмирали!
Она так тараторила, что не давала и слова вставить. Еле дождавшись паузы, Скэндер поспешил заговорить о другом.
— Прости, Тефта, я ведь тебя еще не поздравил с помолвкой. Будь счастлива! Желаю вам побольше детей!
— Спасибо. А ты знаком с моим женихом? Нет? Его зовут Хюсен Бубули. Он юрист, учился во Франции.
— Где он работает?
— В министерстве иностранных дел. Его дядя Гафур-бей Колоньяри помог ему туда устроиться. Ты знаешь Гафур-бея?
Скэндер нахмурился. Вспомнилась встреча с Гафур-беем на болоте, и ему стало неприятно, что теперь он невольно становится родственником бея.
— Я слыхал о нем, — ответил он сухо.
— Гафур бей — депутат, друг его высокого величества, не последний человек при дворе. Хюсен сначала преподавал французский во дворце, но Гафур-бей устроил его в министерство. Не сегодня-завтра его назначат в какую-нибудь миссию за границей. Хотя быть преподавателем во дворце тоже неплохо. А ты слыхал, как там офицеры говорят по-французски? Бонжур, эй ты! У нас есть лесон сегодня апремиди? Вуй, а то нет.[51]
Она очень похоже передразнила офицеров, смешно скривив лицо. Скэндер засмеялся, она тоже расхохоталась.
— Над чем вы тут смеетесь? — спросила, входя, госпожа Хава. — Тефта, Хюсен пришел. Иди встречай.
— Ну! Зачем мне его встречать? Что он сам дороги не знает?
Мать укоризненно взглянула на нее и сама поспешила навстречу зятю.
— Богокур! — обратилась Тефта к жениху, показавшемуся в дверях. Продолжая сидеть в кресле, она пожала ему руку. — Знакомься, это Скэндер, мой двоюродный брат. Я тебе о нем рассказывала.
— Очень приятно. Хюсен Бубули.
— Скэндер Петани.
Хюсен был долговяз и большеголов, редкие темные волосы тщательно прилизаны и зачесаны назад, между жидкими прядями белели полоски кожи, словно следы от зубьев расчески. Его крупные, но какие-то тусклые глаза были невыразительны. «Наверно, из тех маменькиных сыночков, что еле-еле переползают из класса в класс, — подумал Скэндер. — И что в нем Тефта нашла? Или их обручили по сговору? С другой стороны, дипломатическая карьера, заграничные миссии — об этом ведь мечтает любая барышня из буржуазной семьи…»
— Знаешь, Хюсен, папа предложил устроить Скэндера на курсы офицеров жандармерии, а он не хочет. Прямо как ты: не люблю, говорит, военную службу.
— Правильно говорит.
— Ну уж и правильно. А мне нравятся военные.
— Может, тебе и военная дисциплина нравится? — засмеялся Хюсен.
— Не дай бог! Да я вообще никакую дисциплину терпеть не могу! Я обожаю мундиры. Тебе бы он тоже пошел, Хюсен! Какой бы офицер получился! Все девушки бы с ума посходили…
Она забыла, что только что говорила то же самое Скэндеру.
— Нет уж, Тефта, мундир меня ничуть не прельщает, и я очень хорошо понимаю господина Петани. Да и другие, судя по всему, тоже так думают. Вы читали объявление в газете?
— Какое объявление?
— Министерство внутренних дел сообщает, что срок приема заявлений на курсы офицеров жандармерии ввиду недобора продлевается еще на месяц.
— Чудесно! Ты еще можешь поступить, Скэндер!
— Нет, Тефта, у меня уже все решено.
— Что решено?
— Поеду учиться во Францию.
— А стипендия?
— Без стипендии.
— Разрешите вас спросить, — обратился к нему Хюсен, с таким подчеркнутым изяществом принимая из рук невесты чашку чая, будто оттачивал свои светские манеры, столь необходимые дипломату. — Что вы собираетесь изучать?
— Инженерное дело.
— Это вам нравится?
— Да.
— А мне ни капельки! — воскликнула Тефта. — Я в школе больше всего ненавижу геометрию! А уж алгебру так вообще не выношу!
— Алгебра и геометрия — основы науки.
— Ты так говоришь, потому что они тебе хорошо даются. А мне что делать?
— Ты тоже вполне можешь их одолеть, только надо немножко силы воли.
— Это не так просто, — поддержал свою невесту Хюсен. — Я сколько ни старался, все равно ничего не получалось.
— Юрист тоже неплохая профессия, — сказал Скэндер.
— А почему бы вам не пойти на юридический?
— Мне кажется, наша страна больше нуждается в инженерах.
Все замолчали, но Тефта не умела долго молчать, она поставила на стол свою чашку и заговорила снова:
— А ты слыхал песню «Черное воскресенье»?
— Нет.
— Что ты! Я ее уже раз сто слушала! Она мне так нравится! Я даже слова выучила! Вот послушай:
Ах, воскресенье печали, В этот вечер унылый Вся в цветах я вернулась, И захлопнула двери, И, рыдая, внимала Завыванию ветра…Представляешь, в Будапеште из-за этой песни покончили с собой двадцать человек! Ее даже запретили в Венгрии.
— С чего это они покончили с собой?
— Откуда я знаю. Послушают песню, а потом бултых с моста в воду или приходят домой и пулю в висок. Не могу понять, как это можно. Я сколько раз ее слушаю, и мне даже в голову не приходит кончать с собой!
— Конечно, глупости, — сказал Скэндер.
— Сантименты, — добавил Хюсен.
— Мы позавчера с Хюсеном смотрели хороший фильм. Не помнишь, как звали того артиста? Ах да, Дон Хосе Мохика! Такой красавец! Только не вздумай ревновать: он мне понравился как актер, а вовсе не как мужчина.
Хюсен улыбнулся.
— А артистка такая прелесть! Как же ее звали? И ее не помнишь? Ну ладно, артисток можешь не запоминать. Она была в таком длинном платье. Хюсен говорит, мне бы тоже очень пошло длинное платье. Скажу папе, пусть купит такое. Оно мне скоро понадобится, ведь Хюсена иногда приглашают во дворец. И меня тоже будут приглашать, правда?
— Конечно.
— Нет, лучше куплю материал и выберу модный фасон…
Вошел отец Тефты, плотный мужчина с мясистыми щеками и густыми, коротко подстриженными усами.
— А я сердит на тебя, — сразу обратился он к Скэндеру, повторяя в точности слова дочери. — Ты меня расстроил.
Скэндер поднялся ему навстречу, не зная, что ответить. Господин Зетир протянул ему руку и, добродушно посмеиваясь, продолжал:
— Ну да ладно, ничего. Давай руку. Как вы там? Как отец, мать?
— Спасибо, хорошо! Вам большой привет.
— А ты как поживаешь, Хюсен?
— Хорошо, благодарю вас.
— Я, Скэндер, рассуждал так, будто речь шла обо мне, — принялся объяснять господин Зетир, усаживаясь в кресло, которое ему уступил Хюсен. — В молодости я мечтал стать офицером, вот и подумал, что, может, я тебе это поправится. А оказалось, ты со мной не согласен.
— Нынче молодежь не та, что раньше, — вмешалась госпожа Хава. — Так что оставь этот разговор.
— Хюсена тоже не привлекает военная служба, — вставила Тефта.
— Неужели? Выходит, газеты правы, когда критикуют нас, стариков, за непонимание молодежи.
Господин Зетир Дема занимал солидный пост в министерстве просвещения и еще с двадцать первого года был личным другом Ахмета Зогу. Причисляя себя к «старикам», сам он не совсем ясно представлял себе, кого имеют в виду газеты, толкуя о «молодежи» и «стариках».
— По-моему, старики тут ни при чем, господин Зетир, — поддержал Скэндера Хюсен. — Тут дело вкуса: сейчас очень многие молодые люди мечтают о военной карьере.
— Значит, нынешняя молодежь все-таки в чем-то походит на нас, стариков, а?
— Безусловно, господин Зетир.
— Только она посовременнее, — добавила Тефта, не очень-то понимая, что хотела этим выразить.
— Ну и прекрасно. Закуривайте! А мне не нальете чаю?
— Ох, прости, папа. — Тефта и Хюсен потянулись за чайником, руки их столкнулись. — Дай я налью.
— Твой отец пишет, что сам будет оплачивать твое учение, так?
— Да.
— А документы привез для паспорта?
— Да, они все со мной.
— И куда же ты решил ехать?
— В Париж.
— На кого собираешься учиться?
— На инженера-строителя.
— Что ж, дело хорошее. Хава, свари-ка мне лучше кофе, — попросил господин Зетир, отставляя чай. — Я больше кофе люблю. Да, место неплохое.
— В Париже есть чему поучиться, — подтвердил Хюсен.
— Я только один раз был в Париже. В девятнадцатом году, месяца два пробыл там с албанской делегацией на мирной конференции.
— Вы попали в самое неудачное время, — заметил Хюсен. — Только что кончилась война, многого не хватало.
— А мне больше нравится Стамбул, — продолжал господин Зетир. — Конечно, Стамбул — не Париж, но мы, албанцы, как-то уютнее там себя чувствуем.
— В Стамбуле неплохо, но с Парижем его не сравнить.
— А я и не сравниваю. Как это вы говорите? Дело вкуса, верно? А то еще скажете, что я рассуждаю, как «старик».
Все засмеялись. Госпожа Хава принесла кофе. Он выпил его маленькими глотками и снова обратился к Скэндеру:
— Теперь главное — получить паспорт. Давай-ка твои документы.
Скэндер достал конверт из внутреннего кармана пиджака.
— Здесь все в порядке? — Он открыл конверт. — Прошение, справка о социальном положении, свидетельство об окончании школы… По-моему, все как надо.
— Как вы думаете, получится что-нибудь? — спросил Скэндер.
— Постараюсь. При желании все получится.
— Дело в том, что господину Петани паспорт нужен как можно скорее, — выступил ходатаем Хюсен, которому Скэндер понравился с первого взгляда. — Занятия уже начались, а пока выдадут паспорт, пока он пароходом и поездом доберется до Парижа, его могут не принять, год будет потерян.
— Постараемся все сделать побыстрее.
VIII
Скэндер вошел на Старый рынок и поначалу заблудился в лабиринте узких грязных улочек. Потом узнал переулок мастеров по выделыванию телешей, прошел мимо медников и оказался у кофейни Хаджи Реки. В ушах стоял звон от стука и грохота мастерских, да и в кофейне его продолжало преследовать громыхание кузнечного молота, доносившееся откуда-то неподалеку.
Сидевший за стойкой уста[52] Хаджи, дородный, черноусый, в белой телеше, проводил Скэндера любопытным взглядом. Только когда тот подсел к двум юношам, ожидавшим его за столиком у окна, он занялся своим делом.
— Еще кофе, уста!
— Сию минуту, Хаки.
— Присаживайся, Скэндер. Знакомься, товарищ Хамди.
Скэндер поставил чемодан, бросил сверху плащ и протянул руку.
— Скэндер Петани.
— Хамди Зека.
— Как жизнь?
— Хорошо, Хаки, хорошо. Джемаль еще не пришел?
— Он немножко запоздает. Просил подождать.
— Он нашел машину?
— Нашел.
— Значит, отправляешься, Скэндер?
— Да.
— Первый раз за границу?
— Первый.
— Как хорошо, что едешь вместе с Джемалем!
— Мы с ним вместе только до Рима, а дальше поеду один.
— Ничего. Он все расскажет. Закуривай.
Скэндер закурил и оглядел кофейню уста Хаджи. Тесное помещение, шесть-семь непокрытых столиков, стоящих почти вплотную, старые стулья и табуретки. За прилавком бутылки раки и другие напитки, разномастные стаканы и рюмки. Стойку уста Хаджи украсил множеством фотографий киноактеров, над которыми возвышалась фотокарточка короля Зогу в военном мундире — вся грудь в орденах, фуражка набекрень, как у заправского громилы.
За соседним столиком два парня в потрепанной одежде, видимо, подмастерья, увлеченно слушали старика в сдвинутой на затылок соломенной шляпе. Облокотившись на край столика, он негромко рассказывал им что-то смешное, а они то и дело покатывались со смеху.
— Пожалуйте кофе. Откуда господин к нам пожаловал?
— Это, уста, наш друг, Скэндер Петани.
— Очень рад.
Уста Хаджи заметил чемодан.
— Уезжаете?
— Далеко уезжает, уста Хаджи, во Францию.
— Вот как! Учиться?
— Да.
— Давай поставлю чемодан за стойку. — Не дожидаясь согласия, он взял чемодан. — А плащ оставь тут. — И аккуратно повесил плащ на спинку стула.
Скэндер вопросительно посмотрел на Хаки, тот улыбнулся.
— Да он свой человек.
Скэндер отхлебнул кофе и прислушался, стараясь уловить, о чем говорит за соседним столиком старик в соломенной шляпе. Его друзья тоже умолкли.
— …и едет в Тирану к своему другу. Тогда как раз сменилось правительство. Покупает старик газету и идет прямо к Фейзи-бею.
— Как дела, Хасан-эфенди, как жизнь, — расспрашивает его бей. Друг ведь, не как-нибудь.
— Да все хорошо, Фейзи-бей, кругом покой и тишина.
— Его высокое величество — вот кого надо благодарить. Он принес нам спокойствие.
— Уж такое спокойствие, Фейзи-бей, что вот уезжал из деревни к тебе, так детей отправил к брату, а дом оставил как есть, даже запирать не стал.
— Да ну! И воров не боишься?
— Да какие у нас воры, Фейзи-бей. Они ж теперь все в Тиране собрались.
Сказал, как припечатал.
Фейзи-бей стоит, только губы кусает.
Потом достает старик газету и говорит:
— Вот, нового премьер-министра поставили.
— Да. Его высокое величество назначил Пандели Евангели.
Дед Хасан сидит, головой качает.
— Что это ты головой качаешь?
— Какие же мы, албанцы, неблагодарные.
— А что?
— Ну почему поставили премьер-министром не Наима Фрашери, а этого недоумка?
— Тс-с-с! Смотри, услышит кто-нибудь! Ты что, Наим Фрашери умер лет тридцать назад!
— А этот-то уж лет восемьдесят, как помер! — И показывает бею фотографию в газете.
Все рассмеялись.
Скэндер и его товарищи тоже не удержались от смеха.
— Все сказки рассказываешь, джа Хасан?
— Какие же сказки, это все быль.
— Твоя быль-то с подковыркой.
— Да это ж все шутки, сынок.
— В каждой шутке половина правды, — заметил Хамди.
— Так что давайте, сынки, побольше шутить!
— Почему?
— Да потому что вторую половину нам все равно не дадут сказать.
Снова все засмеялись.
— А кто это у вас за столиком?
— Наш друг. Знакомьтесь, Скэндер Петани.
Джа Хасан потянулся и взял его руку в обе ладони.
— Ты случайно не сын Демира?
— Да!
— Что ж ты сразу не сказал? Мы ведь с твоим отцом близкие друзья. В двадцать четвертом в одной роте служили. Чем тебя угостить?
— Спасибо, ничего не надо.
— Уста, кофе!
— Да я уже пил!
— И еще выпьешь, раз я угощаю!
— Спасибо, не хочу!
— А ты случаем не чиновник?
— Нет. А что?
— Только они днем не пьют кофе, боятся, что не заснут на работе.
Скэндер рассмеялся. Этот старик ему очень нравился.
— Нет, — повторил он, — я не чиновник.
— А может, собираешься им стать? Если есть знакомства, так еще станешь.
— Да нет, джа Хасан, я в чиновники не собираюсь.
— Он во Францию едет, учиться, — сказал Хаки.
— Это хорошо, сынок. Только вот кончишь ученье, воротишься, все равно знакомства понадобятся.
— Джа Хасан, расскажи-ка про секретаря общины, который во Франции учился, — попросил один из подмастерьев.
— Да я уж вам рассказывал, неужели забыли?
— Ну расскажи еще разок, — попросил Хаки.
В разговоре участвовали теперь оба стола. В маленькой кофейне это было делом обычным. Случалось порой, разговор захватывал всех, кто здесь находился. Недаром Хаки в шутку называл кофейню уста Хаджи «клубом».
— Ну ладно, молодежь, если уж вам так хочется. Приезжает один молодой человек из Франции, в кармане диплом — не шутка. Ну, думает, теперь я с образованием, буду как зрячий среди слепых, подберу себе хорошее место в Албании. Размечтался — куда там — уже чуть ли не министром себя видит. Да не тут-то было. Куда ни сунется, нигде его не берут. Года два так промыкался, к кому только не обращался, по горло увяз в долгах. Все никак не мог уразуметь, что тут без знакомства ничего не получишь. У нас ведь нынче о чем думает человек — не о каких-то там высоких материях, а о том, как бы полезным знакомством обзавестись. Есть у тебя рука где-нибудь, все двери для тебя открыты. Вот и развелось кругом столько прилипал, доносчиков да склочников. Ну да ладно, в конце концов и он нашел себе покровителя. Тот его пристроил председателем общинного управления где-то на Мати. Начал он работать, да вот секретаря нет. Сочиняет он письмо достопочтенному главе министерства внутренних дел, господину Мусе Юке, так мол и так, без секретаря никак нельзя, и ждет ответа. И вот в один прекрасный день появляется этакая дубина стоеросовая — в узких горских штанах, усы до ушей, тюляф в две ладони высотой, да на нем на два пальца жира и пота — и протягивает ему бумагу. Читает председатель и глазам не верит: согласно вашему прошению, номер такой-то от такого-то числа, господин такой-то назначается секретарем общинного управления. Видит председатель, что от этого секретаря толку не будет, но делать нечего. «Пожалуйте, — говорит, — принимайтесь за работу», — и показывает ему книги записей гражданского состояния, журнал протоколов, справки, в общем, все. «Лады», — отвечает тот, взгромождается с ногами на стул, словно турок какой, кладет перед собой кисет и попыхивает себе целый день, пускает дым в потолок. День проходят, другой — все то же самое. «Когда же за работу приметесь?» — «А делать-то чего?» — «Да вот же книги, протоколы…» — «Какие еще гниги да протыкалы? Я читать-писать не умею, а ты гниги!» — «Читать не умеете?» — «Но!» Схватился председатель за голову, бегом в свой кабинет и быстренько составил еще одну писульку. «Его превосходительству министру внутренних дел господину Мусе Юке. Господин такой-то, направленный в наше управление секретарем вашим приказом номер такой-то от такого-то числа, неграмотен, не умеет ни читать, ни писать и не в состоянии исполнять обязанности секретаря. Поскольку эти обязанности сложны и для их выполнения требуется человек компетентный, способный вести книги записей гражданского состояния, журнал протоколов и т. д. и т. п., прошу почтенное министерство назначить на это место более подходящего человека». Сунул письмо в конверт, вручил жандарму и ждет ответа. Через три дня получает телеграмму из министерства. «Господину председателю общинного управления. Учитывая, что обязанности секретаря сложны и необходим компетентный человек, назначаем вас секретарем, а нынешнего секретаря — председателем. Подпись: Муса Юка руку приложил».
Все, кто были в кофейне, дружно хохотали. Не выдержал даже уста Хаджи, который стоял, облокотившись о стойку. Он смеялся, вытирая глаза полотенцем, висевшим у него через плечо.
— У глупости и невежества пределов нет, — сказал Хаки. — Тут таких чудес можно ожидать, что нормальному человеку и во сне не приснятся!
— Да, ничего не скажешь! Сильно правительство, — насмешливо произнес Хамди.
— Да мы-то сами, выходит, сильнее, коли его терпим, — подхватил джа Хасан.
— Тс-с-с! Керим идет! — крикнул уста Хаджи.
— Ну, я пошел. — Джа Хасан поднялся, взял палку, прислоненную к стулу, и попрощался с каждым за руку. — Люди нынче свою биографию и ту позабыли, а эта сволочь ищет, как бы поподробнее узнать чужую.
— А кто этот Керим? — спросил Скэндер.
— Он из тех, о ком только после смерти можно сказать хорошее, — ответил джа Хасан.
— О таких и после смерти ничего хорошего не скажешь, — сказал Хамди.
— До свидания, молодой человек! Гляди там во все глаза, чтобы умным приехал. Уста, запиши за мной кофе Скэндера.
На пороге появился худой человек в кепке и кителе, в узких штанах, заправленных в черные сапоги. У него было по-лисьи вытянутое лицо, с тонкой ниточкой усов. Он сел за столик рядом со стойкой.
— Одно кофе, не очень сладкое.
— Сию минуту.
Человек внимательно посмотрел на джа Хасана, который, медленно волоча ноги, шел к выходу, потом перевел взгляд на Скэндера.
— Что за парень, вон там?
— Где?
— У окна.
— Хамди.
— Да не он, тот, другой.
— Ты его не знаешь?
— Нет.
— Да это же племянник Мусы-эфенди.
— Ну да!
В кофейню вошел миниатюрный человечек в новом, в обтяжку костюме, с тростью. Повеяло лавандой.
— А вот и господин Рефат, — сказал уста Хаджи, отходя от стола.
— Доброе утро, господин Керим!
— Доброе утро, господин Рефат.
— Что нового? — Вошедший присел к столику.
— И вы у меня спрашиваете, что нового? — громко, чтобы слышали все, начал Керим. — Откуда мне знать? Кто я такой? Агент по продаже недвижимости. Слоняюсь целыми днями по кофейням, не подвернется ли где клиент. Вот захотите дом купить, тогда — да, обращайтесь ко мне. А что до новостей, так их лучше вас никто не знает, ваша милость, недаром ведь вы все с начальством водитесь.
— Поймали вы меня, поймали, господин Керим.
— Вот видите?
— Хаджи, принеси-ка мне стакан воды, запить это несчастное лекарство.
Рефат достал из кармана таблетки.
— Позавчера был во дворце, — похвастался он, запив таблетку водой. — Во дворце был, так-то, — громко повторил он, поглядывая, какое впечатление произвели его слова.
— Что-то я не пойму, господин Рефат. С чего это вы оказались во дворце?
— Неужто забыли? Позавчера же была годовщина монархии.
— Ах да! Значит, и вас пригласили?
— Ну а как же! Вот и приглашение… — Он стал шарить по карманам. — Хотя, нет, оказывается, в другом костюме приглашение-то! Ну и повеселились же мы, душа моя, господин Керим. Шампанское лилось, как вода из крана. А закуски! Жареное мясо под майонезом, рыба, птица, торты — столы ломились. Посмотрели бы вы на Гафур-бея, когда он поддал как следует.
— Да, выпить он любит.
— И еще как пьет-то, литрами дует. Набрался он, значит, а я ему и говорю: «Давай-ка, Гафур-бей, споем». Ну и затянули. Кругом все глазеют на нас! Тут подходит к нам полковник Осман Газепи. «Давай, — говорит, — Гафур-бей, спляшем с тобой, как в Колёнье». — «Сам, — отвечает, — пляши, господин Осман, а я вовсе не из Колёньи». Ты думаешь, господин Осман на попятную? Пошел в пляс сам, такие антраша посреди зала выделывал. Все животы надорвали со смеху.
— А его высокое величество был?
— Был, а как же. А мундир ему как идет, просто загляденье, вся грудь в орденах! Клянусь богом, на всей земле не сыскать такого красивого мужчины, как наш король! Протягивает он мне руку да и говорит: «Как поживаешь, господин Рефат?» — «Хорошо, — говорю, — ваше высокое величество». — «Здорово поешь, молодец!» — говорит и по плечу похлопал. А у меня душа надрывается, кусок в горло не идет!
— Почему?
— Да ведь его высокое величество за весь вечер, бедный, в рот ничего не взял! Перед ним закуски, все, что душе угодно, а он скушал только чашечку простокваши! — Голос господина Рефата задрожал, выражая сочувствие, потом перешел почти в рыдание. — Не поверите, господин Керим, только чашечку простокваши и скушал! Ему доктора запретили! — Он вынул платок и приложил к глазам.
Один подмастерье поднялся и вышел. Второй пересел за соседний столик. Хаки познакомил его со Скэндером.
— Петро-пекарь.
— Очень рад.
— Ну и как дела, Петро? — спросил Хамди.
— Неплохо.
— От тебя разве другое услышишь! — усмехнулся Хаки. — Знаешь, Скэндер, он, даже если в канаве будет помирать, и то ответит: неплохо.
— Но ведь и вправду бывает намного хуже.
— Бывает и лучше.
— Ты сегодня выходной?
— Да. До обеда.
— По скольку часов в день работаешь? — спросил Скэндер.
— По восемнадцать. А выходной — полдня в неделю. Видишь, во что мы превратились, пожелтели, как чахоточные. Спим на земле, укрываемся мешками из-под муки.
— В Тиране много пекарен?
— Да, наверно, штук семьдесят наберется, только их все меньше становится.
— Почему?
— Прибыли нет. Многие закрываются. Представь: мука с дурресской мукомольни идет по пятнадцать франков за центнер, а в ней чего только не намешано — фасоль, рис и еще бог весть что. Мукомольни наживаются, за помол по четыре франка с центнера дерут, а то и еще накидывают, и все это за наш счет. Но ведь бывает и похуже!
— Еще хуже?
— Уж нам-то, пекарям, известно, Хаки. Мы видим, кто, сколько и какого хлеба каждый день покупает, кто приносит запекать мясо, кто картошку, кто одну кукурузу, а кто и вовсе ничего не приносит.[53] Мы выпекаем только кукурузный хлеб, так есть семьи, которые и такой не каждый день видят. Нищета заела.
— Но ведь вы печете и пироги, и сладости.
— Пироги, сладости, кур, мясо приносят одни беи, торговцы да чиновники. Ох, посмотрел бы ты, что творится иногда у нас! Случается, какой-нибудь бедолага возьмет пирог бея вместо своей кукурузной лепешки или кто-нибудь стащит курицу у жены торговца, такое тут поднимется! Всю жандармерию на ноги поднимут, пока разберутся.
У входа в кофейню остановился человек в шароварах и высокой телеше. Донесся крик:
— Эй! Слушайте! Слушайте! Сообщается народу, что…
Уста Хаджи подошел к двери.
— Что там?
— Глашатай, господин Керим.
— Что говорит?
— Ничего особенного, — ответил уста Хаджи, снова возвращаясь за стойку. — Правительство запретило народные снадобья.
— И правильно сделало, — сказал господин Рефат.
— Но разве народ может покупать лекарства у докторов? — возмутился уста Хаджи.
— Захочет, так сможет, — отрезал господин Рефат.
— Послушайте, господин Рефат, а не вас ли я вчера видал с туристами?
— Меня, господин Керим. Вызывает меня сам министр, господин Муса Юка. «Послушай, — говорит, — господин Рефат. Ты такой образованный, столько языков знаешь, окажи нам услугу — проведи по городу группу иностранных журналистов». С большим удовольствием, отвечаю.
Господин Рефат рассказывал громко, чтобы было слышно всем.
— Ну и что говорили туристы?
— Много хорошего. «Какая прекрасная страна!» Знаешь, что мне один из них сказал? «Честно говоря, я думал, Албания в очень тяжелом положении, а вы, оказывается, процветаете, заметно ушли вперед». Я ему рассказал, какой отсталой была Албания во времена Турции, а нынче король Зогу ведет нас вперед к цивилизации. У нас хорошо организованная жандармерия, современная армия с казармами, институт «Мать-королева», то, другое — все ему перечислил. Он удивился. «О! — говорит. — Так вы просто не умеете себя рекламировать!» И прямо в точку попал. Не умеем мы, господин Керим, ох, не умеем мы себя подать. Нынче ведь такие крупные государства, как Италия или Германия например, только на рекламе и держатся. Они своей пропагандой весь мир убедили, что народ у них сплочен и нация едина.
— Вы правы, господин Рефат. С пропагандой у нас плохо… Ведь имея то, чего мы добились под руководством его высокого величества, мы весь мир могли бы удивить!
— Именно. Вот я встретил позавчера премьер-министра, так и сказал ему…
— Извините, мне надо уйти по делу, — перебил его собеседник.
— Да погодите чуть-чуть, дайте рассказать, о чем мы говорили с премьером.
— Нет, нет, тороплюсь! До свидания!
Обиженный господин Рефат остался в одиночестве. Господин Керим в дверях столкнулся с молодым человеком, как раз входившим в кофейню. Тот на шаг отступил, освободив ему путь, а войдя, направился прямо к своим товарищам.
— А вот и Джемаль, — сказал Хаки.
— Извините, друзья! Я немного опоздал, — проговорил он, садясь за столик.
— Едем?
— Машина придет к муниципалитету.
— Не опоздает?
— Самое большее на час.
— Кофе выпьешь?
— Не хочу. А что за господин вышел сейчас отсюда?
— Не знаешь его?
— Нет.
— Запомни.
— Зачем?
— Это шпик.
Господин Рефат, помахивая тростью, тоже вышел из кофейни.
— Ищейка, — сказал Хамди. — Целыми днями рыщет по кафе да по улицам, подслушивает, кто что говорит. Этим и живет.
— Подлое занятие! — громко сказал Петро.
— И не говори, — поддержал Джемаль. — По-моему, нет гнуснее людей, чем шпики. У таких ни чести, ни совести, ни отечества. Они и близких своих выследят и продадут. Откуда они берут информацию — у своих друзей, родных, которые им доверяют, выкладывают все без утайки, а они этим пользуются. А наши шпики вообще самые подлые, они ведь кому только не служили: Турции, Австрии, Италии.
— И дальше готовы кому хочешь служить, — добавил Хаки.
— А когда им ничего не удается пронюхать, выдумывают, — сказал Петро.
— Ахмет Зогу и не думает о том, что надо как-то охранять государственные тайны, — сказал Хаки. — Да что говорить! Он всю оборону страны отдал в руки иностранцам. А своих агентов использует как ищеек, поручая им выслеживать противников режима.
— Правильно сделали французы: взяли и расстреляли своих шпиков в Корче, — сказал Петро.
— Правда? Я об этом не слыхал.
— Да. Перед уходом французских войск из Корчи собрали всех шпиков по списку, устроили им хороший ужин, а на следующий день всех расстреляли.
— Не сделай они этого, — заметил Хамди, — шпики стали бы служить тем, кто пришел после французов, и выдали бы все секреты французской разведки.
— Таково их ремесло, — сказал Джемаль. — Их используют, пока нужны, выжмут, как лимон, и бросят.
— Виктор Гюго заставил Жавера покончить с собой, — вспомнил Хаки.
— Виктор Гюго был романтик, — сказал Джемаль. — Самоубийство — лучший исход для шпика, кроме того, если шпик кончает с собой, значит, не до конца еще потерял совесть и человеческое достоинство.
— Смотрите, смотрите! — закричал уста Хаджи из-за стойки. — Господин Тефик опять принялся за свою забаву!
Все посмотрели на улицу.
Молотки медников умолкли, и стало совсем тихо. Два-три раза прогремел молот в кузнице и тоже смолк.
— Что там происходит? — спросил Хаки.
— Господин Тефик привязал за ниточку золотой франк и положил посреди дороги. Он каждый день так забавляется, — пояснил уста Хаджи, выходя на порог, чтобы лучше было видно.
Ремесленники в своих лавках делали вид, будто заняты работой, а на самом деле украдкой поглядывали за прилично одетым господином, который приближался к тому месту, где лежал франк. Господин Тефик, торговец мануфактурой, в одной руке держал конец нитки, а другой будто бы выводил что-то в большой амбарной книге, не отрывая глаз от прохожего.
Но прохожий не заметил франк и прошествовал мимо.
Как только он миновал «приманку», дружно застучали молотки медников, загремел молот в кузнице, все спешили наверстать упущенное время.
— Не заметил, — заключил уста Хаджи, возвращаясь за стойку.
— Забавляются! — презрительно проговорил Петро. — Морочат людей.
— А что им еще делать-то? Работы все одно мало! — сказал Хамди.
— Застой кругом, — добавил Хаки.
Джемаль посмотрел на часы.
— Ну что, Скэндер, пошли?
— Пойдем.
Молотки вдруг снова умолкли.
— Не шевелитесь! — крикнул уста Хаджи.
К тому месту, где лежал привязанный франк, подходил ходжа. Он шел, в задумчивости перебирая четки. Судя по старому балахону, ходжа был из деревни.
— Кажется, заметил, — воскликнул уста Хаджи.
Ходжа в самом деле увидел франк, резко остановился, но не бросился тут же его поднимать. Он сначала огляделся вокруг, не смотрит ли кто на него: господин Тефик что-то писал в амбарной книге, кузнец копался в груде железного лома, его ученик, чумазый до черноты мальчишка, дул в кузнечный мех, уставившись в потолок, медник обтирал тряпкой готовую посудину.
Ходжа уронил на землю четки и присел, чтобы вместе с ними незаметно поднять и франк, но, как ни странно, франка на месте не оказалось. Ходжа поднял четки и увидел, что монета лежит немного поодаль. Он снова посмотрел вокруг и, не глядя на франк, протянул руку, но рука ничего не нащупала — монета передвинулась еще на два шага. Он на четвереньках приблизился к ней, но она подпрыгнула у него перед носом и свалилась в открытый водосточный люк. Увидев, что франк поблескивает на дне, ходжа протянул руку, однако не достал — опустился на колени, сунул руку поглубже и вроде бы дотронулся кончиками пальцев, но опять ничего не вышло. Тогда ходжа лег на мостовую и стал шарить рукой в люке; чалма у него свалилась, обнажив лысину. Ну, еще немного. Но как раз в тот момент, когда ему показалось, что он нащупал монету и надо было только зажать ее в ладони, она вдруг выскочила из пальцев и подпрыгнула вверх, все выше и выше, и вот уже повисла у него перед глазами. Ходжа, раскрыв от удивления рот, приподнялся, двигаясь в едином ритме со странным франком, попытался встать, но уткнулся вдруг бородой в чьи-то черные шаровары, над которыми нависал круглый, как бочонок, живот. Франк исчез в руке торговца, насмешливо глядящего на ходжу.
— Что это ты ищешь, ходжа-эфенди?
— Э-э-э…
Это протяжное «э-э-э», выражавшее то ли вопрос, то ли удивление, а может, то и другое вместе, послужило сигналом к взрыву громового смеха. Хохотали мастера-медники, хохотал кузнец, захлебывался смехом его ученик, смеялись оказавшиеся поблизости прохожие, безудержно смеялся в своей кофейне уста Хаджи, вытирая глаза переброшенным через плечо полотенцем.
— Ну и провел же он его! Ну и провел! — сквозь смех повторял уста Хаджи.
Ходжа выпрямился и поспешно зашагал прочь, ругаясь сквозь зубы.
— Будьте вы все прокляты!
— Чалму, ходжа-эфенди, чалму забыли! — кричал ученик кузнеца.
Ходжа выхватил у него чалму и поспешил свернуть в ближайший переулок, чтобы поскорее уйти от этого проклятого места.
— Пошли, — сказал Джемаль.
— Пойдем.
Они поднялись. Скэндер взял свой чемодан и попрощался с уста Хаджи.
— Счастливого пути и возвращайтесь в добром здравии! — сердечно напутствовал уста Хаджи.
IX
В деревне Роде, у болота, дни катились один за другим, однообразные и незаметные. Зима в тот год подтвердила справедливость крестьянских поговорок. Недаром говорится: гнилая зима как нищета на старости лет — зима и солому ест, зима и камни ест.
В те времена зимы поедали в Албании людей.
Кози с детьми перезимовал в том году с великим трудом, обнищал вконец; пришлось съесть даже семена, приготовленные к весеннему севу. Хорошо еще Лёни умел ставить капканы. Дождь ли, буря ли, он отправлялся в ночь из дому, пробирался по кочкам в глубь болота и расставлял капканы на диких уток и гусей. Многие из их деревни кормились таким способом. Еле-еле пережили крестьяне долгую зиму и немного приободрились лишь весной, когда потеплело, набухли почки и закудахтали куры.
В эту пору и начинаются происшествия, не очень значительные, но все же такие, которые нарушают монотонное течение дней. Не будь их, многим на старости лет и вспомнить было бы нечего.
Силя в ту зиму заметила, что старший брат стал спокойнее, рассудительнее. К ней он относился ласково, с любовью. Ни разу не повысил голоса, не прикрикнул, если и попросит о чем-либо, то всегда с улыбкой, мягко, приветливо. Раз в две-три недели он обычно отправлялся в город и возвращался ночью. В морозы, когда выдавалось свободное время, он садился у очага и читал, читал, шевеля губами, повторяя про себя слоги.
Однажды отец спросил:
— Что это у тебя за книги, Лёни?
— Это, отец, книги по истории.
— Что же ты их нам не почитаешь?
— Если хотите, могу почитать.
Так вошло у них в привычку проводить долгие декабрьские вечера у очага, слушая чтение Лёни, при свете закоптелой лампы, которую ставили на ящик и придвигали поближе к нему. Он читал медленно, время от времени останавливался и пояснял. На Вандё чтение нагоняло скуку, и он дремал на своей подстилке. Силя слушала с большим вниманием, Кози был доволен, что у него такой грамотный сын. Ему понравилась история про Скандербега, а еще больше про похождения Насреддина.
Однако Силя, которая никуда из дому не выходила, однажды заметила, что какие-то книги Лёни читает только тогда, когда остается один, а потом прячет их под застрехой.
Однажды она спросила:
— А почему ты прячешь книги?
Он в упор посмотрел на нее и ответил:
— Это книги запрещенные, Силя.
— Кто их запретил? — спросила она удивленно. Ей и в голову не приходило, что бывают запрещенные книги.
— Их запретило правительство.
— Почему?
— Потому что в них правда. Они открывают нам, беднякам, глаза, рассказывают, почему мы бедствуем и не можем выбиться из нищеты. Только смотри, никому ни слова, что у меня такие книги.
— И отцу?
— И отцу.
Она молча шила, а он снова принялся за чтение. Неожиданно она спросила:
— А если узнают, что у тебя такие книги, Лёни, что тогда будет?
— Меня посадят в тюрьму.
Она ошеломленно и испуганно взглянула на него.
— Что ты!..
— Не пугайся, Силя, не надо. Никто не узнает. Только сама никому не говори.
— Я?! Ни за что!
С того дня брат и сестра стали как-то ближе друг к другу, их объединяла тайна, известная только им двоим.
Иногда он пытался объяснить ей то, о чем читал, но она не понимала. Слушала, но потом качала головой.
— Ну хорошо, Лёни, — сказала она как-то, — вот ты говоришь, что виноваты беи. Но даже если беев не будет, все равно пахать будешь ты. Никто ведь не придет за тебя пахать.
— Конечно, нет, мы сами будем пахать.
— Значит, ничего не изменится и мы будем по-прежнему гнуть спину.
— Но мы же будем работать на самих себя. Верно, будем надрываться, но для себя ведь, не будем отдавать треть бею да десятину правительству. Будем сыты.
Она качнула головой.
— Что ты головой качаешь?
— Что-то мне не верится. Отец Митро рассказывал в церкви, что бог создал мир таким, как он есть, и люди должны добывать себе пропитание своим потом, чтобы смыть грех Адама. Мы прокляты господом богом.
— А почему только одни крестьяне прокляты? А беи и торговцы, они что, не прокляты? Разве они не люди, как все остальные?
— Откуда я знаю. Это отец Митро так говорит.
— Отец Митро врет. Сказки все это. Да и есть ли бог-то? Его беи да богачи разные придумали, чтобы пугать нас, бедняков, чтобы…
Силя ущипнула себя за щеки[54] и перекрестилась.
— Прошу тебя, Лёни, не упоминай господа, не впадай во грех!
Лёни засмеялся.
— Ну и чудная же ты!
— Не греши, а то как бы не случилось какой беды!
— Да что с нами случится-то? Разве можно жить еще хуже? Ну да ладно. Я тебе все разъясню.
— Нет уж. Имени господа не упоминай всуе.
В ту зиму Гафур-бей часто появлялся на болоте. Выстрелы его двустволки раздавались с рассвета и почти до обеда. Как-то он заглянул в лачугу Кози. Шел проливной дождь, и бей, вымокший до нитки, вбежал во двор с ружьем за плечом и крикнул:
— Есть кто дома?
Кози ставил заплаты на опинги.[55] Услышав голос, он побежал открывать и очень удивился, увидев бея.
— Пожалуйте, бей!
— Мне немного погреться, Кози.
Силя стояла на коленках и дула на огонь, чтобы поскорее сварилась фасоль в котелке. Увидев на пороге бея, она вскочила и вся зарделась, еще больше похорошев. Бей глаз не мог от нее оторвать, а она от его взгляда смутилась вконец и в растерянности принялась теребить ворот платья, прикрывая шею.
— Пожалуйте, бей! — пригласил Кози, указывая на единственную в доме табуретку.
— Твоя дочь, Кози? Здравствуй, милая!
Он старался придать своему голосу ласковый отеческий тон, но Силя не ответила. Опустив глаза, она притаилась в уголке, искоса поглядывая на бея.
Бей прислонил ружье к сундуку, уселся на табуретку, потянулся и, прищурившись, заметил:
— Как у тебя дымно, Кози.
— Да что ж поделаешь с проклятым очагом, не тянет, хоть умри.
— Что же ты, не мог себе дом получше построить?
— Да куда уж нам!
— Грех! Если хочешь, можно что-нибудь придумать, — сказал бей, поглядывая на Силю. Она сложила в углу хворост и вышла. Бей проводил ее взглядом.
Кози подбросил хворосту в огонь и поднес бею чашку горячего молока, но тот, спасаясь от дыма, поспешил уйти. До последнего момента он все поглядывал на дверь, не появится ли снова Силя, но она, принеся хворост, тут же убежала к соседям.
Узнав о неожиданном визите бея, Лёни нахмурился. Он почуял что-то недоброе, но не подал вида.
Через несколько дней к ним явился Шеме-ага, управляющий Гафур-бея. Он уселся, скрестив ноги, у очага и завел разговор с Кози. Лёни присел на сундук.
Поговорив о погоде, нынешней зиме, о том и сем, Шеме-ага приступил к делу, ради которого, очевидно, и пришел:
— Уж больно вы плохо живете, Кози. Бей был поражен, до чего вы бедны. Знаешь, что он сказал? «Жалко мне Кози, хороший он человек, столько лет верой и правдой работает на нас. Погляди, говорит, господин Шеме, нельзя ли выкроить ему землицы получше, а то ведь это грех, чтобы так человек бедствовал. Хороший у нас бей, нет его щедрее, правда, Кози»?
— Хороший, господин Шеме, пошли ему господь счастья!
— Аминь! Так что ты, Кози, не упускай случая. Проси бея поменять тебе надел.
— Да, по мне, и этот хорош, господин Шеме.
— Да что ты, Кози, тут же земля бедная, ничего не родит. Почему бы тебе не попросить земли неподалеку от его дома? Вот там земля так земля, масло, а не земля. Во всей Мюзете такой не найдешь. Проси, он не откажет, как пить дать. Чем давать какому-то косовару,[56] лучше уж тебя уважить. А получишь, навсегда с нуждой распрощаешься.
Кози хорошо знал землю, о которой говорил Шеме-ага, но никак не мог решиться. Получить такую землю — об этом можно только мечтать! А с другой стороны, ему было жаль покидать свою деревню, лачугу, где столько лет жила его семья. Призадумался и Лёни, пытаясь понять, с чего вдруг бей так расщедрился? Что за этим кроется! Вполне возможно, что бей и в самом деле не хочет сдавать землю косовару, но почему он решил отдать ее именно им?
— Ну, что ты скажешь? — спросил Шеме-ага.
Тут Силя внесла чашку молока, и Лёни, заметив, каким взглядом окинул ее Шеме-ага, весь вскипел.
— Твое здоровье, Кози!
— Будьте здоровы!
— Ну, так что же ты скажешь? — снова спросил Шеме-ага, ставя чашку на поднос в руках у Сили.
— Ах, если бы так все получилось! — невольно вырвалось у Кози.
— Ну почему же не получится? Получится! Тебе надо только попросить. Приходи прямо на днях, пока бей тут, а то он не сегодня-завтра уедет в Тирану. Придешь?
Но вместо Кози ответил Лёни, кратко и резко:
— Нет, не придет!
Шеме-ага удивленно на него посмотрел и снова повернулся к Кози, как бы говоря, что ему дела нет до Лёни, он, мол, ведет разговор только с хозяином дома.
— Ну, говори, Кози, я хочу от тебя услышать ответ.
— Не придет он! — сердито повторил Лёни.
— Тебя не спрашивают. Я с хозяином говорю.
— Это одно и то же, — решительно сказал Кози. — Он тебе уже ответил. Нам и тут хорошо. Жалко оставлять свою деревню.
— Ну, как хотите, я вам добра желаю.
Шеме-ага вышел из лачуги недовольный и злой.
— Еще раз появится, я ему все ребра переломаю, — сказал Лёни отцу.
— Да за что ты на него взъелся?
— Значит, есть за что.
С этого дня Лёни старался не уходить далеко от дома. Заслышав выстрелы, он тут же бросал все и бежал домой.
Однажды он угрюмо сказал сестре:
— Было бы у меня ружье!..
Силя вздрогнула — с такой ненавистью он это произнес. Чего только не наслышалась она о беях, Лёни говорил о них изо дня в день, и она испугалась, как бы он не натворил чего.
Но зима прошла спокойно. Гафур-бея вызвали в Тирану, и он не появился в их краях ни в январе, ни в феврале.
В начале марта в доме их соседа Уана ранним утром раздался крик младенца. У Уана Ндриу родился первый правнук. Добрый старик очень обрадовался, что стал прадедом. В то же утро Валя, сноха Уана, теперь уже бабушка, пришла к Кози, чтобы поделиться радостью и попросить Вандё сходить в Дэлыньяс.
— Прошу тебя, Силя, пошли Вандё, пусть сходит с моим Лико, скажет куму, что его дочь родила. Я хотела его одного послать, да ведь ты знаешь, какой он у меня бестолковый, боюсь, заблудится.
— Хорошо, Валя, конечно, Вандё сходит. Вставай, Вандё, обувайся.
Вандё насупился. Ему так не хотелось уходить от очага, где он, сидя на полу, подрумянивал кусок кукурузного хлеба.
— Вставай, сынок, — сказала Валя. — Сходишь к деду Рапи и скажешь: вам привет от Уана. Просили передать, что невестка родила мальчика.
Вандё не сдвинулся с места.
— Собирайся же, иди, тебя там пончиками накормят.
У Вандё блеснули глаза, но он пока не сдавался.
— Вставай сейчас же! — прикрикнула Силя.
— Не пойду. Не дадут они мне пончиков.
— А ты не уходи, пока не дадут! — сказала Валя.
— Ну ладно. Пойду. Где Лико?
— Да вон он, тебя ждет.
Было ветрено, шел дождь.
Вандё и Лико шагали, завернувшись в маленькие бурки, ежась от резкого встречного ветра со стороны Томори. Дорога шла вдоль реки. На том берегу смутно виднелся мрачный дом Гафур-бея. Невысокий холм, где он стоял, круто обрывался к реке, казалось, его специально насыпали тут, чтобы господствовать над равниной, над берегами реки и обеими дорогами в город.
Когда-то предки Гафур-бея из окон дома охотились с ружьем на проезжих и поздравляли друг друга, когда какой-нибудь бедолага, бултыхнувшись в воду, барахтался в бурных волнах реки. Гафур-бей такими бесчинствами не занимался. Надо признать, что одно доброе дело для крестьян его высокое величество сделал: приструнил беев, привыкших самодурствовать в своих вотчинах. Разве могут петь сразу несколько петухов на одной навозной куче? Теперь бей не осмеливался больше охотиться из окна, но наблюдал в бинокль за дорогой да иногда для развлечения посылал своих управителей остановить кого-нибудь из проезжающих и привести к нему. Их приводили во двор, выстраивали в ряд, и бей набрасывался на них с руганью, припоминая им все прегрешения, требуя старые долги, а то и угрожая нагайкой, с которой никогда не расставался. Но и только. Больше он ничего сделать не мог.
Вандё и Лико на дом бея не смотрели. Они с головой накрылись бурками, оставив только щелочки для глаз.
Дождь перестал. Лико сбросил бурку и закричал:
— Гляди, Вандё, гляди!
— Что? — Вандё тоже высунул голову.
— Какое большое дерево!
Река вздулась. Посреди стремнины, покачиваясь из стороны в сторону, плыло большое дерево.
— Река поднимается, Лико! — закричал Вандё. — Давай быстрее, а то затопит!
До Дэлыньяса оставалось еще не менее часа ходьбы, и они находились на низком месте между рекой и болотом.
Мальчики побежали. Вдруг Лико остановился и повернулся к Вандё. Впереди слышался ужасающий рокот.
— Ты слышишь, Вандё, слышишь?
Вандё прислушался.
— Я же говорю, река поднимается. Давай бегом!
На взбаламученной поверхности реки забелели буруны, доносившийся издалека рокот становился все громче. Вандё задержал шаг.
— Смотри, Лико, вон голова реки!
То, что Вандё принял за голову реки, было грудой бревен и щепы, которая с оглушительным гулом и грохотом неслась посреди стремнины. Лико, закрыв глаза, испуганно уткнулся головой в плечо Вандё.
— Я боюсь, боюсь!
Когда он открыл глаза, «голова» уже промчалась мимо, рокот постепенно слабел, но река бурлила, вот-вот выйдет из берегов. Волны бешено сталкивались, вздымались пеной и снова ухали вниз. Мутная река уносила с собой деревья, бревна, щепу.
— Бежим, Лико, бежим, а то пропали!
И они побежали что было мочи. Лико вырвался вперед, но вдруг остановился и заплакал. Река уже перекатывала через насыпь дороги, сливаясь с болотом.
— Ты чего? — закричал Вандё.
— Смотри! Тут не пройти, утонем!
Вандё тоже испугался. Он в растерянности немного потоптался на месте, потом потянул своего товарища за руку.
— Пошли за мной!
— Не пойду.
— Да пойдем, не бойся.
Не отрывая глаз от дороги впереди, он в чем был полез в воду.
— Я не пойду! — в страхе кричал Лико. Он уже не различал, где река, а где дорога, кругом была вода.
Вандё втащил его в воду.
— Держись за мою бурку.
Вода доходила до колен, потом еще выше, но Вандё не останавливался.
— Еще немного и выберемся, — подбадривал он Лико. — Еще немножко. Держись.
Лико всхлипывал.
— Не плачь, трусишка.
Когда они выбрались на сухое место, Лико успокоился.
— Ну вот и все, Лико. Вон видишь тополь? Мы влезем на него и переждем, пока вода спадет.
— А если его река унесет?
— Не унесет.
Направляясь к тополю, они повстречали крестьянина.
— Куда это вы идете?
— В Дэлыньяс, к Рапи Мония.
— А откуда?
— Из Роде.
— Да кто же вас отпустил в такой потоп? Вы посмотрите только, что делается! На вас же нитки сухой нет! Ну-ка, пошли со мной.
Теперь они почувствовали себя в полной безопасности и с легким сердцем отправились следом за крестьянином.
В то хмурое утро дед Рапи решил не выходить из дому. Накинув на плечи бурку, он сидел, согнувшись над очагом, едва не касаясь слабо тлевших поленьев. Ксанда, его жена, высокая сухопарая женщина, чистила фасоль по другую сторону очага.
Вандё, войдя первым, громко поздоровался:
— Доброе утро!
Лико повторил как эхо:
— Доброе утро!
— Доброе утро, сорванцы!
— О! Это ты, Лико! — удивилась Ксанда, отставляя в сторону таз с фасолью. — А вымокли-то как! — Она расцеловала Лико в обе щеки. Вандё выпалил заученное наизусть поручение:
— Привет вам от кума Уана и тети Вали, Ленка родила мальчика. Долгой жизни и счастья вашему внуку!
Дед Рапи выпрямился.
— Ах ты, молодец какой! Ну-ка, садись, сынок. Жена! Принеси хвороста. И гостям дай чего-нибудь за хорошую весть.
Мальчики сели и протянули руки к огню. Ксанда принесла охапку хвороста. Дед Рапи подложил его в огонь, но хворост не разгорался. Лико принялся дуть. Вандё снял опинги и носки, выжал и положил на край очага. Тетя Ксанда искала что-то в сундуке.
— Как вы там поживаете, а, сорванцы? — спросил дед Рапи, когда хворост занялся. — Как дела у кума Уана?
— Хорошо, джа Рапи, у нас все в порядке. Вам привет. — Вандё сказал это так, будто не Лико, а он был родственником деда Рапи.
Тетя Ксанда захлопнула сундук, Вандё украдкой посмотрел в ее сторону.
— Берите, малыши, — сказала тетя Ксанда. — Такую хорошую новость принесли, вот молодцы!
Вандё взял угощение — кусок сахара — и сунул в рот. Сахар отдавал мылом.
Огонь разгорелся, стало жарко, все отодвинулись от очага. От одежды мальчиков поднимался пар.
Одного куска сахара для Вандё было явно мало, он надеялся получить хотя бы еще один, но тетя Ксанда снова уселась на прежнее место, поставила рядом таз и принялась чистить фасоль.
— Садись поближе, Лико, что ты так далеко от огня сидишь?
Он умышленно растянул «о», но никто на это не обратил внимания.
Дед Рапи снова погрузился в свои думы.
— Лико-о, эй, Лико-о! — позвал Вандё.
— Что ты сказал, сынок? — встрепенулась Ксанда.
— Да я Лико зову, — ответил Вандё. — Лико, сними носки, пусть посохнут.
Дед Рапи усмехнулся в усы и подмигнул жене. Она поднялась, опять полезла в сундук, достала банку лико[57] и ложку.
— Будьте здоровы, дядя Рапи! Пусть ваш внук будет здоровым. Какое вкусное у вас лико, тетя! Я возьму еще ложечку.
— Бери, сынок, бери.
Тетя Ксанда принесла еще хвороста.
Одежда мальчиков высохла. Вандё надел носки. Тетя Ксанда подала ему опинги, но он не торопился обуваться.
— Ой, дождь идет, — поглядел он в крохотное окошко.
— Время такое, март, — заметил Рапи.
— Здесь-то дождь, — заговорил Вандё, лукаво поглядывая на тетю Ксанду, снова принявшуюся за свою фасоль. — А вот на горе Томори, там, высоко, сейчас снег идет.
— Да, там снег, — кивнул дед Рапи.
— Да еще какой, дядя Рапи, не то что у нас. Там такие сугробы, прямо как пышки!
— Как что?
— Как пышки!
Дед Рапи снова усмехнулся в усы и сказал Ксанде:
— Ну-ка, жена, вставай, ставь сковороду! Ну и хитрый же ты, малец!
И опять дни побежали чередой.
Однажды Пилё принес Силе открытку.
— Что это, дядя Пилё?
— Это открытка. От Скэндера.
— Правда?
Она с любопытством посмотрела на открытку.
— Это дома такие?
— Дома.
— Такие большие!
— Есть еще побольше.
— А что он пишет, дядя Пилё?
Пилё прочел:
— «Господину Козме Штэмбари. Поздравляю вас с Новым годом! Привет Лёни, Силе, Вандё! Обнимаю вас. Скэндер Петани».
Она сунула открытку за зеркальце на стене.
Лёни тоже обрадовался открытке.
— Это какой город, Лёни?
— Париж.
— Он далеко?
— Очень.
— Дальше, чем Тирана?
— Ты что! Тирана рядом, совсем близко.
— А сколько туда ехать?
— Смотря на чем. На подводе так месяца три.
— О-о! Вот почему открытка так долго шла!
Лёни засмеялся.
— Да нет, Силя, ее не на подводе везли. На почте пролежала.
— Почему?
— Откуда я знаю.
— А зачем он так далеко уехал?
— Учиться.
— Да ведь он и так ученый. Что ж он, всю жизнь будет учиться?
— Накрывай на стол, — сказал Кози.
В ту ночь Силя со всеми подробностями вспоминала дни, проведенные в августе с семьей учителя. Приедут ли они снова в этом году?
Из оконца лачуги был виден клочок черного неба с редкими звездами. Две звезды показались ей на мгновение парой глаз, сверкающих в темноте. Потом выплыло лицо Скэндера, открытое, веселое, а звезды как его глаза. Они ласково смотрели на нее. Он протянул к ней руку и с улыбкой позвал: «Пойдем, Силя, к тому островку на болоте!» И вот они идут, взявшись за руки. Островок такой красивый, весь покрыт цветами. Скэндер скрылся за розовыми кустами. Она осталась посреди болота. «Дай руку, Силя, иди сюда! Здесь так красиво!» Но ей никак не дотянуться до его руки. Их разделяет болото. Ее ноги погружаются в трясину. Ее затягивает по колени, потом еще глубже. Она медленно погружается в жижу. «Иди, Силя, иди сюда!» Он все дальше, все дальше… Она тонет в трясине…
— Что с тобой, Силя? — услышала она голос брата.
Она привстала на постели, потерла глаза и вздохнула.
— Что случилось? Ты почему кричала?
— Плохой сон приснился.
Он повернулся на другой бок.
— Лёни!
— Ну?
— А летом господин Демир приедет к нам?
— Может, приедет.
— А Скэндер?
— Наверно, нет. Он ведь так далеко. За морем.
Она видела море лишь однажды, когда была еще совсем маленькая. У нее все тело тогда покрылось какой-то сыпью, и отец, услыхав, что морская вода помогает, повез ее на подводе к морю. Как она была тогда поражена! Там, где небо сливалось с морем, казалось, была граница всего, дальше ничего нет.
— А почему он не может приехать?
Лёни не ответил. Наверное, заснул.
Она не стала больше спрашивать. Легла, и вдруг ей стало так тоскливо, что она заплакала, сама не зная, почему плачет.
X
Наступила весна во всей своей красе. Тутовник перед домом снова бросил тень на дворик, его густая листва снова выложила на земле мозаику из тени и света. Розы и гиацинты, посаженные Силей, вновь раскрыли красные и белые бутоны, а лужайка у стога запестрела ромашками. Воробьи галдели во дворе и спозаранку будили Вандё, которому так сладко спалось по утрам.
Силя заблаговременно покрасила яйца, убралась в доме и разостлала поверх рогожи единственный коврик. Лёни зарезал пасхального ягненка и сунул в печь жариться. Кози к празднику купил себе новую такию. Вандё не терпелось надеть наконец новые штаны и рубаху, что подарила ему госпожа Рефия прошлым летом.
В тот вечер все готовились идти к заутрене в церковь святого Трифона. Но Лёни отказался идти. Сколько Силя ни уговаривала брата, он только отшучивался.
— Ты можешь даже не входить в церковь, — говорила она. — Побудешь во дворе.
— А что я буду делать во дворе?
— То, что делают все парни: на девушек поглядишь.
— Зачем?
— Может, тебе какая понравится…
— Нет, не пойду.
— Ты что, жениться совсем не собираешься?
— Вы идите с отцом, возьмите Вандё с собой. А я дома посижу.
Ночь была тихая, звездная, месяц тускло освещал дорогу. С болота поднимался тяжелый запах гнили, доносилась монотонная трель лягушек. Кози, Силя и Вандё присоединились к семейству Уана Ндриу, который шел во главе целой колонны сыновей и невесток, внуков и внучек.
Двор церкви святого Трифона был запружен народом. Внутри яблоку негде было упасть. Кози с трудом отыскал местечко в задних рядах, Силя протиснулась на места для женщин и зажгла свою свечку, а Вандё приложился к иконам и боком-боком выбрался наружу к своим приятелям.
Церковь была ярко освещена, спирало дыхание от духоты. Прихожане, особенно женщины, оживленно переговариваясь друг с другом, подняли такой оглушительный гам, что в ушах звенело. Голос отца Митро, которому было уже под семьдесят, тонул в этом шуме.
— «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господен, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые; Ангел же сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых…»
Мужские голоса подхватили хором:
— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот дарова-а-ав…
— Христос воскрес!
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
Женщины толкались, стараясь получше разглядеть происходящее.
— О! Гляди, Гафур-бей тут!
— И что ему здесь надо, этому турку…
— Будто не знаешь, — скривив губы, проговорила какая-то старуха. — Высматривает, нет ли какой пташки для него.
— Чтоб его холера побрала!
— Чтоб ему пусто было!
— Чтоб наши беды пали на его голову!
— А вон та толстуха кто?
— Его жена.
— А ей что понадобилось?
— А вон еще одна. У него, у проклятого, две жены, что ли?
— Да это не жена.
— А кто?
Женщины приподнимались на носки и отталкивали одна другую, стараясь рассмотреть знатных господ.
Гафур-бей, его супруга, какой-то господин в очках и с ним дама, все одетые по французской моде, сидели недалеко от священника на скамье, предназначенной для епископа и других высокопоставленных служителей церкви, и внимательно следили за службой. Изящная дама время от времени щелкала фотоаппаратом, висевшим у нее через плечо.
— Да что ж это она, несчастная, делает?
— Что делает. Не видишь, что ли? На карточку нас снимает.
— Здесь, в доме господнем?
— За его высокое величество, короля нашего Зогу Первого, господу помолимся! — тянул отец Митро.
Дама щелкнула аппаратом, наставив его на священника.
— И за светлейших принцесс господу помолимся!
— Аминь!
— Господи помилуй! — вступил хор.
Во дворе церкви крестьяне с пасхальными свечами в руках христосовались друг с другом и тюкались носиками крашеных яичек.
Пробираясь к выходу из церковного притвора, Силя натолкнулась на Гафур-бея и даму с фотоаппаратом. Бей уставился на нее и шепнул что-то даме. Та вскинула аппарат. Силя не успела опустить голову, раздался щелчок.
— Все, сняла тебя на карточку, — засмеялась Валя.
— Вандё, а где отец?
— Погляди, Силя! Я вот этим яичком целых шесть штук раскокал!
— Пошли домой.
— Подожди, я побьюсь с Кичо. Давай, Кичо.
— А оно у тебя настоящее?
— А какое же?
— Ну-ка, дай посмотрю.
Кичо повертел яичко в руках, попробовал его на зуб.
— Я боялся, может, оно у тебя каменное.
— Скажешь тоже! Давай-ка и я твое проверю!
— На, проверяй.
Вандё тоже повертел яичко, попробовал на зубок.
— Ну, подставляй.
— Ладно. Бей.
Вандё ударил по яичку и расстроился.
— Твое треснуло, — обрадовался Кичо, — давай его сюда.
— На, бери. Подумаешь, стану я плакать из-за одного яйца. Я целых шесть штук выиграл. Во, смотри. — Он оттопырил карманы.
Дома Лёни спросил:
— Ну как, сестра, причастилась?
— Да.
— Счастливая ты, все грехи тебе простили, — пошутил он.
— И я причастился! — доложил Вандё.
— И тебе грехи простили?
— А тебе?
— А у меня нет грехов, малыш. Это только у вас!
Миновала пасха, как привычный поворот на долгом и однообразном пути крестьянской жизни.
Потеплело.
Крестьяне начали сев. Еще до света запрягали волов и отправлялись в поле. Возвращались поздно вечером, усталые, измученные, еле волоча ноги.
Через неделю после пасхи, во вторник, Лёни отправился в город. Он взял с собой Вандё — пусть проведет денек со своим приятелем Агимом. Кози уехал в поле. Управившись с делами по дому, Силя уселась на рогожу и принялась латать одежду. Солнце припекало, но в лачуге было прохладно. День стоял тихий. Жаркую тишину изредка нарушали своим кудахтаньем куры. Через оконце в лачугу падали косые лучи солнца, в них роились мириады пылинок. Издалека доносились размеренные удары кузнечного молота. Силя шила, а мысли ее были далеко. Она прослышала, что отец собирается устраивать ее помолвку, и гадала, за кого же ее выдадут. За молодого или за старика? А зачем ей выходить замуж? На кого она оставит отца, братьев? Как они тут будут без нее? Лучше бы Лёни первый женился и привел в дом жену.
Вдруг кто-то загородил окно, и на мгновение в комнате стало темно.
Силя подняла голову.
Никого.
Она снова принялась за работу.
У входа послышались шаги.
— Это ты, отец?
Никто не ответил. Она услышала скрежет задвигаемого засова на входной двери, хотела встать и посмотреть, кто там, но застыла на месте от неожиданности: в дверях стоял Гафур-бей. Он загородил дверной проем своим массивным телом и как-то странно смотрел на нее.
Она замерла, стоя на коленях. Шитье и игла выпали у нее из рук.
— Не бойся, Силя!
Она вздрогнула. Он даже знает, как ее зовут!
— А где Кози?
Она не ответила. Увидев, что он отошел от двери, она вскочила и кинулась к выходу.
— Я позову его, — сказала она, стараясь казаться спокойной. Сердце у нее билось, как птица в клетке.
— Не надо. Останься тут.
— Пустите, я пойду.
— Останься! У меня к тебе дело.
Схватив за руку, он притянул ее к себе. Она обмерла от ужаса.
— Послушай, Силя, — мягко проговорил он, отпуская ее. — Я принес тебе фотографию. Помнишь, тебя сфотографировала та итальянка, на пасху? Смотри, как ты хорошо получилась!
Она попятилась, а он, протягивая фотографию, надвигался на нее. Она прижалась спиной к стене. Дальше пятиться было некуда.
— Почему же ты не берешь? Возьми, я принес ее тебе.
Она не шелохнулась.
— Ну чего ты испугалась, глупышка? Я ведь тебя люблю. Как увидел тебя, ни о ком и думать не могу. Ты разве не поняла, почему я тут всю зиму пробыл. Ну, не упрямься.
Он схватил ее за руки и притянул к себе.
— Пустите меня! Пустите! — вскрикнула она.
— Нет уж, теперь ты у меня в руках! — Он стал покрывать поцелуями ее щеки, волосы, шею.
Силя вырывалась изо всех сил. В отчаянии она колотила его своими слабыми кулачками, но он даже не почувствовал ударов. Побагровев, он пытался обхватить ее. Она хотела закричать, но почему-то не смогла выдавить ни звука. Он повалил ее на рогожу. Она задохнулась, в глазах потемнело, все закружилось…
Когда она очнулась и увидела, что лежит на рогоже, то не сразу поняла, что произошло. Почерневшая солома крыши кружилась перед глазами, потом она перестала кружиться, и Силе подумалось, что ей приснился кошмарный сон, но внезапно ее пронзила боль, какую она никогда прежде не испытывала.
Она встала на колени, увидела свои голые ноги, порванное платье и нижнюю рубашку. Быстрым движением она прикрыла ноги и тут только осознала случившееся. С пронзительным криком, словно в сердце ей вонзили нож, она закрыла лицо руками и отчаянно зарыдала…
Она не слышала, как снова вошел бей. Присев возле нее, он начал гладить ее волосы:
— Не плачь, глупышка. Зачем плакать? Я буду заботиться о тебе. Ты теперь моя. Я сделаю тебя госпожой. Увезу из этой гнилой лачуги. Будешь жить у меня. Захочешь, в Тирану отвезу. Я тебя на руках буду носить. А с отцом твоим я договорюсь… Не беспокойся.
Услышав об отце, Силя перестала рыдать. Повернувшись к бею, она что было мочи толкнула его. Опешив от неожиданности, бей повалился навзничь.
— Ах ты проклятый! — закричала Силя, сжимая толстую шею бея. Она рывком наклонилась и хотела вонзиться зубами ему в горло, но бей извернулся, и ее зубы впились ему в щеку.
Бей взвыл от боли, схватил ее обеими руками за волосы и отшвырнул от себя.
— Звереныш! — выкрикнул он, поднимаясь. — Вот тебе! — и ударил ее ногой.
Она отлетела в сторону и, сжавшись в комок, рухнула на пол, уткнувшись лицом в ладони.
— Силя! Силя! — послышался вдруг детский голос.
Бей бросился вон из дома и во дворе чуть не налетел на Фану, внучку Уана. Девочка отскочила и, удивленная, посмотрела, как он торопливо отвязал коня, одним прыжком вскочил на него, хлестнул нагайкой и, перемахнув через плетень, ускакал по узкой улочке. Девочка бросилась в дом.
— Силя!
На пороге она резко остановилась, прижав руки к груди.
— Что с тобой?
Она кинулась к Силе и хотела помочь ей подняться, но Силя вдруг так пронзительно закричала, что Фана испугалась; никак не ожидала она такого от спокойной и кроткой, как ягненок, девушки.
— Уйди! Уйди! Оставь меня!
Фана еще больше ужаснулась, увидев искаженное лицо Сили и ее растрепавшиеся волосы. Она опрометью бросилась из дому рассказать кому-нибудь о случившемся.
— Кози! Эй, Кози!
Ее крики затихли в отдалении.
Силя поднялась, попыталась собраться с мыслями, но ничего не получилось.
«Что же мне теперь делать? Как я взгляну в глаза отцу и Лёни?»
— Кози! Дядя Кози! — послышались снова крики Фаны.
Силя вышла из оцепенения. В два прыжка выскочила из дому. С растрепавшимися косами, в разорванном платье и сбившемся на затылок белом платочке она, как безумная, перепрыгнув через плетень, понеслась через поле к болоту. Бежала и била себя руками по лицу, щипала за щеки, ничего не видя перед собой.
У лодки она на мгновение приостановилась.
— Силя! Силя!
Она обернулась и увидела бежавших к ней отца и Фану.
Как перепуганная, загнанная косуля, Силя прыгнула в лодку, из лодки — в жижу болота и мгновенно скрылась под водой. Она еще раз показалась на поверхности с раскрытым ртом и, размахивая руками, хотела закричать, ухватиться за лодку, но не смогла и снова ушла под воду…
Когда подбежали Фана и Кози, на взбаламученной поверхности лопались пузыри да с лодки свисала, наполовину погруженная в мутную воду болота, белоснежная косынка. Сили не было.
XI
Лёни возвращался из города в прекрасном настроении. Дорогой он весело подшучивал над Вандё.
— Эх ты, герой! Идем-то всего два часа, а ты уже устал.
— Я? Да я совсем и не устал!
— Что ж ты тогда плетешься? Я вижу, ты еле ноги передвигаешь. Давай понесу сумку.
— Не дам. Хочешь, побегу бегом?
— Нет, давай руку.
Вандё тоже был доволен. Он полдня пробродил по городу с Агимом; они ели мороженое, залезли в чей-то автомобиль, и Агим показал ему руль, включение и тормоза. После обеда они с Лёни походили по базару и купили Силе зеркальце, и Вандё нашел, что оно намного красивее того, что было у них дома.
Они вошли в деревню, когда солнце уже садилось. Навстречу им попался пожилой крестьянин, увидел, как они пересмеиваются, хмуро покачал головой и тяжело вздохнул.
— Ну как, сынки, вернулись?
— Вернулись, джа Наси.
Он опять покачал головой и вздохнул.
— Эх жизнь, жизнь…
Лёни не понял, что он имел в виду.
Потом им повстречалась Валя, сноха Уана. Она была в трауре. Валя кинулась к Вандё и с плачем стала его целовать. Лёни подумал, что она заплакала, вспомнив, наверно, кого-нибудь из своих детей — у нее умерло уже несколько, — и в душе у него не зародилось никаких подозрений. Но вот еще две женщины, тоже в черном, почему-то бросились к Вандё со слезами и поцелуями. Сначала они вроде хотели что-то сказать Лёни, но, не выдержав, разрыдались. Лёни встревожился: женщины появились из переулка, где находился его дом.
«Что-то случилось». От предчувствия тревожно забилось сердце.
К нему спешил Пилё Нуши.
— Вернулся, Лёни?
— Что случилось, Пилё?
Лёни пытался заглянуть Пилё в глаза, но тот потупил взгляд.
— Слушай, Лёни. Ты уже взрослый. В этом мире всякое бывает… Задержи Вандё, не пускай его туда…
Показалась Лёни, дочь Пилё. Хотела было поздороваться, но, подойдя к ним, вдруг закрыла лицо руками и заплакала навзрыд.
— Говори, Пилё, что случилось?
Лёни был уверен теперь, что стряслась беда, и от зловещей уверенности он словно оцепенел, в голове не было ни одной мысли, только сердце колотилось так, что, казалось, вздрагивает вся грудная клетка. Пилё стоял с сокрушенным видом, не решаясь выговорить страшные слова.
Все решилось совершенно неожиданно.
Лико, туповатый внук Уана, подошел к Вандё и выпалил так, словно речь шла о чем-то обыкновенном:
— Вандё, а Силя умерла. В болоте утопилась.
Вандё на мгновение застыл на месте, потом с криком рванулся к дому. И тут Лёни словно очнулся. С потемневшим лицом он бросился вслед за братом, но Пилё ухватил его за рукав:
— Держись, Лёни, ведь ты мужчина! Уж такая жизнь.
Лёни резко рванул руку и побежал.
Лёни дала оплеуху Лико. Тот захныкал.
— За что? Что я такого сделал?
— Вот тебе еще, болван чертов! Вот тебе, чтобы держал язык за зубами! — приговаривала Лёни, нахлестывая его по щекам.
Лёни мчался со всех ног, не слушая Пилё, который бежал за ним, крича ему что-то на ходу. У дома показалась тетя Софа, сестра отца, жившая в Дэлыньясе: вся в черном, высокая, худая, с распухшими от слез глазами. Почему-то он совсем не удивился, увидев ее здесь. Тетка бросилась к нему и заголосила:
— Бедные мы, несчастные! Где твоя Силя, Лёни? Была у тети Софы Силя, невеста на выданье! А теперь отдадим мы ее черной земле!
— Довольно, Софа, перестань! Не терзай душу бедному парню! — уговаривала ее какая-то женщина, но и сама не могла сдержать слез.
— Это ж надо, что сотворил, проклятый! Да покарай его господь! — пробормотал кто-то.
Лёни отстранил тетю Софу и, растолкав столпившихся у двери женщин, шагнул внутрь.
Посреди комнаты, в платье, которое привезла в подарок госпожа Рефия, лежала Силя. Она выглядела совсем как живая, только как будто немного пополнела на лицо, золотистые пряди волос прилипли ко лбу. Вандё приник к телу сестры и надрывно плакал. Стоявшие вокруг женщины в черной одежде плакали, прижимая к глазам платки. Лёни на мгновение застыл в дверях. Мужчины подхватили его под руки, но он ничего не чувствовал. Вдруг с хриплым стоном кинулся на тело сестры и затрясся в рыданиях.
Кто-то положил ему руку на плечо, но Пилё тихо сказал:
— Не трогай! Пусть выплачется! Так легче.
Но Лёни вдруг поднялся, отер слезы ладонью и одеревеневшей походкой вышел из дому, прошел в дальний угол двора и сел на бревно под шелковицей, сжав голову руками.
Пилё вышел за ним и сел рядом. Лёни больше не плакал.
— Где отец, Пилё?
— Вон он.
Отец сгорбился на скамье у дома и, погруженный в свои думы, машинально то зажигал, то гасил самокрутку. Изредка по щекам его скатывались слезы. Несколько односельчан сидели рядом с ним на земле и пытались как-то его утешить.
— Как это случилось, Пилё?
Пилё скрутил цигарку и закурил.
— Эх! — выдохнул он горестно. — Держись, Лёни, ты мужчина, должен уметь все снести. То, что я тебе сейчас скажу, так тяжко — дальше некуда, да что поделаешь. Подлец! И эту беду он нам принес.
Лёни непонимающе уставился на него.
— Гафур-бей опозорил ее, Лёни, а она со стыда и утопилась.
Лёни продолжал остановившимся взглядом смотреть на Пилё, словно до него не доходил смысл его слов. Потом лицо его приняло напряженное выражение, казалось, он принуждал себя не верить в непоправимость беды. Наконец он с криком вскочил.
— Так что же вы молчите? Почему скрываете? — И как безумный бросился к сараю.
— Стой, Лёни, ты куда?
Лёни выскочил из сарая с топором. Пилё схватил его за плечи.
— Пусти!
— Не сходи с ума, Лёни!
— Я убью этого пса, убью! Пусти меня!
Еще двое бросились к нему. Один ухватился за топор, но вырвать его не смог.
— Пустите! — кричал Лёни. Казалось, он совсем потерял рассудок. — Пустите меня!
— Не надо, Лёни!
— Не надо, сынок, не губи себя понапрасну!
— Я убью его!
Топор им все же удалось выхватить, но Лёни не унимался, пока не подошел отец.
— Не надо, сын, не надо так, — с горечью проговорил Кози. — Хватит и того, что с нами случилось, не наноси мне еще одну рану. — По его щекам текли слезы. Это были горькие слезы униженного человека, бессильного отомстить своему обидчику.
— Как же ты ее оставил одну, отец? Разве не знал, что этот пес из-за нее тут рыщет?
— Не надо, Лёни, пожалей отца, он и так себя казнит!
Лёни больше не держали, но на всякий случай стояли рядом.
Он снова сел на бревно и сжал голову руками.
— Оставьте меня! — попросил он.
Отец и несколько мужчин отошли.
Пилё подсел к нему, а дед Уан стоял рядом.
— Не теряй голову, сынок, — сказал он. — Что с ним, проклятым, поделаешь. Тебе с ним не справиться.
— Ничего, придет и наше время, — с ненавистью проговорил Пилё. — Придет. Уж мы тогда рассчитаемся с этими псами раз и навсегда!
— Будет ли конец нашим мукам! — вздохнул Уан.
— Дай закурить, — обратился к нему Лёни.
Медленно опустилась ночь и скрыла искаженные горем лица людей.
XII
Свадьбы, брызжущие весельем, повсюду разные, а вот похоронные обряды одинаковы повсюду и во все времена: тот же женский плач и стоны, печальные лица друзей, вздохи и слезы, соболезнования вполголоса, те же слова о неумолимости судьбы и бренности всего сущего. Люди приходят, пожимают руки близким умершего, чуть слышно шепчут утешения, в которые и вникать никому не хочется, потом рассаживаются по углам, молчаливые и скорбные. Время от времени кто-нибудь спросит, как все случилось. И вот один из родственников в который раз повторяет подробности теми же словами; потом кто-нибудь вспомнит, когда встретился и о чем говорил в последний раз с покойным, и закончит свое воспоминание глубоким вздохом. Другой на это заметит: «Все там будем, так уж нам на роду написано».
Редко случается встретить человека, который не поддастся общему унынию. Понимая мучительное состояние родственников, сломленных горем, он найдет способ вывести их из скорбного оцепенения. Он знает, близкие покойного думают сейчас только о нем, вспоминают пережитые с ним вместе минуты радости и счастья, никак не могут смириться с мыслью, что нет больше того, кого они так любили и кого никогда больше не услышат. Безысходность горя прорывается рыданиями и горестными воплями. Плач передается от одного к другому, и даже те, что пришли просто ради приличия и, возможно, никогда не были знакомы с усопшим, утирают слезы — трудно сохранить душевное спокойствие при виде людского горя.
В таких вот обстоятельствах твердый человек как луч света во тьме. Он всех успокоит. Благодаря ему прекращается цепная реакция плача. Чтобы отвлечь внимание, он заведет какой-нибудь разговор, расскажет что-нибудь интересное, глядишь, и стихли рыдания, потому что все в общем-то рады отвлечься от горькой действительности. Сначала в разговор вступают посетители, которым невмоготу такая напряженная обстановка, и, стремясь разрядить ее, они с готовностью откликаются на живое слово; вскоре присоединяются и дальние родственники, и даже члены семьи, находящие отдохновение в минутном забвении горя.
К сожалению, такой человек встречается редко, а если он и находится, то стоит ему удалиться, как снова воцаряется молчание и снова льются слезы, так как большинство людей в подобных обстоятельствах не в силах сдерживаться или вести отвлеченные разговоры, они только и умеют, что молчать и скорбно вздыхать, так что вместо успокоения еще больше всех расстраивают. А что уж говорить о людях истеричных, а тем более притворщиках, которые будто бы в глубоком горе испускают дикие вопли, щиплют себя за щеки и бьют кулаками по голове. Они самозабвенно причитают, подбирая самые трогательные слова, и все это напоказ. На самом деле ничего подобного они не испытывают, просто натренировались, как актеры на сцене. Такие люди словно зажженная спичка, брошенная в бак с бензином. Это характерно особенно для некоторых женщин, которые являются скорее для того, чтобы расстроить еще больше, а не для того, чтобы утешить. Хорошо, если находится такой человек, который возьмет их за рукав и выведет вон, но обычно их-то как раз никто не трогает.
В день, когда хоронили Силю, не было человека, который страдал бы сильнее, чем Лёни, ее брат. Но ни единой слезы, ни единого стона не вырвалось у него. Он стоял с потемневшим лицом, невыносимая боль будто иссушила все слезы. С той минуты как он узнал о страшном бесчестье, одна мысль билась у него в мозгу: как отомстить, как смыть этот позор.
Горестный плач в комнате не прерывался, приходившие к ним деревенские женщины начинали голосить уже с порога. Тело девушки посреди комнаты уже усыпали цветами: женщины приносили их охапками. Обычай требовал, чтобы Лёни встречал всех, кто приходил выразить свои соболезнования. Только это и удерживало его дома, а не то он уже давно убежал бы подальше, чтобы никого не видеть. Ему казалось, что он не имеет права даже взглянуть людям в глаза. Поминутно входили и выходили крестьяне в черной одежде из домотканой шерсти, женщины, прижимавшие к глазам платки, девушки с заплаканными лицами. Кози безмолвно стоял, то и дело зажигая самокрутку, которая поминутно гасла. Морщины резче обозначились у него на лбу, губы почернели. Вандё еще с вечера забрал к себе один крестьянин. Тетя Софа стояла в головах у племянницы, время от времени вздрагивая от рыданий.
В то утро приехал и господин Демир с женой. Их привез на подводе Пилё Нуши, отправившийся в город накануне вечером. Госпожа Рефия с горьким плачем бросилась на тело Сили. Господин Демир сжал руку Кози и молча обнял его.
Какая-то старуха тем временем рассказывала свой сон. В таких случаях старым людям всегда вспоминаются сны.
— Увидела я ее во сне, и прямо сердце защемило. Была она, милая моя, как невеста, в белом платье и в фате, а в руках красные гвоздики, вот как эти. Смотрю я на нее и удивляюсь, когда же это ты успела невестой стать? А она не отвечает — взяла кувшин и пошла. «Куда ты идешь, доченька?» — «К колодцу, тетя Дафа, — говорит, — отец просил воды». — «Зачем тебе идти за водой, ты ведь невеста? Дай мне кувшин». — «Нет, тетя Дафа, он просит, чтобы я принесла». И пошла себе дальше, к болоту. А сон-то вышел в руку: белое платье — смерть, а кувшин с водой — слезы…
К обеду налетели из города, словно вороны на падаль, следователь, жандарм Камбери и староста. О случившемся городским властям сообщил самолично староста Ндин Фикти, приземистый, круглый, как бочка, кривоногий старик. Следователь, тощий субъект, с ввалившимися щеками, седыми усиками и сжатыми в ниточку губами, словно он только что отведал лимонной кислоты, держал под мышкой папку. Жандарм Камбери был обладателем кустистых бровей, пышных усов, которые он то и дело подкручивал, и видавшего виды мундира с подворотничком, который, очевидно, когда-то был белый, но с тех пор успел засалиться до неузнаваемости. Объемистый живот жандарма был перетянут патронташем, к поясу приторочена громадная кобура с револьвером, за плечом длинная винтовка, ремешок фуражки спущен под подбородок. Именно такой, по его мнению, вид приличествовало иметь при исполнении служебных обязанностей. Следователь сразу же направился осматривать «потерпевшую». Женщины оборвали плач и потянулись к выходу. Следователь безучастно взглянул на труп девушки, кивнул головой и вышел во двор. Ему принесли стул, он сел, положив папку на колени, достал авторучку и начал составлять акт. Жандарм Камбери стоял за его спиной, подкручивая усы, староста присел на корточки. Кончив писать, следователь начал задавать вопросы. Пилё с Уаном рассказали, как все произошло. Следователь выслушал, ничего не записывая, потом сказал:
— Вот вы, господа, говорите, что Гафур-бей ее обесчестил и она со стыда утопилась. А факты у вас есть?
— А то! Гафур-бея этой зимой мы тут частенько видали, — сказал Уан.
— Это еще ни о чем не говорит, — прервал его следователь. — Кто может подтвердить, что он ее обесчестил?
— Девочка тут одна есть… Она видела, как он выбежал из дома.
— Сколько лет этой девочке?
— Десять.
Следователь покачал головой.
— Это тоже не доказательство. Девочка несовершеннолетняя, она не может быть свидетельницей.
Крестьяне переглянулись. Пилё нахмурился. Он незаметно поглядел, нет ли поблизости Лёни и Кози, и облегченно вздохнул.
— Кози, отец девушки, тоже говорит, что…
— Нет, господа, свидетельство отца во внимание не принимается. Вы возводите напраслину на Гафур-бея. У вас нет ни одного доказательства. Гафур-бей — достойный человек, он не мог совершить то, в чем вы его обвиняете.
— Достойный, достойный! — закричал сердито Пилё. — Мы говорим тебе, что он это сделал, — значит, сделал!
— Доказательства, господа, где доказательства!
Крестьяне замолчали. Продолжать разговор не имело смысла. Следователь явно не собирался заносить в акт что-либо, направленное против бея, а потому начал выискивать какую-нибудь другую причину: может, отец с ней плохо обращался, а может, она случайно утонула… Не вытянув из крестьян ничего существенного, он записал в акте: «Утопилась по неизвестной причине».
— Что же ты, господин судья, мы тебе говорим одно, а ты пишешь другое, — сказал Пилё. — Мы же тебе объяснили, почему она утопилась.
— То, что вы говорите, не подтверждается.
— Давай позовем девочку. Позови-ка Фану!
— Не надо.
— Не надо? — переспросил Уан. — Гафур-бей тут творит что хочет, а ты говоришь не надо!
— Да ладно, Уан, ворон ворону глаз не выклюет! Они все заодно!
Следователь вскипел и по-петушиному накинулся на Пилё:
— Ты о ком это так говоришь, а? Не видишь, что ли, что перед тобой закон? Ты хочешь, чтобы я тебя связал и отправил в тюрьму?
— За что же ты меня собираешься вязать?
— Ты что, не знаешь, кто такой Гафур-бей?
— Знаю.
— Нет, не знаешь. Гафур-бей — депутат его высокого величества и его личный советник. Возводя такой поклеп на Гафур-бея, вы оскорбляете его высокое величество, выступаете против короля. Так что я вас хоть сейчас могу в кандалы.
Жандарм Камбери вскинул винтовку и двинулся к Пилё. Следователь остановил его.
— Не надо, господин Камбери. Они сами не знают, что говорят. Ума-то нет.
— Никто тут не оскорбляет его высокое величество, — сказал Пилё.
— Я и без тебя разберусь.
— В этом-то разберешься, а что мы тебе говорим, и слушать не хочешь!
— Ну хватит языком чесать, иди распишись вот тут.
— Уж будто ты там написал, что мы тебе говорили.
— Ну как хочешь. Тогда давай ты расписывайся.
— А я вообще ничего не говорил, — ответил дед Уан.
— Пожалуйста, вы, господин Камбери, и вы тоже.
Жандарм Камбери и староста, не глядя, подписали акт.
— Этого достаточно, — сказал следователь.
Он захлопнул папку и, зажав ее под мышкой, удалился.
— Сами пишут, сами печати ставят, — сказал Уан.
— Ждать справедливости от них — совсем пропадешь, — сказал Пилё.
Силю похоронили внутри церковной ограды рядом с матерью.
XIII
Шпреса узнала о смерти Сили от своего брата Агима. Крупным детским почерком на листке, вырванном из школьной тетради, он писал: «Дорогая сестра. Сегодня мы получили письмо от Скэндера. Пишет, что этим летом не приедет. Он нашел работу и говорит, чтобы мы больше денег ему не посылали. Он уехал из Парижа и устроился в другом городе. Дорогая сестра, умерла Силя, дочка Кози. Мама и папа поехали в деревню на похороны…»
Она прочла письмо еще раз. Не верилось, что это правда.
В ту ночь она не сомкнула глаз, лежала, плакала в подушку. Подруги, узнав, в чем дело, успокаивали ее, но она продолжала плакать, вспоминая Силю такой, какой увидела впервые когда-то давно, еще в детстве.
Через несколько дней пришло еще одно письмо, от матери. Она подробно рассказывала о случившемся, описывала похороны, жалела Кози, которому «не довелось увидеть в жизни ни одного светлого дня».
Шпреса застыла с письмом в руке. Она больше не плакала, ее охватило чувство гнева и злобы против Гафур-бея.
— Что с тобой, Шпреса? Снова плохие вести?
Шпреса протянула письмо.
Ее однокурсница, высокая девушка с тонким, сухощавым лицом и распущенными по плечам темными волосами, прочла письмо и гневно сжала кулаки:
— Какая мерзость!
— Откуда только берутся на свете такие чудовища! — воскликнула Шпреса.
— Да что там! У этих чудовищ еще и власть в руках.
— А каков следователь! Не поверил в преступление этого негодяя!
— Скажи лучше, не захотел поверить. Они все друг с другом заодно.
— Подлые!
— Да разве в них только дело!
— А в ком же еще?
Девушка посмотрела Шпресе в глаза и, понизив голос, сказала:
— В системе! У нас сама система подлая… Да что с тобой говорить! Ты ведь, по-моему, не интересуешься этим.
— Ты, Назиме, говоришь, прямо как мой брат. Он тоже, чуть что, во всем, говорит, виноват режим.
— И очень верно говорит. Как зовут твоего брата?
— Скэндер.
— Скэндер? Скэндер Петани, — повторила она, стараясь припомнить. — Почему ты никогда мне о нем не рассказывала?
— Ну как же? Не помнишь разве, я тебе говорила, что он уехал во Францию.
— Да, но я же не знала, что мы с ним думаем одинаково, — улыбнувшись, возразила Назиме. — Я думала, он на тебя похож, ты ведь и знать не хочешь, что творится вокруг.
— Он совсем другой. Он столько всего знает.
— Твой брат совершенно прав, обвиняя во всем режим. Вот, например, трагедия, случившаяся с твоей подругой. Ты, наверно, думаешь, что это единичный случай? Нет. Пока существует этот режим, беи будут безнаказанно творить все, что им вздумается. А как же иначе, если сам их хозяин подает пример?
— О ком ты?
— Сама понимаешь, о ком!
— Не верю!
— А ты знаешь, Шпреса, что произошло с Тямилей? Почему она бросила учебу?
— Вышла замуж за офицера, вот и бросила.
— Ну, уж прямо из-за этого!
— А что с ней такое случилось?
— Я расскажу, только странно, как ты ничего не знаешь. Весь институт знает.
— А я не знаю.
— Отец Тямили был офицером и участвовал в Фиерском восстании.[58] Его схватили и должны были приговорить к смертной казни. Тямилю выгнали бы из института. Но тут вмешался господин Луидь.
— Господин Луидь?
— Да, наш почтенный профессор.
— Неужели он пользуется таким влиянием?
— А ты знаешь, кто такой господин Луидь?
— Наш преподаватель-наставник…
— Сводник его высокого величества, вот кто он.
— Да что ты!
— Его для этого здесь и держат.
— Ну и дальше что было?
— Подходит господин Луидь к Тямиле да и говорит ей сладким голоском — он, когда надо, таким добреньким прикинется. «Его высокое величество, наш августейший король, — говорит, — милосерден. И я тоже хочу тебе помочь. Пиши прошение, умоляй об аудиенции. У меня есть знакомые при дворе, они устроят такую встречу. Уж он тебя наверняка пожалеет, твой отец будет помилован. А тебя из института не исключат». — Назиме рассказывала все это, подражая манере господина Луидя, лицо ее исказилось гримасой отвращения. — Эта дурочка и согласилась. Пошла во дворец. А во дворце, Шпреса, как у Шекспира: «И если нечего терять девицам, кроме этого названья, он и его похитит».
— А потом?
— Что потом? Ты помнишь, как Тямиля пропала из института и целый месяц не появлялась? А когда наконец пришла, вся благоухала духами, а уж белье да чулочки на ней были — seta pura.[59]
Шпреса растерянно молчала. Она вдруг припомнила, как Тямиля вернулась в институт бледная, осунувшаяся, словно после болезни, и сказала, что лежала в больнице. Шпреса ей поверила.
— Ну хорошо, Назиме. А почему она бросила учебу?
— Да потому, что не могла больше оставаться в институте. Все бы выплыло наружу. Его высокое величество сделал ей ребенка, вот и позаботился, чтобы ей быстренько нашли мужа среди гвардейских лейтенантиков.
— А отец? Его казнили?
— Отца освободили. Суд признал его невиновным. В армии его оставили и даже звания не лишили.
— Какая грязь!
— Видишь теперь? Если его высокое величество этим занимается, так почему беям не поразвлечься?
Шпреса задумалась.
— Не понимаю, Назиме. Здесь нам все твердят о священной миссии женщины. Сам директор речи произносит, говорит, «его высокое величество ниспослан на землю самим провидением для того, чтобы вывести к свету албанскую женщину».
— Сказки! Демагогия! Одни только дураки да простаки верят этому! Вот нам внушают: «Вы воспитанницы института „Мать-королева“, цвет албанского общества, будущие матери нации». А ты читала, что пишут в газетах? «Сколь благостна для родителей мысль о том, что их дочери пользуются высокой привилегией тесного общения с сестрами августейшего суверена». С этими-то шлюхами! Одна ложь кругом!
Шпреса была поражена. Совершенно то же самое ей говорил Скэндер.
— Просто удивительно, Назиме. Абсолютно то же самое я слышала от Скэндера. Вы словно сговорились.
— Значит, твой брат умнее тебя, Шпреса. Знает, что говорит, знает, что делает.
После этого разговора Шпреса сдружилась с Назиме. Они занимались вместе, и Назиме всякий раз заводила речь о бедствиях страны, о прогнившем режиме, о тирании. Шпресе часто приходили на ум слова брата: «В вашем институте наверняка тоже есть неглупые девушки, которые задумываются над судьбой своего народа, просто у тебя голова совсем другим забита, это тебя не интересует». И она решила не разлучаться с Назиме.
Однажды Назиме сказала ей:
— А я расспросила своего брата о Скэндере! Ты знаешь, что у меня тоже есть старший брат?
— Знаю, ты мне говорила.
— Он знает Скэндера, они товарищи.
— Правда? Вот здорово!
— Он мне столько о нем порассказал, мне даже стало жаль, что я его не знала.
— Когда он приедет, я тебя познакомлю.
— Ты должна гордиться своим братом, Шпреса, — задумчиво сказала Назиме.
— Я и так горжусь. А что?
— Он прекрасный товарищ, всей душой предан своим идеалам.
Назиме сдала на «отлично» курсовые экзамены. При ее помощи неплохо справилась с ними и Шпреса.
В тот год состоялся первый выпуск института — учебу заканчивали тринадцать девушек; по этому случаю была устроена пышная церемония. Газеты превозносили на все лады августейшего короля, который выпестовал этих «ангелов», провозвестниц будущего албанской женщины. Для вручения дипломов прибыли принцессы, сестры Зогу. Церемонию открыл министр просвещения. Держа в руке пачку отпечатанных на машинке листков, он обратился к принцессам с длинной речью. Шпреса с Назиме сидели рядом в самом конце зала, и Назиме время от времени сжимала Шпресе руку повыше локтя, поворачивая к ней свое насмешливо улыбающееся лицо.
Министр говорил:
«Ваши высочества!
Дамы и господа! Вы, молодые девушки, покидающие институт!
Королевское правительство, воодушевленное отеческой заботой нашего великого короля, августейшего суверена, ревнителя национального просвещения, приняло решение основать Институт, в котором мы сейчас находимся…»
Его превосходительство долго распространялся о великом обожаемом короле, о его «блестящем начинании в области социальных реформ», о «возвышении албанской женщины», о «беспримерных достоинствах нации», а под конец призвал всех присутствующих воскликнуть вместе с ним: «Да здравствует его высокое величество августейший король албанцев, спаситель нации, гениальный правитель, поборник национального образования, ниспосланный богом во имя просвещения албанской женщины».
Назиме исщипала Шпресе всю руку, с трудом удерживаясь от смеха.
Затем взяла слово принцесса Адиле. С трудом разбирая написанную для нее кем-то бумажку, выделяя некстати отдельные слова, что лишало фразы всякого смысла, она прочла:
— Господин министр! Нет никакого сомнения в том, что сердца барышень полны горячей радости от их достижений и глубокой признательности королю.
— Видишь того господина рядом с принцессой? — тихонько шепнула Назиме подруге.
— Которого?
— Вон того, во фраке, он разговаривает с господином Луидем.
— Да.
— Это Сотир Мартини, министр двора.
Шпреса непонимающе посмотрела на нее.
— Какая же ты темная, Шпреса. Знаешь, чем он занимается? — Назиме пошептала ей на ухо.
— Да ты что?
— Да. Я знаю наверняка.
— Так вот почему он так часто сюда приходит!
— Ну, наконец-то ты кое-что стала понимать.
Шпресу охватило жгучее чувство ненависти. Как далеки от реальности были эти красивые слова, произнесенные министром и принцессами! Какое ханжество!
— Да, это воистину достижение! — сказал кто-то из высокопоставленных лиц, приглашенных на церемонию. — Вы согласны, господин Вехби?
— Монументальное достижение! — не замедлил подхватить тот. — Такие деяния являются гигантскими шагами по пути цивилизации и характерны для блестящей эпохи короля Зогу.
Шпресу мутило от отвращения.
XIV
Базарный день. Площадь, окруженную приземистыми домишками, заполонили крестьяне, они толпятся и толкаются, являя глазу пеструю, многоцветную картину. Чего здесь только нет: вышитые такии мюзетяров, высокие телеши гегов, белые шапочки косоваров, тюляфы лябов с шишечкой на макушке, кепки, круглые фетровые и тонкие широкополые соломенные шляпы горожан, почерневшие от пыли. Столь же разнообразна и одежда: черные штаны и накинутые поверх рубашек расшитые курточки с длинными рукавами — костюм местных жителей; белые шерстяные, в обтяжку штаны и расшитые жилеты косоваров; широкие черные шаровары гегов; пиджаки из дешевого вельвета, который блестит и переливается в первую неделю, а потом превращается в тряпку; застиранные полотняные костюмы; спортивные пиджаки из японской шерсти с хлястиком на спине.
Очень жарко. Над базаром повисло белесое облако пыли, многие крестьяне, спасаясь от солнца, подсунули под шапочки большие красные платки, пыль липнет к потным лицам. Большинство крестьян уже сгрузили на землю свой товар: мешки с пшеницей нового урожая. Несколько старух, продающих мужские носки, неторопливо о чем-то переговариваются, не прерывая вязанья. Время от времени над базаром взмывает высокий голос продавца булочек и пирожков, расхаживающего со своим лотком: «Па-па-па-пакупайте теплые булочки!» Ему вторит продавец лимонада, с двумя медными кувшинами и целым арсеналом стаканов, засунутых за кожаный пояс: «Лимона-а-ад! Кому холодный лимона-а-ад!»
Но пока что никто ничего не покупает: горожане запаслись выпеченным с утра хлебом, а крестьяне еще не успели сбыть свою пшеницу — перекупщики примутся за дело попозже, когда они потеряют уже всякую надежду и будут готовы отдать свой товар почти задаром. А пока что перекупщики лишь прицениваются:
— Почем пшеница?
— Сорок лек за тясе.[60]
Перекупщик поджимает губы.
— Тридцать.
— Нет уж спасибо! За тридцать-то я бы и на фабрику сдал, не жарился бы тут на солнышке.
Перекупщик отходит. Он уверен, что к обеду пшеницу отдадут и за двадцать пять.
Лёни пробирается через скотный рынок. Тут торгуют лошадьми, ослами, коровами, овцами. Сухой высокий крестьянин с проступающей сквозь загар малярийной бледностью держит под уздцы хилую лошаденку с выпирающими мослаками и маленькой, с кулак, головой.
Ослы здесь тоже низкорослые и тощие. На базаре мало скотины — почти всю закупают по селам торговцы и переправляют в Италию.
Среди лошадей суетится цыган. Он рассматривает пх спереди и сзади, вдумчиво, словно произведение искусства, заглядывает им в зубы. В руках у него шило, он покалывает им приглянувшегося ему осла и со знанием дела наблюдает, как тот взбрыкивает. У цыгана смуглое лицо, на котором, когда смеется, сверкают немыслимо белые зубы. В одном ухе у него большая серьга, покачивающаяся при каждом движении. Пышные усы черны, на голове соломенная шляпа. Распахнутая почти до пояса рубаха открывает черную волосатую грудь.
— Чего это ты колешь моего осла?
— Да вот, милок, смотрю, есть ли у него хоть чуточку «шпирито».[61]
Мимо проходит ага в белом тюляфе с шишечкой, смахивающем на каску кайзеровской армии.
— Как дела, Шазо, как жизнь?
— Хорошо, господин, дай тебе бог здоровья.
— Ну как ослы?
— Да нет у них «шпирито», милок, нету.
Лёни свернул в переулок седельщиков.
Здесь тише, слышен лишь приглушенный шум базара да постукивание стамесок по дереву. Седельщики сидят скрестив ноги на рогожах перед своими лавками: кто сшивает куски мешковины, кто набивает мешки соломой. Из кузниц неподалеку доносятся звонкие удары молота по наковальне.
Лёни вошел в кузницу Рауфа.
Подросток, брат Рауфа, вяло сгибаясь и разгибаясь, раздувал мехи.
— Здравствуй, Рауф!
Рауф держал в пламени железную болванку, зажав ее длинными щипцами. В ответ на приветствие он неторопливо повернулся к двери. Лицо у него было черное.
— Здравствуй, Лёни! Давай заходи, чего остановился? Дуй! — прикрикнул он на брата.
Лёни присел на ящик. Рауф кинул ему сигареты.
— Закуривай! — Со дня смерти сестры Лёни начал курить. — Как отец?
— Хорошо.
Рауф вытащил из печи раскаленную болванку и стал бить по ней молотом. Железо разбрызгивало в разные стороны сверкающие звездочки искр и постепенно становилось тоньше и длиннее, принимая овальную форму. Лёни внимательно наблюдал. Интересно, что это будет?
Однако Рауф снова сунул болванку в огонь и снял почерневший от окалины и копоти кожаный фартук.
— Выйдем?
Они направились в маленькую кофейню около почты. Лёни все не решался сказать, зачем пришел. Склонившись низко над столом, он бесцельно вертел пустую чашку из-под кофе, не осмеливаясь взглянуть на товарища. Рауф тоже не знал, о чем говорить.
Наконец Лёни собрался с духом. Еле слышно, как будто про себя, он прошептал:
— Ты мне можешь сделать одно доброе дело, Рауф?
— Все, что в моих силах, Лёни!
— Достань мне револьвер.
Рауф не ответил.
— Деньги будут. Я продам быков, только достань. Сколько потребуют, столько и заплачу.
— Да не в этом дело, Лёни. Деньги тут ни при чем, вот только…
— Что «только»?
— Послушай, Лёни, брось ты это.
— Нет, не могу, Рауф. С тех пор как все случилось, меня и сон не берет, я как помешанный. Стыдно людям в глаза смотреть. Не могу я вынести такой позор.
— Это ему позор, а не тебе.
— Нет, Рауф, я опозорен…
— Ты прав, Лёни, еще как прав, но ведь ты ничего не добьешься. Погубишь себя зазря.
— Знаю я все. Ну да если и пропаду, пускай, только бы смыть позор.
— Весь наш позор убийством одного бея не смоешь, Лёни! А сколько других топчут да позорят нас изо дня в день? Ну, убьем мы одного-двух, зло-то все равно останется.
— Иначе я просто не могу.
— Оставь, Лёни. Ведь, убивая из мести, мы делаем как раз то, чего они хотят.
— Почему?
— Да они толкают нас на убийство. Чего они хотят! Чтобы мы мстили каждый в одиночку за несправедливость, за нарушение обычаев, за какое-нибудь нечаянное слово, за любой пустяк, им выгодно, чтобы мы были разобщены, чтобы всякий думал лишь о себе и не видел корень зла.
— Но ведь то, что случилось с нами, вовсе не пустяк. Если я не отомщу, кто же отомстит? Скажешь, правительство?
— Тут ты прав. Правительство ему ничего не сделает. Его надо покарать, надо, но только не так, как ты собираешься. Мы должны бороться за то, чтобы освободиться сразу от них от всех, понимаешь, Лёни? Время приспеет, так я тебе не то что револьвер, и винтовку достану.
— Мне оружие нужно сегодня, Рауф. Не могу я ждать, пока придет то время, о котором ты говоришь. Мне невмоготу больше, я на люди не могу показаться, кажется, будто на меня все пальцем показывают — вот, мол, трус, любую обиду проглотит. Ты не знаешь, сколько ночей я его подстерегал у дома с топором. Нет, так жить я не могу. Будь что будет, а я отомщу.
Рауф молчал.
— Вот скажи, а если бы ты оказался на моем месте, как бы ты поступил?
Рауф смешался. Действительно, как бы поступил он сам, если бы с ним случилась та же беда, что с его товарищем? Да-да, он прав по-своему, только…
— Не умею я объяснить тебе, Лёни. Был бы тут Скэндер, он сказал бы получше меня. А я говорю, как знаю. К Гафур-бею не только ты один имеешь счет, другие тоже. И с остальными беями народу есть за что сквитаться. Сумеем ли мы объединить всех, кто хочет мстить, чтобы одним ударом покончить со всеми беями сразу? Вот о чем мы должны думать. А поодиночке нам с ними не справиться. Ну, положим, убьешь ты бея. Дальше что? Куда пойдешь? Что делать будешь? Даже если тебя сразу не поймают, все равно пустят по следу жандармов и убьют, как и многих таких же до тебя. А толк какой? Беев больше не останется, что ли? Останутся. Себя погубишь, и больше ничего.
— Пусть он мне ответит за все, а дальше что будет, то и будет.
Рауф покачал головой.
— Ну как, Рауф? Достанешь?
— Я не могу тебе сказать «да», Лёни. Сначала с товарищами посоветуюсь.
— Ладно. Приду в следующий вторник, хорошо?
— Приходи.
— Ну тогда до свидания!
— Слушай, Лёни. Пообещай и ты мне одну вещь.
— Хорошо.
— Вот ты говоришь, что ночами подстерегал бея у дома с топором. Дай слово, что больше ничего такого делать не будешь. Подожди, пока не получишь от меня ответа.
Лёни немного помедлил.
— Ладно. Пусть будет так.
— Ну, давай руку.
Попрощавшись с товарищем, Лёни пошел через рынок. Он пытался разобраться в том, что услыхал от Рауфа. Порой он уже готов был согласиться с ним. «Он дело говорит. Ради меня же. Ну, убью я бея… Что из этого? Смою с себя позор. А дальше что? Сколько еще останется таких же беев, которые изо дня в день творят то же самое? Их-то кто убьет?» Ему вспомнилась сестра, лежащая посреди комнаты, и мысли его потекли по прежнему руслу. «Нет. Он прав, но и я не могу по-другому. Нас с беем только смерть рассудит: или я, или он. Ах, был бы у меня этот несчастный револьвер! Он бы все решил».
На рынке делать больше было нечего, и Лёни пошел к учителю. Господин Демир обнял его и крепко пожал руку. Госпожа Рефия расцеловала в обе щеки.
— Ну где же ты пропадаешь, сынок, — заговорила она. — Совсем тебя не видно. Как там Кози, Вандё? Шпреса, эй, Шпреса! Иди сюда, Лёни пришел!
Шпреса всего день как приехала домой на летние каникулы. Глядя Лёни в глаза, она протянула руку, потом порывисто обняла его, словно стараясь загладить свою излишнюю, как ей казалось, сдержанность. Хотелось сказать ему что-нибудь утешительное, но от сильного волнения перехватило горло.
— Пошли, Лёни, поешь чего-нибудь.
— Не надо, госпожа Рефия, я уже поел.
— Вот тебе и на! Где-то поел, как будто это не твой дом! Я тебе сейчас быстренько поджарю яичницу. Нет-нет, поешь! Плохо, когда два раза побьют, а поесть два раза совсем неплохо.
Тут вошел Агим. Увидев Лёни, он бросился ему на шею.
— О, дядя Лёни! А Вандё привез?
— Нет, Вандё у тетки.
— Послушай, Лёни, я уже и Кози говорил, — сказал учитель. — Осенью мы возьмем Вандё к себе, понимаешь? Это не дело, чтобы он оставался неграмотным.
— Да не беспокойтесь, господин Демир. Все мы вам надоедаем…
— Как Демир говорит, так и будет, — накинулась на Лёни госпожа Рефия. — Что значит «надоедаем!» Вандё будет здесь, как в родном доме!
— Ну пускай, дядя Лёни! Пускай Вандё приезжает! Я его так научу, что он сразу через два класса будет перескакивать! — вмешался Агим.
— А Кози почему не приехал? — спросил Демир.
— Да ведь страда сейчас, господин Демир. Вот, начали убирать озимые.
— Ну и как?
— Плохо. Засуха подвела.
Когда Лёни вышел из учительского дома, жара уже начала спадать. Госпожа Рефия уговаривала его переночевать, но он не остался. За базаром у моста его ждал Пилё — они договорились возвращаться вместе.
Лёни покинул учительский дом в удивительно легком состоянии духа. Впервые со дня гибели сестры у него отлегло на душе, словно разбилась раковина одиночества, в которой он замкнулся. Все же у него есть по-настоящему близкие люди.
Базарный день подходил к концу, крестьяне собирали свои пожитки — пора было грузиться на телеги, навьючивать ослов и отправляться в путь. Суета утихла, теперь уже не было надобности пробивать себе путь локтями, можно было идти спокойно. Лёни думал захватить Пилё на рынке, но не нашел его и направился к мосту, где они договорились встретиться. Он шел задумавшись, низко опустив голову, словно стыдился смотреть людям в глаза.
Неожиданно его слух резанул пронзительный визгливый смех, тут же потонувший в многоголосом ржании. То ли оттого, что смех раздался так неожиданно, прервав его размышления, то ли побуждаемый интуицией, Лёни обернулся. Увидев смеющихся, он изменился в лице и на какое-то мгновение неподвижно застыл на месте. За одним из столиков, выставленных на тротуар перед лучшим в городе кафе, сидел Гафур-бей с несколькими приятелями; они над чем-то взахлеб смеялись. Стол был заставлен бутылками, тарелками и пивными кружками. Лёни узнал длинного и тощего, как мумия, судейского, который приезжал расследовать гибель сестры, шефа окружной жандармерии и субпрефекта.[62] За столиком поодаль сидели жандарм Камбери и Шеме-ага. Жандарм взвешивал в руке маленький кувшинчик, перед ним стоял крестьянин. В стороне шофер протирал стекла спортивного автомобиля.
Веселье было в разгаре, поэтому господа не обратили никакого внимания на высокого деревенского парня, угрюмо остановившегося около их столика. Гафур-бей, продолжая смеяться, посмотрел на него мельком, но, почуяв вдруг угрозу в его взгляде, резко оборвал смех.
— Ты… — Он вдруг узнал в парне сына Кози, испуганно выпучил глаза и рванулся было из-за стола, но не успел. Он увидел занесенную над своей головой пивную бутылку и с воплем вскинул вверх руки. Бутылка с треском раскололась, раздался отрывистый стон, с опрокинувшегося стола со звоном посыпались тарелки и бутылки, разбивавшиеся вдребезги о тротуар.
Лёни увидел вдруг, что бей лежит навзничь — лицо в крови и пиве, на одежде пивная пена. Лёни бросился душить его, но чьи-то сильные руки схватили его сзади, кто-то ударил тростью по голове, потом накинулись все остальные и повалили наземь.
В глазах у него потемнело…
Придя в себя, он не мог понять, где находится. Было темно. Он попытался встать, но руки его были в наручниках, а ноги в кандалах, прикованных к полу. В нос ударило подвальной затхлостью, за частой решеткой крохотного оконца чуть виднелось голубое небо.
XV
— На прогулку!
Лёни словно очнулся от сна.
Он стоял, сжимая руками прутья оконной решетки, и вглядывался в городской квартал, видневшийся за крышей прилегавшего к тюрьме дома. Он пытался припомнить свой вчерашний путь и не мог. Перед глазами всплывала лишь отвратительная физиономия жандарма Камбери, который сидел рядом с ним в кузове разболтанного военного грузовика, крытом пропыленным брезентом. Натертые кандалами руки ныли до сих пор. Потом ночь, окованные двери тюрьмы, раскрывавшиеся одна за другой, темные коридоры, слабо освещенные редкими тусклыми лампочками, едва различимое в сумраке лицо тюремщика, указавшего ему место ночлега. Он лег на истертую рогожу, брошенную на дощатые нары, укрылся своей буркой и тут же заснул, впервые за два месяца без кандальных цепей на руках и ногах.
— На прогулку! — крикнула голова, просунувшаяся в камеру Лёни. — Давайте на прогулку.
Прогулка. Что за прогулка?
Он направился за остальными заключенными, прошел через распахнутую настежь дверь и оказался в махоньком дворике, огороженном высоченной стеной. Глубоко вдохнув свежий воздух, холодивший лицо, Лёни взглянул на голубое небо. Из дощатой башенки над стеной на заключенных смотрел жандарм со спущенным под подбородок ремешком фуражки, направив на них дуло пулемета.
Сделав несколько шагов, Лёни вышел на освещенное солнцем место. Отвыкшие от яркого света глаза заломило. Зажмурившись, он постоял немного, впитывая лицом и всем телом приятное тепло. Ему захотелось подвигаться, но очень скоро ноги онемели, перестали повиноваться. Тогда он сел, прислонившись к стене, вытянул ноги и закрыл глаза; солнце своим теплом будто размораживало его. Кто-то остановился напротив него, загородив солнце. Лёни приоткрыл глаза и увидел сначала пару рваных опингов и темные широкие штаны. Перед ним стоял коренастый усатый человек в безрукавке и белой телеше.
— Ты тут новичок, приятель?
— Это его вчера вечером привезли, — сказал стоявший неподалеку стриженный наголо крестьянин, свежевыбритый, с несколькими порезами на щеках.
— За что это тебя, а?
— Оставь, Хамит, что времени больше не будет спросить? — укоризненно сказал второй. — Смотри, дервиш вышел. А ты бы, парень, не сидел долго на солнце — напечет голову, заболеешь.
Лёни уже порядком взмок на солнце. Он отошел в сторонку и сел в тень у стены.
Дворик был переполнен заключенными. Большинство ходили туда-сюда, разговаривая друг с другом. Они спешили воспользоваться долгожданной прогулкой, чтобы размять затекшие от круглосуточного сидения и лежания ноги. Некоторые сидели в холодке у стены, тут и там собрались группки, о чем-то разговаривали. Все, бледные, нечесаные, почти все небритые, в потрепанной одежде, черные от грязи, смотрели угрюмо и беспокойно, редко можно было увидеть живой взгляд или улыбку… Некоторые держались настороженно, особняком, зорко оберегая свое одиночество. Сидевший поодаль дервиш с длинной клочковатой бородой, в засаленном халате и надвинутой глубоко чалме, ударял себя кулаком по голове, беспрерывно повторяя: «Ну зачем мне это было нужно? Зачем?» В другом углу сидел, сгорбившись и уставившись в землю, щуплый пожилой крестьянин, изжелта-бледный и осунувшийся, заросший сероватой щетиной, с белыми как снег, коротко остриженными волосами. Он беззвучно плакал, крупные слезы падали ему на колени. Какой-то человек мерил шагами дворик, то и дело тяжело вздыхая и встряхивая головой, словно он пытался избавиться от мучивших его мыслей.
Даже здесь, под открытым небом, в нос ударяла вонь, напоминавшая запах разлагающейся зелени на болоте в Роде.
Лёни захотелось поговорить с кем-нибудь, он пожалел, что не ответил тому человеку в широких штанах. Ну что ему стоило сказать, почему его посадили? Будто и так не узнают!
Лёни осмотрелся. Его взгляд задержался на щуплом старике. Грубошерстная одежда, рубашка без воротничка, с вышивкой, едва заметной из-за грязи, почерневшая такия — похоже, что они со стариком из одних мест. Лёни подошел и присел рядом.
— Ты откуда, дедушка?
Собственный голос показался ему странным и каким-то чужим. Он уже давно ни с кем не говорил.
Старик поднял голову и внимательно посмотрел на Лёни.
— Спасибо, сынок, хорошо, а ты как?
— Откуда ты? — переспросил Лёни.
— Из Мюзете.
— Земляки, значит. Я тоже оттуда.
— Откуда же?
— Из Роде.
— Чей же ты из Роде, сынок?
— Кози, Кози Штэмбари. Знаешь такого?
— Знаю, сынок, как не знать. За что же тебя посадили? Тоже небось за недоимки эти проклятые?
— Нет, дедушка, не за недоимки. А тебя за них?
— За них, сынок, за них. Заели они меня совсем. Да разве я могу выплатить им все, что они требуют? Они ж дерут все, что накопилось за нами аж со времен Австрии! А у меня семеро детей, сынок, семеро! Ведь вот забрали меня, а в доме ни единого кукурузного зернышка не осталось. Они теперь, горемычные, с голоду перемрут!
Старик еще больше сгорбился, и снова из глаз его потекли слезы. Лёни стало жаль его.
— Держись. Есть бог и для твоих детей.
— Какой там бог, сынок, он нас позабыл совсем. Если б хоть разок взглянул на нас, разве бросил бы в такой беде? Бог, он только богачей да беев и видит!
— И то верно, дедушка. Так оно и есть. — Лёни понимал, что старик говорит все это просто от отчаяния, не потому, что так думает на самом деле. — Ну, если не бог, то хорошие люди найдутся, позаботятся о твоих детях.
— Да где ж таких найдешь, сынок, нету их. А если и есть, так что они могут? Им своих-то нечем кормить, куда уж до моих!
— Опять плачешь, дед Ндони? Не надо! Закуривай!
К ним подошел высокий горец в чистых белых штанах, в новых опингах, вышитой безрукавке и белоснежной телеше, подпоясанный цветным поясом. У него было мужественное лицо с седыми усами и короткая седеющая шевелюра. Горец вытащил табакерку и бросил ее на колени деду Ндони. Сам он уже курил, вставив цигарку в длинный мундштук с янтарным наконечником. Присев на корточки напротив старика, горец обернулся к Лёни:
— А тебя когда привезли, парень?
— Вчера вечером.
— Откуда ты?
— Он из наших краев, господин Хайдар.
— Вот как. А как тебя звать?
— Лёни Штэмбари мое имя.
— Носи его на здоровье. Закуривай и ты.
Лёни взял табакерку и осторожно открыл. Ему нравился этот горец. Было что-то подкупающее в его внешности. Лёни отметил про себя, что лицо у него вовсе не такое уж суровое, как показалось вначале, а в разговоре оно то и дело освещалось улыбкой.
— Спасибо!
— На здоровье!
Лёни прикурил от самокрутки деда Ндони, но закашлялся после первой же затяжки. Отвык за два месяца.
Хайдар взглянул на него.
— Крепкий.
— Еще какой крепкий!
— Что там слышно об амнистии, господин Хайдар? Говорят, амнистия будет в ноябре? — спросил дед Ндони.
— Говорить-то говорят, да разве можно этому верить? Здесь только об амнистии и говорят без конца.
— Господин Зейнель сказал мне, что в нынешнем году многих выпустят, праздник будто большой будет. Как же это он называется?…
— Двадцать пятая годовщина независимости.
— Вот-вот! Говорят, будто выпустят всех заключенных.
— Дай-то бог! — Чувствовалось, что Хайдар говорит это, лишь бы не портить настроения деду Ндони. Взглянув на Лёни, он незаметно ему подмигнул.
Послышался крик надзирателя:
— Все по камерам!
Они медленно поднялись, стараясь растянуть время прогулки.
Дни, пришедшие вслед за первым, казались Лёни какими-то призрачными, как во сне, один незаметно переходил в другой: утром подъем, потом прогулка, переброситься несколькими словами с одним, с другим, потом опять в камеру, опять разговоры от нечего делать, расспросы, бесконечные толки по поводу амнистии. Постепенно он знакомился с товарищами по заключению. Они уже знали, за что посадили Лёни, а теперь каждый день он узнавал, что привело в тюрьму одного, второго, третьего. Чаще всего он узнавал это с чужих слов, но иногда кто-нибудь рассказывал о себе сам. Зачин у всех был один и тот же: сижу ни за что. Слыша это постоянно, Лёни вскоре и сам стал отвечать так же. За что посадили? Да ни за что! Ни один не начинал рассказывать, не произнеся прежде этих слов.
Прошло уже около двух недель, как Лёни привезли в тиранскую тюрьму. Как-то ночью он не мог заснуть. Было душновато, светила полная луна. Свет ее, проникая в камеру, отбрасывал тень от решетки на стену над головами заключенных, спавших на нарах, покрытых рогожами. Низкие дощатые нары тянулись по обеим стенам камеры. Лёни повернулся на бок и закрыл глаза.
Недалеко от него кто-то зашевелился.
Открыв глаза, он увидел, что Рамазан, крестьянин из Пезы, привстал и скручивает цигарку.
— Не спишь?
— Да, что-то не спится.
— Закуришь?
Лёни тоже поднялся и начал крутить самокрутку.
— Дай-ка и мне закурить, — приподнялся человек, лежавший рядом с Рамазаном.
— Тоже не спится?
— Очень душно.
— А мне луна спать не дает, — сказал Рамазан.
— Почему?
— Да напоминает о той ночи.
Они сидели на нарах, покуривая, и полушепотом разговаривали.
Рамазан стал рассказывать:
— Ночь была лунная, как нынче. Мы все были в поле, жали пшеницу, ночевали на снопах. Она встала да побежала к своему хахалю. Я как раз не спал, вскочил, да за ней. А тот ее ждал на краю своего поля. Я его хорошо знал, вместе росли. Спрятался я за кустом, хотел подсмотреть, да он меня заметил — и ко мне.
— Слушай, — говорит, — Рамазан. Я люблю Сание. Я женюсь на ней.
— Сание не про тебя, — говорю. — У нее жених есть.
— Сание не пойдет за него, — говорит он. — Она его не знает и знать не хочет. Она выйдет за меня.
— Нет, — сказал я. — Этому не бывать.
— Слушай, Рамазан, ведь мы товарищи, росли вместе, прошу, не мешай ты нам.
Потом сестра принялась меня просить.
— Брат, — говорит, — прошу тебя, не губи, не мешай нам. Не заставляй меня идти за другого. Отец пьян был, когда меня просватал.
— А ну заткнись, сука! — говорю ей.
А он на меня с угрозами:
— Замолчи, — говорит. — Не смей ее ругать!
Мне кровь ударила в голову от его слов, да ведь с пустыми руками что сделаешь? Хоть бы серп догадался захватить.
— Слушай, Хюс, — говорю ему. — Чтобы я больше не видел, как ты мою сестру обхаживаешь. Иначе нас пуля рассудит. А ты, — говорю сестре, — иди за мной.
— Не пойду! — отвечает, и к нему: — Уйдем отсюда, Хюс! Не вернемся больше в деревню!
— Хорошо, Сание, уйдем.
Взялись они за руки да и пошли. А я остался. Что я мог поделать? Бросился бегом в деревню, схватил револьвер. Отцу не стал ничего говорить. Уже светало. Сказали мне, будто видели их на шоссе, к Воре шли. Добрался я на попутном грузовике до Воры. Не знал, куда они дальше отправились: в Дуррес или в Тирану. Поехал в Тирану. Все утро их искал. Потом кто-то сказал мне, что вроде видели их у судебной канцелярии. Ну, думаю, прозевал, они уже записались, да и были таковы. Ан нет. Они, оказывается, пришли, когда чиновники расходились на обед. Попробовали одного уговорить, чтобы их зарегистрировал, а тот и слушать не стал.
— Приходите после обеда, — говорит, — в пять часов. Сейчас у нас перерыв, некогда мне с вами возиться.
Они остались ждать во дворе. Он прилег в тень под деревом, а она сидела у него в головах. Красивая она была, моя сестра, черные косы до пояса, глаза большие, брови как вороново крыло, да и он был собой видный, первый парень у нас на деревне. Любил я его, мы ж были товарищи, да только в тот день у меня словно разум помутился. Позор огнем жег. Разве могла наша семья стерпеть такое бесчестье! Как бы мы смотрели в глаза односельчанам? Что сказали бы семье жениха? Ведь у них семья большая, восемь мужчин — восемь ружей! Прольется кровь! Вошел я во двор канцелярии. Они меня не заметили. Подошел к ним и достал револьвер. Тут он меня увидал, хотел было вскочить, а я три пули подряд в него всадил, одну за другой. Он только вскрикнул разок да и повалился где лежал, весь в кровище.
А сестра как кинется на меня.
— Да покарает тебя господь! — кричит.
— Получай и ты, — говорю. И всадил в нее три остальные пули.
Она вскрикнула и упала ничком, возле него. Я не думал ее убивать, сам не знаю, что на меня нашло. Хотел я уйти, вокруг ни души не было. А ноги не идут. С места не могу сдвинуться. Стою как вкопанный с револьвером в руке и смотрю на них. А они, и мертвые, лежат обнявшись. Она, как упала рядом с ним, так и застыла.
— А дальше что?
— А что дальше? Там меня и взяли.
— Со мной то же самое было, когда я первого убил. Шел я за ним до самой Шкодры. Вижу, зашел в лавку. А как он вышел, выпустил в него всю обойму — шесть пуль. Он так и хлопнулся мертвый оземь. А ноги у меня не идут. Тут мне кто-то кричит: «Брось что-нибудь на землю!» Бросил я телешу, и тут же ноги отошли. С револьвером в руке через весь базар промчался, да прямиком в горы.
— И погони не было?
— Да какая там погоня! Это как раз случилось, когда у нас правительства никакого не было.
— Ну а дальше?
— А дальше пошел прямо в деревню. Взял винтовку и, как стемнело, подошел к их дому и стал звать его сына: «Фрок! Эй, Фрок!» — «Кто там?» — спрашивает. А сам не открывает, стоит за дверью. Ну а я не будь промах, взял да и всадил — бам-бам-бам! — три пули в дверь, прямо на голос. Слышу, вскрикнул, ну я и наутек. Одна пуля ему в живот угодила. Через два дня помер.
— А после?
— Три года скрывался в горах, а как Зогу пришел к власти, всех помиловал.
— А сами-то они тебя не искали?
— Нет. У них в доме мужчин не осталось. Второй сын был тогда маленький, пять лет всего.
— Так ты и его убил?
— Да. Ровно через день, как он в первый раз взял в руки винтовку. Пошел туда вечером, подстерег, когда он из сарая выходил, да прямо в лоб пулю и всадил, одну-единственную! Он и не охнул даже. Упал как подкошенный.
— Как же тебя поймали?
— Да через месяц после того, жандармы окружили, пришлось сдаться.
— И сколько ж тебе дали?
— Присудили к смерти, но Зогу помиловал. А тебя на сколько?
— На восемь лет.
— Как мало.
— За кровную месть много не дают. Так, значит, в семье у твоего врага больше и мужчин не осталось?
— Да есть один — его внук, сын Фрока. Он тогда был еще в пеленках, сейчас уж, наверно, подрос. Вот выйду отсюда, порешу и его.
Этот ночной разговор потряс Лёни. И не столько сами убийства — здесь в тюрьме он слышал о них буквально каждый день, — сколько обыденность разговора, тот бездумно-жестокий тон, каким они рассказывали об этом, смакуя подробности. Они явно гордились делом своих рук. Откуда у них это? Рамазан — молодой круглолицый парень. Глядя в его красивые глаза, излучавшие, казалось, одно добродушие, нельзя было и подумать, что под этой личиной скрывается кровавый преступник, убивший свою сестру и ее возлюбленного. Второй убийца был пожилой, тщедушный человечек из Мирдиты. Трудно было даже представить этого заморыша с винтовкой в руках.
Лёни и не предполагал раньше, что есть люди, так яро жаждущие крови, мести, что не щадят даже детей и мечтают лишь об одном — выйти из тюрьмы, чтобы снова убивать. Они словно упиваются кровью! Ему вспомнилось, как он сам мечтал отомстить Гафур-бею. С каким торжеством, казалось ему, посмотрит он на своего поверженного врага. Но когда это действительно случилось и Лёни увидел его, окровавленного, у своих ног, он не только не ощутил никакого торжества, но, наоборот, почувствовал отвращение. Даже воспоминание об этом не приносило ему ни малейшего удовольствия.
XVI
В первые дни Лёни часто охватывало тоскливое чувство страха. Ему казалось, будто его заперли в клетке с дикими зверями. С глубокой грустью вспоминал он в такие минуты свою деревню, дом, особенно маленького Вандё. Он силился представить себе его лицо — и не мог, забыл. Порой им овладевала жажда работы, хотелось взяться за соху, пахать, вдыхая привычный запах развороченной земли. Здесь он не делал ничего, и это вынужденное безделье с каждым днем угнетало его все больше. На свободе он зачастую недосыпал. За долгий день, бывало, так вымотается в поле, что вечером засыпает как убитый. И как же он сердился, когда его будили ни свет ни заря! Сколько раз говорил, что будет счастливейшим из людей, если ему хоть раз дадут выспаться. А теперь он проводил целые дни на нарах, в полной праздности. Спи сколько влезет, но спать-то как раз и не хотелось, не спалось. Поработать бы, как раньше, до полного изнеможения, а потом заснуть — вот о чем он мечтал сейчас. Тюремная жизнь изнуряла его, он чувствовал, что опускается, теряет твердость духа.
И все же постепенно он свыкся с такой жизнью. Правду говорят, что человек привыкает к любой обстановке. Всякое другое существо, помести его в непривычные условия, не вынесет, погибнет, а человек не только переносит тяжелейшие обстоятельства, но и умудряется даже обнаружить в них приятные стороны.
Тюрьма с каждым днем все полнее раскрывалась перед Лёни. Он перезнакомился с заключенными, знал, кто из них какое преступление совершил, на сколько лет осужден, сколько просидел и сколько еще осталось.
Но в тюрьме были не только убийцы и воры. В отдельной камере сидели политические заключенные, «политики», как их тут называли. Одеты они были лучше, выглядели опрятно, спали на кроватях с матрасами и простынями и по большей части держались друг друга, с уголовниками почти не разговаривали.
Лёни обнаружил, что в тюрьме, как и на воле, люди поделены на своеобразные сословия; здесь, как и там, был свой класс «порядочных», «благородных». «Политики» были тюремной аристократией. Даже охранники относились к ним лучше, никогда не забывали вставить при обращении «господин». Остальных обычно называли просто по имени, о политическом же говорили «господин такой-то».
Ступенью ниже стояли те, кто попали в тюрьму за убийство из мести за поруганную честь. Этих почитали как людей смелых и отважных, постоявших за свое доброе имя.
Потом шли осужденные за незначительные проступки: долги, драки из-за межи или, как дед Ндони, за недоимки.
Предпоследнее место занимали грабители, те, кто убивали ради грабежа, воры всех мастей, и уж совсем последними были те, кого презирали все, — осужденные за изнасилование, такие, как дервиш или еще один, изнасиловавший маленькую девочку.
Такое деление никто не устанавливал, оно сложилось как-то само собой, но каждый тем не менее знал свое место и держался своего круга. Даже когда посадили одного старого богача — торговца, который изнасиловал свою племянницу, — его тоже все сторонились.
Состоятельные заключенные и те, у кого семьи были в Тиране, не бедствовали, они вообще не питались из тюремного котла: еду им каждый день приносили с воли. Охранники за деньги доставали им любые лакомства, сигареты, кофе, а иногда потихоньку и бутылку раки. В таких случаях, собравшись компанией в четыре-пять человек, они усаживались по-турецки и прихлебывали водку из алюминиевых кружек, а немного захмелев, затягивали песню.
Хотя Лёни никому не рассказывал подробности своего дела, но вскоре их знали уже все. Он стал замечать, что на него поглядывают уважительно.
Однажды во время прогулки к нему подошел сухощавый человек в добротном сером костюме и белой рубашке с отложным воротником. Лёни видел его и раньше, но ни разу с ним не разговаривал. Говорили, что он политический, сидит за участие в Фиерском восстании, по профессии адвокат. Еще говорили, что он хочет, пока сидит в тюрьме, попрактиковаться в своем ремесле, потому и расспрашивает дотошно каждого, как шел суд да что говорили судья, защитник и свидетели, какой был приговор — в общем, выспрашивает все до мелочей, а потом высказывает свое собственное мнение о приговоре. Адвокат пользовался в тюрьме доброй славой, заключенные ему доверяли, потому что он помог некоторым подать на апелляцию и составлял для них прошения. Кое-кто был даже после этого освобожден.
Адвокат подошел к Лёни, когда он разговаривал с Хайдаром Кочи. Лёни сдружился с этим рассудительным горцем, они всегда держались вместе на прогулках. Только ему Лёни рассказал о себе все без утайки.
Присев рядом, адвокат вдруг спросил:
— Скажи-ка, молодой человек, надолго ли тебя посадили?
— На восемь лет.
— По какой же статье?
— Не знаю.
— Расскажи, как шел суд.
Видя, что Лёни не хочется рассказывать, Хайдар вмешался:
— Говори, говори, Лёни. Господин Халим посмотрит, правильно ли тебя осудили, поможет тебе.
Лёни начал рассказывать.
Адвокат то и дело прерывал его, заставляя вспоминать детали.
— Значит, тебе предъявили обвинение и осудили за преднамеренное убийство?
— Вроде бы так.
— Кто выступал свидетелем с его стороны?
— Двое его приказчиков. Они сказали, будто видели меня в засаде и я собирался вроде бы напасть на бея в его собственном доме.
— Они сказали, что ты был вооружен?
— Да. Так они сказали.
— А у тебя было тогда оружие?
— Нет. У меня не было револьвера, иначе бы его в живых не оставил.
— Ты и на суде так сказал?
— Нет, сказал только, что у меня нет револьвера.
— А о мотивах покушения говорилось что-нибудь на суде?
— Ни слова!
— Как это ни слова? Что-то должны были сказать!
— Ничего не говорили.
— А ты намеревался убить бея или нет?
— Вообще-то да, но в тот день нет. У меня и оружия никакого не было. Я в тот день даже и не думал, что встречу его. А когда увидел, кровь в голову ударила, сам не пойму, как все получилось.
— Вот именно. Разве можно минутный порыв квалифицировать как преднамеренное убийство! И потом, покушение на убийство — это еще не убийство. Вей-то ведь не умер.
— Не сдох, — поправил Хайдар.
— Во-первых, убийства не было, совершено лишь покушение на убийство. Во-вторых, покушение непреднамеренное, иначе ты бы захватил с собой оружие. И в-третьих, суд должен был принять во внимание преступление, совершенное беем, вы ведь были пострадавшей стороной. Что говорили на суде по этому поводу?
— Да ничего на суде не говорили, — ответил за Лёни Хайдар. — Они с самого начала заявили, что это поклеп на бея, доказательств никаких нет, а свидетелей и слушать не захотели.
Адвокат покачал головой.
— Суд тебя осудил несправедливо. Тебе должны были дать максимум шесть месяцев. Что ж это за правосудие!
— Тоже мне, господин адвокат, нашли где искать правосудие, у нас! — насмешливо проговорил Хайдар.
— Вы правы, господин Хайдар, нет его у нас. Я вот вспоминаю, за что посадили вас, так мне кажется, что у нас сейчас похуже будет, чем в Турции при султане Хамите, когда судили не по закону, а как угодно было султану и его наместникам.
— Вы знаете, господин адвокат, что в наших краях говорят о законе?
— Нет.
— Закон что изгородь: те, у кого богатство и власть, перепрыгивают через нее, кто поумнее да похитрее — проделывают лазейки, а застревает в ней только бедный да слабый люд.
— Остроумно, но ведь не должно так быть. Государство без законности не государство. Законность — основа цивилизации.
— О, куда вас занесло! Да у нас закона-то и в помине не осталось, давным-давно!
Еще с одним заключенным познакомился Лёни в тюрьме. Тими был из Девола, высокий худощавый юноша с маленькими усиками и кудрявым чубом, большой весельчак. Он был угольщиком и угодил в тюрьму на два года за то, что подпалил лес бея. Он появился в камере немного позже Лёни и занял место на нарах напротив него. Войдя, Тими уселся по-турецки и затянул какую-то девольскую песню.
— С тобой не соскучишься! — сказал кто-то.
— А что делать? Плакать, что ли? Слезами горю не поможешь, так что уж лучше будем петь. Давай подпевай, умеешь?
— Да я этих ваших песен не знаю.
— Тогда давай вашу споем.
Своими «историями» Тими веселил всех. Усевшись по-турецки и откинув рукой волосы со лба, он начинал: «Значит, дело было так, братцы». Заслышав эти слова, все собирались вокруг него, кто сидя, кто стоя.
— Расскажу я вам историю об нашем лесничем. Он-то как раз меня и засудил, вокруг пальца обвел да вам в товарищи и определил. Второй такой лисы не сыскать в нашем королевстве. Ночи не спит, все думает, что бы ему такое днем провернуть. А в помощниках у него лесник один, ходит носом поводит, не учует ли где запах раки. Да, а у лесничего-то нашего в Деволе не только лес, но и пастбища под началом. Ну и вот сидит он, думает, думает, потом кличет своего лесника.
— Эй, Селим!
— Чего прикажете?
— Как там поживают валахи в Костамандре?
— Да ничего, господин Джеват.
— Так уж и ничего. Разве не знаешь — Зико оставил в дураках Настоса. — А сам подмигивает.
Селим сразу сообразил, что к чему, и уж бежать навострился.
— Приказывайте, господин Джеват.
— Сходи-ка разузнай, что и как. А я послезавтра приеду разберусь.
— Будет сделано!
Селим ружье за плечо, фуражку набекрень, как его высокое величество, и рысцой в гору к тириесу[63] Настосу. Съел у него целую миску пахты, да и говорит:
— Послушай-ка, тириес Настос, сдается мне, этот Зико в дураках тебя оставил.
— Да ну?
— Сдается мне, твое пастбище кончается не у Горелой Сосны, а подальше, у Скалы.
— Ну да!
— Точно, уж я-то знаю.
— Как же быть, господин Селим? Выгоны-то там какие! Самое лучшее место!
— Уж и не знаю, как тут быть, тириес Настос, все в руках лесничего, господина Джевата.
— Может, мне с ним поговорить?
— Поговори, почему не поговорить. Он как раз послезавтра приезжает сюда, вот и скажи ему.
Обувается Селим да прямохонько к Зико.
— Слушай, тириес Зико. Кажется, Настос нажаловался на тебя господину Джевату.
— Ну да! Чего это?
— Да из-за границы пастбища.
— Чего это вдруг? Границу-то всем миром установили.
— Установить-то установили, а он вот нашел свидетелей и говорит, будто его пастбище не у Горелой Сосны кончается, а у Скалы.
— Как бы не так! Он что, самый лучший выгон забрать хочет у меня? Что делать-то, а, господин Селим?
— Не знаю, Зико, но, если хочешь, могу замолвить за тебя словечко господину Джевату, он как раз сюда послезавтра приезжает.
— Век не забуду!
Ну и вот, приезжает через день господин Джеват. А у самого шоссе его уже поджидает тириес Настос с оседланным конем. Поверх седла шерстяное одеяло да коврик, чтобы господин Джеват задницу не отбил. Не успели они подъехать к хижине Настоса, а у того софра уже накрыта. Пир горой — зажаренный барашек, сыр, молоко, простокваша, раки, ешь-пей не хочу. Поели-попили в свое удовольствие, песни попели да спать. А утречком господин Джеват не успел глаза продрать, как новый барашек жарится на завтрак, а третьего уже обдирают, на обед. Не успели пообедать, как следующего зарезали. Через два дня едут к Зико. А там то же самое: барашки да раки. Потом созывают соседей и отправляются на пастбище: один говорит одно, другой — другое, один — граница у Горелой Сосны, другой — у Скалы — в общем, чехарда. Граница-то давным-давно определена, но не зря же приехал господин Джеват. Мерили, мерили, десять соток сюда, десять туда, пока не оказалась граница там, где и была до того. И снова пир — зажарили на полянке сразу двух барашков, одного от Зико, другого от Настоса. И отправляется господин Джеват восвояси на коне Настоса, а следом тащится мул Зико, груженный крынками с маслом, брынзой да сливками. Вот в таких-то делах у господина Джевата проходило все лето, пока валахи пасли скот в горах.
— Ну и пройдоха!
— И не говори.
— А сейчас он все там же?
— Перевели его в другое место.
— Куда?
— Да, кажется, сюда куда-то, на север.
— Небось тем же самым занимается, а?
— Да наверняка!
— Привычка — вторая натура.
— Вряд ли у него здесь что-нибудь выйдет.
— Почему это?
— Да народ тут нищий. С него взять нечего.
— Не с пастбищ, так с леса, а уж он свое получит.
— Эй, ты из Гирокастры, что ли?
— Оттуда.
— Научитесь вы когда-нибудь правильно говорить?
— Да мы и говорим «лес».[64]
Грянул смех.
— Послушайте-ка, что однажды случилось из-за этого чертова леса, — опять заговорил Тими. — Сгорел у нас под Гирокастрой лес, а эти из префектуры быстренько телеграмму отбили Мусе Юке, он тогда был министром сельского хозяйства. Написали они так: «В лесу у госпожи Лябовы случился пожар». А телеграфист в Гирокастре возьми да и передай по-нашему. Вот и получилось: «В… у госпожи Лябовы случился пожар». Прочитал Муса-эфенди телеграмму, аж глаза у него на лоб полезли. «Сволочи! — орет. — Смеяться надо мной вздумали?» И приказ: «Телеграфиста в тюрьму!»
Такие истории хоть изредка, но вносили какое-то разнообразие в унылую монотонность тюремных разговоров. Обычно заключенные толковали о своих заботах, о судебных процессах, чаще же всего об амнистии. Не проходило ни одного праздника, чтобы об этом не заходила речь. Начинал кто-нибудь один, остальные подхватывали и выдавали догадку за достоверное известие.
В те дни тоже только и разговору было что об амнистии. Двадцатипятилетие независимости — большой праздник! Наверняка будет большая амнистия, говорили все. Кто-то клялся, что он это точно знает, ему сообщил один знакомый, который служит в министерстве юстиции, другой поддакивал, что так оно и есть, ведь и ему то же самое сказал один приятель, который слышал все собственными ушами от самого премьер-министра. Третий клятвенно уверял, что это правда, и пересказывал по пунктам содержание указа, как будто заучил его наизусть. По-видимому, родственники заключенных распространили слух и за стенами тюрьмы, потому что в газете появилось опровержение. «В последние дни, — писала газета, — распространились слухи о якобы подготавливаемой правительством амнистии преступников, отбывающих наказание в тюрьмах королевства. Наша газета обратилась за информацией в компетентные органы и сообщает читателям, что никакой амнистии в ближайшее время не намечается».
Опровержение подействовало на всех, как холодный душ. Разговоры заключенных об амнистии прекратились, воцарилось уныние, все ходили мрачные. В тот день Лёни неожиданно вызвали на свидание.
Он, как и все, был подавлен и не находил себе места от тоски по дому. В соседней камере кто-то меланхолично напевал:
Кипарисы шумят в Намасде, Здесь, под ними, мы встретились снова. Ах, к моей горемычной судьбе Снизойди и скажи мне хоть слово…— Лёни Штэмбари! Лёни Штэмбари! — послышалось из коридора. Лёни прислушался. — Лёни Штэмбари! — позвал какой-то заключенный, просовывая голову в дверь камеры. — На свидание.
Лёни выскочил в коридор. Кто это может быть?
В соседней камере пели:
Не пропадай ты так надолго, Ведь без тебя мне свет не мил.Лёни побежал к выходу. За железной решеткой толпился народ: крестьяне из разных мест, хорошо одетые господа, какая-то женщина в трауре, старуха, держащая за руку двоих детей, суетящиеся надзиратели. Кто-то плакал в голос, пожилая женщина тянулась погладить сквозь прутья решетки молодого парня, женщина-горянка что-то громко рассказывала. Среди заключенных, вызванных на свидание, вертелись и такие, к кому никто не пришел, и они пробрались сюда поглазеть на посетителей.
— Лёни! Лёни!
Он ожидал увидеть отца или кого-нибудь из деревни и как-то не заметил за головами посетителей господина Демира и Шпресу.
Охранник открыл дверь, и Лёни очутился меж двух стальных решеток.
— Как дела, Лёни?
— Все хорошо, господин Демир. А вы как живете?
Покраснев, Лёни протянул руку Шпресе. Она, в светлом платье, казалось такой чистой, а в каком же виде был он — обносившийся, грязный, небритый, обросший.
— Дома у тебя все в порядке, Лёни. Отец здоров. Не смог сейчас приехать — уехал в Дэлыньяс, но скоро тебя навестит.
— Тебе большой привет от Вандё, — сказала Шпреса. — Мы его взяли к себе, ты знаешь? Он в школу ходит. Видел бы ты, как обрадовался Агим!
— Как госпожа Рефия?
— Хорошо, передает тебе привет.
— А зачем отец поехал в Дэлыньяс?
Господин Демир удивился.
— Ты ничего не знаешь?
— Нет. А что случилось?
Учитель горестно покачал головой.
— Беда никогда не ходит одна, так-то, Лёни. Твоего отца выселили из деревни.
— Кто выселил?
— Бей. Ты же знаешь, земля ему принадлежит.
— Но выгонять-то за что? Нет такого права! — закричал Лёни.
— Какое тут право, сынок, оставь, — тихо проговорил учитель. — Ты об отце не беспокойся. Он опять устроился в кирпичную мастерскую, старое ремесло вспомнил, поселился у сестры в Дэлыньясе.
У Лёни потемнело в глазах от ярости, он застонал, сжав зубы.
— Не надо, Лёни, не расстраивайся, — утешал его учитель. — Ничего, все устроится. Мы тебе белье принесли. Отец тебе денег передал. — Он достал из кармана два доллара. — Бери!
Лёни опустил голову. Ему не верилось, что эти деньги от отца. Откуда они у него?
— Нет, господин Демир, деньги я не возьму.
— Бери, не будь ребенком.
— А от мамы тебе вот это. — Шпреса подала Лёни кулек. — Там курабье. Она для тебя испекла.
Лёни был растроган.
— Может, тебе что-нибудь нужно?
— Нет, ничего.
— Не стесняйся, ведь ты нам как сын.
— Нет, господин Демир, мне ничего не нужно.
— А постель ты получил? Мы ее передали через одного знакомого.
— Да получил, господин Демир. Прямо не знаю, как я смогу отблагодарить вас за все, что вы для меня делаете.
— Не говори так, и слушать не хочу.
Охранник выкрикнул:
— Свидание окончено. Все.
Заключенные и посетители стали прощаться.
Господин Демир узнал заключенного, который прощался со старухой в черном, удивленно окликнул его:
— И ты здесь, Хаки! Когда же тебя?
— Да уж месяца три.
— Тебя судили?
— Да, три года дали. Как Скэндер? Письма получаете?
— Давно уже не было.
Лёни стоял, кусая губы. Ведь он даже и не вспомнил о своем товарище.
— Летом Скэндер на каникулы не приезжал? — спросил он Шпресу.
— Нет, Лёни. Написал, что не приедет. Если бы приехал, то пришел бы сюда.
Снова раздался голос охранника:
— Заканчивайте.
— До свидания. Пиши нам.
— До свидания, Лёни, — сказала Шпреса.
— И держись. Будь мужчиной! — тихо проговорил учитель, протягивая руку сквозь прутья решетки.
Лёни, взяв сумку с бельем и кулек от госпожи Рефии, медленно пошел к себе в камеру.
Кто-то положил руку ему на плечо.
— Кем тебе доводится господин Демир?
Лёни повернулся, это был Хаки. Он его и раньше видел, только они ни разу не разговаривали. Хаки был политическим.
— Он друг отца.
— Скэндера знаешь?
— Мы со Скэндером — друзья с детства.
— Как тебя зовут?
— Лёни.
— Лёни…
— Лёни Штэмбари.
— А я Хаки, Хаки Дани. Хамди! — позвал он. — Иди познакомься, вот друг Скэндера.
— Да ну?
— Это Лёни Штэмбари.
— Очень приятно. Хамди Зека.
XVII
Шпреса возвратилась в институт с тяжелым сердцем. Попрощавшись с отцом, она вдруг почувствовала себя такой одинокой, ей стало очень тоскливо. Посещение тюрьмы оставило в душе горький осадок. Перед глазами все стояло осунувшееся, заросшее щетиной лицо Лёни, нестриженые, падающие на лоб волосы.
Даже встреча с подругами не развеяла ее уныния. Она немного оживилась только с Назиме. Та бросилась ей навстречу, обняла и пристально посмотрела на нее.
— Как ты изменилась, Шпреса!
— В чем же?
— Стала совсем другая! Такая серьезная, сосредоточенная. Тебе это идет, ты похорошела!
— Если б ты знала, Назиме, как мне было грустно этим летом. Целый год мечтала: наступит лето, приедет Скэндер, побываем в деревне. И что же? Скэндер не приехал, в деревне не побывали. Помнишь, я тебе рассказывала о своей подруге в деревне, которая утопилась?
— Помню, конечно.
— Ее брат в тюрьме. Мы к нему ходили с отцом. Я чуть не расплакалась, как его увидела. Он так похудел, бедный!
— А за что его посадили?
Шпреса все подробно рассказала.
— И сколько ему сидеть?
— Восемь лет.
— Какой ужас! Ты только подумай, Шпреса, что делают с народом! Кругом несправедливость и нищета!
Назиме все больше нравилась Шпресе, нравилась откровенность, с которой та говорила обо всем, что ее волновало.
Однажды весь институт всколыхнуло «радостное известие»: решено создать батальон «Мать-королева»! Только об этом и говорили.
— Послезавтра наденем форму.
— Правда?
— Откуда ты знаешь?
— Мне сказала мадемуазель Мария.
— А какая форма?
— Такая красивая!
— Ну расскажи, какая, а!
— Да вы сами увидите. Форма, как у офицеров, голубая, длинная юбка, китель с отложным воротником, впереди наискосок лента, шляпка с кисточкой.
— Какая прелесть!
— Какая, говоришь, шляпка?
— С большой кисточкой.
— Двадцать восьмого ноября мы пройдем перед его высоким величеством.
— Как здорово!
— И принцессы будут с нами. Они будут во главе колонны, верхом на конях.
— Как хорошо!
— Послезавтра начинаются репетиции.
Шпреса старалась представить себя в военной форме, и ей становилось смешно.
— Клоунада! — презрительно сказала Назиме. — Не сегодня-завтра они на нас и черные рубашки напялят!
Через несколько дней девушкам выдали мундиры, началась подготовка к параду. В первый день их шествие под звуки военного оркестра взбудоражило всю Тирану. Принцессы, сестры его высокого величества, гарцевали впереди на конях. Вместо шляп всем выдали каски. В те дни газеты прославляли на все лады «батальон амазонок», «дочерей горного орла», «дев-воительниц».
Они занимались на плацу каждый день. «Командовать» подготовкой приходило множество высших офицеров, которые собирались толпой и, казалось, совещались, перед тем как броситься очертя голову на врага или отдать приказ о начале какой-то грандиозной операции.
О занятиях никто не вспоминал. Даже преподаватели нимало не беспокоились об учебной программе. Все для парада. Лишь бы не ударить в грязь лицом на параде.
Однажды, оставшись в общежитии наедине со Шпресой, Назиме спросила:
— Ты знаешь, где сейчас Скэндер?
— Ну конечно.
— Где?
— Во Франции.
Назиме пристально посмотрела в глаза подруге.
— Ничего ты не знаешь.
— А где же он?
— Твой брат в Испании.
— В Испании? Что ему там понадобилось?
— Ты что, не знаешь, зачем в наши дни люди едут в Испанию? Он отправился туда сражаться с фашизмом.
По испуганному лицу Шпресы разлилась бледность, сердце гулко забилось.
— Не может быть, это неправда! Кто тебе сказал?
— Знаю, раз говорю. Мне товарищи сказали. Что ты на меня так смотришь? Не он один в Испании. Туда едут добровольцы со всего света. И албанцев там много. Даже женщины туда едут. Ах, если бы я могла, хоть завтра бы отправилась туда!
— Неужели поехала бы?
— Да. Ведь в Испании решается судьба нашей страны. Если в Испании победят фашисты, жди их со дня на день и у нас. Вот почему лучшие парни Албании едут, чтобы остановить фашизм. Понимаешь, Шпреса? Ты должна гордиться своим братом. Я не знакома со Скэндером, но горжусь им, горжусь, что и в Албании есть благородные люди, которые борются за свободу народа. Им гордятся все товарищи, а когда-нибудь будет гордиться и весь народ.
Но Шпреса ничего не слышала. В голове стучала только одна мысль: в Испании идет война. Ей стало тревожно за брата. Она вдруг представила его убитым.
— Держись, Шпреса. О чем задумалась? Выше голову! Ты же сестра Скэндера Петани, тебе не к лицу раскисать! О чем ты думаешь?
— Я думаю о маме и об отце. Они знают?
— Наверное, знают.
— Откуда?
— Он или сам им написал, или товарищи сообщили.
— А мне почему никто ничего не сказал?
— Не хотели тебя расстраивать. А потом, ведь это опасно. Чем меньше людей знает, тем лучше. Ты тоже ни с кем об этом не говори.
Шпреса не сомкнула глаз всю ночь. Теперь она припоминала, что отец с матерью часто тайком говорили о чем-то. Получив газету, они внимательно прочитывали зарубежные новости. Даже мать, которая прежде никогда не интересовалась такими вещами, вдруг стала усердной читательницей. Надевала очки и склонялась над газетой. Не было вечера, чтобы отец не послушал какую-нибудь иностранную радиостанцию. Ей припомнилось, как однажды вечером, прочтя газету, родители расстроились. Ей было любопытно узнать, что же их так расстроило, и она тоже прочла газету, но не нашла ничего примечательного. Вечером, прослушав новости, отец вдруг крикнул: «Это была ложь! Бесстыдная ложь!» Мать, словно освободившись от какой-то давившей на нее тяжести, произнесла: «Кары на них нету! При помощи своих газет победить хотят!» Да, наверняка они знают, размышляла Шпреса. Но почему мне не сказали?
В воскресенье их повели строем в кино. Шпреса в тот день не пошла к тетке: Тефта вышла замуж и уехала за границу. Теперь Шпреса редко к ним ходила, лишь когда тетя приходила за ней в общежитие, а та, оставшись без дочери, заходила не очень часто.
Показывали итальянский фильм, из тех, что забываются, стоит выйти из кинотеатра. Но на Шпресу произвел глубокое впечатление киножурнал. Это был пропагандистский документальный фильм фирмы «Луче». Начинался он с показа «фашистского рая» и кончался иностранной кинохроникой. Сначала хорошенькие девушки в нарядных костюмах собирали виноград и персики и складывали в изящные корзины. Потом на экране появилась знакомая физиономия дуче. В горняцкой робе, в железной каске с фонарем на лбу он трудился в забое и переговаривался с шахтерами. (В последний раз она видела дуче в форме пилота. Он вел самолет. А в предпоследний — дуче-рыбак тащил сеть. «Великий дуче фашизма» часто менял костюмы, в соответствии с ролями, которые играл.) Под конец показали кадры испанской войны: самолеты с ликторским пучком на фюзеляже бомбили большой испанский город. Съемка велась с воздуха. Было видно, как цепочкой падают бомбы, как внизу, на земле, вспыхивает дымное пламя, рвущееся в самое небо, словно стараясь поглотить его. Итальянские солдаты штурмуют город, рушатся многоэтажные дома, трупы убитых «врагов» на улицах, мужчины, женщины и дети в слезах покидают город…
Шпресе показалось вдруг, что среди убитых ее брат. Она вздрогнула и в ужасе закрыла глаза. После журнала зажегся свет, но она успокоилась только во время фильма.
Ночью она спала плохо и к утру вдруг пробудилась от собственного крика, в холодном поту.
— Что с тобой, Шпреса? — спросила Назиме, которая спала теперь на соседней кровати.
— Плохой сон видела.
— Поэтому кричала?
— Я видела Скэндера во сне. Я боюсь, Назиме, уж не случилось ли что-нибудь с ним.
— Ты веришь снам?
— Сама не знаю. Но все равно боюсь.
— Не сходи с ума. Спи.
XVIII
Великий праздник приближался. Через три-четыре дня «амазонки» батальона «Мать-королева» промаршируют перед его высоким величеством. Последние три месяца прошли в тренировках, теперь девушки четко вышагивали под музыку.
Утро было дождливое, на прогулку не пошли. Было приказано почистить и отгладить мундиры, чтобы все было готово к «великому дню».
Шпреса гладила юбку, когда ее позвали:
— Шпреса Петани!
— Я здесь!
— Тебя к директору!
— Меня?
— Да.
— Зачем?
— Не знаю.
У нее забилось сердце.
Она робко постучала.
— Входи!
Директора не было. На его месте сидел профессор-наставник господин Луидь. Справа у окна спиной к Шпресе стоял прилично одетый мужчина, он рассматривал книги в застекленном шкафу.
Шпреса несмело остановилась у двери.
— У вас, барышня, сколько братьев? — спросил Луидь.
— Два брата.
— И где они?
— Один еще маленький, а другой уехал учиться во Францию.
— На кого же он учится?
— На инженера.
— Он получает стипендию?
— Нет, он учится на собственные средства.
— Так ваш отец настолько богат, что в состояния учить сына во Франции! — с иронией сказал мужчина у окна, резко повернувшись. Шпреса узнала Сотира Мартини, министра двора, и покраснела.
— Это очень нелегко, господин.
— А вы уверены, что ваш брат учится во Франции?
— Конечно, — ответила она, предчувствуя недоброе и бледнея. «Они все узнали, — подумала она, — наверняка мне откажут в стипендии. Ну и пусть!»
— Мадемуазель! Ваш брат не во Франции. Он уехал оттуда в Испанию, — зло проговорил Сотир Мартини.
— Нет, господин. Мой брат во Франции. Зачем ему ехать в Испанию?
— Он поехал туда воевать против националистов.
— Это невозможно, господин.
Министр засмеялся.
— У меня точные данные, барышня. Ваш брат уехал в Испанию и там погиб. Можете его оплакивать, вы никогда его больше не увидите.
У Шпресы из груди вырвался вопль:
— Нет! Это неправда!
— Он воевал против националистов, ведь он был коммунист, противник нашего строя. Да, барышня, можете оплакивать своего брата. Так будет со всеми коммунистами, со всеми нашими врагами.
Шпреса закрыла лицо руками.
Господину Мартини, казалось, доставляло удовольствие смотреть, как вздрагивают от рыданий плечи девушки.
Профессор Луидь укоризненно посмотрел на министра двора. Было видно, что он не одобряет его, но не осмеливается возразить. Он был педагогом и собирался сообщить барышне о смерти брата по-другому, поделикатнее, как этого требовали педагогические правила.
— Прошу вас, не надо больше, — сказал он скорее просительно, чем с укором. — Посмотрите, как она потрясена.
— Ну и что! Вам, господин Луидь, надо разобраться в этом деле, и чем скорее, тем лучше. Ведь это же скандал! Чтобы сестра коммуниста училась в благородном заведении, в пяти шагах от дворца его высокого величества! Позор! Вы за все ответите! Мы не желаем, чтобы институт, носящий имя матери-королевы, превратился в осиное гнездо коммунистов, понятно? Так что уж, пожалуйста, разберитесь! Ответственность ложится на вас!
С этими словами его милость схватил шляпу и направился к выходу мимо Шпресы, как-то загадочно взглянув на нее. Господин Луидь подошел к Шпресе и положил руку ей на плечо.
— Успокойтесь, барышня, сядьте.
Она села, стараясь взять себя в руки. Ей вдруг вспомнились слова Назиме: «Ты должна гордиться им». Она выпрямилась, вытерла глаза платочком и вскинула голову, словно доказывала таким образом, что действительно гордится братом, несмотря на невыносимую боль в груди.
Профессор Луидь, долговязый, сухопарый старик с морщинистым лицом, неторопливо направился к своему креслу. Он, казалось, был оскорблен грубостью господина министра.
— Послушайте, барышня, — сказал он. — Ваш брат погиб. К сожалению, известие достоверное. Конечно, официально меня это не касается, но по-человечески я испытываю чувство сострадания к вам, примите мои соболезнования. А сейчас вы должны подумать о себе, о своей семье. Надо подумать, как избежать последствий его безрассудства.
Шпреса нахмурилась. Что имеет в виду этот идиот? К чему клонит? Как он сказал? Безрассудство? Да и я тоже хороша, чего я жду от них? Уж не добрых ли слов? Они же враги моего брата, мои враги! Как я могла показать им свою слабость, разреветься у них на глазах? Правильно говорит Назиме — выше голову!
— Что?
— Вы не расслышали?
— Нет. Я задумалась.
— Мне жаль, барышня, но, хочешь не хочешь, мы вынуждены исключить вас из института. Вы больше не можете здесь оставаться. Вы сами понимаете…
Решительно поднявшись, она твердо сказала:
— Поступайте, как сочтете нужным.
— Да погодите минутку, не торопитесь. Дело не только в вас одной, барышня, вы должны подумать и об отце. Его ведь тоже не станут держать на службе.
Шпреса была сражена. Это ей не приходило в голову.
— О чем же тут думать?
— Да может, как-нибудь все устроим. Его высокое величество милосерден. Мы будем ходатайствовать от имени института, может, что-нибудь и выйдет. Вы всегда отличались примерным поведением, директорат хорошего мнения о вас. А сейчас идите и успокойтесь, потом поговорим…
Она прошла по коридорам решительной походкой, с высоко поднятой головой, но, оказавшись в дортуаре, бросилась ничком на кровать и громко разрыдалась.
Все были на занятиях, к ней подбежала испуганная уборщица.
— Что с тобой, Шпреса?
— Брат!..
— О господи! Что с братом-то?
— Убили!
— Вот горе-то какое! Да когда же это?
Шпреса сейчас так нуждалась в утешении, что бросилась к старухе и уткнулась лицом ей в плечо.
— Ах ты моя горемычная! Да как же это, девочка ты моя! Брата убили, а! — приговаривала старушка со слезами на глазах, гладя Шпресу по голове.
— Теперь меня исключат из института.
— Да тебя-то за что, а? Мало, что ли, тебе горя? Ну да ничего, бог даст, все обойдется. Успокойся. Сварить тебе кофе?
— Не надо. Принеси лучше воды.
— Сейчас принесу.
Оставшись одна, Шпреса попыталась успокоиться. «Ну зачем я плачу? Неужели у меня нет силы сдержаться? — укоряла она себя. — Что бы он сказал, если бы меня увидел? „Ты меня позоришь, сестра, льешь слезы, как чувствительная барышня, на радость моим врагам“ — вот что он бы мне сказал. Все, больше не плачу! А профессор Луидь, что ему от меня нужно? Подать прошение его высокому величеству, так? Он милосерден. Вот-вот. То же говорили и Тямиле. Но со мной у них это не пройдет! Подлые души! Пусть делают, что хотят! И все-таки, может, подать прошение? Хоть отца бы не увольняли. На что мы будем жить? А Скэндер что сказал бы: „Эх, сестра, меня убили, а ты кланяешься моим врагам!“ Нет, Скэндер, я не стану этого делать. Я не запятнаю твоего имени».
Шпреса никак не могла собраться с мыслями. Диалог в голове шел как-то сам собой, помимо ее воли. Лишь одно она осознавала ясно — она ненавидит всех: короля, министров — всех без исключения. Вскочив, она принялась складывать вещи в чемодан. Дверь распахнулась, на пороге стояла Назиме. За ней в нерешительности толпились остальные. Некоторые плакали.
— Шпреса!
Шпреса повернулась к двери. Она выглядела совершенно спокойной, но по застывшему выражению ее сухих глаз Назиме сразу поняла, что она плакала и глубоко страдает.
— Это правда?
— Да, Назиме, правда.
Назиме горячо обняла ее. Она прибежала поддержать подругу, но вот сама не удержалась от слез — Шпреса почувствовала, как они капают ей за воротник. Комнату заполнили плачущие девушки.
— Хватит! — закричала Назиме. — Вы что! Вы зачем сюда пришли, утешать или расстраивать еще больше?
Шпреса была растрогана.
— Теперь я уеду, — сказала она. — Мне сказали, что исключат. Простите меня за все.
— Да ты что? За что тебя исключать?
— Чего это они?
— Что ты такое сделала?
В дверях показался господин Луидь.
— Вы что тут делаете? — прикрикнул он. — Что здесь за собрание? А ну-ка, марш в класс!
Девушки вышли, Шпреса осталась вдвоем с господином Луидем. Она смотрела на него, еле сдерживая гнев.
— Послушайте меня, барышня! — начал господин Луидь. Он говорил мягко, отеческим тоном. — Вы молоды, надо думать о будущем. Через год вы получите аттестат. Грех бросать учебу. Кроме того, надо позаботиться и об отце, как вы будете жить, если его уволят со службы? Вы для меня как родная дочь, я хочу помочь вам. Слушайте меня. Подайте прошение на имя его высокого величества. Он милостив, простит вас. Скольких он уже простил! Он прощал людей, совершавших более тяжкие провинности! Да и что вы такого сделали? Разве вы отвечаете за глупое безрассудство своего брата? Так и напишете. Я и бумагу принес. А может, вам лично встретиться с ним? Это будет даже лучше для дела. Да-да. Так мы и поступим. Я все устрою. У меня есть знакомые во дворце. Надо только письменно попросить об аудиенции. Скажете, мол, так и так, вы не знали, что брат в Испании, лично вы придерживаетесь националистических взглядов и преданы его высокому величеству. Вот бумага и ручка.
Он положил бумагу на тумбочку и взглянул на Шпресу, все это время мрачно следившую за ним. Вдруг она схватила листок и приблизилась к господину Луидю. Увидев выражение ее лица, он попятился.
— Со мной эти ваши прошения не пройдут, господин Луидь! Вы со своим хозяином можете обмануть кого-нибудь вроде Тямили, но только не сестру Скэндера Петани. Вон!
Скомкав листок, она неожиданно швырнула его прямо в лицо профессору.
Господин Луидь в ярости выскочил из комнаты.
Шпреса взяла чемодан и неторопливо последовала за ним. Выйдя во двор, она направилась к воротам.
Привратник хотел было потребовать разрешение на выход в город, но она властно приказала:
— Открой!
На следующий день директорат исключил ее из института за «неблагонравное поведение», за оскорбление преподавателя.
XIX
Автобус прибыл на место после полудня. Взяв чемодан, Шпреса направилась к дому. Чемодан был тяжелый, приходилось то и дело менять руку. Когда Шпреса остановилась в раздумье, как же она дотащит чемодан до дому, сзади вдруг кто-то сказал: «Давай донесу» — и, не ожидая ответа, подхватил чемодан.
— Не надо, дядя Вандель, я сама донесу.
— Сказал, донесу!
Вандель, рабочий-кожевник, жил рядом с семьей Петани. Это был человек суровый и неприступный. Одет он был бедно, однако держался независимо и каждому мог сказать все, что о нем думает. Случилось однажды, местный бей кликнул его понести чемодан, так Вандель не только не понес, но и обругал бея на чем свет стоит. Бей растерялся, он никак не мог сообразить, почему рабочий, таскающий изо дня в день тюки с кожей, отказывается понести ему, почтенному бею, какой-то чемодан!
— Кто тебе сообщил?
— Директорат.
— Не падай духом, такая уж жизнь.
— Отец и мама знают?
— Да, знают, дочка. Их субпрефект вызвал к себе обоих, да так прямо все и выложил. Им горе — ему удовольствие.
— Они очень убиваются?
— Мы все и то убиваемся, что ж о них-то говорить — родители, одно слово.
Глаза Шпресы наполнились слезами.
— Бедная мама!
Он как будто почувствовал, что она вот-вот расплачется, и с укором повернулся к ней:
— Не смей плакать! Чтобы недруги радовались, да? Подними голову!
Дальше они шли молча. Люди, попадавшиеся им навстречу, бросали на Шпресу жалостливые взгляды и молча, кивком головы, здоровались с ней.
Все казалось Шпресе не таким, как прежде: город выглядит уныло, на улицах грязь, ветер раскачивает голые ветви деревьев, прохожие в обтрепанных пальто сгорбились от холода. У нее сжалось сердце.
— Ты насовсем приехала?
— Да.
— Значит, и тебя не оставили в покое!
У входа в дом он поставил чемодан на ступеньку.
— Пожалуйста, входите, дядя Вандель.
— Нет. Как-нибудь в другой раз.
Он резко отвернулся, но Шпреса успела заметить слезы у него на глазах.
Она взяла чемодан и поднялась по ступенькам. Дверь была незаперта. Родители были на кухне. На миндере — узкой лавке вдоль всей стены — сидели по-турецки Кози и Пилё Нуши.
Увидев мать, Шпреса бросила чемодан и с протяжным криком кинулась к ней на грудь. Мать, не сдержавшись, тоже разрыдалась. Господин Демир нахмурился.
— Хватит! — вдруг крикнул он. — Сказал я тебе, не потерплю в доме слез!
Шпреса поздоровалась за руку с Кози и Пилё и безмолвно села на миндер. Отец выглядел очень подавленным.
— Тебя исключили?
— Не знаю еще. Сказали, что исключат, если не подам прошение королю. Даже бумагу гербовую принесли.
— И ты написала прошение? — гневно выкрикнул Демир.
— Нет. Я швырнула бумагу ему в лицо, схватила чемодан и уехала.
Учитель пристально посмотрел на дочь.
— Иди-ка поздоровайся и со мной! — вдруг позвал он. И поцеловал Шпресу в лоб.
— Пусть делают, что хотят! — проговорила госпожа Рефия.
— Тетя мне посоветовала обратиться к господину Зетиру, чтобы он похлопотал, а я решила, не надо.
— Правильно решила.
Шпреса сразу же взвалила на себя всю работу по дому. Мать проводила все дни на кухне, сидя на своем обычном месте у очага. Там она принимала женщин, приходивших выразить свое сочувствие. Гостей отца проводили к нему в кабинет, сам он оттуда не выходил. В школе он больше не преподавал, его уволили.
В первые дни никто не приходил к ним, кроме Кози, Пилё да Ванделя. Потом появилось несколько родственников. Они пришли, когда стемнело, и прошмыгнули в дом как-то робко и виновато, словно совершали нечто недозволенное. Но через несколько дней люди словно освободились от страха и хлынули все разом. Приходили по одиночке, по двое, группами — казалось, весь город решил побывать в их доме. Стали появляться посетители из деревень.
Местные власти вначале как-то не обращали внимания на это паломничество. Они были заняты празднованием Двадцать восьмого ноября: церемониями по случаю двадцатипятилетия, речами, вечерами, банкетами. Потом вдруг встревожились. Шеф окружной жандармерии был взбешен и потребовал принять меры против всех, кто приходит с соболезнованиями. Но субпрефект воспротивился.
— Нельзя выступать против местных обычаев, — заявил он. — Это произведет плохое впечатление. Пусть ходят. Походят и перестанут.
На самом деле он мучился в нерешительности, не зная, как поступить, а запросить начальство не осмеливался, боялся показаться смешным. Было решено послать жандарма Камбери при полном обмундировании, пусть патрулирует улицу возле дома, с тем, однако, чтобы никого не смел задерживать. Появление этой одиозной фигуры у дверей учительского дома вроде бы вызвало колебания у некоторых, но не остановило потока людей, направлявшихся сюда, чтобы выразить сочувствие. Господин Демир и сам удивлялся, как же много у него, оказывается, друзей. Впрочем, приходило много совсем незнакомых, он их видел впервые.
Как-то Шпреса случайно услышала разговор двух мужчин, навестивших отца.
— Вот уж не знал… — произнес один из них, сходя с крыльца.
— Что не знал?
— Что у Демира Петани столько друзей.
— Скажи лучше, у фашизма — врагов, — поправил второй.
Однажды вечером в проливной дождь снова появился Пилё Нуши, а с ним Рауф и какой-то незнакомец. Госпожа Рефия пригласила их в гостиную и, как обычно, велела дочери сварить кофе. Поставив на огонь кофейник, Шпреса, стоя, наблюдала, как Агим, сидевший тут же за столом у плиты, делал уроки. Вдруг в дверях появился Пилё. Он знаками вызвал ее в коридор.
— Запри дверь на ключ, — шепнул он.
— А кто это?
— Это товарищ Скэндера.
Вернувшись в гостиную с чашечками кофе, Шпреса внимательно взглянула на незнакомца. Это был высокий черноволосый юноша с приветливым лицом. Родители Шпресы разговаривали с ним так свободно, словно знали его давным-давно.
— А это Шпреса, сестра, — сказал Пилё.
— Очень рад. — Юноша встал, пожал протянутую Шпресой руку и задержал ее в своих ладонях. — У тебя был замечательный брат, настоящий революционер и герой, он погиб во имя Албании.
Взяв чашечку с кофе, он, прежде чем поднести ее к губам, сказал:
— Будьте все здоровы!
— Чтобы все его друзья были здоровы!
Выпив в молчании кофе, он поставил чашку на стол и заговорил, обращаясь к госпоже Рефии:
— В таких случаях очень трудно говорить, трудно подобрать слова, да и что ни скажешь, все равно не умерить боль, которую испытываете вы, мать Скэндера, вся его семья. Но наш Скэндер не просто умер, он пал смертью героя во имя нашей родины, за свободу нашего народа. Мы, его товарищи, тоже скорбим и хотели бы видеть его живым и здоровым, но война есть война. Его гибель потрясла нас, умножила нашу ненависть к врагам Албании, мы поклялись, что выполним его заветы, добьемся осуществления его высоких целей и идеалов…
Слова юноши поразили Шпресу. Еще никто из тех, что приходили выразить свое сочувствие, не говорил так, и Шпреса чувствовала, как душа ее распрямляется, освобождаясь от давившей тяжести, и дело погибшего брата становится понятней и ближе. Мать тоже слушала с неотрывным вниманием, сидела молча, пристально глядя на гостя сухими глазами. Отец медленно крутил цигарку, Рауф и Пилё были поглощены тем, что говорил темноволосый юноша.
Он продолжал:
— Вы, дорогие отец и мать, потеряли любимого сына, мы потеряли друга, Албания лишилась своего героя, отважного борца, но мы, его товарищи, станем на его место. Он погиб, но по его пути пойдут тысячи других. Мы поклялись довести борьбу до конца, пока не освободим свой народ и не сделаем Албанию такой, о какой мечтал Скэндер, — свободной, богатой, счастливой. Вот почему вы, самые близкие ему люди, которых он любил больше всех, должны высоко держать голову и ни на мгновение не забывать, что вы — семья Скэндера Пета ни, борца за свободу.
Сделав короткую паузу, он вытащил из кармана письмо.
— Я пришел к вам сегодня по поручению соратников Скэндера по борьбе в Испании и принес от них письмо. Эти люди — албанцы и бойцы из других стран. Оно прошло через много рук, прежде чем мы его получили. Я вам его прочту:
«Матери и отцу нашего товарища Скэндера Петани.
Дорогие родители,
Вам пишут товарищи вашего сына Скэндера, его товарищи по оружию, его соратники и единомышленники. Мы, так же как и ваш сын, покинули свою родину, свой дом, своих близких и родных и приехали сюда сражаться с фашизмом, потому что мы убеждены в том, что фашизм — наш главный враг, враг Албании и всех стран мира. Мы хотим преградить ему путь, остановить его. Сражаясь против фашизма здесь, в Испании, мы сражаемся во имя своей родины, потому что судьба наших стран решается здесь.
Ваш сын Скэндер умер, как настоящий герой, со словами „Да здравствует Албания!“ Его смерть глубоко опечалит вас, его родителей, так же как опечалила и нас, его товарищей, но вы должны гордиться им, как гордимся мы. Мы дали клятву, что пойдем дальше по пути, по которому шел он, и не пожалеем жизни во имя осуществления его идеалов.
Дорогие родители,
Мы знаем, что, сообщая об этом, причиняем величайшую боль, разбиваем вам сердце, но знайте, что мы все — ваши сыновья, а вы — наши мать и отец, ведь Скэндер был нам братом. Вы потеряли Скэндера, но у вас остались сотни других сыновей, его товарищей. И только одного хотим мы от вас, дорогие родители: чтобы вы не поддавались горю, ни единым знаком не выдали врагу своей боли. По героям не плачут. Народ слагает о них песни. Придет время, и о нашем Скэндере сложат песню.
С глубоким уважением
товарищи Скэндера».Закончив читать, юноша поднялся и передал письмо госпоже Рефии.
— Возьмите, мама, это письмо и сохраните его как последнее слово вашего сына.
Госпожа Рефия поцеловала его в щеку.
— Будь здоров, сынок!
Юноша протянул руку господину Демиру:
— Когда-то вы сражались за нашу страну, господин Демир. Вы мечтали тогда сделать Албанию лучше, краше, но не смогли это осуществить. Мы, товарищи Скэндера, добьемся этого и сделаем Албанию такой, о какой мечтали вы.
Затем он повернулся к Шпресе:
— И ты, его сестра, должна быть мужественной. Настало время, когда вся молодежь должна выбрать свой путь, а тебе выбирать легче, чем многим, — иди по пути, по которому шел твой брат!
НА РАСПУТЬЕ
I
После празднования двадцатипятилетия независимости ничего примечательного в королевстве Зогу Первого больше не происходило. Газеты в присущей им манере писали все о том же — о победах испанских националистов, о шумной дипломатической деятельности «великой союзницы»,[65] публиковали полный текст речей «великого дуче», который не пропускал ни единого дня, чтобы не потрепать языком в каком-нибудь уголке Италии. Страницы же, посвященные внутренней жизни, пестрели сенсационными сообщениями об убийствах, ограблениях, драках и скандалах:
«Предумышленное убийство в Суреле!»
«Отец убивает в овраге собственную дочь вместе с ее любовником!»
«Убийство из-за межи!»
«Четверо детей крадут хлеб из пекарни!»
«Драка в Булгареце из-за одной тыквы!»
«Самоубийство от отчаяния!»
Газетные заголовки свидетельствовали о том, что Ахмет Зогу превратил свое королевство в настоящие джунгли, обитатели которых поедают друг друга.
Год выдался засушливый: с мая по самый октябрь не выпало ни капли дождя. Крестьяне провели, как обычно, полевые работы, но без всякой надежды на урожай. Запрокинув головы, они глядели в пустынное, без единого облачка небо. По церквам и мечетям начались моления. На пятидесятницу по деревенским улицам прошли странные процессии: впереди голые ребятишки, чуть прикрытые листьями папоротника и бузины, за ними толпой крестьяне, что-то распевавшие и плескавшие в них водой. Это по примете должно было вызвать дождь. Но небеса оставались глухи к их просьбам… И засуха сделала свое дело, оставив бедноту без горстки кукурузы.
Дожди пошли только в ноябре, а в декабре разверзлись небеса: с них уже не капало, а лило потоком. Как видно, всевышний наконец вспомнил об этой жаждущей стране и послал ей воды в изобилии, чтобы как-то искупить свою скаредность в летнюю пору.
Дожди продолжались весь декабрь. Наступил январь, а они не прекращались. Вода в реках начала подниматься. Крестьяне в тревоге приходили на берег, со страхом смотрели на взбаламученную воду, втыкали колья, определяя уровень воды, и что было духу спешили восвояси, чтобы успеть взгромоздить пожитки и детей на крышу хижины да отвести куда-нибудь скотину, может, там уцелеет. И все же вода, грозная и коварная стихия, такая же страшная, как огонь, пуля или жандарм, застигла их врасплох: реки вышли из берегов, хлынули на поля и, соединившись с топями да болотами, образовали сплошную водную поверхность. Реки — Шкумбин, Семан и Вьёса в Мюзете, Дрин, Буна и Мати на севере — слились в два громадных озера или, скорее, в два морских залива, где островками возвышались холмы. Мутная вода поглотила крестьянские хижины, в море у побережья плавали трупы животных, связки кукурузных стеблей, бревна, деревянные корыта и прочая утварь.
Крестьяне похватали в охапку перепуганных детей, со спасенными пожитками взобрались на крышу и, сидя там, голодные, под проливным дождем и ураганным ветром, ждали, когда же правительство придет им на помощь, пришлет хоть какую ни на есть лодчонку и избавит их от этой напасти. Да не до того было правительству. Газеты в те дни крупным шрифтом печатали сообщения:
«Бал в честь ее королевского высочества принцессы Сание».
«Указ его высокого величества Зогу Первого о повышении жалованья чиновникам высших рангов».
«Награждение итальянских деятелей».
«Garden party» в «Tennis Club».
«Генерал Аранити повышен в чине».
«Прием в королевском дворце».
Наконец правительство вспомнило, что во владениях его высокого величества не все в порядке. Министерство национальной экономики дало краткое сообщение об «инондациях».[66] После этого его высокое величество король изволил дать указание премьер-министру, премьер-министр отдал распоряжение министру внутренних дел, министр внутренних дел — префектам, префекты — субпрефектам, те соответственно председателям общин, председатели общин отдали приказ старостам, а старосты… собрали своих верных людей «на совещание», чтобы подсчитать ущерб, попесенный крестьянами от наводнения.
Старосты передали перечни убытков председателям общин, те — субпрефектам, субпрефекты — префектам, префекты переправили списки министру внутренних дел, тот представил их премьер-министру, премьер-министр — его высокому величеству, а его высокое величество, «увидев, что ущерб слишком велик, чтобы можно было покрыть его за счет имеющихся у нас ресурсов», снова вызвал премьер-министра, тот — министра внутренних дел, министр передал приказ префектам, те — субпрефектам, субпрефекты — председателям общин, и те, собрав старост, повелели им «составить списки наиболее нуждающихся, особо пострадавших».
Были составлены списки «наиболее нуждающихся, особо пострадавших», кому предстояло вкусить от «великодушнейших милостей» его высокого величества. Особо пострадавшими оказались бей, особняк которого возвышался на холме, ага, живший рядом с ним, староста и его родня.
И пока бюрократическое колесо поворачивалось вверх-вниз, вниз-вверх, средства, отпущенные на пособия, переходили из рук в руки, из кармана в карман в соответствии с иерархической градацией, определенной особым указом его высокого величества, да так и сгинули в мутных глубинах административного аппарата.
Крестьяне голодали, и на сей раз, как испокон веков, их спасла от смерти лишь братская поддержка и взаимопомощь. Ведь, понадейся беднота на помощь правительства, вымерли бы люди с голоду еще сотни лет назад.
В областях, где не было наводнения, положение было не лучше, чем в затопленных долинах. Кругом недород, кругом голод. Он покрыл черной пеленой всю Албанию. И газеты не смогли обойти это молчанием.
«У здания префектуры в… (название давайте опустим, ведь то же самое происходит повсюду) изо дня в день собираются обнищавшие крестьяне, прося хлеба. Сердце обливается кровью, когда смотришь на женщин с голыми и босыми детьми, плачущими от голода…»
Но дальше простого сочувствия газеты не идут. Зато они с энтузиазмом одобряют «мудрое решение» министерства просвещения, которое назначило ходжей и священников преподавать слово божье в начальных школах, отдельно для детей христиан и мусульман: одни в одном конце класса, другие — в другом. Или вдруг печатается длинный репортаж редактора газеты, в котором он ругает портного за плохо сшитый костюм. И все газеты в один голос прославляют его высокое величество и ратуют за скорейшее создание организации «зогистской» молодежи.
В январе, когда бедствия народа достигли наивысшей точки, газеты запестрели броскими заголовками:
«Благая весть! Августейший король вступает в брак!»
И все разом забывают о наводнении, никто и знать не желает о том, что люди мрут с голоду. Газеты принимаются снова за старую песню: превозносится до небес августейший король и королевская фамилия, газетчики со смаком описывают ужины и обеды, балы и рауты, встречи и проводы, фраки и декольте…
Тем временем незадачливый крестьянин, на глазах у которого разбушевавшаяся стихия унесла все подчистую, погубила скотину и залила последний мешок с кукурузой, крестьянин, который уже несколько суток ожидает, когда же спадет вода, сидя на соломенной крыше со своими детишками, съежившимися под истертой буркой, истощавший от недоедания, с посиневшими от холода губами, замечает вдруг лодку, что плывет к нему. Это надежда! Детишки высовывают головы из-под бурки, как цыплята из-под крыла наседки, и с нетерпением следят за лодкой сияющими глазами: наконец-то им дадут хоть корочку хлеба! Лодка все ближе, ближе. Еще немножко! Вот она уже совсем рядом, даже лодочника видно! Да там и староста! Мы спасены!
Староста поднимается на ноги и, размахивая газетой, кричит:
— Новость! Благая весть! Августейший король вступает в брак!
Не задерживаясь долго, лодка отправляется дальше, чтобы разнести «благую весть» по всем выступающим из-под воды крышам.
«Осчастливленный» крестьянин воздевает руки к небу, восклицая:
— Слава тебе, о господи! Конечно, ты наслал на меня взбесившуюся воду, забрал у меня все: погубил скотину, оставил меня без последнего мешка кукурузы, по твоей милости мои дети хворают, я мокну под дождем на крыше и подыхаю с голодухи. Но, о радость! Ты прислал мне самую прекрасную весть за всю мою жизнь! Король вступает в брак! Возрадуйтесь, дети мои! Поесть мы всегда успеем, а такой радости, как эта, больше не будет! Славен будь, о господи!
И снова площадь Скандербега заполнили цилиндры и котелки. Депутаты гуськом тянутся в парламент. Народ толпится, глазея на «отцов нации», которые вот-вот начнут новое представление. На этот раз комедия длится недолго.
Заседание по обычаю открывает парламентская мумия, господин Пандели Евангели. Угасающим голосом он читает по бумажке:
— Господа депутаты! Радостный эвенемент[67] величайшей важности, затрагивающий жизненные интересы албанского государства и народа, побудил нас созвать это историческое заседание. Мы пригласили вас, господа, чтобы зачитать вам послание его высокого величества, нашего светлейшего короля, переданное нам господином премьер-министром. Вот это послание: «Желая взять в супруги графиню Апонюи, поручаем вам довести это наше пожелание до сведения представителей народа».
Депутаты вскакивают с мест и начинают рукоплескать с таким энтузиазмом, что можно подумать, будто каждый из них сам женится на графине вместе с его высоким величеством.
Овации стихают, депутаты усаживаются, начинаются прения.
Председатель колеблется, кому первому предоставить слово.
Слово берет Абдуррахман-бей:
— Господин председатель! Блажен наш парламент, которому выпало счастье объявить о помолвке его высокого величества и отпраздновать ее. Эта женитьба, господин председатель, заткнет рот врагам нации и положит конец всяким домыслам и сплетням. Возблагодарим же небеса и вознесем к ним наши молитвы.
Аплодисменты.
Интересно, какие это домыслы и сплетни имеет в виду достопочтенный депутат? Судя по всему, отцы нации знают, в чем дело, потому и хлопают с таким пылом. И вправду, хотя жены у них и состарились, зато дочери подросли, а при короле-холостяке мало ли что может случиться. Досужие языки утверждают, что уже не однажды случалось, а что прикажете делать? Кто осмелится, я вас спрашиваю, отказать его высокому величеству? С кем случилось, с тем случилось, ничего не попишешь. Отныне же ревность молоденькой венгерки обеспечит то, с чем не справились ни мужественность и гордость албанца, ни законы, принятые парламентом.
Но давайте полистаем «Официальный вестник».
Слово берет Фейзи-бей Ализоти:
— Господин председатель! Бывают такие торжественные и радостные мгновения, когда язык не в состоянии выразить то, что у тебя на сердце. Одобрим же столь долгожданный всем албанским народом брак!
Аминь!
Говорит Джафер-бей Юпи:
— Да выйдет замуж за августейшего короля прелестная графиня Апонюи и удостоится сана королевы! Пусть спаситель нации станет основателем династии Зогу! Парламенту надо проголосовать единогласно!
Как прикажете! Господа депутаты, смирно!
Пардон!
Ну почему мы все время неправильно воспринимаем слова почтенного Джафер-бея? Он вовсе не командует, он просто выражает свое мнение. Послушаем же. Нет, вроде он уже высказал все, что хотел.
Слово берет господин Хикмет:
— Король женится! Какая радостная весть! Женится Зогу Первый! Албанцы и албанки, где бы вы ни были, ликуйте!
Депутат из зала:
Не вижу необходимости в дальнейших прениях, давайте поскорее примем решение о женитьбе его высокого величества!
Аплодисменты.
Голоса:
— Правильно!
— Мы замерзли!
— Давайте голосовать!
Нет. Предложение отвергается.
Слово берет Хюсни Тоска.
Оживление и шум в зале.
Хюсни Тоска:
— Да здравствует Зогу Первый!
Фитри-бей:
— Ее сиятельство графиня Джеральдина Апонюи — не кто иная, как современное воплощение жены Скандербега Доники.
Хонджо-бей:
— Желание короля было, есть и будет желанием албанского парламента.
Бенджо-бей:
— Нашу королеву называют белой розой, а этот цветок — символ всех добродетелей.
Болван-бей:
— Да здравствуют молодожены!
Дуб-бей:
— Уже столько веков мы не видали королевы на албанском троне!
Глуп-бей:
— Я хотел кое-что сказать, но не скажу, другие уже все сказали.
Депутат из зала:
— О аллах! Его высокое величество ждет там ответа, а мы тут развели канитель. Давайте же не будем задерживать его высокое величество!
Аплодисменты.
Голоса:
— Принять!
— Голосовать!
И парламент «на основании статьи 89 Основного закона королевства» дает «consentement» [68] на брак его высокого величества с графиней Джеральдиной Апонюи и желает благополучия королевской чете.
На этом заседание закрывается.
Хотя погодите, вроде бы еще нет.
Ну конечно же! А свадьбу-то на что устраивать? Откуда возьмет деньги его высокое величество? Совсем упустили из виду, надо же!
Предложения посыпались градом, руки снова взметнулись вверх: выделить столько-то на содержание королевского двора, столько-то на свадебные расходы, столько-то на прием родственников невесты, да еще надо не ударить в грязь лицом перед остальными гостями. А ее сиятельство будущая королева! Что ж она, луком-пореем питаться будет? Ну, с богом, счастья им и всяческого благополучия!
Господина Вехби Лику, как испытанного сочинителя, пригласили на сей раз написать биографию будущей королевы. Он согласился очень охотно, не потребовал никакого вознаграждения, попросил лишь оплатить расходы на небольшое путешествие в Венгрию, чтобы, как он объяснил, «собрать факты и повидать места, где расцвела белоснежная роза, которая украсит Албанию».
А что он мог написать об этой двадцатилетней девушке?! Что ее семья, действительно древняя и родовитая, не имела ни гроша за душой и маленькая графиня росла у теток, взявших ее на воспитание, чтобы потом найти ей мужа? Боже упаси!
Нет, Вехби Лика начал биографию с восхищенного одобрения «гениального выбора, сделанного его высоким величеством». Он уверял, что этот брак навечно свяжет Албанию с Венгрией, так что в случае войны, вздумай Югославия напасть на Албанию, с севера против нее выступит Венгрия, и все это ради прекрасных глаз албанской королевы!
Далее господин Вехби Лика писал:
«Ее высокое величество выросла, окруженная нежными заботами и любовью, что типично для знатных аристократических семейств Венгрии. Летнее время наша королева проводила в старинном величественном замке Апонюи. Она бродила по сосновому бору, окружавшему замок, и собирала яркие цветы. Она ловила гибкую куницу, но та вспрыгивала на сосну и скрывалась в гуще ветвей. Она собирала в корзинку сочную пахучую землянику… Иногда маленькая графиня, лежа на мягкой лесной траве, устремляла взгляд на клочок неба, окаймленный листвой высоких деревьев, и погружалась в мечтания…»
Тут уж никто не смог бы обвинить нашего историка в обмане. Какая же девушка не любит бродить по лесу, собирать сочную пахучую землянику или лежать на мягкой траве и, глядя в небо, предаваться мечтам?
II
Со дня знакомства они почти все время проводили вместе. Приходили друг к другу в камеру, вместе шли на прогулку. Новые товарищи Лёни подружились с ним и скоро поняли, что он кое-что смыслит в том, что их волнует, видно, Скэндер многому его научил. Лёни в первое время держался настороженно и скованно, избегал откровенных разговоров, но постепенно освоился, и они стали открыто говорить обо всем. Постепенно у них сложилась своя компания, к которой присоединились и Хайдар с адвокатом. Собравшись в углу камеры, они говорили о всевозможных вещах, но чаще всего о политике. Вокруг собирались заключенные, политические и уголовники.
В камеру к Лёни поселили горца из Скрапара. Его посадили за то, что он ранил односельчанина во время драки из-за межи. Совсем молодой парень, ему еще и двадцати пяти не было, а выглядел намного старше. Сухое смуглое лицо, седина на висках придавали ему вид зрелого мужчины.
Войдя, он расстелил на нарах рядом с Лёни бурку да так и просидел на ней неподвижно целый день в клубах табачного дыма. Лёни решил не тревожить его. Ему вспомнилось, как он сам в первые дни сторонился людей, не хотел ни с кем разговаривать.
На второй день они познакомились. Новичка звали Ильяз Крекса. Разговор завел Хайдар, добродушный, приветливый, как всегда. Немного погодя подошли Хаки с адвокатом.
— Ну и как там у вас дела в Скрапаре? — спросил Хайдар.
— Да какие наши дела!..
— Хлеб-то хоть есть в этом году?
— Какой там хлеб, господин, засуха нас в могилу сведет.
— Неужто так плохо?
— Хуже некуда. Голодают горцы.
— А я-то думал, в горах лучше.
— В горах еще хуже. Земли-то нету, господин. У самой зажиточной семьи едва ли наберется пять дюнюмов,[69] да и то одни камни. В хороший год хлеба хватает всего месяцев на пять. А нынче так и на семена не выходит.
— Как же вы живете?
Горец пожал плечами.
— Сейчас вот продаем скот, чтоб зерна купить.
— Скот продаете? Да ведь без скотины и земля ваша пропадет, горемыки вы несчастные!
— А что ж делать прикажете? Дети есть просят.
— Неужто продать больше нечего?
— Чего продавать-то?
— Ну, фрукты там, виноград, сыр, мало ли…
— Нету у нас ничего, да если б и было, все равно, кому продавать-то? Надо ехать на базар в Берат, а это шесть часов пути. У нас ведь нет дорог, господин. Меру кукурузы в Берате покупают за двадцать лек, а в Чороводе продают за сорок. У кого есть мул или лошадь, едет в Берат, а большинство платят вдвое.
— И кто продает?
— Да есть богатые крестьяне, у них и мулы и лошади. Только тем и занимаются, что ездят в Берат за зерном.
— А как же те, у кого нет скота?
— Ну, о тех и говорить нечего. По горло в долгах, а платить нечем, ростовщики у них и землю, и дом забирают.
— Землю? У кого-нибудь и землю уже забрали?
— Не у одного.
— И что ж они делают без земли?
— Что делают? Собирают пожитки да спускаются вниз, в город. Кто ушел в Берат, кто — в Дуррес или в Фиери, а которые даже в Тирану подались. Думают, работу какую найдут, только нет ее, работы-то.
— Чем же они тогда живут?
— Откуда я знаю? Побираются.
Когда горец отошел, адвокат грустно покачал головой:
— Нет, это просто невыносимо. Вы только подумайте! Горец, наш храбрый, гордый, великодушный горец, настоящий богатырь, а до чего его довели — превратили в нищего! Ужасно!
— Да, в горах теперь не то, что прежде, — сказал Хайдар. — Бедность, куда ни кинь.
— Зогу и его клика должны ответить и за это!
— Перед кем ответить?
— Перед историей.
— История забывала людей повыше, чем Зогу и его компания, — сказал Хаки. — Нашим внукам некогда будет разбираться, что творил какой-то Ахмет Зогу со своими шавками.
— Да покарает их аллах… — проговорил Хайдар.
— От истории да от аллаха ждать нечего. Если мы сами с ними не рассчитаемся, никто за нас этого не сделает.
— Опять ты на политику все повернул, Хаки, — рассмеялся Хайдар. — О чем бы ни говорили, ты все равно на нее свернешь.
— У кого что болит, джа Хайдар.
— Да бросьте вы эту политику, сами себя губите.
— Ты прав, джа Хайдар. Кто нынче занимается политикой, непременно в грязи перемажется, — сказал адвокат. — Знаешь, Хаки, наша политическая арена как футбольное поле после дождя. Играть на нем — значит непременно запачкаться. Если даже и не упадешь, все равно руки-ноги в грязи будут. Единственная разница — политики не руки да ноги марают, а свою биографию.
— Уж не жалеешь ли ты, что занялся политикой, а, господин адвокат? — с иронией спросил Хаки.
— Занялся, а что получил? Сижу уже третий год, а когда выйду отсюда, сам не знаю. Да и выйду, все равно нелегко будет. Ну а ты что имеешь от этой политики? Тоже тут со мной сидишь. Нет, Хаки, лучше подальше от политики. Может быть, завтра солнце пригреет, туча разойдутся, тогда и политика будет не такая грязная.
— Завтра! Да как ты не поймешь, что у нас это завтра наступит не через двадцать четыре часа, а через двадцать четыре года, а может, и совсем не наступит, — горячился Хаки. — Нет, Халим. Не заниматься политикой — значит позволить Зогу и его своре творить все, что им вздумается. А по-моему, нам следует еще больше заниматься политикой, и не только нам — всем!
— И крестьянам тоже? — вмешался Хайдар.
— Всем.
— Нет, политика не для нас. Нам есть нечего, куда уж тут до политики.
— Потому и надо заниматься политикой, что есть нечего.
— Как будто она накормит! — усмехнулся адвокат.
— Накормит! Если когда-нибудь крестьянин перестанет голодать, так только благодаря политике! Судите сами. Почему у крестьянина нет хлеба? Потому что нет земли. А почему у него нет земли? Потому что земля у беев. Как отобрать землю у беев? Сами они ее не отдадут. Значит, только силой. Но беи сильнее, у них власть, у них Ахмет Зогу. Значит, сначала надо свергнуть Ахмета Зогу. А чтобы свергнуть Ахмета Зогу, крестьяне должны действовать заодно. А что их объединит? Политика…
Хаки с адвокатом спорили таким образом почти ежедневно, иногда дело доходило чуть ли не до ссоры. Адвокат укоризненно говорил Хаки:
— Вы, коммунисты, слишком уж все упрощаете. А политика, Хаки, — дело очень сложное.
— Вовсе нет, — отвечал Хаки. — Ее только выставляют сложной, запутанной, чтобы отпугнуть простых и необразованных людей. А она вовсе не такая и сложная…
— Знаю, знаю, ты нам объяснял: с одной стороны, рабочие и крестьяне, а с другой — буржуазия и беи, так?
— Вот именно!
Но сколько они ни спорили, сколько ни сердились друг на друга, Лёни заметил, что они постоянно сходятся опять. Сам он во всем был согласен с Хаки, но, случалось, не понимал, о чем идет речь, а потому не мог и определить, ошибается адвокат и на этот раз или нет, потому что Хаки и Хамди внимательно его слушали, кивая в знак согласия.
Однажды, подойдя к ним, он услыхал, как адвокат сердито говорит:
— Да это же верх подлости! Вы только посмотрите, как прямо у нас на глазах фальсифицируют историю! Заставляют всех от мала до велика восхвалять Ахмета Зогу и его патриотизм! Подумать только, у них даже Фейзи-бей Ализоти, Джафер-бей Юпи и остальные беи стали патриотами! А ведь при султане, когда эти негодяи были всесильны, они не только стыдились своего албанского происхождения, но и пускали в ход все средства, чтобы уничтожить само понятие албанской нации. Они преследовали албанцев!
— Ну чего ты горячишься, Халим? — смеясь, прервал его Хаки. — Вот будет твоя власть, напишешь историю, как тебе захочется.
— Я не понимаю только одного — ведь есть такие, которые действительно боролись во имя Албании, были патриотами, как же они-то поддерживают этих подлецов?
— Не понимаешь? Да ведь они как плющ на большом дереве: поддерживая всю эту сволочь, они заодно и свои делишки устраивают. От кого они кормятся, как ты думаешь?
— А если дерево упадет, что с ними будет? — спросил Хайдар.
— Ничего. Тоже упадут вместе с ним. А пока у тех сила и власть, держатся за них.
— Бездушная штука власть, — сказал адвокат. — Как машина: кто ею владеет, тому и подчиняется. Ведь все эти псевдопатриоты, беи, жандармы, чиновники, газетчики, которые сегодня надрываются, превознося до небес его высокое величество, завтра, стоит захватить власть кому-то другому, первые его предадут, начнут поносить, а понадобится, так и убьют. Они слепые винтики в машине.
— Уж в этом-то будьте уверены, — подтвердил Хаки. — Сторонники Зогу, те, что помогли ему захватить власть, его нынешние «верные товарищи» и «опора режима», умеют менять курс, они это уже доказали. При случае они бросят его. Так учит история.
— Один немецкий философ сказал: «История учит, что мы ничему не можем научиться у истории».
— Может, для кого-то и так, — отпарировал Хаки, — но только не для нас.
— Почему же?
— Да потому, что мы-то научены историей, оттого и не хотим больше чураться политики.
Адвокат недоуменно посмотрел на Хаки, потом рассмеялся.
— Свернул-таки на свое, большевик.
Однажды в декабре Лёни вызвали на свидание. День был холодный, шел проливной дождь. По ту сторону решетки стоял Пилё Нуши. Они проговорили больше получаса, потом Пилё передал ему посылку. Вернувшись в камеру, Лёни улегся на пары и застыл неподвижно. Глаза его были влажны.
— Ты что, по дому соскучился? — шутливо спросил Хаки.
Лёни молча протянул ему письмо, которое принес Пилё.
Хаки прочел его мрачнея. Госпожа Рефия писала:
«Дорогой мой сын Лёни! Пишу тебе это письмо, а сердце разрывается. Моего сына, а твоего брата Скэндера нет больше в живых. Он погиб в Испании, погиб как герой в борьбе за свободу…»
III
Накануне Нового года всю тюрьму охватил вдруг игорный азарт. Заключенные собирались группами, рассаживались по-турецки на рогожах, и начиналась игра. Играли в карты, старые и засаленные, или в кости. Часто вспыхивали ссоры по самому пустяковому поводу. Иногда они перерастали в грубую перебранку, в драку, но игорная лихорадка не ослабевала.
Однажды вечером даже «политики» не устояли и затеяли игру в карты. Кто-то принес новую колоду, быстро составили партию. Хаки, Хамди и адвокат остались понаблюдать. Лёни, который ничего не смыслил в игре, считал зазорным даже следить за игрой. Ему казалось странным, что такие серьезные люди ведут себя как дети, ссорясь по пустякам.
— Какая все же дрянь эти карты! — сказал Хаки, когда им надоело наблюдать и они вышли из камеры.
— Время надо как-то убить, вот и играют, — сказал адвокат.
— Если тебе не нравится, зачем же ты сидишь и смотришь? — спросил Хайдар.
— А меня не игра интересует, а игроки.
— Чем же? — спросил адвокат.
— В игре человек проявляет свой характер.
— Поясни-ка.
— Человек вообще лучше всего раскрывается, когда его постигает неудача. Обрати внимание, как по-разному ведут себя люди. Слабый теряется, приходит в отчаяние, надоедает всем своими жалобами и нытьем, просит, чтоб его пожалели. Другой, наоборот, становится несносным, заводит ссоры, обвиняя всех подряд. Некоторые клянут судьбу. И только тем, кто умеет владеть собой, удается сохранить душевное равновесие и присутствие духа.
— Ну а карты тут при чем? — снова спросил адвокат.
— Азартная игра что-то вроде лаборатории, где очень удобно изучать характеры. Присмотрись, как они ведут себя. Один поминутно раздражается и превращает игру в скучную перебранку, хотя начинал ради развлечения. Другой сидит как в воду опущенный и своим видом портит всем настроение. У третьего такое грозное выражение лица, что ему не осмелишься и слова сказать. Четвертый принимается жаловаться на судьбу и ругать тех, кто сзади заглядывает ему в карты, будто от них все невезенье. И очень редко встретишь такого, кто лишен всех этих недостатков, так же редко, как и людей, которые, даже проиграв, не слишком расстраиваются, смеются и шутят как ни в чем не бывало. Эти немногие знают, что тот, кто не умеет стойко переносить поражение, не сумеет насладиться и победой.
— А ты что думаешь? — обратился адвокат к Хайдару.
— Он прав.
— То, что ты говоришь, звучит утешительно. Мы вот тут сидим, значит, поражение потерпели.
— Вот и надо быть твердыми, — решительно заявил Хэмди. — Ничего, придет и наше время, и победа придет, правда, Хайдар?
— Придет, Хамди, придет.
— Долго это не может продолжаться, — снова заговорил Хаки. — Никто не давал Албанию на откуп Ахмету Зогу.
— А он меж тем династию собирается создать, хочет закрепить свою власть, — заметил адвокат.
— Поздно спохватился. Албания-то вся уже распродана. Обратите внимание, что он делает. Вымогает деньги у торговцев и акционерных компаний, вроде как в подарок. Компания «СИТА» дала ему, например, пятьдесят тысяч франков, компания в Селенице — двадцать тысяч, «ЕИАА» — десять тысяч. Ведет себя, прямо как султаны в прежние времена. Разве человек, уверенный в своей власти, станет так действовать? Он понимает, что долго не продержится, вот и старается ухватить побольше.
— Он же объявил, что эти деньги пойдут на приюты.
— Басни. Они уплывут в швейцарские и лондонские банки, как и те миллионы, что он уже успел награбить в Албании.
— Неужто прямо так в открытую и обманывают? — удивился Хайдар.
— Да ведь для Ахмета Зогу народ вроде ребенка. Уже лет десять — пятнадцать прошло, а он все повторяет свои старые обещания, даже одними и теми же словами. Ему и невдомек, что ребенок уже вырос, возмужал и терпеть не может, когда с ним обращаются как с младенцем. Это оскорбляет его. Ахмет Зогу при всей своей тупости иногда и сам понимает это, но иначе поступать он просто не может, ведь только этим и держится. Вместо того чтобы дать народу то, что тот требует: хлеба, работы, свободу, — он издевается над ним. Теперь вот дарит ему, видите ли, королевскую династию, мол, это ему на благо. А то народу не все равно, на ком изволит жениться его высокое величество!
— На таких баснях долго не продержишься, — сказал Хамди.
— Ясное дело. Они же с каждым днем сами себя разоблачают, но однажды переполнится чаша терпения и народ поднимется, вот тогда держись!
— Интересно, а что сейчас поделывает Леле? — проговорил адвокат.
— Какая Леле?
— Бывшая невеста Ахмета Зогу, дочь Шефтета Верляци.
— Чего это ты о ней вспомнил?
— Да так, вспомнилось что-то. Когда Зогу ее бросил, газеты писали, будто она поклялась, что больше никогда никого не полюбит.
— Поклялась, как же, — засмеялся Хаки. — Да она через месяц ровно вышла замуж за другого.
Весть о скором браке его высокого величества вызвала радость среди заключенных, оживив в очередной раз надежды на амнистию.
— Теперь-то уж наверняка.
— Это точно! Если не теперь, так когда же еще!
— Когда свадьба?
— Двадцать седьмого апреля.
— Через два месяца!
— Чепуха! Не будет никаких амнистий! — сердился Хаки. — Ждать у моря погоды, вот как это называется.
— Ну почему не будет? — вмешался адвокат. — Такое событие в жизни Зогу, он просто обязан объявить амнистию.
— Обязан, да не сделает. Ему это совершенно ни к чему.
— Сам посадил нас за решетку, зачем же ему нас выпускать, мало ему без нас хлопот, что ли? — сказал Хайдар.
— К нам в деревню однажды заявился жандарм, — начал Тими, молча слушавший разговор. — Собирает он крестьян и говорит: «Вы, мужичье, а ну-ка, отвечайте, можете вы пёр… в честь его высокого величества или не можете?» — «Можем, как не смочь!» — «Что?! На его высокое величество?» Тут уж кто-то бормочет: «Нет, не будем». — «Ага, значит, не будете!» И так плохо, и так нехорошо. Вот и нам тоже, как ни поверни — все плохо. А ждем все же помилования.
IV
Вехби Лика проснулся в то утро от пушечных выстрелов, возвещавших о начале церемонии. Он надел взятый напрокат фрак и отправился во дворец.
У решетчатых ворот адъютант проверял пригласительные билеты. Перед Вехби Ликой шли двое господ в национальных костюмах. У ступеней мимо них прошагали в две шеренги офицеры в парадных мундирах, при наградах и палашах. В носу защекотало от благоухания одеколона и бриллиантина. Вехби Лика, придя на место, отведенное для журналистов, достал блокнот, чтобы набросать описание зала до начала церемонии.
«Зал широк, просторен, имеет величественный вид, — писал господин Вехби. — По светло-желтым стенам искусно развешаны воинские доспехи, старинное албанское оружие и прекрасные национальные костюмы. Пол устлан дорогими коврами. У стены под большим портретом „Матери нации“ поставлен стол, где будет происходить регистрация брака. По обеим сторонам стола — места для членов королевской фамилии. Во всю длину зала, от самого стола и до противоположной стены, в две шеренги выстроились офицеры, образовав широкий проход. И прямо напротив стола, в дальнем конце зала — место, отведенное для албанских и иностранных журналистов, где я и пишу эти строки».
Господин Вехби раздраженно захлопнул блокнот. Нет, совсем не на этом месте он должен был бы находиться. Ведь обещали же ему когда-то, что помогут подняться по иерархической лестнице, но вот уже двенадцатый год, как он в Албании, а все на той же самой нижней ступеньке: как был жалким газетчиком, так им и остался. Подумать только, всякие бездари и прохвосты будут красоваться на местах, отведенных для членов кабинета, высокопоставленных чиновников и депутатов. Вот где ему следовало бы находиться!
Подняв взгляд, он увидел, что зал быстро заполняется приглашенными. Гости входили непрерывным потоком. Иностранные дипломаты в блестящих, шитых золотом мундирах, при регалиях, их жены в ярких, по последней моде туалетах, сшитых специально к этому случаю, в белых перчатках. Да и местная знать мало чем от них отличалась: элегантные фраки, длинные платья, парадные мундиры, цилиндры, ордена, золотые украшения. В одном углу зала выделялось высшее духовенство, всяк в своем «мундире»: черное облачение муфтия,[70] и православного епископа, зеленая чалма главы бекташийской общины[71] широкий красный кушак епископа католической церкви. Господин Вехби записал у себя в блокноте: «Это собрание духовенства символизирует религиозное единение нации».
Албанцами выглядели лишь представители провинции — беи, байрактары. Здесь была настоящая выставка национальных костюмов: белые юбочки горцев, узкие штаны в обтяжку, шаровары на мужчинах, читьяне,[72] длинные цветастые платья на женщинах, красные и белые безрукавки, черные шерстяные жилетки, бусы, мониста из золотых монет, разнообразные телеши — высокие, приплюснутые, с шишечкой, округлые, — яркая мозаика форм и красок. Неподалеку выделялись национальные венгерские костюмы родственников невесты.
— Кто это разговаривает с женой американского посланника? — обратился к господину Вехби его знакомый.
— Не знаешь?
— Нет.
— Это же Ферид-бей Каменица.
— О! Так, значит, и он приехал!
— Как видишь.
— А рядом с ним кто?
— Нуредин-бей Горица.
Двое во фраках уселись за стол регистрации и разложили бумаги.
Господин Вехби записал: «Вице-председатель парламента и председатель высшего апелляционного суда, первый представляет нацию, второй — закон».
— А почему нет председателя парламента господина Пандели Евангели? — опять спросил знакомый.
— Заболел.
— Надо же! Заболеть в такой день!
Из соседнего зала, где расположился духовой оркестр, донесся гимн. Все вытянулись в струнку. В дверях появилась свадебная процессия во главе с министром королевского двора Сотиром Мартини, тем самым, который всегда «направлял» его высокое величество в «деликатных» делах.
Господин Вехби строчил в своем блокноте: «Благородная дочь Венгрии высока ростом, сияет лилейной белизной, сложена, как олимпийская богиня, прекрасна, как нимфа, величава, как сказочная дева… (Вехби Лика поискал еще сравнение, не нашел)… На ней платье из белого креп-сатина. Шлейф несут принцы Хюсен, Салих, Тати и Шерафедин. Его высокое величество в мундире главнокомандующего, при всех регалиях. Можно различить цепь с орденом Аннунциата, ордена Святого Маврикия и Лазаря и орден Карагеоргевича на широкой ленте… Вслед за новобрачными шествует ее королевское высочество под руку с герцогом Бергамским, затем принцесса Адиле с графом Чиано, остальные принцессы, венгерские гости».
Его высокое величество чрезвычайно серьезен, даже угрюм. Он на двадцать лет старше своей невесты.
— Ваше высокое величество, желаете ли вы взять в жены ее сиятельство графиню Джеральдину Апонюи? — гнусаво прозвучал в наступившей тишине голос вице-председателя парламента.
— Да.
— Желает ли ваше сиятельство взять в мужья его высокое величество?
— Да.
— Именем закона объявляю…
Конец фразы потонул в громе аплодисментов. В соседнем зале грянул оркестр. «Словно сокол, словно лев, словно орел…» — прямо не гимн, а зоологический сад.
С улицы доносится артиллерийский салют, звон колоколов и выкрики муэдзинов.
Новобрачные покидают зал.
Приглашенные беспорядочно толпятся у выхода, стремясь протиснуться вперед.
Вехби Лика бежит вниз по лестнице.
— Прошу вас, господин министр…
— Я вас слушаю…
— Не могли бы вы мне сообщить, какие подарки получены его высоким величеством из зарубежных стран?
Сотир Мартини недовольно морщится, но все же начинает перечислять подарки. Господин Вехби, повторяя вслух, записывает.
— От Венгрии, родины невесты, четыре белых рысака и коляска, два больших ковра из Греции, от господина Муссолини четыре бронзовые вазы, автомобиль марки «мерседес» от канцлера Гитлера…
Во дворе гости из провинций, образовав круг, отплясывают народный танец.
Вехби Лика сунул блокнот в карман и решительным шагом направился к Нуредин-бею, спускавшемуся по ступеням рука об руку с Ферид-беем.
— Здравствуйте, Нуредин-бей!
— Здравствуйте, Вехби-эфенди!
— Как вам понравилась церемония?
— Великолепно.
— Воистину великолепно. Я так взволнован. Ах, извините! Добро пожаловать, Ферид-бей!
Ферид-бей вопросительно взглянул на него и повернулся к Нуредин-бею.
— Позвольте, Ферид-бей, представить вам известного албанского журналиста господина Вехби Лику.
Ферид-бей протянул ему кончики пальцев.
— Я не имею обыкновения читать албанские газеты, бросаю в корзину, но о вас я слышал. Даже что-то читал из ваших репортажей.
— Благодарю вас. Как вам понравилась церемония?
— Неплохо.
— Королева — необыкновенная красавица.
— Признаться, я не питаю особой склонности к красивым женщинам.
— Почему же?
— У красивой женщины, как правило, скверный характер и отвратительное поведение. С самого раннего детства все с ней носятся — как же, красавица, — вот она и начинает мнить о себе бог знает что. Отсюда все зло. Она вырастает спесивой, капризной, легкомысленной пустышкой. Для ее подруг это становятся очевидным уже в трехлетием возрасте, ну а для мужей — в трехсотлетнем.
— Но ведь бывают исключения, Ферид-бей.
— Несомненно. Исключение составляют только холостяки, такие, как мы с вами, Вехби-эфенди.
— Я имел в виду красивых женщин, Ферид-бей. Вот, например, ее высокое величество выгодно отличается от прочих красавиц.
— Разумеется. Отличие состоит именно в том, что она именуется ее высоким величеством.
Нуредин-бей досадливо нахмурился. Ферид-бей никак не может обойтись без своих шуточек и намеков. Ради них он готов на все, у этого человека нет ничего святого. И если в Америке все сходило ему с рук, то здесь такие остроты доведут его до беды. Не увести ли его отсюда?
— Что здесь происходит?
— Танцуют, Ферид-бей, — объяснил Вехби Лика.
Несколько южан, сцепившись за руки, отплясывали под музыку народного оркестра. Танцор, ведущий за собой цепочку, взмахивал платком и время от времени вскрикивал, круто поворачиваясь на месте, так, что разлеталась веером его белая юбочка.
— Кто это?
— Гафур-бей Колоньяри.
— А что за шрам у него на лбу?
— Старая история, Ферид-бей. Один крестьянин его ранил.
— Да что вы! С каких пор в Албании крестьяне стали поднимать руку на беев?
— Ну, такое случается редко, Ферид-бей. Его за это строго наказали.
— Казнили?
— Нет. Посадили в тюрьму, по закону.
— Какой тут может быть закон! А за что он его?
— Вопрос чести.
— Чудеса! Вы действительно думаете, что у мужиков есть какое-то понятие о чести?
Танец кончился, все расступились, образовав широкий круг. Какой-то офицер принес стул. За ним появился долговязый усатый горец в народном костюме, уселся на стул и ударил по струнам чифтели.[73] Потом, вдруг испустив пронзительное и протяжное «хэ-э-эй», запел:
Сколько будет стоять этот свет, Не родится второй, как Ахмет!— Какая прелесть! — воскликнул Вехби Лика.
— Наверно, и разбойничьи песни так начинаются, — заметил Ферид-бей.
— Фишта, наш знаменитый поэт, тоже использовал этот прием.
— Это в духе народной поэзии.
— Вот именно. Так можешь смело петь о любом из нас, и не ошибешься, ведь не родится же второй такой, как я или как вы, например. А как называется инструмент?
— Чифтели.
— Иностранное слово?
— Нет, албанское. От слова «чифт» — «пара». У него только две струны.
— А «чифт» — вроде турецкое слово.
Певца сменили несколько южан в тюляфах с шишечками на макушке. Склонившись голова к голове, они запели без музыкального сопровождения:
Э-э-э-э-э! Будь здоров, наш король, Да хранит тебя господь!— Эта песня может пленить любого, — произнес Ферид-бей.
— Вам действительно нравится?
— Ничуть. Я говорю пленяет в том смысле, что, когда эту песню слушаешь, кажется, будто она никогда не кончится. Зато какое чувствуешь облегчение, когда она все-таки кончается, прямо как будто разрываешь оковы, выходишь на свободу. Вот я и говорю — пленяет.
— Может, пойдем, Ферид-бей?
— Пошли.
— До свидания, Вехби-эфенди!
— До свидания!
Вехби Лика остался стоять, поглядывая по сторонам, не встретится ли еще какой «деятель», у которого можно было бы вырвать словечко для газеты. Кто-то взял его за локоть.
— О, здравствуйте, падре!
— Здравствуйте!
— Как вам понравилась церемония?
— Превосходно! Не могли бы вы напечатать мое стихотворение, посвященное этому событию?
— С удовольствием!
— Благодарю вас. Вот оно.
Патер Филипп сунул ему в руку листок бумага и исчез. Вехби-эфенди с любопытством прочел:
О заны[74] Вермоша! Вы, горные оры,[75] хранительницы очага, Игривые духи тенистых ущелий, пещер, Вы, нимфы лесные, сюда!..— Давайте, давайте сюда! — насмешливо передразнил Вехби-эфенди.
V
Целую неделю после свадьбы его высокого величества по всей Албании творилось нечто неописуемое: сплошные обеды и ужины, завтраки и коктейли, приемы и банкеты, встречи и проводы… Газетам не хватало страниц, чтобы описать происходящее. Обед во дворце, ужин в городском управлении, soiree[76] в офицерском собрании, банкет в отеле «Интернациональ», вечер в кафе «Зорра». Ужины и обеды устраивались в министерствах, префектурах, субпрефектурах, в общинных управлениях, в отделениях жандармерии, в миссиях, консульствах, в кофейнях, в домах у беев и аг…
После зимнего наводнения Албанию захлестнул весенний разлив шампанского и пива. Но на сей раз «пострадавшей» оказалась «элита» страны: министры, сановники, депутаты, префекты, субпрефекты, офицеры, журналисты, торговцы, богачи, знать. Они вставали и ложились хмельные, а если и трезвели немного, то ровно настолько, чтобы разузнать, где следующий прием и как раздобыть приглашение. Они уверяли, что даже сам король не прочь угоститься на даровщинку, а потому вперед! Не пропустим ни одного «дарового стола»!
Вехби Лика подбил директора управления по делам печати тоже устроить ужин по случаю бракосочетания его высокого величества. Он убедил его, что надо воспользоваться приездом известного албанского журналиста Ферид-бея Каменицы и представить ему «элиту страны». Директор по телефону заказал ужин владельцу отеля «Интернациональ», а расходы велел записать на тот же счет, что и за ужин, устроенный накануне для иностранных журналистов.
— Куда тысяча, туда и сотня, — заключил директор.
— Именно так, — поддакнул Вехби-эфенди, подумав про себя: «Куда сотня, туда и тысяча».
Ему очень хотелось показать высокочтимому гостю, что и в Албании есть свой избранный круг, поэтому, кроме журналистов, он пригласил нескольких молодых писателей, группу преподавателей гимназии — их тогда называли «профессорами» — и достопочтенных духовных пастырей из Шкодры во главе с патером Георгием, национальным поэтом. Однако он не пожаловал. Вместо него приехал патер Филипп.
Ферид-бей Каменица подкатил на машине вместе с Нуредин-беем. Вехби Лика подвел к нему директора и некоторых гостей.
— Разрешите представить вам патера Филиппа. Я уверен, вы слыхали о нем!
— Очень рад, падре. Я читал ваши стихи. Они мне понравились.
— Мне тоже, господин Ферид, весьма понравились ваши сатирические стихи.
— Эти стишки, падре, я написал спьяну и совсем не думал, что кто-то будет их читать на трезвую голову.
— Ну почему же, Ферид-бей? Стихи прекрасные, такие острые.
— А я и не говорю, что они дрянь, просто рассказал вам, как они были написаны.
— Разрешите представить вам издателя газеты. Он из «молодых».
— Очень рад. А что это за «молодые», господин Вехби?
— Небольшая группа интеллигентов, Ферид-бей. Мы стремимся к духовному пробуждению народа.
— Вы меня удивляете!
— Чем?
— Да ведь, насколько я могу судить, в Албании нет молодых и старых, просто некоторые родились раньше, другие позже, а душой они все сплошь старики.
— Мы говорим так символически, — пояснил Вехби Лика. — «Молодые» — те, которые борются против «стариков». Мы хотим сделать Албанию западной страной.
— Что-то я слышал об этом, только, знаете, мне кажется, что они сразу лезут в генералы, не отведан солдатской каши.
Вехби Лика растерянно замолчал.
— Разрешите представить вам издателя газеты…
— Очень рад! Вы с кем — с молодыми или со стариками?
— Со стариками. Как вы нашли нашу столицу? — поинтересовался издатель, заводя светский разговор и сам себе отвечая: — Тирана становится современным городом.
— Тирана — современный город? — удивленно воскликнул Ферид-бей.
Издатель замер.
— В цивилизованной стране столицу характеризуют три вещи — оригинальная архитектура зданий, система канализации и культурная атмосфера: театры, художественные галереи, известные учебные заведения, где люди искренне и без боязни посвящают себя служению красоте и поискам духовных ценностей. В Тиране же нет и намека на что-либо подобное. Новые здания безобразны. Канализации нет. А что касается культуры, то в Албании, может быть, и слыхали это слово, да только думают, что речь идет о культивировании капусты, которая им уже надоела.
Вехби Лика досадливо поморщился. С эксцентричным беем совершенно невозможно вести светскую беседу. Все вывернет наизнанку.
— Может, и так, Ферид-бей, — вмешался он, — только не забывайте, Тирана всего десять лет назад была деревушкой и…
— Деревушкой и осталась, — перебил его Ферид-бей.
— Но ныне, в славную эпоху нашего августейшего короля, Тирана приобретает столичный вид, — не сдавался Вехби-эфенди, надеясь упоминанием о короле заставить собеседника замолчать. — У нас действительно пока нет величественных зданий, нет канализации, но интеллигенция, которую вы имели в виду, у нас есть. За последнее время в Албании оживилась литературная жизнь…
— Вы меня удивляете, Вехби-эфенди, — не унимался Ферид-бей. — Да не чувствуется здесь никакой литературной жизни. Произведения албанских авторов убоги, переводов нет, а то, что издается, — не литература, а позор.
— Я с вами не согласен, Ферид-бей. Я вас сейчас познакомлю с несколькими молодыми поэтами и писателями, которые…
— Простите, что перебиваю. — Ферид-бей взял издателя под руку. — Вот только посмотрите на ту толстуху, слышите, как она гогочет, кобыла да и только!
— Это моя жена, — сердито пробормотал издатель.
— Очень рад! Такая очаровательная женщина! А кто вон та, блондинка?
— Жена издателя журнала…
— У издателя журнала — и вдруг такая прелестная жена!
— А что тут удивительного?
— Просто издатели журналов обычно люди неглупые.
— Он как раз очень неглупый человек.
— Вы знаете, красивая женщина не должна выходить замуж, так как она принадлежит всему обществу. Прежде чем жениться на красавице, мужчина, если он не дурак, должен хорошо подумать, чтобы потом не жаловаться, если жена явится домой на рассвете или в спальне вдруг обнаружится пара чужих мужских ботинок. К сожалению, об этом как-то не думают, и вместо красавиц незамужними остаются уродины.
— Женщине красота нужнее, чем ум, — заметил Вехби-эфенди. — Ведь у мужчин глаза работают лучше, чем мозги. Разрешите представить вам молодого писателя, — ва ходу перестроился он.
— Очень рад!
Ферид-бей внимательно посмотрел на юношу, его внешность не внушала симпатии — щупл, остролиц, сероглаз, волосы цвета соломы.
— Я читал кое-что из ваших вещей, — заговорил Ферид-бей. — Но скажите, почему вы пишете о таких мелочах?
— Потому что нам не позволено писать о более важном.
Ответ пришелся по вкусу Ферид-бею.
— Верно подмечено, молодой человек, но ведь нынче нужны глубокие произведения — шедевры, так сказать.
— Шедевров не ждите, Ферид-бей.
— Почему же?
— Потому что у нас критиков развелось больше, чем писателей.
— Вы уверены?
— Сейчас только дураки уверены, а умные сомневаются.
Ферид-бей удивился. Острое слово было его коньком, он привык обескураживать собеседников своими ответами. Но вот стоит человек, который по этой части может вполне состязаться с ним. Ферид-бей открыл было рот, собираясь спросить еще о чем-то, но в этот момент Вехби Лика произнес:
— Дон Луидь, редактор католического журнала… Йовани Лима, молодой журналист.
Представив Ферид-бею еще нескольких, Вехби Лика повел наконец всех к столу, усадив маститого гостя, «знаменосца албанской культуры», на почетное место.
Ферид-бей оказался рядом с патером Филиппом и Нуредин-беем. Вехби Лика, как устроитель ужина, занял место во главе стола, напротив расселись издатели со своими женами, остальные разместились кто где.
Провозгласили тост за счастливых молодоженов, потом за здоровье аса албанской журналистики и культуры. Какое-то время был слышен лишь звон вилок да резкие выстрелы пробок от шампанского. Ферид-бей произнес краткую речь, подняв бокал за «королевскую чету».
— Один вы у нас остались неженатым, Ферид-бей! — сказал Нуредин-бей, чокаясь с ним.
— Господин Вехби тоже холостяк, — заметил издатель газеты.
— И падре тоже, — вставил Вехби Лика.
— Ну ладно мы с господином Ликой, — заговорил Ферид-бей. — Мы, так сказать, холостяки по убеждению, не женимся просто потому, что не хотим, а вот вы почему не женитесь, католическое духовенство?
У патера заблестели глаза. Он любил побалагурить.
— А я вам объясню, Ферид-бей, как было дело. Бог сразу после Адама и Евы создал священнослужителей: попа, ходжу и патера, ну и решил дать всем троим по жене. А они в драку — каждый хотел взять самую красивую. Тогда бог повелел: кто бегает быстрее, тот и будет выбирать первым. Первым прибежал ходжа, да и захватил себе не одну, а сразу две жены. За ним прибежал поп, ему досталась третья. Патер остался ни с чем. Начал он плакаться, а господь говорит ему: «Не расстраивайся, падре, ты прекрасно устроишься с женами обоих».
Все засмеялись, и громче всех толстая дама.
— Замечательно, падре! Ах, я так люблю веселых людей! Падре рассказал нам, почему он не женат, ну а теперь ваша очередь, Ферид-бей, поведать, почему вы до сих пор ходите в холостяках! — потребовала она.
— Я не женюсь потому, что стар, — начал Ферид-бей. — Господь бог, создавая человека, слукавил: когда мы молоды и способны любить — нет ума, а когда умнеем — увы, уже нет молодости.
— Любовь вовсе не зависит от возраста, — раздался вдруг голос прелестной блондинки. — Любовь кружит даже самую гениальную голову. Так Шопенгауэр сказал. — Она явно стремилась показать свою образованность.
— А я вообще не верю в любовь, — заявил Вехби-эфенди. — Что такое любовь? Сказка, которую выдумали поэты и распространяют художники.
— Я с вами не согласен, — вступил в разговор издатель журнала, супруг прелестной блондинки. — Если так, то тогда чем же объяснить, что некоторые нары живут счастливо и дружно долгие годы.
Говоря это, он смотрел на жену, желая показать, что имеет в виду именно себя. Он был уже в очень почтенном возрасте, она — совсем юная.
— Живут, потому что привыкают друг к другу, как привыкаешь, например, к соседям, к друзьям, — не уступал Вехби-эфенди.
— Или как мы привыкли к нашим женам, — добавил супруг дородной дамы.
— Любовь — это просто синоним желания, — сказал Ферид-бей. — Это могучее веление природы, а вовсе не божественный глас души. Сегодня ты любишь одну, проводишь время с ней, а завтра? Где и с кем ты будешь?
— Вот именно. Если любовь существует, то как тогда объяснить, почему люди за свою жизнь имеют несколько любовных привязанностей? Как объяснить, почему муж и жена изменяют друг другу?
— Люди смешивают любовь и брак, в этом все дело, Вехби-эфенди, — ответил Ферид-бей. — А ведь брак не имеет никакого отношения к любви. Жену нам дают, а любовницу мы выбираем сами.
— Ферид-бей, мы, холостяки, абсолютно некомпетентны в проблемах брака, у нас нет аналогичного опыта.
— Не слишком ли много иностранных слов, господин Вехби? — упрекнул Ферид-бей, переводя разговор на другую тему. Его всегда раздражали албанцы, плохо знавшие родной язык и засорявшие его иностранными словами. — Абсолютно, компетентный, аналогичный! Уж говорили бы лучше по-французски.
— Позвольте возразить, Ферид-бей, эти слова уже вошли в наш язык.
— Вот это-то и должно нас беспокоить, господин Вехби. Отвратительные иностранные слова проникают и укореняются в нашем языке с поразительной легкостью и быстротой. Как говорил Франо Барди, здесь одна из причин, почему наш язык все больше засоряется.
— Истинная правда! — поддержал его падре. — Наш язык превращается в какой-то винегрет, албанский пополам с французским.
— А самое ужасное, падре, в том, что большинство наших нынешних служащих и газетчиков не знают ни албанского, ни французского. В этом отношении Албания походит на толпу сумасшедших — всяк несет свое. Есть только один путь — заняться обсуждением языковых вопросов так же серьезно, как мы занимаемся продажей сыра, кражей кур, убийствами из-за угла и доносами. Но это все разговоры. Мы не умеем работать, думать, учиться, у нас все на «авось», нам бы только по кофейням сидеть, в книжной лавке нас не увидишь. Потому-то и ценим плевелы выше зерна.
— Совершенно верно.
— К сожалению, у нас нет единого языка, — извиняющимся тоном сказал Вехби Лика. — Нужен королевский указ, который бы регламентировал языковые нормы.
— Язык указами не создать, — возразил патер Филипп. — Его создают великие писатели. В Италии, например, официальным языком стал язык Данте, в Англии — Шекспира. Так же должно быть и у нас. Нашей нормой должен стать язык величайшего национального поэта Георгия Фишты!
— Почему Фишты, а не Наима? — воскликнул молодой писатель.
В зале стояла тишина, все с большим вниманием следили за разговором.
— Вы что же, считаете Наима поэтом? — удивился Ферид-бей.
— Не просто поэтом, а великим поэтом!
Ферид-бей покачал головой.
— Наим — простой рифмоплет, — отчеканил он так, словно выносил приговор поэту. — Его не то что великим, а даже рядовым стихотворцем и писателем не назовешь! Он вообще не умел писать! Его стишки — сплошная политическая пропаганда, и ничего больше. Образцом для него служили песенки побирушек с Севера, язык какой-то путаный, тягучий — словом, детский лепет.
— Я не согласен с вашей милостью, — настаивал молодой писатель. — Наим — великий стихотворец и прозаик. Недаром его называют албанским соловьем. Его стихотворения разжигали огонь патриотизма, будили албанца от вековой спячки. С его песнями выросло два поколения албанцев, и сколько еще вырастет. Поэзия его и сейчас вдохновляет: читая его, гордишься, что ты албанец. «Имя гордое албанца мне Албания дала». Вот каков Наим!
— Кто хочет позабавиться, пусть прочтет «Рай» Наима Фрашери. — Ферид-бей повернулся к патеру, давая понять, что больше не удостаивает своим вниманием этого молокососа. — Это все равно что пообщаться с сумасшедшими, мысли и слова такие же бессвязные, абсолютно ничего не означающие. Представьте себе, он утверждает, будто албанцы были созданы раньше самого Адама!
— Наим хотел подчеркнуть древность нации, — живо возразил юноша, не обращая внимания на своего приятеля, который дергал его за полу пиджака. — Для стихотворца это позволительно. Он же не Ветхий завет писал! А потом, ведь и Адам — плод фантазии, легенда, не подтвержденная наукой, так что…
Патер Филипп, побагровев, вскочил на ноги.
— Вы, молодой человек, я уверен, не читали Священное писание, поэтому не говорите о том, чего не знаете!
— Я его читал.
— Оставьте, падре, не связывайтесь с ним, — успокаивал Ферид-бей. — Я знал, что в Албании есть люди, не умеющие писать, но, теперь вижу, некоторые здесь даже и читать не умеют!
Юноша вспыхнул, но не сдался.
— В Албании, господа, много людей, умеющих не только писать и читать, но и думать! — отпарировал он. — Просто иногда, как я вижу, люди на склоне лет снова начинают вести себя как дети. Les extremes se touche.[77]
В зале воцарилась напряженная тишина. Вехби-эфенди растерялся. И зачем только он пригласил этого заносчивого мальчишку? Что делать — прогнать его или доложить завтра Мусе Юке, пусть проучит его как следует?
Положение спас Нуредин-бей. Он поднялся с бокалом шампанского в руке, веселый, словно ничего не произошло.
— Господа! Давайте оставим этот спор. Ферид-бей любит поспорить, ты ему слово, он тебе два, но сегодня мы собрались, чтобы повеселиться и выпить за здравие новобрачных. Выпьем же за них! До дна!
Все встали, принялись чокаться.
— Собирай вещички, готовься в Порто Палермо, — прошептал дерзкому юноше приятель.
— Ну почему ты такой простофиля? — сердился второй.
— Простофиля, говоришь? Это потому, что я говорю вслух то, что вы думаете про себя, да боитесь сказать?
— Совсем нет, но куда тебе тягаться с ним! Ведь он же умница, каких мало!
— Да уж действительно, был бы умницей, если бы не был так уверен, что он редкостный умница.
— Ты своими подковырками ничего не добьешься. У него меткий глаз и острый язык.
— Ну и что? Должно же у человека быть что-то святое, убеждения, которые он не станет высмеивать! А если у него ничего нет за душой, если ему все равно, над чем насмехаться, то он ничего не стоит, пусть он самый умный-разумный!
— Ты прав. Высмеивать, конечно, можно, но для нас это не самоцель. А он ради острого словца сам себя поднимет на смех.
— Ну, над собой-то пусть смеется, а над Наимом не позволю!
— Правильно ты его! — одобрительно сказал приятель, что сидел напротив.
— Правильно, неправильно, а сегодня вечером собирай вещички! — засмеялся другой.
— Давайте выпьем за наше здоровье, за королевскую чету и так уже много пили.
Во главе стола разговор принял иное направление.
— Я слышал, Ферид-бей, вы помирились с епископом.
— Да, падре. Мы с епископом всегда сможем понять друг друга, потому что говорим на одном языке. Оба мы убеждены, к примеру, что человек, написавший музыку к «Дон-Жуану», сделал для людей гораздо больше, чем изобретатель телефона.
— Вы глубоко правы. Духовные ценности выше материальных. Вот этого не может уяснить современная молодежь Албании.
— Потому и необходимо создать круг избранных, интеллектуальную элиту, чтобы она повела народ к духовному возрождению, — проговорил Вехби Лика.
— Наших интеллигентов больше покер интересует, нежели вопросы культурного возрождения, — посетовал издатель журнала, супруг очаровательной дамы.
— Надо как можно скорее создать организацию зогистской молодежи. Она займется такими интеллигентами, — сердито заявил издатель газеты, супруг полной дамы.
— Такие проблемы не решаются насильственным путем, — возразил Ферид-бей. — Больше школ, больше книг — вот что нам нужно.
— Ну, что касается школ, то здесь мы тоже не сидели сложа руки, — снова заговорил Вехби Лика. — Ныне, в славное время нашего августейшего короля, у нас стало больше школ и больше книг, не так ли, падре?
— Так-то оно так, господин Вехби, — с иронией ответил патер Филипп. — Только что же получается? То у нас школ не было и, естественно, было много безграмотных. Теперь школы есть, а безграмотных стало еще больше. Возьмем книги. Раньше не читали, потому что нечего было читать, сейчас есть, что читать, да не читают!
— Браво, падре! — засмеялся Ферид-бей. — Вообще, мне кажется, господа, Албания больше всего нуждается в юморе. Нужна атмосфера свободного общения, обмена мыслями.
— По ведь у нас под покровительством его высокого величества царит именно такая атмосфера. Вот, например, у нас полная свобода печати, — затараторил Вехби Лика. — Запрещается лишь затрагивать короля, королевскую фамилию, критиковать правительство и его внешнюю политику, а обо всем остальном можно писать сколько угодно.
— Когда Насреддина собирались казнить, ему сказали: «Мы только голову с тебя снимем, а до остального и не дотронемся!» — неожиданно вмешался молодой писатель.
Все прыснули со смеху.
— Ну все, Порто Палермо тебе обеспечен, — прошептал приятель.
— Да оставь ты Порто Палермо, подумаешь, это тоже Албания, — возразил другой, сидевший напротив.
— За правду я готов в ад, не то что в Порто Палермо.
Когда с ужином было покончено, между «молодыми» и «стариками» вновь разгорелся спор о жгучих проблемах албанского народа. Хотя можно ли сказать «разгорелся»? Говорили так спокойно и мирно, словно и не были решительными противниками.
Разговор начал Вехби-эфенди, не упускавший случая выразить свой верноподданнический восторг.
— Мы в последнее десятилетие движемся гигантскими шагами по пути цивилизации. Его высокое величество трудится не покладая рук, пытаясь вывести из отсталости нашу страну. Но что поделаешь, народ — это темная, забитая масса. А если добавить к этому все те пороки, которые мы получили в наследство от Турции, то можете себе представить, как трудно нашему августейшему монарху. Я прочел как-то статью Люмо Скэндо, он хорошо сказал о пашем положении: «Многовековое турецкое господство умножило наши пороки и уменьшило достоинства. Оно усугубило такие качества, как леность, грубость, фанатизм. Мы продавали себя за грош и губили других за еще меньшее вознаграждение. Албанец деградировал совершенно…»
— Неправда! — перебил патер Филипп. — Албанцу свойственны прекрасные качества: верность слову, мужество, гостеприимство…
— Сказки! — вмешался супруг полной дамы. — Где вы нашли верность слову? Да будь у албанца хоть тысяча расписок, заверенных нотариусом, все равно извернется, а слово нарушит. Он ни с кем не считается, кроме самого себя, а нищета его только от лени.
— Вот и надо встряхнуть его, вывести из многовековой отсталости и цивилизовать, — сказал Вехби-эфенди.
— От цивилизации еще больше вреда албанцам, — заметил супруг очаровательной дамы. — Она подавляет народные обычаи. Все наши пороки мы в основном импортируем из-за границы.
— В этом вы правы, — согласился патер Филипп. — Необходимо сделать все, чтобы сохранить национальные обычаи. Законы наши должны соответствовать обычаям, традициям и неписаным законам горцев.
— На обычаях да неписаных законах далеко не уедешь, — заметил молодой журналист Йовани Лима. — Быстрее приобщаться к европейской цивилизации — вот что нам нужно.
— Цивилизация — дело времени, — возразил издатель газеты. — К чему спешить? Чуть раньше, чуть позже — какое имеет значение? Главное — терпение и выдержка. А то, пожалуй, и шею недолго сломать.
— Но ведь Албания так отстала. Если двигаться, как мы…
— Я вас понимаю, молодой человек. Албания действительно отсталая страна, но вперед она может идти, только совершенствуя органы управления. А без старых, опытных чиновников с места не сдвинешься. Без них Албания пропала бы.
— Мы, «молодые», не согласны с вами. Ведь мы не знаем, что старых чиновников ничто не волнует, кроме жалованья, — заговорил Йовани Лима. — Idareyi maslahat[78] да сидеть сложа руки — вот весь их опыт. Кому только они не служили за последние тридцать лет! Любому, кому удавалось здесь обосноваться! Люди боятся обращаться в государственные учреждения, потому что наши чиновники любое дело завяжут в такой узел, что и не развязать. Молодежь — вот кто нам нужен, только она может привести страну к цивилизации.
— Истинная цивилизация — цивилизация духа, и с этой точки зрения в Албании среди старого чиновничества больше просвещенных людей, чем в любой другой стране, — гнул свое издатель газеты.
— Какая может быть просвещенность у людей, которые тридцать лет тому назад закончили университет в Стамбуле и с тех пор ни разу не взяли в руки книгу?
— Если вы подразумеваете под цивилизацией оголенных женщин, как в Европе, то такая цивилизация нам не нужна. Паранджа для наших женщин теперь не символ бесправия, а заслуживающий уважения обычай…
— Вы глубоко правы! — поддержал патер Филипп. — Нам надо сохранять наши обычаи и традиции. Албанец по природе своей консервативен, именно традиция и спасла его от ассимиляции.
— Я согласен, традиции надо оберегать, но против ориентализма надо бороться! — энергично заявил дон Луидь, редактор религиозного журнала.
— Что вы имеете в виду?
— Это целое мировоззрение, жизненная философия, кратко выраженная в трех пословицах.
— В каких же?
— Первая: «По-собачьи живем, зато песни поем». Вторая: «Я пихнул тебя, ты пихнул меня — все равно из грязи не вылезти».
— А третья?
— «Где бы ни упасть, лишь бы не убиться».
— На этот счет есть латинская пословица, еще выразительнее: «Ubi bene ibi patria»,[79] — добавил патер Филипп.
— Хотите, расскажу, какие наказы давал сыну один председатель общинного управления? Ты, говорит, сынок, все, что читал в книжках, позабудь навсегда. Если хочешь, чтобы тебя считали хорошим чиновником, чтобы тебя хвалили и повышали, корми просителей одними обещаниями, а дела клади под сукно — пусть себе ходят. Apres moi le deluge[80] — таково общее настроение.
— Самое ужасное у нас — полное равнодушие, даже апатия интеллигентной молодежи, — вступил в разговор Нуредин-бей.
— Это оттого, что у нас настоящее вавилонское столпотворение, — заметил супруг полной дамы. — Наша интеллигенция делится на группы по странам, где получила образование. Вот у нас и появилась дойчкультура, римская культура, парижская…
— Большинство наших специалистов — всего лишь недозрелые плоды европейских университетов, — поддержал супруг очаровательной дамы. — Они и учились-то с единственной целью — получить диплом «bon pour l'Albanie».[81]
— Вся беда в том, что мы переживаем переходный период, наши вчерашние идеалы устарели, а новых еще нет, — сказал редактор религиозного журнала.
— Идеалы короля — вот наши идеалы, — отчеканил Вехби-эфенди. — Дать нации единую душу — наша главная задача. А это может сделать только элита.
— Уж лучше духовная анархия, чем такое единство взглядов и помыслов, которое не обеспечивает никакого прогресса, — заметил издатель газеты.
— Ну, что касается анархии, так этого у нас хоть отбавляй, — сказал патер Филипп.
— Вы правы, падре. А что касается взглядов, то Албания — настоящая психиатрическая больница, — опять ухватился за свое Ферид-бей.
— Единство в вере. Только вера может объединить албанский народ, — заявил патер Филипп.
— Она может лишь разделить нас на три части, — возразил Йовани Лима. — Экономический подъем — вот что нам нужно. Народ голодает.
— Народ чувствует физический голод лишь потому, что обнищал духовно. А ведь духовная пища важнее плотской, — продолжал патер Филипп.
— Надо брать пример с немцев, — сказал редактор религиозного журнала. — Немецкий народ тоже находится в состоянии деградации, пока не пришел Гитлер, который возродил его и вылечил. Теперь немцы совершают чудеса.
— Народ, как ребенок, требует заботы мудрых воспитателей, иначе он пойдет по плохой дорожке.
— Да-да. Историю делают выдающиеся личности. Судьбу Албании должна взять в свои руки избранная молодежь.
— Почему же именно молодежь?
— Потому что старики давным-давно свыклись с нашей затхлой атмосферой, с лицемерием, иначе они уже не могут. А пока во главе стоят рутинеры, Албания не сдвинется с места.
— Совершенно верно, — поддержал Вехби-эфенди. — Надо раз и навсегда сдать в музей эти живые трупы, этих заплесневевших типов, которые повинны во всех бедах Албании.
— Прошу без оскорблений, — обиделся супруг полной дамы.
— Господа, не забывайте, что мы собрались по случаю торжественного события, а посему давайте еще раз поднимем бокалы за новобрачных! — И Нуредин-бей снова встал с бокалом в руке.
Все выпили, и спор утих. Согласие было восстановлено.
— Судя по всему, дебаты закончились, — заметил приятель молодого писателя.
— Я так и не понял, в чем они несогласны друг с другом? — сказал другой.
— А с чего ты взял, что несогласны? — спросил молодой писатель.
— Из-за чего же тогда сыр-бор?
— Из-за кости — кому достанется.
Ужин кончился глубокой ночью. Ферид-бей, хотя немало выпил, держался на ногах вполне устойчиво.
— Давай попрощаемся, — протянул он руку молодому писателю, проходя мимо него. — Хотя мы и расходимся во взглядах, это не значит, что мы против друг друга. Пусть гомеровские герои служат нам примером — они бранились и снова сходились как ни в чем не бывало. У тебя, молодой человек, закваска настоящего плута, и, помяни мое слово, ты или станешь большим человеком, или окажешься в тюрьме за какую-нибудь проделку.
— Скорее всего, за свой язычок, — сказал Нуредин-бей.
— Почему же?
— Да потому, что я не желаю идти против совести и чести, — ответил им молодой писатель.
VI
Атмосфера праздника проникла даже в стены тюрьмы. Ахмет Зогу и в самом деле не объявил амнистии, что еще сильнее озлобило заключенных, клявших его на чем свет стоит. Но кто-то прислал в тюрьму подаяние: жареного мяса, муки и сахару, так что в день бракосочетания заключенные наелись досыта. Некоторые даже шутили, что-де и они попробовали угощения со стола его высокого величества. Вечером сквозь зарешеченные окна смотрели фейерверк, слушали галдеж на улицах, где маршировали строем учащиеся тиранских школ, — потом разошлись по своим камерам, и в тюрьме воцарилась будничная тишина.
Около полуночи в камере Лёни вдруг услышал стоны и крики деда Ндони, все повскакали и сгрудились около несчастного старика. Тот кричал от боли, скорчившись и прижав руки к животу.
— Помогите, умираю!
— Что с тобой, дед Ндони?
— Живот скрутило! Ох!
— Может, объелся?
— В рот ничего не брал! Ох, я несчастный!
— Он и вправду ничего не ел, — вспомнил Тими. — Даже не притронулся, ему уже тогда было невмоготу. Я его спросил, почему не ест, а он мне в ответ: «Живот болит». Я ему говорю: «Нашел время болеть животом». А он мне говорит: «Как раз по праздникам у бедняков и болит живот».
— Надо бы сообщить начальству, — предложил Рамазан.
— А что оно сделает, начальство-то?
— Доктора позовет.
— Верно, сходите кто-нибудь, скажите начальнику, — распорядился Хайдар.
Ильяз из Скрапара направился к двери и на пороге столкнулся с Хаки, Хамди и адвокатом.
— Что случилось?
— Дед Ндони.
Адвокат подошел к больному и стал ощупывать у него живот.
— Где у тебя болит, дед Ндони? Тут? Тут?
— Тут! — вскрикнул дед Ндони.
— Кажется, у него аппендицит, — хмуро сказал адвокат. — Его надо срочно в больницу.
— Ильяз пошел к надзирателю.
— Вот он идет.
Надзиратель, взглянув на больного, спросил:
— В чем дело?
— Ты что, не видишь?
— Объелся. Дорвался до мяса. Жрут как свиньи, а потом орут, что живот болит.
— Ты это брось! — сказал адвокат. — Отправляй его в больницу.
— Без разрешения начальника нельзя.
— Сообщи начальнику.
— А где я его найду?
— Дома.
Надзиратель передернул плечами.
— Слушай, позвони в больницу, пусть пришлют врача, — сказал Хаки.
— Не знаю… Утром позвоним.
— Утром будет поздно.
— Иди делай, что тебе говорят, — приказал Хайдар.
— А что сказать?
— Скажи, лопнул аппендикс.
— Апанди… апандри…
— Скажи слепая кишка, — перебил его адвокат.
Надзиратель, кивнув, лениво и неохотно пошел.
Хамди с Ильязом остались дожидаться у входной двери. Через час надзиратель воротился и сообщил, что в больнице нет сейчас ни одного врача. Все на вечере в городском управлении.
— Как же так! — возмутился Хамди. — Должен быть дежурный врач! Скажи, пусть позовут дежурного врача!
Спустя еще два часа из больницы сообщили, что дежурный врач прийти не может. Он с медсестрами выпил лишнего за здравие королевской четы и был отправлен домой.
Дед Ндони умер под утро.
Все в бессилии наблюдали, как он дернулся в последний раз, пробормотав сквозь слезы:
— Бедные мои дети! О господи, что с ними будет?
Хайдар сложил ему руки на груди и, вытащив из-за пояса большой платок, подвязал челюсть. Второй платок он взял у Рамазана и связал им ноги мертвеца.
Заключенные постояли некоторое время молча.
— Бедный дед Ндони! Такой был смирный.
— Хороший был человек.
— Сколько у него детей?
— Семеро.
— Так много!
— И что же с ними теперь будет?
На этот вопрос не мог ответить никто.
К обеду появилось двое надзирателей с носилками. Они наклонились, чтобы поднять покойника за ноги и за руки и швырнуть на носилки, но Хайдар остановил их. Он постелил на носилки старую бурку деда Ндони и сделал знак Лёни. Вдвоем они осторожно, словно боялись причинить ему боль, опустили тело на носилки. Хайдар стянул со своей постели серое солдатское одеяло, и накрыл покойника.
— Давайте, друзья, проводим деда Ндони, — предложил Хаки.
Он, Хайдар и еще двое заключенных подняли носилки на плечи и пошли.
В камере собрались почти все заключенные тюрьмы. Они расступились, давая дорогу, и молча двинулись следом за носилками.
Шли медленно, словно стараясь отдалить момент расставания со стариком; носилки несли поочередно.
У выхода остановились, ожидая надзирателей, еле пробравшихся сквозь молчаливую толпу. Дверь открылась, надзиратели взяли носилки.
Дед Ндони вышел наконец из тюрьмы.
Заключенные молча разошлись по камерам. Говорить не хотелось. Как знать, может, и им суждено выйти из тюрьмы так же?
Лёни в тот день было очень тоскливо. Хаки, хотя и заметил это, не пытался по своему обыкновению отвлечь его. Он и сам сидел понурившись.
— Бедный дед Ндони! — проговорил Тими. — Ему всего два месяца оставалось.
— Правда? Как жаль! — сказал адвокат.
— Он дождаться не мог, все дни считал. Еще два месяца, говорит, и вернусь к ребятишкам. Скучал по ним — страсть.
— Странная штука жизнь, — в раздумье проговорил адвокат. — Ее начинаешь по-настоящему ценить, только когда сталкиваешься со смертью. Увидишь смерть и спрашиваешь себя, что же такое жизнь? Откуда ты пришел и куда уйдешь? А когда все идет своим чередом, так об этом не думаешь.
— Просто жизнь сильнее смерти.
— Жизнь всеобъемлюща, смерть лишь ее составная часть.
— Перед лицом смерти мы понимаем цену жизни, а в неволе — цену свободы.
— Все относительно, — проговорил Хаки. — Что такое свобода? Для нас свобода — выход из тюрьмы, а для тех, кто на воле…
— Свобода — понятие философское, — сказал адвокат, — она и не может быть одинаковой для всех.
— В том-то и беда, что философские определения свободы слишком заумны, непонятны. Их при желании можно истолковать и так и этак. Недаром тираны громче всех кричат о свободе.
— Говорят, что философией можно заниматься лишь на сытый желудок. По-моему, это не так. Размышлять о смысле существования как раз и любят больше всего бедолаги, неудовлетворенные жизнью. Вот мы, например, много ли думали о том, что такое свобода, пока не оказались за решеткой?
Хаки пожал плечами. Адвокат рассуждал:
— В былые времена люди, стремясь сосредоточиться на духовном, трансцендентном, постились, уходили в пустыню, уединялись в пещерах, умерщвляли плоть… Сейчас утверждают противоположное — мыслить об отвлеченных предметах способен лишь человек сытый и обеспеченный всем необходимым. А по-моему, и то и другое ерунда. Первые, намучившись, приходят к выводу, что жизнь не стоит и грота, а вторые, даже не вкусив жизни как следует, тоже объявляют, что она ничего не стоит.
— Конечно, не стоит мучиться, чтобы прийти в конце концов к неверному выводу, — сказал Хаки. — Поэтому я пустынников не одобряю, но и современных философов тоже, и все-таки второй путь вернее, ведь так?
— Опять в философию ударились? — вмешался Хамди.
— У нас в деревне был один ученый, — начал Тими. — Звали его Козма. В Афинах учился. Умный был, ничего не скажешь. Так вот он каждую недолго ходил на кладбище. Придет, сядет и сидит там часа два. «И чего ты, Козма, ходишь на кладбище? — спрашивают люди. — Ведь у тебя там никто из родственников не похоронен». — «Неважно, — отвечает, — человеку полезно иногда посидеть на кладбище, о смерти подумать. Это делает его лучше, очищает от скверны».
— Правильно говорил, — одобрил Хайдар. — Вот умер дед Ндони, а мне теперь так горько становится, что мы мало ему помогали, ведь могли бы и больше. А если б мы не ладили, если бы разругались?
— Здесь ни одного не найдешь, кто бы хоть раз поссорился с дедом Ндони, — сказал Тими. — Хороший он был. Это сразу было видно, как на него посмотришь.
— Недаром говорят: лицо — зеркало души, — вставил Хамди.
— Если бы это было так, — возразил адвокат, — то сколько красавцев стали бы уродами.
— Он был страдалец, — заметил Хайдар.
— Кончились теперь его страдания. Так что правильно у нас делал один старик, — снова вспомнил свою деревню Тими. — Нищий был, а ничего-то ему не нужно было, ни денег, ни одежды, ничего. Знаете, как он говорил: «У меня все есть. Солнышко меня греет, цветочки вон цветут, детишки гомонят, по ночам звезды светят… Друзья есть верные, не бросают меня, хоть люди надо мной и смеются… А самое главное, видишь, какой мир наш большой и лет человеку отпущено много…»
— Это все относительно, — сказал Хаки.
Прошел и этот печальный день. Тюрьма снова погрузилась в свои обычные заботы.
В последних числах мая выпустили Хамди. Его вызвали к начальству и сказали, чтобы готовился к выходу из тюрьмы. Покончив с формальностями, Хамди вернулся в камеру за вещами. Взял он лишь носильное белье. Стали прощаться.
— До свидания, Хайдар! — Добрый горец пожал ему руку, притянул к себе.
— Не забывай нас, Хамди!
— Никогда не забуду, Хайдар. До свидания, Халим. Будьте все здоровы, друзья! До свидания, Лёни!
Они проводили его до выхода, постояли, пока он вышел, помахав им рукой, и возвратились в камеру, молчаливые и подавленные, как в день смерти деда Ндони.
— Странно, радоваться надо, а мы грустим, — сказал адвокат.
— Нет, мы рады за Хамди, только жаль расставаться, — пояснил Хаки.
— А по-моему, мы просто эгоисты: расстроились, что не нас освободили.
— Ничего, и нас освободят.
— Вас-то да, а вот меня вряд ли.
— Выпустят и тебя, джа Хайдар.
— Вряд ли, Халим.
— Да тебе всего два года осталось!
— Я боюсь того дня, когда меня выпустят.
— Почему?
— Тот, кто меня сюда посадил, наверняка будет меня подстерегать.
— Неужели он такой подлый?
— Да уж от него благородства не жди.
— И как это ты оставил в живых этого зверя…
— Мы с Лёни поторопились. Вроде оба не из робкого десятка, да вот ума не хватило, — улыбнулся Хайдар.
Лёни уже знал, что в тюрьму Хайдара Кочи привела родовая вражда с Абазом Купи.[82] Однажды Хайдар выстрелил в него на базаре в Круе, но попал в жандарма, бросившегося к нему. Сам Абаз спрятался под стойку в кофейне. Жандармы открыли стрельбу. Раненого Хайдара разоружили. За ранение жандарма его приговорили к восьми годам тюрьмы.
VII
Нуредин-бей вылез из машины и осмотрелся. Шумели сосны, в лицо пахнуло свежестью. Он глубоко вдохнул, и в легкие хлынул чистый воздух.
Действительно очень красивое место. Недаром его высокое величество приезжает сюда каждое лето отдохнуть после морских купаний в Дурресе.
Остальные приглашенные, во фраках, цилиндрах и котелках, стояли кучками, разговаривая, на поляне у родника. Трое жандармов отталкивали подальше от господ любопытных крестьян, которым непременно хотелось посмотреть, что тут происходит.
Все было готово, но дело застопорилось из-за королевского духового оркестра. Он отправился сюда еще вчера на военном грузовике, да, видно, застрял где-то в пути.
Нуредин-бей подошел к министрам.
— Bonjour, — поздоровался он с министрами.
— Bonjour.
— Почему не начинаем, господин министр?
Господин Муса Юка, нахмурив брови, неохотно ответил:
— Да эти чертовы дудочники еще не приехали.
— Да вот они! — воскликнул кто-то.
Действительно, на шоссе, спускавшемся к источнику, показались «дудочники» — они шли пешком, в расстегнутых мундирах, потные и распаренные от жары, и тащили свои инструменты: кто на себе, а кто и волоком. Как выяснилось, военный грузовик с бесконечными остановками довез их до Круи, а утром окончательно сломался и их высадили в нескольких километрах от источника. Бросившийся навстречу музыкантам офицер делал им отчаянные знаки остановиться поодаль, но они, не обращая на него никакого внимания, с пересохшими от жажды губами рванулись к воде. Несколько громогласных приказаний, и вот они кое-как построились, пытаясь застегнуться и стать по стойке «смирно». Раздался звук трубы. Музыканты двинулись строевым шагом, потом остановились. Дирижер обернулся, ожидая знака. Кто-то взмахнул рукой. Оркестр грянул гимн его высокого величества. Среди сосен заметались перепуганные птицы. Какой-то офицер опрометью кинулся к оркестру. Гимн оборвался беспорядочным всплеском звуков, закончившимся глухим ударом барабана. Оказывается, господа министры еще не собрались. Команды: «Внимание!» «Смирно!» Дирижер застыл с поднятыми руками и свернутой набок шеей: он снова ждал сигнала.
Наконец сигнал подан. Господа снимают цилиндры и прикладывают руку к сердцу — это приветствие по-зогистски. Жандармы отдают честь. Министр, взгромоздившись на ящик, достает из кармана листок и начинает речь:
— Дамы и господа!
Мы имеем счастье находиться у нового величественного сооружения, которое как бы символизирует еще одну ветвь в венце заслуг нашего августейшего монарха, нашего гениального короля, великого Зогу. (Аплодисменты.) Сегодня, по случаю десятилетия провозглашения монархии, мы открываем новый источник, который будет освежать путников, осененный именем лучезарнейшей Матери Нации. Грядущие поколения, глядя на это сооружение, пожелают ее душе блаженства в благолепнейших уголках рая.
Это важный плод нашего прогресса под гениальным руководством его высокого величества. Давайте же вспомним все, что было создано стремительными темпами с тех пор, как его высокое величество укрепил государство и обеспечил порядок в стране. За это десятилетие были проложены дороги: Тирана — Ндроть, Пука — Тяф Мали, Буррель — Бургайет. Построены мосты: Дёльский, Мулэтский, Лянский и Боршский. Воздвигнуто одно из прекраснейших сооружений города — королевская вилла в Дурресе, снабженная всеми элементами современного комфорта: центральным отоплением, водопроводом, электрическим освещением, а также автоматической телефонной связью. За последние десять лет построены также следующие крупные объекты: в Шкодре — казармы имени Скандербега и два армейских склада, в Эльбасане — казарма «Краста» и тоже два армейских склада, в Гирокастре приспособлена под тюрьму прекрасная старинная крепость. В Бурреле воздвигнуто здание жандармерии и новая тюрьма. И наконец, сегодня мы открываем вот этот источник, еще одно сооружение его высокого величества, второй источник после Богского, украшающего курорт. (Аплодисменты.) Таковы, дамы и господа, колоссальные достижения, характеризующие благословенную эпоху его высокого величества. (Аплодисменты.) Этих достижений мы добились, дамы и господа, благодаря тому, что во главе албанского народа стоит гениальный король, чутко прислушивающийся к требованиям времени, самый выдающийся деятель Албании за последние столетия, путеводная звезда, взошедшая на албанском небосводе среди светящейся туманности, которую представляют собой души людей, преданных идеалу. (Аплодисменты. Выкрики: «Да здравствуют король и королева».)
По сему случаю, дамы и господа, наш долг — выразить свою признательность фашистской Италии, нашей великой союзнице, и великому дуче. (Выкрики: «Да здравствует наша великая союзница!»)
По окончании речи девочка в народном костюме на подносе подала министру ножницы, и тот разрезал ленту. Муфтий Тираны воздел руки к небесам и, пропев по-арабски суру, закончил по-албански: «Помолим же аллаха ниспослать блаженство душе Матери Нации в высочайших сферах рая и долгой жизни королю и королеве! Аминь!» Его преосвященство епископ, сложив пальцы щепотью, осенил крестом источник и его чистую воду. Во время процедуры освящения он бормотал что-то по-гречески, а закончил тоже по-албански: «Благослови, господи, это великое творение нашего августейшего короля!»
Его превосходительство министр наполнил стакан водой из источника и поднес ко рту; оркестр заиграл военный марш.
Едва церемония закончилась, как все опрометью бросились на лесную поляну, где были накрыты столы. Нуредин-бей презрительно наблюдал, как его коллеги потрусили к поляне. Несколько господ, судя по всему газетчики, стянув жареного барашка вместе с вертелом, бодро тащили его к своему столу. Кто-то нагрузился бутылками с шампанским, неся их во всех карманах, под мышками и в руках.
«Руководители нации, а людьми так и не стали, — подумал Нуредин-бей. — С собственным желудком не совладают. Можно подумать, с голоду помирают, а ведь каждый день нажираются как свиньи».
Нуредин-бей неторопливо направился к поляне, где все давно уже расселись по местам. Неожиданно его чуть не сшиб Вехби Лика, пятившийся задом, чтобы сфотографировать своих коллег, уютно усевшихся по-турецки вокруг барашка, с вилками и ножами наготове.
— Пардон, Нуредин-бей.
— Что это вы делаете, Вехби-эфенди?
— Снимаю для газеты. Получится прекрасный репортаж. Вы знаете, мы поспорили, кто больше съест.
— Ну, давайте, давайте.
И Нуредин-бей двинулся к столу, за которым сидели министры.
— Простите, Нуредин-бей, — окликнул его Вехби Лика. — Вы позволите мне вас запечатлеть? На фоне этих великолепных сосен выйдет такой снимок! Можно?
— Пожалуйста.
— Позвольте один вопрос. Скажите, на какой пост назначил вас его высокое величество? Это нужно для подписи под фотографией.
— Лучше не помещайте мою фотографию в газете, Вехби-эфенди, — помрачнел Нуредин-бей.
— Но почему же? Это большая честь для моей газеты! Я могу написать, скажем, так: «Наш бывший посланник…»
Нуредин-бей удалился, не дослушав.
Перед ним с поклоном остановился официант. Гафур-бей, взяв за локоть Нуредин-бея, потянул его к стулу рядом с собой.
— Пожалуйста, сюда, Нуредин-бей.
— Почему я тебя раньше не заметил, Гафур-бей?
— Я только что приехал. Машина испортилась по дороге.
— Какая неприятность! Обратно поедем на моей машине. Мне одному скучно.
— Хорошо, поедем, Нуредин-бей. Я тоже скучал один в дороге. Ты видел его высокое величество?
— Нет, он еще не вернулся. Ты не знаешь, когда он приедет?
— Не знаю, Нуредин-бей. Может, в конце месяца.
— Джафер-бей говорит, что он может задержаться до самого ноября.
— Все может быть.
Нуредин-бей нахмурился. Он не одобрял столь долгого отсутствия короля. Вот уже четыре месяца, как король отправился в свадебное путешествие на яхте вдоль побережья Адриатики.
— Затянулся медовый месяц! — пробормотал он про себя.
— Что поделаешь, Нуредин-бей, — так же тихо сказал Гафур-бей и пропел еле слышно:
Ах, тяжела же ты, страсть, Да на старости лет…Да ты пей, Нуредин-бей. Твое здоровье!
— Как ты думаешь, не смогу ли я с ним увидеться до возвращения?
— Вряд ли, Нуредин-бей. Он никого не принимает, кроме премьер-министра и господина Мусы Юки.
Нуредин-бей помрачнел еще больше.
— Да ты не расстраивайся! Что такое два-три месяца? Давай за твое здоровье!
VIII
Нуредин-бею не пришлось ожидать три месяца. Король вызвал его на специальную аудиенцию в начале октября.
Нуредин-бей с некоторой робостью входил в кабинет Ахмета Зогу. Целых десять лет он провел в Европе в качестве посланника короля албанцев, десять спокойных лет вне поля зрения своего хозяина, избавленный на весь этот срок от его прихотей и капризов. Интересно, зачем он отозвал его на родину? Что это: прихоть, чьи-то козни или король действительно нуждается в нем?
«Международное положение очень осложнилось, — размышлял Нуредин-бей. — Может быть, он на самом деле нуждается в моих советах? На какой пост он меня назначит? Сделает членом кабинета? Может, даст какое-нибудь ведомство? А вдруг назначит премьером? Почему бы и нет? Все эти субъекты, которых он меняет, как лошадей, мне в подметки не годятся ни по опыту, ни по образованию. Правда, они православные, а его величество придает этому большое значение, но и премьер-мусульманин тоже вполне бы сгодился. А для равновесия я ввел бы в кабинет двух-трех самых что ни на есть православных министров. Но смена премьер-министра означает обычно изменение политики. Пойдет ли на это его высокое величество?»
Он быстро оглядел кабинет. Та же хорошо знакомая комната, что и десять лет назад, когда его высокое величество был еще президентом республики, лишь сменили мебель да на стене красуется портрет королевы-матери.
Король встретил его стоя. Благоприятный знак!
— Пожалуйте, Нуредин-бей, очень рад вас видеть. — Король протянул руку.
Нуредин-бей принял королевское рукопожатие с низким поклоном.
— Как ваше здоровье?
— Хорошо, благодарю вас.
— Как поживает ваша супруга?
— Хорошо. Надеюсь, ваше высокое величество пребывает в добром здравии?
— Слава богу! Пожалуйста, садитесь.
Он указал на кресло в углу, где обычно вел беседы с иностранными послами и официальными лицами. Нуредин-бей отметил про себя, что король утратил былую стройность и живость. Он оплыл, постарел, его волосы поредели, но импозантен был все так же.
— Закуривайте.
— А вы, ваше высокое величество, по-прежнему много курите?
— Наверно, еще больше.
— Прошу вас, не курите так много. Это вредно для вашего здоровья.
— Знаю, но что поделаешь, привык. Не могу работать без сигарет, а вы ведь знаете, я работаю почти круглые сутки.
— Да, ваше высокое величество. Такая работа не на пользу здоровью.
— Знаю, но иначе никак нельзя. Приходится идти на жертвы во имя долга перед отечеством.
— Но, ваше высокое величество, ваше здоровье драгоценно для нас. Отечество не может принять такую жертву, — с прочувствованной миной сказал Нуредин-бей.
Газеты расхваливали поразительную работоспособность короля. Они сообщали, что король работает по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки, именовали его «величайшим тружеником века». «Конечно, — думал Нуредин-бей, — все что угодно можно утверждать о человеке, отгороженном от внешнего мира высокими стенами, вооруженной охраной, слугами и адъютантами. Разве узнаешь, сколько он работает на самом деле? Положим, он действительно много работает, но что же он конкретно делает? Ведь он не написал ни одной книги, ни одной статьи. Послания, которые он направляет парламенту из года в год как суры корана, пишут за него другие, а все речи, произнесенные им за пятнадцать лет правления, едва ли составят тоненькую брошюрку. По сути дела, продолжал размышлять Нуредин-бей, он, пожалуй, единственный из всех современных правителей, у которого на счету нет ни одной печатной работы».
Нуредин-бей забыл, очевидно, о бесчисленных распоряжениях и указаниях короля, а ведь им Зогу Первый посвятил все свое дарование. Они могли бы составить целые тома!
— Да, Нуредин-бей, приходится много трудиться. Ведь в моем положении необходимо знать все. Один только просмотр информации отнимает у меня полдня.
— Я понимаю, ваше высокое величество.
— А в нынешней ситуации мне особенно важно быть хорошо информированным о людях, которые меня окружают. Король должен досконально знать своих приближенных. И чем больше он кому-то доверяет, тем тщательнее должен его проверять. Про врага можно знать лишь основное, о друге же надо знать все, каждый его шаг, ведь в случае измены друг может причинить гораздо больше вреда, чем откровенный враг.
— Совершенно верно, ваше высокое величество. Простите меня за нескромность, чьи это слова? Макьявелли?
— Нет. Так говорю я.
— Гениально!
Король, словно решив вконец сразить Нуредин-бея своей мудростью, продолжал:
— Королю не следует ни в коем случае показывать, что он знает до тонкостей, чем занимаются его люди. Наоборот, он должен вести себя так, словно ничего не знает о них и не вмешивается в их дела, а доверяет им. До такой степени, что позволяет свободно действовать от своего имени. Это хорошо уже тем, что в случае, если кто-нибудь из министров зарвется и разозлит народ или вообще сделает что не так, король, даже если и поддерживал его, может, когда надо, вмешаться, возмутиться действиями, предпринятыми якобы без его ведома.
— И это тоже…
— Да. И к этому выводу я пришел сам.
— Это гениально!
— Так что люди, которых король подбирает для проведения своей политики, должны быть вроде жертвенных баранов на байрам. Совсем неплохо, если народ их ненавидит. И чем сильнее ненависть, тем лучше — они вернее будут служить своему королю, видеть в нем свою единственную опору. И тем легче королю — он может, наказав своих министров, направить именно против них весь гнев народа.
— Простите меня, ваше высокое величество, но как же совесть, чувство дружбы и душевной привязанности к своим верным слугам…
Король холодно прервал:
— Никогда не примешивайте к политике чувства и нравственные категории. Политик должен начисто отметать вредный вздор, именуемый совестью, он должен быть свободен от всякой дружеской привязанности, от всей этой сентиментальной чепухи.
— Прекрасно подмечено, ваше высокое величество.
— Это слова Гитлера, канцлера Германии. Но оставим это, Нуредин-бей. У нас еще будет достаточно времени поговорить обо всем. Давайте займемся делом. Я пригласил вас, чтобы предложить вам новый пост. Хочу сделать вас своим советником, министром двора. Выбирая именно вас на этот пост, я руководствовался тем чрезвычайно высоким мнением о ваших качествах, которое у меня сложилось. При нынешней международной обстановке, я считаю, нам необходимо еще теснее сотрудничать друг с другом на благо нации.
— Ваше желание для меня закон, ваше высокое величество. Я всегда был и пребуду до смерти вашим верным слугой, — проговорил Нуредин-бей, поднимаясь с поклоном.
— Сидите, сидите, Нуредин-бей. Поздравляю вас с новым назначением. — Король протянул ему руку. — А теперь я представлю вам членов кабинета.
Он тряхнул колокольчиком.
В дверях вырос старший адъютант. Щелкнув каблуками, он застыл.
— Пусть войдет министр просвещения.
Согнув туловище в глубоком поклоне, вошел длинный, сухопарый старик с дряблыми щеками.
— Прошу, господин министр, — обратился к нему король, не двигаясь, — знакомьтесь с моим новым советником, господином Горицей.
Министр просвещения, пожав руку Нуредин-бею, продолжал стоять с папкой в руке.
— Господин министр, я заметил, что наша печать много пишет о каком-то Дес Картесе.[83] Кто этот Дес Картес?
Король произнес это имя с ударением на последний слог, отчетливо выговаривая «с».
— Французский философ, ваше высокое величество.
— Коммунист?
— Нет. Он умер задолго до появления коммунизма.
— Значит, не опасен?
— Нет, ваше высокое величество.
— А что еще интересного в печати?
— А еще, ваше высокое величество, регулярно публикуются четыреста приключений Насреддина и стихотворения, посвященные вашему высокому величеству. Я хотел бы, если позволите, прочесть вам некоторые из них.
— Послушаем.
Министр раскрыл папку и прочел:
Как реки не дремлют, как море не спит, Король неусыпно и зорко бдит.— Кто это сочинил?
— Каплан-бей, ваше высокое величество.
— Который дипломат?
— Так точно!
— Как вам нравится, Нуредин-бей?
— Замечательно! Просто великолепно! Каплан-бей — тонкий поэт.
— Да-да, я его знаю. Тонкий да длинный как палка, а ведь живется ему неплохо в его миссии. И чего же хочет наш дипломат за свой стих?
— Ничего, ваше высокое величество.
— Не может быть! Уж не пронюхал ли он, что его отзывают в Албанию? Вы знаете, что это за пройдоха, Нуредин-бей. Стоит ему учуять, что я собираюсь его отзывать, он тут же бросается сочинять стихи.
— Стихи неплохие, ваше высокое величество.
— Ну ладно, отменим приказ о переводе.
— Тут еще два стихотворения, — сказал министр. — Вот одно:
Наш король велик и грозен, Меч блестит в его руке…— А это чье?
— Одного студента.
— Чего же он хочет?
— Он подал прошение о стипендии.
— Дать ему стипендию. Давайте второе.
— Это сочинил один наш эмигрант в Софии!
Зогу Первый, наш король, Муж отважный, непреклонный И в трудах неугомонный, Пусть же здравствует в веках!— Ваше мнение, Нуредин-бей?
— Немножко похуже, но в общем неплохо, от души.
— Это стихотворение, ваше высокое величество, свидетельствует о высоком почтении, которое питают к вашей светлейшей персоне албанцы, эмигрировавшие за границу.
— Ну ладно, господин министр, пошлите-ка этому сочинителю из фондов вашего министерства сто золотых наполеонов от моего имени. Пусть все знают, что я прочел и оценил стихотворение.
— Слушаюсь.
— Простите, ваше высокое величество, — запротестовал Нуредин-бей. — Мне кажется, вы слишком щедры. Так вы будете тормозить развитие искусства.
— Каким же образом?
— Поэты и художники должны жить в бедности. Недаром французы говорят, что бедность художника — богатство нации.
— Вы слышите, господин министр?
— Так точно.
— Это надо иметь в виду не только применительно к поэтам и художникам, но и вообще ко всей интеллигенции. Бедность — это совсем неплохо, пусть заботятся о том, как свести концы с концами. Не до политики будет. Ведь эти интеллигенты прямо как бешеные быки. Пока пасутся, уткнувшись носом в землю, не опасны. А стоит набить утробу и поднять голову, вот тогда упаси нас господь! Звереют.
— Совершенно верно, ваше высокое величество. Действительно звереют, особенно как завидят красный цвет.
— И еще одно, господин министр. По случаю торжества, о котором вы знаете, прибудет много приглашенных из областей и из-за границы. Вам известно, что отелей у нас нет, поэтому я дал указание освободить помещение министерства юстиции. Я думаю, ничего не случится, если мы еще и ваше министерство освободим под гостиницу.
— Как вам будет угодно, ваше высокое величество.
— И еще надо закрыть месяца на два столичные школы и предоставить помещение жандармерии.
— Прошу прощения у вашего высокого величества, но как же будет с учебной программой?
— Какое это имеет значение, господин министр? Уроком больше — уроком меньше, все равно мальчишки от этого умнее не станут. Да они и сами ждут не дождутся каникул, ведь правда, Нуредин-бей?
— Безусловно, ваше высокое величество.
Министра просвещения сменил министр внутренних дел. Он принялся зачитывать сообщения с мест.
— «Вчера вечером в селе Большой Лям в Буррельской субпрефектуре силы жандармерии вступили в бой и после ожесточенной перестрелки уничтожили преступников Кроса Абедина из Люзи, Пренка Доду из Мирдиты и Рамиза Алюши из Арни. С пашен стороны потерь нет».
— Молодец, Муса-эфенди! — воскликнул король, довольный. — Пусть это напечатают в газетах, чтобы красные знали. Дальше!
— «Пойман убийца Рамазана Незима, которого два года назад нашли зарезанным в реке Эрзени. Его задержал собственноручно командующий округом, капитан Дэд Дён Марку».
— Повысить до майора. Еще что?
— «В префектуре Шкодры, согласно вашему циркуляру, было проведено совещание знатных людей Мирдитского края под председательством капедана[84] Дёна Марка Дёни и при участии остальных пяти байрактаров. Совещание постановило. Первое: впредь не допускать помолвки девушек, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Второе: впредь запрещается давать выкуп за невесту больше тридцати наполеонов золотом».
— Ну молодец, Муса-эфенди! — снова похвалил его король.
— Вот это, я понимаю, прогресс! Это крупное достижение! Неплохо бы сообщить о циркуляре и остальным префектурам.
— Будет исполнено!
— Продолжайте!
— Прибыли шесть агрономов из Италии.
— Направьте их в Генеральное управление аграрной реформы.
— Да там их и без того девать некуда. Сидят, ничего не делают.
— Устройте туда и этих.
— Мы думали, ради экономии…
— Сэкономим на чем-нибудь другом.
— А не произвести ли кое-какие сокращения в армии, ваше высокое величество? — предложил Нуредин-бей. — Она съедает у нас больше половины бюджета.
— Да вы что?!
— Мне пришло в голову, не объявить ли нам себя нейтральным государством, вроде Швейцарии. Попросили бы соответствующих гарантий у великих держав…
— Да кто в наши дни обращает внимание на нейтралитет!
— Но что-то надо делать, средств не хватает, — вставил Муса-эфенди.
— Сократим расходы на просвещение, здравоохранение и прочее.
— Да ведь на просвещение и так отпускаются гроши. Если еще сократить, так и школы закрыть придется.
— Для блага государства и на это пойдем.
— Простите, что вмешиваюсь, ваше высокое величество, — начал Нуредин-бей, — но когда-то вы говорили, что согласны иметь одним жандармским батальоном меньше, только бы открыть школу…
— Да, говорил, а вот теперь закрою сотню школ, чтобы у меня стало батальоном больше. Ни одно правительство в мире не держится на школах. Армия — вот опора власти. У кого армия, тот правит, у кого ее нет, тот подчиняется, понятно?
— Как вам угодно.
Со своей неизменно мрачной миной на лице, кланяясь и прикладывая руку к сердцу, Муса Юка удалился. Вошел председатель парламента Пандели Евангели.
Его высокое величество привстал, желая, очевидно, выказать свое уважение к преклонному возрасту вошедшего. Председателю было уже под восемьдесят. Он еле держался на своих дряхлых ногах.
— Прошу, садитесь, ваше превосходительство.
Председатель парламента, кивнув Нуредин-бею, уселся, вытащил пачку бумаг и еле слышно заговорил:
— Я подготовил послание вашего высокого величества парламенту.
— Прошу, читайте.
— «Господа депутаты с пожеланием полного успеха в исполнении наших высоких обязанностей повелеваю открыть сессию…»
Его высокое величество слушал, важно откинувшись на спинку кресла.
— «…кордиальные и дружеские реляции с нашей великой союзницей, фашистской Италией…» — продолжал председатель.
Содержание посланий, с которыми король обращался к парламенту, повторялось из года в год, от сессии к сессии, словно ритуал или молитва, без которых «отцы нации» не могли приступить к работе. Все, кто слушали эти послания, давно уже выучили наизусть, и всегда-то зачитывал их в парламенте этот подглуповатый старик, наводивший тоску своим монотонным голосом с вскриками в самых неожиданных местах, очевидно, в угоду требованиям риторики. Нуредин-бея всегда поражало, почему для составления этих посланий подбирают настолько бездарных людей, что они выходят заведомо никуда не годные.
— «…с целью улучшения финансового положения разработаны на основе фискально-экономических критериев проект закона о монополии на табак проект закона о служебном и материальном положении чиновников в соответствии с нашими распоряжениями развитие экономики идет своим путем нашей промышленности делает честь цементный завод в Шкодре и мы желаем чтобы он стал национальной гордостью…»
— Надо побольше про обычаи, — недовольно заметил король, когда чтение закончилось.
— Будет сделано.
— Записывайте. Необходимо отметить, что наряду с крупными реформами, осуществляемыми законодательным путем, ряд обычаев, которые несовместимы с духом современности, изжиты или изживаются по инициативе административных органов, такие, как помолвка девочек еще с колыбели, продажа девушек по очень высокой цене и…
— Его превосходительство Франческо Якомони, посол Италии, — сообщил появившийся на пороге старший адъютант.
Король оборвал речь на полуслове. Его полный удивления взгляд случайно встретился с взглядом Нуредин-бея, и по лицу пробежала тень недовольства. Было ясно, что визит этот был полной неожиданностью для короля, но не принять посла он не мог.
— Пусть…
Однако посол Италии не стал дожидаться приглашения его высокого величества. Он уже вошел в кабинет, в черной рубашке, брюках галифе, в высоких сапогах и в шапочке с кисточкой. Заложив левую руку за ремень, он энергично вскинул правую в фашистском приветствии.
— Прошу вас, входите, ваше превосходительство, — вскочил навстречу король. — Вы свободны, господа.
Нуредин-бей покинул кабинет в большой тревоге. Никогда прежде не видел он «этого наглого горца» таким раболепным.
IX
Все последние месяцы Нуредин-бей не находил себе места от раздражения. Новое назначение нисколько его не устраивало. Министр двора! Приравнял меня к своему холую Сотиру Мартини! Советник! Будто он послушается моих советов! Дождешься, как же! Вот сейчас небось лежит себе полеживает со своей сдобной королевой, а все дела передоверил Мусе Юке. И это в такой момент, когда в мире становится все тревожнее. Неужели до него еще не дошло, что вот-вот начнется война?
Именно угроза войны больше всего беспокоила Нуредин-бея. Он был уверен, что она вспыхнет не сегодня-завтра, и рассчитывал оказаться в тот момент с дипломатическим паспортом в какой-нибудь западной стране.
Его приятель Гафур-бей, которого он пригласил к себе на ужин, полулежа в кресле у камина, пристально смотрел на огонь.
— Гафур-бей.
— Да.
— Мы, кажется, всегда были друзьями.
— Были и остаемся. Вот уже тридцать лет, как служим вместе.
— Все это так. А помнишь, как мы познакомились? Ты только что вернулся из Стамбула, а я служил в министерстве иностранных дел.
— Да, Нуредин-бей… Мы тогда были молоды.
— А помнишь ту вечеринку у меня?
— Что вспоминать о тех временах, Нуредин-бей, они ушли и больше не вернутся.
— О чем только не переговорили мы с тобой в ту ночь, излили друг другу душу, а потом все так и вышло, как мы предполагали.
— Да.
— Мы всегда были заодно. Все было: Балканская война, князь Вид, легализация[85] — и через все это мы прошли вместе.
— Ладно, Нуредин-бей, что ты все вокруг да около? Говори прямо!
— Хочу тебя кое о чем спросить, но уж ты отвечай начистоту.
— В чем дело?
— Скажи мне, что за интриги плетутся за моей спиной?
— Я ничего такого не знаю. А с чего ты это взял?
— Да ведь иначе зачем было меня отзывать и назначать на пост, с которого я начинал десять лет назад?
— Вы часто видитесь с королем, разве он не сказал, почему тебя перевели?
— Он говорит, знающие люди ему понадобились, такие, как я…
— Знающие люди, говоришь?
— Да.
Гафур-бей хохотнул.
— Чему ты смеешься?
— Да просто мне известно отношение его высокого величества к знающим людям.
Он залпом выпил шампанское и поставил бокал на стоявший рядом круглый столик. Нуредин-бей откупорил еще одну бутылку. Сам он пил очень мало.
— Год назад я как-то имел конфиденциальный разговор с королем, — снова заговорил Гафур-бей. — Он меня сам вызвал, хотел посоветоваться по вопросам обороны. Он был очень не в духе, ведь с армией, сам знаешь, какие у нас дела. Я ему и высказал все, что думал. «Если хотите иметь армию, — говорю ему, — гоните прочь Джемаля Аранити. Он и ротой-то не способен командовать, не то что армией», — «Почему это?» — спрашивает король. «Да потому, — отвечаю, — что он безмозглый чурбан, невежда и наглец. Поставьте на его место кого-нибудь поспособнее». Знаешь, что он мне ответил: «Нам способные ни к чему. Надо, чтобы на ключевых постах были люди верные, а уж способности — дело десятое. Скажи, ему можно доверять?» — «Это уж наверняка», — отвечаю. «Ну и прекрасно». Что я еще мог ему сказать?
— Знаешь, Гафур-бей, римский император Калигула как-то назначил консулом своего коня, почему же нашему королю не иметь главнокомандующим осла?
— Если бы он меня послушался и поставил где надо толковых людей, разве мы оказались бы теперь в таком положении, из которого и выхода никакого нет?
Гафур-бей снова осушил залпом свой бокал.
— Если б он меня послушался, не завяз бы так глубоко в своих пактах, конвенциях да концессиях, не оказался бы накрепко связанным с Италией.
— Что-то я не понимаю. Ты ведь всегда был за Италию. Сам же выступал за итальянский протекторат, помнишь? Мы же и протокол вместе подписывали.
— Тогда был за, а сейчас против. Хозяином лучше быть, чем лакеем, не так ли?
— Еще бы!
— Умели бы мы обстряпывать свои дела, были бы теперь хозяевами положения, да ведь не сумели же. Теперь уж и король это понял, только слишком поздно. Все кончено. Недолго ему осталось править. В лучшем случае года два-три продержится, все зависит от международной обстановки, но, так или иначе, Албания достанется тому, кто ее купил. Этот оплаченный товар, Нуредин-бей, подлежит, так сказать, передаче покупателю.
— Не думаю, чтобы все было так, как ты изображаешь, Гафур-бей. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Мы суверенное государство, и никто не имеет права посягать на нашу независимость. Ведь есть же какие-то международные правила и законы.
— Ерунда. Кому какое дело до нас? Ты думаешь, Франция или Англия объявят войну, если Италия захватит Албанию? Да они и пальцем не шевельнули в защиту Абиссинии! Разве Германия станет портить отношения со своей союзницей из-за какого-то клочка земли?
— И все же, если умело сманеврировать, может, отделаемся от Италии.
— Поздно. Король пытался сманеврировать. Пытался заручиться чьей-нибудь поддержкой — не вышло. Франция поставила условия потяжелее итальянских.
— Что ж, значит, надо укреплять единство внутри страны, нужна сильная армия, тогда мы сможем постоять за себя в случае нападения.
— И с этим мы опоздали. Король и это пытался сделать. Решил очистить государственный аппарат от итальянцев, начал со школ. И что же? Итальянцы вышли победителями. В наших школах теперь итальянский язык изучают в обязательном порядке. Итальянцы настаивают даже, чтобы мы и форму приветствия изменили, перешли на фашистскую. Они стали невыносимы: каждый день требуют какой-нибудь уступки, и не просто требуют, а диктуют. Настоящий правитель у нас теперь Якомони, он распоряжается. А католическое духовенство совсем взбесилось, открыто выступает за присоединение к Италии.
— Почему не принимаются меры?
— Против кого? Разве ты не знаешь, что большинство министров и депутатов парламента состоят на содержании итальянского посольства? Регулярно получают там жалованье, вот так-то! Байрактары, высшее духовенство, знать — буквально все на службе у итальянцев. Можно подумать, ты этого не слыхал. А то, что среди наших офицеров полным-полно итальянских шпионов, тебе известно? Король опирается на одну жандармерию. Да и вообще, Нуредин-бей, мы у власти держимся лишь потому, что народ не организован.
— И все-таки нельзя сидеть сложа руки.
— Должно быть, ты прав. Муса Юка, например, предложил королю арестовать всех, кто работает на Италию. Сам-то он, пожалуй, единственный, кто не получает денег от итальянцев. Он да еще Абдуррахман Кроси, а все остальные… — Гафур-бей снова выпил. — Да и этим итальянцы только потому не платят, что они ни на что не годны. К чему Италии такие скандалезные личности?
— И что же ответил король Мусе Юке?
— Сказал: «Рассмотрим».
— Ну и как, рассмотрел?
— Ты же знаешь, Нуредин-бей: «рассмотрим» — это просто завуалированный отказ. Такой ответ ни к чему не обязывает, успокаивает совесть и в то же время не лишает просителя надежды.
— Значит, тем все дело и кончилось?
— Нет, почему же? Его высокое величество вызвал Мусу Юку и приказал провести расследование и аресты среди… коммунистов. Волк под носом, а мы следы ищем.
— И дальше что?
— А ничего. Муса-эфенди пустил своих ищеек по следу, так что в один прекрасный день разразится какой-нибудь процесс над коммунистами. А сам тем временем покупает поместья в Турции. Сообразил, что не сегодня-завтра нагрянет сюда Италия, а тогда спасайся, кто может!
— И король знает об этом?
— А как же? Может быть, сам и присоветовал. Абдуррахман тоже купил поместье в Турции. Я не удивлюсь, если узнаю, что и король купил.
— И как же теперь?
— А черт его знает, как теперь. Может, у тебя есть какое-нибудь соображение на этот счет, Нуредин-бей?
— А ты разве не задумываешься над этим?
— Какой смысл, Нуредин-бей? Король нам больше не доверяет. Он сейчас свои делишки устраивает с помощью своих сестер. Отправляет их якобы на отдых в Европу или Америку, а с ними кого-нибудь вроде Абдуррахмана. Открой-ка еще бутылочку.
Нуредин-бей откупорил бутылку. У его приятеля уже начал заплетаться язык, на покрасневшем лице особенно ярко выделялся шрам на лбу.
— Король больше всего боится, как бы Италия не сговорилась с Югославией и Грецией. А пока этого не произошло, ему кажется, что он в безопасности и никто его не тронет. А Италия вовсе и не собирается делиться с нашими соседями! К чему, когда она может присвоить всю Албанию? Не расстраивайся, Нуредин-бей. Ты помнишь двенадцатый год, наш разговор ночью в Стамбуле, когда стало известно о поражении турецких войск? История повторяется. Ну подумай сам, что мы можем сейчас сделать? Италия, как дамоклов меч, нависает над нами извне, а внутри мы как на вулкане, вот-вот все взлетит на воздух. Года не проходит, чтобы не раскрыли какой-нибудь заговор, а то и восстание вспыхнет. Вот, пока тебя не было, одно за другим: покушение в Вене, заговор во Влёре, Фиерское восстание, Дельвинское восстание. А в последнее время вдобавок и коммунисты зашевелились. Куда ни кинь, все клин. Уж лучше Италия, чем большевики. При итальянцах коммунистам придется сидеть смирно. Ну а нам, Нуредин-бей, пора позаботиться о себе.
— Ты что же, советуешь отступиться от его высокого величества? Ведь он всегда защищал наши интересы, нашу собственность. Нет, Гафур-бей, это не для меня!
— Брось, Нуредин-бей. Ты же видишь, ничего другого не остается. Все потеряло смысл. Да, мы пошли за ним, когда были молоды, с юношеским пылом, так сказать, ну а теперь мы состарились, поумнели, и что ж, так и будем идти за ним? Мы поддерживали его когда были с ним на равных, но не потащимся же за ним теперь, ведь он заделался большим господином, а мы всего лишь его лакеи! А потом, Италия ведь не тронет нашей собственности. Наоборот, оградит наши интересы еще получше Ахмет-бея. Ну, выпьем!
— Твое здоровье!
Они, чокнувшись, выпили.
— Хочешь, представлю тебя итальянскому послу?
— Так ведь я с ним знаком. Познакомился в тот день, когда получил новое назначение.
— Ты меня не понял. А может, уже обеспечил себе дополнительный окладец? Ну что ж. У нас большинство министров и депутатов получает по два, по три оклада… Разве плохо получать жалованье и тут и там?
— Ты о чем, Гафур-бей?
— Да ладно, Нуредин-бей, сам предложил говорить откровенно, вот я и говорю. Да и что я такого сказал? Его высокое величество первый подал пример!
— Король?
— А кто же! Разве не он получил миллион лир персонально от Муссолини? Он сделал первый шаг, чего ж ты хочешь от других? Вот и доигрались!..
Нуредин-бей молчал. Ему вспомнилась ночь в Нью-Йорке, когда он говорил с Ферид-беем. Только на сей раз ему выпала другая роль. Он сам сидел и слушал, что говорил ему захмелевший Гафур-бей.
— А что они от нас потребуют?
Гафур-бей засмеялся.
— Да ничего, Нуредин-бей. Ну что они могут от нас потребовать? Военные сведения? Так ведь наша армия у них в руках, они осведомлены гораздо лучше, чем этот осел Джемаль Аранити, наш командующий. Сведения по экономике? Да у нас и экономики-то нет. А то, что есть, итальянцы знают лучше нас. Они и в наших поместьях наверняка лучше знают, что есть, чего нет. Остаются сведения о королевском дворе. Но и тут Зэфи каждый божий день сообщает им все, вплоть до меню.
— Старший адъютант?
— Он самый.
— И он тоже…
— Да он на этом деле собаку съел. Так что, Нуредин-бей, пора и тебе присоединяться. Это проще простого — письмецо одно подписать, и все. Не ты первый. Коли уж Джафер бей Юпи, Фейзи-бей Ализоти да все остальные подписали, чего ж нам-то не подписать, а? Подумаешь, одна подпись, зато потом, как бы дело ни обернулось, мы с тобой останемся на коне. Принеси-ка еще бутылочку.
X
Выйдя на тюремный двор, Лёни глубоко вздохнул и сел под стеной, где зеленело несколько травинок. Его вдруг охватило желание броситься ничком на землю и вдохнуть ее запах, ощутить ее теплое дыхание. В деревне уже отбили сошники к севу. На свежевскопанные грядки слетаются птицы, лакомясь червяками, с выгона доносится тонкое блеяние новорожденных ягнят. Еще затемно поднимают гомон воробьи. Взъерошив перья, они с угрожающим видом наскакивают друг на друга. Женщины красят пасхальные яйца, мальчишки, раскрасив ручных ягнят и повесив им на шею кисточки, пасут их на лужайке. Как хорошо весной! «А мы даже и не замечали ее, — подумал Лёни. — В эту пору всегда забот по горло — в амбаре пусто, хоть шаром покати. В поле так наломаешься, куда там любоваться красотой вокруг? Когда я последний раз видел весну? Наверно, когда был как Вандё, когда заботы еще не одолели. А потом и не замечал даже, как весна приходила, как уходила. Верно говорят, что бедняк только летом и живет. Что-то сейчас Вандё поделывает? Хоть бы увидеть его! Ведь писать выучился, чертенок!»
Он тряхнул головой и улыбнулся. Две недели назад он получил письмо от Вандё. Брат писал крупными корявыми буквами, но все же сам! Он теперь во втором классе. Лёни вспомнил учителя, госпожу Рефию, Шпресу, Агима, и на душе потеплело.
— Эй, Лёни, о чем задумался?
— Да так, Хаки, просто день такой хороший. Апрель… Сейчас в деревне запрягают волов, пашут. У меня руки зудят по работе.
— У нас скоро будет другая работа, Лёни. А соха никуда не уйдет, еще напашемся.
Подошли адвокат с Хайдаром.
— Ты узнал что-нибудь, Хаки?
— Да, Халим. Иностранное радио и газеты сообщают, что Италия сконцентрировала десантные войска и флот для нападения на Албанию.
— А это правда?
— Наверно, правда. К чему им врать?
— Да эти чертовы газеты часто врут, — сказал Хайдар.
— На сей раз, кажется, не врут, — ответил Хаки. — Говорил же я тебе, что после Испании и Чехословакии придет и наш черед. Теперь видишь, что и наша судьба решалась в Испании?
— Вижу.
— А раньше не верил. Все удивлялся, с чего это наши парни отправились воевать в Испанию, говорил, что Скэндер погиб напрасно. Выходит теперь, что мы, коммунисты, далеко не все упрощаем в политике, а?
— Оставь, Хаки. Не желаю спорить с тобой в такой день. Скажи лучше, не сообщают ли еще чего-нибудь?
— Чего же тебе еще? Жди, не сегодня-завтра нападут.
— А правительство? Что правительство предпринимает?
— Ничего! Хамди говорит, в сегодняшних газетах напечатано опровержение, пишут, что распространяются ложные слухи и что с Италией поддерживаются хорошие отношения.
— Кто-то из них врет, — сказал Хайдар. — Или тот, кто говорит, что Италия нападет, или тот, кто это опровергает.
— Наверняка наши врут, — заметил Хаки.
— Почему обязательно наши?
— Хотят как-нибудь все уладить, задобрить Муссолини, дать ему все, что он требует.
— А что он требует?
— Откуда я знаю.
— Может, еще договорятся. — сказал Хайдар.
— Вряд ли. Италия оккупирует Албанию.
— Не думаю, — возразил адвокат. — Ведь если оккупирует, то международное положение обострится, может вспыхнуть война.
— Кто воевать-то будет?
— Великие державы не допустят, чтобы…
— Ай, оставь ты свои великие державы! Они вон ради Чехословакии пальцем не пошевелили, а уж ради нас-то…
В тот день в тюрьме ни о чем другом не говорили. Заключенные позабыли свои ежедневные заботы, разговоры, ссоры, и все ударились в политику. «Что будет? Нападет Италия или нет? Как поступит Ахмет Зогу? Будет сопротивляться или позволит итальянским войскам высадиться без единого выстрела, как впустило чехословацкое правительство германскую армию?»
— Зогу будет воевать, я уверен в этом, — повторял адвокат. — Иначе просто не может быть!
— С чего вдруг он будет воевать? Думаешь, ему жалко Албанию? Да он ее давным-давно продал. А теперь вот пришла пора и отдавать.
— Он ведь знает, придут итальянцы — не видать ему трона. Так что наверняка будет воевать.
Хаки пожал плечами.
— Ну что ж, дай ему бог удачи! Тогда и мы бы вместе с ним пошли драться. Хоть он и дрянь, а все-таки свой, албанец, не иностранец какой-нибудь.
— Верно говоришь, Хаки, — одобрительно кивнул Хайдар. — Лучше пусть свой побьет, чем чужой поцелует.
Разговоры продолжались почти до полуночи.
Наутро их разбудили пушечные выстрелы, шум и крики. Несколько заключенных взобрались на окна посмотреть, что происходит на улицах Тираны.
— Что там случилось?
— Война?
— Итальянцы пришли?
Но тюремные служители успокоили их.
— Чего всполошились! Радуйтесь! Королева родила сына, наследника престола.
— Что такое?
— У короля сын родился.
— У короля или у королевы?
— Тоже мне, нашел время шутить!
— Ну да ладно, дай бог здоровья королеве.
— Спроси насчет итальянцев!
— Чего спрашивать? Думаешь, они что-нибудь знают?
— Спроси, спроси!
— Эй, Алюш!
— Чего?
— Как там насчет итальянцев?
— Не беспокойтесь. Его высокое величество принял все меры.
— Какие меры?
— А это ему виднее.
— Вот вам и весь сказ!
— Ты тоже, нашел у кого спрашивать!
— А что он говорит?
— Говорит, король принял меры.
— Что он в эти меры собирается насыпать, овес или кукурузу?
— Да перестань ты, Тими!
Празднества и гуляния продолжались два дня. В камеры доносился лишь их приглушенный отзвук, словно рядом гудел пчелиный рой. Слухи сменялись один другим. То вдруг становилось известно, что итальянцы уже высадились, потом разносился слух, будто Зогу договорился с ними и все обошлось. Заключенные строили догадки, одна невероятнее другой. Некоторые утверждали, будто Англия предъявила Италия ультиматум, что объявит ей войну в случае нападения на Албанию. Другие клялись, что на территорию Албании уже вступили греческие и югославские войска, так как якобы с Италией заключено соглашение о разделе страны. Кто-то каким-то образом проведал, что Зогу договорился с Италией и теперь итальянские войска сначала высадятся в Албании, а потом ударят по Югославии, чтобы отобрать у нее Косово и вернуть Албании. И каких только комбинаций не составляли!
— Интересно, а как же с нами-то будет? — беспокоился Тими. — Здесь оставят, что ли?
— А ты чего хотел бы?
— Чтоб выпустили!
— С какой стати они нас выпустят?
— А почему бы нет?
— Вот заваруха начнется, тогда видно будет. Может, тогда и выйдем отсюда.
Хаки не находил себе места. Он ждал новостей, но Хамди почему-то не появлялся. Завтра четверг, день свиданий, может, придет. Утром Хаки встал пораньше и к началу посещений уже дежурил у двери. Хамди не пришел, однако удалось кое-что выведать у других посетителей. «В Дурресе, Влёре, Саранде и Шендине появились итальянские суда, говорят, вот-вот начнется высадка. Албанские войска заняли позиции вдоль побережья и не пустят ни одного итальянца на албанскую землю. Зогу надел опинги и поклялся, что пойдет в горы сражаться. По всей Албании демонстрации, народ требует встретить итальянцев с оружием в руках».
Хаки вернулся в свою камеру подавленный.
— Устоят ли наши против итальянцев? — спросил его Хайдар.
— Почему же нет? Ведь сбросили же мы их в море в двадцатом, а ведь тогда у нас даже армии не было, не то что теперь, — ответил адвокат.
— Тогда было другое дело, — возразил Хаки. — Тогда народ поднялся.
— И теперь поднимается.
— Если правительство вооружит народ, так никаких итальянцев здесь не будет, — сказал Лёни.
— Это верно. В наши горы и турки не прорвались, куда там итальянцам, — поддержал его Хайдар.
— Итальянцы посильнее, — заметил адвокат.
— Мы тоже стали сильнее, — заявил Хайдар.
— Правительство не даст народу оружие, — убежденно сказал Хаки.
— Почему не даст? — удивился адвокат.
— Да потому что оно боится народа.
Все помолчали.
— Хоть бы узнать, как там великие державы, — продолжал свое адвокат. — Ты ничего не слыхал?
— А ты все со своими великими державами! — усмехнулся Хаки. — Да, забыл вам сказать: иностранные радиостанции сообщили, что английский премьер Чемберлен отправился на рыбную ловлю и приказал его не беспокоить.
— Не может быть!
— Почему же не может быть? Для Великобритании рыбка, которую выудит премьер-министр, важнее, чем независимость какой-то там Албании.
— Англичане, они такие, — сказал Хайдар. — На них понадеешься — пропадешь.
— Говорят, несколько журналистов спросили Гитлера насчет Албании. Знаете, что он ответил?
— Ну!
— «Я не собираюсь портить отношения с моим другом господином Муссолини из-за этих албанских пастухов, которых всего-то миллион».
— Ах негодяй!
— Один только Советский Союз выразил протест, Советское правительство заявило, что Албания — независимое государство и тот, кто посягает на ее независимость, совершает преступление.
Адвокат молча и сосредоточенно слушал Хаки.
Назавтра, в пятницу, заключенных всполошил гул самолетов, на бреющем полете круживших над Тираной.
— Будут бомбить, как ты думаешь?
— Наверняка!
— А что?
— Казармы.
— А сам город?
— Кто их знает.
— Но ведь город не военный объект.
— Будут фашисты спрашивать, военный это объект или не военный!
— А если бомба в нас угодит?
— Все может случиться.
— Этого еще не хватало!
— Да, уж тогда нам крышка!
— Почему нас не выпускают?
— Давайте потребуем у надзирателей, пусть выпустят.
— Пусть нас отсюда переведут.
— А куда?
— Куда-нибудь!
Но бомбежки не было. Вместо бомб фашистские самолеты сбросили листовки, засыпав ими всю Тирану.
Самолеты улетели, и город погрузился в странное молчание. Жизнь словно замерла. Напрасно пытались заключенные хоть что-нибудь разглядеть сквозь решетку окон. На улицах не было ни души. Надзиратели не показывались. Наверно, попрятались. И только на вышке, как всегда, торчал жандарм, направив дуло пулемета на тюрьму.
Какой-то заключенный оделся и начал собирать вещи, словно получил известие об освобождении. Он торопливо засунул свою скудную одежонку в торбу из козьей шерсти, сам не понимая зачем. Глядя на него, принялись собираться и другие. Поднялась суета. Заключенные связывали в узлы постели, засовывали в чемодан или торбу пожитки и садились на них, ожидая, что вот-вот распахнутся тюремные ворота и они, вскинув узлы на плечо, отправятся по домам.
Сойдясь кучками, люди тихо переговаривались.
— Шепчемся, прямо как будто помирает кто, — громко сказал Хайдар.
— Именно помирает. Албания помирает, наша независимость помирает, — воскликнул адвокат.
— Албания никогда не умрет! — выкрикнул Хаки.
— Конец нам, — не слушал его адвокат. — Итальянцы уничтожат нас как нацию.
— Нет, Халим, не так-то просто уничтожить нацию. Иначе нас бы уничтожили еще сотни лет назад. Албания будет жить, — убежденно сказал Хаки. — Она как неприступный утес! Возникали и исчезали империи, окружали ее… ну как амебы, что ли, липли со всех сторон, впивались в нее, обмазывали своей слизью, да только никому не удалось ее переварить. Они рушились, а она оставалась — могучий, неприступный утес. Римляне, византийцы, сербы, турки, Австро-Венгрия — все побывали тут, но где они теперь? Так будет и с гнилой империей дуче.
— Но ведь сейчас не те времена, Хаки, хоть ты и прав. Теперь наша нация действительно может исчезнуть, раствориться, ассимилироваться. Условия изменились, вспомни о современных средствах коммуникации, школах, культуре, радио, книгах, кино…
— Да, то, о чем ты говоришь, и вправду может случиться, если мы будем сидеть сложа руки.
— А что мы можем сделать? Если уж мы не смогли избавиться от Ахмета Зогу, который довел нас до такого состояния, то что говорить об Италии, таком большом государстве?
— Мы должны сражаться за независимость, за свободу. Должны поднять весь народ против захватчиков, против фашизма. Ведь смогли же мы это сделать в двадцатом году! Если нам удастся сделать это и теперь, Албания будет жить!
— Поднимайся не поднимайся — а одни мы все равно ничего не добьемся.
— А кто тебе сказал, что мы одни? Против фашизма весь мир. Наша надежда — Советский Союз. Он нас спасет.
— Советский Союз далеко.
— И все равно он нас спасет.
— Но ведь если Советский Союз вступит в войну, это уже будет мировая война!
— Мировая война неизбежна.
— Дорого обойдется людям новая война, Хаки, столько крови прольется.
— Значит, пусть лучше фашисты истребляют всех, так что ли?
— Не знаю, Хаки… У вас, коммунистов, четкие убеждения. Вы нашли свой путь и идете по нему, не сворачивая.
— Сейчас такое время, когда каждый должен выбрать для себя путь, Халим. У жизни свои перекрестки. И каждый, как богатырь из сказки, окажется когда-нибудь на распутье, надо будет выбирать, куда пойти. Одни только дураки да обыватели избавлены от этого.
— Хаки верно говорит, — согласился Хайдар. — Надо решать, в какую сторону идти — туда или сюда.
— Целый народ может оказаться иногда на распутье. Помнишь, как в сказке, Халим? Всадник, когда не знает, по какой дороге ехать, отпускает поводья, чтобы конь сам выбрал.
— Ну а мы, по-моему, пустили ослов, чтобы выбирали нам дорогу, — сказал Хайдар.
— Нет, мы сами выберем. А коммунисты — я вот, Лёни — уже давно выбрали.
Лёни засиял от радости, услыхав, что Хаки назвал его коммунистом. Адвокат вдруг рассердился.
— А я, значит, не в счет, да, Хаки?
— Так ведь ты не коммунист!
— Ошибаешься ты, вот что. Каждый должен выбрать, верно. Только насчет меня ошибаешься, я тоже выбрал себе дорогу. Недаром же ругался с тобой два года подряд!
Хаки крепко обнял его:
— Вот молодец!
— А меня, что ж, позабыли? — засмеялся Хайдар.
— Ты наш, Хайдар. Мы уверены, что ты с нами.
— Был и буду.
— Давай руку, Хайдар. Мы не сдадимся! Будем бороться! Мы уйдем в горы, соберем силы, а потом хлынем оттуда лавиной, никто нас не остановит. Сметем всю нечисть, вырвем с корнем все сорняки и сделаем Албанию такой, о какой мечтаем: свободной, независимой, счастливой.
— Как бы только вместе с сорняками не вытоптать и кукурузу, — со смехом сказал Хайдар.
Стемнело. В тюрьме царила тревожная тишина. Не слышно было обычной суеты в камерах, разговоров, восклицаний, ссор, смеха и тоскливых песен. Казалось, жизнь окончательно покинула эту гробницу заживо погребенных людей. Заключенные бродили на цыпочках по сумрачным коридорам, лишь кое-где слабо освещенным тусклыми лампочками. Наблюдавшие сообщили, что улицы пусты, никого нет, фонари не горят.
В тот вечер заключенные узнавали последние новости от надзирателей и даже от жандармов.
«Наша армия отбросила итальянцев от Дурреса. Побережье усеяно трупами итальянцев. Его высокое величество заявил, что наденет опинги и уйдет в горы. Не бывать итальянцу в наших горах!»
Тими вернулся в камеру со словами:
— Слыхали? Его высокое величество обул опинги.
— Бежал?
— Нет, будет сражаться в горах. Говорит, что не пустит итальянцев в горы.
— Дай бог!
— Да здравствует король!
— Дай бог ему здоровья!
Кто-то, войдя в камеру, угрюмо сообщил:
— Итальянцы захватили Дуррес.
— Да ты что?
— Наша армия разбита, король бежал!
— Куда? В горы?
— Нет, совсем сбежал. И министры тоже.
— Так я и знал, что он удерет.
— Да уж, на это он мастер! Как дело туго, так деру дает!
— Сукин сын!
— Итальянцы направляются к Тиране. Сегодня к вечеру будут здесь.
— Значит, все.
— Надо сказать надзирателям, пусть открывают!
— Начальника надо потребовать.
Заключенные сгрудились у двери.
— Эй, Алюш, давай открывай!
— Вы что, собираетесь нас итальянцам оставить?
— Разойтись по камерам!
— Селим, эй, Селим! Открой!
— Да не откроют они без приказа!
— Где начальник тюрьмы?
— Кто-то приехал! — крикнул заключенный, наблюдавший в окно за улицей.
Незнакомый офицер с группой жандармов прошел прямо в кабинет начальника тюрьмы.
— Кто это?
— Не разглядел.
— Разговаривает с начальником.
— Теперь нас освободят, это точно. Вон и надзирателя позвали.
Надзиратель вскоре вышел.
— Ну как, Алюш, привезли приказ?
— Тихо! Открывает!
Но надзиратель и не думал открывать.
— Позовите господина Хайдара Кочи, — приказал он.
— А кто его зовет?
— К начальнику!
— Хайдар Кочи! Где Хайдар Кочи? Его к начальнику!
Хайдар удивленно переглянулся с Хаки и адвокатом.
— Тебя к начальнику вызывают, — позвал кто-то от двери.
— Зачем?
Он не спеша поднялся и неторопливым шагом направился к выходу. Хаки, Лёни и адвокат молча пошли за ним следом, гадая, в чем дело.
Толпившиеся у двери расступились, пропуская Хайдара.
— Кто меня вызывает?
— Начальник.
— А зачем?
— Не знаю, господин Хайдар. Приказано привести.
— Господин Хайдар, скажи там начальнику, пусть открывают!
— Да, пускай нас выпустят отсюда!
Щелкнул замок, заскрежетала первая дверь. Хайдар оказался меж двух дверей.
— Отойдите, закрываю.
Надзиратель закрыл дверь и надел Хайдару наручники. Потом открыл вторую дверь, Хайдар вышел в коридор и остановился, ожидая, пока надзиратель закроет и ее.
Надзиратель пошел впереди и уже поднял было руку, чтобы постучаться в дверь кабинета, но дверь вдруг резко распахнулась. На мгновение растерявшись, Хайдар попятился к стене. Прямо на него шел офицер в расстегнутом мундире, сопровождаемый жандармами и вооруженными людьми в штатском.
Хайдар вскинул голову, в упор посмотрел на офицера и язвительно усмехнулся.
— Ничего, Хайдар Кочи, скоро перестанешь задирать нос, — зло выкрикнул офицер, кладя руку на кобуру револьвера.
— Подлецом был, подлецом ты и остался, Абаз Купи! Только и умеешь стрелять, что из-за угла да в связанного. Стреляй, трус!
Заключенные, затаив дыхание от удивления и любопытства, ждали, что будет дальше. В полнейшей тишине прогремели один за другим два выстрела, отозвавшиеся гулким эхом в пустых коридорах. И словно по сигналу, поднялся оглушительный шум: крики, ругань, топот.
Хайдар, заливаясь кровью, упал лицом вниз. Так смерть настигла этого отважного и умного горца, настигла в тот момент, когда он надеялся вот-вот вырваться из тюрьмы, где томился столько лет.
Абаз Купи вложил револьвер в кобуру и заорал на жандармов:
— А теперь сматывайте удочки! Все до единого!
И побежал вперед. Послышался шум мотора, машина взвыла и затихла где-то вдалеке.
Жандармы, охранявшие тюрьму, забегали по коридорам, собирая пожитки. Заключенные продолжали кричать:
— Откройте двери!
— Селим, эй, Селим, открой!
— Чего ты ждешь, Алюш, открывай!
Вдруг погас свет, вопли стали еще отчаяннее. Кто-то выкрикнул:
— Ломаем решетку!
— Наддай!
Но решетка не поддавалась.
— Открывай! — приказал кто-то снаружи.
— Не имею права! Такого приказа не было!
— Ну-ка, дай сюда ключи!
— Не дам!
— Давай, тебе говорят!
Послышался звон передаваемых ключей, и тот же голос повелительно прокричал:
— А ну тихо! Держите ключи!
Все протянули руки в темноту, надеясь получить ключи.
— Есть ключи, а ну, расступись!
— Да не этот, попробуй другой!
— Давай большим! Большой от этой двери!
— Да погодите, не толкайтесь! Готово!
Заключенные столпились у второй двери.
— Открывай вторую!
— Да не толкайтесь!
— Не смейте открывать! — кричал надзиратель.
— А ну мотай отсюда, сволочь!
— Открылась!
— Куда вы, не уходите!
У выхода было настоящее столпотворение. Заключенные проталкивались к дверям, отпихивали друг друга, ругаясь и издавая ликующие возгласы. Они пробегали сломя голову мимо тела Хайдара и исчезали в темноте, словно спасаясь от погони.
Кто-то приволок свой тюфяк; в дверях образовалась пробка.
— Ты чего делаешь, а?
— А ну, дай дорогу!
— Пусти тюфяк!
— Да брось ты его, сквалыга!
— Чего это вдруг? Он мой!
— Освободи проход, болван, раздавят!
Надзиратель причитал:
— Братцы, куда же вы, погодите!
Кто-то отпихнул его, кто-то ударил кулаком в грудь. Надзиратель с криком попятился.
— Задушу, как собаку! — кричал заключенный, кидаясь на него.
— Оставь его, Азем!
Из помещения, где находились жандармы, выбежали несколько заключенных с оружием.
Надзиратель снова запричитал:
— Ну останьтесь хоть кто-нибудь!
— Да пошел ты!
— Останься! — Надзиратель ухватил за рукав заключенного с тюфяком, застрявшего между дверей.
— А ну отцепись! — отмахнулся тот, вскидывая на плечо свою ношу.
Крики заключенных удалялись. В тюрьме стало тихо. Заключенный с тюфяком, по-видимому, уходил последним.
— Что ж это, ах ты господи! — бормотал надзиратель.
Вдруг он заметил еще двоих, склонившихся над телом Хайдара.
— Пошли, Хаки, уже бесполезно.
— Знаешь, Халим, я словно предчувствовал недоброе, да как-то не посмел его остановить.
— Кто мог подумать, что так случится? Дикость какая-то! Бедный Хайдар!
Они направились к выходу. Надзиратель бросился за ними.
— Не уходите!
— Чего тебе?
— Погодите до завтра! Завтра я вас выпущу!
— Зачем это?
— Во всей тюрьме ни души не осталось, грех-то какой!
— Пошел прочь, идиот!
Оставшись в одиночестве, старик надзиратель уныло побрел по коридору. Вдруг он увидел в темноте две светящиеся точки.
— Кис-кис-кис, — позвал он.
Кошка мяукнула и потерлась о его ноги. Старик взял кошку на руки и, поглаживая ее, пошел к двери. «Ах ты, грех-то какой!» — приговаривал он, запираясь в тюрьме.
XI
Хамди чувствовал, что совершенно выбился из сил. Вот уже целую неделю он все время был на ногах, ни разу не выспался как следует. Непонятно, каким образом он вдруг стал руководителем и одним из организаторов демонстраций. С утра до вечера бегал он из школы в школу, из лавки в лавку, из квартала в квартал, договаривался о времени и месте сбора, а потом сам вел через всю Тирану толпы разгневанных людей. Вечером бежал в кафе «Курсаль», где его ждали товарищи, такие же измотанные и невыспавшиеся, как и он сам, но старавшиеся не поддаваться усталости. Всего неделю назад они совсем не знали друг друга, а теперь стали чем-то вроде штаба, организационного центра демонстраций. Кто их назначил? Никто. Как-то само собой получилось, что они отдавали распоряжения, словно кто-то официально им поручил это.
Хамди вошел в здание почты и телеграфа и направился в помещение телефонной станции.
— Ну, что там, джа Риза?
Риза-эфенди, поседевший, без своей привычной черной шапочки, огорченно повернулся к нему:
— Плохи наши дела, Хамди. Итальянцы заняли Дуррес. Наши солдаты сражались, как настоящие мужчины, да офицеры их предали. Все сбежали и прихватили с собой орудийные затворы. Солдаты остались с одними винтовками против фашистских пушек и танков. Один наш пулеметчик, унтер-офицер, задал им жару. Они несколько раз откатывались, ничем его взять не могли. Только когда убило его, тогда и прошли. Во Влёре и Шендине тоже стрельба.
— А в Саранде как?
— Не знаю. Оттуда ничего не слышно.
— Ну значит, к вечеру будут тут.
— Сегодня вряд ли. Бази из Цаны разрушил Шиякский мост. Итальянцы остались на той стороне. Но завтра уж наверняка будут здесь.
— Еще есть что-нибудь?
Риза-эфенди сделал ему знак приблизиться и зашептал на ухо:
— Королева со всем семейством уехала.
— Куда?
— В Грецию.
— А сам?
— Не знаю.
Зазвенел телефон.
— Алло!
На той стороне провода низкий голос, картавя, сказал:
— Телефонная станция? Говогят из коголевского двогца. Сгочно соедините с домом господина Джафег-бея Юпи.
Риза-эфенди переключил рычажки.
— Кто это? — спросил Хамди.
— Генерал Аранити.
— Чего еще понадобилось этой скотине? Его место в армии! Ну и командующий у нас! Нашли от кого ждать защиты — от осла!
В доме Джафер-бея Юпи никто не поднял трубку. Затем, с перерывами, между Ризой-эфенди и генералом происходил следующий разговор:
— Дайте мне дом Фейзи-бея Ализоти.
— Там никто не отвечает.
— Соедините меня с Нугедин-беем Гогицей.
— Он не отвечает.
— Замолчи, дугень.
— Простите?
— Это я не тебе, это я тут говогю одному дугню.
Риза-эфенди отключил связь и взглянул на Хамди.
— Куда подевались все министры, а, джа Риза?
Тот передернул плечами.
— Известно куда. Попрятались или разбежались. Небось уже давным-давно в Греции.
Хамди отправился в кафе «Курсаль», где его ждали товарищи. Что делать теперь? Демонстрации больше не имеют смысла. Они сыграли свою роль. Сейчас дело за оружием. А король не открыл армейских складов.
— Король исчез.
— Правда? А куда?
— Сбежал. Я сам видел, как машины ушли в сторону Эльбасана.
— Этого следовало ожидать.
— Ну и подвел же он нас под монастырь!
— Ах, сволочь!
Немногочисленные прохожие, повстречавшиеся Хамди на улице, не скрывали своего возмущения.
Хамди вошел в кафе «Курсаль». Кроме его товарищей, организаторов демонстраций, в зале никого больше не было.
— Присаживайтесь, Хамди. Как дела?
Хамди сообщил в двух словах, что удалось узнать.
— И что ж теперь делать будем? — спросил Хюсен, чиновник министерства иностранных дел.
— А что теперь? Демонстрации уже ни к чему! — ответил ему учитель.
— Не понимаю, почему не дали оружия народу? — недоуменно воскликнул экономист.
— Потому, что боялись народа, — ответил Хамди.
— Но ведь народ заодно с королем, — сказал Хюсен.
— Зато король не заодно с народом, — ответил публицист. — Он не собирался драться с итальянцами.
— Может, он и не уехал? Может, он ушел в горы. Откуда мы знаем?
— Знаем. Он сегодня будет в Греции.
— Но ведь он говорил, что будет сражаться в горах.
— Если так, то мы будем с ним.
— Да мы не то что с ним, с самим чертом объединимся, лишь бы бороться против итальянцев, — сказал учитель.
Хюсен разозлился. Вот уже целую неделю он был знаком с этими людьми и был просто уверен, что они, так же как и он, преданы королю. А они, выходит, его враги!
— Всем коньяку, — заказал экономист.
В дверях появился журналист Вехби Лика.
— Добрый вечер, господа. Что нового?
Никто не ответил.
— Я слышал, наши отбросили этих макаронников.
— Итальянцы заняли Дуррес и стоят у Шияка, — сказал Хюсен. — Наши выполнили свой долг. Шиякский мост взорван. Мы остановим их в Шияке.
Вехби Лика в растерянности захлопнул блокнот.
— А король?
— Он уехал.
— Вот это новости! Ну спасибо!
— Ты куда?
— В редакцию.
Они опять помолчали.
— Я уверен, что господин Вехби сейчас придет в редакцию и настрочит пламенную статью.
— Почему это?
— Надо же поздравить итальянцев с прибытием!
— А завтра появится в черной рубашке и первый вскинет руку по-фашистски.
— Да и министры не замедлят сделать то же самое, — сказал Хамди.
— Министры преданы королю, — возразил Хюсен.
— Завтра увидим, — сказал учитель, поднося ко рту рюмку.
— Ну а нам что делать?
— Не знаю.
— Бежать надо, — заявил экономист.
— Куда?
— В Югославию.
— И я с тобой, — решил Хюсен.
— Мне с вами по пути, — присоединился учитель.
— Тогда двинемся, пока не поздно, — предложил публицист. — Идешь, Хамди?
— Нет, я остаюсь, — сказал Хамди.
— Почему?
— Народ сейчас нуждается в нас, во всех, кто ему предан.
— Глупости! — вскрикнул экономист. — Итальянцы вас арестуют, могут и убить. А из-за границы мы скорее поможем Албании.
— Пусть хоть камни с неба сыплются, я все равно останусь на родине.
— И что же ты будешь тут делать?
— Сражаться!
— Чем, кулаками?
— Найдем чем. Народ ненавидит захватчиков, правда, он пока неорганизован, невооружен.
— У нас вон была армия, а какой толк?
— Это потому, что во главе стоял изменник. Король и не собирался бороться.
— Король не изменник, — вскинулся Хюсен.
— Ну назови его по-другому, если можешь.
А я говорю, надо уходить, — опять вмешался экономист. — Вооружайся не вооружайся, все равно нам в Италией не справиться. Это ж такая сила!
— Не лучше ли нам поладить с итальянцами? Вотремся к ним в доверие, может, хоть что-то спасем, — сказал публицист.
— Итальянцы не такие дураки, — ответил учитель. — Сотрудничая с ними, мы принесем Албании еще больше вреда.
— Вот именно. Албанию всегда губили не столько сами захватчики, сколько их пособники из местных, — поддержал Хамди. — Захватчик есть захватчик, с ним все ясно. Местные предатели — вот кто направляет его руку, вот кто губит своих же. Если бы не предатели, никакие захватчики нам не были бы страшны.
— Я никогда не надену черную рубашку, — сказал учитель.
— Ну что ж, нам, видно, не по пути.
— Да уж, видно, так.
— Я остаюсь с тобой, Хамди, — решил учитель.
Послышались выстрелы, сначала где-то вдалеке, потом все ближе.
— Итальянцы, — сказал публицист.
— Прошу вас, уходите! Я закрываю! — встревожился хозяин кафе.
— Это просто так кто-то стреляет, перестрелки-то нет.
— Есть ли, нет ли, уходите!
— Что это за крики?
— Погодите, вроде бы сюда идут.
— Ради бога уходите!
XII
Лёни, подхваченный толпой и подталкиваемый со всех сторон, протиснулся наружу. Здесь уже не толкались, но в темноте он потерял товарищей. Впереди мелькали тени заключенных, которые, окликая друг друга, переговаривались на всех диалектах албанского языка.
Лёни позвал Хаки, но никто не откликнулся.
Заключенные группками разбегались в разные стороны. Лёни на мгновение задержался, не зная, куда направиться. В Тирану его привезли ночью в крытом грузовике, в наручниках, и, кроме старого брезента, да отвратной рожи жандарма Камбери, он по пути ничего не видел. В какой стороне его деревня? Он взглянул на небо, и ему показалось, что и звезды здесь другие.
— Беги, дурак! — крикнул ему на бегу какой-то заключенный. — Что стоишь как столб? Хочешь, чтоб поймали?
Присоединившись к одной из групп, Лёни выбежал на широкую улицу. Впереди были слышны возгласы заключенных. Те, что раздобыли винтовки, стреляли в воздух. Со всех сторон тоже стреляли и кричали.
Вскоре он устал от быстрого бега. Спирало дыхание, ноги стали как ватные. За два года он почти отвык ими пользоваться! Недаром Хаки советовал ему побольше ходить во время прогулки!
Выбежали на какую-то площадь, окруженную черневшими в темноте домами, которые поразили Лёни своей величиной.
— Давай пошевеливайся!
— Куда мы идем?
— Во дворец!
— Какой дворец?
— Иди и не спрашивай.
Пробежав через обширный парк, они вошли во дворец, сиявший огнями над погруженным во мрак городом. Широкие коридоры привели их в большой зал, освещенный люстрами. Заключенные разбрелись по дворцу. Кто-то уже возвращался, нагрузившись добром, вскинув на плечо прекрасный ковер, кто-то сдергивал с окна плюшевую штору, кто-то пытался взгромоздить себе на спину кресло.
— Что они делают?
— Не видишь? Давай, бери и ты!
Странным показался Лёни совет: даже если б он что-нибудь и взял, куда он это понесет?
Неожиданно все захлопали, отступая к стенам и освобождая середину зала. Лёни сразу узнал показавшегося в одной из дверей здоровяка в генеральском мундире: это был Тими, угольщик из Девола. Напялив прямо поверх одежды брошенный кем-то из адъютантов мундир, он шествовал важно, как настоящий генерал. На него нельзя было смотреть без смеха. Из-под распахнутого мундира виднелась нестираная рубаха и волосатая грудь; козырек надетой набекрень фуражки прикрывал один глаз; сапоги Тими, видно, не нашел, из-под галифе торчали надетые на шерстяные носки старые опинги из автомобильной покрышки. Но и в таком виде Тими был очень похож на Ахмета Зогу, каким Лёни видел его на фотографиях.
Величественно прошествовав по проходу, образованному заключенными, Тими остановился у рояля, приложив руку к сердцу, как этого требовал зогистский церемониал приветствия, опустился на круглый табурет, потом, взмахнув руками, ударил что есть мочи по клавишам. Зал взорвался какофонией звуков и мощным хохотом заключенных. Тими вскочил, в притворном гневе схватился рукой за шнур аксельбантов на груди и, вскинув голову, вперил взгляд в потолок.
Кто-то крикнул:
— Тихо! Его высокое величество желает говорить!
Подождав, пока стихнет шум, Тими заговорил ораторским тоном:
— Я уверен в том, что вы, господа, обшарите здесь все углы и прихватите все, что только есть в нашем дворце. Высочайше повелеваем вам подмести все подчистую.
Снова поднялся шум и хохот.
Тими поднял руку.
— Тихо! Тихо!
— Слушайте его высокое величество!
Когда опять наступила тишина, Тими продолжал свою речь:
— Господа! Я нисколько не сомневаюсь в том, что албанское королевство приказало долго жить. Чтоб ему никогда больше не воскреснуть!
— Аминь! — выкрикнул кто-то.
Все засмеялись. Лёни даже позабыл, где находится, и смеялся от всей души.
Он вдруг почувствовал чью-то руку на своем плече.
— Лёни.
— Хамди!
Он кинулся к товарищу.
— Уйдем отсюда.
В коридоре они еле протиснулись сквозь толпу сновавших туда-сюда людей с добычей на плечах.
Во дворе какой-то человек в высокой феске вел под уздцы двух белых венгерских лошадей, следом трусил белый жеребенок.
— Куда ведешь? — окликнул парень, вбежавший в ворота парка.
— Домой!
— Да брось ты их, недотепа, ведь все равно отберут! Куда спрячешь?
— А это уж мое дело! Пускай найдут, коли они такие умные!
— Как ты здесь оказался? — спросил Хамди.
— Сам не знаю.
— А Хаки где?
— Да я потерял его, когда вышли из тюрьмы, темно было. Ты знаешь, Хайдара убили.
Хамди остановился.
— Да ты что!
— Убили Хайдара! Подло убили!
— Кто убил?
— Его враг, Абаз Купи.
Им загородили дорогу.
— Что там во дворце происходит?
— Грабят, вот что.
— А его высокое величество где же?
— А его собачье величество давным-давно в Греции! — зло крикнул Хамди.
— Да ну!
— Албанец — он албанец и есть, — сказал кто-то. — Ему лишь бы где поживиться.
— Недаром говорят: «Arnavut bicimsiz millet»,[86] — добавил другой.
Лёни с Хамди свернули в переулок.
— Куда ты меня ведешь, Хамди?
— Ко мне домой.
— А Хаки?
— И Хаки найдется.
XIII
Господин Вехби Лика приколол к черной рубашке итальянский орден, поправил галстук и застыл перед зеркалом, с удовольствием оглядывая себя в новом одеянии. Затем принялся отрабатывать фашистское приветствие, вскидывая руку вверх. Попробовал было поднять руку, полусогнутую в локте, но в конце концов остановился на том, что руку надо поднимать не сгибая и как можно выше, это будет свидетельствовать о «бодрости и жизнерадостности журналиста нового фашистского порядка».
Довольный собою, он сунул в задний карман брюк блокнот и отправился в парламент: в тот день «отцы нации» давали еще одно представление, последнюю комедию в честь «гостей». Впрочем, последнюю ли?
Зал заседаний поражал чернотой, но не оттого вовсе, что депутаты надели траур по утраченной независимости Албании или по случаю бесславного падения своего хозяина Ахмета Зогу. Просто большинство «избранников народа» успели облачиться в фашистскую форму.
Заседание на сей раз открыл не древний председатель парламента; некоторые депутаты пожалели даже, что им не удастся подремать под его бормотанье. Вместо него на трибуне появился Джафер-бей Юпи, друг и ближайший соратник его высокого величества Зогу Первого, его правая рука, главный инспектор королевского двора, главный советник короля албанцев, удостоенный медали «Моим товарищам», и прочее и прочее. Его превосходительство, я уверен, всенепременно поднимет голос протеста против учиненного над Албанией насилия, голос его вознесется под небеса, оповещая весь мир, что есть еще в Албании истинные патриоты, такие, как он сам, и они не смирятся вовек с грубым захватом независимой страны. Много гневных слов услышат сегодня «отцы нации» на своем историческом заседании. И как по сигналу они поднимутся, чтобы выразить свое возмущение, чтобы потребовать…
Так оно и будет. Посмотрите только, как взволнован Джафер-бей! Даже голос дрожит. Бедный, он почти рыдает!
— Тихо!
— Слушайте!
Непременно послушаем!
Прошу вас, не обращайте внимания на кое-какие нескладности в речах «отцов». Им тогда было не до стилистики, а нам не подобает поправлять их.
Джафер-бей, оглядев сквозь слезы зал, воскликнул:
— Албанский народ знает меня!
Зал ответил понимающим бормотаньем:
— Ну о чем разговор, Джафер-бей? Конечно, знает!
— Знает, знает!
Оратор не унимался:
— Я говорю от души!
В зале снова ропот:
— И это ни к чему, Джафер-бей. Перестань ты, мы и так тебе верим!
Не обращая внимания на возражения, Джафер-бей продолжал:
— Вот уже более четверти века наша Албания независима. И за эти годы мы показали всему цивилизованному миру, что находимся в сердце Европы и не способны управлять собой. Наше беспомощное управление убедило мир в том, что мы идем к опасности, а именно опасности расчленения Албании. Наша единственная надежда — это гениальный и любимый дуче, который ради нас пошел на моральные и материальные жертвы. Он спас Албанию, и потому я всем сердцем приветствую приход в Албанию славной итальянской армии.
— Слово мужа!
— Так говорят патриоты!
— Мы верим тебе!
— Он и вправду говорит от души!
— Поскольку Албания — суверенное государство, нам необходимо избрать короля, а потому давайте предложим корону Скандербега его императорскому величеству Виктору-Эммануилу Третьему!
Его превосходительство настолько был растроган, что еле договорил. Достав платок, он прочувствованно высморкался.
Это послужило сигналом для всех остальных отцов: в зале вспыхнули рукоплескания и овации.
— Да здравствует его величество!
— Да здравствует Виктор-Эммануил Третий, король Албании!
— Evviva!
На сей раз выкрики депутатов были поддержаны снаружи солдатами и карабинерами, охранявшими парламент. Они сначала не могли понять, в чем дело, но, услыхав «Evviva!», дружно подхватили:
— Viva! Viva!
В парламенте тем временем начались дебаты.
Слово имеет Абдуррахман-бей:
— Почтенные господа! За период, равный четверти века, наши правители показали, что не только не способны, но и… э… довели положение до такой точки, что у всего цивилизованного мира сложилось впечатление, будто наша страна не может самоуправляться. Наши правители сумели лишь ввергнуть страну в хаос, обрекли народ на великие бедствия, оставив его даже без соли, хлеба и керосина. Те, кто уехали и бросили свою страну, думали не о прогрессе нации, а только о себе, как бы набить карманы общественными деньгами. Славная итальянская армия, пришедшая к нам, — армия, пролившая кровь за Албанию, поэтому я согласен, чтобы венец Скандербега передать его величеству королю Италии.
Аплодисменты.
Слово имеет Фейзи-бей Ализоти, стародавний министр финансов албанского правительства, бывший ближайший соратник Ахмета Зогу, награжденный медалью «Моим Товарищам».
— Господа депутаты! Некоторые эвенементы и события последнего времени вызвали наше совещание в данный исторический момент. Почему вызвали? Потому что в течение некоторого времени в нашей стране правила олигархия, имевшая самую тираническую форму. Эти олигархи, вместо того чтобы служить нации, на них словно нашло помрачение, и они ни о чем другом не думали, кроме своей выгоды, вот почему Албания оказалась в ужасной нищете, в катастрофе, ее концом стала утеря государственности. Помощь, которую неоднократно оказывал дуче, была съедена. Помощь проели, а страна шла к катастрофе. Кто же мог спасти Албанию? Нужна была могучая сила, личность. Кто же стал этой личностью? Дуче фашизма! Как они поступали? Переговоры, которые затянулись и ни разу не приняли ясной формы, превратились в мершандаж.[87] Ты мне, я тебе. Поэтому дуче фашизма был вынужден направить сюда славную, легендарную армию фашистской Италии. Это не армия, совершившая нападение, как утверждают некоторые. Эта армия вовсе не совершала нападения, она пришла к нам как союзница, как сестра. Посему я рад, что албанский трон, на котором восседал сатрап, который бежал и нас бросил…
Выкрики:
— Чтоб ему никогда не вернуться!
— Да падут наши беды на его голову!
— Чтоб ему удачи не было!
— Чтоб ему пусто было!
— Опозорил нас!
Голос депутата из зала:
— Не вижу необходимости в дальнейших дебатах, давайте побыстрее проголосуем да передадим венед Скандербега Виктору-Эммануилу.
Аплодисменты.
Выкрики:
— Правильно!
— Давайте передадим!
— Голосуем!
Слово берет депутат Хюсни Тоска:
— Да здравствует Виктор Мановел!
Ходжо-бей:
— Я счастлив, господин председатель, что на трон Скандербега взойдет его величество Виктор-Эммануил Третий.
Бенджо-бей:
— Армию дуче мы все, за некоторым исключением, приняли как друга. Произошло несколько совсем незначительных стычек, так что о сопротивлении нельзя и говорить, мы встретили ее с цветами, с радостью и с распростертыми объятьями.
Болван-бей:
— Наше единственное желание — чтобы были гарантированы все наши обычаи и наше существование как нации. Все это упомянуто в протоколе — стало быть, гарантировано.
Дуб-бей:
— Во многих городах Италии есть улицы, носящие имя Скандербега, так дадим же его корону королю Италии!
Глуп-бей:
— Мне очень жаль, что я не оратор и не умею выразить свои чувства при осуществлении мечты увидеть Албанию соединенной с фашистской Италией.
Депутат из зала:
— О аллах! Его сиятельство Якомони дожидается нашего решения, а мы тут развели канитель. Давайте поскорее проголосуем да и отдадим корону кому следует.
Аплодисменты.
Слово имеет Гафур-бей:
— Албания связала себя неразрывными узами с фашистской Италией. Албания в сердце у великого дуче фашизма. Так воскликнем же: «Да здравствует дуче фашизма!»
— Да здравствует!
Собрание единогласно постановило передать венец Скандербега Виктору-Эммануилу Третьему, назначило многочисленную делегацию для поездки в Рим и избрало нового премьер-министра. Им стал Шевтет-бей Верляци, несостоявшийся тесть Ахмета Зогу, крупнейший феодал Албании. Он взял слово последний.
— Король Зогу был тщеславен и правил страной, словно феодальный властитель, отныне же у нас будет царить истинная свобода…
Перед зданием парламента Вехби Лика наткнулся на патера Филиппа. Тот сиял торжествующей улыбкой.
— Мои поздравления, падре. Воистину историческое событие.
— О да, это великий день, Вехби-эфенди. Теперь Албания пойдет вперед.
— Наконец-то и на нашей улице праздник, падре…
— Я не знал, Вехби-эфенди, что и вы…
— Да, падре, я тоже ждал этого дня, но при тираническом правлении сатрапа я не мог этого показать. Сколько раз хотел я открыть вам душу, падре! Однако я что-то не вижу патера Георгия.
— Он не приехал.
— Скажите, падре, доволен ли наш национальный поэт?
— Чрезвычайно.
— Он тоже об этом мечтал, не так ли?
— Да, господин Вехби, об этом мечтало все католическое духовенство.
— А вот и Нуредин-бей. Я вас приветствую, Нуредин-бей! Как вам заседание?
— Величественное зрелище! Историческое заседание!
— О, и вы тоже в черной рубашке!
— Как видите, падре. Я эту рубашку приготовил еще много лет назад.
На следующий день делегация, выбранная на заседании парламента, поджидала в аэропорту посадки самолета. «Отцы нации», собравшись кучками, переговаривались.
— Да вы только посмотрите, Фейзи-бей, просто поразительно!
— Да, историческое событие!
— Да какое событие, Фейзи-бей! Я совсем не о том! Вы помните, ведь именно нас выбрали когда-то преподнести корону Ахмету Зогу? Или я ошибаюсь?
Фейзи-бей Ализоти удивленно оглядел членов делегации.
— Странно! Как это вы подметили!
— А некоторые ходили когда-то и к князю Виду. Например, Шевтет-бей, Джафер-бей, Гафур-бей, ваша милость, я…
— Действительно, странное совпадение.
— Как вы думаете, повезет нам на этот раз?
— Бог троицу любит.
— Аминь!
Ах, венец Скандербега! Будь ты даже спортивным кубком, вряд ли ты переходил бы с такой легкостью из рук в руки!
XIV
Шпреса услыхала, как кто-то постучался во входную дверь, но открывать не пошла. Вдела нитку в иголку, нажала ногой на педаль швейной машины и склонилась, следя за швом. Потом прислушалась. Из прихожей доносились радостные удивленные восклицания. Мать, Агим, Вандё — все что-то громко говорили. Шпреса услыхала взволнованный голос отца:
— Где ты пропадал, сынок?
Шпреса бросила работу, подбежала к двери, рывком распахнула ее и замерла на пороге.
Вначале она не узнала рослого парня в новом плаще. Она, скорее, догадалась, кто это, увидев, как отец обнимает его, а мать, повиснув у него на шее, никак не хочет отпускать. Почему-то вдруг забилось сердце. Их глаза встретились, и Шпреса, не выдержав, кинулась к Лёни. Мягкие волосы защекотали ему щеку, его словно ударило током, когда он прикоснулся рукой к ее плечу.
— Пришел, сынок, слава богу! — приговаривала госпожа Рефия.
— Агим, запри дверь! — приказал учитель.
Лёни, подхватив на руки Вандё, вошел в гостиную. Госпожа Рефия присела рядом и снова обняла его.
— Знал бы ты, как мы тут беспокоились. Услыхали, что открыли тюрьму, а тебя все нет и нет, столько дней, — пожаловалась она.
— Я уж хотел было ехать в Тирану, да ведь не знаю, где тебя искать там. Где пропадал так долго?
— В Тиране, господин Демир. Меня товарищи задержали.
Госпожа Рефия ласково погладила его по волосам.
— Как ты изменился! Я тебя сначала и не узнала, думаю, что это за тип кидается ко мне обниматься. Да сними ты плащ.
Шпреса взяла плащ. Непривычно было видеть Лёни в новом, хорошо сшитом костюме.
— Как живете, господин Демир?
— Хорошо, мы-то все хорошо, — ответила за мужа госпожа Рефия.
Лёни вспомнил Скэндера, захотелось что-то такое сказать, но он не находил слов. Глаза его погрустнели.
Шпреса села напротив, Агим прижался было к плечу Лёни, но тот, взяв мальчика за руку, вытащил его на середину комнаты.
— Как ты вырос, Агим! Скоро будешь совсем взрослым. Ну-ка скажи, ссоритесь с Вандё?
— Чего нам ссориться? Мы с ним друзья.
— Братья вы с ним, — поправила госпожа Рефия.
— Братья.
— А ты, Вандё, как учишься?
— Хорошо, скоро перейду в третий класс. — Он прижался к брату. — Я так соскучился! Ты мне даже приснился…
— И мне тоже, дядя Лёни, — сказал Агим.
— Ну а теперь идите-ка, ребята. Успеете еще наговориться.
— Да пусть посидят, — вступилась госпожа Рефия.
— Принесли бы нам бутылочку, а? Не грех выпить сегодня по рюмочке, правда, Лёни?
Шпреса вскочила, чтобы принести бутылку, но мать ее остановила.
— Ты бы пошла, Шпреса, да закончила работу.
— Да я устала, мама, руки уже не работают.
— За ней ведь завтра придут с самого утра.
— Получат попозже, — вмешался Демир. — Оставь ты Шпресу, она сегодня достаточно поработала. Принеси лучше сыру и оливок. И салат бы сделала.
Когда стол был накрыт, Демир поднял рюмку.
— За твое здоровье, Лёни! За благополучное возвращение!
— Спасибо!
— Принеси рюмку и для Шпресы!
— Не надо, отец, я не буду.
— Одну рюмочку. Чокнешься с Лёни.
— За тебя, Лёни!
Они расспрашивали его обо всем: как жил в тюрьме, как вырвался, где был последнее время. Лёни отвечал подробно, время пролетело совсем незаметно.
Демир вдруг опомнился.
— А не пора ли нам ужинать?
— О господи, я совсем и позабыла! — воскликнула госпожа Рефия. — А что будем есть на ужин?
Все рассмеялись.
— Да сделай что-нибудь, неважно. Тут все свои.
Лёни вдруг стало как-то не по себе. Ему вспомнилось опять, что нет с ними человека, столь любимого всеми. Стало грустно.
Учитель, угадав его мысли, тронул за плечо.
— Не надо, сынок.
— Мои товарищи в тюрьме, когда узнали про Скэндера, горевали очень, — сказал Лёни. — Даже Хаки — всегда так владеет собой, а тут ходил как в воду опущенный, ни слова не говорил.
Лёни тяжело вздохнул. Шпреса глядела на него сквозь слезы, госпожа Рефия вытирала глаза концом своего фартука.
— Ах, Скэндер, мой сыночек, если бы и ты был сейчас тут со своей матерью…
— Перестань, жена! О будущем надо думать. Что ты теперь собираешься делать, Лёни?
— Не знаю, господин Демир. Товарищи предлагают остаться в Тиране. И работу уже нашли.
— Значит, уйдешь из деревни.
— А что мне там делать? Халупы нашей давно нет. Поеду повидаюсь с отцом, пережду там несколько дней. Боюсь, не стали бы меня разыскивать.
— Не думаю. К чему им снова всех собирать? Придется им так или иначе объявлять амнистию.
— И товарищи в Тиране тоже так говорят. Но пока нет амнистии, лучше не мозолить им глаза.
— Пожалуй.
— Оставайся тут, — предложила госпожа Рефия.
— Спасибо, госпожа Рефия, не буду вас беспокоить. В деревне меня не найдут.
— Насчет деревни ты прав, — сказал господин Демир. — Но чтобы я больше не слышал о беспокойстве. Ты наш, ты у нас вместо… ты для нас как сын.
У него не хватило духу произнести имя погибшего сына.
— Когда отправляешься?
— Сегодня вечером.
— Нет, хоть сегодня побудь у нас, — запротестовала госпожа Рефия.
— Надо идти, — возразил Лёни.
— Налей рюмку Лёни, — сказал господин Демир.
Шпреса взяла бутылку, но Лёни придержал ее руку. Они взглянули друг на друга, и она словно только сейчас заметила, какие у него глубокие черные глаза.
— Не наливай, не надо больше.
— Только одну.
— А я так и решила в тот день, когда итальянцы пришли, — рассказывала госпожа Рефия. — Ну, теперь-то, думаю, выпустят Лёни.
— Так ведь итальянцы, госпожа Рефия, всю Албанию посадили за решетку, — сказал Лёни. — Кажется, будто тюремную решетку нарастили вширь и ввысь и все мы оказались за ней.
— Это так, — проговорил учитель.
— Ничего, и они сломают себе шею, — сказала госпожа Рефия.
— Будем сидеть сложа руки, так ничего с ними не случится, — отозвалась Шпреса.
— А мы не собираемся сидеть сложа руки, — возразил Лёни. — Против фашизма поднимутся даже те, кому и в голову не приходило выступать против Зогу. Теперь и до них дойдет, почему с фашистами надо бороться. Вот я, к примеру, спроси меня раньше, что такое Албания, так я бы и ответить не смог. Я думал, родина — это только моя деревня. Мне и дела не было до всяких там гегов,[88] а теперь они мне кажутся такими близкими. Теперь я знаю, что такое родина.
— Только, Лёни, действовать надо… с умом.
— Да уж иначе ничего не сделаешь.
Они проговорили допоздна. Уже почти под утро Лёни поднялся и надел плащ.
— Я пойду с тобой, — попросил Вандё.
— Нет, оставайся здесь. Я вернусь.
— Не волнуйся, сынок, Лёни еще придет. А вы, ребята, никому не говорите, что Лёни был здесь. Если кто спросит — вы ничего не знаете.
Лёни засмеялся.
— Слыхали? Пора и вам привыкать к конспирации.
Шпреса улыбнулась, услышав, как свободно он произнес это иностранное слово.
— Ну, до свидания!
— Что бы ни случилось, помни, здесь твой дом, — сказал господин Демир.
— В любое время приходи, — добавила госпожа Рефия.
Они попрощались с Лёни у калитки. Господин Демир медлил уходить.
— До свидания!
— Погоди-ка. — Господин Демир взял Лёни за локоть. Он быстро пошел к дому и исчез в подвале. Лёни, подняв воротник плаща, посмотрел на усыпанное звездами небо.
Но вот показался учитель. Лёни в темноте не мог рассмотреть, что у него в руках.
— Бери, — сказал учитель, — тебе пригодится.
Лёни ощутил ладонью холодное прикосновение металла и радостно вздрогнул, поняв, что это винтовка, да еще какая! Он же всю жизнь мечтал о такой винтовке!
— Бери, Лёни, — повторил учитель. — А вот и патронташ. С этой винтовкой я когда-то воевал, она стреляла только по врагам Албании. Я берег ее для Скэндера, а теперь… теперь ты вместо него. Бери, сынок, и пусть она послужит тебе, как послужила бы Скэндеру или мне, будь я на твоем месте, — для освобождения нашей родины.
— Даю тебе слово, отец, что использую ее, как ты наказываешь, — в борьбе за свободу Албании, — неожиданно для себя ответил Лёни.
Учитель крепко пожал ему руку и обнял.
Лёни подпоясался патронташем, перекинул винтовку за плечо и отправился в путь, не чуя под собой ног от радости. Оружие словно окрыляло его, он чувствовал себя непобедимым. Пройдя по темным переулкам городка, он через поле вышел к мосту, там свернул направо, на проселок, что вел к его деревне Роде.
Сколько раз, сидя в тюрьме, вспоминал он этот путь. Сколько раз видел его во сне! Вот и река! Он шел, не касаясь земли ногами, словно летел.
У разветвления дороги Лёни остановился. Вот эта колея выведет его к Роде — его родной деревне… Там был его дом… Его родной дом…
Лёни постоял немного, сжимая в руке винтовку, словно стараясь унять боль в душе.
Нет. В Роде ему делать нечего. Надо навсегда забыть эту деревню и дом, который когда-то был там. Его с ними ничто уже не связывает, одни воспоминания. И он решительно направился по другой колее. Перед глазами вдруг встали лица товарищей — Хаки, Хамди, Халима, Хайдара… Жаль Хайдара! Это был настоящий человек! И как мы тогда не догадались! Не надо было его пускать! Был бы теперь жив. Но разве кто мог подумать такое!..
Издалека донеслись звуки музыки, кто-то пел. Лёни поднял голову: на том берегу реки, в доме бея, светились окна. Чем ближе, тем свет был ярче, тем слышнее становились музыка, смех и голоса. Что такое? Опять этот подлец гулянку устроил!
Лёни, не разуваясь, перешел речку вброд и приблизился к дому. Знакомые стены! Сколько раз поджидал он бея у этих стен!
Лёни остановился напротив балкона, не отрывая от него взгляда. Сквозь пронзительные звуки народного оркестра пробивался женский смех, разговор. Говорили не по-албански. Гафур-бей собрал своих шлюх и пирует как ни в чем не бывало.
Вдруг оркестр умолк. Снова стали отчетливо слышны голоса, смех Гафур-бея. Потом женский голос запел какую-то иностранную песню, кто-то неумело пытался подыгрывать на кларнете. Взрыв смеха, балконная дверь распахнулась.
Появился Гафур-бей. Он плюхнулся на стул, вытирая платком лоб. За ним вышел какой-то субъект с двумя полуодетыми женщинами. Одна из них прыгнула на колени к Гафур-бею, тот залился тонким, блеющим смехом.
Лёни передернуло от гнева и отвращения. Не помня себя, он вскинул винтовку. Перед его мысленным взором встало вдруг лицо сестры, как она лежала осыпанная цветами, с золотистой прядью волос на лбу.
«Убью пса! Рассчитаюсь за все! Уйди, шлюха!» — беззвучно приказал он.
Но она не уходила. Сидя на коленях у Гафур-бея и положив руки ему на плечи, она заслоняла его от Лёни.
Какой великолепный случай рассчитаться с Гафур-беем! Представится ли еще когда-нибудь такая возможность! Стоит лишь спустить курок, и враг рухнет замертво. Сколько раз он видел в воображении такую картину. Разве его кто-нибудь заподозрит! Ведь все думают, что он в тюрьме! Мгновение, и поди поймай его! Пока холуи бея опомнятся, он растворится в темноте.
Лёни целился в Гафур-бея, а сердце тяжело билось, словно собираясь выскочить из груди. Не промахнуться, уложить с одного выстрела! Как говорил один в тюрьме: «Бах! И наповал!» Ну уйди же ты, шлюха, хочешь, чтобы и тебя заодно уложили? Ну, Гафур-бей, теперь ты у меня в руках!
Женщина поднялась и ушла в комнату. Бей повернулся лицом к Лёни. Свет, падавший от двери, хорошо освещал его, и Лёни был уверен, что не промахнется. И в это мгновение в его ушах вдруг отчетливо прозвучал голос Хайдара:
«Мы с Лёни поторопились… ума не хватило».
«Нет, Хайдар, на этот раз я его прикончу!»
«Ну, убьем мы одного-двух, зло-то все равно останется!» — вспомнил он слова Рауфа.
И снова голос Хайдара:
«Только действовать надо с умом!»
Лёни опустил винтовку. На лбу выступила испарина, он был словно в лихорадке. «Верно ли я сделаю, если убью его? Что подумают товарищи? Скажут: вот, не успел отойти на шаг, как бросился мстить своим личным врагам! А учитель? Что он-то скажет? Зачем он мне дал винтовку — мстить бею?»
«Бери, сынок, и пусть она послужит тебе, как послужила бы Скэндеру или мне, будь я на твоем месте, — для освобождения нашей родины».
Размышления Лёни вдруг прервал смех Гафур-бея, жеребячий смех, который привел его когда-то в ярость у кофейни. Лёни снова вскинул винтовку.
«Даю тебе слово, отец, что использую ее, как ты наказываешь, — в борьбе за свободу Албании».
Тяжело вздохнув, Лёни стал медленно удаляться от балкона, не отрывая взгляда от ненавистного лица. До самой дороги смех бея преследовал его, молотом ударяя по голове. Но Лёни решительно продолжал путь. Легкий ветерок освежил его, боль в голове утихла. Спокойствие возвращалось к нему. Смех Гафур-бея был едва слышен, потом стих вовсе. В усталом мозгу Лёни отчетливо зазвучал вдруг ласковый голос Скэндера, слышанный так давно, в далеком детстве:
«А меня ты помнишь, Лёни?»
Лёни подумалось, что винтовка у него за плечом предназначалась Скэндеру. А он разве воспользовался бы ею для личной мести?
Особняк бея остался далеко позади.
Запрокинув голову, Лёни взглянул на небо. Сколько звезд! Вон Млечный Путь, вон Большая Медведица, Утренняя Звезда… Скоро рассвет…
«Звезды считаешь, Лёни?»
«Нет, Скэндер, думаю».
Примечания
1
«Правда», 4 ноября 1927 г.
(обратно)2
Джейриз является «синтезом» двух реально существовавших английских дипломатов Эйрса и Сиидса, оказавших большое влияние на А. Зогу.
(обратно)3
«Балканские исследования. Проблемы истории и культуры». М., 1976, с. 144.
(обратно)4
Н. Д.Смирнова. Албанский вопрос в итальянской внешней политике. 1932–1934 гг. М., 1974.
(обратно)5
Начальник байрака, территориальной единицы в Северной и Северо-Восточной Албании во времена турецкого господства. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)6
Зогу означает по-албански «птица».
(обратно)7
Имеется в виду югославский премьер-министр того времени Н. Пашич.
(обратно)8
Монастырь св. Наума, близ города Поградеца, подаренный Ахметом Зогу Югославии в 1925 г. в качестве вознаграждения за помощь, оказанную ему югославским правительством Н. Пашича. — Прим. автора.
(обратно)9
Германский князь, поставленный на албанский престол в 1914 г. по решению великих держав.
(обратно)10
Положение обязывает (франц.).
(обратно)11
Родина (греч.).
(обратно)12
Область в Южной Албании, объект территориальных притязаний монархической Греции.
(обратно)13
Родина, отечество (турецк.).
(обратно)14
Прости мне, аллах! (турецк.)
(обратно)15
Точно (франц.).
(обратно)16
Виноградная водка.
(обратно)17
Георгий Кастриот Скандербег — национальный герой Албании, объединил албанских князей в борьбе против турок в XV веке.
(обратно)18
Цилиндр (англ.).
(обратно)19
Высший свет (англ.).
(обратно)20
Ваше превосходительство (итал.).
(обратно)21
Исключение подтверждает правило (лат.).
(обратно)22
Между нами (лат.).
(обратно)23
Вождь (лат.).
(обратно)24
Верь знающему (лат.).
(обратно)25
С привилегиями (лат.).
(обратно)26
Я полагаю иначе. Легок путь в преисподнюю (лат.).
(обратно)27
Отец семейства, вместо отца (лат.).
(обратно)28
Защитникам веры (лат.).
(обратно)29
Государством в государстве (лат).
(обратно)30
Братья (итал.).
(обратно)31
Хочешь не хочешь (лат.).
(обратно)32
Пальма первенства да увенчает достойного (лат.).
(обратно)33
Албанские национальные головные уборы в виде шапочек, различных по форме и по цвету.
(обратно)34
В 1444 году на Совете в Леже под руководством Скандербега была сформирована Лига албанских князей для борьбы против турецкого владычества.
(обратно)35
Александр Македонский (IV в. до н. э.).
(обратно)36
Царь Эпира (III в. до н. э.).
(обратно)37
Наим Фрашери — великий поэт албанского Возрождения (XIX в.).
(обратно)38
Васо Пашко — албанский просветитель (XIX в.).
(обратно)39
Национальный головной убор.
(обратно)40
Сокращенное от «джаджа» — дядюшка. Форма вежливого обращения к пожилым и старикам.
(обратно)41
Низкий круглый столик для еды.
(обратно)42
Так албанцы называют Млечный путь.
(обратно)43
Вежливое обращение к землевладельцу и вообще к уважаемому человеку.
(обратно)44
Жители Ляберии, равнинной области в Средней Албании.
(обратно)45
Книга Сами Фрашери, видного деятеля албанского Возрождения.
(обратно)46
Видные деятели демократического движения в Албании.
(обратно)47
Июньское восстание 1924 г. привело к образованию демократического правительства во главе с Фаном Ноли.
(обратно)48
Лжесвидетель (турецк.).
(обратно)49
Золотая монета в довоенной Албании.
(обратно)50
Видный деятель национально-освободительного движения Албании в начале XX в.
(обратно)51
Добрый день… урок… после обеда… да… (искаж. франц.).
(обратно)52
Мастер, хозяин. Здесь: уважительное обращение.
(обратно)53
Албанская пекарня предназначена не только для выпечки хлеба. В большой печи пекут пироги и запекают мясные, сладкие и прочие блюда, которые хозяйки приносят на противнях из дома.
(обратно)54
Жест, характерный для албанцев.
(обратно)55
Кожаная или резиновая обувь албанских крестьян, по форме напоминающая лапти.
(обратно)56
Албанец, уроженец Косово.
(обратно)57
Варенье.
(обратно)58
Восстание против Ахмета Зогу в августе 1935 г. Закончилось поражением.
(обратно)59
Натуральный шелк (итал.).
(обратно)60
Мера зерна, равная 40 кг.
(обратно)61
Дух, бодрость (искаж. итал.).
(обратно)62
Глава субпрефектуры, административно-территориальной единицы Албании до 1944 г.
(обратно)63
Господин (греч.).
(обратно)64
Эпизод построен на игре слов. Произношение и написание слова «лес» в соответствии с гирокастрийским диалектом воспринимается жителями Средней Албании как ругательство.
(обратно)65
Имеется в виду Италия.
(обратно)66
От итальянского «mondazione» — наводнение.
(обратно)67
От французского «evenement» — событие.
(обратно)68
Согласие (франц.).
(обратно)69
Мера площади, равная 1000 м2.
(обратно)70
У мусульман — ученый-богослов, разбирающий правовые вопросы.
(обратно)71
Бекташи — мусульманский монашеский орден.
(обратно)72
Часть женского национального костюма — широкие шаровары, сужающиеся к щиколоткам.
(обратно)73
Народный албанский музыкальный инструмент.
(обратно)74
Сказочные девы-воительницы, хозяйки природы.
(обратно)75
Мифические существа, предсказательницы судьбы.
(обратно)76
Вечеринка (франц.).
(обратно)77
Крайности сходятся (франц.).
(обратно)78
Замять дело (турецк.).
(обратно)79
Где хорошо, там и родина (лат.).
(обратно)80
После меня хоть потоп (франц.).
(обратно)81
Действителен для Албании (франц.).
(обратно)82
Абаз Купи по прозвищу Бази из Цаны — майор зогистской армии.
(обратно)83
Искаж. Декарт.
(обратно)84
Предводитель горской знати, «главный» байрактар.
(обратно)85
Имеется в виду восстановление власти А. Зогу после поражения революции 1924 г.
(обратно)86
Убогий народ албанцы (турецк.).
(обратно)87
От французского «marchandage» — торговля.
(обратно)88
Жители Северной Албании.
(обратно)
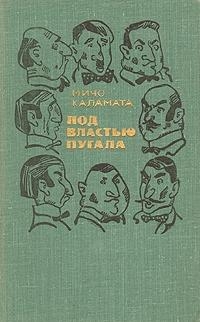

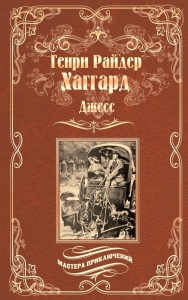
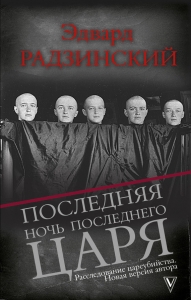





Комментарии к книге «Под властью пугала», Мичо Каламата
Всего 0 комментариев