Григорий Петрович Климов ПЕСНЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
Первое издание этой книги вышло под названием «Берлинский Кремль», которое было навязано автору из политических соображений. Книга имела предисловие мэра Западного Берлина.
«...Книга майора Климова „Берлинский Кремль“ чрезвычайно ценный вклад — для подлинного понимания всего происходящего в Советской России... Все те, кто глубоко обеспокоен будущим Запада, должен внимательно прочесть эту книгу. Я надеюсь, что эта книга будет способствовать формированию воли, которая должна быть направлена на освобождение всего мира».
Эрнст Ройтер, обербургомистр г. Берлина
По этой книге в 1954 году в Западной Германии был поставлен фильм «Возврата нет», получивший премию года. А позже были созданы фильмы в Англии и США.
Когда в 1972 году Г. Климов подготовил 2-е издание этой книги, то название «Берлинский Кремль» устарело и мало кто понимал, что это такое. Поэтому автор для эмигрантских читателей переменил название на «Крылья холопа» и в коротком предисловии дал пояснение новому названию.
«Говорят, что во времена царя Ивана Грозного какой-то холоп изобрел слюдяные крылья, чтобы летать, как птица. Он залез на колокольню, приладил крылья, прыгнул вниз — и убился. С тех пор выражение „крылья холопа“ употребляют в смысле стремления подневольного человека вверх, к правде, к свободе, к счастью что, однако, далеко не так просто. Так, окрыленный этими чувствами, русский солдат выиграл войну — и проиграл послевоенный мир».
Для российских читателей с согласия автора мы даем название этой книге «Песнь победителя». Пусть в названии улавливается некоторый отзвук иронии, но именно оно соответствует самому духу книги и лучше отражает ее содержание.
Глава 1 Военная академия
1
«Кли-и-имов!» — проникает откуда-то издалека сквозь грубое сукно шинели и свинцовую усталость солдатского сна.
Нет — это, наверное, мне просто снится. Под натянутой на голову шинелью так тепло. Свеженаломанные ветки под брезентом плащ-палатки такие мягкие и уютные. Конечно — это мне только снится!
«Капитан Кли-и-имов!» — снова раздаётся в ночной тишине. Слышно как кто-то вполголоса переговаривается с часовым, шагающим между сонными рядами палаток.
Можно сравнительно легко обходиться без пищи, но оставаться без сна — значительно труднее. Как-то утром, сладко потягиваясь и поправляя висящие на поясе ручные гранаты, я заинтересованно посмотрел на свое ночное ложе.
Ночью, забравшись в разрушенное здание, я в темноте нащупал какую-то угловатую кучу и, разбросав её поровнее, завалился спать. Не помню, что мне снилось, но утром я обнаружил, что спал посреди развороченной кучи толовых шашек. Здание дрожало от обстрела, а я сладко похрапывал на целой тонне динамита. Да, великое дело фронтовой сон!
«Приказано немедленно явиться в Штаб Фронта, — доносится голос, переговаривающийся с часовым, и снова громче: — Капитан Кли-и-имов!»
Э-э! Штаб Фронта это не шутка. Тут под землей разыщут. Я сбрасываю служащую одеялом шинель. Сырой, пропитанный испарениями болот воздух, смешанный со специфическим солдатским запахом, густо наполняющим палатку, ударяет в лицо. Пищат невидимые комары. Стараясь не беспокоить спящих, я задом выползаю из палатки.
«А-а-а-а?! — кряхчу я, ещё полупьяный ото сна. — Кого тут, собственно, кличут? Климова что ли?»
«Товарищ капитан, посыльный из Штаба Фронта», — докладывает из темноты часовой.
«Где он там? В чем дело?»
«Товарищ капитан, Вам приказ», — сержант в кожаном шлеме протягивает мне продолговатую бумажку.
«Капитана Климова Г. П. откомандировать в Управление Кадров Штаба Ленфронта к 8.00 17 июля 1944 года», — читаю я при свете карманного фонаря. Внизу пометка рукой командира КУКСа: «Приказываю немедленно выбыть в УК Ленфронта».
«Хм, должно быть что-то интересное! Хоть недаром разбудили», — думаю я и спрашиваю сержанта: «Есть какие-либо дополнительные приказания?»
«Приказано немедленно отвезти Вас в Штаб», — отвечает тот, нажимая ногой на стартер связного мотоцикла.
В прицепе мотоцикла с меня слетают последние остатки сна. Мы трусимся по ухабам запущенной лесной дороги, осторожно перебираемся через ветхие бревенчатые мостики, проезжаем по полусожжённой безжизненной деревне.
На фоне светлеющего неба чернеют каменные трубы печей и расщеплённые артиллерийским обстрелом доски крыш. Колёса мотоцикла буксуют на песке, плавная качка, рычание мотора, затем мы переваливаемся через травянистую канаву и с облегчением чувствуем под собой гладкое полотно асфальтированного ленинградского шоссе.
В лёгком, стелющемся над влажной землёй, утреннем тумане мелькают аккуратные пригородные дачи в зелени деревьев. Поблёскивают зеркальной гладью лужи мелких озер и бесчисленных болот.
Бледно-жёлтые пятна песчаных дюн. На горизонте поднимаются к небу трубы ленинградских фабрик и заводов. Ровной светло-серой лентой летит нам навстречу прямое, как стрела, шоссе.
Да, ночной вызов в Штаб обещает быть интересным! Попусту не гоняют курьеров и не поднимают людей среди ночи из болота. Мои соседи по палатке сейчас просыпаются.
Увидев моё пустое место, они обрадуются сначала, что вытянули меня, а не кого-нибудь из них. Узнав же, что меня вызывали в Штаб Фронта, они заинтересованно почешут затылки и переглянутся.
Курсы Усовершенствования Командного Состава Ленинградского Фронта — КУКС, где я волею судеб обретаюсь на сегодняшний день, — это довольно специфическая воинская часть. «Антикварная лавочка», как говорят курсанты.
Здесь можно встретить сравнительно молодых людей, обросших бородами и усами самых диковинных фасонов. Эти угрюмые типы даже в жаркую пору таскают на голове меховую шапку — кубанку с красной шёлковой лентой наискосок — знак партизанского звания.
Это — бывшие офицеры и командиры партизанских отрядов, из которых теперь выколачивают партизанский дух и приучают к армейской дисциплине.
Вскоре после освобождения Ленинграда из кольца блокады в январе 1944 года в городе торжественным парадом было отмечено вступление партизан Ленинградской области. Через месяц в Ленинград с фронта были поспешно отозваны несколько спецбригад НКВД для разоружения расходившихся лесных вояк.
Партизаны вели себя в городе как завоеватели во вражеской крепости и с пытающимися призвать их к порядку милиционерами разговаривали не иначе, как на языке ручных гранат и автоматных очередей.
Милиционеров они считали своими потомственными врагами и открыто хвастались кто сколько «лягашей» уложил.
После парада и последующего разоружения всех партизан без особого шума загнали в телячьи вагоны и переправили в спецлагеря НКВД.
«Диким» партизанам поют гимны в газетах как национальным героям-патриотам, но когда они из лесов попадают на свет Божий, то их первым делом зовут перед ясные очи НКВД. Чем вы, собственно, занимались, граждане партизаны?
Одно дело — регулярные партизанские отряды из переодетых частей Красной Армии или полурегулярные, имеющие присланных из центра командиров и центральную радио- и авиасвязь. Но, если вы околачивались в лесах и выходили на «продразверстку» только когда кончались самогон да сало… Тогда держитесь — не помогут вам и красные ленточки на лбу!
Перетрусив и перемыв бывших партизан в десяти водах, НКВД отправляло их в регулярную армию, а командиров — для переквалификации на КУКСы, подобно КУКСу Ленфронта.
На КУКСе мои уши часто ласкают загадочные слова:
«Ты откуда — из „восьмёрки“?» — спрашивает один.
«Нет, — из „девятки“», — нехотя отвечает другой.
Оказывается «восьмёрка» и «девятка» — это 8-й и 9-й Штурмовые Батальоны Ленфронта. Так называются офицерские штрафные батальоны, где офицеры пускаются в бой в качестве рядовых солдат. Если они останутся в живых, то снова получают прежнее офицерское звание. Если останутся в живых… Потери в штурмбатах составляют обычно 90–95 процентов состава после каждой боевой операции.
Когда Красная Армия перешла в наступление и начала освобождение оккупированных немцами территорий, то всех бывших советских офицеров, обнаруженных на этих территориях, собирали и, подобно партизанам, отправляли в спецлагеря НКВД.
Тех, кого НКВД считало недостойными для показательной виселицы, после такого предбанника отправляли в следующее отделение чистилища — в штурмовые батальоны.
Там им предоставлялась возможность кровью искупить свою вину перед Родиной. Пока воюйте! После войны будет время поговорить более детально.
Оставшиеся в живых после кровавой купели, как правило, из госпиталей, — из штурмбатов уйти можно было только лишь буквально ценой пролитой крови, — для окончательного перевоспитания отправляли на КУКСы.
У моих товарищей по КУКСу я часто видел солдатские книжки из штурмбата, где после строк «рядовой» и «пехотинец» на обороте стояла пометка «полковой комиссар» или «командир эскадрильи».
Да, любопытный человеческий материал на нашем КУКСе! Практически — это долговременный резерв Ленинградского Фронта. Чтобы офицеры не жирели и не слонялись без дела их с серьёзным видом заставляют играть в солдатики.
Бывшего командира пулеметной роты учат сборке и разборке пулемета системы «Максим», а командиру стрелкового батальона объясняют устройство винтовочного затвора непревзойденного образца 1891 года.
На КУКСе большой процент «новых украинцев». Когда Красная Армия отступала из Украины, то многие солдаты из местных жителей, проходя мимо родных сел, запросто бросали винтовки в канаву и шли «до дому». «Пропади она пропадом эта власть!» — сплевывали они вдогонку отступающим частям.
Когда Красная Армия начала изгонять немцев с Украины, то «домоседов» быстренько собирали, — этим занимались даже не военкоматы, а сами командиры передовых частей, — совали им снова винтовки в руки и, даже не переодев в шинели, в чём были — в первую линию боя!
Их так и называли — «пиджачники». Берега Днепра, как весенними цветами, пестрели трупами в разноцветной гражданской одежде.
Рядовой состав, обычно без фильтрации органами НКВД, включался в действующую Армию. Свести мелкие личные счёты государства и личности можно будет позже. На данном этапе больше требовались солдаты для Армии, чем рабочая сила для концлагерей.
На КУКСе хотя и не произносилось вслух, но чувствовалось некоторое напряжение между украинцами и русскими. Украинцы больше помалкивали, как провинившиеся младшие братья. Русские иногда беззлобно замечали: «Эх вы, хохлы…»
«Эх! Эти немцы! — вздыхали украинцы. — Не оправдали нашего доверия, сучьи дети!»
Однажды по батальонам КУКСа заходили списки. Среди курсантов искали крымских татар. Я помню расстроенное лицо старшего лейтенанта Хайфутдинова, когда он заполнял графы этого списка против своей фамилии.
По слухам мы знали, что всё без исключения население Крымской АОСР по приказу Кремля меняет квартиру. За нелояльное к советской власти поведение во время немецкой оккупации несколько миллионов людей переселяют в Сибирь, сами республики ликвидируются.
Среди курсантов этот приказ повел к следующему разговору:
«А калмыки, знаешь, как под Сталинградом работали? — сказал один. — Немцы спереди прут, а те сзади. Целыми полками по ночам вырезали!»
«Интересно — почему это донские и кубанские казаки без дела сидели?!», — добавил другой.
«От казаков-то что осталось? Рожки да ножки, — отозвался третий. — Ведь эти теперешние казачьи части — там ни одного казака нет. Только и есть казачьего, что лампасы!»
Офицеры не возмущались, что калмыки вырезали их полки. Они только удивлялись, почему казаки бездействовали. Донские и кубанские казачьи области издавна считались антисоветскими гнездами. Там с особенной жестокостью был применен искусственный голод 1933 года.
До 1936 года казаков, как единственную из национальных группировок, не брали для регулярной службы в Армии. Теперь для людей было поразительно, что казаки, испокон веков славившиеся своим свободолюбивым духом, не выступили против Советской власти.
Среди курсантов много бывших армейских политработников. Большинству людей этой категории сняли голову ещё в спецлагерях НКВД. Зато те, кто благополучно проскочил и эти лагеря и штурмбат, оказались действительно чертовски живучими. Попав на КУКС они, с подлинно коммунистической волчьей хваткой, зубами и когтями вцепились в свое прежнее хлебное ремесло — должность пастухов человеческого стада.
Несмотря на все сита и воды НКВД, они даже в игрушечных условиях КУКСа умудрились никому неизвестными путями пролезть на должности командиров наших курсовых подразделений.
Курсанты никогда не пропускают удобного случая, как будто по ошибке, язвительно обращаться к ним «товарищ политрук» или «товарищ комиссар», хотя эти звания теперь в армии упразднены.
Несмотря на разношерстный состав, «антикварная лавочка» является оживлённым местом торга. Почти каждый день в КУКСе появляются таинственные комиссии — «покупатели» как зовут их курсанты.
Например требуются партизаны в Югославию. Условия — 25 000 рублей на бочку, месячный отпуск, затем парашютная высадка в Югославии. Учить людей не требуется — народ уже достаточно тёртый. Записываются в очередь. В особенности бывшие партизаны, которым не даёт покоя армейская дисциплина.
То неожиданно массовые поиски людей с польскими фамилиями — набор в польскую «национальную» армию, не знаю уж какую по счёту. Следующий раз требуются кандидаты в Высшую Разведшколу РККА. Условия — звание не ниже майора и законченное высшее образование. Даже при столь жёстких условиях кандидатов хватает.
Эта оживлённая торговля объясняется острой нехваткой специальных кадров в Армии. Здесь же, в КУКСе, масса свежего ещё нерассортированного человеческого материала, который до последнего времени, в партизанах или на оккупированных территориях, был недоступен для учёта.
Большинство моих товарищей по КУКСу — это буквально люди с того света. Молодой мужчина с седыми висками спокойно, даже с некоторой неохотой, рассказывает свою историю. О том, как он бежал через всю Европу из немецкого плена во Франции, о своем повторном пленении уже на оккупированной территории России, затем кацет и снова побег.
Как он дважды был под расстрелом, как он тяжело раненый выбрался из могилы из-под трупов товарищей. О двух годах партизанской жизни в болотах и лесах Ленинграда. И в награду за верность Родине — чистилище лагерей НКВД, кровавая купель штурмбата и, наконец, тихая заводь КУКСа.
Почти у каждого курсанта КУКСа за плечами подобный путь. Это были единицы. Сотни остались лежать по обочинам этого пути. Характерно, что эти люди не любили рассказывать свои истории.
Среди такого состава я был настоящим молокососом, к тому же невинным, как новорожденный младенец. Я попал на КУКС из 96 Особого Полка Резерва Офицерского состава — ОПРОС 96 после ранения в боях за Новгород и трехмесячного пребывания в госпитале.
Как раз в момент моего нахождения в госпитале в Инженерном Замке или, как его называли раньше, Павловском Дворце, Ленинград гудел неожиданной вестью.
По постановлению Ленинградского Совета все важнейшие исторические улицы и площади Ленинграда были снова переименованы — им вернули их прежние дореволюционные имена.
Невский проспект из «Проспекта имени 25-го Октября» снова обернулся Невским. Марсово Поле избавилось от своей столь же косноязычной клички и опять стало Марсовым. Мы смотрели на всё это и только диву давались. Наверно, скоро и колхозы отменят…
Штаб Ленинградского Фронта помещается в огромном подковообразном здании Генерального Штаба напротив Зимнего Дворца. Необходимый мне подъезд Управления Кадров выходит внутрь знаменитой исторической Арки Генерального Штаба. Сквозь эту Арку в 1917 году революционные матросы и красногвардейцы Петрограда штурмовали Зимний Дворец.
В приёмной на толстых метровых подоконниках сидят, болтая ногами, несколько офицеров.
«Капитан, ты тоже сюда?» — обращается ко мне один из них. Получив утвердительный ответ, он задаёт мне неожиданный вопрос: «А ты на каком-нибудь иностранном языке балакаешь?»
«А что тут, собственно, покупается и продаётся?» — спрашиваю я в свою очередь.
«Пока что устраивают экзамен по иностранным языкам. И чего я их, дурак, раньше не учил?!» — с тоской вздыхает лейтенант, поглядывая на дверь.
«Производят набор в какую-то спецшколу или даже Академию, — поясняет мне другой. — Первое условие — знание какого-либо иностранного языка и законченное среднее образование. Видно что-то солидное. Говорят, далее — в Москве», — тоном скрытого вожделения добавляет он, безнадёжно чмокнув губами.
Из-за завешенной портьерой двери выскакивает потный и красный офицер.
— «Эх, черт… Как по немецки „стена“ называется? „Окно“ знал, „стол“ знал, а вот „стену“ забыл… Ах, досада!.. Теперь, наверное, не выгорит моё дело, — бормочет он разочарованно, отирая пилоткой пот со лба. — Слушайте, хлопцы! Учите скорее всё, что в комнате есть… Он пальцем кругом тыкает и спрашивает, как это называется».
Из ожидающих в приёмной офицеров двое знают финский язык, один — румынский, у остальных — школьные знания английского и немецкого. Какие эти знания, мне хорошо известно. Чем у людей меньше шансов, тем больше желания попасть в загадочное место, где требуется знание языков.
Всё, что связано с иностранным — автоматически щекочет в носу и возбуждаёт фантазию. К тому же людишки что-то определенно пронюхали и каждый старается скрыть это друг от друга — как бы кто не занял его место. Недаром все так волнуются.
Я невольно ухмыляюсь. Тут вам не пять частей затвора образца 1891 года! Производя тактическую разведку, я мирно заваливаюсь на стоящую в дальнем углу скамейку и, накрыв лицо пилоткой, продолжаю прерванный ночной отдых. Армия притупляет чувства и делает из человека автомат. Пусть другие грызутся за свое счастье, от меня оно не уйдёт.
Когда называют мою фамилию, я прохожу в дверь кабинета и по всем правилам гитлеровской армии стучу сапогами и рапортую по-немецки таким громовым голосом, что сидящий за столом майор испуганно содрогается.
Он недоуменно смотрит на меня, наверно думая, что меня спросить — «стол» или «окно», затем спрашивает что-то по-русски, я отвечаю по-немецки. Майор-экзаменатор снова по-русски, я опять по-немецки. В конце концов майор не выдерживает, смеется и, предлагая мне стул, спрашивает: «Где это Вы, капитан, так наловчились?»
Я вынимаю из кармана мои документы доармейского периода, каким-то чудом сохранившиеся у меня, и кладу их на стол перед майором.
«Ага, вот это замечательно, — говорит он. — А я сначала подумал, что Вы немец. Так я Вас сразу проведу к полковнику».
Через вторую дверь он проводит меня в соседний кабинет и представляет начальнику Управления Кадров: «Товарищ полковник, вот верный кандидат! Насчёт языка можете не беспокоиться — он меня уже напугал. Я думал — диверсант». Он оставляет на столе папку с моими бумагами и удаляется.
Полковник действительно не беспокоится о языке. Он сразу начинает моральную обработку. Для офицеров очень важна и строжайше проверяется морально-политическая характеристика.
«Так вот, капитан Климов, — начинает полковник. — Мы хотим послать Вас в очень ответственное и привилегированное Высшее Учебное Заведение Красной Армии». Тон у полковника явно торжественный.
«Чтобы Вы поняли меня — я обрисую Вам ситуацию, — продолжает он. — Москва требует от нас ежемесячно определённый контингент кандидатов. Мы посылаем их в Москву, все они там проваливаются ко всем чертям и затем их нам с ругательными письмами возвращают обратно. Этих неудачников мы затем отправляем в штрафные роты», — как бы попутно замечает он, бросив на меня многозначительный взгляд.
Хлопнув ладонью по пачке украшенных двойной зелёной линией бумаг на столе, он продолжает: «Москва ежедневно бомбит нас шифровками — давайте людей! А их у нас нет. Это одна сторона дела! Теперь другая сторона. Вы с КУКСа, там много людей с подмоченным прошлым. Я не спрашиваю Вас, какой у Вас хвост — подмоченный или нет. Во всяком случае, Вы должны быть безупречно чистым. Без этого Вы не попадёте туда, куда мы хотим Вас послать. А послать мы Вас должны! Понимаете?!»
Мне нравится оригинальная откровенность полковника. Вот, что значит найти правильного покупателя! Тут и подмоченный товар за первый сорт сойдет. Я успокаиваю его, что у меня все в абсолютном порядке.
«Мне наплевать — все ли у Вас в порядке или нет, — отвечает он. — На этом КУКСе много всяких чудаков. Вчера один из ваших бывших полковников клялся мне, что он пехотный лейтенант. Мы его хотим послать в Разведшколу, а он упирается как козёл — говорит, что не умеет писать».
Пример полковника меня не удивляет. Люди, раньше занимавшие ответственные посты, пройдя этапы, обычно предшествующие КУКСу, теряют вкус к чинам и ответственным должностям и мечтают только об одном — чтобы их оставили в покое.
«Может быть, и Вам такая блажь в голову придёт, — звучит голос начальника Отдела Кадров. — Так повторяю — это дело серьёзное. Если нам нужно Вас послать — так пошлем! Никакие фокусы Вам не помогут. В противном случае мы можем повернуть дело так, что Вы не хотите служить в Армии. Знаете, чем это пахнет? Трибуналом!», — веско заканчивает полковник.
Он уже знает, что курсантов КУКСа после штурмбатов не запугаешь какими-то штрафными ротами. Тут только Трибунал ещё может помочь, т. е. верный расстрел.
Меня невольно заставляет улыбнуться комичность положения. Там, за дверью, люди потеют и дрожат, мечтая попасть в неизвестное заманчивое святилище. А здесь полковник угрожает мне расстрелом, если я вздумаю почему-либо отказываться.
Иными словами, он даёт мне понять, что, если у меня есть какие-либо компрометирующие данные в прошлом, то я должен забыть о них и не писать в анкете. Об остальном полковник позаботится.
Окинув меня критическим взором, полковник снимает трубку телефона и звонит в Штаб КУКСа:
«Так, вашего Климова мы отправляем. Приготовьте все бумаги по форме 12-а. Чтобы с двенадцатичасовым поездом он выбыл в Москву, — говорит он начальнику Штаба. — Потом, что они у вас бегают оборванные, как бродяги? Немедленно переоденьте! Чтобы не срамил наш фронт в Москве».
Через несколько минут в следующей комнате мне вручают запечатанный сургучными печатями пакет с моим личным делом и путевые документы в Москву в воинскую часть номер такой-то.
В приёмной меня окружает взволнованная стая кандидатов. Со всех сторон сыпятся вопросы: «Ну, как? Провалился? Здорово спрашивают?»
Я пожимаю плечами и показываю командировку в Москву.
«Значит, действительно в Москву вербуют?» — слышатся голоса. «Э, вот везёт людям! Ну — счастливого пути!» Мне жмут руки со всех сторон.
Из-под холодных сводов Арки Генштаба я выхожу на залитую солнцем Дворцовую площадь. Мне ещё не верится, что все это действительность, а не сон. Что через три часа я сяду в московский поезд, а не буду ползать с пулеметом по пескам и болотам вокруг Ленинграда. Такому счастью, феноменальному счастью, действительно трудно поверить.
Многие офицеры, жители Ленинграда, провели по три года на Ленинградском фронте и за всё время не получили ни одного отпуска в Ленинград. Даже на КУКСе офицеров-ленинградцев не отпускают домой, в баню или в город водят только строем.
Для москвичей попасть по служебной командировке на несколько дней в Москву — считается несбыточной мечтой. Неужели я теперь возвращаюсь в Москву?
Я оглядываюсь кругом. Да, вот тут кругом меня — Ленинград, а в кармане хрустят бумажки, и стоя посреди пустой Дворцовой Площади, ещё раз читаю. Да! Никакого сомнения! Москва… Я подмигиваю бронзовому ангелу в гранитной высоте голубого неба и улыбаюсь во весь рот. Мы с тобой почти братья! Я чувствую, как у меня за плечами растут крылья. Нет, жизнь действительно хорошая штука! Чертовски хорошая штука!
Я нарочно иду навстречу патрулям в зелёных фуражках, торчащим на всех мостах и перекрестках. Ленинград считается пограничной зоной и проверяется патрулями погранохраны НКВД с особой строгостью. Зелёные шапки — это злейшие враги всех людей в военной форме.
Не так давно я сам просидел двое суток в холодной камере комендатуры без еды и без папирос, пока за мной из КУКСа не прислали сопровождающего с автоматом, тоже офицера-курсанта. Под таким конвоем меня без погон и без пояса через весь Ленинград возвратили назад в КУКС.
Преступление моё заключалось в том, что я вышел из бани на улицу. Пока наша команда наслаждалась в парной, я, быстро помывшись, вышел из душного предбанника подышать свежим воздухом на весеннюю улицу.
Тут же у порога меня и сцапали, как дезертира, зелёные шапки. Теперь я плюю на них с высокого дерева. Теперь я еду в Москву! Со всеми сургучными печатями и подписями!
До чего только взрослый человек может одуреть от неожиданной радости! Так вот тянешь солдатскую лямку и счастлив, когда солнце подходит к обеду. А тут вдруг нежданно-негаданно… Москва! Это же всё равно, что солнце упало с неба!
В Штаб-квартире КУКСа, в бывших зданиях Военно-Электротехнической Академии им. Буденного в Лесном, меня встречают как именинника. Через полчаса я переодет с головы до ног — на мне новые сапоги, новая форма, даже новый вещевой мешок, туго набитый консервами и папиросами.
Ровно в полдень я подхожу к билетной кассе Октябрьского Вокзала и сую в окошко путевые документы.
«Пятьдесят шесть рублей», — коротко произносит встрепанная голова за окошком.
Я начинаю торопливо рыскать по карманам. Ах, черт — деньги! Этого ещё не хватало! За время моего пребывания в Армии я забыл, что это такое, все моё жалование автоматически переводили домой.
Вы думаете — безвыходное положение? Ничего подобного! При социализме все делается очень просто, жизнь легка до смешного. Я метеором, сбив по дороге пару медлительных лунатиков, выскакиваю на вокзальную площадь.
Затем я развязываю свой вещмешок и издаю призывной свист. До чего хорошо торговать при социализме! Только развяжи торбу — и покупатели бегут сломя голову.
Через пять минут, облегчённый на несколько банок консервов, но зато с полным карманом денег, я снова подхожу к кассе. Ещё через десять минут подо мной стучат колеса. Я еду в Москву. Что там такое арабские сказки? Чепуха!
За окном вагона с высоты прямой как стрела насыпи Октябрьской дороги медленно разворачиваются в панораме соломенные крыши деревень, чахлые поля в рамке поблескивающих водой озёр, взорванные железнодорожные станции, лежащие в грудах обугленного кирпича.
И всё же на душе у меня легко. Вопреки всему наша Армия идёт вперед. Чаша весов истории медленно, но неуклонно опускается в нашу сторону.
Ещё недавно я был очевидцем нашего мощного прорыва на Карельском перешейке в июне месяце. Часами содрогалась земля в сплошном реве артиллерийской подготовки.
Беспрерывной лентой, втягивая колёса над нашими головами, кружились бомбардировщики и штурмовики. Бомбили, ровняли бетон ДОТов с землей и снова шли на посадку за новым грузом бомб.
Ещё совсем недавно весь КУКС взбудоражено гудел радостной вестью — союзники наконец высадили десант на Атлантическом побережье. Несколько дней мы смертельно боялись, что десант будет сброшен в море или что это только лишь очередной дипломатический, а не военный маневр.
Я не совещался с людьми в Кремле и не знаю, что они думают. Но все мы читали советские газеты и в них настойчивые просьбы о помощи, порой даже обвинение союзников в умышленном бездействии.
Будучи в непосредственной близости фронта, мы очень хорошо знаем, во что обходится наступление, или даже короткая сводка Информбюро: «На Нарвском участке фронта без перемен». А в это время там ложатся до последнего солдата целые дивизии в бесплодных попытках прорвать нарвскую оборону.
Эстонские части немецкой армии стоят на границах своей родной земли на смерть, крепче чем немцы. Ленфронт истекает кровью, а Информбюро только не видит перемен. Важны результаты, а не человеческие жизни. Так же смотрят на это дело и западные политики.
Мы только солдаты, а кровь гуще, чем вода в графине на столе Большой Тройки. Дипломаты клянутся друг другу в вечной дружбе, держа кирпич в рукаве, да ожидая подходящего момента, чтобы стукнуть этим кирпичом своего вечного друга по затылку. На то они и дипломаты! А мы только солдаты…
До момента высадки в Нормандии мы, советские солдаты, были очень благодарны союзникам за пуговицы. Да, самые обычные зелёные пуговицы! Вместе с миллионами пар обуви, шерсти и сукна для обмундирования, привыкшие к порядку иностранцы послали нам в качестве бесплатного приложения также форменные пуговицы.
Настоящие советские пуговицы со звездой, с серпом и молотом, но заграничного производства. Нередко случается, что во время сна солдаты отпарывают эти пуговицы друг у друга. Дело в том, что эти пуговицы сделаны из пластмассы и их не требуется чистить.
Теперь мы с напряжением следим за каждым движением союзных армий в Нормандии. По мере развития плацдарма в нас ещё больше крепнет уверенность в успехе и близкой победе. В повседневных боях и труде притупляются чувства, но когда есть повод, то эти чувства прорываются с удесятерённой силой.
Вплоть до момента капитуляции Германии не было другого события, которое бы так радостно волновало Армию, как высадка союзников во Франции. Часто простые солдаты обращались к офицерам и просили рассказать «как там идут дела на Западе».
Теперь мы благодарны союзникам не только за горы консервов, шинели и пуговицы, но и за совместно пролитую кровь. Железные тиски захлестнулись на горле гитлеровской Германии!
Хоть и тяжело, хоть за окном вагона на каждой остановке и протягивают руки голодные дети и женщины, но мы идём вперед к победе. У нас есть уверенность в победе и ещё больше уверенности в чем-то другом, светлом, что придёт на другой день после победы.
Говорят, что Сталин в ярости топал ногами в Кремле, когда узнал о высадке союзников. Не знаю, как верить этому… Я со Сталиным водку не пил. Мы, солдаты, во всяком случае, хлопали в ладоши.
Политики делят Европу, а мы — наш хлеб и нашу кровь.
Итак, я возвращаюсь в Москву… Я переношусь мыслями назад и вспоминаю, как я её покинул.
Это было бесконечно давно. В одно прохладное осеннее утро я ехал с Женей в поезде пригородной электрички, возвращаясь с дачи. Я вынул из кармана повестку Военкомата с приказанием явиться для перерегистрации и сказал: «Завтра утром пойду, поставлю штемпель, а потом забегу к тебе — там изобретём что-нибудь…»
«Гриша, но тебя же могут забрать…»
Голос Жени захлестнулся тревогой, карие бусинки глаз метнули на меня обеспокоенный взгляд. За эту пару слов и секундный взгляд я был бесконечно благодарен девушке.
«Э, чепуха! Не в первый раз», — ответил я.
На следующее утро в ватной солдатской телогрейке, в синих брюках, заправленных в солдатские кирзовые сапоги, и с неповторимой кепкой на голове я шагал в Военкомат. По военному времени я был одет как джентльмен.
Это было шиком военной Москвы и не вызывало враждебных взглядов. В кармане у меня торчала увлекательная книжка Конан-Дойля «The Sing of Four», которую я читал в Метро для практики в английском языке.
Сдав свои документы в 11-й части Военкомата, я примостился в угол и принялся за увлекательный роман, помогающий коротать бесцельное время. Комната была наполнена странным людом — бледные меловые лица, заросшие небритые щеки, измятая, не по сезону легкая одежда.
У дверей прислонились в ленивой позе двое милиционеров. Я читаю про таинственного пигмея с отравленными стрелами, про колченогого злодея и терпеливо дожидаюсь, когда мне вернут мой воинский билет со штемпелем «перерегистрирован».
Через некоторое время в комнате появляется начальник 11-й части со списком в руке. Он зачитывает фамилии, где-то посредине и моя фамилия. Я даже и не знаю, что это за список. Когда начальник исчезает из комнаты, звучит команда милиционеров: «Выходи, стройся на улицу!» Всех до одного бывших в комнате, в том числе и меня с пальцем между листами книги, выгоняют на двор. Что за представление? Ведь это ко мне не относится — у меня всемогущая «броня»! Я пробую сунуться налево — на меня смотрит дуло нагана. Я направо — снова наган.
«Никаких разговоров! — кричит один из милиционеров. — Пока тут — все заключенные! Вот сдадим вас на пересыльный пункт — там будете вольные…»
Так и прошагал я через всю Москву под охраной милиционеров с наганами в руках. Песен мы, правда, не пели.
Ошибка, скажете вы?! Ничего подобного. Просто диалектика! Нехватка резервов для фронта была колоссальной. Потребности тыла — не меньше. Тыл даёт людям бронь от мобилизации. А фронт ворует этих людей вместе с «бронью». В основе всего — план.
Военкомат по плану должен сдать сегодня пятьдесят человек на пересыльный пункт. Начинают скрести по углам — берут из тюрем заключённых с небольшими сроками заключения, в основном за прогулы и опоздания, под конвоем ведут их в Военкомат и с тем же конвоем дальше на пересыльный пункт.
Если план всё же не выполняется, то нехватку пополняют, сунув среди арестантов несколько человек с «бронью».
Из-под конвоя не сбежишь, а на пересыльном свои люди, не говоря уже о колючей проволоке, часовых и плакате над воротами: «Привет новому пополнению!» Так попал забронированный научный сотрудник Энергетического Ордена Ленина Института имени Молотова в солдаты. Не помог ни Ленин, ни Молотов. Приключение почище, чем у Конан-Дойля! Жаль только, что с Женей не успел попрощаться.
Вскоре я уже браво маршировал на фронт и во всю глотку горланил: «Саловей, саловей, пта-а-ашечка! Что же ты, сало-о-овушко, не весело поешь!..» Как по мановению руки фокусника в Армии исчезли все песни довоенного времени с «вождями, пролетариями» и прочей дребеденью. Зато буйным сказочным самоцветом расцвели русские походные песни чуть ли не времен Измаила и Шипки.
Даже те солдаты, кто не мог петь, орали их изо всех сил. Просто потому что снова разрешили петь про кони-ленты, старуху-мать, да молодку-невесту. Понял кремлевский фокусник, что сердцу солдата кони-ленты, старуха-мать, да молодка-невеста дороже бороды «Карлы Марксы».
Попав на фронт, я нисколько не сожалел о тыле. На фронте были настоящие люди, действительно вся здоровая часть нации. На фронте мы глодали сухари, запивая растопленным в котелке снегом, днем ковали победу, а ночью, если не было марша, мечтали о далёкой любимой. Это была жизнь, ради которой стоило умереть.
И вот — сегодня я возвращаюсь в Москву. Вчера я даже не смел мечтать об этом. Перед моими глазами невольно встает картина, когда я в последний раз думал о Москве.
В солнечный весенний день на заброшенной поляне в лесах Карельского перешейка я наткнулся на глубокую, поросшую молодой травой, воронку от снаряда. В глубине ямы прозрачной чащей стояла зеленоватая болотная вода. Лесная вода, ясная как кристалл, которую мы часто пили, осторожно черпая пилоткой, чтобы не замутить ила. На дне воронки в лучах солнца переливался изумрудными красками миниатюрный мир лесного озера. Головой в воде, раскинув руки в последней судороге жизни, лежал труп вражеского солдата.
Когда я, пахая каблуками сапог по крутому краю, спускался вниз, комки земли посыпались в воду. Заходила кругами лесная тихая вода, медленно в печальной мертвой ласке шевеля волосы трупа. Я присел на корточки, подавленный этой дружбой жизни и смерти.
Наконец, любопытство пересилило над уважением перед мертвыми. Я осторожно расстегнул грудной карман серо-зелёного мундира и вытащил истертую пачку бумаг.
Обычные солдатские документы с орлом верхом на дубовом венке, письма из дому и, наконец, фотография милой белокурой девушки в светлом платье. Фотография была аккуратно завёрнута в отдельную бумажку. На обороте тонким летящим почерком написано: «Любимому от любимой», дата и название далекого немецкого города на юге Райха.
Я посмотрел на ласкаемые зелёной водой волосы мертвого, на юное лицо неизвестной девушки с берегов Рейна. Теперь там цветут яблоневые сады и зеленеют по склонам холмов виноградники. Когда-то в майские ночи ты ласкала эти волосы любимого, теперь их ласкает лесная вода в просторах России.
Да, сложно переплетаются пути жизни. Я посмотрел на солнце в перламутре бледного неба, на цветущую белой кашкой поляну, на безмолвную тишину леса кругом. Жизнь не изменилась от того, что перестало биться сердце немецкого солдата.
Я вынул из планшетки записную книжку и, сидя на краю воронки, написал Жене очень меланхолическое письмо:
«…Может быть, завтра и я буду лежать где-нибудь лицом кверху и меня не будет ласкать никто… Даже лесная вода…»
Женщины любят романтику. Да и я тоже не из железа. В конце концов, я только человек, хотя на мне и солдатское сукно.
Не думал я тогда скоро увидеться с Женей. Писал просто так. Как пишут все солдаты своим любимым. Ведь солдатские письма — это почти единственная отрада для души. Многие, кому никто не пишет писем, грустят и тихо завидуют своим более счастливым товарищам.
Сойдя с Комсомольского вокзала в Москве, посвистывая фронтовую песенку, сразу же нырнул в метро. Целый век я подарил государству. Теперь не будет большого греха, если я урву пару минут для себя.
Я прямо скажу в лицо каждому, кто поступил бы иначе: ты — сверхкарьерист или просто дурак! Да и потом Женя не простит мне никогда, что я предпочел ей какую-то Н-скую воинскую часть.
Дверь Жениной квартиры я нашел на замке. Сунув в щёлку записку, я снова забросил свое имущество за плечи и скомандовал сам себе: «Кру-гом!» Покончив с личными делами, я зашагал дальше по делам государственным.
2
Через полчаса я прибыл по адресу, указанному в командировочном предписании.
Я иду по длинному коридору и удивляюсь. Кругом меня возбужденно бегают люди в военной форме, но вся обстановка скорее похожа не на армию, а на университет в период экзаменационной горячки.
Разложив на подоконниках раскрытые книжки, люди возбужденно советуются, что-то наспех повторяют, пишут шпаргалки и моментально отправляют их по назначению. Никто никому не смотрит на погоны и не думает о козырянии. У всех в голове что-то другое.
Выражение лица у большинства людей в коридоре значительно отличается от обычных армейских офицеров, где казарменная муштра накладывает свою одуряющую печать на души и лица людей. Здесь же какой-то неуловимый налёт интеллигентности.
Неподалёку двое офицеров, выворачивая губы, разговаривают на каком-то обезьяньем языке. Погоны у всех самые разнообразные — начиная от авиационных и кончая пехотой. Тут же мелькают чёрные кителя военно-морского флота.
Но что удивительнее всего — это значительное число женщин и девушек в форме. До сих пор женщин в единичном порядке принимали в кое-какие военные школы ради рекламы. Тут же похоже на что-то другое. Куда это я попал?
Я чувствую себя несколько неловко и решаю пришвартоваться к берегу. Начинаю оглядываться в поисках подходящего причала. У одного из окон замечаю старшего лейтенанта в гимнастёрке и бриджах светло-песочного цвета. Ага, это один из наших! На мне точно такая же форма. Кроме Ленинграда я такую форму нигде не встречал.
Когда запасливые американцы готовились к высадке в Северной Африке, то они заготовили огромное количество прохладного и шелковистого светло-песочного ластика для обмундирования своих солдат. Африканского ластика оказался избыток, и они по-дружески передали его своим русским союзникам.
Наше догадливое командование одарило тропическими костюмами самый холодный участок фронта — Ленинградский фронт. По этой экзотической одежде мы без труда определяем своих друзей-ленинградцев.
«Послушай, старшой, — обращаюсь я к песчаной гимнастерке. — Ты тоже из Ленинграда?»
«Да, с Карельского», — отвечает старший лейтенант с готовностью. Видимо он также чувствует себя потерянным в этой шумной среде и рад даже незнакомому собеседнику.
«Ну, как дела?»
«Да пока ничего. Кажется, зацепился», — говорит он, но, несмотря на утвердительный ответ, в его голосе слышится разочарование.
«Куда попал? — участливо спрашиваю я. — И вообще, что тут за пансион благородных девиц? Я только сегодня прибыл и ничего не пойму».
«Тут сам чёрт не разберется. Меня, например, венгром окрестили. Пропади она пропадом эта Венгрия!» — с ещё большим разочарованием продолжает песочная гимнастерка.
Мое удивление растёт ещё больше.
«Эх, вот если бы на английское отделение попасть! — вздыхает старший лейтенант. — Туда без блата не попадешь. Надо генеральским сынком быть. Видал, вон трутся?! У всех записочки в кармане».
Он кивает головой на дверь с табличкой: «Начальник Учебной Части», около которой жмется кучка офицеров в щеголеватых хромовых сапогах и сшитых на заказ кителях. Вид у них, действительно, отличается от фронтовых офицеров.
«Так, так… А куда здесь, собственно, голову пихать? Чтобы не просчитаться…» — спрашиваю я.
«Ты какие языки знаешь?»
«Немного немецкий, немного английский. Русский кое-как…»
«Не будь дураком и говори, что знаешь только английский. Английское отделение лучше всего», — поучает меня будущий венгр.
Из разговоров приблизительно выясняется, что таинственное учебное заведение готовит кадры для работы заграницей. Название этого учебного заведения никто из новичков толком не знает.
Поболтав с офицером-летчиком, слушателем Военно-Воздушной Академии имени Жуковского, который, пользуясь какими-то сильными связями, пытается добиться своего перевода с III курса Академии на первый курс загадочного пансиона, я убеждаюсь, что место это действительно привилегированное.
В продолжение последующих дней я заполняю многочисленные анкеты, щупающие моё прошлое до десятого колена и вопрошающие, нет ли у меня родственников или знакомых заграницей, нет ли у меня родственников на «территориях, временно оккупированных гитлеровскими захватчиками», не принадлежал ли я к антипартийным группировкам или не собирался ли я им сочувствовать, не сомневался ли я в правильности линии Партии.
Вопросов, интересующихся моими возможными отрицательными сторонами, гораздо больше, чем вопросов о положительных качествах, доступных человеку. Все эти анкеты я уже привез в запечатанном пакете из Ленинграда, но тут мне дают их заполнять снова.
Я помню скандал с анкетой, которую заполнил для институтского Спецотдела один из моих бывших товарищей-студентов. На вопрос о дате рождения он ответил: «1918 год». На последующий вопрос: «Чем Вы занимались в момент революции в 1917 году?», он четко написал: «Был на подпольной работе». По этому поводу его несколько раз вызывали на собеседование в НКВД.
Несколько дней я сдавал экзамен по немецкому и английскому языкам. Не выдержавших языковые экзамены сразу отстраняли от дальнейших экзаменов и отчисляли обратно по прежнему месту службы. Исключение составляли щеголеватые «блатыри» с сильными рекомендациями.
Все они поступали на 1-ый курс, и для них были послабленные требования. Остальная же масса строго сортировалась, исходя из условий зачисления, в случае солидных знаний, на старшие курсы, или, в противном случае, отчисления.
После анкетного чистилища в форме Мандатной Комиссии и языковой проверки в порядке важности следовали экзамены по Марксизму-Ленинизму. К двадцати шести годам я успел выдержать по этому предмету с полдюжины нормальных и три Государственных экзамена.
В гражданских институтах, где студенты были довольно либеральными, вместо «марксизм-ленинизм» можно было часто слышать выражение «марксизм-онанизм».
Затем следовали уже совсем пустяковые, с классовой точки зрения, экзамены по философии и диамату, всеобщей истории и истории военного искусства, русскому языку и экономической географии.
Все эти процедуры я проделывал довольно безразлично. Неизвестно, когда война кончится, но, во всяком случае, она уже перешла критическую точку и идёт к концу. Моя цель — после окончания войны как можно скорее избавиться от военной формы.
С другой стороны, это училище могло задержать, если вообще не приковать меня к Армии. Для большинства молодёжи училище было средством для получения определённой профессии, которая могла бы кормить их после войны. Меня этот вопрос мало интересовал. Но Армия есть Армия, здесь царит приказ и если приказано, то нужно повиноваться.
Стоит ясное, жаркое лето. На Москва-реке застыли караваны барж, гружёных лесом — всю войну Москва отапливается исключительно дровами, даже паровозы ходят на дровах. Кругом как-то слишком тихо и спокойно.
Единственное развлечение доставляют комендантские патрули, проверяющие документы на каждом шагу. Меня они осматривают особенно подозрительно — на плечах защитные фронтовые погоны, а брожу с видом бездельника.
Однажды я зашел на свою старую квартиру и для разнообразия переоделся в гражданское платье. Пройдя несколько шагов по улице, я почувствовал странное ощущение неловкости, повернул назад и снова натянул военную форму. Страна с оружием в руках, страна в солдатской шинели. В форме как-то лучше.
Когда я попал из Москвы в Армию, то рушились все мои личные планы. Когда я возвращался сюда, то бессознательно полагал, что жизнь войдет в прежнюю колею. Но жизнь шагнула вперед, да и я, увидев фронт, внутренне переродился.
Теперь, бесцельно бродя вокруг зубчатых стен Кремля, сонного и безжизненного в мареве летнего солнца, я ощущал только скуку, да пустоту в душе. Ясно чувствовалось одно — надо кончать войну. А пока идёт война — нет и не будет места личной жизни и личным интересам.
После Мандатной Комиссии и сдачи экзаменов я был вызван к Начальнику Учебной Части — полковнику Горохову. За большим столом сидел маленький человек с синими кавалерийскими погонами и выбритым, как бильярдный шар, черепом. На хитром лисьем лице щурились бесцветные водянистые глазки.
«Присаживайтесь, товарищ капитан», — вежливо ответил он на мой рапорт и кивнул головой на стул напротив стола.
Приём довольно отличный от обычной армейской дисциплины. Пахнет университетской кафедрой и рассеянными профессорами. Полковник перебирает тонкими худощавыми пальцами с плоскими ногтями мои многочисленные морально-политические характеристики, боевые аттестации, анкеты, экзаменационные ведомости.
«Так Вы, значит, инженер?! Очень приятно, — начинает он приветливо. — Инженеров мы, вообще говоря, недолюбливаем. У нас уже есть несколько. Слишком много самомнения и мало дисциплины. Как Вы представляете себе Вашу будущую карьеру?»
«Как этого потребует государство», — отвечаю я осторожно, но ни секунды не колеблясь. На таких вопросах меня не поймаешь.
«Знаете Вы, что это за учебное заведение?» — спрашивает полковник.
Получив от меня неопределённый ответ, он медленно и с расстановкой говорит: «Это — Военно-Дипломатическая Академия Генерального Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Вы должны знать, что по Уставу люди с высшим военным образованием, окончившие Военные Академии, обязаны оставаться на пожизненную службу в Армии. Государство тратит на ваше образование уйму средств и не может допустить, чтобы люди потом занимались, чем им вздумается. На Вас лично государство уже выбросило порядочную кучу денег».
При этом он смотрит в графу, где значится, что я окончил Индустриальный Институт.
«Мне просто жалко опять тратить на Вас время и деньги, — продолжает полковник с видом экономного домохозяина. — Так вот, к чему я всё это веду — если Вы будете приняты в Академию, то выкиньте из головы всю гражданскую блажь и не мечтайте о демобилизации».
Полковник, видимо, хороший психолог и знает наперед, кто о чём думает. Я сижу, вытянувшись на стуле, с бесстрастным выражением на лице.
«Кое-кто, из подобных Вам, думают — война кончится, так хвост набок. Забудьте! Мы уже таким хвост прикрутили! Нас Вы интересуете поскольку, судя по Вашим документам и результатам экзаменов, у Вас солидная база знаний, необходимых нам. С Вами будет меньше возни, чем с другими. Только поэтому мы и рассматриваем Ваш случай».
После такого предисловия полковник переходит к деталям: «Для чего Вы, окончив Индустриальный Институт, занимались ещё иностранными языками?»
«Я считал эти знания необходимыми для инженера»…
«Да, но за каким чёртом Вы ещё кончали… — он смотрит по бумагам. — Первый Московский Институт Иностранных Языков, да к тому же Педагогический? Что Вам — должность инженера не нравилась?»
Полковник очень хорошо разбирается в тонкостях движения интересов и профессий современного советского общества. Благодаря сравнительной легкости получения высшего технического образования, в годы моей учебы в технические ВУЗы попадало значительное количество бросового материала.
Столкнувшись с практической работой и не получив морального и экономического удовлетворения, они засовывали дипломы подальше в сундук и пускались на поиски более хлебной или менее ответственной профессии.
Это выяснялось исключительно частыми арестами среди инженеров за малейшие технические ошибки и сравнительно низкой оплатой рядовых инженеров. Многие женщины, получив высшее образование, предпочитали выходить замуж и возиться у печки, чем работать ветеринарами и агрономами. Конечно, если это допускала зарплата супруга. Если нет — снова кидались на поиски.
Так и метались люди с дипломами из угла в угол советской страны. Государство отвечает на это соответствующими мерами — закреплением молодого специалиста на пять лет за одним производством без права самовольного перехода и тюремным заключением за нарушение этого закона.
«А откуда Вы знали языки? — продолжает полковник. — У Вас что — бонны или гувернантки были?»
Допрос, как в НКВД! В годы моего детства иметь гувернантку — это означало, по тогдашней классификации, принадлежность к «бывшим людям». В настоящее время слово «гувернантка» не является столь компрометирующим — в Москве можно видеть по паркам массу детей кремлёвской знати в сопровождении гувернанток, разговаривающих с малышами по-французски или английски. Спихнув и обругав старую знать, знать новая скоро пошла по тому же пути.
«Я учил языки параллельно в порядке экстерната. Позже я сдал экзамены за последний курс и Госэкзамены в Московском Институте», — отвечаю я.
«Ага, так Вы учились сразу в двух Институтах. Значит Вы усидчивый человек…» — заключает полковник и задумчиво трёт свою бритую голову, как будто ему пришла какая-то новая мысль.
Не знаю, зачем я, собственно, взялся за языки. У каждого из студентов было какое-либо любимое занятие — один изобретает перпетууммобиле или пилит на скрипке, другой блистает на футбольном поле и сидит по два года на каждом курсе, третий увлекается фото, радио или ещё чем-либо.
Иностранный язык был для студентов самым коварным предметом. Некоторые перед защитой дипломного проекта имели «хвосты» по языку за пять лет назад. Я же тайком от окружающих, — чтобы не смеялись, — занимался иностранными языками.
В городской библиотеке был огромный неразработанный архив на иностранных языках. Разбирать и подвергать его цензуре было некому, а без проверки пустить в обращение не разрешали. Вскоре я получил доступ к этим архивам и там мне открылся новый мир, недоступный для других. Это давало чувство удовлетворения.
Языки я знал далеко не блестяще, но в советских условиях даже это было редким явлением. Возможности их практического применения для советского человека настолько ничтожны, что никому не приходит в голову заниматься их изучением. «Еще НКВД на заметку возьмет», — думают люди.
«Так, так… — постукивает полковник карандашом по моим бумагам. — Так вот, товарищ капитан. Немецким языком у нас хоть пруд пруди. Английского тоже хватает. Но я вижу, что Вы усидчивый человек и к тому же не мальчик… Я предлагаю Вам нечто лучшее».
Он делает многозначительную паузу и наблюдаёт, как я реагирую на все сказанное.
«Я зачислю Вас на исключительно ответственное отделение. Туда попадают немногие. К тому же я Вам гарантирую, что после окончания Вы будете работать в Сан-Франциско или Вашингтоне. Что Вы скажете на это?»
Я, не меняя выражения на лице, смотрю через стол. К чему это он гнёт? Не английский, не немецкий, работать в Вашингтоне… Уж не хочет ли он предложить мне должность лифтёра в каком-нибудь посольстве? Краем уха я слыхал, что здесь и такие номера бывают.
«Так вот! Я зачислю Вас на Восточный Факультет», — тоном снисхождения произносит полковник.
Я машинально закладываю язык за левую щеку. Неожиданно мне становится то жарко, то холодно.
«…На японское отделение! — заканчивает полковник, вложив в эти слова последний запас своего пафоса. — Английский язык, к тому же, там требуется больше, чем где-либо».
Я зябко перебираю плечами и чувствую себя очень неуютно.
«Товарищ полковник, а там попроще ничего нет?.. — слабым голосом выговариваю я. — Я, знаете, недавно контужен был…»
«Тут не лавочка. Ассортимент ограничен», — лицо полковника мгновенно меняется, становится холодным и жестким. Ему жалко потраченного на меня времени. «Одно из двух: или японское отделение или Вы отправляетесь, откуда прибыли. Вопрос исчерпан! Даю Вам два часа на размышление…»
«Полковник в Ленинграде угрожает мне, если вернусь, Трибуналом, а здесь — пожизненная каторга на японском языке. Попал, кажется, ты Климов в клещи?!» — мелькают в моей голове обрывки мыслей.
Когда я выхожу из кабинета Начальника Учебной Части, меня обступает оживленная группа моих новых знакомых. Все интересуйся результатом столь долгой аудиенции:
«Ну, как? Куда попал? На Западный?» — слышится со всех сторон.
«Банзай!» — отвечаю я уныло.
Все на мгновение замирают, потом разражаются диким хохотом. Для них это звучит анекдотом, для меня — драмой.
«Знаешь сколько у них в алфавите знаков? — сочувственно спрашивает один. — Шестьдесят четыре тысячи! Культурный японец знает около половины… Оттого они все очки носят».
«За последний год здесь было три самоубийства, — любезно информирует меня другой. — Все в японском отделении. Совсем недавно один под трамвай бросился».
Да, видно не даром полковник интересовался моей усидчивостью. На лбу у меня выступает пот. Пески и болота Ленинградского фронта неожиданно кажутся мне такими родными и близкими. Лучше фронт, чем шестьдесят четыре тысячи иероглифов.
Окружающим меня офицерам моя растерянность доставляет явное удовольствие. Один из них тянет меня за рукав: «Пойдём! Я тебе японцев покажу».
Перед тем как войти, мой спутник стучит в дверь и вопросительным тоном громко кричит: «Мужчины?»
Из-за двери раздаётся сиплый бас: «Заходи!»
На ближайшей к двери кровати сидит, скрестив ноги, встрёпанное существо в роговых очках и в нижнем белье. Существо не обращает на нас ни малейшего внимания и продолжает шептать какие-то заклинания, одновременно чертя пальцем в воздухе загадочные знаки. В комнате несколько человек. Все они находятся в различных степенях того же буддийского транса и сверкают голым телом и нижним бельём. Недаром мой спутник предусмотрительно вопрошал за дверью.
«Вот можешь полюбоваться твоими будущими коллегами, — радостно сообщает мой проводник. — Это кладезь мудрости нашей Академии. Между прочим, все они припадочные. Будь осторожен!»
Смуглый худощавый лейтенант за столом у окна, — единственный, на ком сохранились погоны, — вывернув локоть и зажав вертикально между пальцев ручку с пером рандо, старательно выводит на бумаге затейливые рисунки.
Знаки идут снизу вверх и справа налево. За окном полыхает московское лето, по коридорам бурлят молодью надежды, а здесь, вместе с сонными мухами, сидят эти несчастные и до одурения грызут гранит восточной мудрости.
Последующие дни я брожу по Академии, как обманутый жених. Обещали сказочную красавицу, а под вуалью оказалась жаба! Да ещё какая.
В один из этих дней ко мне подходит один из моих более удачливых приятелей и кладет мне на ладонь какой-то маленький тёмно-зелёный предмет.
«Это тебе самый настоящий японский амулет. Недавно один из этих самураев, — он подмигивает в направлении японских комнат, — сбежал на фронт. Плюнул в окошко, а затем хотел выбросить туда же и эту штуковину. Я у него её еле выпросил. Теперь хочу подарить тебе на счастье, — продолжает он. — Этот японец поставил только одно условие. Слушай! Говорит — кто прочтет иероглифы на обороте, тот безо всякого труда окончит японское отделение. Тут даже дырочка есть — можешь повесить на шею».
На моей ладони темнеет позеленевшей бронзой продолговатый четырехугольник, размером с почтовую марку. На передней стороне изображён жирный и сонный идол, восседающий на скрещенных ногах. На обороте сквозь слой зелени проглядывают с полдюжины иероглифов. Наверху, действительно, дырочка для шнурка.
Я послюнил палец и осторожно потер сонного идола. Палец позеленел, но идол не пошевельнулся. Тогда я стал бесцеремонно обрабатывать сонное божество песком. Вскоре бронза засияла червонным золотом, божок стал более симпатичным, а таинственные знаки на обороте ещё более непонятными.
Амулет и таинственные иероглифы заинтересовали меня не на шутку. Я решил обратиться за справкой к «японцам» 1-го курса. Молодой человек, к которому я обратился с просьбой разобрать иероглифы, не взглянув на амулет, сразу полез за словарями. Все словари были японско-английские.
Порывшись в словарях, он вскоре признался, что этот труд ему не под силу.
Тогда я отправился дальше. Слушатель II курса не пытался браться за словари. Видно он уже убедился в их бесполезности. Он принялся расшифровывать иероглифы интуитивным путем, бормоча себе под нос, — «солнце», «дерево», «птица». Затем, он сообщил мне: «Прежде всего, стоит дерево… А под деревом сидит птица… А под птицей светит солнце… А лучше всего, если ты пойдешь и спросишь где-нибудь, что это такое».
Начав кое-что понимать, я зашагал дальше, пока не добрался до слушателей последнего курса. Их было всего-навсего четыре человека. Эти люди действительно хорошо знали и японский язык и дипломатию.
Мельком взглянув на амулет, они переглянулись и хором заявили, что это не японские письмена, а китайские. Своё заявление они подтвердили парой японских слов и ссылкой на Конфуция.
В конце-концов я разыскал профессора китайского и японского языков. Учёное светило окинуло мой амулет глубокомысленным взглядом и без малейшего колебания изрекло: «Это иероглифы и не японские, и не китайские. Это очень редкие иероглифы. Это — корейские иероглифы! Да, да… Самые настоящие корейские».
Таким образом, вопрос с тайной амулета был для меня решен. На душе у меня стало тихо и спокойно, как в буддийском храме. Теперь я понял слова сбежавшего на фронт человека: «Кто разберет эти иероглифы, тот покончит с японским языком».
Видимо он проделал с амулетом тот же путь, что и я, а затем сбежал на фронт. Амулет действительно помог. И ему и мне. Я решил при первой возможности распрощаться с японским языком.
Пока же этой возможности нет, я начинаю знакомиться с моим новым местом службы.
Академия недавно вернулась из эвакуации. Временно она разместилась в нескольких четырехэтажных школьных зданиях вокруг Таганской площади. Отдельные Факультеты разбросаны где-то по окрестностям Москвы. Наше здание стоит в тихом переулке на высоком спуске к гранитной набережной Москва-реки. Из окон, выходящих на реку, виден Каменный мост и кремлёвские стены по другую сторону реки.
Вечерами мы часто любуемся радостным и чарующим зрелищем — над Москвой полыхают салюты побед. Особенно красива панорама вечерней Москвы в венце салютов из окон нашей Академии. Батареи расставлены концентрическими кругами вокруг Кремля и в этом месте зрелище особенно величественно. Говорят, Сталин часто поднимается на одну из кремлевских колоколен любоваться салютами.
Военно-Дипломатическая Академия была создана в годы войны, когда изменившаяся международная обстановка потребовала расширения военно-дипломатической связи с заграницей, когда Советский Союз, отбиваясь от гитлеровской Германии, шагнул вперёд на международную арену.
По часто меняющимся учебным планам Академии можно предвидеть шаги нашей внешней политики за несколько лет вперёд.
Военно-Дипломатическая Академия была создана на базе Высшей Дипломатической Школы, Высшей Разведывательной школы, Института Восточных Культур и ряда других военных и гражданских высших учебных заведений.
Чтобы представить себе трудности отбора достаточно упомянуть, что в Высшую Дипшколу принимают только людей с уже законченным высшим образованием, — пусть это будет даже ветеринарный Институт, — и не менее как с пятилетним партийным стажем.
Восточный Факультет Академии, кроме японского и китайского, имеет ещё арабское, турецкое, персидское, индусское и афганское отделения. Западный Факультет, кроме английского, немецкого и французского, ещё норвежское, шведское, финское, голландское, итальянское и т. д. отделения.
Дальше следует Военно-Морской Факультет, имеющий отделения всех омываемых морями и океанами держав. Военно-Воздушный Факультет временно преобразован в Парашютно-Десантную Группу с упором на национальности, где в ближайшем будущем предвидится непосредственный контакт.
Поскольку Академия организована недавно, то на первых курсах числятся несколько тысяч человек, на вторых — сотни, на третьих — десятки, последние — четвёртые — курсы находятся в стадии организации. Восточный Факультет предусматривает ещё дополнительный пятый год обучения. На старшие курсы, где потребности велики, а кандидатов мало, выискивают подходящих людей по всем уголкам страны.
Иностранцев не принимают, а русских граждан со знанием иностранных языков не много. Около половины состава слушателей первого курса — дети генералов или же крупных партийных и советских работников.
Попасть на первый курс человеку подлого происхождения практически невозможно. Исключение составляют герои Советского Союза, молодые офицеры, особо отличившиеся во время войны, или вообще «знаменитости».
Вся Академия знает молодую таджичку Мамлакат. Когда-то в тридцатых годах Советский Союз облетели её детские портреты с букетом цветов на руках у самого Вождя. В далёком Таджикистане маленькая Мамлакат сумела собрать рекордное количество хлопка.
В это время в Москве происходил Съезд стахановцев колхозных полей, требовалась сенсация. Мамлакат привезли в Москву на Съезд, наградили орденом Ленина, сам Вождь подарил ей золотые часы и браслет и, взяв на руки, сфотографировался с ней в отеческой позе.
Прошло несколько лет. Мамлакат с тех пор не собирает хлопка, но по-прежнему греется в лучах славы и милости Вождя. В Академии с улыбкой рассказывают о мелких деталях её карьеры. В роскошном апартаменте гостиницы «Москва», разгоряченная славой и золотым подарком, она нырнула в ванну, забыв снять драгоценные часы. Часы стали, а маленькая таджичка переполошила всю многоэтажную гостиницу диким многочасовым воем. Выла она, по словам рассказчиков, как каспийская белуга.
Теперь Мамлакат около двадцати лет. За этот короткий срок она стахановскими темпами успела переменить четыре Института и приземлилась, наконец, в нашей Академии. Менять учебные заведения ей приходится после каждой экзаменационной сессии.
Хотя ленинский орден и сталинские часы не улучшают деятельности мозговых извилин, но зато с лёгкостью открывают любые двери. Говорят, что Мамлакат уже собирается переходить куда-то в новое место. Таких дармоедов былой славы в Академии несколько.
Где-то в окрестностях Москвы существует ещё одно учебное заведение, аналогичное нашей Академии. Там обучаются исключительно иностранцы по рекомендациям и путевкам официально распущенного, но продолжающего свою деятельность, Коминтерна. Это массовый питомник советских агентурных работников заграницей. Они не обладают дипломатическими паспортами, но их работа важнее, и, во всяком случае, активнее, чем официальных дипломатов.
Кроме того, многие видные иностранные коммунисты, как Ракоши, Димитров, Анна Паукер, прошли курс обучения в Коммунистическом Университете имени Сун Ять-сена, или в Политической Академии им. Ленина. Всего не узнаешь!
О нашей Академии тоже много не говорится, хотя деятельность её совершенно легальная — готовить персонал для советских военных представительств заграницей. Профессия интересная и безопасная. Если, в крайнем случае, и засыпешься, то только вышлют обратно домой. Вот что дома будет — это уж другой вопрос!
Как это не странно, но в нашу Академию для евреев приём категорически закрыт. Здесь я в первый раз сталкиваюсь с официальным подтверждением тех слухов, которые с некоторого времени упорно циркулируют в стране. Кремль шагнул в вопросах национальной политики в довольно неожиданном направлении.
До последнего времени евреи играли и играют важную роль в советской дипломатической и вообще заграничной службе. Чем можно объяснить, что теперь для них закрыли двери Дипломатической Академии? Может быть Сталин не может простить, что на московских процессах 1935-1938 годов большая часть обвиняемых была евреями.
Невольно приходят в голову некоторые слухи недавнего прошлого. В Москве говорили тогда, что в период отступления 1941 года евреев не эвакуировали из оставляемых областей и умышленно обрекали на истребление руками немцев.
Москвичам тогда очень хорошо были памятны осенние дни 1941 года. Они рассказывали, что почти никто из московских евреев, в то время, не получил разрешения на эвакуацию и, когда 16-го октября немцы одним прыжком вышли на подступы к Москве, то тысячи и тысячи людей искали спасения в паническом бегстве.
Большинство из них были евреи, т. к. партработники эвакуировались в плановом порядке, а рядовое московское население не имело ни возможности, ни желания к бегству. Тогда, якобы, Сталин бросил на шоссе Москва-Горький-Чебоксары заградотряды НКВД и издал приказ расстреливать на месте всех, бегущих без разрешения на эвакуацию.
Приказ был, якобы, умышленно опубликован несколько позже, чем были пущены в дело заградотряды и так как большинство бегущих были евреями, то в результате — гекатомбы еврейских трупов по обочинам московского шоссе. Было ли так на самом деле, мы узнаем, когда раскроются архивы.
В годы войны единство народов Советского Союза подвергалось тяжёлой пробе. Национальные меньшинства не оправдали надежд Кремля. Сейчас в Армии на каждом шагу слышишь новое незнакомое ругательство — «ялдаш!» На языках малоазиатских народов это слово значит — «товарищ». Рождённое революцией как новое официальное обращение, оно выродилось в презрительное ругательство.
Второе азиатское слово, которым обогатился армейский словарь в годы войны, это — «бельмейды!» Нацмены сначала массами перебегали к немцам, самострельничали, затем перешли к пассивному — «бельмейды!» Не понимаю! С чисто азиатским спокойствием туркмен или таджик, призванный в Армию, на все вопросы коротко отвечал — «бельмейды!» Когда ему командуют «на лево», он поворачивается на право.
Следующее, с лёгкой руки Председателя Всеславянского Комитета генерала Гундорова, лексическое словообразование это — «братья-славяне». Часто, когда в Армии рассказывают или наблюдают следы какого-нибудь безобразия, грабежа или бессмысленной глупости, то добавляют: «Это уж братья-славяне!» Это оценка самих солдат некоторым вещам, которые поощряются верховным руководством и развязывают руки тёмным инстинктам и побуждениям наиболее безответственной части Армии. Когда очередная «кампания» изживает себя, то же верховное руководство сваливает всю вину на исполнителей, издаёт негодующий приказ, производятся расстрелы козлов отпущения.
Несмешливое «братья-славяне» слышится часто по адресу польских и балтийских формирований в Красной Армии. Об эстонцах и других балтийцах, бившихся на стороне немцев, солдаты отзывались с большим уважением. Советские солдаты не знают, какую «независимость» дадут балтийцам их немецкие хозяева, но хорошо знают что за «независимость» они получили в 1940 году от советской власти.
Русские солдаты, которых до последнего времени старательно воспитывали в духе абстрактного интернационализма, в годы войны снова получив возможность национального восприятия событий, умеют подсознательно ценить стремление к национальной свободе даже у своих врагов.
«Крепко стоят, черти!» — слышались замечания, где было больше скрытого уважения, чем злобы.
Через пару месяцев после начала войны я встречал на постройке второго кольца аэродромов вокруг города Горького тысячи и тысячи иностранцев, работающих на земляных работах с лопатами и тачками в руках.
Их сразу можно было отличить по одежде. Физиономии у них были довольно кислые. Это были в свое время присосавшиеся к новой власти граждане Эстонской, Латвийской и Литовской ССР.
Пользуясь конъюнктурой, они заделались милиционерами, партийными и советскими пастухами в новых советских республиках. Бежав от наступающих гитлеровских полчищ на родину всемирного пролетариата, они получили лопату в руки и узнали, что это такое быть пролетарием.
Марионетки были полезны у себя дома, здесь же их использовали как рабочий скот. Позже их всех включили в состав нормальных рабочих концлагерей НКВД. Когда созрела необходимость создания национальных воинских частей, то их из концлагерей перевели в эстонскую и прочие национальные бригады, где большинство и легло костьми.
Такова карьера мелких рыцарей конъюнктуры! Не всем положено тёплое местечко в Коминтерне, титул вождя или опереточный мундир маршала. Это следует учесть тем, кто в дальнейшем вздумал бы соблазниться.
Идут дни. На фронтах гремят бои, а над Москвой полыхают салюты. Подходит сентябрь, а с ним и начало регулярных занятий. Я все ещё не могу примириться с мыслью, что я обречён к карьере японского дипломата. Когда я говорю об этом кому-нибудь из знакомых, то они смеются как весёлой шутке. Неужели судьба не улыбнется мне?
Однажды, проходя по двору Академии, я с разбега наскочил на женщину в военной форме. Машинально я отдал честь и извинился. В среде военных первым делом смотрят на погоны. Удивленный редким для женщины чином майора, я посмотрел на лицо.
«Ольга Ивановна!?» — воскликнул я радостно, поражённый неожиданной встречей.
Передо мной стояла Ольга Ивановна Москальская — доктор филологических наук, профессор и декан Немецкого Факультета I МПИИЯ. Когда-то я встречался с ней. Тогда она была приятно тронута моим интересом к языкам, исключительно любезна и внимательна ко мне.
Это был человек высокой культуры и исключительной личной обаятельности. Неудивительно, что у меня вырвался возглас радостного изумления, когда я неожиданно увидел её перед собой.
«Товарищ Климов?! — также изумлённо окинула она меня взором с ног до головы. — В форме! Что Вы здесь делаете?»
«Ах, лучше не спрашивайте, Ольга Ивановна», — смущённо ответил я.
«Да, но всё-таки… Опять учите немецкий?»
«Нет, Ольга Ивановна, ещё хуже… Японский!» — печально ответил я.
«Что-о-о?! Японский?! Не может быть! Вы шутите».
«Не до шуток, Ольга Ивановна».
«Ага, та-а-ак! — понимающе покачала головой Москальская. — Пойдемте-ка в мой кабинет поговорим».
На двери комнаты, куда мы вошли, я прочел табличку «Начальник Западного Сектора» и её имя. Следовательно, Ольга Ивановна теперь служит в Академии.
«Так что за идиот засунул Вас на японское отделение!?» — спрашивает Москальская.
Она и без моих объяснений хорошо знакома с порядками в Академии.
«Не идиот, а полковник Горохов», — отвечаю я.
«Согласны Вы быть переведенным на Немецкое Отделение?» — коротко по-деловому спрашивает Москальская.
«Сейчас я занята набором последнего курса и ломаю себе голову, где я должна искать людей, — говорит она в ответ на моё утверждение. — Если Вы не возражаете, то сегодня же дам рапорт генералу с просьбой о Вашем переводе. Как Вы смотрите на это?»
«Только, ради Бога, чтобы полковник Горохов не заподозрил за этим моё личное желание… Иначе я не ручаюсь за последствия», — говорю я и с благодарностью жму её протянутую руку.
«Об этом не беспокойтесь. До скорой встречи!» — смеется Москальская, когда я выхожу из кабинета.
На другой день меня вызывает начальник подготовительного японского курса и встречает подозрительным вопросом, как будто он меня в первый раз видит:
«Так это Вы — Климов?»
«Так точно, товарищ майор!» — отвечаю я.
«Тут от генерала пришел приказ перевести какого-то Климова, — майор смотрит в бумаги, — на какой-то четвёртый курс Западного Факультета».
Он скептически смотрит то на меня, то на бумагу.
Условия в Академии довольно своеобразные. Те, кто принят на Подготовительный Курс, — плавают в блаженстве. Слушатели 1-го Курса, — в особенности «солидных» наций, — полны самосознания. II Курс — рассматривается как уже «сделанные люди».
О слушателях III Курса шепчут как о людях, имеющих какие-то особенно сильные протекции. О существовании IV Курса мало что известно — это считается обиталищем богов. Этим и объясняются странные взгляды и вопросы начальника Подготовительного Курса. Жалкий червяк, приготовишка — и вдруг летит куда-то в небеса.
«Вам что-нибудь известно об этом?» — подозрительно спрашивает он.
«Никак нет, товарищ майор», — отвечаю я.
«Ну, так вот! Нате Вам этот приказ, — пока другого капитана Климова у нас нет, — и отправляйтесь на Западный. Я думаю, что это ошибка и мы с Вами скоро встретимся», — заканчивает он.
«Слушаюсь, товарищ майор!» — козыряю я.
Итак — я на последнем курсе Немецкого Отделения Академии. В довершение всех благ оттуда всегда открыты ворота на фронт. Нет, свет действительно не без добрых людей! Судьба мне всё-таки улыбнулась.
Глава 2 Солдат и гражданин
1
На фронтах идут бои, а над Москвой полыхают салюты. Внешне война мало заметна в Москве. Тот, кто читал об ожесточённых воздушных боях в московском небе, попав в Москву, удивится отсутствию следов бомбардировки. По улице Горького только один дом разрушен попаданием авиабомбы.
Я несколько раз проходил по этому месту, но заметил развалину только когда мне указали на неё пальцем. Отсутствующие части стен заделаны фанерой, окрашенной и разрисованной как макет на кинофабрике. Попадания бомб — единичные явления. Нельзя говорить о какой-то планомерной бомбардировке.
Подобная же картина в Ленинграде. На Ленинградских домах множество царапин от артиллерийского обстрела, почти все деревянные дома на окраинах разобраны и сожжены самими жителями во время блокады в качестве топлива, но значительных следов воздушных бомбардировок опять-таки не заметно.
Многих москвичей интересует один пикантный вопрос. Неужели немцы не имели сил и возможностей бросить хотя бы пару бомб на Кремль? Просто так, для смеха — чтобы напугать его обитателей.
Вреда им всё равно не причинишь, так как расположенная поблизости от Кремля самая глубокая станция метро «Кировская» переделана в правительственное бомбоубежище и связана с Кремлём подземным ходом. Москвичи уверяют, что эти работы были произведены ещё задолго до начала войны.
В 1942 году правительство было эвакуировано из Москвы в город Куйбышев. При этом в газетах торжественно подчеркивалось, что Сталин остается в Москве. Москвичи от себя добавляли, что спешно роется подземный ход от Кремля до Волги.
Теперь большинство правительственных учреждений вернулось из Куйбышева в Москву. Москва снова ожила и бурлит почти мирной жизнью.
Привязные аэростаты заграждения, каждый вечер поднимающиеся в небо, кажутся чем-то отжившим и ненужным. Главное, что напоминает о войне, это обилие людей в военной форме на московских улицах. Военных больше, чем гражданских.
К началу учебных занятий с опозданием на десять дней вернулась из санатория Женя. Я даже не знал, где она находилась. Её квартира была просто замкнута и никто из соседей не знал, где она. Это было в характере Жени. Она всегда делала, что ей вздумается и никого не посвящала в свои планы.
Однажды я по привычке зашел потрогать знакомую дверь. На этот раз дверь оказалась не запертой. Я открыл английский замок ключом, сохранившимся в моём кармане и осторожно вошел внутрь.
На огромном диване, свернувшись калачиком под меховым пальто, сладко спала Женя. Она по-детски причмокивала во сне губами и чему-то улыбалась. Я присел на край дивана, дрожащими руками достал портсигар и закурил папиросу.
В комнате тот же милый беспорядок студенческой богемы. На столе разбросаны книжки вперемежку с частями женского туалета. Из-под стола выглядывает одна из жениных туфель. Второй туфель можно искать на шкафу или за диваном. Когда Женя хочет спать, то просто взбрыкивает ногами и туфли летят во все стороны.
Налюбовавшись знакомой картиной, я глубоко затянулся и осторожно пустил дым от папиросы в розовые ноздри Жени. Она поморщилась, на секунду приоткрыла глаза и, мечтательно вздохнув, перевернулась на другой бок.
Подождав несколько минут, я повторил то же самое. На этот раз Женя сладко потянулась и, открыв глаза, как ни в чём не бывало промурлыкала: «А-а-а-х, это ты! Я думала мне просто снится…»
Она, как большой котёнок, начала ворочаться под мехом. Теплый аромат пахнул мне в лицо.
«Как ты сюда попал?» — спрашивает Женя.
«Через дверь», — отвечаю я, вертя в пальцах ключ.
Все происходящее для меня так же неожиданно и нереально, как и для Жени. Я ещё не могу поверить, что спустя столько времени, я снова сижу на этом диване, что Женя снова рядом со мной.
Девушка освобождаёт обнаженные руки из-под меха, с последним сладостным вздохом пробуждения потягивается в стороны как птица, расправляющая крылья. Одна рука чертит по ковру на стене, другая бессильно спадаёт к полу. Затем я чувствую как два тёплых крыла быстро и крепко смыкаются вокруг моей шеи.
«Неужели это не сон, — шепчет голос нам моим ухом. — Неужели это ты».
Я ласкаю моими грубыми руками бархатистую кожу девушки, вдыхаю пьянящий аромат разгоряченного сном тела. Я молчу, и не отрываясь смотрю в глаза Жени. Я ещё раз переживаю в душе все дни нашей дружбы.
Когда-то бесконечно давно я открыл дверь в одну из аудиторий Московского Энергетического Института, где в этот день производились экзамены. В открытую дверь навстречу мне стремительно выпорхнуло ликующее нечто.
Свет солнца из высоких окон аудиторий пронизывал летящие складки легкого платья, золотистой вспышкой светились кудри волос, торжеством победителя смеялись широко открытые лучистые глаза.
У меня тоскливо заныло сердце. Я не мог даже понять почему. Наверное, подсознательное чувство безнадёжной мечты, где наперед знаешь тщетность всех желаний. «Из нового набора. Сдала первый экзамен», — подумал я только. Позже мы познакомились. Это было лишь внешнее знакомство, так как все студенты знают друг друга. Иногда она, проходя мимо, не замечала меня. Иногда я отвечал тем же самым.
Однажды, возвращаясь домой в метро, я поднял глаза и увидел рядом с собой Женю. Я был один, она тоже была одна. Среди незнакомых людей мы почувствовали себя более близко. Завязался разговор.
Я соврал, что я тоже студент, но со старшего курса. Мне не хотелось признаваться Жене, что я научный сотрудник в этом же Институте.
Научный работник в глазах студентов — это нечто вроде знака дифференциала, нечто неопределённое и непонятное.
«Что вы сейчас собираетесь делать?» — после пяти минут разговора неожиданно спросила Женя.
Я пожал плечами. Не буду же я говорить, что дома меня ждут чертежи и таблицы, от которых у неё пробежит мороз по коже.
«Тогда поехали со мной, — безапелляционно заявила Женя. — Помогите мне сделать кое-что дома. Я теперь одна и не могу со всем справится».
Я подумал, что Женя заставит меня решать какие-либо задачки. Я был в восторге и представил себя в полное её распоряжение.
«Там работы хватит», — утешила меня моя новая знакомая.
Так я впервые попал в Женину квартиру. Жила она одна. Это не было удивительно в военное время. Больше меня удивило, что жила она одна в трех комнатах. Это было довольно странно для одинокой студентки. По московским обычаям здесь должно было бы жить три семьи.
Вместо задачек Женя заставила меня переставлять мебель. Через час она разговаривала со мной на ты и угощала меня папиросами, как хозяйка дома угощает подёнщика. То, что казалось мне межзвездной мечтой, стало бесконечно близким и простым.
С первого же дня меня поразил образ жизни Жени. Ей было восемнадцать лет, но самостоятельна она была не по летам. Позже из обрывков слов я понял, что отец её кадровый военный. Говорила она об этом неохотно и вскользь.
С большой теплотой она отзывалась о маме, которая работает военным врачом на фронте. Было заметно, что она чувствует себя покинутой и одинокой.
«Как цыганка…» — с лёгким налётом горечи невольно вырвалось у Жени однажды. Более подробно говорить о своих семейных делах она не захотела.
Женя казалась мне покинутым ребёнком и я старался помочь ей, чем мог. Она чутко отвечала на моё внимание. Как-то вечером, с обычной для неё непосредственностью, она обвила мне руки вокруг шеи, откинула назад свою встрёпанную головку, и, заглянув мне в глаза, просто сказала: «Знаешь, Гриша, я так привыкла к тебе… Поцелуй меня! Только крепко-крепко!»
Жизнь Жени так и осталась для меня загадкой. Часто она отправляла меня получать для нее тяжёлые посылки. Там были в изобилии вещи, которые трудно достать в военное время. Это иногда вызывало моё подозрение, граничащее с ревностью. Но Женя только смеялась: «Хоть отец и бродяга, но всё же заботится обо мне!» Однажды я встретил в её квартире пожилого седого человека. Когда он ушёл, Женя мельком показала мне несколько исписанных бланков с печатями. На бланках под красным гербом стояло:
«Военная Коллегия Государственной Прокуратуры Союза ССР».
«Это один знакомый отца. Эти бумажки мне нужны, чтобы оправдаться за прогулы в Институте», — небрежно бросила Женя бланки в ящик стола.
Я только покачал головой. Ведь это верховная судебная инстанция НКВД! Такие бланки опасно даже в руках держать, а этой девчонке люди приносят их на дом, чтобы она оправдалась за прогулы. Видимо у нее были какие-то сильные связи.
Женя была непревзойденным сорванцом. Как-то раз она собиралась в театр со своей подругой Лорой, студенткой Института Кинематографии. Лора славилась своим птичьим умом и хорошенькой мордашкой. По каким-то соображениям я в театр не приглашался.
«Мы идем в театр по делам, — объяснила мне Женя. — Ты посиди здесь и почитай. Не смей уходить! Я скоро вернусь».
Затем она начала переодеваться. Когда Лора вопросительно посмотрела на неё, то она со смехом успокоила подругу: «Гриша свой человек. Можешь не стесняться. Переодевайся!»
Я инстинктивно заподозрил что-то недоброе, но так как в других комнатах было холодно, то я взял в руки газету и изобразил моё отсутствие. Женя с Лорой вертелись перед зеркалом, споря у кого лучше линия спины и другие линии.
Наконец Женя призвала в качестве судьи меня. Прежде чем опустить газету я немного поколебался, но затем любознательность взяла верх над осторожностью. Только лишь я опустил край газеты, как мне в голову полетела тяжёлая книга:
«Ты куда смотришь? Ты и не глядя должен знать кто лучше!» — поучительно произнесла Женя.
Так и дружили мы с Женей в этой увешанной коврами комнатке. За окном били зенитки, полыхало прожекторами московское небо. Где-то гремела война, на фронтах текла кровь. Потом пришел и мой черёд надеть солдатскую шинель.
И вот теперь я снова здесь.
В широкое окно падают багровые лучи заходящего солнца. Они секут перламутровыми полосами морозный воздух за окном, бесшумно скользят между складками занавеси, рождают в комнате тихую пляску искрящихся пылинок.
Лучи уходящего солнца упираются в ковер на стене. Бархатный узор вскипает янтарной влагой диковинных южных плодов, тлеет угасающим светом неизведанного сказочного мира, где есть всё то, чего не хватает нам в жизни.
Узор медленно гаснет, теперь он истекает кровью. Он тёплый, он густой, он дымится. Краски умирают как день за окном, становятся все глубже, все темнее.
Они зовут к чему-то томительному и непостижимому, далёкому и прекрасному. На что они похожи сейчас? На чёрно-красное, терпкое как мускат, кавказское вино. Такое вино пьют в знак любви и кричат «Горько!» Я поднимаю руку и осторожно касаюсь играющей красками бархатной ткани. Я уверен, что она должна быть теплой, что я почувствую эту теплоту, что на моей ладони останутся уходящие краски. Я хочу поймать, остановить их.
«О чем ты думаешь, Гриша?» — вдруг тихо спрашивает Женя.
«Так вот спишь в траве, а потом откроешь глаза, — думаю я вслух. — Перед носом ползёт мурашка. Стебли такие большие, а бедная мурашка такая маленькая. Ползет бедняга, торопится, падаёт и опять торопится… А куда она торопится? Подставь ей палец — она поползет по пальцу. А стоит опустить другой палец и — нет мурашки. Так вот и наша жизнь. Думаешь, что ты что-то из себя представляешь… А потом откроешь глаза — и видишь, что ты только мурашка…»
«Чего это тебе пришло в голову именно сейчас?» — удивленно поднимает брови Женя.
«Я сейчас так счастлив… Жалко, что нельзя остановить счастье, поймать его… В конце концов, мы только мурашки…»
Женя тихо трётся щекой о моё плечо: «Замечал ли ты когда-нибудь, что женщины разные? Возьми Лору — ведь она самка и только. Она чувствует, что сахар — сладкий, а снег холодный. И это всё! А иногда хочется что-то другое, по ту сторону желания…»
Отрезанная от мира тишина комнаты в угасающем свете дышит нетронутым покоем. По всей земле, от края и до края, течёт кровь, а здесь… Хочется думать и говорить о чем-то хорошем, чистом. И это особенно чувствуется солдату, вернувшемуся вчера с фронта.
«Хочешь, я расскажу тебе историю одной чистой любви?» — спрашиваю я.
«Если там есть что-нибудь такое… — Женя просительно смотрит на меня. — То лучше не говори».
«Нет, там не было абсолютно ничего. Даже ни одного поцелуя, — говорю я. — Вот ты сейчас заговорила о женщинах. Грязные душонки рассказывают истории о фронте. О женщинах на фронте. А я на фронте узнал другое — величие души женщины. Девушка в серой шинели! Да я бы эти слова золотом по мрамору выбил…»
Слова раздаются неестественно громко в тишине полумрака. Я дрожащими пальцами глажу каштановые волосы Жени, чтобы успокоить себя.
«Когда солдат истекает кровью — это одно — говорю я, не слыша своего голоса. — Но когда этого солдата несет на руках женщина — это другое…» «Когда я был ранен, то меня привезли из медсанбата в стационарный госпиталь, — говорю я. — Как в бреду — среди ночи приёмка раненых, все кругом качается. Куда-то несут на носилках, укрыв с головой одеялом. Очнулся я в рентген-кабинете. Яркий свет. Представляешь себе — голый, обезображенный, самому смотреть противно. Я лежу на столе, а надо мной склонилась девушка — медсестра. Вижу только темно-русую голову. Косы заплетены вокруг головы, открытый затылок и нежная кожа на шее. Когда она начала переворачивать меня, я увидел её лицо. Глаза большие, голубые, и чистый лоб. Она осторожно переворачивает меня. Я тяжёлый, трудно ей, бедняжке. Ведь среди ночи, не спит… Заскрипел зубами — стараюсь сам перевернуться и не могу. Слезы от обиды выступают».
Женя слушает, затаив дыхание.
«И тут она на меня посмотрела, — продолжаю я. — Наверно никто так не угадывал мысли друг друга, как мы по этому взгляду. Никогда ещё женщина не казалась мне такой красивой. Ведь я был только одним из тысяч грязных окровавленных существ, а она так заботилась обо мне. Я тогда хотел поблагодарить её этим взглядом…»
«Только, ради Бога, не кончай плохо, — шепчет Женя, трепеща всем телом. — Как бы я хотела быть на её месте!»
«Потом я лежал в госпитале три месяца. Когда уже ходил, то как-то разговорился с сестрой нашей палаты Тамарой. Жаловался ей на тоску — выл как собака на луну. Затем случайно вспомнил сестру из рентген-кабинета.
„А, это Вера!“ — говорит та.
Через несколько дней Тамара снова подходит ко мне: „Вера хочет тебя видеть. Можешь встретить её в клубе, — потом недоуменно добавляет: — Зачем это ты ей понадобился?“»
Женя широко открытыми глазами смотрит куда-то в даль.
«Раненым в клуб ходить запрещалось. Одежда у всех отобрана — только белье да халаты. Но мы так делали: у одного под матрасом сапоги, у другого — брюки, у третьего гимнастерка. Ну, по очереди и ходили, — рассказываю я дальше, вспоминая эвакогоспиталь ЭГ-1002. — Перед концертом в фойе играет оркестр. У стены стоит Вера и ещё несколько сестёр. Я смотрю и боюсь подойти. Потом набрался храбрости и приглашаю Веру на танец. И вот что интересно — слова мы с Верой не сказали, но только она мне положила руку на плечо, как чувствую, что Тамара не обманула.
Потом она видит, что мне трудно танцевать, увела меня в сторонку, где меньше людей, и весь вечер мы с ней там просидели. Чудная она была девушка, студентка-медичка».
«Ну, а потом?» — спрашивает Женя.
«Потом начался концерт. У двери стоит политрук и вылавливает раненых. Я прислонился у лестницы как подзаборный пес. Вера с подругами заходит в зал последней. Затем на глазах подруг и политрука возвращается назад, берет меня под руку и уводит из клуба. Это не шутка — личные знакомства сестер с ранеными преследуются начальством. А ради чего?! Стояли при луне под березами и говорили. Как в шестнадцать лет».
«Неужели вы не поцеловались?» — шепчет Женя.
«Нет. Это мне показалось бы преступлением. Видно, она хотела вылечить не только моё тело, но и мою душу. Жалко ей стало тоскующего солдата».
«Ты помнишь её и теперь?»
«Да… По ту сторону желания, — отвечаю я задумчиво. — Вот ты заговорила о душе женщины. Вера была настоящая женщина. Я вспоминаю её каждый раз, когда слушаю „Походный вальс“ — „Завтра снова в поход… Так скажите же мне слово — сам не знаю о чем…“ Когда я вернулся в свой корпус, то меня ожидал приказ об эвакуации в другой госпиталь. Мы даже не успели проститься».
В этот первый день нашей встречи Женя была исключительно мила. Только когда я сказал ей, что теперь учусь в Академии, глаза её потемнели:
«Но ведь это значит, что ты должен будешь навсегда остаться в Армии».
Я беспомощно пожал плечами и, чтобы как-то оправдаться, сказал: «Но ведь твой отец тоже кадровый военный».
«Вот потому я и живу как беспризорница, — ответила Женя, повернувшись ко мне спиной и смотря в стену. — Теперь мне как раз недостает, чтобы ты стал таким же бродягой, как отец».
2
В Москве исключительно строгие и придирчивые комендантские патрули. Они не только проверяют документы, но и тщательно следят за соблюдением военнослужащими порядка формы.
Если у кого-нибудь из военных недостаточно начищены пуговицы, грязные сапоги или оторван хлястик на шинели — тому не миновать комендатуры и нескольких часов занятия строевой подготовкой в порядке наказания.
Комендантским патрулям, стоящим у эскалаторов станции метро «Красносельская», больше всего желчи портят нахальные и самоуверенные существа в военной форме, с недавнего времени регулярно появляющиеся на этой станции. На плечах — нормальные солдатские погоны, но с каким-то диковинным золотым кантом по красному полю.
Солдаты с золотыми кантами все как один выряжены в новенькие офицерские шинели зелёного английского сукна. Мало того — на них вызывающие зависть скрипящие хромовые сапоги, тугие офицерские пояса с пряжкой — звездой и портупеей, на голове — ухарски сдвинутые на ухо меховые шапки.
Даже шапки и те сделаны не как обычно, из цигейки, а из серого каракуля! Не всякий офицер может позволить себе такую роскошь! Многие из этих франтоватых солдат бесцеремонно размахивают в руках портфелями. В Армии руки служат для отдавания чести и для вытягивания по швам, а не для портфелей.
Сначала комендантские патрули просто остолбенели от такого неслыханного нарушения всех основ воинского регламента. Затем, предвкушая богатую добычу для гауптвахты, стали требовать у золотопогонных солдат красноармейские книжки.
Увидев вместо красноармейских книжек красные удостоверения личности с гербом и золотыми буквами «Военная Академия» они ошарашенно откозыряли нарушителям формы и пожали вслед плечами: «Тут без пол-литра не поймешь! Погоны солдатские, документы офицерские!?» Некоторые из слушателей 1-го курса нашей Академии не имеют офицерских званий. Когда сыну какого-нибудь московского вождя пролетариата подходит срок идти в Армию, то вождь запросто звонит по телефону Начальнику Академии генералу Биязи: «Николай Иванович, как живешь? Как дела идут? Я к тебе своего наследника пришлю, поговори там с ним».
Таким образом, можно служить в Армии, даже в военное время, не уходя из дома, не подвергаясь всяким фронтовым случайностям и одновременно получая завидную профессию.
В отличие от других Академий нам разрешается проживание на частных квартирах, а не только на казарменном положении. Звания в Академии повышаются на одну степень после окончания каждого курса.
Поступивший на 1-й курс без звания оканчивает последний курс с чином капитана. Одновременно можно встретить капитанов, обучающихся на 1-м курсе. Состав довольно пёстрый.
Главную роль в Академии играют не звания, а на каком курсе и факультете данное лицо находится, 1-й курс, выстроившись по отделениям, ожидает своей очереди в столовую. В это время в двери без строя и безо всякой очереди протискиваются по одиночке такие же слушатели как они.
Стоящие в строю с досадой переминаются с ноги на ногу и вздыхают в бессильном негодовании: «Эх, этот четвёртый курс!» Последний курс находится на положении вольнослушателей, ему даны многие поблажки и вольности. Разрешается даже получать сухой паёк на дом — то, что не положено самим офицерам-воспитателям.
На нашем IV курсе Немецкого Отделения Западного Факультета всего восемь человек слушателей. Всех их набрали из самых различных мест, большинство уже не в первый раз на университетской скамье. Состав исключительно сильный, но и требования соответственно высокие. Работать приходится много и напряжённо.
Помимо текущих дисциплин, нужно догонять так называемые спец. дисциплины за предыдущие курсы. Например: «Устав Армии», «Вооружение Армии», «Организация Армии», «Службы спец. назначения Армии». За скромным обозначением «спец. назначения» понимается разведка и контрразведка.
«Армия» само собой разумеется не советская, а немецкая. Ни один советский офицер, даже в своей специальной области, не знает столько о Красной Армии, сколько должны знать слушатели нашей Академии обо всех родах войск «своей» Армии, т. е. немецкой, английской и т. д. в зависимости от отделения, где он находится.
Учебниками по спец. дисциплинам обычно являются оригиналы документов или уставов соответствующей Армии. Лекции по особенно свежим или деликатным предметам конспектировать запрещено.
Уже готовые конспекты, отпечатанные на гектографе и тщательно пронумерованные по экземплярам, можно получить под расписку и залог своих документов для изучения в помещении особого учебного зала. Содержание этих конспектов отстает от жизни не больше, чем на месяц.
Информационный материал освещает не только уже существующее, но и ещё находящееся в стадии разработки или проектирования. Часто к стандартным конспектам приложены фотокопии подлинников.
По качеству фотографии можно судить, что часть из них сделана с трофейных документов или предметов, часть — в другой, менее удобной и спокойной, обстановке. Иногда ясно видна работа микрокамеры. Такие камеры помещаются в пуговицу, головку замка дамской сумочки и т. д.
Человек, поверхностно ознакомившийся с какой-нибудь наукой, обычно склонен утверждать, что он знает данный предмет в совершенстве. Чем больше человек узнаёт, тем меньше становится у него уверенности в своих знаниях.
Теперь нас учат забавным вещам. Заставляют штудировать подлинники средневековой литературы на готском и древне-верхненемецком языках, которые не разберёт даже сам современный немец.
Кто читал «Песнь о Нибелунгах», столкнувшись с ней в подлиннике, только задумчиво почешет затылок, но не поймет ни слова. По тому, как человек произносит слова «жареный гусь», мы должны определять откуда он родом с точностью до нескольких километров.
Никогда в жизни не поверю я человеку, утверждающему, что он знает что-то в совершенстве. Мне вспоминаются слова профессора математики Зимина, слывшего как философ-богослов. В ответ на утверждение одного студента, что тот прекрасно знает математику и не согласен с поставленной ему тройкой, профессор Зимин буркнул: «На пятёрку знает математику только Бог, я сам знаю на четвёрку, а самый лучший студент — на тройку. Идите, молодой человек, подучите получше!»
Мы должны знать, в каких местностях Германии что пьют и едят, как одеваются и какие там характерные привычки. Мы должны знать все мельчайшие приметы каждой национальной группы, должны безошибочно определять марки немецких вин с деталями, необходимыми для коммивояжёра по винам.
Нас учат, население каких немецких провинций недолюбливает своих же немецких компатриотов, каких именно, по каким причинам и какими словами они ругают друг друга. При разговоре с баварцем можно завоевать его симпатии, обругав известным словцом пруссаков.
Нам даётся исторический генезис всех живых и мёртвых, политических и экономических, идеологических и религиозных противоречий внутри германской нации. Так хирург изучает очаги болезни и слабые стороны пациента.
История германской компартии преподносится нам в значительно ином изложении, чем в нормальных учебниках по истории коммунистического движения. Лектор при этом обычно употребляет термин «наш потенциал» или другие более точные определения. Просидев два часа на лекции, ни разу не услышишь слово — компартия.
Конспекты по этим лекциям было бы интересно почитать самим немецким коммунистам. Некоторые из них честно думают, что они борются за лучшую Германию.
Политическое движение — это в каком-то роде и степени не что иное, как ловля легковерных людей. Вожди, соприкасающиеся с Коминтерном, конечно, лучше ориентированы в этом щекотливом вопросе.
Однажды кто-то из слушателей задал лектору вопрос: «Чем объяснить, что теперь мы не имеем коммунистических перебежчиков со стороны немцев?»
«Если вы подумаете, то сами поймете почему. Я не хочу отнимать время у аудитории, объясняя столь элементарные вещи, — ответил лектор. — Нам не нужны перебежчики. Нам эти люди гораздо полезнее, оставаясь на той стороне и работая для нас».
Этот лектор, одновременно с нашей Академией, читает курс «Подрывная работа в тылу» в Высшей Разведшколе РККА.
Малоценность перебежчиков с данной точки зрения — это одна сторона дела. Но если взять глубже. Куда делась массовая германская компартия? Германия была первой в мире державой, завязавшей тесные дружеские и торговые связи с Советской Россией. В Германии была самая сильная компартия и самый ярко выраженный промышленный пролетариат в Европе.
Германская компартия и германский пролетариат были для нас образцом пролетарской сознательности и солидарности. Коммунизм в свое время пустил глубокие корни в душе немцев. Предполагалось, что Германия будет следующим звеном в цепи «мировой революции». Кепка Тельмана была известна нам так же хорошо, как и борода Карла Маркса. И вдруг!
Теперь немцы сражаются как черти, никто в плен не перебегает, а наша пропаганда, забыв о «классовом подходе», поставила на всех немцев клеймо «фашист» и призывает только к одному — «Убей немца!» Ведь пересадить всех коммунистов в концлагеря Гитлер не мог. Этого не утверждает даже наша пропаганда. И вот теперь нацизм цветет пышным цветом! Где же коммунистическое сознание, пролетарская солидарность, классовая борьба и т. д.?
Недавно наша Академия перешла в новое помещение рядом с Академией Механизации и Моторизации Красной Армии им. Сталина в Лефортово. Когда-то здесь было юнкерское училище, затем артиллерийская школа.
Здания довольно неуютные, пахнет казармой. Зато для командования разрешена основная проблема — все мы находимся под одной крышей, за одним забором, посреди комплекса зданий имеется учебный плац, а где-то позади — гауптвахта.
В осенние дни можно часто наблюдать поучительную картину. По двору Академии бродят несколько слушателей под конвоем таких же слушателей-часовых. С арестантов сняты погоны и пояса, в руках у них метлы и совки. Они, не торопясь, сметают в кучи листья, беспрерывно падающие с деревьев под ударами осеннего ветра.
Труд этот столь же продуктивен, как наполнение водою бочки без дна. Но арестанты не унывают и не торопятся. До обеда ещё далеко, а в камере скучно. Несколько неприятней, когда их строят в линию на расстоянии нескольких шагов друг от друга и пускают собирать окурки по двору. Немного стыдно.
Проходящие по двору слушатели подбодряют своих попавших впросак товарищей: «А, Коля, опять сидишь! За какие подвиги? Сколько заработал?» Другие останавливаются и ищут глазами среди арестантов кого-либо из генеральских сынков. Всё-таки интересно — отец генерал, а сын по двору окурки под конвоем собирает.
Жертвы гауптвахты — это обычно слушатели первого курса, многие из которых ещё не знакомы с армейской дисциплиной. Для них, в основном, и изобретено педагогическое наказание в форме подметания листьев и сбора окурков.
Этим у них отбивают охоту к свободному мышлению и вколачивают чувство безусловного повиновения приказам начальства. Они должны раз и навсегда запомнить, что на военной службе приказ — это высший закон. В них воспитывается соответствующий безусловный рефлекс.
На дверях гауптвахты кто-то старательно вырезал ножом: «Я научу вас свободу любить!» Это теперь модная фраза в Армии. Генералы покрикивают эти слова на офицеров после очередной проверки или инспекции, где обнаружена недостаточная дисциплина. Сержанты в учебных подразделениях орут эти звонкие слова в лица солдатам в сопровождении матерщины, а то и просто зуботычины.
Есть на это и тихий, но многозначительный, ответ: «До первого боя…» Не даром по новому уставу офицеры идут не впереди своих рот, а позади их.
Да, не узнать теперь Армию! Многое изменилось за время войны, изменилось в самые неожиданные стороны!
Многие из нас искренне возмущаются методом обучения солдат в запасных частях перед отправкой на фронт. Там солдат учат почти исключительно строевой подготовке, повиновению команде «направо» и «налево», отдаче чести начальству и хождению в сомкнутом строю. Сплошь и рядом винтовки у солдат деревянные.
Часто солдаты попадают на фронт, ни разу не выстрелив из настоящей боевой винтовки. Казалось бы, что это абсолютная глупость. Так ворчат и сами солдаты, но потом привыкают и повинуются. Иногда это объясняется причинами местного порядка. Но общие планы идут сверху и имеют свой глубокий смысл.
Для Кремля не важно, если солдат умрёт, но гораздо хуже, если солдат не будет повиноваться. Исходя из этого, планируется обучение. Самое важное, чему следует обучить солдата — это безусловное повиновение. Умри, а приказ выполни!
Поэтому элементарное обучение солдата начинается с истребления в нём всякого стимула к самостоятельному мышлению. Солдата приучают чувствовать себя только лишь безотказной единицей в строю, в системе, в том целом, что создаёт Армию и Государство.
Получив боевой приказ, означающий верную смерть, солдат может подумать, что это бессмыслица и поколебаться. Поэтому его заранее приучают делать бессмысленные вещи и повиноваться.
Солдат перед отправкой на фронт гоняют изо дня в день с деревянными винтовками по команде «на плечо», т. е. как ходят только на параде. В таком духе их дрессируют на морозе от зари до зари: направо, налево, на плечо, к ноге…
После такой многочасовой «боевой подготовки» их заставляют с песнями идти за километр в столовую, возвращают несколько раз назад к исходному пункту и требуют, чтобы пели громче.
По пути в столовую всю роту несколько раз кладут в снег и приказывают ползти вперед «по-пластунски». Солдаты голодны, а в столовой ждет заманчивая вода с капустой и кусок черного хлеба. Можно подумать, что всё это глупость.
Нет, нет… Это очень хорошо продуманные и спущенные сверху директивы. Это нововведение последнего времени на базе изучения предыдущего опыта морально-воспитательной работы в Армии. Это диалектический закон о том, что все движется, все изменяется. Кремль знает, что он делает!
В середине зимы я попал во внутренний караул по Академии. Старшекурсники обычно несут команду и развод караула, слушатели младших курсов стоят на постах. По караульному расписанию я оказался начальником караула по гауптвахте.
Половина моих арестантов, общим количеством человек около пятнадцати, сидела за двойки по экзаменам, остальные — за нарушение дисциплины. После утренней «зарядки» в форме сбора окурков по территории Академии, арестантов под винтовками ведут на завтрак. Обычно это делается после того, как позавтракает весь состав Академии.
Здесь арестанты чувствуют себя хозяевами положения. Повара щедро наваливают им полные миски рисовой каши со сливами, какао они таскают с кухни целыми ведрами.
Хотя слушателям Академии и полагается 9-я, так называемая «академическая» норма, но большинству слушателей её не хватает, добавки не полагается. Единственные, кто сыт до отвала — это арестанты. Повара знают, что после завтрака их пригонят колоть дрова для кухни — значит нужно накормить «рабочего человека».
Один из моих арестантов с самого подъема объявил забастовку. Когда других арестантов вывели на сбор окурков, он коротко заявил: «Я такими вещами не занимаюсь».
Когда я вернулся специально за ним на гауптвахту и предложил ему идти на завтрак, то он только небрежно отмахнулся: «Я такого кушать не могу!».
«Бедный парень! — подумал я. — Наверное, у него желудок не в порядке».
«Может тебе курить нечего — так я пошлю кого-нибудь на рынок за махоркой?» — участливо предложил я. Хотя курить арестованным запрещается, но… свои люди. Конвойные частенько бегали на рынок за куревом для заключенных. Может, завтра с самим такой грех приключится.
«Нет, спасибо, — ответил мой арестант. — Я махорки не курю. Хочешь — закури».
Он протянул мне раскрытую пачку «Казбека». Большинство из нас курило махорку, в изобилии продаваемую инвалидами на каждом углу. Табачное довольствие в тыловых армейских частях, даже в Академиях, не положено, а покупать папиросы в «Люксе» не по карману офицерам даже при наличии лимитной книжки и скидки на 15 %.
Лимитные книжки мы обычно продавали деревенским бабам, охочим до ситца. Жалование у большинства из нас 600–800 рублей, на руки приходится половина. Тут не раскуришься «Казбеком» по 80 рублей пачка.
Позже от арестантов, коловших дрова на кухне, я узнал, что забастовщик уже второй день ничего не ест, и что он ожидает «папы», как иронически заявили дровоколы. Когда после обеда все арестанты были водворены в свою квартиру под замком, я ближе присмотрелся к арестанту, ожидавшему «папы».
Ему было лет двадцать, но на его лице, изможденном и овеянном пренебрежительной усмешкой ко всему окружающему, были ясно написаны все следы ночной жизни столичного города. Такие лица часто встречаются в среде, где люди хотят слишком многого от жизни.
Бледная желтоватая кожа, мешки с синими кругами под глазами, отвисшие углы рта, густо намазанные бриллиантином чёрные волосы, узкие выбритые усики над верхней губой — последняя новинка американских кинобоевиков.
Стараясь возместить своё одиночество в первой половине дня, черноусый завязал оживленную беседу с вернувшимися после работы арестантами. Надо отдать долг — беседа была интересной. Он был исключительно в курсе дел всего закулисного московского мира. О политике он говорил так, как будто каждый день запросто бывал в Кремле.
Заинтересовавшись разговором, я приказал часовому открыть дверь в камеру и замкнуть наружный вход. Делалось это просто — часовой плотно засовывал свою винтовку в ручку поперек входной двери. После этого мы вместе с арестантами уютно расположились в коридоре, покуривая и болтая. Кто на скамейке, а кто просто, поджав ноги, на корточках под стенкой.
Когда я ещё раз поинтересовался, почему он не кушает, черноусый с таким видом, как будто этот предмет не заслуживает внимания, махнул рукой: «От такой пищи я только заболею. Я подожду! Что вы думаете — я от звонка до звонка сидеть буду?! Папа обещал зайти завтра к генералу».
Из арестантской ведомости я знал, что посажен он «на всю портянку» т. е. на 10 суток, из которых сидел только второй день. До последнего звонка было ещё далеко.
«Неужели ты дома лучше кушаешь?» — восхищённо спросил я и сделал большие глаза.
Мое наивное восхищение подействовало.
«Я дома только и вижу, что шоколад, да сливки, — ответил черноусый, ещё больше кривя губы. — Торты в шкафу — бери, когда хочешь. Это, конечно, днём. А вечером я всегда в „Метрополе“ или в „Москве“. Там тоже покушать можно».
Он говорил таким само собой разумеющимся тоном, как будто предполагал, что каждый из его собеседников проводит вечера в этих роскошных ресторанах, предназначенных только для интуристов и «особой» публики.
Большинство москвичей знает об этих местах только то, что все официанты и обслуживающий персонал этих ресторанов являются агентами НКВД и заходить туда простому смертному опасно.
Если кто-нибудь заходит туда несколько раз подряд, то затем его вызывают в НКВД, предъявляют ему его счёта из этих ресторанов, каждый из которых равняется месячному заработку нормального человека, и вежливо просят подвести дебет-кредит, отчитаться в своих доходах и расходах.
«У тебя папа, наверное, хорошо зарабатывает», — заметил один из арестантов.
«Да, не-е-ет, — снисходительно процедил сквозь зубы черноусый. — Он в Це-Ка работает…»
Окружающие ответили на это почтительным молчанием, продолжая посасывать благовонный «Казбек», которым их щедро наделил отпрыск папы из Це-Ка.
До самого отбоя черноусый развлекает нас рассказами о том, как замечательно танцует дочка маршала Тимошенко — голая, на столе или рояле, во время интимных попоек в замкнутом придворном кругу. Он смакует грязные подробности столь же грязных амурных похождений кривоногого сына члена Политбюро Анастаса Микояна.
Самого Микояна он запросто называет «Стасик», его сына тоже какой-то приятельской кличкой. Судя по тому, с каким знанием дела он воспроизводит все детали, можно предположить, что и он сам участвовал в этих оргиях. Эти рассказы без сомнения были бы очень поучительны для профессора невропата или следователя по сексуальным делам.
Меня поражает, что все эти истории в точности совпадают с тем, что я уже не раз слыхал от Жени. По-видимому, это не выдумка.
Столь же бесцеремонно черноусый открывает последние страницы запретной книги и поведывает нам интимные детали из жизни самого Вождя. Мы узнаем, что за Светланой долгое время безуспешно волочился один из известных московских режиссеров, пока заботливый папаша не отправил назойливого поклонника в Сибирь.
Позже Светлана искренне полюбила простого и скромного студента. Этому чистому роману на каждом шагу мешала многочисленная лейбгвардия НКВД, следившая за каждым её шагом. Даже в тёмные московские ночи Светлана не решалась на поцелуй, зная, что за каждым кустом сидит шпик, который обо всем доложит папе. Папе это тоже, в конце концов, надоело, и он уже собирался отправить бедного студента вдогонку за режиссером. Но тут Светлана так энергично запротестовала, что папа только махнул рукой. Родную дочку в Сибирь отправлять неудобно, а монастырей теперь нет. Позже Светлана вышла замуж за студента, но, как клялся черноусый, без папашиного благословения. Будущий дедушка был поставлен лицом де-факто. Тут черноусый историограф династии Джугашвилли хитро и многозначительно подмигнул.
Рассказывать такие вещи, да ещё в такой многочисленной аудитории, для обычного человека означало играть со смертью. Но черноусый и глазом не повёл.
С ещё большим упоением он, закатывая глаза к потолку, перешел к цветастому воспроизведению похождений «Васьки». Судя по всему «Васька» был его героем и жизненным идеалом. Самой яркой чертой характера «Васьки» была его слабость к московским ресторанам и актрисам.
По словам черноусого, на фронт «Васька» попадал лишь тогда, когда папе становилось невтерпёж и он запросто выгонял беспокойного сына на фронт для протрезвления.
Черноусый клялся, что карьера каждой известной теперь московской артистки началась в «васькиной» постели. Дальше следовали подробности семейной драмы режиссера Александрова и его последней жены Любови Орловой, где в тихую идиллию «Васька» вторгся просто из «любви к спорту».
Дебошам и пьяным скандалам сына Вождя черноусый посвятил по меньшей мере два часа восторженных песнопений.
«Да, твоя жизнь у тебя на лице написана», — подумал я про себя.
Дальше мы узнаем последние новости науки и техники.
«Костиков теперь тоже сидит», — заявляет черноусый, постукивая мундштуком «Казбека» по крышке картонной коробки.
Костиков — изобретатель и конструктор реактивных орудий, официально называемых в армии гвардейскими минометами и получившими у солдат прозвище «Катюша». В 1937 г. в списке высших награждений, среди фамилий знаменитых генералов и работников военной промышленности, впервые мелькнуло имя никому неизвестного инженер-капитана Костикова.
Позже он был официально объявлен конструктором «Катюши», отличен многими высшими наградами и званием генерал-лейтенанта военно-технической службы. В годы войны, благодаря исключительно боевым качествам его детища — «Катюши», Костиков считался одним из спасителей Родины в критический период войны.
«Не может быть! — усомнился кто-то из арестантов. — Такого человека и посадить…»
«Это ничего не значит, — поучительно заметил черноусый, — под замком они лучше работают, чем на воле. Это уж проверено практикой. Помнишь Туполева? Единственный человек был, кто открытый счёт в Госбанке имел. Заходи и бери, сколько хочешь — миллион, сто миллионов. Тоже посадили, когда пришел срок…»
Черноусый совсем не дурак. Он трезво смотрит на вещи окружающего мира и строго понимает разницу. Классовую разницу. Кому — «Метрополь» и артистки, а кому — «…под замком они лучше работают».
Анатолий Николаевич Туполев — самый выдающийся советский авиаконструктор периода зарождения авиации в СССР. Все известные советские самолеты, — начиная с четырёхмоторных машин, принимавших участие в спасении «Челюскинцев», и кончая дальними бомбардировщиками, на которых Чкалов и Громов летали через Северный Полюс в Америку, — все они носили марку «АНТ» и были плодами работы Туполева.
В 1937 году Туполев, вместе с тысячами и тысячами выдающихся Светских ученых, был арестован и бесследно исчез с горизонта. О его аресте люди узнали по тому, как самолеты «АНТ» были переименованы в «ЦАГИ».
Спустя семь лет, во время прорыва линии Маннергейма на Карельском перешейке весной 1944 года, над нашими головами кружились тучи новых двухмоторных бомбардировщиков с ярко-красными втулками переменного шага винта — мы их так и окрестили «красноносыми». Это было новое детище Туполева.
Все эти годы он по-прежнему работал над конструированием самолетов в специальном конструкторском бюро, где весь персонал состоял из заключенных.
Условия отличались только тем, что у каждого за спиной стояла охрана НКВД, да ещё тем, что работать заставляли гораздо напряжённее, чем на воле, обещая сокращение срока наказания и прочие поблажки. Вполне рентабельно — никакого открытого счёта в Госбанке!
Когда после отбоя арестанты были водворены по своим камерам, лейтенант, несущий внутренний караул на гауптвахте, ни к кому не обращаясь, покачал головой и вздохнул: «Таких паразитов на мыло надо пускать! Кроме шоколада он ничего не кушает… Ах ты, мать твою за ногу!»
На следующее утро к подъезду, где помещается кабинет Начальника Академии, подкатил чудесный лимузин. Полный маленький человек в кожаном пальто и дорогом заграничном костюме по хозяйски взбежал вверх по ступенькам. Я наблюдал за всем этим из окна караульного помещения, расположенного как раз напротив генеральского подъезда. Через несколько минут на столе за моей спиной зазвонил телефон — генерал приказывал отпустить «папенькиного сыночка» из-под ареста досрочно.
Когда часовой привел арестанта с гауптвахты в караульное помещение, где я должен был вернуть ему погоны, пояс и всякие мелочи из карманов, человек в кожаном пальто выходил из дверей, направляясь к своему лимузину. «Сыночек» моментально отскочил от окна — по-видимому, он предпочитал не попадаться на глаза папаше.
Незаметно прошла в занятиях зима. Постепенно я втянулся в учебу, завел новые знакомства в Академии. Не помню, когда и каким образом я впервые встретился со старшим лейтенантом Белявским.
Около тридцати лет, худощавый и подтянутый, он отличался непоколебимым спокойствием и внешним равнодушием ко всему. Вместе с тем, в душе это был на редкость горячий и увлекающийся человек.
Когда-то Белявский окончил университет в Ленинграде, затем специальные курсы по подготовке для работ заграницей. Он прекрасно владеет несколькими языками.
Во время испанской авантюры он был послан в Испанию и провел там некоторое время в качестве «испанца». Какими-то загадочными путями Белявский сумел почти десять лет сохранить свои лейтенантские погоны. Его бывшие сослуживцы по Испании имеют теперь значительно более высокие погоны и должности.
Страстью Белявского является театр. За месяц вперед он покупает билеты на все премьеры в московских театрах.
Иногда мне кажется, что он ещё не отошел от той душевной травмы, которой болеют многие ленинградцы, и что в театре он ищет возможности забыться. Белявский провел в блокаде Ленинграда самое тяжёлое время и от него нельзя вырвать ни слова об этих днях.
Вся Академия знает Валентину Гринчук. Обычно её зовут нежно и коротко — Валя. Несколько месяцев тому назад её, тяжело раненую, привезли на самолете из партизанского тыла в один из подмосковных госпиталей. После выздоровления и выписки из госпиталя она была зачислена в нашу Академию.
На вид Валя почти ребёнок — ростом она по пояс большинству из нас. Когда ей подбирали сапоги, то во всем складе Московского Военного Округа не могли найти такого маленького номера, сапоги ей пришлось шить по детской колодке на заказ.
Но мало кто из слушателей Академии имеет столько орденов, причем серьёзных боевых орденов, как этот ребёнок. Эти ордена так не соответствуют её чистому детски-невинному лицу, что все люди непроизвольно оборачиваются ей вслед. Иногда даже старшие по чину из уважения первые отдают ей честь.
До войны четырнадцатилетней босоногой девочкой в глухой полесской деревне Валя бегала с ведрами к колодцу за водой и вряд ли знала, что такое Германия и кто такой Сталин. Ясным июньским утром в её детскую душу вошла война.
Немцы заняли деревню, в первом упоении лёгких побед бесцеремонно хозяйничали в новом «восточном пространстве». Немало пинков солдатского сапога изведала Валя в эти дни. Инстинктом ребенка она научилась слепо ненавидеть чужих людей в серо-зелёной униформе.
Игрою случая она вскоре столкнулась с партизанами из регулярного партизанского отряда, переброшенного из Красной Армии в немецкий тыл.
Сначала её использовали в качестве разведчицы. Мало кому из немцев могло придти в голову, что простоволосая худенькая девочка, которой на вид нельзя было дать и двенадцати лет, связана с грозным в тех местах партизанским отрядом.
Позже, оставшись сиротой, Валя покинула родную деревню и ушла к партизанам. Она была попеременно пулеметчицей, подрывником, снайпером, добровольцем ходила в далекие рейды, в рискованную разведку.
Немало немцев, видевших в ней только ребенка, поплатились жизнью за свою беспечность. Не зная ещё, что такое жизнь, Валя часто смотрела в глаза смерти. Может быть, потому она и была так бесстрашна и безразлична к смерти. Её душа росла в боях, в крови и ненависти. В теле ребёнка билось чёрствое сердце солдата.
Одно только было плохо — Валя не умела улыбаться. Она не знала, что такое смех, веселье и радость. Война не дала ей возможности узнать эти стороны жизни.
Сегодня по двору привилегированной московской Академии шагает изящная восемнадцатилетняя девушка. Лёгким пухом летят серебристые волосы под надвинутой на брови пилоткой. Маленькие ножки в хромовых сапогах шагают по жизни уверенно и смело.
Её однолетки ещё сидят за школьными партами. У этой же девушки-ребёнка на хрупких плечах погоны старшего лейтенанта и годы Фронта, зелёная грудь офицерского кителя цветёт рядами боевых орденов, золотыми и красными полосками ранений.
«Валюша — улыбаются ей навстречу офицеры и шепчут вслед восхищённо: — Молодчина!»
Однажды мне показали капитана — летчика, слушателя II курса. Как-то он пригласил Валю на концерт. Валя охотно согласилась. Подробности всего вечера не известны. Известно только, что разгорячённый капитан попытался обращаться с Валей так, как это принято обращаться с девушками-фронтовичками. В этом вопросе особенно ошибаются те офицеры, кто не был на фронте. Когда Валя резко осадила его, взбешенный капитан крикнул: «Знаем, как все вы зарабатываете эти ордена. Все вы…» Несколько позже капитана нашли на улице с окровавленным черепом, проломленным рукояткой пистолета. Когда Начальник Академии генерал Биязи вызвал Валю к себе и потребовал объяснения, то она коротко ответила: «Пусть будет благодарен, что жив остался!» Генерал только развёл руками и приказал Вале сдать пистолет. После этого даже самые отъявленные критики девушек-фронтовичек стали обращаться с Валей на «Вы».
3
Февраль 1945 года. Германское контрнаступление на Западном Фронте в Арденнах захлебнулось в собственной крови. Союзные Экспедиционные Силы готовятся к прыжку через Рейн и пресловутую Линию Зигфрида.
Наши войска после длительной подготовки перешли в наступление на Одере, ломая укрепления Восточного Вала и расширяя плацдарм для последнего удара в сердце гитлеровской Германии. Война близится к развязке.
Как это ни странно, но условия в Москве несколько улучшились по сравнению с предыдущими годами. То ли трудности стабилизировались и люди привыкли к ним, то ли успех на фронтах и ожидание близкого конца войны облегчает переносить эти трудности. В стране и Армии чувствуется всеобщий подъём духа.
Произошло чудо — вместо истощения за годы войны Армия окрепла технически и морально, набралась сил в боях и победах. К концу войны Армия имеет в достаточном количестве самолёты, танки, автоматическое оружие, боеприпасы, обмундирование, т. е. всё то, чего катастрофически не хватало в начале войны. Это труднообъяснимая загадка, над которой многие из нас ломают голову.
Наивно предполагать, что это чудо явилось результатом только военных усилий нации во время войны, или только благодаря моральному перелому в душе нации в ходе войны, или только благодаря помощи союзников. Промышленный и военный потенциал к концу войны был ниже, чем в день её начала.
Моральный фактор играет большую роль и интересен с той точки зрения, что, абсолютно не оправдав планов Кремля в начале войны, умелой перестройкой внутренней пропаганды и ошибками противника в ходе войны был снова приведен к кремлевскому знаменателю. Военная помощь союзников огромна, она намного облегчила участь русских солдат и русского народа, заткнула многие дырки в военной машине Кремля, сократила сроки войны.
Но ни один из этих факторов, взятый в отдельности, не решает исхода войны. Не будем говорить о «если бы…» Война — это та же шахматная игра с тем же бесчисленным числом вариантов. Шахматные ходы могут меняться в зависимости от обстановки, но за всем этим с самого начала скрывается основная стратегия игрока — его этюд. Кремль разыграл в этой войне гамбитный этюд. Это ясно чувствовалось в последнем периоде войны.
В среде Академии я часто слышу разговоры о «трёх этапах». Отличаясь в деталях, они в основном сходятся на довольно стройном объяснении событий последних лет. Эти разговоры берут своим началом ближайшее кремлёвское окружение и круги Генерального Штаба Красной Армии.
Недаром наша Академия за глаза называется кремлёвской и недаром у многих наших слушателей есть «папаши» в Генштабе. Здесь можно узнать многое, о чём не знает простой солдат.
Характерно, что когда разговор заходит на подобную тему, то все рассказчики подчёркивают, что они плевали на официальные версии и на слухи. Многие «слухи» специально распускаются «слухачами» НКВД.
У Кремля есть не только официальный аппарат пропаганды через печать и радио, но и твердо функционирующий аппарат «слухачей» НКВД, задачей которого является регулярная дезинформация народа в желаемом для Кремля направлении. Конечно, Кремль никогда не признается в «трёх этапах» и гамбитном этюде!
Историю войны можно разбить на три этапа-периода. Первый период начался в день подписания Советско-Германского Договора о Дружбе. На следующий день после заключения Договора, в сентябре 1939 года, я прибыл на производственную практику на завод «Ростсельмаш» — крупнейший не только в СССР, но и во всей Европе, комбинат сельскохозяйственного машиностроения.
В цехе комбайнов, куда я был назначен я застал странную картину. Основой цеха служил главный конвейер в форме кругового >П», где производилась сборка комбайнов. Движущаяся лента конвейера была вмонтирована в пол, комбайны зацеплялись снизу крюком за брюхо и таким образом на своих колесах ползли по круговому «П».
Теперь конвейер стоял без движения, комбайны замерли в полусобранном виде. Но зато буквально каждый квадратный метр пролетов между конвейером, комбайнами и станками был забит новой продукцией — тысячами зарядных ящиков для противотанковой артиллерии. Их напекли за один день после заключения договора о дружбе.
Такая же картина была в других цехах. В день заключения договора о дружбе по телеграфному сигналу из Москвы на заводе был вскрыт секретный мобилизационный пакет, хранящийся в сейфе секретной части каждого советского завода. Все цеха на протяжении трёх месяцев моего пребывания на «Ростсельмаше» лихорадочно работали над производством военной продукции.
Это были цеха, которые в нормальное время предназначались для мирного производства. Кроме того, на «Сельмаше» с самого момента постройки комбината беспрерывно функционировали так называемые «спеццеха», постоянно выпускавшие артиллерийское вооружение.
Часто бывая на товарной станции Ростова, я своими глазами видел эшелоны и эшелоны вооружения, на производство которого была переключена вся мирная, до этого момента, промышленность Ростова.
Здесь не говорится о нормальных «Н-ских» военных заводах, каждый из которых имеет свою особую железнодорожную ветку и продукция которых не попадает на глаза людям.
Сделав экскурс в область марксистской политэкономии, советскую промышленность «средств производства» можно подразделить на две основные категории — чисто военная промышленность, постоянно выпускающая исключительно военную продукцию, и остальные виды промышленности, по форме мирные, но ещё в период конструирования рассчитанные на мгновенный перевод на военную продукцию или законченного порядка или порядка кооперации.
Провести грань между этими двумя категориями очень трудно. Станкостроительная промышленность на первый взгляд кажется мирной, но 90 % выпускаемых станков идёт на оборудование военных заводов.
С сентября 1939 года даже эта вторая категория промышленности, до того с натяжкой работавшая на мирное производство, была полностью переведена на мобилизационные планы и работала исключительно на войну.
Одновременно со мной студенты нашего Индустриального Института проходили производственную практику на сотнях крупнейших заводов по всем концам СССР. Везде была та же картина. Открытая подготовка к войне была ясна уже в сентябре 1939 года.
Не ясно было только одно — против кого эта война будет вестись. Многие были склонны предполагать, что Кремль решил совместно с Германией поделить мир пополам. События в Финляндии, Прибалтике и Бессарабии, последовавшие вскоре, подтверждали это предположение.
Что бы там ни было, во всяком случае, уже в это время Кремль решил, что настал час для активного решения внешнеполитических задач. Уже тогда вся военная машина Кремля полным ходом приводилась в боевую готовность.
Дружба с Германией использовалась в том же направлении. В Кронштадт приходили купленные в Германии подводные лодки. Немецкие опознавательные знаки «U» перекрашивались в советские «Щ». Их так и прозвали моряки — «щуками».
По этим образцам спешно строились десятки «щук» на советских верфях подлодок. В Германии были заказаны постройкой несколько «коробок» линкоров, артиллерийское вооружение для них изготовлялось и должно было монтироваться на Кировском заводе в Ленинграде. Эти линкоры не попали по назначению вовремя. Дружба работала полным ходом.
В некоторый момент этого периода «дружбы», — точную дату установят историки, — в отношениях «Высоких Договаривающихся Сторон» произошли неожиданные изменения. Аппетиты у обоих партнеров разгорелись. Видно Гитлер, опьянённый успехами, решил, что он в состоянии скушать пирог и без своего усатого друга.
Каждый советский офицер Генштаба рассмеётся, если ему скажут, что нападение Германии на Советский Союз было неожиданностью для Кремля. Современные методы разведки исключают такие неожиданности. Тем более, если учесть, что нет другого правительства в мире столь хорошо информированного о положении дел у своих соседей, как Кремль.
Миф о неожиданности «коварного нападения» нужен был только для внешнего употребления, чтобы оправдать кремлевский мезальянс. Уже за несколько недель до открытия военных действий на советско-германском фронте, многие радиослушатели в Советском Союзе слушали английские радиосводки о концентрации 170 германских дивизий на восточной границе Райха. А у невинных мальчиков в Кремле уши ватой заложило?!
Кто не слушал радио, тот читал официальное опровержение ТАСС:
«В иностранной прессе в последнее время появляются провокационные сообщения о концентрации германских войск на советской границе.
Из хорошо информированных источников ТАСС уполномочен заявить о полной несостоятельности и лживости этих сообщений иностранной прессы».
Точка! Советские люди слишком хорошо знают ТАСС, чтобы не понять это сообщение ТАСС как раз наоборот.
Уже ранней весной 1941 года для Кремля было ясно, что война неизбежна в ближайшие месяцы. Тогда было созвано чрезвычайное совещание Политбюро, где были приняты основные решения о стратегии в изменившейся ситуации, т. е. в будущей войне. Тогда же был создан Комитет Обороны, о котором было объявлено только лишь после начала войны.
Кремль прекрасно знал соотношение сил. Знал лучше, чем Германское Верховное Командование. Вопреки всей бешеной подготовке к войне это соглашение было бы не в пользу Кремля.
Шансы на спасение были только в длительной войне на изнурение противника, на использование необъятных территориальных пространств, материальных и человеческих ресурсов России — в применении старой кутузовской стратегии к условиям современной войны.
Тогда-то в Кремле и был принят гамбитный этюд войны. Только в этом был шанс на спасение, о победе тогда ещё было слишком рано говорить.
Эта оборонительная стратегия была исключительно дорогой и неминуемо требовала чудовищных жертв от народа, она полностью противоречила предвоенной кремлёвской пропаганде о войне «малой кровью и на чужой территории». Открыто говорить об этом было нельзя. Это была величайшая тайна Кремля за всё время существования Политбюро.
Тогда же были ориентировочно установлены границы отступления, жертвы и резервы, крайней точкой уже тогда был намечен Сталинград.
Здесь хладнокровно прикидывались на счётах десятки миллионов человеческих жизней, плоды труда, пота и крови целого поколения огромной страны. Члены Политбюро чувствовали щекотание пеньковой веревки на своей шее. Нужно было спасать свою шкуру. А цена этому…
Ха! Ведь у нас материалистическая теория! Уже тогда война была разбита на две стадии. Уже тогда было рассчитано, что необходимо сохранить в резерве для «третьего периода». Все остальное, ненужное для «третьего периода», было обречено на жертву во «втором периоде».
Когда началась война, солдаты шли на фронт в старом, никуда не годном обмундировании, не хватало даже обычных винтовок незаменимого образца 1891 года.
В то же время десятки миллионов пар обмундирования, миллионы винтовок и автоматов в твёрдой смазке для долговременного хранения лежали в запломбированных складах — они предназначались для «третьего периода».
Порой эти склады сжигались или попадали в руки немцам, но не выдавались войскам. Это было в тех случаях, когда продвижение немцев было быстрее, чем предусматривал кремлевский график.
Многое в этом «втором периоде» шло не так, как это рассчитывал Кремль. Самым крупным просчётом оказалось моральное состояние народа. Русский народ ясно показал, что у него нет никакого желания защищать Политбюро. Моральное состояние Армии оказалось гораздо ниже, исходя из этого, потери в людских резервах гораздо выше.
Пришлось принять чрезвычайные меры, придать войне национально-патриотический характер, чтобы устранить этот просчёт. Потери территории мало отступали от «графика», но соблюдение «территориального графика» стоило гораздо больше человеческих жизней.
Потери материальных резервов шли строго по «графику» — обороняющиеся войска получали только лишь старое обмундирование и устарелое оружие, сбывался лежалый товар, самолеты и танки устарелых типов.
Всё лучшее и современное держалось в резерве для «третьего периода». То же самое было с людскими резервами. В жертву оборонительному периоду бросались шестидесятилетние старики и женщины, а резервы наступательного «третьего периода» в это время стояли, ожидая своей очереди, на Дальнем Востоке.
Попутно на сцене появился новый положительный фактор. Западные Демократии, в период сталинско-гитлеровской дружбы числившиеся в категории врагов, теперь волей-неволей стали союзниками. Конечно, они не были простачками и не забыли Кремлю всех его курбетов. Но тут предоставлялась возможность свалить основную тяжесть войны на чужие плечи, к тому же на плечи довольно сомнительного и каверзного субъекта.
В глубине души они, конечно, желали, чтобы оба тоталитарных выродка сожрали друг друга. Но пока кремлевская разновидность урода терпела поражение за поражением и возникала опасность его преждевременной гибели, западные демократии были готовы помочь.
Не для того, чтобы он выжил, а для того, чтобы он уничтожил или хотя бы ослабил своего нацистского побратима.
Тут и началась игра. Кремль оказался если и не умней, то, во всяком случае, хитрей. Ему удалось, спрятав за спину собственные резервы, получить от западных демократий колоссальную помощь.
Те рассчитали эту помощь ровно так, чтобы кремлёвский медведь имел возможность бороться и смертельно ранить нацистского орла. После этого он сам должен был околеть от истощения.
Добить Германию и диктовать ей условия мира предназначалось западным демократиям. Но кремлёвский медведь оказался хитрей. Вынув из-за спины свой козырь — резервы «третьего периода», он не только выжил, но и победил.
В «третьем периоде» войны, пропорционально возрастая с каждым днём движения Красной Армии на Запад, войска получали все больше и больше первоклассного вооружения отечественного производства.
Для штабных офицеров не были тайной партии автоматического оружия, приходившие на фронт в 1945 году — на автоматах, ещё ни разу не бывших в употреблении, нередко стояли заводские клейма довоенных лет.
Кремль не слишком скупится на человеческие жизни — к концу войны больше чувствовалась нехватка в живой силе, чем в вооружении. Переэкономив вначале на барахле, Кремль с трудом сводил концы с концами в людских резервах в последний период войны. Кроме того, отставали области промышленности, второстепенные с военной точки зрения.
В «третьем периоде» было достаточно отечественных танков и самолетов, но катастрофически не хватало автотранспорта и многих других «мелочей». Большая часть автотранспорта была американского происхождения.
Ещё более парадоксальная вещь была с продуктами питания. Нехватка продуктов питания была колоссальной. Обратив все внимание на чисто военную промышленность, Кремль оставил в загоне то, что казалось естественным в русских условиях.
Таково гипотетическое объяснение загадки успеха войны, которого придерживаются московские военные круги.
На днях закончилась Крымская Конференция Большой Тройки. Загнав осиновый кол в могилу Гитлера, Конференция в основном занималась проблемами построения послевоенного мира.
В связи с Крымской Конференцией в придворных кремлёвских кругах открыто говорят о двух попытках мирных переговоров с Гитлером за последнее время. Первая попытка зондировать почву для сепаратного мира на восточном фронте была предпринята Гитлером, когда Красная Армия закреплялась на правом берегу Днепра.
Кремль охотно пошёл на переговоры и с его стороны основной предпосылкой было сохранение границ СССР в рамках 1941 года. Из этого видно, как мало в то время Кремль надеялся на большие успехи.
Главным для него было сохранение своей потрепанной шкуры в довоенных границах. С другой стороны, Гитлер, хотя колесо истории вращалось не в его пользу, слишком надеялся на свою судьбу и свой гений — он потребовал от Кремля правобережную Украину в качестве отступного.
Здесь оба тоталитарных партнера по прежнему играли довольно открытыми картами, более открытыми, чем с их демократическими контрпартнерами.
Вторая попытка сепаратного мира была предпринята Гитлером, когда петля истории уже захлестнулась на горле Германии. Это было непосредственно перед Крымской Конференцией.
Отправляясь в Ялту, Сталин не поколебался предварительно поторговаться с Гитлером. Кто больше предложит — Гитлер или демократии? На этот раз Гитлеру пришлось жестоко поплатиться за свою горячность во время первых переговоров.
Теперь уже Кремль не просил о сохранении довоенных границ, он требовал свободы рук на Балканах, предоставления проливов в Средиземном море и обширных уступок на Ближнем Востоке. Теперь уже Гитлеру предлагались его старые границы, а мечты о мировой империи зарождались в другом мозгу. Политика козырей в рукаве оправдала себя — она принесла не только спасение, но и возможности для дальнейшей игры.
Гитлер наотрез отказался от условий, продиктованных ему Кремлем. Принять эти условия для него было равносильно духовной гибели. Он предпочёл гибель духовную и физическую, увлекая за собой в бездну весь свой народ, всё государство. В этот час был подписан смертный приговор гитлеровской Германии.
На Крымской конференции была достигнута видимость полного согласия договаривающихся сторон. В этот момент Сталин отбросил в сторону все мысли о возможности сепаратного мира с Германией и обратил все свое внимание на дипломатическую игру с западными демократиями.
Во дворцах Ливадии он чувствовал себя гораздо увереннее, чем во времена Тегерана. Но и здесь он предпочел не политику грубых требований, а тактику вымогательства помощи и уступок в обмен на гарантии, которых он и не думал выполнять. Показывать свою силу было рано. Эта сила ещё находилась в стадии роста. Её размеры были неясны для самого Кремля. Нужно было оттянуть время и выклянчить побольше.
Западные союзники проявили большую уступчивость. Они были уверены, что у Кремля не хватит сил захватить Европу, что «coup de grâce»[1] падет на их долю, а кремлёвский медведь так и застрянет с протянутой лапой где-то на границах Польши. Они сделали много уступок, думая, что Кремль просто будет не в силах воспользоваться ими.
Только лишь осторожный и предусмотрительный Черчилль в свое время подумал о возможной опасности, предлагая план вторжения западных союзников в Европу со стороны Балкан, отрезая таким образом, Европу от красной опасности с Востока.
Этот план обошелся бы союзникам значительно дороже, чем вторжение со стороны Атлантического побережья. Поэтому любители загребать жар чужими руками решили дать кремлевскому медведю возможность ещё раз пообжечь лапы и потаскать для них каштаны из огня. Но они снова просчитались.
Кремлёвский медведь аккуратно складывал каштаны в свою собственную суму и беспрерывно жаловался на слабость, головокружение и требовал все больше крепительных средств.
Западные союзники, надеясь, что он, в конце концов, всё-таки околеет, охотно подбрасывали ему дальнейшие миллиарды в форме помощи по ленд-лизу, а кремлёвский медведь столь же аккуратно откладывал их в сторонку про запас.
Так благодаря хитрости с одной стороны и устарелой дипломатической честности с другой стороны, Кремль, неожиданно для западных демократий и для самого себя, встал на ноги. Не только встал на ноги, но и оказался нос к носу с теми заманчивыми проблемами, к которым он тянулся в период 1939–41 годов. Ситуация была даже более благоприятной, чем в довоенный период.
Что такое дипломатия? Двое с самым чистосердечным выражением на лице врут в глаза друг другу. При этом каждый наперёд знает, что его визави врёт. Если один вздумает сказать правду, то второй примет это за утонченную ложь, но никогда за чистую монету.
Меттерних и Талейран теперь едва ли получили бы министерские портфели. Теперь требования значительно возросли. Прогресс человеческого общества породил новую категорию духовных ценностей, дипломатическая ложь перестала быть изящным искусством для немногих, стала предметом массового производства и потребления.
Так вот и с Крымской Конференцией. Высокие Договаривающиеся Стороны пожали друг другу руки, подписали Коммюнике, которому, по меньшей мере, одна из договаривающихся сторон ни на минуту не верит и придерживаться которого не собирается.
Коммюнике опубликовали в печати. Все люди, за исключением авторов, верят коммюнике и радуются. Ведь, действительно, всё так хорошо! Будущее лежит перед нами как солнечный день в мае, как голубое небо в Думбартон-Оксе.
Правда, для простого человека политика на сегодняшний день ограничивается тем, что хлеб в Москве стоит 50 рублей кило.
В середине февраля 1945 года я сдал курсовые экзамены за последний курс. Так как ряд дисциплин был зачтён мне из предыдущих учебных заведений, я освободился на десять дней раньше остальных слушателей моего курса.
С большим трудом мне удалось добиться недельного отпуска. Под предлогом служебной командировки мне от имени Академии было выписано командировочное предписание и таким образом я смог съездить навестить мой родной город на юге.
Эта поездка доставила мне мало удовольствия. Город произвел такое же впечатление, как осенний сад после бурной ночи, когда деревья стоят голые, а под ногами трещат сучья и сорванные ветром сухие листья. Сам не поймёшь, почему, а на душе становится тоскливо и пусто.
До войны Новочеркасск славился своей шумной молодёжью. В городе на сто тысяч жителей было пять Высших Учебных Заведений и студенчество было лицом города.
Теперь же, когда я в двенадцать часов дня проходил с вокзала по главной улице, навстречу мне попалось только несколько дряхлых старух. Характерная картина тыла. Кто попадает с фронта в тыл, того поражает эта мёртвая тишина и безлюдье.
Зашел я под холодные своды своей бывшей alma mater. Воспоминания оказались красивее, чем действительность. То ли действительность настолько изменилась, то ли я, побродив по белу свету, обрёл новые мерила ценностей.
По углам улиц сидели закутанные в тряпьё бабки и продавали стаканами семечки и самодельное монпансье. Как в 1923 году! Тогда это удовольствие стоило мне 5 копеек. Теперь же я дал своему маленькому кузену красную тридцатирублевку на семечки. Что видят дети от этой жизни?
Кругом царила такая беспросветная нищета и оскудение, что даже скромные довоенные условия казались людям золотым веком. То, что раньше считалось нехваткой, сегодня считается зажиточной жизнью.
Действительно, человек — это самое совершенное из млекопитающих. Другое существо в таких условиях уже давно протянуло бы ноги, а человек, венец творения, все ещё шевелится. Именно шевелится! Иначе это трудно назвать.
Новочеркасск несколько месяцев был под немецкой оккупацией. Меня и здесь остро интересовало услышать мнение о поведении немцев из уст людей, которые не боялись бы сказать мне абсолютную и беспристрастную правду.
Поиски истины в данном вопросе мучили не только меня, это было массовое явление среди русских солдат. До войны большинство русских смотрело на немцев, как и на все по ту сторону рубежа, в какой-то мере, как на существ высшего порядка. Даже когда разразилась война и люди столкнулись с обратным, они не хотели верить этому.
Люди не верили кремлёвской пропаганде, наученные довоенным опытом кремлёвского слова и дела внутри страны. Но на этот раз пропаганда во многом была права. Люди убеждались в этом своими глазами, не хотели верить даже своим глазам, тщетно искали следы того миража, который был в их представлении о Западе и который немцы с методичностью, достойной лучшего применения старательно разрушали.
Как раз те люди, которые раньше видели в немцах идеал культуры, а позже нашли холодную маску зверя, как раз они и были затем наиболее беспощадны к немцам. Пусть эту маленькую деталь узнают те, кого русские убивали только лишь за то, что он немец. Люди жестоко мстят богам, не оправдавшим себя.
Когда я вышел из поезда на московском вокзале и снова нырнул в водоворот столичной спешки и суеты, я почувствовал такое же облегчение, как человек, вернувшийся домой с кладбища. В Москве кипела жизнь, бурлили надежды. Там же, на всем протяжении огромной страны, люди чувствовали только костлявую руку голода и полную беспросветность.
После гнёта немецкой оккупации пришел ещё более тяжёлый гнёт — страх ожидания расплаты. Люди не знали расплаты за что, но знали, что эта расплата неизбежна. Огромные территории Советского Союза, более половины всего населения страны, временно перебывали под немецкой оккупацией. Теперь над каждым из них висел призрак расплаты за «измену Родине».
В конце февраля все выпускники нашего курса были направлены на фронт в действующую армию на полагающуюся перед Государственными Экзаменами боевую стажировку. Я был прикомандирован к штабу 1-го Белорусского Фронта.
В эти дни части 1-го Белорусского и 1-го Украинского Фронтов вели ожесточённые бои, ломая «зубы дракона» и другие новинки германской фортификационной техники. После прорыва укреплений Восточного Вала шли бои за расширение Одерского плацдарма. Наши войска, воодушевлённые успехом, бешено рвались к сердцу гитлеровской Германии — Берлину.
Стоит ли вспоминать об этом? Для этого есть историографы и летописцы. Одни будут старательно перекрашивать чёрное в белое, другие столь же старательно будут делать как раз обратное. Было и то и другое.
Мне часто приходили в голову мысли о преступлении и наказании, о критерии вины и возмездия, где кончается справедливость и начинается преступление. Кому приятно смотреть на труп молодой женщины, валяющейся в придорожной канаве?
Нижняя часть тела обнажена, между ног ударом приклада загнана пивная бутылка. Войска бесконечной лентой идут по шоссе. Все видят этот труп в канаве, большинство отворачивается, но никому не придёт в голову убрать его в сторону. Труп лежит у дороги, как символ. Символ чего?
Тяжело судить обо всем этом! Ведь это варварство, заслуживающее наказания. Да! Но если вы поставите виновника под суд, то окажется, что его семья, жена, дети, дом — все убито, сожжено, превращено в пепел теми, кому мстит он теперь. Пепел убитых стучит в его… сердце!
Он будет в истерике рвать гимнастерку на груди и с обезумевшими глазами кричать: «Убей меня, если веришь, что я не прав!..» Он до глубины души верит, что он выполняет свой долг перед мёртвыми, перед Высшей Справедливостью. Он верит, что он прав.
У меня несколько раз поднимался пистолет… и опускался. Где критерий справедливости? Что хуже — вина или возмездие?
Кругом много жестокости, бессмысленной жестокости. Немцы впоследствии будут возмущаться этими жестокостями. Пусть спросят у Бога! Там что-то сказано о наказанной гордыне.
Если немцам напомнить о миллионах, да миллионах, русских военнопленных, замученных в Германии, то они найдут массу отговорок, объяснят это объективными причинами. Но факт — это было? Было. Миллионы русских работали в Германии на положении рабов — было это? Было! Некоторые пытаются объяснить это войной и правом победителя. Но сегодня тоже война и победители мы. Да — мы!
Кто серьёзно задумается о преступлении и наказании, пусть бросит на одну чашу весов истории сумму русского горя и страдания, а на другую — немецкого горя и страдания. Без сомнения, чаша русского горя перетянет.
Попытайтесь беспристрастно решить, кто развязал эту эпопею горя и ужаса, имя которому война. Простой русский солдат до глубины души уверен, что начали войну немцы. Он не политик с сигарой в зубах и он не думает о кознях Коминтерна или о борьбе Германии за мировые рынки и «лебенсраум».
Он думает о своем сожжённом доме, уведённой в немецкую неволю жене, об умерших с голода детях…
Я охотно хотел бы видеть в каждом немце честного человека, каким он был для меня до войны, которому я мог бы пожать руку. Но факты, проклятые факты!
Надо иметь гражданское мужество смотреть фактам в лицо. У меня десятки раз обливалось кровью сердце, когда я смотрел на эти факты. К сожалению, я бессилен вынести свой приговор или оправдание. Пусть судит об этом Бог!
В последних числах апреля, в разгар уличных боёв в центре Берлина, я был неожиданно откомандирован в Москву.
Глава 3 Песнь победителя
1
В мягкой полутьме зала, под огромными хрустальными люстрами, плывут убаюкивающие волны музыки.
Воздух в пролёте мраморных колонн напоён теплом человеческого тела, возбуждающим ароматом тонких духов, характерным дыханием жизни столицы. Я засовываю пальцы за тугую кожаную портупею и жадно оглядываюсь по сторонам.
Мне не верится, что ещё вчера под моими сапогами дрожали от взрывов камни берлинских мостовых, что кругом меня падали, чтобы больше не подняться, люди в серых шинелях. Мне кажется, что мой китель ещё сохранил едкий запах Берлина — смесь гари, известковой пыли и порохового дыма.
С эстрады льются знакомые слова фронтовой песенки — такие простые, проникновенные и родные. Где я их слыхал в последний раз? Да, водитель танка старший сержант Петренко!
Молодой отчаянный парень, он часто пел эту песенку под аккомпанемент аккордеона. Хороший был парень! Немного не дошел Петренко до Берлина, сгорел заживо в танке в песках Бранденбурга.
Рядом со мной откинулся в кресле старший лейтенант Белявский. Встретив меня в Академии, он сообщил мне, что у него на вечер есть билеты на концерт Заслуженных Артистов СССР.
«Пойдём, пойдём! Тебе немного провериться надо», — сказал он, хлопнув меня по плечу. Таким образом, на второй день после возвращения в Москву я очутился в Колонном Зале Дома Союзов.
Во время антракта после первого отделения концерта мы выходим в фойе. Пробыв два месяца на передовой, я опять смотрю на Москву изголодавшимися глазами. После кратковременного отсутствия резко бросается в глаза то, чего не замечаешь, постоянно живя в столице.
Основная масса зрителей — это офицеры-работники Наркомата Обороны и частей Московского Гарнизона, слушатели Военных Академий, фронтовики, очутившиеся на несколько дней в Москве, и пользующиеся случаем попасть на концерт.
Практически вся физически здоровая часть мужского пола носит военную форму. На человека в гражданском смотрят или как на безнадёжного калеку или как на подозрительного человека. Много инвалидов войны — в той же военной форме, но без погон.
Многие из мужчин, даже в гражданском платье, имеют ордена или колодки боевых орденов.
Авторитет военного звания за годы войны поднялся на невиданную высоту. До войны офицерское звание было мало популярным, на офицеров смотрели как на лодырей и дармоедов. В годы войны офицерский корпус пополнился массой офицеров запаса.
Армия стола неотъемлемой частью каждой семьи. На военную службу стали смотреть как на необходимую и почётную обязанность. Внешние и внутренние реформы в Армии и в стране заставили всех пересмотреть свои взгляды на военное звание. Сегодня боевой офицер был самым почётным человеком.
Если до войны гражданские с некоторым пренебрежением смотрели на военных, то теперь картина как раз обратная. Люди в тёмно-синих шевиотовых костюмах кажутся существами второго порядка. Большинство из них выглядит измученными и бледными. Лихорадочная ненормированная работа не прошла бесследно.
На лицах и одежде большинства женщин та же серая обезличивающая печать хронического недоедания, повседневных забот и тревог. Голод и холод, напряжённая одуряющая работа, нехватка во всем элементарно-необходимом разучили этих людей радоваться и улыбаться.
Лица у всех безразличные, бледные, усталые. Даже молодёжь потеряла свою былую непринужденность и всепобеждающую юношескую беззаботность довоенных лет.
Усталость войны видна в тылу гораздо яснее, чем на фронте.
Отдельную группу составляют так называемые «наркоматчики», — хорошо одетые, сытые и самодовольные до тошноты. В городе их можно безошибочно узнать по светло-коричневым кожаным пальто, в которые они все неожиданно облачились в одну ночь.
В 1943 году американцы вместе с сотнями тысяч автомашин, поставляемых по ленд-лизу, в качестве спецодежды для шофёров прислали эти кожанки.
Автомашины пошли по назначению на фронт, а кожаные пальто застряли в Москве в качестве спецодежды для ведущих работников Наркоматов. Для фронтовых шофёров это излишняя роскошь, а у советских ответработников ещё со времен революции детская слабость ко всякого рода кожанкам.
По Москве ходит слух, что американцы немало удивляются, встречая советских деловых представителей выряженными в шофёрские спецовки. Может быть, по наивности они считают это пролетарской скромностью советских боссов.
Бесцельно побродив по фойе среди блеска орденов и бледных голодных лиц, мы с лейтенантом Белявским подходим к стеклянной витрине буфета. За стеклом навстречу нам сверкают астрономическими ценами самые изысканные деликатесы, какие только были в Москве в лучшие довоенные годы.
Но цены! Стыдно смотреть, как люди, покрутившись у буфета как у музейной витрины, облизывая губы и глотая слюну, поворачивают назад с пустыми руками.
«Хорошо хоть мы без дам, — стоически замечает Белявский. — И на черта все это выставлено?! Уж лучше бы не раздражали воображение».
Во втором отделении концерта коронным номером выступает Государственный джаз под руководством Заслуженного Артиста РСФСР Леонида Утёсова. Утёсов — популярнейший в Советском Союзе руководитель джаза, на которого возложена щекотливая задача подогнать западноевропейскую джазовую музыку к часто меняющимся потребностям социального заказа.
Его интерпретация джаза попеременно воодушевляет аудиторию то фокстротом на стахановские мотивы, то маршем, громящим зарвавшихся империалистов. Сегодня он с помощью тромбонов и саксофонов вколачивает осиновый кол в могилу фашистской Германии.
Толстенький развязный человечек паясничает на эстраде. На нем традиционный артистический фрак с крахмальной грудью. В петлице вместо хризантемы поблескивает орден «Трудового Красного Знамени». Потрясая руками в припадке патриотической лихорадки, Утёсов выжимает из потеющего оркестра последние капли «Ленинградских волн».
Самые большие симпатии публики Утёсов стяжал себе своим знаменитым конферансом: «Живёт моя семья богато и зажиточно! Сам я зарабатываю так тысяч двадцать… Дочка немного подрабатывает, тысяч пять… Ну, конечно, и муж-инженер помогает… Целых шестьсот целковых!» Аплодировали ему бешено, но этот конферанс он довольно скоро прекратил. Говорят, что его потом порядком таскали по НКВД.
В зале наступает минутная тишина. В оркестре какая-то заминка, шепот, суетня. Неожиданно за спинами зрителей вспыхивают дуговые лампы и перекрещиваются ярким трепещущим пятном на эстраде.
В кресте дуговых ламп стоит Утесов, в руке он держит листок бумаги, рассыпавшиеся пряди волос падают на потный лоб. Маска паяца сброшена и вся фигура толстенького человека дышит неподдельным воодушевлением.
«Товарищи! Друзья!» — раздаётся его голос.
Зал насторожился в ожидании. Затаили дыхание люди. Слышно как кто-то скрипит креслом в задних рядах.
Чеканя слова, срывающимся голосом Утесов бросает медленно и с расстановкой в настороженную тишину зала: «Приказ… Верховного… Главнокомандующего!» Замерли в томительном ожидании люди. Я слышу, как стучит сердце в моей груди, как судорожно сжал ручку кресла старший лейтенант Белявский. Приказ мог быть только один.
«Сегодня, 2-го мая 1945 года, войска 1-го Украинского Фронта во взаимодействии с войсками…» — звучит вибрирующий голос с эстрады.
Я не вижу, откуда идёт этот голос. Он трепещет в моей груди, он поднимается к горлу как мой собственный голос. Вот она — Победа! Право, в содрогающихся каменных шахтах берлинских улиц, в броневом колпаке, штабного танка, в повседневной жизни солдата пафос боев и победы кажется куда проще и обыденнее, чем среди мраморных колонн этого зала.
Там — это только решение боевой задачи, сводки с квадрата, движение цифр, металла, человеческих жизней. Здесь — это годы напряжённого ожидания, безграничная радость и гордость народа.
Каждый шаг Армии вперед воспринимается с болезненным трепетом как шаг к победе не ради самой победы, а как конец дням страха за жизнь мужа, отца, брата. Сердца трепещут в ожидании этого конца дням обезличивающего голода, беспросветной работы тыла для фронта. У всех в сердцах одно — скорей бы конец. Скорей!
Люди тыла больны хроническим психозом. Они непоколебимо уверены, что день победы, день окончания войны, мгновенно, как в детской сказке, не только принесёт с собой избавление ото всех кошмаров военного времени, но и даст что-то большее, лучшее, чем они знали до войны.
Этот массовый психоз последних дней войны пульсирует в глазах каждого. Это невидимый и неощутимый флюид, заполняющий надеждой опустошенные души людей.
Стиснув челюсти, они идут к победе как бегун к финишу, отдавая последние силы, видя только заветную черту. Коснуться в последнем рывке грудью этой черты — и упасть замертво. Там будет хорошо. Там сладкий отдых, там заслуженная награда за самоотверженный труд, за пот, за кровь.
Я закрываю глаза, чтобы не видеть человека на эстраде.
Голос в тишине зала поднимается и крепнет: «Сегодня наши войска, после ожесточённых и кровопролитных боев, овладели сердцем гитлеровской Германии — городом Берлин…» Голос Утесова захлебывается в хриплом торжествующем вопле.
Движимый единым внутренним порывом зал, как один человек, поднимается на ноги. Гром стихийных оглушительных аплодисментов потрясает мраморные колонны. Едва ли эти стены слыхали что-либо подобное.
Старший лейтенант Белявский и я до боли бьём в ладоши и смотрим в глаза другу-другу. При всяких других аплодисментах официального порядка советские люди предпочитают не встречаться взглядами. Здесь нам нечему стыдиться, нечего кривить душой.
Я оглядываюсь кругом. Это не искусственно подстроенная овация вождям Партии и Правительства, когда каждый углом глаз наблюдает, усердно ли аплодирует его сосед и в душе ожидает, когда окончится снисходительное похлопывание ладоней председателя президиума, — дирижера балагана, — официальный знак к окончанию оваций.
Это настоящая овация. В первый раз в моей жизни я не стыжусь аплодировать. В первый раз в моей жизни я вижу столь искреннее и горячее проявление чувств многолюдной аудитории. Гремят, не смолкают аплодисменты. Это русский народ стоя благодарит русского солдата за тяжёлый боевой труд, за пролитую кровь.
Откуда-то издалека, заглушаемые бурей аплодисментов, доносятся слова: «В ознаменование победы над Берлином приказываю: сегодня, 2 мая 1945 года, в 22 часа по московскому времени произвести 20 орудийных салютов из 220 орудий в городе Москве и в городах-героях Сталинграде, Ленинграде, Одессе…»
Покинув концертный зал, мы выходим на площадь Свердлова. Ещё не потухла малиновая полоса на закате. Светло небо над потонувшим в вечерних сумерках городом-победителем. Чернеют причудливыми силуэтами крыши домов на фоне угасающей лазури. Чудно прекрасны московские вечера в мае. Сказочны они, озарённые огнями победы, в победном венце военной славы.
Где-то далеко на Западе лежит в мертвой темноте другой город. Город, поверженный на колени. Не весело тому городу и его жителям. Ещё дымятся развалины, бывшие когда-то уютными домами, где кипела тихая мирная жизнь.
Ещё валяются по улицам трупы, ещё вчера не думавшие о смерти. Живые сидят запершись в своих квартирах без света и без огня, дрожа от каждого шороха за дверью. Могильным холодом дышит на них будущее. Они едва ли и думают о будущем. Они ещё не могут понять всей глубины той бездны, куда привела их человеческая гордыня.
«Да! Иногда и Москва может быть красивой», — непроизвольно вырывается из груди старшего лейтенанта Белявского, всегда критикующего Москву в пользу Ленинграда.
Гаснут огни последнего салюта. В наступившей тишине в моих ушах звучат заключительные слова приказа: «Честь и слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!» Да будет кровь, пролитая вами, пролита не напрасно…
2
Каждый москвич знает памятник Минину и Пожарскому. Долгие годы стоят бронзовые русские патриоты на Красной площади у стен Кремля. Их моют хмурые осенние дожди, колючим снегом чешут им бороды декабрьские ветры, тёплым дыханием ласкает весеннее солнце.
Так проходят над ними годы, как облака в небе. Рождаются, чтобы умереть люди. Приходят и уходят цари и правители за кремлёвской стеной, а бронзовые великаны все стоят на своем старом месте.
Московские старухи, украдкой крестясь, шепотом передают из уст в уста, что иногда бронзовые великаны опускают свои тяжелые ресницы и закрывают свои хладные очи, чтобы не видеть того, что творится кругом.
Но вот однажды, только один-единственный раз за все долгие годы, бронзовые великаны вздохнули полной грудью, встали во весь свой рост, посмотрели в глаза друг другу, крепко обнялись и поцеловались. Старухи клянутся, что плакала тогда холодная бронза. Плакала слезами радости бронза, и мы — люди земли русской.
Этому я верю сам и это подтвердит вам каждый русский человек, бывший в Москве в то солнечное утро Девятого Мая Тысяча Девятьсот Сорок Пятого года.
Уже за несколько дней до этого по Москве ползли неопределённые слухи о каких-то секретных переговорах между Союзниками и представителями Германского Главного Командования. Никто ничего толком не знал, но напряжение ещё больше усилилось, атмосфера ожидания накалилась до предела.
В Советском Союзе так и не были оглашены истинные обстоятельства капитуляции. Капитуляция Германии произошла в Штаб-квартире генерала Эйзенхауэра, в маленьком школьном домике вблизи Реймса во Франции, 7 мая 1945 года в 14.41 по среднеевропейскому времени.
Капитуляция была подписана со стороны Германии — Начальником Германского Штаба генерал-полковником Иодль, со стороны союзников — Начальником Штаба генерала Эйзенхауэра генерал-лейтенантом Вальтером Б. Смит и со стороны Советского Союза — генералом Суслопаровым.
Окончательный текст капитуляции был подписан 8 мая в 12.01 по среднеевропейскому времени в пригороде Берлина — Карлсхорсте.
Тогда же было официально объявлено о капитуляции. В Советском Союзе о капитуляции было объявлено в обращении Сталина по радио в ночь на 9-ое мая.
Утром 9-го мая я проснулся от землетрясения. Кто-то как сумасшедший тряс меня за плечи. В широко раскрытых ликующих глазах старшего лейтенанта Белявского я прочел без слов всё.
С лихорадочной поспешностью я оделся, дрожащими неслушающимися пальцами застегнул пуговицы кителя. Белявский торопит меня. Я тоже тороплюсь, сам не зная куда. Нужно почистить сапоги — в такой день сапоги должны сиять как солнце. Нужно пристегнуть свежий воротничок, полой шинели навести последний блеск на пуговицы.
Никогда у меня не было такой внутренней потребности к блеску военной формы, как в этот день. Машинально захлестнул я под погон ремень портупеи.
Ремень и портупея носятся поверх кителя только на параде и в карауле. Но разве сегодня не парад? Пусть попробует кто-нибудь указать мне сегодня на нарушение формы. Теперь бежим! Туда где люди, где радость, где торжество и ликование.
Когда мы быстрым шагом заходим в ворота Академии, часовой в проходной козыряет нам особенно лихо и улыбается, как будто мы знаем одну и ту же тайну. Да, победа! Подписана безоговорочная капитуляция.
Академия гудит как взбудораженный улей. Все слушатели выстроены пофакультетно на плацу для слушания приказа Верховного Главнокомандующего. Горит солнце в небе. Горят орденами шеренги офицеров, замерших по команде «Равнение на знамя»!
Звучат трубы горнистов. В сопровождении ассистентов с обнаженными саблями полощется по ветру красный шёлк с золотыми кистями. Знаменосец и ассистенты — Герои Советского Союза.
Начальник Академии зачитывает приказ Сталина, подводящий черту под четырьмя годами героической борьбы русского народа против гитлеровской Германии. Затем к слушателям обращается начальник Западного Факультета полковник Яхно. Но все эти слова звучат слишком слабо. Они не могут выразить всё величие момента, к которому мы шли так долго, такой дорогой ценой.
Хочется скорее вырваться наружу, в гущу народа, туда, где пенится через край безудержная радость победы. С группой офицеров, даже не позавтракав, я тороплюсь в центр Москвы.
По пути мы заскакиваем в «американку», где можно выпить стоя. Заказываем по кружке пива. С недавнего времени в Москве появилось пиво по 16 рублей кружка. Дневное жалование офицера за пол-литра пива. У некоторых из нашей компании нет в кармане даже на пиво, выручают товарищи.
«На фронте лучше, чем в тылу, — говорит один, посыпая пиво солью и рассматривая поднимающиеся со дна пузырьки. — Там хоть выпить есть что».
«Ничего. Скоро всё будет, — утешает другой. — Видишь — уже пиво появилось. Через пару месяцев так заживем — как в сказке. Не даром воевали! Теперь подожди — увидишь, что будет».
В его голосе звучит непоколебимая уверенность в какое-то близкое чудо. Как будто он знает, что для него приготовлен подарок, но пока об этом нельзя говорить. Если кто-нибудь усомнится в его словах, то он прямо в глаза обвинит его в измене. Какой измене он не знает сам, но будет считать этого человека предателем.
Об этом мало говорится, разве что только обрывками фраз. Об этом не пишется открыто в газетах, но довольно прозрачно намекается. Это загадочное и неуловимое нечто носится в воздухе, мы жадно вдыхаем его полной грудью и оно пьянит нас.
Мы не думаем, мы не рассуждаем, мы только чувствуем. Имя этому пьянящему чувству — надежда. Мы надеемся на что-то. Это что-то настолько огромно, настолько непостижимо желательно для нас, настолько загнано в самые уголки нашего сознания, что мы не решаемся говорить или даже думать об этом.
На что мы надеемся? Старого не воротишь, мертвых не воскресишь. Может быть, мы радуемся, что снова вернемся к мирной довоенной жизни? Но это мало кого из нас обрадует. Наша первая радость — сегодня мы стоим на рубеже. На рубеже конца самого тёмного периода нашей жизни и на рубеже начала нового неизвестного периода.
И каждый из нас надеется, что этот период, как радуга после бури, будет светлым, солнечным и счастливым. Если спросить, — на что мы надеемся, то большинство, пожалуй, выразит свои мысли просто: «К черту всё то, что было до войны!» А что было до войны, каждый из нас хорошо знает.
Я видел много московских праздников и парадов. По улицам маршировали колонны демонстрантов, по тротуарам стояли люди и глазели. В такие праздники больше всего чувствовалось одно — люди хотели бы действительно попраздновать и повеселиться, а не демонстрировать свою радость и веселье.
Это был обезьяний театр, где в самой глубине души копошилось поганенькое чувство фальши. Большинство старалось не думать, что основным стимулом, заставляющим праздновать эти праздники, является задняя мысль — «Как бы на заметку не взяли, если не пойдешь!» Сегодня другое дело. Никаких организованных демонстраций нет. Но это абсолютно не нужно. От края и до края, как безбрежное море, улицы Москвы переполнены народом. Люди на тротуарах, люди на мостовых, в окнах, на крышах домов. В центре Москвы улицы настолько переполнены, что не видно разницы между тротуаром и мостовой.
От одной линии домов и до другой — равномерный бурлящий человеческий поток. Беспомощно звучат сирены автомашин, застрявших в толпе и не могущих продвинуться ни на шаг. Всё население Москвы устремилось в центр.
Вот группа девушек в светлых весенних костюмах. Они радостны и взволнованы. Они приплясывают, как будто у них на ногах выросли крылья. Они переполнены радостью. В руках у девушек цветы. Цветы в военной Москве так же редки, как на Северном полюсе. Букет цветов в руках московской девушки весной 1945 года! Это… Это по европейским масштабам дороже букета чёрных орхидей или красных роз в январе.
Впереди нас оживлённо беседуют несколько офицеров-лётчиков. Простые ребята, солдаты воздуха. Один из них в штатском платье. Безжизненно повис пустой рукав правой руки. Вся левая сторона пиджака густо усыпана орденами, на самом верху над карманом, где у гражданских людей торчит шёлковый платочек, поблёскивают колючими углами две золотые звёздочки Героя Советского Союза.
Девушка с сияющими как звезды глазами вихрем подлетает к летчикам. Как будто она давно ждала и искала этих людей. С разлета целует одного, целует другого… Крепко целует этих славных парней, которые явно смущены. За что, собственно? Ведь мы такие, как все!
Девушка целует их всех по очереди. Целует крепко и искренне, как сестра любимого брата за дорогой подарок. Передо всей Москвой, гордо и счастливо, она целует людей, отдававших свою жизнь за небо Москвы.
Летчик-инвалид неловко прижал левой рукой букет цветов к груди. Нежные лепестки ласкают холодный металл орденов. Девушка особенно ласкова к инвалиду, она не хочет отпускать его из своих объятий. Они ничего не говорят друг другу. Чувства, горячие человеческие чувства сильнее всех слов.
Девушка, как бы хотелось и мне поцеловать тебя! Поцеловать просто за то, что ты так хорошо умеешь благодарить солдата.
Вот старушка в белом платочке. Она растерянно оглядывается по сторонам, ищет кого-то в кипящей человеческой стихии. Видно, она редко бывает на улицах и не привыкла к шуму. Простая русская мать. Тысячи таких матерей встречали мы в деревнях, где шел фронт. Мы их так и называли с первого шага через порог — «Мать!» Они без слов засовывали нам кусок хлеба в карман шинели и украдкой крестили нас вслед.
В сторонке у стены дома прислонились двое пожилых солдат в истрёпанных фронтовых шинелях. У них небритые заросшие щетиной лица, тощие вещмешки за плечами. Видно ехали с фронта или на фронт. День победы неожиданно застал их в Москве. Сегодня им некуда торопиться, нечего бояться комендантских патрулей.
Они мирно греются на солнце, с недоумением поглядывая, чего, собственно сходят с ума люди. Точно так же, как на перекрестке фронтовых дорог, они покуривают заветную махорочку в газетной бумаге. Что ещё надо солдату — в мешке за спиной кусок хлеба, в кармане греби жменью махорку, а кругом светит солнце.
Старушка в белом платочке мелким старушечьим шагом пробирается сквозь толпу. Она подходит к греющимся на солнце солдатам, о чём-то взволнованно говорит с ними, тянет их за рукав с собой. Солдаты переглядываются. Нельзя отказаться. Ведь она — мать!
Сколько сыновей отдала она ради этого солнечного утра? Растила она сыновей, которые будут ей опорой и утехой в старости. А теперь… Не выменяла она заветную бутылку водки на буханку хлеба. Голодно было и холодно. Но бутылка водки была святыней. Ждала сыновей. Убили Колю под Полтавой. Погиб в морском бою Петька — матрос. Долго ждала она. Ждала может быть хоть беспутный Гришка, пропавший без вести, вернётся когда-либо домой.
Сегодня сердце старой матери не выдержало и она пошла на улицу искать своих сыновей, пригласить в гости первых попавшихся солдат, поздравить их с победой. Сегодня эти солдаты будут её сыновьями, вернувшимися с победой домой. Они узнают, что такое сердце старухи-матери, о котором они пели свои фронтовые песни. Они раскупорят сегодня заветную бутылку с живой водой.
Они выпьют за то, чтобы была Коле пухом земля под Полтавой. Пухом лебяжьим, мягким, как ласка матери. Они выпьют за то, чтобы грели матроса-Петьку холодные балтийские волны. Грели и ласкали, как невеста-молодка в тёмные ночи. Выпьют и за беспутного Гришку, чтобы не забыл он, если жив, пути к материнскому порогу.
Эх, и я б выпил за вас за всех! Выпил бы до дна и хватил стаканом о землю, как полагается на поминках солдата.
Площадь Коминтерна. У здания американского Посольства, между гостиницей «Метрополь» и корпусами Московского Университета, такое же безбрежное человеческое море, как и везде в центре.
Из открытых окон Посольства с любопытством выглядывают женщины в непривычно пестрых для Москвы платьях. Щелкают фотоаппараты. Спокойно и молчаливо Посольство. Лениво плещется по ветру полосатый звёздный флаг.
Люди на площади с интересом смотрят вверх. Как будто они ожидают, что сейчас на балконе появится американский посол и скажет им что-то. Толпа ходит кругами вокруг Посольства, как вода в омуте. Но посол занят в Кремле. Какое ему дело до этой серой безличной массы. Да потом и не принято дипломатам говорить с народом через голову его правительства.
Медленно, беспрерывно давая сигналы, пробирается консульская машина сквозь человеческое море. Американский офицер в светло-кремовых брюках и зелёной курточке с галстуком пытается пройти к зданию Посольства. Если он до этого не знал русского обычая «качать», то был немало испуган, почувствовав себя подлетающим в воздух.
Он стремглав летит в голубое небо, мягко опускается на руки москвичей, снова беспомощно хватает руками воздух. Так над головами людей, побрасываемый десятками рук, он следует к зданию Посольства.
Поправляя растрёпанный костюм и держа фуражку в руке, он поднимается по ступенькам здания, растерянно улыбается и, наверное, не знает, что ему следует сказать — «О-кэй!» или «Год дам!» Ласково смотрит сверху солнце на ликующую Москву. Обнимаются и целуются люди на улицах. Незнакомые приглашают в гости незнакомых. Ставь на стол все — не жалей. Выворачивай карманы — не жалей. Трудно было — выстояли. Выстояли и победили. Теперь конец кровавой борьбе, конец всем трудностям и лишениям. Вождь отблагодарит народ за верную службу отчизне. Вождь не забудет!
Каждый веселится как умеет. В Кремле вожди и вождята хлещут шампанское. Иностранные дипломаты из солидарности налегают на «Vodca Visitor's», воплощение русской души в глазах иностранцев. Большинство же людей на улицах Москвы пьяно радостью и гордостью Победы.
Врачам-психиатрам хорошо известны явления массового психоза. Необъяснимым является массовый характер этих явлений.
Кто был в Москве 9 мая 1945 года и кто сам пережил то, что пережил каждый русский человек в годы войны, тот знает безошибочно, что такое массовый психоз. Я видел и пережил это только единственный раз в жизни и едва ли переживу когда-нибудь нечто подобное.
Это была разрядка нервного аккумулятора. Разрядка того, что накопилось годами. Многие не понимали этого, но каждый чувствовал это. Москва билась как в лихорадке.
Когда я учился на последних курсах Индустриального Института, экзаменационные сессии были для нас трудным временем. На фронте перед боем я редко видел, чтобы солдаты заметно волновались.
Но я прекрасно помню, как студенты буквально бились в нервных судорогах перед дверьми экзаменационного кабинета. На фронте человек может потерять только жизнь. На экзаменах мы рисковали потерять надежду, многолетнюю надежду. Это было гораздо больше для души человека. Разность психических потенциалов была значительно выше.
Я лично был внешне спокоен во время экзаменационной сессии, я даже не ощущал заметного волнения. Это был скованный заряд. Зато после окончания сессии, я лежал целые сутки пластом в постели, как будто разбитый параличом. Это была разрядка аккумулятора.
Так и сегодня в Москве. Это разрядка многолетнего и сложного психического процесса в душе нации. Начало войны принесло людям первый толчок. Люди восприняли войну как облегчение, как возможность освобождения от ненавистных им условий существующего режима. Кривая психического процесса облегчения постепенно спадала по мере того, как люди убеждались в необоснованности их надежд.
Наступил некоторый стабильный период, где люди ощущали только одно — тщетность всех надежд. Затем началась перезарядка полюсов в душах людей.
Одновременно с ростом отрицательного отношения к внешнему фактору войны, была посеяна и пустила ростки новая надежда — достигнуть лучшего будущего можно своими силами, для этого нужно изгнать внешнего врага. К этому времени внешний фактор стал для них врагом.
С чудовищными трудностями народ шагал к победе, движимый ненавистью к врагу и всё возрастающей надеждой на лучшее будущее после войны. Русские убивали немцев, мстя за неоправданную надежду, разбитую мечту.
И ещё больше вела их вперед путеводная звезда новой надежды. Никогда они не стали бы воевать ради сохранения той родины, какую они знали ещё до войны. Сначала они не хотели воевать, надеясь, что немцы принесут им Мессию, теперь же они воевали потому, что Мессию они увидели с другой стороны.
Недалёкий человек скажет, что надежда — это пустяк. Вещь нематериальная, руками её не пощупаешь и в рот её не засунешь. Зато врачи хорошо знают, как много значит надежда.
Часто для тяжело раненого или больного человека надежда является фактором, от которого зависит его жизнь или смерть. Возьмите в критический период у человека надежду — и он умрёт.
Вдохните надежду в душу умирающего — и он выживет. Великую силу имеет эта нематериальная вещичка. Это одна из пружин, которые руководят поступками человека, общества, нации.
Сегодня перед нашими глазами грандиозная картина. Кривая перезарядки психического аккумулятора нации достигла своего предела. Полюса искрятся от перенапряжения. Это вершина долголетнего процесса, происходившего в самых тяжёлых условиях, когда-либо выпадавших на долю нации.
Такие вещи бывают раз в столетие. Неудивительно, что Москва кипит, неудивительно, что незнакомые люди обнимают нас и целуют только за то, что мы в военной форме, неудивительно, что люди беспричинно плачут на улицах.
Около Исторического Музея я встречаю старшего лейтенанта Валентину Гринчук. На её лице скользит слегка растерянная улыбка, как будто она не понимает, почему кругом такой шум и волнение.
Она безошибочно находила дорогу в дремучих партизанских трущобах, но здесь она кажется маленькой девочкой, заблудившейся в дремучем лесу человеческой стихии. Валя даже не замечает восхищенных взглядов людей, оборачивающихся ей вслед.
«Ну, Валюша! С Победой!» — говорю я ей, как говорил сегодня уже десятки раз. Я смотрю в васильковые глаза Вали, беру её как ребенка за подбородок, поднимаю её голову к небу. Голубые глаза лучатся навстречу мне серьёзно и немного грустно.
«С Победой, Валюша!» Я наклоняюсь и крепко целую пухлые губы Вали. Она не сопротивляется, только беспомощно смотрит широко открытыми глазами куда-то вдаль. Под жестким ремнем портупеи я чувствую хрупкое девичье тело.
Валя, ты сегодня какая-то совсем крошечная. Что с тобой? Ведь ты имеешь больше прав на этот день, чем кто другой. Открой шире твои голубые глаза, девушка с орденами на груди и ранами на детском теле! Запечатлей на всю жизнь этот день, ради которого ты отдала свою молодость.
Мне хочется взять Валю на руки и сказать: «Посмотри кругом на ликующую Москву, Валюша! Ведь это благодарят тебя, храброе дитя Полесья! Это награда тебе — за ночи в снегах, за дни в боях, за команду «Огонь!», за последнюю гранату у пояса. Ты не побоялась бы сорвать кольцо гранаты, прижав её к груди. Так не бойся же сегодня радоваться этому дню, к которому мы шли долгие дни и годы! Шли сквозь дым и пламя пожаров, по пеплу родного крова, по трупам товарищей».
Мы долго бродим с Валей по городу — по улице Горького, вблизи Большого театра, по набережной вокруг Кремля. Хочется впитать в себя всё, чем дышит сегодня победная столица. Хочется подняться над миром, окинуть оком всё, что творится кругом, навсегда запечатлеть этот день во всем его неповторимом величии. Ведь не каждому улыбнулась судьба быть в этот день в Москве, в фокусе великих событий.
Мы идем с Валей молча, каждый погружённый в свои думы.
Если в мире существует абсолютное счастье, то я должен быть абсолютно счастлив сегодня. Золотой сон человечества о мире во всем мире сошёл на землю в этот солнечный день Девятого Мая. Тёмные силы повержены во прах.
Над миром плывут величественные гимны держав-победительниц. Они вещают народам свободу. Свободу от страха за свою жизнь. Свободу от расовой ненависти нацизма, от классовой вражды коммунизма. Свободу от страха за свою свободу. Разве не звучат величием слова Атлантической Хартии?
Наши вожди отказались от доктрины о невозможности сосуществования капиталистической и коммунистической систем в одном мире. Великие Западные Демократии кровью своих солдат скрепили нерушимую дружбу народов наших стран. В горниле войны выковалось взаимопонимание народов и наций, государств и правительств.
Такие катаклизмы истории сметают с лица земли политические системы и государства, меняют политическую карту мира. Отгремевшая сегодня война должна неизбежно привести к коренным изменениям в советской системе. Ведь не даром Партия и Правительство ясно давали понять это народу в последние годы войны.
О чём задумалась девушка с орденами на груди — вспоминает она пепел родной деревни или грохот пущенных под откос поездов? Крик журавлей над родными полесскими болотами тебе дороже, чем праздничный шум московских улиц.
Дитя природы, ты взялась за оружие, не думая о Сталине или противоречиях государственных систем. Ты нажимала спуск снайперской винтовки просто потому, что человек в кресте прицела пришёл на твою землю, потому что он сжёг твой дом, потому что он убьёт тебя, если ты не убьёшь его.
Я углом глаз смотрю на Валю.
«Что ты такая скучная, Валя? — спрашиваю я. — О чём мечтаешь?»
«Да просто так, — отвечает она. — Грустно что-то. Когда война была, просто воевали. Если и думали, то только как бы поскорей конец. Этот конец казался таким чудесным, а получилось совсем просто. Теперь этот день пройдет и опять…»
Валя не договаривает, но я понимаю, что она думает. Внезапно мне становится жаль её. Видно она вспоминает соломенные крыши полесской деревни, журавль у колодца и маленькую босоногую девочку с вёдрами в руках.
Она преломляет в своем личном сознании тот вопрос, который стоит теперь перед каждым из нас. В нём звучит зарождающаяся боязнь, что надежда, которой мы жили во время войны, может исчезнуть и опять…
Из опустившихся на город вечерних сумерек медленно плывут к небу алюминиевые сигары привязных аэростатов заграждения. Сегодня они поднимаются в последний раз, чтобы принять участие в последнем победном салюте.
Повсюду вокруг Кремля расставлены прожекторные автоустановки ПВО. Девушки в серых шинелях деловито проверяют готовность огромных электрических глаз. Сегодня они в последний раз будут ощупывать московское небо.
Я распрощался с Валей и снова присоединился к группе офицеров нашей Академии. Мы медленно пробираемся к Красной Площади. Скоро будет салют, а с Красной Площади его лучше всего видно.
Ни одна праздничная демонстрация не видела такого количества народа перед Кремлем. Человеческий поток бурлит в проходе между Историческим Музеем, как густая переливающаяся масса. Тут невозможно идти, куда хочешь. Можно только лишь включиться в поток и предоставить ему нести тебя по течению.
В этом бушевании человеческой стихии, как заколдованный сном замок, молчаливо и безжизненно стоит Кремль. Гранитным кубом поднимается над толпой платформа мавзолея, где под стеклянным колпаком спит вечным сном восковая фигура основателя Советского Государства.
На этой платформе во время парадов и демонстраций красуются вожди и вождята, ласково улыбаются народу с безопасного расстояния из-за линии штыков вооруженной охраны НКВД.
Но сегодня пуста гранитная платформа. Нет и штыков линии оцепления. Сегодня Красная Площадь безраздельно принадлежит народу. Как сотни лет назад, когда народ выходил праздновать или бунтовать под стенами Кремля.
Сотни тысяч голов. Бесчисленное количество широко открытых глаз. Они с самого утра заполняют Красную Площадь, озираются кругом, как будто ожидая чего-то.
Молчат мощные рупоры громкоговорителей, многочисленными батареями чернеющие вокруг. Молчат как смущенный должник, делающий вид, что не узнает кредитора. Все больше и больше людей приливает на площадь. Что их всех тянет сюда?
По-прежнему дремлет в сонном безмолвии Кремль. Как стража застыли серебристые ели у древних стен. Уходят в чёрное небо острые верхушки кремлевских башен. В высоте на невидимых шпицах башен тлеют рубиновые звёзды Кремля.
Когда-то, когда я ещё был ребенком, нам объясняли, что красная пятиконечная звезда — это символ коммунизма, символ крови, пролитой пролетариатом на всех пяти континентах. Да, много крови пролито ради вас, рубиновые кремлёвские звёзды.
Колыхнулась земля под ногами. Дрогнула, воспрянув ото сна, Красная Площадь. Всплеском огня розовеет небо над чёрными силуэтами Кремля. Зарница из жерл сотен орудий озаряет зубчатые стены, стрельчатые башни, тяжёлый куб мавзолея, море человеческих голов, устремленных в небо.
Сотни огненных полос, вспарывая темноту ночи, вонзаются в небо города-победителя. Огни стремительно набирают высоту, карабкаются все выше и выше.
Застыв на мгновенье в зените, они с треском рассыпаются искрящимися многоцветными звёздочками. Звёздочки трепещут, медленно, как бы нехотя, скользят к земле; падают все быстрее, быстрее, тухнут в полете.
Не успели погаснуть последние искры, как по воздуху ударяет раскатистый гул залпа. Первый салют последней победы! Последние секунды великой эпопеи! Раскрой глаза, раскрой душу, поймай навсегда эти секунды.
Снова дрожит земля, снова зарница победного салюта озаряет кремлевские стены, чёрное небо и душу народа. Снова карабкаются в небо огни, снова, как проблеск надежды, вспыхивают и гаснут трепетные звездочки. Вот она победа в венце огней! Ты видишь ее, чувствуешь её дыхание на твоём лице.
Радугой переливаются струи огромного фонтана-пирамиды на Лобном месте. Плещется ручьём вода под нашими сапогами, текущая от фонтана прямо по площади. Полыхает салютами небо. Пляшут лучи прожекторов. Сумрачно смотрит во вспышках салютов древний Собор Василия Блаженного. Без конца, без края бушует человеческая стихия у стен Кремля.
Перед моим взором из тумана прошлого встает другая Красная Площадь.
Сумрачно было свинцовое утро 7 ноября 1941 года. Пелена падающего снега висела над Москвой. Такая же серая пелена лежала на лицах и душах людей. Холодели поганеньким страхом сердца кремлевских постояльцев. Сквозняком подуло в Кремле.
Враг у ворот! Москва под ударом! В зимнем полусвете сумрачно маячили зубчатые верхушки кремлевских стен. Хмурились под снежными шапками купола кремлевских церквей. Холодна и сурова была в тот день Красная Площадь.
Сомкнутыми рядами, в полном боевом вооружении шли войска перед гранитной гробницей. Как нищий на парапете тянул к войскам руку человек в шинели с платформы мавзолея. Походным маршем шагали войска. С протянутой рукой провожал человек в шинели дивизии, идущие с Красной Площади прямо в бой на окраинах Москвы.
В моих ушах ещё звучат слова маршевой песни тех дней — «За родную Москву, за столицу мою…» Мы выполнили нашу клятву, Вождь. Теперь слово за тобой.
Безмолвен Кремль. Кровью истекают рубиновые звёзды на башнях. Никто не знает, что думают люди в Кремле. Сегодня они выиграли победу рука об руку с народом. Не протянется ли завтра эта рука снова к горлу народа?!
Неподалеку от нас пошатываются двое пожилых рабочих. На головах у них кепки с поломанными козырьками, воротники белых рубашек расстегнуты. Они с трудом держатся на ногах, помогая друг другу. Видно пиво на голодный желудок ударило в голову.
«Идем домой, Степа!» — говорит один, с рыжими пожелтевшими от табака усами.
«Домой? Не хочу домой!» — упирается второй.
«Чего тебе здесь ещё нужно? Обедня кончилась. Пойдем!» — тянет усатый.
«Подожди, Иван… Декрет будет».
«Тебе уже есть декрет — не проспи завтра на работу…»
«А я тебе, Иван, говорю, декрет будет. Ты понимаешь, что такое декрет или не понимаешь? Как двенадцать часов — так декрет. Вот как звезда в небе взойдет… Смотри — где звезда?» — пошатываясь, он задирает голову к небу и водит кругом пальцем.
«Вот тебе звезда, — кивает усатый на красную звезду на кремлевской башне. — И в штанах звезды светят… Пойдем!»
«Чего-то не хватает, — говорит один из моих спутников, обращаясь ко мне. — Смотри, уже двенадцать часов, а народ толчётся и расходиться не собирается. Ведь знают, что больше ни хрена не будет, а чего-то ждут».
«Поехали до дома что ли?» — предлагаю я.
«Да нет, погоди, — колеблется он. — Посмотрим ещё немного. Может, в самом деле, что будет».
Мы бесцельно бродим по площади ещё некоторое время. Люди смотрят друг на друга, озираются по сторонам, все ещё надеясь на запаздывающее чудо. Наконец, когда стрелки часов на Спасской башне приближаются к часу ночи, вся масса народа устремляется к станциям метро. Метро работает до часа. Нужно домой. Не проспать бы завтра на работу.
«А знаешь, как-то жалко, что этот день так быстро прошёл, — говорит мой спутник. — Чего-то явно не хватает».
В поезде метро мы едем домой. Как раз напротив нас сидит пожилая женщина в потертой солдатской форме. Видимо женщина-солдат только сегодня прибыла с фронта. Она устало закрыла глаза и дремлет, покачиваясь из стороны в сторону в такт ходу поезда.
На следующей остановке в вагон входит лейтенант. В вагоне никто не стоит но и свободных мест для сидения тоже нет. Лейтенант поочерёдно смотрит на погоны всех сидящих военнослужащих. В Москве строго соблюдаётся порядок — младший по званию должен уступать место старшему.
Глаза лейтенанта останавливаются на дремлющей женщине в форме солдата. Лейтенант подходит к ней вплотную и во весь голос грубо командует — «Встать!» Женщина ошеломлённо открывает глаза как все военные, привыкшие к команде, машинально вскакивает на ноги. Лейтенант грубо отодвигает женщину в сторону и садится на её место.
«Вот тебе и награда победителям, — говорит мой товарищ. — Встать — и уступить место другим».
3
Редко в майский день выпадаёт столь пакостная погода, как сегодня, 24 мая 1945 года. С раннего утра над Москвой повисла пелена мелкого дождя, похожего на водяную пыль. Напрасно мы задираем головы к небу в надежде, что дождь разъяснится. Горизонт затянут ровной грязно-серой массой. Как будто силы небесные нарочно решили испортить нам праздничное настроение.
А праздник для нас большой. Сегодня особым приказом Верховного Главнокомандующего назначен грандиозный Парад Победы на Красной Площади. Смотр лучших из лучших. Демонстрация тех сил, которые поставили гитлеровскую Германию на колени.
Парад подготовлялся тщательно и задолго. Уже в апреле из фронтовых частей в Москву были откомандированы в единичном порядке наиболее отличившиеся в боях солдаты и офицеры. Основным признаком отбора было количество боевых наград, орденов и медалей на груди кандидата. Никто в то время ещё не знал, зачем их посылают в столицу.
Здесь все они были переформированы в сводные части. Каждый Фронт выставил один сводный полк с подразделениями по родам войск. Сводные части получили новое парадное обмундирование, которое до того они знали лишь по картинкам.
Больше месяца шли специальные занятия строевой подготовкой к параду. Москвичи не раз ломали себе голову — какого черта молодецкие роты и батальоны, с ног до головы увешанные орденами, браво маршируют парадным шагом по улицам, когда на фронтах идут ожесточённые бои.
Слушатели нашей Академии, отобранные для участия в Параде Победы, сбили не одну пару сапог, занимаясь ежедневно четыре часа строевой подготовкой на каменном плацу. Нас дрессировали особенно строго, т. к. в Академии строевые занятия считались третьестепенным предметом и в нормальное время мы ими почти не занимались.
Теперь нас заставляли нагонять упущенную пехотную мудрость. Куда легче вести батальон по азимуту, чем самому отрабатывать равнение по 24 человека в ряд, одновременно задирая ноги под девяносто градусов, вывернув шею и выпучив глаза по команде «Равнение направо!» Да ещё «Ур-р-ра!» надо кричать.
Готовясь к параду, мы до ослепительного блеска надраили пуговицы и пряжки на поясах, старательно пригнали новенькие двубортные мундиры, специально выданные участникам парада, пришили новые погоны.
Нам даже выдали новые фуражки и хромовые сапоги категории «А», полагающиеся только старшему офицерскому составу. Видно, кремлёвские хозяева не скупились ради предстоящего спектакля. Зато остальные слушатели, не вкусившие этой щедрости, уверяли нас, что после парада все подарки будут отобраны.
И вот теперь этот дождь без конца и края. По случаю плохой погоды гражданская демонстрация отменена, будет только военный парад. Военным не привыкать мокнуть под дождем.
Пока подходит наше время идти на Красную Площадь, мы уже вымокли насквозь, как куры. Но, несмотря на то, что вода течёт прямо за воротник, настроение у нас превосходное.
Красная Площадь. Тяжело повисли огромные красные полотнища на зданиях ВЦИКа и Исторического Музея. В свете дня площадь выглядит совсем иначе, чем ночью в полыхании салютов. Трезво и просто. Как будто здесь не кончается дорога, а только начинается. Серая дорога в серое будущее.
Равнение направо! В каменном повороте головы, в застывшем равнении глаз вместе с маршем движутся мимо нас стены Кремля. Там, на трибуне мавзолея, куда направлены глаза дефилирующих парадным маршем сводных полков, стоит Вождь, наше горе и наша слава.
В честь победы он нарушил сегодня свою, обычно подчеркнутую, скромность в одежде. Сегодня он блистает пышной формой генералиссимуса. Подписывая приказ о присвоении товарищу Сталину военного звания генералиссимуса Советского Союза, Иосиф Виссарионович, наверное, поморщился, вспомнив своих коллег Франко и Чан-Кай-ши.
Первым по Красной Площади проходит сводный полк Наркомата Обороны и Московского Гарнизона. Первые из первых, лучшие из лучших. Следом за ним, чеканя шаг, идёт сводный полк 1-го Украинского Фронта, всегда бывшего на направлении главного удара и штурмовавшего Берлин.
Идут сводные полки победы и славы. В них много разного — танкисты в синих комбинезонах и кожаных шлемах, кавалерийские казачьи части в черкессках с красными и голубыми башлыками, лётчики с золотыми крылышками.
Бесконечной серо-зелёной лентой шагает доблестная пехота. У многих разный цвет кожи, разный язык. Только одно у них общее — грудь каждого горит огнём знаков доблести и геройства, орденов и медалей Великой Отечественной Войны, доказательством верной боевой службы Отчизне.
Впереди каждого сводного полка шагают заслуженные генералы Фронтов. Серо-голубые мундиры, серебряные парадные пояса и портупея никелированных палашей, лакированные голенища сапог. Золото на пуговицах, фуражках, орденах. Лучатся звезды, горят ордена. Изменились теперь, скромные когда-то, пролетарские генералы.
Навстречу победоносной Армии, усиленные десятками мощных репродукторов, гремят над Красной Площадью приветствия вождей Партии и Правительства.
К подножью мавзолея, трепыхнувшись в последнем полете, одно за другим падают трофейные знамена немецких дивизий, штандарты СС-овских ударных частей — мишура былой славы, когда-то гордо шагавшая по Европе. Теперь они жалкой бесформенной кучей валяются под нашими ногами у стен Кремля.
Несмотря на дождь, несмотря на мокрые насквозь мундиры, на душе у нас легко и радостно. Это последний торжественный акт великой борьбы. Мы отдали много ради этого дня — цветущие города и села, миллионы и миллионы жизней лучших людей нашей родины.
Ещё долго будут зиять кровавые раны, нанесённые стране искателями «жизненного пространства». Ещё много лет будет натыкаться плуг землероба на чужие кости под русской землей, ещё много лет будут маячить среди хлебных полей обгорелые коробки танков.
Но всё это позади. Мы вышли из битвы героями и победителями. Упорным трудом мы залечим раны, нанесённые войной, и заживём мирно и счастливо. Заживём новой жизнью — наверняка лучше, чем до войны. В сознании победы мы забываем многое и с надеждой смотрим в будущее.
Тяжёлой поступью шагает пожилой коренастый сержант. Скала, а не человек. Такие не зовут маму в свой смертный час, такие умирают молча, вцепившись зубами в родную землю. Тяжёлые, времен Запорожской сечи, усы. Дублёная солнцем кожа лица, перепаханного морщинами, как целина под плугом. На груди старого сержанта целый иконостас орденов.
Всю жизнь сержант махал серпом и молотом, но терпеть не мог эти изображения на красном фоне со всякими коммунистическими присказками. Несмотря на это, сегодня он колесом выставляет грудь, где на каждом ордене прилеплены эти назойливые символы.
На фронте сержант не столько боялся за свою голову, как за пышные запорожские усы. В годы коллективизации он, наверняка, если и не сбрил, то порядком обкарнал свои усы — чтобы не приняли за кулака. Тогда было пострашней, чем на фронте. Тогда никто не знал, к кому и когда постучит судьба в двери. А теперь свободой повеяло. Можно даже усы снова отпустить.
В годы войны многие, даже молодые солдаты и офицеры, поотпускали себе усы и бороды. До войны такие вольности были опасны. Маленькая бородка — троцкистская, борода лопатой — кулацкая, длинная — поповская.
Были ещё бороды купеческие, архиерейские, генеральские. С усами тоже было не лучше. Маленькие усики — белогвардейские, а большие — полицейские. Того и гляди, угодишь за решётку по такому внешнему социальному признаку.
А сегодня старый сержант не знает, чем больше гордиться — усами или орденами.
Многое изменилось за годы войны. Очень многое. Осмелился ли кто до войны слово сказать о Георгиевских крестах? Не говоря уже о том, что держать их в доме или показывать кому. Повыбрасывали их георгиевские кавалеры или в землю поглубже да подальше позакопали.
А вот сегодня по Красной площади, под стенами Кремля гордо шагает старый сержант и на груди его вместе с советскими орденами красуются четыре Георгия. После этого попробуйте сказать сегодня кому-либо, что советская власть не эволюционизировала, что завтра не отменят колхозы? А разве церкви не открыли, разве не благовестят на колокольнях колокола?
До войны сотни тысяч священников были ликвидированы как «опиум для народа». О тех немногих, которые в порядке исключения пребывали на свободе, советские люди знали определенно только одно — все они являются осведомителями НКВД.
Каждую неделю под покровом ночной темноты они ныряли в двери НКВД с очередным информационным материалом о своей пастве.
Теперь же провозглашена свобода религии. В Москве открыта Духовная Семинария и… Особый Комитет по делам Религии при СНК СССР под руководством товарища Карпова. Церковь посадили на цепь в услужение государству. Теперь она ученая и будет слушаться.
Во всей этой комедии нас удивляет одно. Вновь открытые церкви полны народом. Церковные венчания становятся новой модой, особенно в деревнях. Несмотря на всё, религию не искоренили в душе народа. Даже меня несколько раз тянуло зайти в открытые двери церкви.
Но, будучи слушателем кремлёвской Академии, я слишком хорошо знаю некоторые вещи. Мне не хочется позже получить свою фотографию в церкви из рук Начальника Академии в сопровождении замечания: «Вы, наверное, забыли, что слушателям Академии строжайше запрещено фотографироваться где-либо, кроме специальной академической фотографии?» Такие ошибки нередко являются поводом для отчисления из Академии.
Теперь по Москве изредка звонят чудом сохранившиеся колокола. Священников спешно возвращают из Сибири: с каторги — прямо к клиросу.
Не сошли ещё у батюшки на руках мозоли от топора, а уж он служит молебен о ниспослании победы и… за здравие Вождя. Люди слушают колокольный звон с нескрываемой радостью. Одновременно они нисколько не сомневаются, что новые батюшки в обязательном порядке дружат с НКВД.
Такой уж у НКВД порядок — не забывает оно своих старых клиентов. Большинство заключенных НКВД, отбыв восьми- или десятилетний срок наказания, при освобождении получает предложение быть информатором НКВД.
«Оправдайте то доверие, которое мы оказываем вам, выпуская вас на свободу!» — говорится им в этом случае. В реакционных странах отсидел заключенный свой срок — и выкидывайся. У нас же все обставлено с большой заботой о человеке. Свободу он получает как милость и должен за это ещё благодарить и отрабатывать «доверие».
Красная Площадь горит орденами. Много новых орденов появилось в годы войны. Ордена тоже попятились назад. Введенные в 1944 году солдатские ордена «Слава» трех степеней и медаль «За участие в Великой Отечественной Войне 1941–1945 г. г». прямо заимствовали царскую чёрно-оранжевую георгиевскую ленту.
В Военно-Морском Флоте для адмиралов и капитанов ввели ордена «Ушаков» и «Нахимов», а для матросов одноимённые медали. В Армии генералы щеголяют орденами «Суворова» и «Кутузова», а старшие офицеры «Александра Невского» и «Богдана Хмельницкого». Самый распространённый теперь орден — это «Отечественной Войны». Не какой-нибудь войны, а Отечественной.
Для маршалов учрежден особый орден «Победа» из золота, платины и бриллиантов, стоимостью в 200 000 золотых рублей. Звёзды орденов, хотя и остались пятиконечными, но стали лучиться и сильно смахивать видом на звёзды екатерининских времен. Введена Гвардия, гвардейские знамена и значки. А раньше? Упаси Бог, произнести это слово.
Новым уставом введено официальное приветствие — «Здравия желаю!» Это вместо безличного «Здравствуйте, товарищ полковник!» Пока солдаты дерут глотку, разучивая побатальонно новое «Здра-а-а…», уже вполне серьёзно поговаривают, что скоро к генералам нужно будет обращаться с «Ваше превосходительство!» А золотые погоны чего стоят? Ведь раньше это было самое опасное обвинение в устах следователя НКВД — «золотопогонник». И пояса на генералах, шагающих парадом, точь-в-точь как на портретах бывших царских офицеров — серебряные в крапинку.
«Интернационал» заменён новым «Гимном Советского Союза». Назойливый призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» исчез со своего насиженного места над заголовком «Правды».
Нет, что не говори, а лёд тронулся! Если дальше так пойдет, то скоро и колхозы отменят. Как обычно — «Учитывая успехи социалистического строительства…» Если бы сейчас Ленин встал из-под ног своего ученика и посмотрел с платформы мавзолея на Красную Площадь, то он определённо ужаснулся бы такому отказу ото всех принципов, во имя которых совершалась пролетарская революция в 1917 году. Куда мы пришли? Или куда мы идем?
Ведь согласно последнего Указа Верховного Совета СССР, генералы в отставке получают земельный надел в пожизненное пользование и безвозмездный кредит для постройки дома-усадьбы.
Вот тебе и дворяне в социализме! Единственным препятствием на пути ко всем этим благам является тот факт, что большая половина всех советских генералов кончают свою карьеру в НКВД.
Да, голова кружится ото всех этих нововведений!
По Красной Площади идёт парадом победная Армия. Поступь шагов отдаётся в моей груди. Сегодня Армия для меня не только воинская служба — в Армии я впервые познал Родину. До этого я чувствовал себя только амёбой марксистской классификации. До войны я жил в иллюзорном мире новых понятий — коммунизм, социализм, совхозы, колхозы.
Я видел в газетах грандиозные цифры, красивые слова и лозунги, тракторы и заводы, новые дома и строительства. Помимо этого, своим личным опытом, я вместе со всем народом переносил нечеловеческие трудности и жестокости, но оправдывал все это необходимостью «великого перелома».
Когда же началась война, я увидел всю жалкую беспомощность того мира, в котором жил советский человек в гипнозе пропаганды. Затем я узнал нечто более важное — я познал нацию. Впервые я почувствовал, что я член нации, а не единица марксистской классификации.
Это пришло не только в мою душу, но и в души миллионов людей. Это пришло не как результат манёвра кремлёвской политики к национальному, отечественному. Маневр Кремля является только следствием, вынужденным выходом из создавшегося положения.
Война всколыхнула страну до глубины, подняла на поверхность то, что скрывалось в самых её недрах. Ушли на задний план все искусственные декорации и снова вышла на свет подлинная сила — человек, такой, как он есть. В крови и муках рождаётся человек, в крови и муках люди познают друг друга.
На фронте я встречал пожилых людей за всю свою жизнь не видевших железной дороги. Но эти лесовики не отступали ни на шаг перед танками, держа в руках бутылку с бензином, столь же полезную солдату, как аспирин мертвому.
Солдаты с упоением рассказывали, какие есть в их родных местах грибы и ягоды, пчёлы и птицы. Затем, с досадой на неожиданную помеху, они отражали атаки пикировщиков.
Каждый из них по-своему, молча или в скупых безыскусных словах, свидётельствовал об одном, что объединяло нас всех, — о человеке, сформировавшемся веками, любящем свой уклад, свой образ жизни, свою страну и народ.
Это не было тягой назад к прошлому. Это было только расширение кругозора, взгляд на вещи без пропагандных наглазников, когда не видишь ничего позади и по сторонам пути.
В свете подлинной жизни, в среде живых людей поблекли и стали казаться безжизненной схемой все теории диалектического материализма.
Я понял, что всё то, ради чего мы приносили чудовищные жертвы в течение четверти столетия — всё это, если и не бредовая затея экспериментатора, то, во всяком случае, эксперимент, требующий многих поправок.
Сегодня, шагая по Красной Площади, я не вижу путей выхода, но я глубоко убежден в ошибочности того, ради чего мы жили до войны.
Парад Победы гремит по Красной Площади. Бравые солдаты в синих комбинезонах высунулись из открытых люков тяжёлых танков и самоходных орудий.
Они чётко сигналят красными флажками, гордые своими золотыми погонами и георгиевскими лентами. Они салютуют стенам Кремля и Вождю, у которого на плечах звёзды величиной с консервную банку.
Генералиссимус, сегодня мы приветствуем и поздравляем тебя с победой, так же как ты приветствуешь и поздравляешь нас!
Но мы напомним тебе, — помнишь лето 1941? Помнишь, как ты запел Лазаря — «Дорогие братья и сестры, граждане и гражданки…» Мы тогда ушам своим не верили. Четверть века ты натравливал брата на сестру, а сестру на брата.
До сего времени слово «гражданин» звучало обычно за столом следователя НКВД, как обращение к чуждому элементу. Куда же делись твои коммунисты, комиссары, политработники и прочие «товарищи»?
Ты был прав, обращаясь к нам «граждане и гражданки». Мы были тебе не товарищами! Почувствовав петлю на шее, ты позвал на помощь народ. Мы пошли. Умирали, но бились. Голодали, но работали. И мы победили. Мы — мы, а не генералиссимус Сталин и компартия.
В будущем — помни о прошлом! А сегодня, в честь Победы, и я вкладываю всю силу лёгких в громовом троекратном «Ур-р-ра!» Пусть дрожат стены Кремля.
Так пришла Победа. Всегда, когда я буду вспоминать эти дни, я буду вспоминать то сладостное трепетание в груди, то поднимающееся к горлу чувство, которое клокотало во мне в дни Победы.
Так, задрав голову к звёздам, поёт свою волчью песнь победитель. Он радуется открытому пути вперёд, в будущее.
Глава 4 Рациональное зерно
1
Недавно в Академии произошло чрезвычайное происшествие. Среди бела дня жертвой нелепого случая пал один из офицеров.
По чину капитан, он на днях окончил последний курс японского отделения, получил исключительно хорошее назначение на работу заграницу, был счастливо женат. Казалось, человек стоит на пороге безоблачного счастья. Кто мог предугадать, что через несколько часов его ожидаёт трагическая судьба?!
Фасад Академии выходит на Волочаевскую улицу. Пятидесятиметровый пролёт между зданиями был отгорожен обычной решётчатой оградой.
Генерал Биязи, обращающий большое внимание на внешность не только своих воспитанников, но также и зданий, приказал снести старый забор и на его месте соорудить нечто более величественное.
Когда забор снесли, для слушателей образовался очень удобный выход прямо к трамвайной остановке. До того приходилось делать значительный крюк через проходную. В результате вся Академия стала приходить и уходить через новые ворота.
Увидав этот беспорядок, генерал приказал поставить в проломе часового со строжайшей инструкцией не пропускать никого. Но разве может удержать один часовой пятидесятиметровый участок фронта против всей Академии, да ещё своих же товарищей? Тогда генерал лично распек часового и пригрозил ему гауптвахтой.
«Да что же я буду делать, товарищ генерал? — взмолился часовой. — Стрелять?»
«Да, стрелять! Пост — святое место. Устав знаете?» — ответил генерал.
Кончились занятия и в пролом снова устремилась волна офицеров, торопящихся на трамвай. Напрасно часовой кричал и грозился. До хрипоты — ничто не помогало.
Одновременно вдалеке показалась кругленькая фигура генерала, совершающего свой обычный обход. В это время мимо часового прошел капитан-японец, как и все, не обращая никакого внимания на запрет.
«Стой!» — крикнул часовой в отчаянии.
Капитан продолжал идти, не оборачиваясь, погружённый в свои мысли.
«Стой! Стрелять буду!» — снова завопил часовой.
Капитан удалялся, а фигура генерала приближалась.
Не помня себя, часовой вскинул винтовку и, не целясь, выстрелил. Было четыре часа дня, улица была полна народа, часовой был так взволнован, что, стреляя по мишени, он едва ли попал бы в цель.
И всё же роковая пуля не прошла мимо своей жертвы! Капитан без звука упал на мостовую с простреленным навылет черепом. Пробыть всю войну в глубоком тылу, ни разу не слышать свиста пуль — и через несколько дней после конца войны погибнуть от пули товарища на улице Москвы! Что остается сказать после этого? Судьба!
Часовому, конечно, ничего не было. Хотя случай явно скандальный, но генерал вынес часовому устную благодарность «за отличное несение караульной службы».
В таких случаях нельзя наказывать часового, чтобы не произвести нежелательное впечатление на других. «Стоя на посту, лучше убить невинного, чем пропустить врага», — таков армейский закон.
Этот случай невольно заставляет меня задумываться о судьбе. «От судьбы не уйдешь!» — говорили наши деды. Мы же теперь этому не верим. Вернее, нас учат не верить. Чтобы было больше места для веры в Вождя.
Сегодня у меня больше чем когда-либо оснований задумываться о моей судьбе. Академия окончена и теперь я стою на пороге нового этапа моей жизни, если выразиться образно — на перепутье дорог судьбы.
Дороги эти для меня довольно ясны и, кроме того, для меня ясно ещё одно — когда пройдешь по одной из этих дорог, то пути назад не будет. Сегодня я ещё имею некоторую возможность выбора и я должен хорошо обдумать свой путь.
Последнее время до меня несколько раз доходили слухи, что я выдвинут кандидатом на должность штатного преподавателя в Академии. Собственно, о более блестящей перспективе нельзя и мечтать.
Это верх возможностей для выпускников Академии. Структура штатного состава Академии чрезвычайно подвижна. По сути дела это горячий резерв Генерального Штаба, куда заглядывают каждый раз, когда есть необходимость в спецзадании заграницей.
Сегодня предоставляется возможность командировки в Европу, завтра — в Америку. Едешь вспомогательным чином в составе почтенных делегаций, но всегда имеешь самостоятельное и ответственное специальное задание.
По возвращении в Москву отчитываешься не перед учреждением, пославшим делегацию, а перед соответствующим отделом Генштаба.
Совсем недавно один из преподавателей Академии был откомандирован в экскурсию по Чехословакии, Австрии и другим странам Средней Европы. Поехал он в качестве «переводчика» при всемирно известном советском профессоре ботаники, являющемся членом Академии Наук СССР. Какие цветочки будет собирать профессор с таким «переводчиком» и кто кому подчиняется, догадаться не трудно.
Оставаясь в штате Академии, постоянно находишься у истоков многообещающих дорог. Штатный состав очень хорошо информирован в вопросах закулисных дел Генштаба. Здесь имеет место личный подход, протекции и связи. Здесь всегда есть возможность незаметно влиять на собственную судьбу.
Это уже не слепой случай, вырвавший меня среди ночи из лесов Ленинградского фронта и бросивший в кипящий котел кремлёвской академии. Коротко — пребывание в штатном составе это лучший путь к карьере, о которой мечтает большинство воспитанников Академии.
Когда я впервые узнал о моей кандидатуре, это вызвало во мне смешанные чувства.
С одной стороны — Москва, новая придворная атмосфера, широкие возможности. Здесь обширное поле для деятельной работы и заманчивые перспективы в будущем.
Но… Есть серьёзное и веское «но». Этот путь ведет только вперед. Достаточно оглянуться назад или в сторону — и ты погиб. Чтобы вступить на этот путь, нужна абсолютная внутренняя гармония и уверенность в правоте твоего дела.
Есть, конечно, и заменители — лицемерие, жажда карьеры любой ценой, беспринципность в средствах. Я воспитанник сталинской эпохи и достаточно убедился, что эти заменители играют существенную роль в советской жизни.
Но всё-таки это заменители и на них далеко не уедешь. Я не мальчик и не филантроп, могу оправдывать необходимость сомнительных средств для достижения высшей цели. Но для этого надо быть уверенным в беспорочности конечной цели. Вопреки моему собственному стремлению, сегодня я ещё не обрел этой уверенности.
Иногда эта внутренняя неуравновешенность вызывает во мне чувство досады. К чему ковыряться в собственной душе? Я постоянно контролировал себя с этой стороны. Нельзя давать «волю» «интеллигентским» чувствам.
Такие люди обречены на гибель. Для того чтобы выжить в советских условиях, нужно иметь волчьи зубы и лисий хвост. Тяпнул спереди и замел следы сзади. Иногда я оглядываюсь на своё прошлое в поисках вредной «мягкотелости». Нет, кажется, этого недостатка у меня нет.
Мне нужна пауза, во время которой я мог бы привести в порядок мои мысли и чувства. Просто годы войны выбили меня из душевного равновесия. Мне нужно на время переменить обстановку, трезво оценить всё с другой перспективы. Так художник рассматривает плоды своего труда, отходя подальше от мольберта или приложив к глазам удаляющую линзу.
После отгремевших дней победы атмосфера в Москве слишком сера и однообразна. В Европе дует свежий ветер, там происходит грандиозная историческая ломка. Слушатели Академии, возвращающиеся с Запада после краткосрочных командировок, рассказывают интересные вещи. Мне не мешало бы лично познакомиться с пациентом, которого я по своей должности должен лечить.
Самое целесообразное для меня — это поехать на работу в оккупированные страны Европы. Там, в новой среде, непосредственно в центре того, чего мы достигли в этой войне, в творческой работе я снова обрету потерянное равновесие и вернусь назад в Москву с полной верой в то, что необходимо в моей будущей работе и жизни. Так или иначе — я все равно числюсь в резерве Генштаба.
Исходя из этих соображений, я переговорил с подполковником Таубе.
Подполковник, профессор и барон фон Таубе — один из заместителей полковника Горохова по учебной части. В Академии он является своего рода музейным экземпляром, но одновременно незаменим, благодаря его исключительным знаниям и способностям.
Несмотря на компрометирующее «фон», имя подполковника Таубе имеет вес, а его слово нередко является решающим. Среди слушателей он известен как исключительно культурный, деловой и внимательный офицер-воспитатель, с которым можно поговорить по душам.
Кроме подполковника Таубе в Академии известен генерал-майор Игнатьев. В дни своей юности — паж последнего царя, воспитанник царской Академии Генштаба, долгие годы царский военный атташе в Париже. После революции он довольно долго жил в эмиграции, но в тридцатых годах по каким-то причинам пошёл в Каноссу.
В среде студенческой молодёжи пользуются большим успехом две книги его мемуаров «Пятьдесят лет в строю». Сегодня бывший кавалергард и граф Игнатьев снова получил генеральский мундир и даже опереточную должность историографа Красной Армии.
Конечно, ему не доверяют и его основная задача — это показать терпимость советской власти к раскаявшимся. В своих мемуарах он подводит довольно смутную базу причин, побудивших его к возвращению. В Москве открыто говорят, что ему просто надоело мыть посуду в парижских ресторанах.
В последний год войны было несколько случаев возвращения в СССР нескольких более или менее именитых эмигрантов. Не так давно в Москву прибыл когда-то известный писатель Куприн. Москвичи так описывают его прибытие.
Сойдя на московском вокзале, Куприн поставил свои чемоданы и, опустившись на колени, всенародно облобызал родимую землю. Когда он поднялся на ноги и потянулся к чемоданам — чемоданов уже и след простыл.
Недавно мы с Белявским слушали концерт Александра Вертинского. Факт его публичного выступления был для нас неожиданностью и для большинства людей доставлял удовлетворение как подтверждение либерализации новой линии правительства.
Выступать ему разрешили, правда, только по мелким клубам на окраинах Москвы. Факт был действительно, существеннее и приятнее самого Вертинского и его искусства. Старая развалина в сопровождении молоденькой жены-певички, со сцены доносится запах морфия и вся фигура жалобно и нудно напоминает: «Подайте бывшему человеку!» Дым прошлого приятнее, чем воскресший из гроба труп.
Что прошло, то прошло. «Gutta cavat lapidem»[2] говорили римляне. Капля точит камень, а время человека. Напрасно некоторые забывают о том, замыкаются в иллюзорном мире прошлого, не хотят согласиться с тем местом и положением, которое уготовано им историей, ими самими созданной.
Конечно, Вертинский не духовный идеал или образец прошлого. Но мы имели и другие возможности проверить историческое время.
Советская власть, может быть бессознательно, сделала умный жест, показав старый мир новому поколению. Собственными глазами безо всякой пропаганды, мы ясно поняли, как далеко ушло вперед время и наши интересы.
Подполковник Таубе внимательно выслушал мои внешние доводы — конечно, я ни слова не заикнулся о моих внутренних побуждениях, — и обещал, не снимая моей кандидатуры в Академии, ходатайствовать перед высшими инстанциями о моём откомандировании заграницу.
Помимо подполковника, я нажал ещё на некоторые кнопки, имеющие влияние при назначении выпускников на работу. Действовать в данном вопросе нужно осторожно и знать, что кому говорить.
В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого результата, нужно создавать видимость диаметрально противоположного желания. Те, кто прямо высказывают интерес к загранице, заграницу никогда не попадают.
Через некоторое время я был вызван в кабинет полковника Горохова. Полковник встретил меня, как старого знакомого.
«А, майор Климов! Рад Вас видеть», — начал он так ласково, как будто только и мечтал о встрече со мной.
Я внутренне насторожился. Чем ласковее у полковника обращение, тем неожиданнее может быть результат беседы.
«Вы всё-таки меня не послушались. Сбежали с Восточного, — качает головой полковник, как будто журя непослушного мальчика. — Я бы Вам это никогда не простил, если бы не хорошие отзывы о Вас».
Я молчу, ожидая, когда полковник перейдет к делу. Он вызвал меня, конечно, не для того, чтобы говорить комплименты.
«Так Вам, значит, хочется поработать на воле?» — звучит дружелюбный вопрос.
Я недоумённо поднял брови.
«Сначала мы хотели оставить Вас здесь, — говорит полковник. — Теперь же есть предложения дать Вам возможность поработать и оправдать себя в другом месте. Я думаю, что здесь не обошлось без Вашего личного воздействия…»
Он смотрит на меня полувопросительно, полуиронически. Без сомнения, он в свое время догадался о моей роли в деле моего перевода с Восточного Факультета на Западный.
«Я не возражаю против Вашего откомандирования, — говорит полковник после некоторого молчания. — Я думаю, что Вы тоже не возражаете».
Я сижу с бесстрастным выражением на лице. Излишнее любопытство и вопросы противопоказаны для офицеров Генштаба. Здесь, больше чем где-либо, имеет место старое правило: слово — серебро, а молчание — золото.
Немногие подозревают, что искусство молчать и слушать — это довольно редкое качество среди людей. Большинство стараются показать себя, а не узнать собеседника.
«У Вас единственный недостаток, — продолжает полковник. — Почему Вы до сих пор не член партии?»
«Я только год в этой Академии, товарищ полковник, — отвечаю я. — Для поступления в партию требуются рекомендации трех членов партии, которые должны знать меня по совместной службе не менее двух лет».
«Ну, а раньше?»
«Я не имел ещё возможности оставаться где-либо на одном месте дольше двух лет».
У меня вертится на языке сказать полковнику откровенно: «Я считаю, что человек должен приходить в партию, уже будучи передовым членом общества, а не использовать партию в качестве трамплина для своей карьеры».
Ведь большинство «настоящих» коммунистов сегодняшнего дня поступают именно так. Именно они делают больше всего шуму, стараясь показать свою преданность линии партии.
Те же, кто вырос своими собственными силами и затем в силу необходимости поступили в партию, как правило, являются только пассивными и безмолвными попутчиками.
Но разве можно сказать такую вещь? Ведь это означает какое-то колебание, неуверенность. А советский человек, если он хочет жить, уже со дня рождения должен безусловно верить в беспорочность линии партии.
Плохим был бы я воспитанником дипакадемии, если бы вздумал говорить с полковником откровенно. «Никогда не давайте волю первому движению сердца, потому что оно самое искреннее и чистое!» — сказал Шарль Талейран.
«Я надеюсь, что когда мы встретимся с Вами впоследствии, Вы уже учтете этот недостаток, — заканчивает полковник. — В остальном у Вас безупречные характеристики. Ваше личное дело будет передано в Главное Управление Кадров для использования Вас на практической работе».
После разговора с полковником Гороховым я ожидаю вызова для очередной анкетной проверки в высших инстанциях.
Обычно перед отправкой на работу заграницу даже слушателей нашей Академии, которые и без того отбираются с исключительной строгостью, вызывают для повторной анкетной проверки мандатной комиссией ГУК РККА (Главное Управление Красной Армии) и ЦК ВКП(б).
Бдительность никогда не мешает. Может быть, у кого завелась в душе червоточина или произошли изменения в среде его родственников или родственников его жены.
Один из самых неприятных институтов нашего бытия — это коллективная ответственность родственников. Человек может быть безупречным членом советского общества, но достаточно кому-либо из его дальних родственников попасть в НКВД — и человек автоматически включается в категорию «политически неблагонадёжных».
В годы войны в советских военкоматах существовала специальная категория «неблагонадёжных», которых не брали для военной службы. Часть из них использовалась в рабочих батальонах. Они не получали оружия и держались подальше от линии фронта. Это были люди, у которых родственники имели слишком тесное знакомство с НКВД.
Те же, кто лично был когда-либо репрессирован или состоял в чёрном списке НКВД, были заблаговременно арестованы и интернированы ещё в первые дни войны. Если кто-либо из «неблагонадежных», состоящих на особом учёте в военкомате, подавал рапорт с просьбой об отправке на фронт добровольцем, то он немедленно арестовывался и ссылался в лагеря НКВД.
Военкоматы хорошо знали цену этому патриотизму. Советская власть учитывает, что, несмотря на все долгие годы перевоспитания, в русской душе верность отцу, матери и родной крови сильнее всей шелухи коммунистической школы.
В последние годы войны, благодаря нехватке кадров, «неблагонадёжных» частично призывали кроме рабочих батальонов также и в регулярную армию. Все они шли на фронт рядовыми солдатами, хотя большинство из них было интеллигентами и офицерами запаса.
Когда мне приходилось встречать солдат, до войны бывших учителями или инженерами, то я уже без анкеты знал, что за этим скрывается.
Количество репрессированных за долгие годы советских экспериментов достигло такой колоссальной цифры, что хвост автоматически «неблагонадёжных» сегодня без сомнения составляет основную социальную группу нового советского общества.
Для обеих сторон приходится искать выход из создавшегося положения. Люди хотят жить, а власти нужны работники. Между этими двумя необходимостями стоит непроницаемой преградой анкета.
Многие из людей никогда в жизни не видели своего «злого духа», не имеют с ним ничего общего и, естественно, не пишут об этом в анкетах. Власти знают о неточностях в анкетах, но иногда вынуждены «не замечать» этого.
Советская политика террора привела в тупик — по советской классификации безупречно чистых и надежных граждан сегодня в СССР меньше, чем тридцать лет назад. Исходя из этого, в маловажных случаях и когда есть потребность в данном человеке, власти не так строго проверяют анкетные данные.
Но зато когда приходит серьёзный случай, то эти же власти, запутавшись в порожденных ими противоречиях, не доверяют никаким анкетам и даже собственным характеристикам о данной личности и проверяют кандидата с истерическим недоверием и скрупулезной тщательностью.
Срок проверки перед отправкой заграницу колеблется от трех до шести месяцев. Достаточно, чтобы при проверке анкетных данных запросом НКВД по месту жительства какой-нибудь из самых дальних родственников был установлен как пропавший без вести по невыясненным причинам — и кандидата отстраняют от командировки. Всё то, что невыяснено, всегда рассматривается как отрицательный фактор.
Вместо ожидаемого вызова в Отдел Кадров Генштаба, через несколько дней я получил приказание явиться к Начальнику Академии. Это выходило из рамок обычного оформления выпускников перед откомандированием на работу, и потому, отправляясь на аудиенцию к генералу, я невольно задумался над причиной вызова.
О генерале Биязи по Академии ходят самые противоречивые слухи. Часть слушателей с подозрительным шумом восхищается необычайными талантами генерала и рассказывает о том, что он человек исключительно высокой культуры, в своё время бывший советским послом в Италии, о том, что он не только в совершенстве владеет всеми языками, на которых говорят в Академии, но даже обладаёт способностью читать в душах людей и отгадывать их невысказанные мысли.
Можно не сомневаться, что слушатели, дающие такую характеристику своему начальству, будут больше преуспевать по дипломатической службе, чем те, кто утверждаёт, что генерал Биязи начал свою карьеру с продажи халвы и фруктов на тифлисских рынках и единственное его выдающееся качество — это внешний лоск и сладкие, как рахат-лукум, манеры и речь.
Часто по двору Академии приносится предостерегающий шепот: «Attention! Генерал снова чудит!» Тогда наученные опытом слушатели предусмотрительно убираются подальше со двора и с безопасного расстояния наблюдают за происходящим.
Внешне генерал исключительно мил и вежлив, подчеркнуто выхолен и щеголеват. Ни один слушатель, попавшийся ему навстречу, не проскочит мимо генеральского глаза, не подвергнувшись детальному и критическому осмотру.
«Что это Вы, голубчик, шагаете как баба по базару? — останавливает посреди двора генерал зазевавшегося капитана. — Ну-ка пройдитесь, как настоящие офицеры ходить должны!»
Затем начинается представление. Окружающие наслаждаются спектаклем из окон второго этажа.
«Почему у Вас сапоги не начищены, милейший? — медовым голосом вопрошает генерал. — Сапоги должны быть, как зеркало — чтобы бриться можно было!»
«Лужи на дворе, товарищ генерал», — вылупив глаза, оправдывается несчастный.
«А Вы под ноги больше смотрите! Не ловите ворон! Кто Вас заставляет в лужи лезть?! Вот какие сапоги должны быть!»
И генерал выставляет вперед свою маленькую жирную ножку, затянутую в сверкающий лакированный сапог на высоком каблуке.
«Так точно, товарищ генерал!»
«Потом, разве так приветствуют начальство? Ну-ка, повторите ещё раз!»
Генерал гоняет капитана взад и вперед по двору разучивая отдачу приветствия. Затем генерал входит во вкус и сам начинает показывать, как эту сложную вещь нужно делать «по-настоящему».
«Когда я был молод… я не был такой тряпкой… как Вы, молодой человек…» — пыхтит генерал.
«Когда ты был молод, ты яблоками торговал, — с досадой думает про себя жертва. — Когда же он, чёрт, меня отпустит!?»
«О! А это что-о-о тако-о-о-е? — генерал с деланным ужасом гладит ладонью по щеке застывшего с рукой у козырька капитана. — Ай-ай-яй! К девочкам Вы с такой бородой, наверное, не ходите… Стыдно, стыдно… А я за вас всех краснеть должен…»
Натешившись вдоволь, генерал шагает дальше в поисках следующей возможности навести порядок. Его масляные глазки сияют триумфом, на лице лежит печаль тихой скорби — как у заботливого папаши, которому его многочисленные дети за все его заботы платят только огорчениями.
Капитан облегчённо вздыхает, но скоро убеждаётся в преждевременности своей радости. Адъютант генерала, тихой тенью шагающий по его пятам, остался позади для подведения бухгалтерии. Он вынимает из кармана записную книжку и пальцем манит капитана к себе.
На следующий день провинившийся получит соответствующее извещение. Для офицеров домашний арест выражается в удержании жалования за дни наказания.
О генерале можно не без основания сказать — мягко стелет, да жёстко спать. Отправляясь к генералу, никогда нельзя быть уверенным в исходе аудиенции.
Академия полна неожиданностями. Например, недавно почти все Японское Отделение, за исключением старших курсов, реорганизовали в краткосрочные курсы по подготовке армейских переводчиков японского языка.
Разочарованных дипломатов утешают, что это мероприятие временное, затем все они будут иметь возможность продолжать учёбу в прежнем разрезе. А пока они с утра до ночи сидят и долбят японскую военную терминологию.
Реорганизация произошла непосредственно после Крымской Конференции и темпы обучения настолько форсированы, что слушатели довольно недвусмысленно переглядываются. Из учебных планов можно точно определить, когда окончится обучение и…
В общем — секретные пункты Крымского Договора для нас не секрет. Недаром нам ежедневно напоминают, что сотрудники иностранных посольств были бы очень счастливы познакомиться с кем-либо из нас поближе.
Если кто-либо из нас без специального разрешения вздумает обменяться на улицах Москвы парой слов с иностранцем, то это означает, что он требует слишком многого от своего ангела хранителя.
Некоторым слушателям перед откомандированием на работу приходится проходить ещё один деликатный спецкурс — правила хорошего тона и некоторые дополнительные тонкости поведения заграницей. Часто этот курс бывает индивидуального порядка в зависимости от будущего места назначения данного лица.
Иногда заставляют обращать особое внимание на современные западные танцы или высшую школу в обращении с женщинами со взломом сердец, через которые ведет путь к дипломатическим сейфам.
Иногда инструктаж доходит вплоть до цвета пижамы, интимных откровений из мемуаров горничной и рецептов из кухни Мефистофеля и Казановы. Здесь первую скрипку неизменно играет сам генерал Биязи — первый кавалер в Академии.
Чем же обрадует он меня? Может быть тоже какой-нибудь спецкурс.
Исходя изо всех этих предпосылок, я был немало удивлён, когда генерал Биязи коротко объявил мне, что высшими инстанциями я утверждён к откомандированию в распоряжение Главного Штаба Советской Военной Администрации в Германии.
По-видимому, меня считают настолько хорошо проверенным и благонадежным со всех точек зрения, что в данном случае даже отпадаёт необходимость в дополнительной проверке непосредственно перед отъездом заграницу.
«У Вас все данные, чтобы мы гордились Вами», — говорит генерал. Его лицо и манеры теперь ничем не напоминают обычную слащавую маску.
Он говорит коротко и официально. Это разговор старшего начальника с младшим коллегой, где генерал считает излишним внешние эффекты. Вопрос уже решён и он только ставит меня в известность.
«Не забывайте, что где бы Вы ни находились — Вы всё равно НАШ человек, — генерал делает ударение на слове «наш». — Вы будете в распоряжении другого командования, но в любую минуту мы можем отозвать Вас назад. В случае необходимости Вы имеете право связаться с нами через голову Вашего будущего начальства. В Армии это запрещено, но в данном случае это исключение из правил. От того, как Вы проявите себя на практической работе, будет зависеть Ваша дальнейшая судьба. Надеюсь, что мы ещё встретимся с Вами в будущем…»
Я слушаю генерала до странности спокойно. Во время войны я горел, переживал, стремился к чему-то. Теперь же мною владеет только ледяное спокойствие. Точно такое же спокойствие я ощущал, когда я впервые узнал о разразившейся войне в июне 1941 года.
Тогда это было напряжённым ожиданием событий. Что это означает сегодня — этого я ещё не могу понять. Наш внутренний мир — это отражение окружающей нас действительности. В активной работе, в плавильном тигле международных интересов я найду рациональное зерно нашего бытия. Более благоприятное место, чем Берлин, выбрать трудно.
Теперь я умышленно ставлю мой внутренний мир на пробный камень.
«Я уверен, что Вы с честью оправдаёте доверие, которое оказывает Вам родина, посылая Вас на самый ответственный участок послевоенного фронта. Работа там важнее и серьёзнее, чем во время войны, — говорит генерал, пожимая мне на прощанье руку. — Желаю Вам успеха, товарищ майор!»
«Так точно, товарищ генерал!» — отвечаю я, смотря в глаза Начальнику Академии и крепко возвращая его рукопожатие.
Ведь я еду в Берлин, чтобы вернуться оттуда лучшим гражданином моей родины, чем я в состоянии быть сегодня.
2
В середине зимы, загадка, окружавшая жизнь Жени, перестала быть для меня тайной.
В январе вернулась в Москву Женина мама. Всю войну, чтобы быть поближе к мужу, она работала военным врачом в прифронтовых госпиталях. Теперь же она демобилизовалась из армии и вернулась домой.
Анна Петровна была полной противоположностью Жени. Самым большим для неё наслаждением было рассказывать о муже.
Мне стоило немало терпенья в десятый раз с интересом выслушивать одни и те же истории — о том, как они поженились, о том, как муж никогда не был дома, все своё время посвящая службе, о том как тяжело быть женой кадрового военного.
Она с мельчайшими подробностями описывала его и её простых родителей, постепенный подъём по служебной лестнице и, наконец, головокружительную карьеру мужа во время войны. Анна Петровна была исключительно мила и непосредственна.
Будучи женой крупного генерала, она нисколько не гордилась своим новым положением и в изобилии рассказывала анекдоты о безграмотности и серости новой аристократии. В этом не было противоречия.
Сама Анна Петровна прекрасно понимала, какую ответственность накладывает на неё новое положение мужа, она во всём старалась идти в ногу со временем и с мужем. Сегодня она и внешне и внутренне вполне оправдывала своё место в обществе.
В широких кругах довольно скептически смотрят на новую аристократию, как на «выскочек». Это произошло, в значительной мере, благодаря тому, что во время революции наверх поднялись новые, никому неизвестные люди. Во время революции это было естественно.
После революции они занимали руководящие государственные посты, которым они часто не соответствовали ни по своему образованию, ни по соответствию исполняемым ими функциям. Единственное, в чём нельзя отказать советским руководителям — это кипучая энергия и бесконечное упорство.
Со временем эта революционная гвардия устарела, отживала свой век, и её несоответствие новым задачам становилось всё яснее.
Одновременно подрастали новые советские кадры специалистов в различных областях. Они вышли из широких масс, но уже обладали необходимым образованием, специальной подготовкой и практическим опытом руководства.
Начало войны прорвало бюрократическое болото, как нарыв. Потребовалась смена заплесневевших героев революции новыми, более соответствующими своим задачам, кадрами молодых руководителей советской школы.
Здесь решали не былые заслуги, а способности. Недаром в годы войны, в особенности в армии, поднялась на поверхность масса новых талантливых военачальников, которые до того прозябали в неизвестности.
Довоенная партийная и бюрократическая аристократия догнивала в роскоши и излишествах, которые когда-то ставились в упрёк царской аристократии. В дни войны на смену им, или может быть только временно — для спасения положения, были призваны лучшие силы нации. Отец Жени был одним из таких.
Анна Петровна — это воплощение заботы о муже, о семье, о доме. Несмотря на её гордость карьерой мужа, она, сама того не подозревая, часто высказывала сожаление, что эта карьера практически лишила её семейной жизни.
Постепенно я так сдружился с Анной Петровной, что иногда выступал с ней единым фронтом против Жени. Привыкнув к самостоятельной жизни, Женя абсолютно не хотела считаться даже с авторитетом матери.
Единственное, что на неё ещё действовало — это угроза: «Вот погоди, я отцу напишу, как ты себя здесь ведёшь…» Тогда Женя смирялась на некоторое время.
Во время Государственных Экзаменов, чтобы сосредоточиться и не отрываться от напряжённой работы, я не встречался с Женей и только звонил ей по телефону.
Получив назначение на работу в Берлин, после долгого перерыва я впервые зашел к Жене. Я ожидал от Жени всего что угодно, но только не ласкового приема.
К моему несказанному удивлению Женя встретила меня так бурно, что даже Анна Петровна укоризненно покачала головой: «Ты хоть меня постыдись!»
«Гриша! — с разлета закрутила она меня вихрем ещё в передней. — Папа здесь был… Целых две недели… Представляешь себе — целых две недели!»
Женя бесконечно любит и боготворит отца. Но в такой же мере она ревнует его к работе и тоскует, почти никогда не видя его дома.
«Посмотри, что только он мне привёз!»
Она увлекает меня с собой и начинает с гордостью показывать целые груды сокровищ, которые привёз ей в подарок отец. Уже и раньше к ним на квартиру приносили целые ящики различных трофеев. Каждый раз, когда кто-либо из офицеров штаба ехал в Москву, он попутно привозил с собой подарки от генерала.
Это было обычным явлением для всех семей военнослужащих в период наступления Красной Армии по Восточной Пруссии. Младшие офицеры посылали домой тряпки, старшие — более солидные вещи вплоть до роялей и мебели.
Юридически — грабёж, на языке войны — трофеи. В отношении немцев — долг платежом красен. О морали можно будет говорить позже.
По Москве ходит модный анекдот. Один офицер прислал с фронта своей жене ящик с мылом. Та, не долго думая, распродала все мыло на базаре. Через несколько дней от мужа приходит письмо. В нем он сообщает, что в каждом куске мыла залеплены золотые часы. Одни рассказчики, в зависимости от вкуса, утверждают, что жена повесилась, другие — утопилась, третьи — отравилась.
Философы любят говорить, что бедность облагораживает человека. В определённых пределах и при определённых предпосылках — может быть и так. Но хроническая и массовая бедность унижает человеческое достоинство и даёт стимул ко многим отвратительным вещам, недостойным человека.
В гостиной на полу стоит огромный, в рост человека, радиоаппарат. При первом взгляде на сверкающую клавиатуру кнопок и рычагов, я поколебался — что это, радиоприемник или радиостанция.
Действительно, генерал откопал радиоприёмник, соответствующий его чину. Наконец, я убеждаюсь, что это ультрасовременная модель сверхмощного супергетеродина.
Я протягиваю руку и хочу подключить питающий шнур к розетке на стене.
Анна Петровна предостерегающе поднимает палец: «Гриша! Только, пожалуйста, не включайте. Коля запретил строго на строго».
«Да, ну… Вам-то что бояться?» — возражаю я.
«Нет, нет… Пока запрет не сняли — нельзя. Даже Коля сам не включал».
Вот тебе и на! Через месяц после окончания войны победоносный советский генерал не решается слушать радио, пока не разрешит Кремль.
«Гриша, слыхали новый анекдот?» — отвлекает меня от радио Анна Петровна.
«Про шейку?» — спрашиваю я, уже привыкнув к рассказам Анны Петровны о генеральских женах.
«Нет… Новый! Один генерал прислал жене с фронта пианино. Ну, пока его везли, пианино раструсилось, позвали настройщика. Настроили и устанавливают пианино в комнате. Жена обязательно хочет, чтоб на видном месте.
«Там нельзя, — говорит настройщик. — Резонанса не будет».
«Э, чепуха! — машет рукой жена. — Я моему генералу напишу — он и резонанс пришлет».
Нас перебивает Женя.
«Гриша, посмотри. У меня ещё что-то есть, — она стремительно бросается в соседнюю комнату. — Золотой пистолет!»
Я ожидаю увидеть оригинальную зажигалку или дамскую безделушку. Женя с размаха бросает мне на колени что-то тяжёлое в жёлтом кожаном кабуре.
«Прочти, что там написано!» — командует она над моей головой.
Я расстегиваю желтую кожу. На моей ладони сверкает тупым рыльцем позолоченный немецкий «Вальтер». На плоской боковой грани затейливая вязь гравированных готических букв. Бросаются в глаза две хищные зигзагообразные молнии — знак СС.
Надпись на пистолете гласит:
«Генералу СС Андреас фон Шенау от имени Великой Германии.
Фюрер».
Почётное золотое оружие! Подарок СС-овскому генералу от самого Гитлера. Когда-то этот блестящий кусок металла наполнял гордостью сердце человека, который считал себя выше других существ.
Теперь же он сидит в лагере для военнопленных и собирает окурки, а горделивая безделушка столь же безразлично поблескивает в руках победителей. Да, нет ничего более изменчивого и непостоянного, чем земная слава!
«Теперь со мной не шути. — Женя нажимает защёлку обоймы. — Полный боекомплект!»
Обойма змейкой выскальзывает на подушку дивана. Красные головки патронов выглядывают из прорези.
«Однако, додумался отец такие игрушки дарить, — говорю я и кладу обойму подальше от пистолета. — Да ещё, главное, кому?»
«Не беспокойся. Если ты будешь себя хорошо вести, то это не опасно», — успокаивает меня Женя.
«Потом папа привез ещё два Опеля, — щебечет она. — „Адмирала“ он оставил себе, а „Капитан“ теперь мой. Понимаешь? Мой! Завтра чтобы ты был здесь. Будешь учить меня править. Повтори приказание!» «Послушай, Гриша, какие у тебя, вообще, планы на будущее?» — шаловливо спрашивает она, уже забыв о своих новых игрушках. С такой же непринужденностью как она обращается со своим золотым пистолетом, она кладет мою голову себе на колени, пишет мне на лбу пальцем вопросительный знак.
В её голосе слышится игривый вызов. Вековечный инстинкт женского кокетства нисколько не изменился в сердце дочери советского генерала.
Мне не хочется омрачать радужное настроение Жени. Где-то в глубине копошится чувство сожаления, что завтра я должен буду расстаться со всем окружающим. Но так нужно, да и потом ведь это не навсегда.
«Завтра я вылетаю в Берлин…» — медленно говорю я, смотря в потолок. Я произношу эти слова так тихо, как будто я виноват в чем-то.
«Что-о-о? — недоверчиво тянет Женя. — Опять твои глупые шутки?»
«Это не шутка…»
«Никуда ты не поедешь. Забудь об этом! Понял?!»
«Это от меня не зависит…» — я беспомощно пожимаю плечами.
«Боже! Как бы мне хотелось содрать с тебя шкуру! — восклицает Женя. — Сходи в оперетту, если уж тебе так хочется посмотреть заграницу. Неужели тебе не жалко опять уезжать и оставлять меня зубрить эти дурацкие интегралы?!»
Она смотрит на меня почти умоляюще. В её взгляде что-то большее, не только просьба или каприз.
«Это не зависит от моего желания, Женя… Долг…»
«Долг, долг… — как эхо, повторяет мои слова Женя. — Я слишком часто это слышу — долг!»
С неё внезапно слетает вся беззаботность и весёлость. Голос её становится печален и серьёзен.
«Я была так бесконечно рада, что ты не кадровый военный. Ты думаешь, я счастлива дома? Ведь я — сирота!»
Женя выпрямилась, лицо её побледнело, тонкие пальцы нервно теребят шелковую кисть дивана.
«За всю жизнь я видела отца только неделями… Ведь мы почти чужие. Ты думаешь, почему он засыпает меня подарками? Он тоже чувствует это. То Китай, то Испания, то ещё куда-то… И так всю жизнь…»
Голос Жени дрожит от волнения и глаза наполняются слезами. Она не владеет собой, слова слетают с её губ как страстное обвинение, как жалоба на судьбу.
«Подруги говорят, что я счастливая — у отца вся грудь в орденах… А я ненавижу эти ордена… Они отняли у меня отца… Каждый из них — это годы разлуки. Посмотри на маму! Ведь у нее не успеют просохнуть слезы радости, что отец вернулся, жив, здоров, как снова плачет. Опять провожает куда-то, даже не знает куда… Иногда по году писем нет…» «…Он тоже говорит — долг, долг… А теперь ты… Я не хочу жить так, как мама… Я не хочу жить твоими письмами…»
Женя закрывает лицо руками. Её плечи судорожно вздрагивают. Она падаёт лицом вниз на подушки дивана. На бархатных подушках, как обиженное дитя, орошая слезами золотой подарок фюрера, горько плачет его новый владелец.
Я молча ласкаю волосы Жени, беспорядочно рассыпавшиеся по красному бархату, смотрю на залитые солнцем крыши домов за окном, в голубое марево летнего неба. Как будто я ищу там ответа. Что я должен делать? Тут, рядом со мной любимая и любящая женщина. Где-то там далеко-далеко ожидаёт меня долг.
Что такое долг? Не просто ли это отговорка, за которую мы цепляемся, чтобы оправдаться перед собственной совестью. Или это высшее проявление нашей совести? Все зависит от основного принципа. Долг — это производное веры в непогрешимость основного принципа.
Мой долг — найти эту веру. Это долг в квадрате.
Вечером я сижу с Анной Петровной в гостиной. Женя, как примерная девочка, разложила на столе книжки и грызет карандаш, готовясь к последним экзаменам. Белый ангорский кот, любимец Жени, настойчиво лезет мне на колени. Анна Петровна, как обычно, жалуется на свою одинокую жизнь.
«Предлагали ему место в Артиллерийском Управлении, так нет — опять в пекло лезет. Пробило голову под Кенигсбергом — так всё мало. Уж кажется и орденов достаточно, и звание высокое. Теперь одно затвердил — буду маршалом. Сам Сталин ему на приёме сказал. Теперь и повторяет, как кукушка».
За несколько дней до капитуляции Германии, когда победа была уже собственно решена, генерала спешно отозвали в Москву. 10 мая 1945 года он, вместе с Генералитетом Красной Армии, присутствовал на торжественном приеме в Кремле, данном Политбюро ЦК ВКП(б) в честь победы над Германией.
Ещё один орден Ленина украсил его широкую грудь, ещё одна звезда прибавилась на золотых генеральских погонах. Но Анне Петровне не пришлось долго радоваться свиданию с мужем.
Он получил новое секретное назначение, все дни проводил в Генштабе и на все расспросы Анны Петровны куда он едет односложно отвечал — «Получишь письмо с адресом полевой почты».
Местонахождение его Анна Петровна узнала только через несколько месяцев, когда разразилась война с Японией. Да и то узнала она это лишь из газет, из Указа Президиума Верховного Совета о награждении генерала за особые заслуги в боях против Японии.
Пушистый любимец Жени продолжает досаждать мне излиянием своих чувств. После его ласк я всегда с ног до головы в белой шерсти. Я беру мурлыкающее существо по возможности осторожно за шиворот и выбрасываю за дверь.
«Как же он станет маршалом, если война окончена? — спрашиваю я Анну Петровну. — Война с Японией, если и будет, то долго не продлится. С кем же воевать?»
«Не знаю, — вздыхает Анна Петровна. — Он со мной о политике много не разговаривает. Это он после того, как в последний раз в Кремле побывал, так и распетушился. Видно, там что-то да думают, если говорят. Ему Сталин — конец и начало. Раз ему Сталин сказал „будешь маршалом“, так он за этой маршальской звездой на небо полезет».
«Что за чертовщина? — мелькает у меня в голове. — В Кремле словами на ветер не бросаются».
Я ничего не сказал тогда Анне Петровне. В этом отношении генерал прав. Нет ничего неразумнее, чем говорить с женщинами о политике. Для юношей это тактическая ошибка, для взрослых людей — неосторожность или, в лучшем случае, бесполезная трата времени. Зато слушать женщин иногда очень полезно.
Я вспомнил и понял слова Анны Петровны только позже, за столом заседаний Союзного Контрольного Совета в Германии. То, что для других стало ясным спустя много времени позже, было понятно мне уже после первого заседания.
Так провел я свой последний день в Москве.
Утро следующего дня застает меня на Центральном Московском аэродроме. Ещё рано и утренний туман стелется над землей, холодной матовой росой оседаёт на плоскостях самолётов. Кругом всё неподвижно, все тихо и спокойно. На взлетном поле распластали зелёные крылья многочисленные транспортные самолеты — все, как один — «Дугласы».
На душе у меня так же легко, как лёгок и свеж утренний воздух кругом, так же спокойно и тихо, как это раскинувшееся кругом, омытое росой, поле аэродрома. Наверное, каждый путешественник не раз ощущал неизбежное чувство лёгкости и простора, охватывающее душу человека перед отъездом в далекий путь.
Одновременно уже наперёд радуешься будущему возвращению к знакомым берегам, в родную среду, в отчий дом.
Через год я снова вернусь в Москву. Тогда она будет мне ещё дороже и роднее, чем теперь.
Ко мне приближаются двое офицеров, по-видимому летящих тем же самолетом.
«Ну как, майор? — с приветствием обращается ко мне один из них. — Значит — даешь Европу?»
«Не мешает посмотреть, что она из себя в самом деле представляет, старушка Европа», — добавляет второй.
Аэродром оживляется. Прибывают ещё несколько человек с командировочными предписаниями в штаб Советской Военной Администрации. СВА имеет свои самолеты, курсирующие на трассе Берлин-Москва. Из Германии самолеты летят чуть ли не цепляясь брюхом за землю, под тяжестью особо важных и спешных грузов.
Зато из Москвы в Берлин они идут наполовину порожняком. Так и наш лётчик, подождав ещё некоторое время, машет рукой и сигналом просит у диспетчера разрешения на старт.
Самолет, как бы прощаясь, делает круг над Москвой. До чего же ты маленькая сверху, столица! Лежишь, как рыжий телёнок на зелёном лужку.
По окраинам рассыпались деревенские домики с дощатыми прогнившими крышами, а кругом, сколько хватает глаз, зеленеет травка, кустарники, деревья.
Я ещё раз пытаюсь поймать глазами что-то, но под крылом самолета уже плывут облака.
Глава 5 Берлинский кремль
1
«Дуглас» С-47 делает вираж. Внизу, насколько хватает глаз, раскинулось кладбище руин. Смотрю на часы. По времени мы уже должны быть над Берлином. Панорама внизу похожа скорей на учебный макет, чем на город.
В косых лучах заходящего солнца резко бросают узорчатые тени выгоревшие стены-скелеты. Когда мы бились на берлинских улицах, то как-то не замечались масштабы разрушений. Теперь же, с высоты, Берлин кажется мертвым городом из ассирийских раскопок.
Не видно людей на улицах, не видно движения автомашин. Только выжженные кирпичные коробки зияют провалами окон без конца и края.
Вот оно — лицо тотальной войны! Хаос развороченного бетона и обугленного кирпича, известковая пыль, мёртвым саваном осевшая на когда-то цветущую метрополь III Империи.
Симфония войны! Она была для немцев симфонией и ласкала их уши, когда гремела воздушными армадами Геринга над крышами Лондона и Парижа. «Deutschland, Deutschland uber alles», — любил распевать Михель, отбивая такт пивной кружкой, а после очередного «шоппена» убежденно добавлял: «Uber alles in der Welt…» Нет, по-видимому, беспристрастная справедливость оказалась выше пивного шовинизма!
Наш самолет медленно кружит над городом, как будто показывая нам распростертого у наших ног побежденного врага. Как много победных парадов и фанфар гремело здесь. Кондоры, легионы, фюреры всех мастей. Блеск и мишура. А теперь… Sic transit gloria mundi… Вы слишком часто выигрывали сражения, чтобы всегда проигрывать войны.
Впервые я познакомился с Берлином по книгам. В моём представлении он был городом, где поезда ходят точнее, чем часы, а люди подобны часовым механизмам.
Если Париж был для меня вечно Ликующим, если Вена казалась мне безмятежно Поющей, то Берлин представлялся в моём воображении вечно Нахмуренным городом, городом без улыбки, городом, где людям недоступно понятие L'art de vivre.
Лично мы встретились впервые в апреле 1945 года. В месяц распускающихся почек на липах и любви в сердцах возлюбленных. В месяц, когда кровь быстрей течёт по жилам, как пишут поэты.
Тогда кровь, действительно, быстрей текла по жилам. Но гнала её не любовь, а ненависть. Текла она не только по жилам, но и по каменным мостовым Берлина.
Убивать — это чертовски неприятное занятие. Забывать и прощать неприятные вещи — это похвальное качество. Но для этого надо сначала победить. А пока по тебе ещё стреляют из каждой подворотни.
Раньше я даже не мечтал, что когда-либо увижу своими глазами Германию или Берлин. Это было слишком маловероятно для советского человека.
Война стёрла границы. Война бросила людей в водоворот жизни, времени и пространства. И вот я, одна из песчинок в этом водовороте истории, стою в Берлине, таком простом и обыденном в этих развалинах, в грохоте боя.
Первая встреча несколько напоминала американскую дуэль по типу вильд-веста. Хороши были все средства для того, чтобы убить друг друга. Убитый солдат, лежащий посреди улицы, при прикосновении взрывался и уже мёртвый мстил победителям. Мина-ловушка!
По одиночным солдатам стреляли из фауст-патронов, нормально предназначенных для борьбы с танками. А русские танки, не обращая внимания на призывающие к порядку надписи, врывались вниз по лестницам в подземелья берлинского метро и бешено танцевали в темноте, изрыгая круговой огонь. Война «до пяти минут после двенадцати».
Сегодня я снова возвращаюсь в Берлин. На языке официальных документов: «демилитаризировать Германию в соответствии с пунктами союзных договоров держав-победительниц».
Печально, что опять приходится знакомиться с Берлином не в качестве туриста, гостя или друга, а в качестве победителя. О коллективной ответственности не может быть и речи, но в какой-то мере придётся отвечать каждому. Люди есть люди.
Но сегодняшний человек — это общественное животное и его трудно отделить от общества. Общество нагрешило, а расплачиваться приходится всем, хотя многие искренне убеждены, что они не виноваты. На всякий предмет можно смотреть с разных точек зрения. В таких случаях всегда права точка зрения победителя.
Для того, чтобы мыслить таким образом, нужно рассматривать вещи с какой-то возвышенной точки зрения. Тем более трудно понять это тем, для кого недавно ещё все было «uber alles» а теперь лежишь носом в грязи и чувствуешь на своей спине чужой солдатский сапог победителя.
Для меня же, с высоты полета нашего «Дугласа», это очень ясно видно. В особенности, когда внизу расстилается безжизненное пепелище, по старой памяти именуемое Берлином.
Майор мед. службы смотрит в соседнее круглое окошечко на медленно плывущую панораму Берлина. Лицо его задумчиво и выражает сожаление. Он поворачивается ко мне и говорит: «Жили себе люди. Чего им, спрашивается, было нужно!?» По-видимому он думает о том же, что и я.
Аэропорт «Адлерсгоф». На окраинах взлётного поля, как огромные стрекозы, торчат хвостами кверху «Юнкерсы» с паукообразной свастикой на фюзеляже. Теперь они приземлились надолго.
Над зданием аэропорта смотрит в небо голая флагмачта без флага. В диспетчерской дежурный лётчик-лейтенант, говоря сразу по трем телефонам, успевает одновременно успокаивать артиллерийского полковника, у которого походная жена потерялась в воздухе где-то между Москвой и Берлином.
«Да, да… Половина уже отгружена… Вторая идёт двумя „Дугласами“ завтра… Накладная приложена…», — кричит он то ли в трубку телефона, толи по адресу нетерпеливого артиллериста.
К стоящему рядом со мной лейтенанту-лётчику подходит человек в форме подполковника. По-видимому для надежности он выбрал чин пониже.
Ещё за пять шагов, приложив руку к козырьку, с изысканной улыбкой вежливости подполковник робко осведомляется: «Будьте любезны, тов. лейтенант, не скажите ли Вы мне, где здесь находится хозяйство Бугрова?» (В то время большинство воинских частей носили условное название «хозяйство» с добавлением фамилии командира части.) Он понижает голос до шёпота, как будто выдаёт секрет.
Лейтенант ошеломлённо смотрит на погоны подполковника, стараясь понять, что у него: обман слуха или обман зрения. Затем также недоуменно он осматривает подполковника с ног до головы.
Подполковник смущается всё больше и виновато, тоном беспомощного интеллигента, добавляет: «Видите ли, у нас приказ, а куда ехать мы не знаем».
Лейтенант, как рыба в воздухе, раскрывает рот, потом снова закрывает. Что за чучело? Уже не переодетый ли диверсант? Я тоже заинтересовываюсь подполковником. На нём новое солдатское обмундирование, новые солдатские сапоги, солдатский ремень.
Каждый офицер скорее носил немецкий трофейный пояс, чем солдатский ремень. На плечах подполковника красуются новенькие полевые погоны. Нормальные офицеры, даже на фронте, предпочитали золотые погоны, а после окончания войны трудно было найти фронтового офицера с полевыми погонами.
За плечами подполковника неуклюже болтается вещевой мешок. Офицеры обычно не любят вещмешки и при переезде чаще всего выбрасывают их. Пояс подполковника приземлился где-то на бедрах, бросая прямой вызов всем сержантам советской армии и напрашиваясь на зуботычину.
Вся форма сидит на нём, как на корове седло. Под левой рукой он неловко прижимает топорщащуюся новенькую шинель, как будто боясь, чтобы её не украли. На заду внушительный наган в брезентовом кабуре.
Определённо человек всерьез воевать собрался! Потом, что это за обращение к лейтенанту? Настоящий подполковник согласно устава никогда не приветствует лейтенанта первым. Если надо, то подзовет лейтенанта к себе. И безо всяких «Будьте любезны…» Невдалеке стоит группа таких же комичных существ, обвешанных мешками и чемоданами, за которые они старательно держатся, как на московском вокзале. Я обращаюсь к офицеру-лётчику и спрашиваю, показывая на подполковника и его спутников: «Что это за типы?»
Тот усмехается и отвечает: «Демонтажники. Их там так напугали, что они тут ступнуть боятся. В уборную идут и чемоданы с собой тащат. Чего они дураки боятся? Здесь в Германии не воруют, а просто берут. Ведь их самих сюда для этого послали. Нарядили их всех в полковников и подполковников, а они в Армии в жизни не были. Наводят панику на солдат своими погонами и сами ещё больше пугаются. Да и нас с толку сбивают». «А, в общем безобидные ребята. Подштанники с Германии снимают, — продолжает он. — Их коллеги, что раньше приехали, уже так обжились, что вместе с демонтированным оборудованием даже коров на „Дугласах“ домой переправляют. А уж газовые печки и рояли — это в порядке вещей. Я сам на трассе Москва-Берлин работаю. Насмотрелся!»
Наш разговор прерывается странным шумом автомотора. Неподалёку, дрожа всем телом, изрыгает синий газ маленькая открытая автомашина. На крыльях её развеваются красные треугольные вымпелы. За рулём сидит коренастый майор и напропалую шурует рычагами и педалями. Шея его покраснела от непривычной работы. Майор делает несколько диких воплей сиреной, то ли призывая на помощь, то ли предлагая окружающим убраться подальше от машины во избежание последствий. Он пытается пустить автомашину, то сразу включая четвёртую скорость, то задний ход. Машина судорожно прыгает на месте, не понимая, чего от нее хотят. Бедные шестеренки! Не поможет вам и крупповская сталь против человеческой дурости. Наконец несчастная жертва срывается с места и исчезает в облаках дыма и пыли, чуть не сбив по пути бетонный купол, врытый в землю у ворот аэродрома.
Я обращаюсь к тому же лётчику и спрашиваю: «А это что за троглодит?»
Тот молчит некоторое время, как будто предмет не стоит разговора. Затем с презрением, свойственным людям воздуха к пехотным офицерам, нехотя отвечает: «Комендантская шпана. Наводят здесь чистоту и порядок».
Потом подумав, чем ещё можно выразить свое пренебрежение к людям, украшающим машины красными флажками, добавляет: «До войны копал картошку где-нибудь в колхозе. Десять таких остолопов в землю сыграли, а одному дураку повезло — в майоры вылез. Ну, теперь и куролесит. Хочет отыграться за всю свою собачью жизнь. Погоны снимут — опять в пастухи пойдешь».
Он замолкает, считая разговор исчерпанным.
Спустя некоторое время нам удаётся связаться по телефону со Штабом Советской Военной Администрации и вызвать автомашину. В сумерках летнего вечера мы въезжаем в Карлсхорст — резиденцию СВА.
Главный Штаб Советской Военной Администрации в Германии разместился в зданиях бывшего Саперного Училища в одном из предместий Берлина — Карлсхорста.
Месяц тому назад здесь был подписан один из наиболее знаменательных исторических документов наших дней. 8 мая 1945 года представители Союзного Верховного Командования, маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер с одной стороны, и представители Германского Верховного Командования, с другой стороны, в зале здания, где сегодня помещается Отдел Политсоветника, подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооружённых Сил на суше, на море и в воздухе».
Здесь фельдмаршал Кейтель в последний раз с бессмысленной прусской спесью махнул своим маршальским жезлом, прежде чем скрепить своей подписью бесславный конец гитлеровской империи.
Несколько трехэтажных казарменного типа зданий, неравномерно разбросанных по двору и окружённых чугунной стрельчатой оградой. Характерный тихий пригород восточной окраины Берлина. Остенд. Как и в большинстве европейских столиц — это пролетарская часть города. Отсюда мы будем перевоспитывать Германию.
2
На следующий день после моего прибытия в Карлсхорст, я представился начальнику Отдела Кадров СВА полковнику Уткину. Очутившись в кабинете полковника, я по всем правилам устава лихо щелкнул каблуками и с рукой у козырька отрапортовал: «Майор Климов по приказу Главного Управления Кадров РККА прибыл в Ваше распоряжение. Разрешите предъявить документы, тов. полковник?»
«Давайте сюда, что у Вас есть», — сделал знак рукой полковник.
Я достал из полевой сумки мои документы и протянул их полковнику. Вскрыв запечатанный сургучными печатями объёмистый пакет, он начал просматривать мои многочисленные характеристики и анкеты.
«А, да… С присвоением звания „референт дипломатической службы“, — читает полковник по документам. — Тогда у нас для Вас много работы найдется. Где бы Вы хотели работать?»
«Там, где я могу принести больше пользы», — отвечаю я.
«Ну, например, в Правовом отделе — издавать новые законы для Германии. Или в Отделе Политсоветника? Впрочем, это слишком скучно, — говорит полковник, не дожидаясь моего ответа. — А что Вы скажете об Управлении Государственной Безопасности?»
Отказ от столь почетного предложения равносилен признанию в собственной нелояльности или самоубийству. Но работа в тайной полиции меня мало прельщает, я уже вышел из возраста, когда увлекаются детективными романами.
Я щупаю почву в поисках благовидного отказа: «В чем будет заключаться работа, тов. полковник?»
«В основном то же, что и в Сов. Союзе. Без работы сидеть не будете. Скорее наоборот».
Не знаю, понял ли полковник свою собственную игру слов или это получилось у него непроизвольно. Во всяком случае, «сидёть наоборот» — это довольно частое явление среди работников МВД. Лучше уж не «сажать» и не «сидёть», думаю я и отвечаю:
«Тов. полковник, если Вы спрашиваете о моём желании, то я думаю, что рациональнее всего было бы использовать меня в области промышленности. В моей гражданской специальности, я — инженер».
«Это нам тоже нужно. Посмотрим, что у нас есть подходящее для Вас».
Полковник роется в списках штатного состава, потом снимает трубку телефона: «Товарищ генерал? Извините, что я беспокою Вас».
Полковник выпрямляет спину и оттягивает назад плечи, как будто стоит перед невидимым генералом. Зачитав ему данные из моего личного дела, он заканчивает: «Так прикажете представить его Вам сейчас? Слушаюсь!» Затем, обращаясь ко мне, он говорит: «Ну, вот. Пойдемте. Я представлю Вас заместителю Главноначальствующего по Экономическим Вопросам».
Таким образом, на второй день моего пребывания в Карлсхорсте я очутился в кабинете генерала Шабалина.
Огромная, выстланная коврами, комната. Спиной к окнам — письменный стол, величиной с футбольное поле. К этому столу, в форме буквы Т, прислонен второй длинный стол, покрытый красным сукном: неотъемлемая принадлежность кабинетов крупного начальства, место для конференций.
За столом седая голова. Квадратное энергичное лицо. Глубоко запавшие серые глаза. Тип волевого исполнителя, но не интеллигента.
Под генеральскими погонами, на темно-зеленом кителе незначительное число орденских лент, но зато на правой стороне груди — красный с золотом значок в виде флажка: «Член ЦК ВКП(б)». Итак, не боевой генерал, а старый партработник.
Генерал не торопясь изучает моё личное дело, время от времени трёт нос и покуривает сигарету, как будто меня нет в комнате.
«А Вы того… надежны?» — спрашивает он неожиданно и сдвигает очки на лоб, чтобы лучше рассмотреть меня.
«Как жена Цезаря, тов. генерал», — отвечаю я.
«Говорите по-русски. Я загадок не люблю», — генерал опускает очки со лба и снова углубляется в изучение моего личного дела.
«Так, а почему Вы до сих опор не член партии?» — спрашивает он, не поднимая глаз от бумаг.
«Ага, вот и значок заговорил», — думаю я про себя и вслух отвечаю: «Не чувствую ещё себя достаточно подкованным, товарищ генерал».
«Старая интеллигентская отговорка. Когда же Вы почувствуете себя подкованным?» — раздаётся голос из-за письменного стола.
Я отвечаю сугубо партийным трафаретом: «Беспартийный большевик, тов. генерал».
Во всех щекотливых случаях самый лучший выход — это отгородиться каким-либо сталинским крылатым словцом. Такие формулировки не дискутируются и не вызывают дальнейших вопросов.
«Вы имеете какое-либо представление о Вашей будущей работе здесь?» — следует очередной вопрос.
«Постольку, поскольку это касается промышленности, тов. генерал».
«Одного знания промышленности здесь мало. Имеете Вы допуск к секретной работе?»
«Все выпускники нашей Академии автоматически получают этот допуск».
«Где Вы получили допуск»?
«ГУК РККА (Главное Управление Кадров Красной Армии.) и Иностранный Отдел ЦК ВКП(б)».
Эти слова производят впечатление на генерала. Он сверяется с документами, спрашивает о моей предыдущей работе в промышленности и службе в Красной Армии.
Затем, по-видимому, удовлетворённый и приняв положительное решение, он говорит: «Вы будете работать со мной в Контрольном Совете. Хорошо, что вы знаете языки. Специалисты у меня ничего не понимают в языках, а переводчики не понимают специальных вопросов».
После этого генерал начинает первый инструктаж.
«Вы никогда не работали заграницей? Нет. Вы должны наперед, раз и навсегда, запомнить, что все Ваши будущие сотрудники в Контрольном Совете — это агенты капиталистических разведок. Никаких личных знакомств, никаких личных разговоров. Я думаю, что Вы знаете это, но всё-таки напоминаю Вам. Меньше говорите, больше слушайте. Кто много разговаривает, тому мы язык с корнем вырываем. Нам стены все докладывают. Не забывайте об этом».
Он подкрепляет свое отеческое наставление многозначительным взглядом. Я выражаю полное согласие. Про себя я думаю: «Однако, лексикон характерный. Видно, у генерала в прошлом богатый опыт работы в МВД».
«Вполне возможно, что Вас попытаются завербовать для работы в какой-либо иностранной разведке. Что Вы будете делать в этом случае?» — спрашивает генерал.
«Я соглашусь, — отвечаю я. — Предварительно хорошенько поторговавшись и создав реальные условия».
«Ну, а потом?»
«Потом я докладываю об этом моему начальству. В данном случае Вам».
«Вы в карты играете?» — спрашивает генерал дальше.
«Нет».
«Пьёте?»
«В пределах дозволенного».
«Ну, это растяжимое понятие. Как насчёт женщин?»
«Холост».
«Посмотреть на Вас, майор, так прямо Иисус Христос, — генерал глубоко вдыхает синий дым сигареты, задумчиво выпускает дым в сторону. — Плохо, что Вы не женаты».
Его слова понятны мне лучше, чем он думает. В Академии существовал строгий закон: холостых на работу заграницу не посылали. Оккупированные страны, правда, в счёт не шли.
Очень часто отдельные офицеры среди учебного года вызывались к Начальнику Академии, получали приказ об откомандировании на работу заграницу и приказ зарегистрировать брак. Это было обычным явлением и люди, предвидящие возможность посылки заграницу, уже заранее подбирали себе кандидатов в супруги и… заложники.
«Так вот, майор, — заканчивает генерал. — Будьте осторожны с этими молодчиками в Контрольном Совете. Здесь Вы на передовой линии послевоенного фронта. Теперь идите и познакомьтесь с моим старшим адъютантом».
Когда я берусь за ручку обитой войлоком и клеенкой двери, генерал спрашивает меня вдогонку: «Как Вы попали в эту Академию?»
Он в первый раз позволяет себе слегка улыбнуться, показывая, что это вопрос личного порядка. Я чувствую, что генерала это интересует больше, чем он старается показать.
«Может специально подослали, — думает генерал про себя. — Потом ещё нарвешься на неприятности».
Я отвечаю, что в Академию я попал в порядке фронтового набора. Это удовлетворяет генерала и он отпускает меня. Я выхожу из кабинета в приёмную, где за столом сидит человек в форме майора.
Старший адъютант генерала читает на моём лице положительный исход аудиенции и протягивает мне руку: «Майор Кузнецов».
После непродолжительной беседы я спрашиваю адъютанта, что представляет из себя работа в аппарате генерала.
«Моя работа — это давить стул до трёх часов ночи вместе с хозяином, а Ваша работа — сами увидите», — отвечает майор Кузнецов с усмешкой.
Вскоре я имел первую возможность познакомиться с работой аппарата заместителя Главноначальствующего СВА. При этом мне невольно вспомнился инструктаж генерала о необходимости бдительности при контакте с союзниками.
Однажды утром дверь генеральского кабинета стремительно распахнулась и из неё выбежал шустрый маленький человек в форме майора: «Товарищ Климов, генерал просит Вас на минутку к себе».
В манере маленького майора было нечто, обычно характеризующее человека, привыкшего к аккуратной работе.
Генерал взял из рук незнакомого майора папку с документами и протянул её мне: «Разберитесь в этих бумагах. Возьмите машинистку, имеющую допуск к секретной работе, и продиктуйте ей содержание материала. Работать в помещении Секретной Части. Копирку не выбрасывать, а сдать после работы. Когда кончите — доложите мне».
В приемной я на ходу спросил у адъютанта: «Что это за майор?»
«Майор Филин. Работает в „Тэглихе Рундшау“», — ответил тот.
Запершись в комнате Секретной Части, я начал разбираться в папке с документами. Часть листков была напечатана по-английски, часть по-немецки. Какие-то таблицы, столбики цифр. Впереди приложен листок, напечатанный по-русски. В углу красный гриф «Секретно». Неизвестный осведомитель докладывает:
«Агентурной службой установлены следующие обстоятельства похищения агентами американской разведки сотрудников Имперского Института Экономической Статистики проф. Д. и д-ра Н. К вышеуказанным немецким научным работникам явились агенты американской Разведки и предложили им дать некоторые показания американским властям.
Немцы, проживающие в советском секторе Берлина, отказались дать показания. После этого Д. и Н. были насильно похищены и вернулись домой только несколько дней спустя».
«После своего возвращения проф. Д. и д-р Н. были опрошены нашей Агентурной Службой и дали следующие показания:
„В ночь на… июля мы были насильно похищены офицерами американской Разведки и переброшены самолетом в Штаб-Квартиру Американской Экономической Разведки в Висбадене.
Там мы в течение трёх дней были опрашиваемы офицерами Разведки… (следует перечисление имен). Данные, которыми интересовались офицеры Американской Разведки указаны в приложении“».
Дальше приложены таблицы материалов Имперского Института Экономической Статистики. Материалы отпечатаны большим тиражом на гектографе и по своему содержанию не представляют особой секретности.
По-видимому, они были отпечатаны ещё до капитуляции и служили для внутреннего немецкого употребления. Несмотря на факт «насильственного похищения» немецкие ученые предусмотрительно взяли эти материалы из архивов Института и вручили одну копию американцам, а позже, с такой же предусмотрительностью, вторую копию — русским.
Более интересными оказались документы на английском языке. Вернее не сами документы, а факт их наличия. Это были копии стенограммы опроса немецких профессоров в Висбадене и копии тех же самых материалов Института, но уже на английском языке.
Наша Агентурная Служба не слишком доверяет показаниям немцев и следует обычному перекрестному методу проверки. Американские документы не имели положенных штампов, номеров и сопроводительных адресов. Эти документы пришли от американцев, но не официальным путем.
Следовательно, наша Агентурная Служба имеет свою невидимую руку в американском Центре Экономической Разведки. Майор Филин действительно привык к аккуратной работе. «Тэглихе Рундшау» занимается довольно своеобразной журналистикой.
Через несколько дней из американской Главной Квартиры в Берлин-Целендорфе в адрес генерала Шабалина поступил объёмистый запечатанный пакет. В это время Контрольный Совет ещё практически не работал и союзники только знакомились друг с другом.
В приложенном сопроводительном письме американцы вежливо уведомляли, что в порядке обмена экономической информацией они препровождают настоящим пакетом для сведения советской стороны некоторые информационные материалы по германской экономике.
Дальше я нахожу те же самые таблицы, которые с такими предосторожностями и «насильственными похищениями» поступили от майора Филина. На этот раз со всеми положенными штампами, адресами и списком распределения копий.
Материал оказался значительно полнее, чем папка майора Филина. Там, где у нас стоял гриф «секретно», американцы, по-видимому, не видят никаких секретов и дружески предоставляют материал советской стороне.
Я захожу в кабинет генерала и показываю материал и адрес отправителя «Economical Inteligence Division» Генерал просматривает знакомый материал, задумчиво чешет карандашом за ухом и говорит: «Что это они в друзья напрашиваются? Действительно, материал тот же самый». Потом бормочет сквозь зубы: «Это какой-то трюк. Всё равно они все шпионы».
3
Экономическое Управление Штаба СВА разместилось в здании бывшего немецкого госпиталя св. Антония. Госпиталь построен по последнему слову техники, умело обрамлён в зелёную рамку небольшого парка, скрывающего здание от взоров людей и уличного шума.
В парке создана видимость дикой природы. Похрустывает прошлогодняя хвоя под ногами. Напротив входа в Управление гнутся к земле обременённые плодами ветви диких карликовых яблонь.
Генеральский шофёр Миша в ожидании хозяина переваливается с боку на бок в траве неподалеку от автомашины. Протянув кверху руку, он от скуки срывает маленькое ярко-красное яблочко.
«Товарищ майор, идите сюда — я Вам что-то покажу! — зовёт он меня, когда я прохожу мимо. — Смотрите вон туда! — он указывает пальцем в высокую крону дерева неподалеку. — Видите — около самого ствола сидит?»
Я стараюсь рассмотреть указываемый предмет, но не вижу ничего, кроме лучей солнца, пробивающихся сквозь ветви дерева.
«Сейчас увидите», — шепчет Миша.
Он осторожно поднимается на ноги, берет с земли небольшой камень и бросает его в тёмно-зелёную крону дерева. Из чащи листьев поднимается крупная птица, неторопливо помахивая крыльями, перелетает на соседнее дерево.
«Видали, товарищ майор? — качает головой Миша. — Не боится, чертяка. Видно не привык, чтобы в него камнями швыряли».
«А что это такое?» — спрашиваю я.
«Горлюшка. Дикий голубь, — говорит Миша. — Самая деликатная птица. Он, наверное, удивляется, когда в него камнем пуляют. У немцев порядок! Если в птицу камнем бросишь, сейчас тебя полицейский за шиворот. У себя дома они порядок соблюдать умеют…»
Потом, как будто вспомнив что-то интересное, он зовет меня с собой: «Пойдемте, товарищ майор. Я Вам ещё что-то покажу!»
Мы обходим здание кругом. Миша ведет меня к поросшему густым кустарником холмику неподалеку. Похрустывающая гравием дорожка между кустов.
Неожиданно тропа расширяется, образуя площадку. Ветви переплетаются над нашей столовой наподобие свода. Пробивающиеся сквозь листву лучи света создают своеобразную игру света и тени.
Обстановка напоминает католическую часовню в заброшенной лесной глуши. Между поросшими мхом камнями стекают струи воды. Струи собираются в крошечный ручеёк. Ручеёк покорно плещется и исчезает где-то в кустах.
Поинтересовавшись происхождением воды, я скоро нахожу водопроводный кран, замаскированный среди камней.
Весь этот холм сделан искусственно, но производит впечатление дикой игры природы, ласкающей душу тишины и покоя. Здесь чувствуешь себя вдалеке от земной суеты и печали.
В центре природного алтаря вырублена овальная ниша. Из глубины, склонив голову в тихой скорби за грешный мир, белеет фигура Мадонны с младенцем. На пьедестале статуи я разбираю полустёртую латинскую надпись.
Кто-то из тяжело больных, лежавших однажды в этом госпитале, в благодарность за своё исцеление оставил в назидание одним и утешение другим те чувства и мысли, которые владели им, когда он стоял на грани между жизнью и смертью.
Человек, отплативший госпиталю таким подарком, должен был обладать хорошим вкусом.
«Что это такое, товарищ майор? Молятся здесь немцы что ли?» — спрашивает Миша. Он говорит, понизив голос, как говорят в церкви или на кладбище.
«Да, молятся, — говорю я. — Когда смерть подходит, тогда все вспоминают о Боге».
Я объясняю ему значение надписи на статуе Мадонны.
«А знаете что, товарищ майор?! Как это Вам сказать. Не знаю почему, а вот приятно здесь. Приятно, что человек не забыл — добром за добро заплатил. Видно, у немцев тоже душа есть».
В это время Мишу зовут к автомашине и он торопливо убегает. Я же направляюсь к зданию Управления.
В здании Экономического Управления, начальником которого является генерал Шабалин, разместились входящие в него отделы — Отдел Промышленности, Отдел Торговли и Снабжения, Планово-экономический Отдел, Отдел Сельского Хозяйства, Транспортный Отдел, Отдел Науки и Техники.
Кроме того, в других зданиях неподалеку находятся Отдел Репараций под начальством генерала Зорина и Хозяйственный Отдел генерала Демидова.
Оба эти отдела тоже входят в Экономическое Управление и подчинены генералу Шабалину. Хозяйственный Отдел занимается только внутренними делами СВА по всей Германии.
Отдел Репараций, самый крупный из всех Отделов Экономического Управления, пользуется некоторой автономией и помимо генерала Шабалина поддерживает непосредственную связь с Москвой. Генерал Зорин — экономический генерал, занимавший до войны крупный хозяйственный пост в Москве.
Экономическое Управление Штаба СВА по сути дела является Министерством Экономики советской зоны Германии, высшим органом, который должен руководить всей экономической жизнью советской зоны. Поскольку военные действия окончены, основная работа падаёт теперь на долю экономического «освоения» Германии.
Когда смотришь на жёлтое здание Экономического Управления, мирно дремлющее в лучах летнего солнца, трудно представить себе те грандиозные задачи, которые стоят перед этим учреждением. Ведь мы должны на голову перевернуть экономику Германии, самую высокоразвитую экономику в Европе.
В день моего прибытия в Карлсхорст личный штат генерала Шабалина состоял всего из двух человек — адъютанта майора Кузнецова и начальника личной канцелярии Виноградова. Согласно штатного расписания, полагалось около пятидесяти человек.
В штатном расписании я был оформлен в должности эксперта по экономическим вопросам. Поскольку штат находился ещё в стадии организации, моя работа значительно отличалась от штатной должности.
Я сопровождал генерала во всех поездках в качестве адъютанта, а адъютант Кузнецов, хорошо знакомый с делами генерала, так как он служит с ним уже несколько лет, замещал его в Управлении.
Этим он был очень недоволен и ворчал: «Вы там с генералом катаетесь, да водку пьёте, а я за вас работай».
Несмотря на это, многие начальники отделов специально дожидались моментов, когда генерал находился в отъезде, и предпочитали решать свои дела с Кузнецовым. Его виза на проектах приказов достаточна для предоставления их на подпись маршалу Жукову.
Когда я однажды спросил у Кузнецова, что из себя представляет Виноградов, он коротко ответил: «Профсоюзник».
«Ну, а всё-таки?» — поинтересовался я.
«Профсоюзник и все. Ты что, не знаешь, что такое профсоюзник?» — покосился на меня Кузнецов.
Скоро я сам убедился, что такое «профсоюзник». Прежде всего, Виноградов гражданский. Он вечно бегает по коридорам с деловым видом, на ходу размахивая листками бумаги.
Когда я заглянул в эти листки, то они оказались списками людей, которым полагается специальная гражданская экипировка для работы в Контрольном Совете. На первом месте красовалась фамилия самого Виноградова, хотя делать ему в Контрольном Совете было нечего.
Приветствие у Виноградова было не такое как у обычных людей. Для простых смертных у него всегда наготове стахановское «Здорово!» с бодрящим взмахом руки, для меня и Кузнецова — «Привет! Что нового на горизонте?», для генерала подобострастное — «Здравия желаю!», хотя это приветствие положено только между военными.
Внешне Виноградов не человек, а вулкан. Но если присмотреться, то сразу видно, что вся кипучая деятельность «начальника личной канцелярии» концентрируется вокруг отрезов материи, пайков, спиртных напитков, квартир и тому подобного.
Все эти блага распределяются Виноградовым, исходя из соображений, какую взаимную выгоду может он извлечь из данного человека. «Профсоюзник» ведёт учёт кадров, общественную работу, партийную работу, хозяйственную работу и, кроме того, суёт свой нос во все дырки.
Не Виноградов, а Совнарком. Смертельно боится он только одного — какой-нибудь конкретной работы.
Виноградову уже за сорок лет. Однажды мне под руки попал его послужной список. Правильно определил Кузнецов — «профсоюзник» и только. Всю свою жизнь он что-то организовывал — то какие-то бригады, то артели, то энтузиазм, то стахановщину.
Образования — никакого, зато энергии, нахальства и самомнения — хоть отбавляй. В других странах такие люди обычно останавливаются на профессии коммивояжёра, импресарио или зазывалы в цирке.
В Советском Союзе они играют немалую роль в государственном аппарате, служа своего рода смазкой в громоздкой машине, поднимая свистопляску вокруг фиктивных понятий — профсоюзы, ударничество, соцсоревнование, энтузиазм.
Носится такой пустоголовый болтун, как собака, вокруг отары овец, и своим звонким лаем гонит стадо в нужном направлении.
Вскоре на должность начальника секретной части был принят капитан Быстров. Первые несколько дней после своего поступления к нам на службу Быстров спал на столе в помещении секретной части, укрываясь вместо одеяла шинелью.
Позже выяснилось, что спал он таким манером по приказу генерала. В секретной части не было сейфа и генерал во избежание козней международных шпионов заставлял капитана спать, положив под голову вместо подушки порученные его охране секретные документы.
К Виноградову капитан Быстров относился с нескрываемым пренебрежением, хотя тот был и выше его по должности.
Однажды вечером капитан встретил меня на улице.
«Пойдём, зайдем к Виноградову!» — предложил он мне.
«А что там у него делать?» — поинтересовался я, удивлённый необычайным предложением.
«Пойдём, пойдём… Посмеёмся! Такого и в театре не увидишь, — подмигнул капитан. — Ты его по ночам не встречал?»
«Нет».
«Он все ночи напролет по Карлсхорсту как шакал рыскает, барахло по пустым квартирам собирает. Вчера я его на заре поймал — тащит через двор какие-то тряпки, весь в пыли, в паутине. И всё себе на квартиру тащит. Теперь у него там музей».
Чтобы не обижать нового сослуживца отказом, я последовал за ним.
Виноградов приоткрыл нам дверь, поморщился и спросил Быстрова: «Ну — что ты здесь ещё не видал?»
«Открывай, открывай, — навалился Быстров плечом на дверь. — Похвались, что насобирал!»
«Куда тебя чёрт ломит», — запротестовал Виноградов. — Я уже спать собираюсь».
«Ты — и вдруг спать? — с явной издёвкой процедил Быстров. — Неужели уже весь Карлсхорст облазил?»
В конце концов, Виноградов пропустил нас внутрь. Квартира представляла собой любопытное зрелище. Скорее пакгауз, чем жилой дом. Мебели здесь было, по меньшей мере, на три квартиры.
Капитан оглядывается кругом в поисках того, что он здесь ещё не видел, затем подходит к запертому буфету: «А тут у тебя что?»
«Да ничего! Пусто», — с досадой говорит Виноградов.
«Ну-ка открывай!
«Говорят же тебе — пусто».
«Открывай, а то сам открою!» — Быстров нацеливается сапогом на полированную дверцу буфета.
Виноградов хорошо знает, что капитану ничего не стоит привести свои слова в исполнение. Он нехотя достает ключ и отпирает буфет. Внутри полно посуды. Посуда самая разнокалиберная, видно, собранная по пустым квартирам.
«Побить тебе сейчас все здесь? — предлагает капитан. — И тогда иди, жалуйся! А?»
«Что ты за сумасшедший человек? Такое добро — и бить? Иди лучше спать!» — пытается утихомирить Виноградов расходившегося гостя.
Я молча наблюдаю картину. Вот этот профсоюзный рупор громче всех трубит о культуре, о заботе о людях, о наших задачах. Он же — первый мародёр и шкурник, все помыслы которого ограничиваются рамками личной наживы. Этих людей воспитала и вызвала в жизнь советская система.
«Ну, показывай ещё свои богатства!» — требует Быстров.
«Какие там богатства, — жеманится Виноградов. — Вот, если хочешь, посмотри на люстру».
«Сколько ты ночей не спал, пока эту люстру выкопал?» — спрашивает капитан.
Затем он подходит к вешалке в передней и начинает рассматривать висящее на плечиках пальто с бархатным воротником, которое, судя по фасону, должно быть ровесником Бисмарка.
«А это что такое?» — дергает капитан музейное пальто за рукав.
«Тише, тише, — шипит Виноградов. — Не порви!»
«Э-э-э-х! Тоже мне!» — капитан изо всей силы дергает за рукав.
Рукав с треском отлетает от пальто. Капитан берется за бархатный воротник.
«Что ты делаешь?! — плаксивым голосом причитает Виноградов. — Я это хотел брату послать».
«Если у тебя брат такой же барахольщик, как ты, — продолжает свою разрушительную работу капитан и открывает воротник, — то ему такая дрянь не нужна».
«Да нет, он бедный».
«У нас бедных нет, — поучает Быстров. — У нас все богатые. Ты что — забыл? А ещё профсоюзник».
Капитан запускает руку внутрь стоящего в углу ящика и извлекает оттуда несколько синих картонных пакетов. Разорвав пакет, он разражается смехом. Не могу удержаться от смеха и я.
«А это тебе зачем? — сует капитан в нос Виноградову пучок розовых (менструальных) бинтов. — Про запас?»
Только после долгих уговоров мне удаётся увести расходившегося капитана из квартиры Виноградова.
Первые дни пребывания в Карлсхорсте у меня не было времени смотреть по сторонам. По мере того, как проходят недели я ближе знакомлюсь с окружающей обстановкой.
Карлсхорст из соображений бдительности живёт на полуосадном положении. Весь район густо оцеплен постами часовых. После девяти часов вечера движение по территории Карлсхорста запрещено даже для военных.
Кому необходимо, тот получает соответствующий ночной пароль, каждый вечер передаваемый из Штаба. Часто мне приходится задерживаться на службе вместе с генералом до двух-трех часов после полуночи. Когда мы возвращаемся домой, через каждые пятьдесят метров из темноты звучит голос невидимого часового: «Стой! Пароль?» Генерал живёт в маленьком коттедже напротив Главного Штаба. Здесь расположены квартиры большинства генералов СВА, оцепление здесь ещё строже, требуются особые пропуска.
Позже, когда мы освоились с порядками в Карлсхорсте, нам нередко приходилось смеяться одновременному сочетанию невероятной строгости и бдительности с такой же невероятной беспечностью и безалаберностью.
Спереди Штаб СВА, где помещается рабочий кабинет маршала Жукова, охраняется как полагается. Зато сзади начинаются песчаные пустыри, граничащие неподалёку с густым лесом. Здесь охраны нет никакой.
Человек, знакомый с порядками Карлсхорста, может привести под двери маршала безо всяких пропусков и паролей целую вражескую дивизию.
Майор Кузнецов и шофёр Миша разместились в соседнем домике рядом с генералом. Под одной крышей с генералом живёт вечно хмурый сержант Николай.
Исполняет он обязанности денщика, хотя денщиков в советской армии не существует. Кроме Николая, вместе с генералом живёт ещё Дуся, — двадцатипятилетняя девушка-репатриантка, бывшая остовка. Она исполняет обязанности горничной.
Однажды я спросил Дусю, как здесь им жилось при немцах. Она со странной сдержанностью ответила: «Конечно, плохо, товарищ майор». Она сказала это искренне, но в её словах звучало что-то недосказанное.
Без сомнения она, как и все остальные репатрианты, рада нашей победе, но есть что-то, что омрачает их радость.
Иногда по Карлсхорсту под охраной вооруженных солдат маршируют группы молодых парней. На них советская солдатская форма, но выкрашенная в чёрный цвет.
Это рабочие батальоны из бывших остовцев, которые выполняют здесь строительные работы. Вид у них безрадостный. Они знают, что по возвращении в Советский Союз их не ожидаёт ничего хорошего.
Если не считать Тресков-аллее, где проходит трамвай, и нескольких крупных зданий, занимаемых различными отделами Штаба СВА, Карлсхорст в основном состоит из маленьких домиков — коттеджей, утопающих в зелени деревьев за решётчатыми оградами. Здесь жил преимущественно средний класс немецкого населения.
Внешне дома просты и безыскусны — гладкие бетонные кубики под красными черепичными шапками. Зато внутренне устройство, удобства жизни, то, что можно назвать комфортом, все это далеко превосходит то, к чему привыкли советские люди.
В Карлсхорсте нас повсюду преследует ощущение непривычной новизны всех предметов. Двери часто носят следы штыков и прикладов, но ручки не болтаются, замки исправно запираются, петли не скрипят. Даже ступени и перила лестниц блистают такой свежей краской, как будто их заново выкрасили к нашему приходу.
Неудивительно, что немецкие дома бросаются нам в глаза своей кажущейся новизной. Ведь многие дома в СССР не ремонтировались ни разу с 1917 года.
Мои первые дни в Карлсхорсте я провел в гостинице для приезжающих СВА. Затем, ознакомившись с обстановкой, я просто зашел в пустой домик, спрятавшийся среди зелени деревьев и цветущих кустов.
Внутри домика всё было в таком виде, как его оставили хозяева. Виноградов здесь, по-видимому, ещё не побывал. Здесь я и поселился.
Глава 6 Будни оккупации
1
«Идите вниз и ждите меня в машине», — говорит генерал, когда я являюсь по его вызову. Кивком головы он даёт понять, что больше приказаний не будет.
У генерала манера никогда не говорить, куда мы едем. С одинаковым успехом мы можем поехать в Контрольный Совет или на аэродром, а оттуда в Москву или в Париж. То ли он считает, что подчинённые должны налету угадывать его мысли, то ли по примеру более великих людей засекречивает свою трассу во избежание покушений.
Это не мешает ему позже рычать на своих спутников, почему они не подготовились к поездке, не собрали необходимые материалы, и, вообще, зачем они с ним едут.
До войны генерал Шабалин был первым Секретарем Обкома ВКП(б) по Свердловской Области. Во время войны он был членом Военного Совета и Командующим Тыла Волховского Фронта — глаза и уши Партии в армейском аппарате.
Такие партийные генералы никогда не участвуют в планировании или выполнении непосредственных боевых операций, но без их подписи ни один приказ не является правомочным.
В машине уже сидит майор Кузнецов.
«Куда мы едем?» — спрашиваю я.
«Куда-нибудь», — отвечает адъютант беспечно. Он уже привык к манерам генерала и не ломает себе голову над целью поездки.
Выехав на автостраду, наш «Адмирал» берёт курс на Дрезден. Спидометр поднимается до девяноста километров, но ощущение скорости теряется в бетоне автострады. Как это ни странно, но автострады Германии не сразу получили признание со стороны русских.
По каким-то причинам мы избегали пользоваться ими в первые месяцы после капитуляции. Позже можно было слышать об автострадах следующие слова: «Это лучший памятник, который Гитлер оставил после себя».
В Дрездене наш «Адмирал» останавливается около отеля «Белый Олень», вокруг которого раскинулось целое море автомашин с красными флажками на радиаторах. Кругом сильная вооружённая охрана с автоматами.
На ступеньках здания стоит группа генералов. Среди них выделяется дважды Герой Советского Союза генерал-полковник танковых войск Богданов — военный губернатор Федеральной Земли Саксония.
Сегодня сюда созваны все военные коменданты Саксонии для отчета перед Командованием СВА в Дрездене и Берлине. В СВА поступила масса жалоб и обвинительного материала о работе местных комендатур.
После капитуляции коменданты не получали никаких инструкций и проводили такую политику, какая кому в голову приходила. Большинство из них — малограмотные офицеры, поднявшиеся на поверхность за годы войны и абсолютно не соответствующие задачам оккупационной политики мирного времени.
Пока конференция ещё не началась, генерал Шабалин удаляется вместе с генералом Богдановым, предварительно шепнув что-то на ухо адъютанту. Майор Кузнецов тянет меня с собой: «Пойдём выбирать машину»
«Какую машину?» — удивлённо спрашиваю я.
«Для генерала, — коротко отвечает тот. — Сейчас увидишь, как это делается. Пойдём!»
С видом праздных автолюбителей мы проходим между рядами автомашин, на которых коменданты саксонских городов приехали на совещание.
Заполучив в свои руки город и став его полновластным хозяином, комендант первым делом реквизировал для себя лучшую в городе автомашину.
Теперь перед нашими глазами выставка наилучших моделей германской автопромышленности, начиная от немного консервативных «Майбахов» и кончая последними новинками «Мерседес-Бенца». Хозяева автомашин были уже в «Белом Олене». В машинах сидели только шофёры-солдаты.
Майор Кузнецов неторопливо рассматривает автомашины. Он постукивает носком сапога по шинам; нажимая на задок, пробует мягкость рессор; даже заглядывает на счётчик километров, чтобы удостовериться, сколько километров данная машина уже пробежала. Наконец майор останавливает свой выбор на открытом «Хорьхе».
«Чья это машина?» — обращается он к солдату, развалившемуся за рулем.
«Подполковника Захарова», — отвечает солдат таким тоном, как будто это имя должно быть известно всему миру. Он не затрудняется поприветствовать нас — шофёры быстро перенимают привычки своих хозяев.
«Неплохая машинка», — констатирует Кузнецов. Он проводит пальцем по кнопкам управления, ещё раз окидывает взглядом машину и говорит: «Скажи своему подполковнику, чтобы он отослал эту машину в Карлсхорст для генерала Шабалина».
Солдат смотрит искоса на майора. В его глазах видна досада — подполковник посадил его охранять машину, а её хотят утащить среди бела дня. Но солдат не удивляется, а только с некоторым сомнением спрашивает: «А кто такой генерал Шабалин?»
«После конференции твой подполковник будет хорошо знать, кто он такой, — отвечает майор. — А ты доложи подполковнику чтобы он наложил на тебя взыскание за неотдачу приветствия адъютанту генерала Шабалина».
Всякого рода трофеи распределяются строго по чинам и должностям: для солдат — часы и прочие побрякушки, для младших офицеров — аккордеоны, для старших офицеров…
Классификация сложная, но очень строго соблюдаемая. Если какому-либо лейтенанту судьба сыграла в руки двустволку «три кольца» да ещё «с короной», то это для лейтенанта наперед проигранное дело.
Не мытьём, так катаньем, а всё равно двустволка попадет в чемодан к майору. Да и у майора недолго задержится, если он не сумеет её хорошо запрятать. В особенности строго этот порядок владения трофеями распространяется на автомашины. Машину не так легко запрятать — в чемодан не влезет.
Исходя из этого, шофёр подполковника не удивляется, а только осведомляется, кто такой генерал Шабалин — соответствует ли приказ «регламенту» или нет.
Коменданты Саксонии, в ослеплении своей властью на местах допустили тактическую ошибку, показав на глаза старшему начальству такое обилие соблазнительных автомашин.
За такую неосторожность они поплатились половиной автомашин, которые парковались перед «Белым Оленем» и имели несчастье понравиться генералам. Когда, спустя несколько месяцев, была созвана вторая подобная конференция, многие коменданты, памятуя прошлый урок, съехались к «Белому Оленю» чуть ли не на телегах.
Конечно, они снова обзавелись хорошими автомашинами, но на этот раз благоразумно оставили их дома.
Вскоре в конференц-зале отеля начинается совещание. На совещание приглашено около трёхсот человек офицеров. Присутствуют только коменданты в чине майора и выше. В зале также несколько генералов — коменданты Дрездена, Лейпцига и других крупных городов Саксонии. Они тоже приглашены для обмена опытом и сидят довольно смирно на своих стульях.
В президиуме за столом, покрытым красным сукном, расположилось командование СВА. В центре президиума — генерал Шабалин, как представитель высшей власти из Карлсхорста. Комендантам не долго приходится ждать.
Генерал Богданов открывает совещание и объявляет, что до ушей СВА дошли факты некоторых искривлений и искажений в работе местных комендатур. Он предлагает присутствующим поделиться «своим опытом» и подвергнуть беспощадной критике недостатки в работе комендатур.
При этом он даёт понять, что СВА известно гораздо больше чем многие предполагают; будет лучше, если присутствующие сами вскроют имеющиеся язвы, не дожидаясь вмешательства СВА. Иными словами — если кто чувствует за собой грешок, то пусть постарается вскрыть побольше грехов у своего соседа и замазать этим свои собственные.
Первым с места поднимается подполковник.
«Конечно, в работе военных комендатур есть некоторые недочёты, которые нужно отнести главным образом за счёт отсутствия контроля сверху, — говорит он. — Военные комендатуры предоставлены сами себе и это ведет к…»
Взявший на себя миссию самобичевания подполковник начинает свое выступление довольно неуверенно. Он окидывает взором ряды своих коллег, как бы ища от них поддержки. Те потупили глаза и внимательно изучают носки собственных сапог. Генерал Богданов выжидательно играет карандашом по красному сукну.
«Многие военные коменданты забыли свои обязанности, некоторые из них морально разложились и обуржуазились. Моральная чистота советского офицера для этих людей стала… э-э-э». Подполковник чувствует, что залез слишком далеко в область высокой морали и решает перейти ближе к делу: «Возьмём к примеру майора… майора, который начальником комендатуры в городе Н».
Генерал Богданов перебивает: «Можно без псевдонимов. Тут все люди свои».
«Ну, значит, возьмём к примеру майора Астафьева, — поправляется подполковник. — После того, как он был назначен комендантом в Н., человек явно разложился. Недалеко от города находится княжеский замок, где жили разные бароны. Теперь майор Астафьев устроил там свою резиденцию. Живёт он там так, как царские бояре да дворяне не живали. Надо сказать — не жизнь, а малина».
В словах подполковника проскальзывает налет зависти. Видимо, он не раз пировал в сказочном замке со своим коллегой Астафьевым, но потом они что-то не поделили и подполковник решил вспомнить о морали.
Я смотрю по залу в надежде обнаружить майора с дворянскими наклонностями. К моему удивлению почти все майоры, присутствующие в зале, опустили свои глаза с подозрительной стыдливостью.
«Ну, так вот, — майор Астафьев явно разложился. Он держит в замке больше прислуги, чем покойный граф. Каждое утро, когда майор Астафьев изволят продрать глаза, то не помнят, где они находятся. Пока не выглушат полведра огуречного рассола. Это, чтобы опохмелиться после ночной пьянки. Потом майор Астафьев, как подлинный барин, вытягивает свои ножки. Одна немка одевает чулок на левую ногу, другая — на правую. Третья держит наготове шёлковый халат. Штаны он тоже без посторонней помощи надеть не в состоянии».
В зале заметное оживление и смех. Образ жизни бравого майора явно импонирует слушателям.
«Но это только цветочки, а ягодки ещё впереди, — восклицает оратор. — Сожительство с немками возведено у майора Астафьева в систему. Он имеет специальную команду, которая только тем и занимается, что ловит для него женщин по всему району. Пойманных держат несколько дней в погребе комендатуры, после чего они попадают в постель майора».
Я замечаю неподалеку одного майора, который, закусив язык, старательно пишет что-то на разбросанных перед ним листках бумаги. По-видимому, это и есть майор Астафьев. Конечно, он пишет не оправдательный материал, а обвинительный. Только уже по адресу подполковника.
«Часто дело доходит до явного самодурства, — продолжает подполковник. — Недавно коменданту Астафьеву после очередной пьянки захотелось ухи. Недолго думая, он приказал открыть шлюзы искусственного пруда около замка и наловить ему таким образом рыбы. Пара рыбёшек попала майору на уху, а несколько сот центнеров рыбы погибло. Разве это не возмутительные факты, товарищи офицеры?».
Его слова вызывают в зале скорее весёлость, чем возмущение. Каждый вспоминает подобные случаи из собственной практики и делится впечатлениями с соседом.
«Случай майора Астафьева, — заканчивает подполковник, — интересен для нас тем, что это показательное явление. Во многих комендатурах мы имеем положение, немногим отличающееся от случая майора Астафьева. Дальше такое положение вещей не может быть терпимо. Наша задача здесь — вскрыть и заклеймить подобные позорные явления, призвать к порядку распоясавшихся самодуров, напомнить им о существовании пролетарской законности».
На лицах присутствующих весёлое оживление сменяется целомудренным молчанием, глаза снова начинают изучать носки собственных сапог. Дело принимает неприятный оборот, когда речь заходит об ответственности. Теперь война окончена и коменданты по опыту знают советские законы.
Советское правосудие, исходя из догмы психологического воспитания коллектива, часто применяет практику «козлов отпущения», на которых искупаются все грехи коллектива и где закон применяется с усиленной строгостью для острастки других.
Советские законы смотрят на мелкие нарушения сквозь пальцы. Не тянуть же человека под суд из-за каждого выбитого зуба или разбитого стекла — есть более важные дела, например, дать человеку десять лет за сбор социалистических колосков в поле или пять лет за кусок украденного на фабрике социалистического сахара.
Зубы и стекла — это пока частная собственность и социалистическим законом они не охраняются. Чувство законности теряется.
Когда этот процесс принимает угрожающие размеры, то начинаются поиски козлов отпущения. Попасть в такие «козлы» — это очень неприятная вещь. Можно безнаказанно творить многое, а потом поплатиться головой буквально за пустяк.
Если только командование СВА под предлогом невинной самокритики уже решило провести соответствующие оздоровительные мероприятия — то дело плохо. Значит скоро запахнет жареным — несколько комендантов попадут под Военный Трибунал. На кого падет жребий? Атмосфера в зале делается напряжённой, чувствуется нервозность.
Расчёт генерала Богданова оказался правильным. После вступительной речи подполковника, которая вполне возможно была вызвана предварительным собеседованием в СВА, начинается ожесточённое бичевание. Коменданты усердно поливают грязью друг друга, а секретари стенографируют всё сказанное.
Очередь доходит до генералов — комендантов Дрездена и Лейпцига. Картина интересная. Не часто увидишь генерала, стоящего с видом школьника посреди обширной аудитории и отчитывающегося в своих грехах.
Иногда генерал-комендант вспоминает о своих генеральских погонах и пытается оправдываться. Тогда голос из президиума насмешливо подстегивает: «Не стесняйтесь, генерал. Здесь все свои люди» Психология массы, воспитанной в повиновении. Если сверху приказание каяться, то каются все. У кого нет грехов в прошлом, тот кается в грехах будущих. Коменданты хором вскрывают свои «недочеты» и клянутся в дальнейшем быть пай-мальчиками и слушаться папы. Папа в Кремле всегда прав.
Из зала поднимается фигура и обращается к президиуму: «Разрешите вопрос, товарищ генерал? Это несколько не относится к теме, но я хотел бы посоветоваться».
«Ну, давайте что у Вас на сердце», — дружелюбно поощряет генерал Богданов. Наверное, очередное покаяние, а покаяния генерал слушает охотно.
«Моя комендатура расположена у самой чешской границы», — начинает комендант. — Каждый день мне гонят через границу толпы голых людей. Я их пока сажу в подвал. Нельзя же, чтобы они в таком виде по улицам бегали, а одеть мне их не во что».
В зале слышится смех. Генерал Богданов спрашивает: «Как это так — голых?».
«Очень просто, — отвечает незадачливый комендант. — Абсолютно голых. В чем мать родила. Даже смотреть стыдно».
«Ничего не пойму, — переглядывается генерал с другими членами президиума. — Объясните подробней. Откуда эти голые люди?».
Комендант объясняет: «Немцы из Чехословакии. Их чехи раздевают на границе догола, а потом гонят в таком виде ко мне через границу. Говорят: „Вы сюда голые пришли, голые и возвращайтесь“. Судетские немцы. Их по Потсдамскому Договору переселяют в Германию. Для чехов это шутка, а для меня — проблема. Во что я должен одевать этих людей, когда мои собственные солдаты не имеют обмундирования?»
Другой комендант спрашивает: «У меня в городе банк. Вместе с директором банка я осмотрел частные сейфы в подвалах. Полно золотых вещей, бриллиантов — целые горы ценностей. Я приказал пока опечатать все. Что с этим делать дальше?»
Третьему доставляет беспокойство немецкая танковая дивизия, расквартировавшаяся во дворе комендатуры.
Характерно — никто из комендантов не жалуется, что у него возникли какие-либо трудности с немцами. Ни диверсий, ни беспорядков. Гораздо больше хлопот со своими собственными людьми.
«Оккупационный аппарат должен быть на высоте задач оккупационной политики. Нужно свято беречь престиж нашей армии и нашего государства в глазах оккупированной страны. Комендатуры — это первое звено нашего контакта с германским населением», — обращается генерал Богданов к присутствующим.
«И в этом показном лице нашего государства собраны все отбросы армии. Пока мало считаются с общественным мнением побежденной страны, но потом это даст себя почувствовать», — думаю я в ответ словам генерала.
После окончания совещания для участников устраивается банкет. Майор Кузнецов, я и ещё один офицер из дрезденского СВА занимаем столик в оконной нише.
Когда-то отель «Белый Олень» был излюбленным местом для курортных гостей и иностранных туристов. Из окна видна подернутая лёгким туманом Эльба, разрезающая Дрезден на две части. «Белый Олень» лежит на высоте птичьего полёта.
Отсюда мало заметны разрушения, нанесенные городу войной. Панорама у наших ног дышит покоем и древней культурой. Дрезден красив, несмотря на то, что половина его лежит в развалинах.
В нём много подлинного благородства другой Германии, о которой мы сегодня забываем под свежими впечатлениями последних лет. Бесстрастные кельнеры с физиономиями университетских профессоров бесшумно скользят по залу.
Мальчуганы в белых жилетах лавируют между столами, деловито размахивая салфетками и повинуясь безмолвным взглядам величественного обера. В своих детских грёзах они, наверно, мечтают когда-нибудь стать на его место, с гордостью носить чёрный фрак и командовать залом.
Профессия кельнера возведена в Европе на высоту искусства. В Советском Союзе это считается презренной для мужчины профессией. Забавный контраст: в пролетарском государстве профессия пролетария стала презренным занятием.
А без кельнеров не обойтись даже и при коммунизме. Разница только та, что поскольку у нас это считается собачьим занятием, то советские кельнера и ведут себя как собаки.
Наши уши ласкает знакомая мелодия. «Синий платочек»! Я любил слушать эту простую песенку с московских эстрад, на аккордеоне в руках солдата, в безыскусном исполнении девушек в серых шинелях. Сегодня она звучит символично в исполнении немецкой капеллы.
Майор Кузнецов окидывает зал взглядом и говорит: «Уютная обстановка. Если бы ещё всех гостей к черту повыбрасывать — совсем хорошо было бы».
Коменданты, наполняющие зал, несколько оправились после неприятной конференции. Они стараются утешить себя воспоминаниями о боевых подвигах во время войны. Этому помогает неограниченное количество веселящих напитков на столах. Зал наполняется нескладным шумом.
Наш третий спутник, кося глазами по залу, говорит: «То же самое мне часто приходило в голову, когда я бывал в московском метро. Метро замечательное, а публика не гармонирует, всё впечатление портит. Кругом мрамор, а посредине рвань».
Я спрашиваю у майора Кузнецова, который благодаря своей должности адъютанта хорошо знаком с порядками в армии: «Как ты думаешь — что будет майору Астафьеву и другим, кого разбирали на конференции?»
Майор Кузнецов улыбается: «Ничего. Самое большое — переведут в другую комендатуру. Профессиональные подлецы тоже необходимы. К тому же все эти скоты искренне преданы партии. А преданным людям многое прощается. Они так же необходимы партии, как и партия им. Взаимозависимый комплекс».
Меня удивляет, что майор и его старый знакомый разговаривают так свободно на щекотливые темы. Это своеобразная атмосфера в стране и в армии после окончания войны. Люди почувствовали, что они завоевали себе свободу, что они победители, и это чувство распространялось далеко. Этому способствует также новизна контрастов при столкновении с Западом.
На время нашего пребывания в Дрездене генерал Шабалин остановился в вилле, занимаемой генералом Дубровским — Начальником Экономического Отдела СВА в Саксонии. Раньше эта вилла принадлежала крупному немецкому коммерсанту. Позади виллы чудесный сад.
Вернувшись с совещания в «Белом Олене», майор Кузнецов и я вышли погулять в этот сад. Вскоре за нами прибежал генеральский шофёр Миша и сообщил, что генерал требует нас в Штаб Дрезденского СВА в кабинет генерала Дубровского.
Через пять минут мы были на месте.
В кабинете генерала Дубровского теперь заседание несколько иного рода. По одну сторону стола генерал Шабалин, рядом с ним генерал Дубровский. По другую сторону стола немецкие отцы города, ландрат Саксонии и бюргермайстер Дрездена. Немец-бюргермайстер говорит на чистейшем русском языке. Не так давно он был подполковником в Красной Армии.
Обсуждаются экономические задачи Саксонии в свете оккупационного режима. Дело идёт исключительно гладко. Бюргермайстер является не только послушным исполнителем, но и ценным консультантом по местным вопросам. Не мы приказываем и требуем что-то. Нет. Бюргермайстер рекомендует нам целесообразные мероприятия и предлагает их на утверждение.
Только один единственный раз в бюргермайстере проскользнула тень его немецкого происхождения. Когда обсуждался вопрос об острой нехватке крепёжного леса для шахт, генерал Шабалин, не долго думая, предложил: «Но ведь крутом масса лесов, — рубите их».
Подполковник-бюргермайстер в ужасе всплеснул руками: «Если мы вырубим эти леса, то через пять лет наша цветущая Саксония превратится в пустыню».
Приняли компромиссное решение: изыскивать другие источники, а пока рубить местные леса.
Ландрат существует для вывески — мягкотелое существо какой-то демократической партии, готов подписать любую бумажку. За его спиной работает наш человек, ещё вчера носивший советские погоны, а сегодня — стопроцентный немец и бюргермайстер.
Он из кожи вон лезет, чтобы изыскать побольше репараций. Классово-чуждый элемент изъят в одну ночь, остальные оглушены страхом, а свои люди работают под маской новой демократии.
Массами нужно умело руководить сверху. Психология масс — это точная наука, в деталях разработанная Кремлём. Человек — это общественное животное.
Условия современного общества делают человека гораздо более зависимым от стада, чем всех его четвероногих предков. Здесь запросто в лес не убежишь. Пастух в Кремле знает своё дело.
Эти мысли невольно приходят в голову, когда наблюдаешь происходящее в кабинете генерала Дубровского. Я смотрю на немецких представителей «новой демократии», затем оглядываюсь кругом и рассматриваю обстановку зала, где мы находимся.
Штат СВА Саксонии расположился в бывшем дворце саксонских королей. С высоких, выложенных дубовыми панелями, стен на нас взирают потемневшие портреты в средневековых костюмах.
Обитатель золотой рамы, опершись на шпагу, холодно смотрит над головами людей с золотыми погонами на плечах. Эти хоть победители. Но то существо в сером гражданском костюме с немецким именем! Что думал благородный король о своих усердных потомках? Мельчают людишки… Не правда ли, Ваше Величество?
На прощание я пожимаю руку подполковника-бюргермайстера. Из вежливости я даже говорю с ним по-немецки. Чтобы он не слишком чувствовал себя холуём. Иногда полезно создать у слуги впечатление, что он самостоятельный.
На другой день мы едем в Галле, столицу Провинции Саксония. Здесь Шабалин встречает своего старого приятеля генерала Котикова, Начальника Экономического Управления СВА в Провинции Саксония.[3]
Позже генерал Котиков получил широкую известность в должности советского коменданта Берлина, союзники, наверно, долго будут помнить его имя. Внешне генерал Котиков очень симпатичный человек и добросольный хозяин.
В Галле мы присутствуем на аналогичных совещаниях, что и в Дрездене. Сначала интермеццо с комендантами — картина та же, что и в Федеральной Земле. Затем генерал Шабалин проверяет работу «новой демократии».
Местный немецкий вождь прожил около пятнадцати лет в Москве по улице Покровского, почти мой сосед. Он проявляет в своей деятельности ещё больше усердия, чем его коллега в Дрездене. Генералу Шабалину приходится умерять его пыл, когда тот представляет длиннейший список предприятий, намеченных для социализации.
«Не так скоро, — говорит Шабалин. — Учитывайте особенности германской экономики и переходного периода. Передайте Ваши предложения на рассмотрение генералу Котикову».
На обратном пути в Берлин у нас происходит непредвиденная задержка. Где-то около Лютерштадта у нас с треском лопается задняя шина. У шофёра — ни запасного колеса, ни камеры, ни даже резинового клея. Генерал яростно ругается — он во что бы то ни стало хочет попасть в Берлин до наступления темноты. По-видимому, он не слишком полагается на работу комендатур.
Мы с Кузнецовым переглядываемся, — доставать колесо придётся нам, так как шофёр Миша от страха потерял всю свою изобретательность, которой славятся советские шофёры. Выход один — организовать колесо у какой-либо проезжающей автомашины. Это сегодня обычное явление на дорогах Германии.
По всем правилам военного искусства мы блокируем дорогу, задерживаем все проезжающие автомашины и подвергаем их осмотру. Ни одно колесо не подходит к нашему «Адмиралу». К удивлению задержанных, мы без помех отпускаем их дальше.
В душе они, наверное, уже распрощались со всеми своими чемоданами. Контроль довольно высокий — сам генерал стоит рядом с нами, сверкая лампасами и прочими знаками генеральского достоинства.
Через некоторое время мы замечаем двигающуюся по шоссе странную автоколонну. Несколько крытых грузовиков, размалёванных во все цвета радуги, пёстрые афиши, пахнет жареным луком и богемой.
Оказывается — бродячий цирк, цыгане XX века. Не хватает только черномазой Кармен для полноты эффекта. Живописный кортеж замыкает военный американский джип, за рулем которого сидит американский капитан.
Я оглядываюсь кругом в поисках командующего этим парадом и соображаю на каком языке здесь следует объясняться. В этот момент из джипа выскакивает недостающая Кармен и обращается к нам на звучном диалекте трущоб Веддинга.[4]
Мы с майором Кузнецовым на момент даже забываем, зачем мы остановили все эти автомобили. Фиалка Веддинга была действительно чертовски хороша. Недаром американский капитан пустился сопровождать свою даму сердца в опасный путь по дорогам советской зоны. Ради такой женщины забудешь все предписания и Эйзенхауэра и Жукова вместе взятых.
С трудом оторвавшись от заманчивой картины, мы начинаем осматривать колеса у автомашин, попутно консультируясь по техническим вопросам с Мишей. Наконец очередь доходит и до американского джипа.
«Как насчёт джиповских колес?» — спрашивает Кузнецов у Миши.
«Дырки сходятся. Немного хромать будем, но до дома доедем», — отвечает тот.
Итак, вопрос решён. Сейчас мы получим дополнительные поставки по ленд-лизу. К тому же у джипа сзади торчит пятое колесо. Излишняя роскошь.
Я объясняю Кармен наше бедственное положение и показываю пальцем на пятое колесо джипа. Генерал вспоминает Потсдамский договор и психологию запугивания: «Спросите у американца имеет ли он пропуск по советской зоне. Почему он здесь катается?» Но таланты и поклонники и без этой меры психологического воздействия с радостью готовы откупиться столь дешёвой ценой как одно колесо, за нарушение Потсдамского Договора и проезд по чужой территории.
Я записываю берлинский адрес капитана с целью по приезде вернуть объект экспроприации его владельцу. Позже я несколько раз приказывал Мише отвезти колесо по этому адресу.
Откровенно говоря, я опасаюсь, что колесо обернулось бутылкой водки и бесследно исчезло в желудке Миши. Если американскому капитану придётся читать эти строки, то я ещё раз выражаю ему мою благодарность и сожаление по поводу происшедшего.
Уже в сумерках мы подъезжаем к Берлину. Генерал неожиданно проявляет беспокойство и приказывает Мише: «Ни в коем случае не ехать через американский сектор. Ищи дорогу через Рудов».
Легко сказать, но не легко найти этот Рудов. В одном месте взорваны мосты, в другом закрыты дороги. Куда мы ни сунемся — все дороги ведут через американский сектор. Генерал чертыхается и проявляет поразительное нежелание ехать по американской земле.
В конце концов, мы всё-таки попадаем в американский сектор. Генерал категорически отказывается ехать обычной трассой через Потсдамерштрассе и приказывает Мише пробираться по южной окраине города, пока мы не попадем в советский сектор. Миша только качает головой. Летом 1945 года проехать по Берлину ночью, да ещё по неизвестным окраинам, было трудной задачей.
Генерал играет комедию. Ведь не может же он всерьёз опасаться какой-либо диверсии или покушения. Взаимный проезд союзников по Берлину не запрещён. Никаких секретных документов у нас с собой нет. Ясно — генерал даже здесь разыгрывает идеологический блеф.
Наша машина, как огромный жук, медленно ползёт по запутанным переулкам. Иногда свет фар выхватывает из темноты фигуру американского часового. Все посты двойные. Часовой недовольно щурится на яркий свет, его подруга после первого испуга начинает улыбаться.
Конечно, потревоженные пары не полагают, что из темноты на них смотрят глаза советского генерала. Генерал ворчит — для него это явное доказательство морального разложения американской армии.
После продолжительных блужданий среди развалин и огородов берлинских окраин наши фары освещают желтую стрелку с надписью «Карлсхорст».
Хорошо снова чувствовать себя в родном гнезде после путешествий по враждебной и незнакомой стране. Приятно уезжать куда-нибудь, но ещё приятней возвращаться домой.
2
С 17 июля по 2 августа неподалеку от Берлина в Потсдаме происходила первая послевоенная встреча Большой Тройки, впоследствии вошедшая в историю как Потсдамская Конференция.
Если Крымская Конференция решала проблемы окончания войны и устройства послевоенного мира в общих чертах, то Потсдамская Конференция занималась этими же вопросами в деталях.
Германия безоговорочно капитулировала и теперь было необходимо окончательно согласовать и уточнить политику держав-победительниц в отношении Германии, методику её проведения, координацию работы оккупационных учреждений.
В ходе Конференции бросалась в глаза разница в поведении советской стороны и западных союзников. Западные демократии делали упор в основном на выработку политики, которая в будущем предотвращала бы возможность возрождения германского милитаризма, возможность новой германской агрессии.
Этого стремились достигнуть, с одной стороны, путем уничтожения и дальнейшего ограничения военно-промышленного потенциала, с другой стороны, путем демократического перевоспитания Германии.
Когда вопрос касался будущего Германии в общих чертах, то советская сторона рассыпалась в цветистых фразах о демократии. Зато, когда дело переходило к деталям, советские представители молча пили воду из графинов и курили папиросы.
Создавалось впечатление, что точного плана в этом вопросе у Советов не было. Так, во всяком случае, должно было казаться представителям Запада. Хотя Советы обычно приходят на конференции с исключительно хорошо подготовленными планами, на этот раз они вели себя до странности сдержанно.
Мало кто из западных политиков в то время предполагал, что Кремль имеет очень хорошо продуманный план советской политики в Германии. Но пока этот план не стоило класть на стол конференции. Он стал ясен позже из действий советских оккупационных властей. Сталин не забыл слов: «Германия — это ключ к Европе».
В вопросах далёкого будущего Германии Кремль проявлял на Потсдамской Конференции значительную уступчивость и в основном соглашался с политикой западных союзников.
Зато тем больший интерес, активность и необычайное упорство показала советская сторона в вопросах ближайшего будущего — в вопросе взимания с Германии и в территориальных претензиях на восточных границах Германии.
Ларчик открывался просто. Слишком просто, чтобы западные политики могли понять столь несложную механику. Будущее — это ни к чему не обязывающие обещания. А пока ценою этих обещаний нужно постараться выторговать у Запада побольше репараций и уступок.
Западные демократии, успокоенные сравнительной уступчивостью или кажущейся незаинтересованностью Кремля в пункте принципиальной политики, со своей стороны пошли на уступки в обширных репарационных и территориальных претензиях Кремля, которые автоматически ставили Германию в зависимость от Советского Союза. Западные союзники сами передали в руки Сталину вожжи, которыми он будет править Германией.
Они рассматривали это как искупительную жертву, которая должна удовлетворить экономические интересы Кремля и сделать его более сговорчивым в вопросах устройства послевоенного мира и взаимного сотрудничества. Они смотрели на проблему с идеалистической точки зрения.
Кремль же всегда стоит на материалистической платформе. Сначала заполучить материальную базу, а затем, опираясь на эту базу, строить дальнейшую политику, исходя уже не из устаревших обязательств, а из реальных возможностей.
Дав Кремлю огромную материальную базу в Германии в обмен на туманные политические гарантии, Запад сделал серьёзную ошибку. Гарантии будут соблюдаться лишь до того момента, пока эта видимость будет необходима Кремлю.
Думая о личном составе Большой Тройки на Потсдамской Конференции, невольно ощущаешь некоторую простоту. Нет хорошо знакомого нам имени, — Президент Рузвельт.
Рузвельт не дожил буквально нескольких дней до победы, которой он отдал столько сил и энергии. В этом есть, может быть, одна утешительная сторона — ему не пришлось увидеть собственными глазами крушение тех иллюзий, на которых он строил свои планы послевоенного мира.
Он был подлинно великий человек, добрый старик и кристально-чистый идеалист. Трудно ему было понять «доброго парня Джо».
В дни Потсдамской Конференции Сталин вместе с чинами делегаций западных союзников предпринял поездку в автомобилях по Берлину.
Одним из результатов этой поездки явилось приказание экспертам Военно-Воздушного Отдела СВА предоставить личный доклад Сталину о подробностях воздушных рейдов союзников на Берлин. Руины Берлина говорят гораздо больше, чем газетные сводки и цифры тоннажа сброшенных бомб.
Проезжая по Берлину и глядя на бескрайнее каменное кладбище домов, получаешь впечатление, что по огромному городу били сверху столь же огромным молотом. Сравнивая следы авиационных налетов германской авиации на Москву и Ленинград с картиной Берлина после налетов USAF и RAF, можно призадуматься.
Эта картина произвела на Сталина большее впечатление, чем доклады его военных советников во время войны, и определённо больше подействовала на его миролюбие, чем все убеждения и уговоры Рузвельта. Недаром он потребовал специальный доклад на эту тему.
Пока Большая Тройка договаривалась на Потсдамской Конференции, СВА продолжало свою работу. Одним из первых мероприятий СВА, которое существенно влияло на внутреннюю структуру германской экономики, явился Приказ маршала Жукова № 24.
Здесь речь шла о конфискации недвижимого имущества национал-социалистов и затем, как будто попутно, давались указания для подготовки национализации средств производства и указания по выработке проекта земельной реформы.
Так называемая земельная реформа доставила генералу Шабалину немало хлопот. Немецкие власти на местах ещё не привыкли к советским методам руководства и не умели читать между строк. В Приказе № 24 не содержалось точных цифр. Приказ пестрил демократическими фразами и давал полномочия новым немецким властям.
Немецкий «народ» в лице своих «лучших представителей» сам должен был выработать проект реформы и представить его на рассмотрение и утверждение СВА. Проект должен был составляться ландратами отдельных провинций, применительно к условиям каждой провинции.
Параллельно с Приказом № 24 генерал Шабалин получил секретную инструкцию к этому приказу, где уже совершенно точно указывалось, как должны выглядеть все реформы, выработка которых фиктивно передавалась в руки немецких самоуправлений.
Мне несколько раз приходилось наблюдать процедуру создания земельной реформы в кабинете Шабалина.
К подъезду Экономического Управления подкатывает солидный «Майбах», разукрашенный ярмарочными флажками с изображением петухов или козлов. Из глубины огромного кузова нерешительно ступает на землю бесцветная фигура в штатском. Это ландрат, волею СВА — «лучший представитель» немецкого народа.
Фигура танцующей походкой пробирается по коридору. Войдя в приёмную генерала, ландрат подобострастно изгибается в позвоночнике.
Халатообразный плащ через руку, потрепанный портфель под мышкой, шляпа прижата к животу, как будто защищая его от удара. С заискивающей улыбкой на лице «лучший представитель» осторожно, как на гвозди, опускается на стул в ожидании аудиенции.
Когда подходит очередь, ландрата приглашают в кабинет. Генерал через переводчика ознакамливается с проектом земельной реформы в Федеральной Земле Саксония.
«Какую максимальную границу предлагают они на этот раз?» — спрашивает генерал.
«От ста до двухсот моргенов в зависимости от каждого отдельного случая, товарищ генерал», — отвечает переводчик, держа в руках листки проекта.
«Вот идиоты! Третий вариант и опять никуда не годится. Скажите ему, что на это мы не можем согласиться».
Переводчик переводит. Ландрат беспомощно мнёт свой портфель. Затем он начинает объяснять, что данный проект составлен из расчёта оптимального экономического эффекта земельной реформы применительно к условиям данной провинции.
Он пытается дать анализ своеобразных условий сельского хозяйства Саксонии, говорит об абсолютной необходимости, в жёстких условиях, данных Германии природой, тесной конструктивной взаимосвязи животноводства, лесного хозяйства и зерновых культур, о своеобразии мелкой, но всепроникающей механизации сельского хозяйства. Постепенно ландрат увлекается, в его словах сквозит искреннее желание найти наилучшее решение проблемы, поставленной Приказом № 24.
Даже, когда этого не требует моя непосредственная работа я всегда стараюсь присутствовать при такого рода встречах. Казалось бы, бесплановая капиталистическая экономика Германии, при ближайшем рассмотрении оказывается настолько органически и конструктивно взаимозависимой, что она является для советского специалиста интересным объектом для ознакомления.
Германская экономика — это исключительно сложный и точный механизм, здесь диапазоны для экспериментов, запасы прочности и «люфты» очень ограниченны.
Мне часто приходилось видеть, как немецкие специалисты в ужасе всплескивали руками, когда генерал давал им советы или предложения, обычные в советских условиях при новом планировании или реконструкции. Тогда специалисты хором восклицали: «Но ведь это равносильно самоубийству!» Так и на этот раз. Генерал играет карандашом, с глубокомысленным видом покуривает папиросу, пускает дым кольцами. Он даже не просит переводчика переводить рассуждения ландрата. Для него это пустой звук. Когда генерал считает, что время истекло, он морщит лоб и обращается к переводчику.
«Скажите ему, что проект, должен быть переработан. Мы должны защищать интересы немецкого крестьянства, а не крупных землевладельцев».
Генерал представляет собой классический тип советского руководителя, автомата-исполнителя, неспособного к восприятию доказательств второй стороны и критическому самостоятельному суждению. На плечах этого автомата генеральские погоны и сегодня он решает экономические судьбы Германии.
Ландрат смущенно поднимается. Все его доводы бесполезны. Проект земельной реформы будет перерабатываться ещё несколько раз. Так будет продолжаться до тех пор, пока «самостоятельный» немецкий проект-предложение не будет в точности соответствовать секретной инструкции, хранящейся в генеральском сейфе.
Земельная реформа — мероприятие в большей мере политическое, чем экономическое. Важно подорвать, пока экономически, одну из сильных групп германского общества, с другой стороны — создать новую группу, сочувствующую новой власти.
На следующем этапе, когда новая власть окрепнет, первые будут уничтожены физически, а вторые познакомятся с хорошо известной в СССР формулой: «Земля — ваша, а плоды — наши!». Поэтому генерал Шабалин и не проявляет интереса к рассуждениям об экономическом эффекте земельной Реформы.
У меня иногда появляется чувство сожаления, когда я смотрю на немцев, с которыми мне приходится сталкиваться в кабинете генерала Шабалина.
Большинство из них — коммунисты. В той или иной форме они боролись против гитлеровского режима, многие пострадали за свои убеждения. После капитуляции они с радостью встретили нас.
Одни как своих освободителей, другие как своих идеологических союзников. Многие из них пришли к нам, желая работать на пользу будущей Германии. Конечно, приходится учитывать неизбежное количество рыцарей конъюнктуры.
Перед тем, как получить руководящие посты, эти люди были тщательно проверены нами с точки зрения политической благонадёжности. Предполагая в нас своих идеологических союзников, первое время они не боялись свободно высказывать свои мысли.
При этом резко бросалось в глаза, как убеждения и стремления многих из них идут в разрез с теми инструкциями, которые они получают от нас. Нам нужны безмолвные исполнители, а не равноправные партнеры.
Придёт момент, когда эти люди будут поставлены перед дилеммой. Или безмолвно выполнять наши приказания и стать нашими покорными инструментами — или уйти в сторону и дать место другим.
Помимо официальных представителей немецких властей, Экономическое Управление посещают также и другие лица. Особенно интересных посетителей имеет Отдел Науки и Техники.
Начальник этого Отдела полковник Кондаков до войны был начальником отдела Высших Военно-Учебных Заведений во Всесоюзном Комитете по Делам Высшей Школы. Он уже не молодой и очень культурный человек, знающий свое дело и умеющий понимать людей.
Однажды полковник Кондаков встретил меня в коридоре. На лице его было написано отчаяние.
«Григорий Петрович, — обратился он ко мне, — будьте так добры — выручите!».
«Что такое, товарищ полковник?» — спросил я.
«Немец тут меня один замучил. Изобрёл какую-то чертовщину и предлагает нам. Подробности он говорить не хочет, а потому, что он говорит, мы ничего не поймём».
«Чем же я могу Вам помочь, товарищ полковник?».
«Ну, хоть поговорите с ним. Мне через переводчика труднее разговаривать, чем Вам».
В кабинете полковника нас ожидал худощавый белокурый немец. Когда мы вошли, он представился сам, затем представил свою молоденькую, похожую на куклу, жену.
«Na, Herr Ingenieur, was haben Sie?»[5] — спросил я.
«Прежде всего, герр майор, я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что я особенно заинтересован передать моё изобретение в руки великого Советского Союза, где оно будет служить на пользу трядущимся…»
«Gut! Was haben Sie denn?»[6] — перебил я, улучив момент, когда изобретатель набирал в грудь воздух для дальнейших излияний.
«Я не хочу, чтобы моё изобретение попало к американцам, хотя я знаю, что они заплатят мне больше. Я не люблю империалистов. Я сам убежденный коммунист и…»
«Na gut! Daran zweifle ich nicht,[7] — перебил я опять, привыкнув уже к политическим предисловиям. — Was haben Sie eigentlich?»[8]
После часового разговора я узнал точно столько же, как и полковник. Речь идёт о таинственном двигателе с чудовищным коэффициентом полезного действия и многими другими заманчивыми качествами.
Изобретатель делает очень прозрачные намёки, что его двигатель произведёт революцию в военном деле, поставив на голову всю современную военную технику. Одновременно он утверждаёт, что несколько лет с риском для жизни он скрывал своё изобретение от «фашистов», чтобы оно не послужило во вред человечеству.
Когда я спрашиваю, на каком виде топлива работает двигатель, изобретатель корчит такую гримасу, как будто я вымогаю у него патент и все права на изобретение. Изобретатель просит нашей помощи для окончания или скорее восстановления своих трудов и моделей двигателя.
Дело в том, что всё расчёты, чертежи и модели погибли во время бомбёжки от американских бомб. Впоследствии мы уже привыкли к ссылкам на бомбёжку во всех случаях, когда нужно было убрать концы в воду и приукрасить басни драматическими деталями. В обмен на нашу поддержку изобретатель обязуется передать свой патент в руки советского правительства.
Я попросил изобретателя составить мне список всего, что ему необходимо для работы.
С подозрительной готовностью, как будто он только и ждал этого, изобретатель распахивает портфель и вручает мне список в трех экземплярах. В списке есть всё, что угодно, — деньги, продукты питания, даже папиросы, — но только не вещи, необходимые для выполнения подобной работы.
У меня, подобно тому, как раньше у полковника, появляется сильное искушение дать изобретателю по шее и выставить его за дверь. Я уверен, что этот трюк он проделывает одновременно или последовательно со всеми четырьмя оккупационными управлениями в Берлине.
Для приличия таскает с собой ещё жену или подругу. Но такой метод обращения противоречил бы основному принципу работы Отдела Науки и Техники.
Полковник решает предоставить изобретателю возможность доказать реальность своих утверждений. Одновременно он бормочет: «Ну, погоди! Если ты меня за нос провести думаешь, то познакомишься с подвалом».
Вокруг различных отделов Экономического Управления, как мухи над навозной кучей, вьются бойкие гешефтмахеры. Одни занимаются доносами, другие предлагают свои услуги в областях, являющихся актуальными на сегодняшний день.
После того, как берлинские газеты запестрили сообщениями об атомных бомбах, сброшенных американцами в Японии, в Отдел Науки и Техники СВА ежедневно поступали предложения купить патент атомной бомбы и даже атомного двигателя. Атомные бомбы предлагались нам оптом и в розницу, со скидкой и в рассрочку.
Конечно, основная работа Отдела Науки и Техники идёт по другим каналам. Люди, которые представляют для нас действительный интерес, не приходят к нам сами. Обычно мы ищем их, и мы идём к ним.
Отдел Науки и Техники СВА является только внешним фасадом, приёмным и сортировочным пунктом одноименного отдела НКВД. Полковник Кондаков собирает материал, определяет его ценность, затем он передаёт дело в Отдел Науки и Техники НКВД в Потсдаме. Туда Москва направляет для работы наиболее квалифицированных советских специалистов — экспертов по всем отраслям науки и техники.
В порядке моей работы в аппарате генерала Шабалина мне часто приходится бывать в контакте с Отделом Науки и Техники. Задачей этого отдела в основном является охота за мозгами.
Москва хорошо знает цену немецким мозгам. Не менее хорошо это знают и западные союзники. На этой почве между западными и восточными союзниками с самого первого дня оккупации Германии разгорелась ожесточённая борьба.
В момент капитуляции Тюрингия и большая часть Саксонии находились в руках американцев. Спустя два месяца, одновременно со вступлением западных союзников в Берлин, Тюрингию и Саксонию, согласно ранее заключенным договорам передали в распоряжение советских оккупационных властей.
Во время инспекционных поездок в СВА провинций генерал Шабалин требовал у военных губернаторов данные о выполнении приказа Главного Штаба СВА по выявлению и учёту немецких специалистов. При этом генерал с досадой ругался, удивляясь быстроте и аккуратности работы «чёртовых союзничков».
За время своего короткого пребывания в Тюрингии и Саксонии американцы сумели вывезти все сливки немецкой науки и техники. Крупные учёные, ценные научно-исследовательские лаборатории и технические архивы — всё было увезено на Запад.
Учёному, который получал предложение эвакуироваться, предоставлялась возможность брать с собой неограниченное количество необходимых ему материалов, оборудования и научных сотрудников по своему усмотрению.
В наши руки на этих территориях попали только сравнительно бесполезные доценты и ассистенты. Заводы Цейсса в Иене рассматривались нами как особо ценная добыча.
Но и здесь американцы успели вывезти всю техническую головку. С оставшимся персоналом «Цейсс» мог работать, но не прогрессировать. Такая же картина была во всех научно-исследовательских институтах Дрездена и Лейпцига.
Очень важным было и то обстоятельство, что большинство видных ученых бежало на Запад ещё во время наступления Красной Армии.
Научно-Исследовательский Институт Кайзера Вильгельма, одно из крупнейших научных учреждений мира, которым Москва в особенности интересовалась, оказался для нас столь же полезен, как развалины Колизея.
Чтобы хоть как-то оправдаться перед Москвой, СВА всячески старалось выдать попавших в наши руки третьестепенных ученых за звёзды первой величины. Ассистенты в лабораториях Мессершмидта выдавались за его ближайших сотрудников. Обычный метод советского руководства — сверху вниз идёт план, а снизу вверх — туфта.
По-видимому, в целях укрепления послевоенного мира мы усиленно вылавливаем по всем уголкам Германии военных специалистов. Мы рыщем, как волки, в поисках конструкторов Фау-2, реактивных самолетов, тяжёлых танков. Тучи мелких подлецов осаждают нас с предложением своих услуг в области совершенствования орудий смерти.
В то же время на имя маршала Жукова часто приходят письма, которые затем передаются для рассмотрения в Экономическое Управление. Многие из них написаны от руки на простых листках бумаги, к ним приложены безыскусные чертежи и расчёты.
Иногда полковник Кондаков показывает их мне с беспомощной улыбкой. Эти письма пойдут в корзину для бумаг. А вместе с тем, это самые знаменательные письма, которые СВА получает от немцев.
Эти письма пишут простые люди, даже не имеющие пишущей машинки и чертёжных принадлежностей. Эти люди не требуют патентов. В безыскусной простоте этих писем есть своеобразный пафос. Неизвестные немцы, не учёные и не изобретатели, предлагают нам собственные конструкции самодвижущихся колясок для инвалидов войны.
С чисто немецкой точностью они указывают на удобство, экономичность и дешевизну колясок в массовом производстве. Ведь сегодня в Германии и в Советском Союзе сотни тысяч безногих калек, нуждающихся в этих вещах.
Письма летят в корзину для бумаг, а в двери снова стучатся фабриканты смерти.
В отделе Науки и Техники мне неоднократно приходится встречаться с майором Поповым. До войны он был руководителем Научно-исследовательского Института Телевидения и Телемеханики.
Майор Попов очень любит подчеркнуть свою ответственную работу и свои былые заслуги. Этим он старается возместить до неприличия малое количество орденских лент на своей груди.
Однажды в послеобеденный перерыв я зашел в кабинет полковника Кондакова. Там же находился майор Попов. В ожидании начала работы у нас зашёл разговор о последних технических достижениях. Мы говорили об авиации и, наконец, об американских «летающих крепостях» Б-29.
Майор Попов как бы попутно замечает: «Эти птички теперь и у нас есть».
Затем он обращается ко мне: «Помните, Григорий Петрович, в 1943 году в газетах писали, что несколько летающих крепостей, после бомбежки Японии, сбились с курса, приземлились на нашей территории и были интернированы?»
«Да, что-то припоминаю», — отвечаю я.
«Там дело было довольно щекотливое, — говорит Попов. — Немного иначе, чем в газетах писалось».
Полковник Кондаков, которому уже надоело слушать беспрерывную болтовню своего помощника, уходит из кабинета. Майор Попов рассказывает мне историю возникновения советских «летающих крепостей».
Когда заблудившиеся американские самолеты были обнаружены над советской территорией, вдогонку им выслали эскадрилью советских истребителей.
Но американские сверх-бомбовозы летели с такой скоростью, что истребители не могли догнать их. Тогда вызвали на помощь эскадрилью скоростных истребителей-перехватчиков. Они догнали американцев и дали им радио сигнал приземлиться.
Американцы имели приказ, запрещающий посадку летающих крепостей на неизвестной территории. Летающие крепости являлись последней новинкой американской авиационной техники и их конструкция охранялась строжайшей тайной.
В случае вынужденной посадки на неизвестной территории экипаж должен выбрасываться на парашютах, а машину взрывать в воздухе.
Американцы, невзирая на сигналы советских истребителей, продолжали реветь моторами над сибирской тайгой. Тогда истребители дали над головами бомбовозов залп из «катюш», вмонтированных в крылья последних моделей советских самолетов.
В конце концов, истребителям удалось разбить строй бомбовозов и принудить один из них к посадке на Хабаровском аэродроме. На земле экипаж бомбовоза встретили с исключительным радушием.
Несмотря на все уговоры, американцы отказались отходить от машины до прибытия американского консула. Консула так быстро разыскать не смогли, но зато в присутствии американцев весь самолет от носа и до хвоста опечатали сургучными печатями.
Печать торжественно положили в карман борт-капитану и, уверив американцев, что всё будет в порядке, предложили им отдохнуть несколько часов до прибытия консула в фешенебельном ресторане «Интурист». Там их ожидал стол с изысканнейшими яствами и неограниченным количеством веселящих напитков в сочетании с соблазнительными интурист-герлс.
Пока экипаж бомбовоза всеми земными соблазнами удерживался в «Интуристе», телеграфные провода между Москвой и Хабаровском гудели от секретных запросов и ответных приказов. Из Москвы были спешно высланы самолеты с лучшими советскими специалистами по всем областям авиационной техники.
Ночью американцев, наполовину уговорами, наполовину силой, уложили в постели «Интуриста», позаботившись, чтобы они не скучали в одиночестве.
В это время на аэродроме кипела лихорадочная работа. Все сургучные печати были вскрыты и при свете прожекторов по самолету копошились советские инженеры, техники и чертёжники. Задачей советских технических бригад было снять все чертежи и схемы, перенести все с натуры на кальку и синьку.
Одним из самолетов, вместе с группой сотрудников его Научно-исследовательского Института, прибыл также и Попов. Он принимал участие в выполнении приказа Кремля — «Снять все на бумагу!» Технические бригады осваивали Б-29 в течение нескольких дней. Американский экипаж все это время был интернирован в «Интуристе».
Факт приземления Б-29 на Дальнем Востоке подтверждался сообщениями ТАСС. Даже и без рассказа майора Попова можно полагать, что дело обстояло именно так. Поэтому я нисколько не удивился, услышав подробности из уст очевидца и участника «спецзадания».
После описания всей трудности работы по снятию чертежей Б-29 и своих достижений в этом деле, майор Попов закончил свое повествование уже в несколько романтической форме.
Один из членов экипажа, заподозрив неладное, сумел ночью выбраться тайком из «Интуриста» и прокрасться к аэродрому. Там он увидел, что делается с «опечатанным» самолетом.
Вернувшись к своим товарищам в «Интурист», он рассказал, что происходит на аэродроме. Американцы имели с собой миниатюрную коротковолновую радиостанцию аварийного типа. Они сейчас же пустили в эфир шифровку адресованную в американскую Главную Квартиру и сообщавшую о положении дел.
Между тем Москва и Вашингтон вели оживлённый обмен дипломатическими нотами по поводу интернированного летающего гиганта. Вашингтон требовал немедленной выдачи самолета. Москва в преувеличенно вежливой форме извинялась за задержку, ссылаясь на погоду и прочие объективные причины.
Когда в Вашингтон пришла шифровка от экипажа летающей крепости, принятая американскими военными радиостанциями на тихоокеанском театре военных действий и переданная по назначению, работа советских технических бригад была уже закончена. Тайна Б-29, во всяком случае, с внешней технической и конструктивной стороны, уже не была тайной для Москвы.
Американский экипаж дружески проводили к аэродрому, торжественно предложили борт-капитану убедиться в целости и сохранности сюртучных печатей. В чрезвычайно сердечной телеграмме Сталин лично уведомил об этом президента Рузвельта. За несколько минут до отлета летающей крепости, от президента Рузвельта на имя Сталина пришла телеграмма: «Примите Б-29 от меня в подарок».
Когда советские пилоты начали осваивать подарок президента с целью переправить его по воздуху в Москву, они натолкнулись на неожиданные трудности. Поднять гигант в воздух было не так-то просто. Лучшие летчики Дальнего Востока оказались не в состоянии справиться с этой задачей. Из Москвы был специально откомандирован один из лучших летчиков-испытателей тяжёлых самолетов.
После двухнедельного ознакомления с гигантом и пробных прокаток по аэродрому, он, наконец, поднял летающую крепость в воздух и благополучно приземлил её на Тушинском аэродроме в Москве. За это он был награжден званием Героя Советского Союза.
Нескольким ведущим Центральным Конструкторским Бюро ЦКБ Наркомавиапрома было поручено подготовить производство самолетов этого типа. В последний год войны заканчивались сборкой первые пробные экземпляры.
Вскоре на ряде уральских авиазаводов было начато их серийное производство. Созданием советских летающих крепостей руководил А. Н. Туполев совместно с талантливым авиаконструктором Петляковым.
3
По мере того как идёт время, на работу в СВА прибывают новые люди.
Войдя однажды в приемную генерала, я увидел сидящую на стуле девушку в светлом плаще. Закинув ногу за ногу, она курила сигарету и независимым тоном переговаривалась с сидящим за столом майором Кузнецовым. На конце сигареты, которой она подносила к губам, оставались ярко-красные следы от губной помады.
Девушка бросила на меня быстрый оценивающий взгляд и затем снова повернулась к майору. Было что-то своеобразное во всем её поведении, в подчёркнуто небрежной позе, в глубокой затяжке дымом сигареты с последующей гримасой ярко накрашенных губ. Это была не девушка, а сплошной вызов.
Когда майор Кузнецов попросил её пройти в кабинет генерала, дверь генеральского кабинета закрылась за ней с треском, явно неподобающим этой двери.
«Что за красавица?» — спросил я у Кузнецова.
«Работала переводчицей у одного генерала-демонтажника. Теперь тот уехал в Москву, а начальник Штаба порекомендовал её нашему хозяину. Наверное, будет у него переводчицей».
Таким образом, Лиза Стенина стала переводчицей генерала Шабалина. Личной переводчицей, как она всегда подчёркивала. Она превосходно владеет немецким языком, всесторонне образована, начитана и умна. Кроме того, Лиза обладаёт массой других оригинальных качеств.
Лиза не в меру злоупотребляет косметикой. Уважающая себя уличная женщина поостережётся накладывать на себя столько румян и белил, как Лиза. Когда она торопится, то работает, как штукатур. Хотя на вид Лизе не меньше двадцати пяти лет, она упорно утверждаёт, что как раз на днях ей исполнилось семнадцать.
Хотя по всем документам она значится Елизаветой Ефимовной, при знакомстве она всегда представляется как Елизавета Павловна. Ефимовна звучит по-плебейски, зато «Павловна» попахивает пушкинскими героинями.
Лиза — гражданский человек. Несмотря на это, она носит поверх шёлкового платья офицерскую шинель с лейтенантскими погонами. Утверждаёт, что ей больше нечего носить. Конечно, всё это она выдумывает и таскает шинель просто из тщеславия.
Личная переводчица очень невоздержана на язык. При этом она любит заводить дискуссии на довольно щекотливые политические темы. Такие разговоры не популярны среди людей, мало знающих друг друга. Я в таких случаях перевожу разговор ближе к жизни.
«Лизочка, знаешь что?» — спрашиваю я.
«Что Григорий Петрович?» — отвечает Лиза.
«Покажи язык. Будь так добра»
«Что это Вам в голову пришло?»
«Ну, покажи! Потом скажу в чем дело»
Подхлестываемая любопытством, Лиза осторожно открывает рот и показывает острый кончик языка.
«Ну, это слишком мало, — говорю я. — Сделай, как у врача А-а-а…»
Лиза вываливает язык во всю, ожидая что-то интересное.
«И это все!? — удивляюсь я. — Я думал, он у тебя до пола достанет…»
Лиза от ярости теряет на мгновение дар речи, затем разражается потоком ядовитых эпитетов по моему адресу.
Кроме политических дискуссий, Лиза до смерти любит разговоры на интимные темы. Заводит она их с видом невинной институтки, которая ничего не понимает в вопросах взаимоотношения полов и потому не считает грехом говорить об этом. Заходит она в этом направлении столь далеко, что краснеют даже видавшие виды офицеры.
Есть женщины, которых мужчина интересует главным образом, как предмет своеобразной охоты. Когда женщина-охотница чувствует, что жертва в её власти, она получает от этого удовлетворение и теряет всякий интерес к жертве. Это женщина-волчица. В Лизе есть что-то от этого типа женщин с ненормальной психикой.
Больше всего на свете Лиза любит эффекты. При каждом удобном случае она рассказывает, что её сестра замужем за генералом Руденко. Когда слушатели не выражают свое восхищение этим фактом, Лиза разъясняет, что генерал Руденко является начальником советской закупочной комиссии в Америке.
Когда и это известие не действует, Лиза поведывает, что генерал Руденко не просто наш торговый представитель заграницей. Он значительно более важное лицо. Он — глава советской разведки в Америке.
После этого Лиза, на базе своего семейного знакомства с Руденко, начинает рассказывать многочисленные истории о работе советских торговых и дипломатических представителей в Америке. В особенности восхищается она подвигами некоего майора Романова.
По описанию Лизы, он — красавец и удалец, специальностью которого является добывание агентурных сведений через посредство очарованных им женщин-американок. Лиза форменно боготворит майора-сердцееда.
Однажды Лиза целый день без предупреждения отсутствовала на работе. Поздно вечером она появилась в комнате переводчиц. Но в каком виде — вся исцарапанная, в изорванном платье, с забинтованной толовой.
Мне сообщили по телефону о её появлении за десять минут до конца рабочего времени. Я зашел узнать в чём дело:
«Что случилось, Лизочка?» — спросил я обеспокоено.
«Один полковник пригласил меня покататься и завёз в лес. Ну, а потом…»
«А потом ты его взяла на кумпол!» — заключил я, взглянув на её забинтованную голову.
«Где твоя пилотка?» — спросил кто-то.
«Потеряла», — ответила Лиза, подчеркивая этим всю серьёзность положения, из которого она вышла победителем.
«А больше ты ничего не потеряла, Лизочка?» — спросил я, вложив в мой голос максимум тревоги.
В ответ мне сверкнул уничтожающий взгляд Лизы.
«Что же нам с тобой делать? — посочувствовал я. — Раз ты лейтенант, то за самовольную отлучку тебе полагается гауптвахта. Что-то теперь генерал скажет?!»
«Это уже моё дело. Можете не беспокоиться, товарищ майор».
«Бедная Лиза!» — вздохнул я.
Спустя несколько дней, майор Кузнецов вскользь сказал мне:
«Ты там что-то Лизу дразнишь. Будь с ней осторожней!»
«А что такое?»
«Да просто так. Её даже генерал побаивается. Учти!»
«В чём дело?»
«Она к генералу не так просто попала. Понимаешь? — Кузнецов понизил голос. — Это я тебе как другу говорю. Не играй с огнём».
Позже мне пришлось близко познакомиться с Лизой Стениной и её прошлым.
Глава 7 В Контрольном Совете
1
Однажды вечером генерал Шабалин вызвал меня к себе и, показав письмо из американской Главной Квартиры, где он со штабом сотрудников приглашает принять участие в совещании по вопросам ликвидации концерна «И. Г. Фарбениндустри», которое должно состояться во Франкфурте на Майне, сказал:
«Возьмите мою машину и поезжайте в Целендорф. Передайте список нашей делегации. Узнайте, когда будет самолет. Если нет самолета, то урегулируйте вопрос с пропуском, чтобы мы могли ехать на наших машинах».
Пока я доехал до американской Главной Квартиры, было уже четверть шестого.
«Ну, теперь с час потрачу на получение пропуска, — думаю я. — Ведь у меня нет никакого официального документа, зачем я приехал, кроме удостоверения личности. А говорить придётся с заместителем Эйзенхауэра по экономическим вопросам».
У ворот я останавливаю машину и лезу в карман за документами. Американский часовой в белом шлеме, в белом брезентовом поясе и таких же гамашах салютует рукой, затянутой в белую перчатку и не проявляет никакого интереса к моим документам.
Чтобы как-то объяснить остановку машины, я спрашиваю у него что-то. Он молча показывает рукой на дощечку со стрелкой и надписью «Information».
Я степенно проезжаю мимо любезного офиса, искоса поглядывая, не наблюдают ли оттуда за мной. «Найду что мне надо и сам», — думаю я. Наверное, у меня была тогда ещё и задняя мысль: «Одновременно воспользуюсь случаем и полазаю кругом. Посмотрю, что это за птицы — американцы. Надеюсь, что не арестуют. В крайнем случае, скажу, что заблудился».
Шофёру Мише я строго-настрого приказываю оставаться в машине и никуда не уходить. Кто его знает, ещё похитят шофёра — потом отвечай.
Иду по коридору. Все двери стоят нараспашку. Внутри все пусто. Кое-где немки-уборщицы метут полы. На каждой двери аккуратная табличка: «Майор такой-то и должность» или «Подполковник такой-то и должность».
Бог ты мой, что у них здесь творится! Где бдительность? У нас, как правило, не вывешивают на дверях карточек. Чтобы внутренние и внешние враги не так легко знали, кто где сидит.
Мне даже как-то неловко и боязно. Как будто я помимо собственного желания попал в картотеку секретных документов и боюсь, чтобы меня не застали в этот момент.
Я ищу по таблицам на дверях нужную мне комнату и чувствую себя так, как будто я залез в список вражеского Генерального Штаба. А я в полной советской форме.
Таким образом я облазил все этажи и коридоры, но никого, кроме уборщиц, не нашел. Смотрю на часы — половина шестого.
Один из офицеров как-то рассказывал мне, что к американцам бесполезно ехать после пяти часов.
«Идут все гулять с немками, — то ли с пренебрежением к американским методам работы, то ли с завистью произнес он, — они считают так: кто остается в конторе после конца работы, тот не умеет работать, не укладывается во время».
«Не врал парень, — думаю я, — американцы, видимо, не переутомляются. У генерала Шабалина самая главная часть рабочего дня начинается с 7 часов вечера. Как же мне добраться до места? Придётся всё-таки обращаться в эту „Information“».
В справочном отделе «Information» двое негров сидят, развалившись в креслах, задрав ноги на стол и сосредоточенно жуя резинку. Я с грехом пополам объясняю им, что мне нужно видеть генерала Клея.
Не прерывая своего глубокомысленного занятия, один из негров мяукает что-то в соседнее окошечко. Если бы сейчас перед ними предстал президент Трумэн, маршал Сталин или сам чёрт с рогами, то они едва ли спустили бы ноги со стола или перевернули бы резинку с правой щеки за левую.
Несмотря на это «Information» работает безотказно: сержант за окошечком в свою очередь мяукнул что-то в телефон и через несколько минут в комнату вошел американский лейтенант. Он вежливо предложил мне следовать за ним.
В приёмной генерала Клея дежурная секретарша листает пестрый журнал. «Не завалит ли уж и она ноги на пишущую машинку?» — думаю я и предусмотрительно занимаю безопасную позицию.
Пока я раздумываю, сидёть ли молча или попытаться завязать разговор с союзницей, из двери, ведущей в кабинет генерала, стремительно вылетает маленький солдат с длинным носом. Метнувшись, как метеор, по комнате и бросив на ходу несколько слов секретарше, он хватается за фуражку, лежащую на вешалке.
«Видимо строгий генерал, если у него солдаты так быстро бегают», — думаю я.
В это время заводной солдат сует мне руку и трещит что-то со скоростью, недоступной для моих знаний английского языка.
«Генерал Клей», — раздаётся за моей спиной голос секретарши.
Пока я пришел в себя, генерал уже испарился из комнаты. Не генерал, а атомная бомба! Единственное что я понял, это «О'кей» и что соответствующий приказ уже отдан. Да ещё то, что здесь действительно трудно разобраться, где генерал, а где солдат. Солдаты заваливают ноги на стол, а генералы бегают, как мальчики.
Из той же двери выходит ещё один офицер и просит меня зайти в кабинет. Наученный опытом, я смотрю на погоны. Тоже какой-то генерал. Сугубо по деловому, не предлагая мне сесть, но и не садясь сам, генерал выслушал причину моего посещения. Затем, кивнув головой, он вышел из кабинета.
Я осматриваюсь кругом. Скромный письменный стол. Скромный письменный прибор. Толстая кипа газет слева. Пучок карандашей. Ничего лишнего. В таком кабинете работать, а не мух ловить. Когда генералу Шабалину подбирали письменный стол, соответствующий его положению, то обыскали весь Карлсхорт и все трофейные склады. За письменным прибором посылали специально в Дрезден.
Вскоре генерал возвращается и, видимо, урегулировав вопрос по телефону, говорит мне, когда будет самолёт. Позднее я убедился, что там, где у нас требуется документ за подписями трех генералов, да ещё с дополнительными визами, у американцев достаточно простого звонка по телефону.
Предварительного утверждения списка советской делегации не требуется. Все как-то по семейному, без Liasone Service и без проверки органами МВД, как это положено у нас. Попутно генерал передаёт мне пачку информационных материалов по концерну «И. Г. Фарбениндустри» для ознакомления с будущей работой конференции.
На следующее утро советская делегация в составе генерала Шабалина, подполковника Орлова, майора Кузнецова, меня и двух переводчиков, прибыла на аэродром «Темпельгоф».
В диспетчерской дежурный сержант даёт понять, что ему всё известно, долго разговаривает по различным телефонам, затем просит нас подождать — наш самолет будет позже. Чувствуется, что американцы по каким-то причинам затягивают наш отлёт.
«Ну, как — долго мы ещё тут дожидаться будем?» — говорит генерал Шабалин, раздраженно глядя на часы, потом на широкое бетонное поле аэропорта.
Вдалеке медленно выруливают к старту самолеты, но ни один из них не имеет ни малейшего желания брать нас с собой. Генерал чертыхается и, не зная на ком сорвать досаду, опять спрашивает меня: «Что Вам вчера, собственно, сказали? Почему не взяли какой-нибудь бумаги или подтверждения?» По-видимому, генерал твёрдо уверен, что без соответствующего документального подтверждения с подписями и печатями любые слова и обещания ровно ничего не стоят. Даже слова американского генерала.
«Сказали совершенно ясно, — отвечаю я. — Сегодня в 10 часов утра, аэропорт „Темпельгоф“. Будет специальный самолет для нас. Начальник аэропорта получил приказ».
Генерал закладывает руки за спину, втягивает шею поглубже в тугой воротник кителя и, ни на кого не глядя, продолжает мерить шагами бетонную дорожку вблизи здания управления аэропорта.
Чтобы как-то убить время майор Кузнецов и я начинаем осматривать аэродром. Неподалеку прогуливается американский солдат в комбинезоне и бросает на нас дружелюбно-любопытствующие взоры в поисках предлога завязать разговор.
Ему дозарезу хочется поболтать с русскими офицерами, показать им свой кошелёк с коллекцией сувениров, свою солдатскую книжку на четырех языках и вообще все содержимое своих карманов. В первые дни в Берлине американские солдаты вели себя с русскими, как дети, попавшие на неисследованный остров и пытающиеся завязать дружественные отношения с дикарями.
По взлётному полю медленно выруливает к старту горбоносый «Дуглас» с диковинными рисунками на фюзеляже, напоминающими детские переводные картинки. Во время войны эти транспортные машины массами поступали в Сов. Союз по закону о Ленд-Лизе и были хорошо известны всем русским.
Американский солдат улыбается и, показывая пальцем на самолет, говорит: «С-47!»
Я киваю головой в том же направлении и поучительно отвечаю: «Дуглас!» Солдат отрицательно машет головой: «Ноу, ноу… С-47. Сикорский… Рашен конструктор…»
«Неужели это действительно конструкция Игоря Сикорского, пионера русской авиации в первой империалистической войне и творца первых в мире многомоторных самолетов „Илья Муромец!“», — думаю я.
Мне известно, что он вместе с Борисом Северским работает в Америке в области самолётостроения, но летая на «Дугласах», я никогда не думал, что это его детище. Интересно, почему ещё «Правда» не подняла тарарам по этому случаю!
Солдат показывает пальцем на часы, затем в небо. Описательно изобразив рукой посадку самолета и, наконец, тыкнув пальцем в землю, — видимо он уже привык к такому методу разговора с русскими, — произносит: «Генерал Эйзенхауэр!»
Затем, как будто речь идёт о его ближайшем товарище, безмятежно добавляет: «О'кей!»
«Что, неужели сейчас должен прилететь генерал Эйзенхауэр? — думаю я. — Может быть, поэтому и затягивается наш отлет».
Пока мы разговаривали с солдатом, позади нас опустился самолет и из него горохом высыпала группа весёлых старичков. Они, как дети, выпущенные на прогулку, бойко окружили оторопевшего генерала Шабалина и принялись трясти ему руки с таким сердечным выражением радости на лице, как будто они специально за этим прилетели из-за океана.
Генерал тоже заразился этой беззаботной веселостью и захлопал руками направо и налево. Позже выяснилось, что новоприбывшие по ошибке приняли генерала Шабалина за маршала Жукова.
В это время бывший с нами подполковник Орлов уже разузнал где-то, что весёлые старички — это группа американских сенаторов, летящих в Москву. Он шепнул об этом генералу, но было уже поздно. Генерал обменялся рукопожатиями с самыми заклятыми врагами коммунистического строя. Наверно, он позднее опасался, что у него отсохнут руки.
На весёлых старичках простенькие серые пальто не по последней моде, чищенные ваксой скромные чёрные ботинки. В России американцы обычно появлялись в патентованных ботинках на трехдюймовой резиновой подошве. А этих в Москве даже не отличить, что они иностранцы.
Просто симпатичные благообразные старички и только. Причем очень хорошо сохранившиеся, бодрые и жизнерадостные. Седые, почти белые, волосы резко выделяются на фоне здоровых румяных лиц. Не старички, а прямо реклама страхового общества.
Кругом щёлкают фотоаппараты. Сенаторы с удовольствием позируют держа генерала Шабалина за руку. Генералу чертовски не хочется фотографироваться в столь компрометирующей компании, но деваться некуда.
Генерал твёрдо уверен, что все эти фото пойдут в архивы соответствующих «иностранных разведок», часть из них, как положено, попадет попутно в архивы МВД и тогда неприятностей не оберёшься.
После фотонабега начинается какая-то подозрительная торговля. Окружающие, главным образом американский персонал аэропорта, суют сенаторам в руки новенькие оккупационные банкноты.
Мои сомнения в открытой коррупции американского сената рассеивает мой новый знакомый — солдат в комбинезоне. Он подходит к нам, с победным видом размахивая похрустывающей сине-красной бумажкой, вдоль и поперек исчерканной различными подписями.
Похвалившись вновь приобретенными трофеями, он показывает нам подписи Трумэна, Эйзенхауэра, маршала Жукова и многих других знаменитых личностей. Оказывается это своеобразный способ собирания автографов. Поскольку через «Темпельгоф» идёт главная магистраль авиасообщений, то охотникам за автографами попадаёт в руки богатая добыча.
Недавно здесь закончилась Потсдамская Конференция. Интересно было знать, достал кто-нибудь подпись Сталина? Вряд ли. Впрочем, Сталин, наверное, и не был на «Темпельгофе». Авиацию он расхваливает, а сам на самолет ещё ни разу в жизни не сел.
В стороне майор Кузнецов недоверчиво спрашивает у подполковника Орлова: «Это что — в самом деле, сенаторы?»
«Да. К тому же самые заядлые — политическая комиссия сената», — отвечает тот.
«Что-то они мало на капиталистов похожи», — сомневается Кузнецов.
«Вид у них довольно безобидный, зато в карманах миллионы. Акулы!» — возражает Орлов, для которого наличие денег в кармане — это, по-видимому, смертный грех. Подполковник Орлов сугубо партийный человек и не отклоняется ни на миллиметр от линии партии.
«Ведь это, собственно, хозяева Америки, а держат себя просто. Наш какой-нибудь министр…»
Размышления Кузнецова прерываются появлением на сцене новых персонажей. В ворота аэропорта вкатывается вереница крытых лимузинов и направляется в нашу сторону. Из машин выходит группа советских офицеров. По фуражкам с золотыми шнурами и красным кантам на шинелях видно, что это генералы.
«Ну, попали мы, кажется, в театр, — бормочет Кузнецов. — Ведь это маршал Жуков со своим Штабом. Надо куда-нибудь в сторонку убраться».
Генерал Шабалин, по-видимому, того же мнения, но генеральская шинель не позволяет ему запросто стушеваться за спинами людей, как это сделали мы. На весь этот спектакль его не приглашали. А оказаться незваным гостем у маршала Жукова — это довольно щекотливое положение.
Выручают те же жизнерадостные старички. С непринужденным «Халло!» и приятельским хлопаньем рук сначала по рукам, а затем и по спинам своих новых знакомых, они моментально преодолевают первую официальную фазу знакомства и создают непринужденную дружескую атмосферу. Здесь даже последний меланхолик заулыбается и завопит «Халло!», как янки с Бродвея.
«Ну и сенаторы! — восхищается Кузнецов. — Хлопают руками, как на ярмарке. Как будто они всю жизнь конями торговали. Славные ребята!»
Он облизывает губы, как будто пил с сенаторами на брудершафт.
Маршал Жуков, небольшого роста, крепко сложенный, с сильно выступающим вперед тяжёлым волевым подбородком, держит себя исключительно просто.
Он обращает мало внимания на суету кругом, как будто ожидая, когда, наконец, перейдут к делу. В противовес многим советским генералам, сделавшим карьеру за время войны, он всем своим видом даёт понять, что он только солдат.
Во время войны при разборе операций он не лез в карман за крепким словом и даже генералы получали от него зуботычины. Потом он говорил, что ему жизнь тысяч солдат дороже одного генеральского зуба.
Очень характерно было то, что абсолютно без помощи официальной кремлёвской пропаганды, он считался в стране общепризнанным вторым Кутузовым, спасителем Родины во Второй Отечественной Войне.
Аэродром заметно оживляется. Появляются одетые в парадную форму наряды военной полиции. Засуетился дежурный персонал. Невдалеке приготовился батальон почётного караула.
Совершенно бесшумно приземляется четырёхмоторный самолёт. Охотников за автографами ожидаёт разочарование. Незаметно, но быстро вся территория оказывается отрезанной для любопытных двойным кольцом охраны.
Майор Кузнецов оглядывается кругом и говорит: «Чисто работают. Посмотри только на этих головорезов. Наверно из гангстеров навербовали».
Первое кольцо из здоровенных солдат военной полиции действительно представляет внушительное зрелище. Выглядят они довольно угрюмо, хотя и чисто выбриты. Второе кольцо тоже из боксеров и ковбоев в военной форме, но верхом на мотоциклах, делающих шума значительно больше чем самолёты.
«Вот такие солдаты мне нравятся, — созерцательно замечает Кузнецов, — у этого пальцем пуговицы не потрогаешь».
Батальон почётного караула делает какие-то странные строевые упражнения. Подняв руки на уровень плеч, солдаты размыкаются, как физкультурники на спортплощадке по всем четырем сторонам. На наш взгляд — довольно неловко и не по-военному.
«Что-то пахнет опереткой, — говорит Кузнецов, обращаясь к Орлову. — Чего они вертятся?»
Подполковник только пренебрежительно машет рукой: «Какие сенаторы, такие и солдаты. Шоколадные солдатики. Они все от чёрного хлеба заболеют».
«А ты что — в чёрный хлеб влюблён? — язвительно спрашивает Кузнецов. — Или ты это как всегда — о других заботишься».
Орлов делает вид, что не слышал вопроса. Он летит с нами в качестве эксперта по юридическим вопросам. Вообще же он военный прокурор и по своей должности хорошо знает, к чему приводят слишком откровенные разговоры или вообще многословие.
Генерал Эйзенхауэр, в армейской курточке и с обычной широкой улыбкой на лице, здоровается с маршалом Жуковым. Великие люди в действительной жизни всегда проще, чем на страницах газет и журналов. Эйзенхауэр, подписав пару автографов, запросто осведомляется, где здесь можно позавтракать и приглашает с собой Жукова.
«Ну, так. Генералы пошли принимать калории, а для нас, по-видимому, стульев не хватило, — резюмирует Кузнецов. — Как-никак, а мы Эйзенхауэра дольше всех дожидались».
Оглянувшись по сторонам в поисках ресторана, он утешает себя: «Всё-таки хоть за руку с нами поздоровался. Наш генерал теперь, наверное, руки карболкой мыть будет. Попал бедняга в историю!»
Как только удалились высокие гости, появляется диспетчер и докладывает, что наш самолет готов к отлёту. Теперь нам понятно, почему затягивался наш отлёт.
К генералу Шабалину подходит человек в форме американского бригадного генерала и обращается к нему на чистейшем русском языке. Видимо он узнал, что мы летим во Франкфурт и предлагает нам свои услуги.
Американец говорит по-русски лучше, если можно так выразиться, чем мы сами. Видимо, он покинул Россию тридцать лет назад и его речь осталась абсолютно без изменений — такой, как говорили раньше в России в аристократических кругах.
Наш же язык изменялся вместе с ломкой жизненного и социального укладов в Сов. России, он засорен жаргоном и пересыпан неологизмами. Американец говорит заспиртованным языком мёртвой России. На нас пахнуло тонкими духами и чуть-чуть нафталином. Интересно, чем пахнуло на него.
Неизвестно, зачем Эйзенхауэр и Жуков летали в Москву. В советских газетах, во всяком случае, не было никакого официального коммюнике. Когда, неделю спустя, я был в кабинете у генерала Шабалина, он после моего доклада спросил: «Знаете, зачем Эйзенхауэр летал в Москву?»
«Наверно, как почётный гость на недавнем параде», — ответил я.
«У нас гостей принимать умеют, — сказал генерал. — Эйзенхауэра там такой водкой угостили, что он потом всю ночь песни распевал в обнимку с Будённым. Будённого всегда для декорации подсунут».
Это было, по-видимому, всё, что знал генерал о московском визите. Потом он приложил палец к губам и погрозил этим же пальцем мне.
Из этих маленьких эпизодов видно, в каком положении находился Заместитель Главноначальствующего СВА — он был мальчиком на побегушках и только по слухам знал о том, что творится наверху.
2
К старшему адъютанту подходит американский офицер. Засунув пилотку в задний карман брюк, он отдаёт честь, чётко рванув руку к непокрытой голове. Затем он представляется на чистейшем русском языке: «Капитан американской армии — Джон Яблоков».
Майор Кузнецов — человек исключительно интеллигентный, но это не мешает ему быть большим весельчаком и балагуром. Он здоровается с американцем, искоса посматривая на торчащую сзади пилотку.
«Здравия желаю, Джон Иванович! Хау ду ю ду?»
Американский Джон Иванович, видно, уже стрелянный воробей. Заметив улыбку майора он, ни мало не смущаясь, отвечает: «Я знаю — у Вас в таких случаях говорят: „К пустой голове — руку не прикладывай“. У нас порядок другой».
Позже выяснилось, что Джон Яблоков действительно душа-парень. Видимо, желая доставить нам удовольствие или стараясь показать, что хотя он и американец, но всё же идёт в ногу с эпохой, он в показательном порядке услаждал наши уши такой многоэтажной русской матерщиной… наверно повыше Эмпайер Стэйт Билдинг. Матершил он так гладко и без запинок, как хороший проповедник Евангелия.
Но это было позже. Сегодня капитан Яблоков явился с официальной миссией передать генералу Шабалину приглашение на первое организационное заседание Экономического Директората в Контрольном Совете. Генерал Шабалин вертит в руках текст приглашения и повестку дня заседания. Стараясь не показать, что это для него китайская грамота, он спрашивает: «Ну, что у Вас нового?» Второй американский офицер, сопровождающий капитана Яблокова, отвечает по-русски: «Наш начальник, генерал Дрейпер, имеет честь пригласить Вас на…» Американец видимо не слишком сведущ в лексиконе партсобраний или встреч за красным столом. Подумав немного в поисках подходящего выражения, он говорит дословно то, что написано на бумаге — «meeting» «Э-э… на митинг, господин генерал».
Тут уж генерал чувствует себя в своем седле. С английским он не знаком, но зато сталинский словарь он знает наизусть. Посмотрев на американцев так, как в свою бытность секретарем Обкома он смотрел на низовых партработников, он поучительно произносит: «Работать надо, а не митинговать».
Это трафаретная сталинская фраза, служившая в своё время кнутом в устах всех партработников, звучит здесь довольно неуклюже. Но генерал руководствуется правилом: каши маслом не испортишь. Лишнее повторение сталинских слов никогда не повредит.
Я сижу в углу и от души забавляюсь. Сейчас генерал начнет читать американцам лекцию по партийному просвещению. У генерала, как это повсеместно принято при общении с иностранцами, неписаный закон — никогда не доверять одному переводчику. Всегда перекрестный метод. Тем более, если переводчик принадлежит противной стороне. Я должен попутно слушать, нет ли какого подвоха со стороны американцев.
Генерал так вошёл в свою роль партийного наставника, что даже американцам пытается доказать, что митинговать он принципиально не собирается — только работать.
Пока американцы стараются описательно объяснить генералу, что такое «meeting», я пытаюсь сгладить положение. Подсказок генерал не любит, но потом всегда ворчит: «А чего же Вы молчали?» Я деликатно замечаю: «Не беда, товарищ генерал. Они будут митинговать, а мы будем работать».
После того, как урегулирован ряд второстепенных вопросов, американцы садятся в свой оливковый «Шевроле» и катят домой. Майор Кузнецов говорит: «А здорово они по-русски чешут. Только усики, как у Дугласа Фербенкса».
Генерал призывает к порядку: «Сразу видно, что за птицы. Китайские молодчики. Шпионы!»
Генерал, несмотря на занятость, исключительно хорошо осведомлён о персональных данных своих будущих коллег. Действительно, однажды капитан Яблоков в беседе совершенно открыто сказал мне, что он раньше служил в американской разведке в Китае. Для него это, конечно, не было разоблачением служебной тайны. Открыто сказать такую вещь для советского офицера, было бы служебным преступлением.
Через несколько дней мы едем на заседание Контрольного Совета. Итак — работать, а не митинговать. Держитесь союзнички!
Союзный Контрольный Совет расположен в здании Дворца Правосудия по улице Эльсхольцштрассе. В зале заседаний почти пусто. Члены делегаций только собираются. Я откровенно опасаюсь, что мне придётся туго, т. к. переводчиков с нами нет, а в английском я не силён. Когда я предупредил об этом генерала, он коротко ответил: «Должны знать». Опять партийный лозунг, но мне от этого не легче.
До начала заседания выручает немецкий язык, ставший для союзников чем-то вроде эсперанто. Все в какой-то мере немного объясняются по-немецки.
Видя, как я разговариваю по-немецки с французами и англичанами, генерал на ходу буркнул мне: «Погодите, майор, я отучу Вас от симуляции. Рассказывали мне сказочки, что не знаете английского. Вы и с французами балакаете, а мне умолчали, что знаете французский».
Оправдываться бесполезно. Теперь генерал будет, наверно, садить меня в угол, чтобы я проверял французских переводчиков.
Опять-таки последствия партийной практики генерала. В Сов. Союзе довольно часты явления, когда специалисты увиливают от ответственных должностей.
Талантливые инженеры, бывшие директорами крупных трестов и комбинатов, идут работать «техническими руководителями» в какую-нибудь артель инвалидов «Пух и Перо» с количеством рабочих в 5–6 человек.
«Здесь хоть меньше шансов, что посадят», — думают они и скрывают свои способности и дипломы. Партработники знают об этом и охотятся за симулянтами. Таким путём тоже можно заработать статью… за пассивный саботаж.
Я облегчённо вздыхаю, увидев, что американская и английская делегации имеют прекрасных русских переводчиков.
Второй тяжёлой для меня проблемой была моя экипировка. Глядя на меня, можно было подумать, что я прополз на животе от Сталинграда до Берлина. На мне было выцветшее до бела, стиранное во всех речках России и Европы фронтовое обмундирование и солдатские сапоги.
Критически осматривая меня перед отъездом на заседание, генерал только хмыкнул: «Вы никакой рвани похуже найти не могли?» Тут уж мы оба поняли друг друга. Он прекрасно знал, что я, улетая из Москвы, просто-напросто оставил все хорошее обмундирование «про запас».
Многие из нас рассуждали так: «Армия — не театр, а дома дети голые бегают. У кого сестрёнки, у кого племянницы. Перешьют им из твоего шерстяного кителя теплые платьица или штанишки — детям радость».
«Дядя Гриша в этом воевал!» — и показывают с гордостью на дырки от орденов. Так и я оставил несколько комплектов шерстяного обмундирования в Москве, а сам надел что похуже. Все равно по приезде выдадут заграничную экипировку. Только я немного не предусмотрел, что окажусь в Контрольном Совете раньше, чем придёт экипировка.
Я стою у окна и разговариваю с главой французской делегации генералом Сержен. Разговор абсолютно отвлечённый. Я старательно придерживаюсь темы о погоде, твёрдо помня заповеди генерала Шабалина. Хотя я и не принимаю их всерьёз, но генерал определенно поглядывает за движениями моего рта. Лучше быть осторожней.
Может быть, этот француз в душе коммунист? Или по простоте душевной он передаст мой разговор дальше и в конце концов это дойдет до… По опыту я слишком хорошо знаю, насколько наша разведка в курсе дел того, что творится среди союзников.
Позже, когда мы, советские офицеры, работающие в Контрольном Совете, разговаривали о своих впечатлениях, я понял причину общей сдержанности всех нас в разговорах с иностранцами.
Капитан Д. как-то сказал: «Все эти сказки о шпионах — только для того, чтобы заставить нас держать язык за зубами. Это для того, чтобы мы не рассказывали другие тайны…» Капитан Д. замолчал. Эти тайны мы не говорим даже друг другу.
Генерал Сержен истинный потомок галантного века. Внешне он чем-то напоминает генерала де Голля — то ли высокий рост, то ли тот же самый мундир. Его вежливость и чувство такта делают излишней мою подозрительность.
Дело не заходит дальше обычных любезных фраз, да взаимного обмена сигаретами, причем я убеждаюсь, что французские сигареты нисколько не лучше немецких, которые курим мы. Да, простит мне генерал Сержен, это непатриотическое сравнение! Во всяком случае, мы оба тогда согласились, что победа стоит отказа от хороших папирос.
К нам подходит ещё один участник заседания и здоровается с нами. Я вижу молодое лицо и роговые очки. Я не вижу продолжения, но чувствую, что там что-то не в порядке.
Когда наш новый знакомый, по чину капитан, переходит к другой группе, я имею возможность рассмотреть его туалет подробней. Начинается с синего берета с красным помпоном наверху. Затем идёт военная курточка с нормальными пестрыми нашивками и даже орденскими лентами.
Затем начинается что-то странное — на животе у бравого офицера висит кондукторская кожаная сумка с солидным медным замком и ремнем вокруг шеи. Как раз в этот момент капитан хладнокровно извлекает из сумки трубку, затем набивает её табаком из того же хранилища, затем на свет божий появляются спички.
Дальше… Дальше, как говорится в анекдотах, дело принимает пикантный оборот. Мужественные чресла капитана украшает прекрасная, цветастая, мягкая и теплая даже издалека — клетчатая юбка. Будучи мальчишкой, я мечтал иметь рубашку-ковбойку из такого материала.
Капитан недаром заслужил свои ордена. Нужно иметь незаурядное мужество и чисто шотландское хладнокровие, чтобы щеголять в 1945 году по Берлину в таком наряде.
Меня до сегодняшнего дня интересует вопрос: по примеру какого пола, разрешил капитан проблему нижнего белья. Тогда же я только в душе посочувствовал ему: «Холодно наверно бедняге, когда ветерок поддувает!» Пониже юбки у капитана, как у каждого истинного сына Адама, выглядывают голые волосатые коленки. Икры его обтягивают пестрые шерстяные чулки с красными завязочками бантиком.
Точкой опоры этого этнографического сооружения служат нормальные армейские ботинки. Все эти внешние покровы не мешают шотландскому капитану быть толковым советником у главы английской делегации сэра Перси Милльс.
Ровно в 10 часов начинается заседание. После пунктов повестки дня, касающихся порядка работы Экономического Директората, порядка заседаний и председательствования на них, которые не возбуждают каких-либо возражений, переходят к утверждению повестки дня следующего заседания.
Глава американской делегации, как председательствующий на первом заседании в алфавитном порядке, предлагает поставить на повестку дня первый рабочий пункт: «Выработка руководящих указаний по экономической демилитаризации Германии».
Неделю тому назад закончилась Потсдамская Конференция, на которой было решено экономически демилитаризировать Германию, сделать невозможным возрождение военной мощи Германии, установить мирный экономический потенциал. Подробное проведение в жизнь этого решения возлагается на Союзный Контрольный Совет в Германии.
Переводчики переводят: «выработка политики экономической демилитаризации». Снова лингвистическая тонкость. В английском тексте это значит «politics».
Переводчики переводят на русский язык дословно — «политика», хотя это слово в английском языке имеет гораздо более широкий смысл и в данном контексте соответствует русскому «руководящие указания».
Генерал Шабалин при слове «политика» подскакивает, как ужаленный: «Какая тут политика? Всё было решено на Потсдамской Конференции!»
Американский директор, генерал Дрейпер, соглашается: «Совершенно правильно — было решено. Теперь мы должны проводить это в жизнь и выработать для этого руководящие указания».
Переводчики, английский и американский, совместными усилиями опять переводят: «…политикc».
Генерал Шабалин категорически возражает: «Никакой политики. Всёбыло решено. Не давите на мою психику!»
«Да это не политика, — успокаивают генерала переводчики, — это — политикc».
«Икс или игрек — разница небольшая, — упорствует генерал. — Пересматривать Потсдамскую Конференцию я здесь не собираюсь. Мы здесь для того, чтобы работать, а не митинговать».
После этого в течение нескольких часов разыгрывается первая битва за овальным столом. Все из-за одного единственного каверзного слова «политикc», которое генерал Шабалин, даже с ласкательными окончаниями, не хочет иметь в повестке дня и протоколах заседания.
В экономических кругах Главной Квартиры CВА часто приходилось слышать, что решения Потсдамской Конференции рассматривались Кремлём, как величайшая победа советской дипломатии. Инструкции из Москвы каждый раз подчеркивали это.
На Потсдамской Конференции советским дипломатам удалось добиться от западных союзников огромных уступок, которых они даже сами не ожидали.
Может быть, этому способствовало первое опьянение победой и честное желание западных союзников вознаградить Россию за героические усилия и колоссальные жертвы в войне. Может быть, то, что на конференции присутствовали новые лица, — президент Трумэн и премьер Эттли, — ещё не знакомые лично с методами советской дипломатии.
Потсдамский Договор практически отдавал Германию в распоряжение Советского Союза. Некоторые его пункты были очень тонко сформулированы и позволяли в дальнейшем определённую разницу толкований там, где это было нужно. Задачей СВА было теперь использовать до конца искусство советских дипломатов.
«Никакой политики!» — упорно обороняется генерал Шабалин, как медведь от рогатины. По-видимому, у него вертится на языке: «Что Вы меня в Сибирь загнать хотите?» Здесь сказывается привычка даже крупных советских руководителей не предпринимать чего-либо на свой страх и риск. Пусть лучше решают другие, а я буду только выполнять. Таким образом, корни всех решений автоматически уходят вверх.
Позже я убедился, что американская или английская делегации могли менять свои решения в ходе заседаний. Советская делегация всегда приходила и уходила уже с готовыми решениями или знаком вопроса в красной папке генерала, которую он никогда не выпускал из рук. Он скорее был курьером, чем действующим лицом на заседаниях Контрольного Совета.
Поднятый вопрос никогда не решался в один день. Он только обсуждался. По ночам в кабинете генерала, за обитыми войлоком дверями звонила «вертушка» — прямая телефонная связь с Москвой.
Обычно на другом конце провода был Анастас Микоян, член Политбюро ЦК и Чрезвычайный Уполномоченный Совета Министров СССР по Германии, собственно кремлёвский вице-король Германии. Здесь принимались решения, или вернее приказы, о которые потом ломали зубы делегации союзников.
Пока идёт битва вокруг злосчастных «политикс», я присматриваюсь к окружающим. Когда я был в России, то никогда не приходилось заниматься вопросом — кто собственно ты? Здесь же чувствуется — ты русский.
Это чувствуется по тому удельному весу, который имеет советская делегация на заседании. Это — плоды героизма и самоотверженности русских солдат. Для национально мыслящего человека это очень много.
Конечно, политика есть политика, и никогда нельзя предаваться иллюзиям. За каким-либо другим столом все мои иностранные коллеги могут быть чудесными ребятами и собеседниками, но за столом заседаний я не должен забывать, что я русский.
И не то и не другое. За другим столом я с ними общаться не должен, а за столом заседаний — какой я к черту русский, когда я коммунист. Коммунисты не имеют отечества. Каждый из нас здесь, за овальным столом, защищает интересы своей нации или своего государства. Для «них» эти два понятия совпадают. Для нас…
При первых встречах с союзниками остро бросается в глаза разница. Союзники встречают нас как заслуженных победителей и искренних союзников в войне и мире.
Они исходят из национальной точки зрения. Между нашими национальными интересами нет расхождений или противоречий ни в данный момент, ни в ближайшем будущем. Они полагают, что эта простая вещь должна быть очевидна и для нас.
Мы же встречаем «союзников», как противную партию, как врагов, с которыми мы только в силу тактических соображений вынуждены сидёть за одним столом.
Здесь вопрос решается с идеологической точки зрения. «Союзники» думают, что Карл Маркс и Ленин мертвы. Нет, ихняя тень стоит за нашей спиной в этом зале заседаний Контрольного Совета. «Союзники» этого сегодня ещё не понимают. Тем хуже для них.
Помимо того, что каждая делегация представляет собой интересы своего государства, члены делегаций одновременно являются исключительно яркими и типичными представителями внешнего и внутреннего облика своей нации.
Конечно, из этого не следует заключать, что Димитрий Шабалин курит махорку, а Вильям Дрейпер жует резинку. Во всяком случае, не во время заседаний.
Глава американской делегации, американский директор Экономического Директората — генерал Вильям Н. Дрейпер. Средних лет. Очень моложавый. Худощавая фигура спортсмена. Костистое смуглое лицо. Живой и энергичный.
Когда он смеётся, то под чёрными усиками сверкает белизной крепкий волчий оскал. Такому палец в рот не клади. Он задаёт тон заседаниям, даже когда не председательствует. Он дышит здоровой энергией молодой самоутверждающейся нации.
Не знаю, сколько миллионов действительно брякает в кармане у Вильяма Дрейпера, но генерал Шабалин неоднократно замечал: «У-у! Миллионер. Акула!» Интересно из чего он исходит: из коммунистического мировоззрения или из данных нашей разведки?
Глава английской делегации и английский директор Экономического Директората — сэр Перси Милльс. Типичный британец. От него веет туманом и Трафальгар-сквером. На нем солдатская униформа из грубого сукна без знаков различия.
По тому, как с его мнением считаются присутствующие, видно, что он крупный авторитет в экономических сферах. По данным генерала Шабалина — он один из директоров крупнейшего английского концерна «Метрополитен-Виккерс», английского Круппа.
Сэр Перси Милльс до синевы выбрит. Если верить тому, что англичане бреются два раза в день, то это в первую очередь относится к сэру Перси Милльс.
Когда он считает нужным улыбнуться, то двигаются только тяжёлые складки вокруг рта, глаза устремлены в бумаги, а уши внимательно слушают многочисленных советников.
Британия, в лице сэра Перси Милльс, старательно работает, но чутко прислушивается к голосу своего молодого союзника и победоносного конкурента — Америки.
За столом заседаний Контрольного Совета, как на ладони, видно перемещение исторического значения великих держав мира. Великобритания сыграла свою роль. Осталась только Англия. С гордым самосознанием она уступает место более молодым и сильным. Как и полагается джентльменам!
Франция. Отблеск всего прекрасного, что было в духовной культуре Европы. Отблеск, но не больше. Потомки Бонапарта и Вольтера, современники Пьера Петэна и Жан-Поля Сартра. Всё в прошлом. Эксистенциализм. Как бы продержаться на воде.
Французскому директору Экономического Директората — генералу Сержен не остается ничего лучшего, как, вспоминая золотые дни Шарля Талейрана, наиболее деликатным образом лавировать. Не слишком соглашаться с Западом. Не слишком противоречить Востоку.
Великий союзник на Востоке представлен советским генералом Шабалиным, смертельно боящимся слова «политика», да ещё майором Климовым, одновременно совмещающим обязанности секретаря, переводчика и советника по всем вопросам. На первое заседание мы приехали как на пикник.
Несмотря на то, что мы были во всеоружии коммунистической теории, мне стало неуютно на душе, когда я увидел многочисленный состав других делегаций и ознакомился с их персональными данными.
В то время я наивно полагал, что на этих заседаниях будет действительно что-то решаться. С таким же успехом с советской стороны мог участвовать и один человек — самый обычный почтальон.
На западном фронте без перемен. Объединённые силы союзников настаивают на формулировке «политикс», генерал Шабалин уже третий час категорически твердит: «Никакой политики. На Потсдамской Конференции…» В подтверждение он вытаскивает из папки газету и показывает места, отчёркнутые красным карандашом.
Учёные мужи Запада в свою очередь достают газеты и начинают сверять тексты — может быть действительно всё решено? Нет, один раз поехать на заседание Контрольного Совета — это очень интересно, интересней чем в оперетку.
Но присутствовать на них еженедельно — опасно, можно заболеть расстройством нервной системы. Ведь полдня бьются над одним единственным словом в повестке дня будущего заседания!
Участники заседания довольно недвусмысленно поглядывают на часы. Западноевропейский желудок привык к точности. Наконец генерал Шабалин не выдерживает и официально заявляет: «Вы что от меня, собственно, хотите — изнасиловать? Да?!»
Переводчики склоняют голову на бок, — уж не ослышались ли они. Затем, не зная как это принять — в шутку или всерьез, неуверенно спрашивают: «Так и переводить?»
«Так и переводить», — отвечает генерал.
Я углом глаз смотрю на хорошенькую, с точёным как камея профилем, секретаршу генерала Сержен.
«Как придутся по вкусу парижанке русские остроты?» — думаю я.
Сэр Перси Милльс старается показать, что ему очень весело и растягивает углы рта в улыбку.
Генерал Дрейпер, как председательствующий на этом заседании, встает и говорит: «Предлагаю закончить заседание. Пойдемте обедать!»
То ли он, в самом деле, проголодался, то ли ему стало дурно от советской дипломатии. Все облегчённо вздыхают и заседание заканчивается.
Мы вышли победителями. Оттянули время пока на неделю, а дальше — видно будет. Сегодня ночью генерал Шабалин будет иметь возможность позвонить по «вертушке» и спросить у тов. Микояна — можно ли ставить политику на повестку дня или нельзя.
Пока мы митингуем, Особый Комитет по демонтажу и Репарационное Управление генерала Зорина работают. Союзнички будут поставлены перед совершившимся фактом. О'кэй! В конце концов, каждый защищает свои интересы.
3
В Контрольном Совете я впервые имею возможность лично познакомиться с нашими западными союзниками.
Во время войны, сначала в Горьком, а затем в Москве, я встречал, вернее видел, многих американцев и англичан. Там у меня не было официального повода для личного контакта, а без специального разрешения НКВД каждое, пусть самое безобидное, знакомство или разговор с иностранцем в Советском Союзе являются безумием.
По этому вопросу не существует никаких запретов, но каждый советский гражданин твёрдо знает, какие роковые последствия может повлечь за собой такое легкомыслие.
Даже, если кто-либо даст на улице прикурить иностранцу, то его следом вызовут в НКВД и учинят строжайший допрос. Это в лучшем случае. В худшем случае он может попасть в «шпионы» и пополнить ряды рабочей силы в лагерях НКВД.
Чтобы воспрепятствовать контакту советских людей с иностранцами Кремль пустил легенду, что все иностранцы — шпионы, а, следовательно, и каждый, кто входит с ними в контакт, тоже шпион. Просто, как дважды два — четыре.
Универсальным достижением советского строя является узаконенное беззаконие и в конечном итоге — преувеличенный сковывающий страх перед властью. Страх висит над головой каждого, как топор. В руках Кремля гипнотизирующий страх служит одним из основных средств воспитания и руководства массами. Это тоже один из всемогущих членов Политбюро, от которого не свободен никто из остальных тринадцати мудрецов.
Однажды, после очередных бесплодных дебатов на заседании в Контрольном Совете, сэр Перси Милльс взглянул на часы и предложил перенести продолжение заседания до следующей встречи. Одновременно он пригласил членов делегаций к себе на обед.
Генерал Шабалин сел в машину своего английского коллеги. Я, не получив никаких инструкций, уселся на генеральское место и приказал Мише держать в кильватер за машиной, где находился мой начальник. После получасовой езды кавалькада автомашин остановилась у подъезда виллы в предместье Берлина.
Чувствуя себя довольно неуверенно, я вхожу в дом. Все приглашенные оставляют свои фуражки и папки на столике или вешалке в передней. Служанка берет из моих рук фуражку, затем услужливо протягивает руку к моей папке. Тут моё смущение возрастает ещё больше.
Со мной красная папка генерала. В ней нет ничего особенного — протоколы предыдущих заседаний, которые к тому же пришли к нам от англичан. Оставить папку в машине — нельзя, положить её, как все, в передней — государственное преступление, тащить её с собой — глупо.
Меня выручает сам генерал Шабалин. Он подходит ко мне и тихо говорит: «Что Вы, майор, сюда поперлись? Идите и ждите меня в машине!»
С облегчённым сердцем я выхожу на улицу, усаживаюсь в наш автомобиль и закуриваю сигарету. Через несколько минут в дверях виллы появляется английский капитан, адъютант сэра Перси Милльс и просит меня внутрь.
Я пробую отказаться, сославшись на отсутствие аппетита, но капитан делает такое недоуменное лицо, что мне не остается ничего другого, как последовать за ним.
Когда я вошёл в холл, где в ожидании обеда разместились все приглашенные, генерал искоса взглянул на меня, но промолчал. Оказывается, хозяин дома предварительно испросил его согласие, и только затем послал за мной своего адъютанта. Не даром англичане славятся, как самые тактичные люди в мире.
Красную папку я передал в руки генерала. Изо всех глупых вариантов, я счел это наиболее безобидным. Пусть сам чувствует себя дураком, если уж играть эту комедию.
Я стою у огромного венецианского окна, выходящего в сад, и разговариваю с бригадиром Бадером. Бригадир — настоящий колониальный волк. Песочные, как будто выжженные солнцем волосы и брови, светло-серые живые глаза под выцветшими ресницами, иссушенная тропиками кожа лица.
По любезной рекомендации генерала Шабалина он не что иное, как матерый международный шпион. Итак, я имею честь беседовать с выдающейся личностью. Разговор ведется на англо-немецком жаргоне.
«Как Вам здесь нравиться в Германии?» — спрашивает бригадир.
«О, не плохо!» — отвечаю я.
«Alles kaputt», — продолжает бригадир.
«Ja, ja, ganz kaputt», — соглашаюсь я.
Покончив с германскими проблемами, мы переходим дальше. Так как лето 1945 года выдалось на редкость жаркое, я спрашиваю:
«Не жарко ли Вам здесь после Англии?»
«О нет, я привык, — улыбается бригадир. — Я много лет провел в колониях — в Африке, в Индии».
Во время разговора я тщательно избегаю прямого обращения к моему собеседнику. Как я должен его называть? Герр — неудобно. Мистер — в наших ушах звучит как ругательство. Камрад? Нет, от этого слова я пока воздержусь.
В это время я замечаю пытливо устремленные на меня глаза генерала Шабалина. Мой начальник, наверное, мучится опасениями, что бригадир уже вербует меня в свои агенты.
Тут, как на грех, к нам подходит горничная с подносом. Бадер берёт крошечную рюмку с бесцветной жидкостью, поднимает её на уровень глаз, приглашая меня последовать его примеру. Я подношу рюмку к губам, затем ставлю её на подоконник.
Когда бригадир на секунду отворачивается, я незаметным движением за спиной выплескиваю виски в окно. Как в дешёвом криминальном романе. Глупо, а иначе нельзя. И что досадней всего — генерал, конечно, никогда не поверит этому патриотическому поступку. В глотке или за окном, а эта рюмка будет записана в мой отрицательный баланс.
В составе советской делегации сегодня присутствует начальник Отдела Топлива и Электростанций — Курмашев. Не знаю, по каким соображениям генерал Шабалин притащил его с собой.
Повестка дня сегодняшнего заседания не имеет никакого отношения ни к топливу, ни к электростанциям. Я подозреваю, что генерал взял Курмашева просто для мебели. Все делегации имеют обильное количество советников. Шабалин хочет показать, что он тоже с кем-то совещается.
Несчастный советник забился поглубже в кресло, втянул шею между плеч, не знает, куда девать свои руки и ноги и смертельно боится вступать с кем-либо в разговор, опасаясь диверсии или провокации.
Когда хозяин дома из вежливости обращается к нему с вопросом, Курмашев испуганно вздрагивает и непроизвольно бросает страдающий взор в сторону столовой, где гремят тарелки, как будто ожидал оттуда спасения.
Курмашев единственный изо всех присутствующих, кто одет в тёмно-синий гражданский костюм. Хорошо хоть, что он не явился сюда в том костюме, которым он щеголяет в СВА.
По мере организации и расширения Экономического Управления к нам прибывают все новые и новые сотрудники из Москвы. На должности начальников Отделов СВА, которые по существу являются министерствами советской зоны Германии, обычно назначаются заместители Наркомов соответствующих Наркоматов. Все они старые партработники, специалисты по руководству советским хозяйством.
Когда новые начальники впервые появляются на работе, трудно удержаться от смеха. Ни дать, ни взять — крестоносцы коммунизма.
Недавно мы любовались вновь назначенным начальником Отдела Промышленности Александровым и его заместителем Смирновым.
Оба скрипели тупоносыми сталинскими сапогами с высокими голенищами, которые даже сам законодатель этой моды давно сдал в архив. Поверх сапог топорщились суконные галифе из шинельного сукна. Гармонию завершали тёмно-синие гимнастерки эпохи военного коммунизма.
В своё время это одеяние было модным среди партработников, начиная от председателя МТС и кончая наркомом, и олицетворяло не только внутреннюю, но и внешнюю преданность вождю с головы до пяток. Теперь наркомы уже давно носят нормальное европейское платье и подобный сталинский маскарад можно встретить разве что в глухом колхозе.
Представляю себе, какое впечатление производили эти чучела на немцев. Точь в точь копия с гитлеровских карикатур на большевиков.
Вскоре рьяные парт-крестоносцы сами почувствовали несоответствие их исторической одежды в изменившихся условиях и постепенно стали приспосабливаться к среде. Впоследствии весь гражданский состав СВА был одет по последней европейской моде даже с претензией на щеголеватость.
Этому способствовал тот факт, что все руководящие работники СВА получают специальную заграничную экипировку, т. е. имеют возможность получать по талонам отрезы на платье в соответствии с занимаемой ими должностью. В особенности это относится к работникам, занятым в Контрольном Совете.
Атмосфера непринужденной сердечности и гостеприимства царит в комнате. Интернациональное общество нисколько не чувствует себя связанным различием униформ и даже языков. Только один советский делегат одиноко сидит, закинув ногу за ногу, в кресле и страдаёт.
Курмашев чувствует себя значительно хуже, чем миссионер в кругу людоедов. Он беспрерывно вытирает платком пот со лба, пыжится с важным видом, как индюк на птичьем дворе, и беспрестанно поглядывает на часы. Когда следует приглашение к столу, Курмашев вздыхает с явным облегчением.
Можно не сомневаться, что он с удовольствием поболтал бы со своими соседями, даже с помощью пальцев, посмеялся и выпил бы пару стаканчиков виски. Но здесь он не такой человек, как все. Он — носитель и одновременно раб коммунистического мировоззрения.
За обедом генерал Шабалин сидит по правую руку хозяина дома и через переводчика беседует с сэром Перси Милльс. Военный мундир помогает ему держать себя более уверенно, чем Курмашев.
Тот усиленно скребет тарелку и изображает свое полное безразличие к происходящему кругом. Тяжёлая задача — набить полон рот, чтобы этим избавиться от необходимости разговаривать с соседями по столу.
Мой начальник натянуто улыбается и принуждаёт себя смеяться в ответ на шутки сэра Милльс. Со своей стороны генерал ни разу не делает попытки продолжить или поддержать разговор. Что думают по этому поводу англичане — с русскими трудно разговаривать не только за столом заседаний, но и за обеденным столом. Когда-то англичане заслужили от нас кличку «твердолобых». Теперь роли меняются.
Я сижу по другую сторону стола между бригадиром Бадером и английским адъютантом.
Когда я случайно поднимаю глаза от тарелки, то наталкиваюсь на встречный настороженный взгляд генерала Шабалина. По мере того, как обед близится к концу, генерал теряет некоторую долю своей большевистской брони и даже поднимает ответный тост за здоровье хозяина дома. При этом он всё чаще и чаще бросает испытывающие взгляды в мою сторону.
И смех и грех! Я знаю, что по долгу службы генерал, конечно, следит за мной. Это в порядке вещей. Но, оказывается, что генерал не столько сам следит за мной, как интересуется наблюдаю ли я за ним. Он уверен, что мне поручена слежка за ним. Курмашев боится генерала, генерал остерегается меня, я не доверяю сам себе.
Это чувство возрастает в геометрической прогрессии соответственно движению по советской иерархической лестнице. И больше всего страдаёт этой болезнью сам создатель этой гениальной системы.
Поглядев на потеющих от страха и недоверия советских сановников, отпадаёт всякое желание карабкаться по лестнице советской карьеры. Когда генерал Шабалин пас овец или пахал землю, он был несравненно более счастлив, чем теперь.
После обеда все снова собираются в гостиной. Бригадир Бадер подходит ко мне и предлагает завернутую в целлофан толстую сигару с золотым ярлыком.
Я с любопытством кручу сигару между пальцев. Настоящая гавана! До сих пор я знал их только по карикатурам, где гавана была неизменным аксессуаром в зубах каждого злодея-миллионера, как раньше кинжал в зубах у пирата.
С видом опытного курильщика сигар я пытаюсь откусить конец зубами, но проклятая гаванна не поддаётся. Во рту полно горькой дряни, которую к тому же некуда выплюнуть.
«Как Вам понравился обед?» — вежливо осведомляется бригадир.
«O, very well!» — столь-же вежливо отвечаю я, осторожно пуская голубоватый дым через ноздри.
В это время Шабалин делает мне знак пальцем. Я извиняюсь перед бригадиром, предусмотрительно оставляю сигару в цветочном горшке и следую за генералом. Мы выходим в парк, как будто чтобы подышать свежим воздухом.
«О чем Вы разговаривали с этим?..» — ворчит генерал, избегая произносить имя.
«О погоде, товарищ генерал».
«Хм… Хм…» — фыркает Шабалин, как ёж, и трёт нос костяшкой согнутого указательного пальца. Так он делает всегда при разговорах полуофициального характера. Затем он неожиданно меняет тон: «Я думаю, что больше Вам здесь делать нечего. Можете быть свободны на сегодня. Возьмите мою машину и покатайтесь по Берлину, посмотрите на девочек…»
Генерал делает довольно фривольное замечание и натянуто улыбается. Я внимательно слушаю, равномерно шагая рядом с ним по дорожке парка. Что это за подозрительная снисходительность и забота?
«…Кузнецову позвоните вечером по телефону и скажите, что я приеду прямо домой», — заканчивает Шабалин, поднимаясь по ступенькам, ведущим на веранду.
Итак, генерал на работу сегодня больше не приедет. Там его ожидаёт обычное бдение до трех часов ночи. Это не необходимость работы, а его долг, как большевика. Он должен быть на посту около «вертушки» — может быть, «хозяин» окликнет среди ночи.
Теперь же, после сытного обеда и нескольких бокалов вина, генерал почувствовал потребность хоть на несколько часов стать человеком, как окружающие. Уютная обстановка виллы и атмосфера непринуждённой сердечности подействовали даже на этого партийного волка.
Ему бессознательно хочется скинуть маску железного большевика, громко посмеяться, хлопнуть по плечу своих коллег — быть человеком, а не партбилетом. Я же, по его мнению, являюсь оком и ухом партии. Поэтому он отсылает меня под благовидным предлогом, давая и мне возможность провести время по своему усмотрению.
Вернувшись в дом, я беру с вешалки фуражку и, не привлекая по возможности внимание окружающих, выхожу наружу.
Миша дремлет в машине.
«Ух-х-х, товарищ майор, — тяжело вздыхает он, когда я открываю дверцу. — После такого обеда обязательно поспать надо — на травке, часика два».
«Ты тоже обедал?» — удивленно спрашиваю я.
«Ну а как же! — с гордостью пыхтит Миша, суя ключ в зажигание. — Как князь пообедал».
«Где?»
«Тут. Позвали меня. Стол отдельный накрыт. Как скатерть самобранка. И знаете что, товарищ майор? — Миша заговорщицки косится на меня. — Наш генерал так не кушает, как меня накормили. Я то уж знаю».
Некоторое время мы едем молча. Затем Миша, как будто разговаривая сам с собой, бормочет: «Неужели у них всех солдат так кормят?»
После ознакомления с условиями в доме сэра Перси Милльс, невольно приходит в голову сравнение с квартирой генерала Шабалина.
В Контрольном Совете вошел в употребление обычай, согласно которому каждый директор поочерёдно приглашает к себе своих коллег по Экономическому Директорату. Когда очередь в первый раз дошла до Шабалина, он не воспользовался этим правилом как будто по рассеянности или незнанию. На самом деле генералу некуда было пригласить иностранцев.
Конечно, Шабалин имеет полную возможность захватить и обставить соответствующий его рангу аппартамент. Но сделать это сам он не решается, а начальник АХО генерал Демидов за него это делать не будет, т. к. по уставу такой роскоши не полагается. До специальной «заграничной экипировки» додумались, а до квартир ещё очередь не дошла.
Свой маленький коттедж Шабалин теперь сменил на пятикомнатную квартиру в доме, где живёт большинство сотрудников Экономического Управления.
Ординарец Николай и шофёр Миша натаскали в новую квартиру мебели и разных побрякушек со всего квартала, но впечатление получилось не генеральского жилища, а воровской фатеры. Принимать иностранных гостей здесь явно неудобно. Это чувствует даже сам Шабалин.
Опять те же противоречия между большевистской теорией и практикой. Кремлёвская верхушка давно наплевала на проповедуемую ими пролетарскую мораль и купается в роскоши, доступной не для всякого капиталиста.
Тем более, что живут они за столькими замками, что их личная жизнь недоступна глазам народа. Нижестоящие вожди все больше и больше шагают по тому же пути.
Партийная аристократия, подобно Шабалину, живёт двойной жизнью — на словах они разыгрывают идейных большевиков, а на деле являются взломщиками проповедуемых ими идей. Сочетать эти вещи довольно трудно.
Всё приходится делать воровато, с опаской, с оглядкой. Под ногами путаются собственные классовые теории и новые советские предрассудки. Кремлевских стен и заградительных зон здесь нет, всё происходит более или менее открыто. А вдруг кремлёвские хозяева прикрикнут?
Сначала Шабалин обедал в так называемой столовой Военного Совета, т. е. генеральской столовой. Теперь же Дуся, незаконная горничная, трижды в день ездит туда в автомашине и берет кушания на дом. Но даже в таких условиях гостей в дом не пригласишь, а в столовую Военного Совета посетителей, тем более иностранцев, водить не полагается.
Даже здесь, в условиях оккупированной Германии, где мы не связаны ни жилплощадью, ни пайками, где всё буквально — нагнись и подними, даже здесь мы продолжаем жить на советский манер.
Вскоре Штаб СВА учёл недостатки существующего положения и разрешил проблему по старому потёмкинскому методу. Было создано подобие специального клуба, где руководящие работники СВА могут устраивать приемы для своих западных коллег.
В каждом случае требуется заранее представлять в Liason Service СВА точный список всех приглашенных, который тщательно проверяется НКВД и требует подписи Начальника Штаба СВА. Это не просто короткая фраза сэра Перси Милльс: «Поехали ко мне обедать, джентльмены!», где не забывают даже шофёра Мишу.
При первых встречах с союзниками я не на шутку опасался, что мне будут задавать слишком много вопросов, на которые я не в состоянии буду ответить. Точнее, не имею права отвечать. По мере моей работы в контрольном Совете во мне всё больше и больше растет недоумение.
Люди демократического мира не только не предпринимают попыток обращаться к нам с политическими вопросами, которые, по моему мнению, обязательно должны возникать у них при встрече с представителями абсолютно противоположной государственной системы, но они даже проявляют непонятное для меня безразличие к этой теме.
Сначала я принимал это за чувство такта. Впоследствии я убедился в другом. Средний человек Запада, как это ни парадоксально, гораздо меньше интересуется политикой и всем, что с ней связано, чем средний советский человек.
Человека Запада больше интересует, сколько бутылок шампанского было выпито при дипломатическом приеме в Кремле или в каком вечернем туалете появилась жена Молотова.
Это в лучшем случае. Обычно же его интересы не идут дальше спорта и хорошеньких актрис на обложках журналов. Это вполне естественно каждому человеку в нормальных условиях. Если бы советские люди имели возможность выбора, то они поступили бы точно так.
Но своеобразие советской печати исключает беспартийное чтение. Каждая строчка пропитана политикой. Многие поэтому предпочитают ничего не читать и тогда их переводят на искусственное питание с помощью кружков и политзанятий. Те же, кто читает, не настолько глупы, чтобы безоговорочно верить всему, что им преподносится.
Отсюда постоянный неудовлетворенный интерес к запретному плоду, к объективной истине. Это скованная политическая активность, затаённый интерес к проблемам и явлениям окружающего мира в сравнении с советскими условиями.
Майор Кузнецов выражает это в задумчивой фразе: «Хм! Вот они какие — сенаторы?!», шофёр Миша в наивном вопросе: «Неужели у них всех солдат так кормят?!» Средний человек Запада, живя в нормальных условиях, не ломает голову над причинами явлений. К чему? Ведь всё в порядке. Советские люди не имеют ничего кроме бумажного счастья, бумажного благополучия и бумажной радости.
Тут поневоле задумаешься о причинах и взаимосвязи явлений. Материал для размышлений обширный и я вижу, что люди не проходят вслепую. Они молча наблюдают и делают в глубине души заключения.
Когда приходится читать немецкие и англо-американские газеты, невольно удивляешься насколько внешний мир не знаком со всем тем, что происходит в Советском Союзе. То, что мы получаем умышленно искажённое представление о внешнем мире — это вполне понятно.
То, что немецкая печать, которая имеет свежий опыт контакта с СССР, не имеет сегодня возможности говорить на эту тему свободно, т. к. это запрещено соответствующими приказами Контрольного Совета — это тоже понятно.
Но то, что свободная англо-американская пресса говорит о СССР очень сдержанно, а когда и говорит, то абсолютно наивные вещи — это трудно объяснить.
То ли это просто безразличие, обусловленное незаинтересованностью и называющееся на дипломатическом языке невмешательством в дела других наций, то ли это отсутствие правильной информации.
Так или иначе, а слепота во внешних и внутренних процессах, развивающихся в Советской России, впоследствии доставит западным демократиям много головной боли.
Теперь мы столкнулись вплотную. Вчерашние союзники сегодня стали соперниками, завтра они могут стать врагами. Для того чтобы бороться, надо знать врага, надо знать его слабые и сильные стороны.
Запад не понимает чудовищной двойственности советской действительности. За тридцать лет мы значительно изменились, в какой-то мере мы стали советскими, понимая это как действие коммунистической теории в данной национальной среде. Став советскими, мы одновременно приобрели иммунитет к коммунизму. Этого Запад и не подозревает.
Сегодняшнее советское государство — это созревший плод, корни которого начинают подгнивать. Недаром Политбюро стало подводить под здание советов старый национальный фундамент. Он полностью оправдал себя во время войны. После войны это переливание свежей крови в гниющий государственный организм продолжается.
На некоторый период времени это, без сомнения, поможет — собьёт с толку одних, вселит иллюзорные надежды другим. Планы Кремля от этого, конечно, не изменятся.
Маленькая, но характерная деталь. В оккупированной Германии все как один русские солдаты и офицеры неожиданно стали употреблять слово «Россия». Это получилось автоматически. Иногда мы по привычке говорим — СССР, затем поправляемся — Россия. Нам это самим странно, но это факт.
В течение четверти века употребление слова «Россия» влекло за собой обвинение в шовинизме и соответствующую статью в кодексе НКВД. Даже читая классиков это слово нужно было произносить торопливым шепотом.
Этот, казалось бы, мелкий факт бросается в глаза, когда слово «Россия» сегодня звучит в устах поголовно всех солдат. Этим словом солдат бессознательно подчеркивает разницу между понятиями «советский» и «русский».
Иностранная пресса, как на зло, во всех случаях путает эти понятия. То, что мы сами терпеть не можем, они называют «русским», то, что для нас дорого они называют «советским».
У советских людей нет ни желания, ни потребности читать иностранцам политграмоту и объяснять им сущность советской действительности. Для чего рисковать собственной головой, удовлетворяя праздное любопытство чужого человека, который к тому же даже не проявляет интереса к теме?
Степень ограничения советских людей в контакте с внешним миром хорошо видна из следующего случая, произошедшего с несколькими работниками Экономического Управления.
Однажды в перерыв между заседаниями в Контрольном Совете среди членов делегаций зашёл разговор о том, как кто собирается проводить следующее воскресенье. У председателя советской стороны в Промышленном Комитете Козлова выскользнуло неосторожное признание, что он с группой сотрудников едет на охоту.
Иностранные коллеги Козлова с радостью воспользовались случаем провести воскресенье в одной компании и выразили желание поехать на охоту совместно. Козлов вынужден был выразить свою радость по этому поводу.
В воскресенье охотничий кортеж на нескольких автомашинах выехал из Берлина. По дороге советская сторона всеми силами старалась потеряться. Вежливая забота и превосходные автомашины западной стороны к досаде Козлова не дали возможности избавиться от неудобных друзей.
Прибыв на место охоты, союзники развалились на траве, собираясь закусить и побеседовать. Чтобы избежать этого, Козлов и другие рассыпались по кустам и весь день рыскали в чаще, проклиная судьбу, связавшую их со столь политически-неблагонадежной охотничьей компанией.
Позже, чтобы застраховать себя от возможных неприятных последствий, Козлов целую неделю с жалобами и проклятиями рассказывал по Экономическому Управлению об этом эпизоде, подчёркивая свою бдительную позицию.
Итак, мы не можем свободно общаться с Западом. Что же теперь делает Запад, чтобы познакомиться с советскими проблемами?
Мне несколько раз приходилось наблюдать, каким образом Запад получает информацию о Советской России из «надежных и компетентных источников». Источниками информации обычно являются журналисты. Американский или английский журналист стремится получить возможность встречи с советскими коллегами в уверенности, что именно здесь он найдет исчерпывающие и соответствующие истине ответы.
Наивные люди! Ведь искать правды у советского журналиста это всё равно, что искать целомудрия у проститутки. Ориентироваться на информацию людей, профессией которых является дезинформация и дезориентация общественного мнения.
Даже спустя несколько лет, вопреки, казалось бы, хорошим урокам, Запад мало чему научился.
Американский журналисты, находящиеся в Берлине, долго искали случая встретиться со своими советскими братьями по перу в непринуждённой обстановке. Те всячески избегали этой встречи. В конце концов, встреча состоялась в советском «Клубе Печати». Прогрессом было то, что американцы задавали на этот раз вопросы, на которые нелегко было ответить даже прожжённым шулерам пера и чернила.
Последним приходилось больше отмалчиваться. Поучительно также, что американцы стали понимать значение слова «НКВД», им казалось, что их советские коллеги являются жертвами НКВД, что они со всех сторон окружены шпиками, а в каждом столе замаскирован диктофон.
Конечно, вернее было бы предположить, что сами гостеприимные хозяева являются агентами НКВД. На базе полученного мной в Академии опыта, я знаю, что все заграничные корреспонденты СССР являются параллельно штатными сотрудниками НКВД.
Молчаливую сдержанность своих коллег американцы объяснили страхом. Это уже шаг по пути к истине, хотя и не совсем точный для данного случая. В одном месте американцы даже затронули тему души советского человека, но сделали ошибку, рассматривая её, как таковую. Советская душа есть функция советской действительности и её нельзя анализировать вне зависимости от среды.
Будущее покажет необходимость для Запада более серьёзно заняться изучением советских проблем.
Работа в Контрольном Совете очень поучительна. Это несколько напоминает театр, где на сцене разыгрывается исторический спектакль. Я сижу в первом ряду партера и мне очень ясно виден грим актеров и слышно подсказывание суфлера.
С первых же заседаний во мне рассеивается мнение, свойственное большинству людей с улицы, что профессия дипломата это нечто лёгкое и беззаботное — белые груди смокингов, поднятые бокалы шампанского и вечерние туалеты дам общества. В действительности всё это выглядит совсем иначе. Это чертовски трудное, вернее нудное, занятие.
Здесь нужно обладать шкурой гиппопотама и чуткостью антилопы, нервами из манильского троса и выдержкой африканского охотника, которого печёт солнце, мучит жажда, кусают комары и который не может позволить себе неосторожное движение из боязни спугнуть дичь. Английская поговорка гласит, что высшее достижение хорошего тона — это скучать до смерти и при том не подавать вида.
Теперь генерал Шабалин даёт своим коллегам широкие возможности проверить эту истину. Приходится удивляться, с каким серьёзным видом серьёзные люди могут целыми часами и днями биться над неразрешимой проблемой, пока они убедятся, что она неразрешима.
При подборе дипломатов англичане руководствуются следующим принципом: самый неподходящий для дипломатической службы — это человек энергичный и неумный, мало подходящий — человек энергичный и умный, самый подходящий — человек умный и пассивный. Англичане предпочитают медлительность с конечным правильным решением и смертельно боятся опрометчивых решений, кончающихся ошибкой.
Для советских дипломатов это правило действительно в обратном порядке. Идеальный советский дипломат должен быть предельно энергичен и предельно глуп. Ум ему не нужен, т. к. все равно он сам не принимает никаких решений.
Энергия же — это качество необходимое каждому коммивояжеру, независимо от того навязывает ли он людям лезвия для безопасных бритв или политику своих хозяев. Генерал Шабалин — наглядный пример этому.
Активная политика характерна для советских дипломатов. В чём-чём, а в пассивности упрекнуть Кремль нельзя.
Первые встречи в Контрольном Совете довольно показательны. Несмотря на моё личное довольно скептическое отношение к политике западных держав, — я учитываю национальный и государственный эгоизм каждой стороны, — мне приходится убедиться, что западные союзники стремятся к сотрудничеству с нами в деле послевоенного мира. Планы создания Организации Объединенных Наций свидётельствуют о воле западных демократий к миру во всем мире.
Внешне мы проявляем полную заинтересованность и готовность идти по этому пути. Но первые же практические мероприятия показывают обратное.
Готовность к сотрудничеству в деле мира — это только тактический маневр, в целях сохранения демократической маски, в целях выигрыша времени для реорганизации сил, в целях использования демократических трибун для саботажа мирового общественного мнения.
Мне приходится убедиться в этом печальном факте буквально на первых же заседаниях Контрольного Совета.
Иногда я пытаюсь успокоить себя тем, что Кремль на Потсдамской Конференции сумел захватить изрядный кусок европейского пирога и теперь нуждаётся в передышке, чтобы переварить добычу. Я пытаюсь стать на национально-эгоистическую точку зрения и оправдать этим политику Кремля. Но это слабое объяснение, вернее самообман.
Мне приходят в голову слова Анны Петровны, поразившие меня в Москве. Из них я мог понять, что Кремль имеет в виду активные действия советских вооружённых сил в послевоенный период. Казалось абсурдом думать о каких-то военных планах, когда только вчера закончилась чудовищная мировая бойня и весь мир судорожно тянется к миру.
Это казалось невероятным и неправдоподобным. С первых же заседаний Контрольного Совета стало ясно, во всяком случае, для меня, для не дипломата и не политика, — что Кремль не имеет ни малейшего желания сотрудничать с демократиями Запада. В свете этого факта слова Анны Петровны приобретают некоторую логику.
Представители демократий недоумевают, теряясь в догадках, чем можно объяснить столь странное поведение их восточного союзника? С таким же упорством, как средневековые алхимики искали формулу философского камня, они стараются найти модус вивенди в обращении с Кремлём.
Они ищут ключ к загадке в своеобразии души востока, поднимают пыль исторических фолиантов и не догадаются заглянуть в миллионные тиражи трудов Ленина и Сталина по вопросам теории и тактики.
Они слишком полагаются на роспуск Коминтерна. Им не знакома крылатая фраза, которой советские вожди оправдывают каждое свое отступление от генеральной линии: «Временное отступление вполне оправдано, когда оно необходимо для реорганизации и накопления сил для последующего наступления». Непреклонная «генеральная линия» при случае может извиваться как гадюка.
Я ввёл бы для западных дипломатов обязательное обучение основам Марксизма-Ленинизма. Тогда они чувствовали бы себя увереннее при встречах с советскими дипломатами. А пока Запад только недоуменно трясёт головой и отмахивается хвостом, как уважающая себя корова от назойливых мух.
Таковы внешние отношения союзников в первые месяцы работы Контрольного Совета. Они довольно знаменательны для понимания дальнейшей работы и судьбы этого высшего законодательного органа послевоенной Германии.
Глава 8 Главный штаб
1
Пробыв несколько месяцев в Карлсхорсте, я довольно хорошо ознакомился со строением Главного Штаба Советской Военной Администрации в Германии. Работа в непосредственной близости к верхушкам командования СВА давала мне возможность заглянуть за кулисы механизма Главного Штаба.
Главноначальствующий СВА в Германии маршал Жуков одновременно совмещает пост Главнокомандующего Группой Советских Оккупационных Войск в Германии, сокращенно ГСОВ. Исходя из этого, он имеет вторую штаб-квартиру в Потсдаме, где расположен Главный Штаб ГСОВ.
Маршал Жуков пользуется заслуженным авторитетом, и его назначение на пост военного губернатора капитулировавшей Германии было вполне естественным. Это была заслуженная награда блестящему полководцу, сыгравшему в войне одну из главных ролей.
В том, что маршал Жуков популярен, сомневаться не приходится. Об этом свидётельствует масса рассказов о личности маршала и его отношении к солдатам. Вот один из них.
Однажды во время очередного наступления маршал Жуков решил проверить положение на фронтовых дорогах. Накинув поверх маршальской формы солдатскую шинель, с потертой шапкой-ушанкой на голове и вещмешком за плечами, он выехал на прифронтовую дорогу и остался стоять один-одинешенек, опираясь на палку и разыгрывая роль раненого солдата.
Когда мимо проезжали легковые автомобили с офицерами, маршал каждый раз делал сигналы, тщетно прося помощи. Ни одна из машин не останавливалась. Зато все они были остановлены у следующего контрольно-пропускного пункта — КПП, имевшего на то особый приказ. Офицеры яростно ругались, досадуя на неожиданную задержку.
Вскоре на КПП прибыл и сам маршал в своей солдатской шинели.
«Какой идиот отдал приказ закрыть КПП?» — наседали офицеры на непреклонных часовых регулировщиков.
«Это я приказал», — спокойно заметил Жуков, по-прежнему опираясь на палочку.
«А ты кто такой?» — грубо огрызнулись офицеры.
«Кто я? Я — русский солдат!» — с тем же зловещим спокойствием произнёс маршал и, как будто случайно, расстегнул крючки на шинели. Излишне описывать ужас офицеров, увидевших под солдатской шинелью маршальский мундир и узнавших Командующего Фронтом.
«Отобрать у всех документы. Передать дело в Военный Трибунал», — скомандовал маршал своему подоспевшему адъютанту.
В своих позднейших мемуарах генерал Эйзенхауер, первый американский генерал-губернатор Германии, неоднократно высказывал свое удивление поразительной для американского главноначальствующего несамостоятельностью маршала Жукова в принятии решений во время их совместной работы.
По американским понятиям столь несамостоятельный военный губернатор Германии должен был бы быть смещён с должности, как не справляющийся со своими обязанностями.
По советским понятиям маршал Жуков был слишком самостоятелен и это было одной из причин, послуживших поводом к его последующему смещению с поста Главноначальствующего СВА.
Действительно, маршал Жуков, как это заметил генерал Эйзенхауэр, никогда не принимал решений на месте, не запросив предварительно Москву. Но его вина заключалась в том, что он, даже исправно выполняя все директивы Кремля, имел смелость высказывать собственное мнение по тем или иным вопросам.
Нередко он просил о пересмотре руководящих указаний, поступавших ему из Москвы, считая их преждевременными или нецелесообразными. Этого было для Кремля достаточно, чтобы заподозрить маршала в склонности к мятежу.
Когда в марте 1946 года маршал Жуков был отозван из Германии и потонул в сравнительной неизвестности на посту командующего одним из военных округов Сов. Союза, ещё раз наглядно показали себя методы кремлёвской диктатуры.
Маршал Жуков был слишком авторитетен и популярен в послевоенном СССР. Даже одного этого обстоятельства, безо всяких других поводов со стороны самого маршала, было достаточно, чтобы герой войны был убран с руководящего поста.
Кремль боится всякого сосредоточения слишком большой власти в руках человека, не являющегося членом кремлёвского Олимпа.
Преемник маршала Жукова на посту Главноначальствующего СВА, генерал армии Соколовский, вскоре после этого произведенный в маршалы, был более безопасен для спокойствия кремлёвских олимпийцев. До этого он являлся заместителем маршала Жукова в Германии, да и вся его предыдущая карьера протекала всегда в должностях заместителя.
Он был способным администратором и типичным исполнителем чужой воли, но не самостоятельным командующим. Это больше соответствовало послевоенной обстановке, когда критический период был преодолён и Политбюро снова решило покрепче взять бразды правления в свои руки.
Непосредственно к аппарату Главноначальствующего примыкает Управление Политсоветника. Политсоветник по сути дела является советским полпредом в Германии и его роль значительно превосходит функции только советника.
Он руководит проведением политической линии Кремля в Германии и одновременно контролирует все мероприятия Главноначальствующего. Политсоветник — непосредственный представитель Партии и исполняет обязанности политкомиссара при Главноначальствующем.
Когда во времена Лондонской и затем последующих конференций министров иностранных дел Молотов по пути останавливался в Берлине, он всегда имел первую встречу с Политсоветником и лишь затем, выслушав его доклад, принимал Главноначальствующего.
Если Главноначальствующий олицетворяет собой советское государство, то Политсоветник олицетворяет Партию. Соответственно этому и взаимоотношения между обоими. Первый является исполнителем воли второго.
Политуправление Штаба СВА, хотя и имеет сходное название с Управлением Политсоветника, но является самостоятельным учреждением. Если Управление Политсоветника осуществляет связь СВА вверх — с Москвой, то Политуправление осуществляет связь вниз, то есть политработу в пределах учреждений СВА в Германии и руководство всей политической жизнью Германии.
Здесь даются инструкции и принимаются отчёты парторгов, имеющихся в каждом отделе и Управлении СВА и являющихся политкомиссарами при начальнике каждого учреждения СВА. Хотя официально институт политкомиссаров уже несколько раз громогласно ликвидировался, он по-прежнему существует.
На сегодняшний день эти комиссары в Армии называются «заместителями командира по политчасти», в гражданских учреждениях — «парторгами». Смена вывески дела не меняет.
Политуправление руководит деятельностью политических партий советской зоны Германии. Отсюда исходят прямые инструкции вождям германских коммунистов Пику, Гротеволю и Ульбрихту, — тройке закладных, впряженных в колесницу СВА.
В обязанности Политуправления входит пропаганда и агитация советских идей. Этому служит «Дом Культуры Советского Союза», «Тэглихе Рундшау», Союзэкспортфильм. И как противовес этому — особый отдел цензуры печати, кино и радио.
Специальный отдел Политуправления занимается вопросами просвещения и политработы среди германской молодёжи. Все учебные планы и проекты учебников для германских школ составляются по указаниям Управления по Просвещению СВА, но все они предварительно должны быть представлены на рассмотрение и утверждение Политуправления.
Из этого видно, какое большое значение придаётся воспитанию немецкой молодёжи в соответствующем направлении. В каком направлении понятно и без слов.
Без визы Политуправления невозможно назначение ни одного из лиц, играющих роль в общественной жизни советской зоны Германии. Даже там, где сохраняется видимость партийной демократии при выборах представителей немецких партий и профсоюзов, исход выборов предварительно решается Политуправлением.
Для этого много путей. Например, предварительное собеседование в Штабе СВА, где с демократическими представителями обращаются довольно бесцеремонно: «Представьте нам на утверждение списки ваших кандидатов…» Наглядным примером может служить дело д-ра Фриденсбурга, бывшего Председателя немецкого Управления Топливной Промышленности и одновременно одного из видных деятелей Христианско-демократической партии советской зоны.
Как только обнаружились малейшие политические расхождения д-ра Фриденсбурга с точкой зрения Политуправления СВА, д-р Фриденсбург был с треском снят с поста Председателя немецкого Управления Топливной Промышленности.
Впоследствии, после окончательного раскола Берлина, «разжалованный» д-р Фриденсбург был избран бюргермайстером в магистрат западного Берлина.
Тихим братом Политуправления является Управление Внутренних Дел СВА с символическим подразделением на собственно Управление Внутренних Дел и, затем, Управление Государственной Безопасности.
Смысл этого подразделения понять довольно трудно. Официально в Советском Союзе имеются два различных полицейских министерства — Министерство Внутренних Дел (МВД) и Министерство Государственной Безопасности (МГБ).
В МВД входят административная и уголовная полиция, пожарная охрана и Запись Актов гражданского Состояния (ЗАГС). Хорошо если на долю МВД приходится 5 % бюджета второго министерства — МГБ, т. е., попросту говоря, тайной политической полиции. По сути дела МВД и МГБ — это синонимы.
Поскольку МГБ попахивает слишком хорошо знакомыми запахами ВЧК-ГПУ-НКВД, то его сверху прикрыли овечьей шкуркой Министерства Внутренних Дел. Так оно безобидней звучит. Ведь Министерства Внутренних Дел есть во всех демократических странах.
Управление МВД СВА является лишь головкой огромной сети учреждений МВД по всей Германии. Действенные органы МВД называются Оперативными Группами с обозначением по провинциям. Центральная Опергруппа МВД находится в Потсдаме. Берлинская Опергруппа МВД расположена неподалёку от Карлсхорста.
Проезжающие на трамвае, смотря на тихое здание с наличниками на окнах и часовым в зелёной фуражке у входа, едва ли подозревают какая лихорадочная работа кипит днями и ночами в этом сонном на вид доме. Исходя из долголетнего опыта, МВД никогда не устраивает комнаты следователей с окнами на улицу.
Уж слишком часто во время допросов бросались люди в окна на мостовую. Опергруппа МВД по Шлоссштрассе имеет достаточно построек в глубине тенистого сада. Деревья не расскажут того, что они видели и слышали.
Для работы Управления МВД СВА характерен следующий факт. В своё время особое внимание уделялось розыскам и восстановлению архивов германского Гестапо. На основании этих архивов были составлены обширные картотеки бывших агентурных сотрудников Гестапо. Жестоко ошибается тот, кто подумает, что эти картотеки составлялись в целях наказания данных лиц. Нет.
Большинство из тех, кого удалось обнаружить, после тщательной проверки и морально-политической обработки были в обычном для советских методов добровольно-принудительном порядке завербованы для работы в агентурную сеть МВД.
Таким образом подводится база для успешного охвата немецкого населения неусыпной заботой МВД. На сегодня этому служат бывшие шпики Гестапо и, само собой разумеется, в порядке партийной дисциплины все члены германской компартии.
Целый ряд школ «специального назначения» под опекой МВД спешно кует кадры из среды самих немцев и гарантирует германскому народу все дальнейшие, связанные с этим блага.
Один из видных агентов Гестапо — Ланге сегодня руководит школой агентурных работников МВД. Эта спецшкола имеет подразделение на западный и восточный отделы, соответственно будущему полю деятельности её питомцев.
Институты тоталитарных систем иногда могут быть соперниками, но в случае перемены ветра они снова находят общий язык.
Управление МВД-СВА имеет внутренний отдел, который руководит слежкой за советскими военнослужащими и гражданами в Германии. Этому служит отдел армейской контрразведки СМЕРШ, созданный во время войны. СМЕРШ означает сокращение двух слов «смерть шпионам». Это МВД в квадрате.
В аппарате МВД СМЕРШ играет такую роль, как военно-полевой суд в армии в военное время. Если по сталинской терминологии МВД — это обнажённый меч пролетариата, то СМЕРШ — это острие меча.
Большинство офицеров Карлсхорста, проходя ежедневно по Рейнштейнштрассе, не знают, что за учреждение помещается в тихом, кажущемуся необитаемым, доме на углу Кёнигсвинтерштрассе.
По установленному в МВД твёрдому порядку на каждого штатного офицера МВД полагается минимум десять внештатных сотрудников, т. е. тайных агентов-информаторов, обязанных раз в неделю поставлять письменный отчет обо всём виденном и слышанном.
С помощью несложной математики, разделив общее количество работников Карлсхорста на число оперативных сотрудников отдела внутренней службы МВД Карлсхорста можно без труда убедиться, что приблизительно каждый пятый человек в Главном Штабе СВА связан с МВД.
На профессиональном языке МВД это называется «коэффициентом насыщения», который колеблется в зависимости от важности того или другого объекта — в Политуправлении он выше, в Хозяйственном Управлении ниже.
Рука об руку со СМЕРШем работает Отдел по Репатриации советских граждан. Все без исключения работники этого отдела являются кадровыми офицерами МВД или СМЕРШа. Почётная задача водворения заблудившихся советских граждан в лоно матери-родины находится в надёжных руках.
Офицеры репатриационных миссий на территориях союзников по совместительству выполняют функции более пикантного характера: шпионов-резидентов, шпионов-почтовых ящиков и шпионов-курьеров, если уж говорить профессиональным языком. Функции упомянутых «штатных должностей» ясны и без дополнительных объяснений.
Следующим идёт Правовое Управление СВА. Оно работает по принципу, с исключительной ясностью изложенному бывшим Генеральным Прокурором СССР Вышинским: «Право и Закон исходят из генеральной линии Партии и служат интересам советского государства».
Одной из функций Правового Управления СВА является пересмотр законов, существовавших в Германии до капитуляции, и выработка новых законов.
К удивлению самих законодателей из Правового Управления многие из законов, появившихся в гитлеровское время, оказались очень удобными и вовсе не требуют замены в условиях новой демократии. Вместе с тем целый ряд законов, существовавших ещё во времена Империи и Республики, оказались явно неудобными.
Одним из таких неудобных пережитков является германский трудовой кодекс, с боем отвоёванный немецкими социал-демократами ещё во времена железного канцлера. Он даёт рабочим слишком много прав и явно тормозит новую демократию и поставки по репарациям. Генерал Зорин частенько запрашивает товарища Карасёва о возможностях скорейшего обновления этого закона.
Группа чисто военных Управлений СВА по родам войск, — Военно-Воздушное и Военно-морское, — имеют целью изучение и использование военного опыта Германии. Особое внимание уделяется использованию германской военной техники.
Этому служит большое количество специальных военных научно-исследовательских институтов и испытательных станций, созданных на базе соответствующих учреждений бывшей немецкой армии.
Кроме того, существует ещё Управление Здравоохранения, Управление Просвещения, Управление Связи, Комендантское Управление и ряд отделов обслуживающего порядка.
Об Экономическом Управлении, охватывающем значительный комплекс Главного Штаба, уже говорилось выше.
Во всех главных городах пяти провинций советской зоны имеются Провинциальные Управления СВА, являющиеся почти точной копией Главного Штаба СВА и имеющие те же отделы. Дальнейшая связь с периферией осуществляется Провинциальными Управлениями СВА при помощи местных комендатур, имеющихся во всех более или менее крупных городах.
Советский сектор Берлина выделен в отдельную единицу и во всех бумагах играет роль шестой провинции. Обязанности провинциального СВА в Берлине в значительной мере исполняет Советская Центральная Комендатура на Луизенштрассе.
Почти все Управления и Отделы Главного Штаба СВА имеют в своём составе соответствующие Комитеты Контрольного Совета, входящие с советской стороны в одноимённые Директораты Контрольного Совета и имеющие своей обязанностью координацию действий союзников в Германии.
Группа Советских Оккупационных Войск в Германии ГСОВ является совершенно самостоятельной единицей с главной квартирой в Потсдаме и не имеет со СВА ничего общего, кроме того, что Главноначальствующий СВА одновременно является Главнокомандующим ГСОВ. ГСОВ имеет свой особый счёт поставок из немецкой промышленности, своих контрольных офицеров на заводах, работающих по заказам ГСОВ.
Сравнивая условия в СВА и ГСОВ, можно заметить значительную разницу. Офицеры СВА пользуются большими свободами и привилегиями, получают лучшее пищевое и вещевое довольствие.
Служащие СВА рассматриваются как находящиеся в заграничной командировке. Отсюда двойное жалование, — одно в «валюте», второе в рублях, — специальная заграничная экипировка повышенного качества, выдающаяся помимо обычной армейской экипировки и рассчитанная на «представительство», улучшенный паёк и прочие поблажки.
Офицеры Группы Войск, приезжая к своим товарищам, работающим в СВА, жалуются на несравненно более суровые условия службы и личной жизни.
Местные советские комендатуры играют своего рода промежуточную роль между СВА и ГСОВ. Они являются мелкой вооруженной силой, необходимой для поддержания оккупационного порядка, и вместе с тем, имея экономические отделы, они исполняют второстепенные административные функции.
Советская комендатура Берлина, принимая во внимание большой объём работы и специфические условия четырёхстороннего управления, занимает несколько отличное положение.
Таково в общих чертах строение берлинского Кремля.
2
В декабре месяце генерал Шабалин неожиданно заболел. Болезнь объяснялась переутомлением и генерал просто лежал в постели у себя дома. Одновременно с этим по коридорам Штаба пополз упорный слух о предстоящей реорганизации Экономического Управления.
Вскоре мне пришлось прочесть приказ из Москвы, где генералу Шабалину без объяснения причин предлагалось немедленно сдать все дела по Экономическому Управлению и отбыть в Москву в распоряжение Отдела Кадров ЦК ВКП(б).
Когда я посетил генерала на квартире, то он выглядел не столько больным, сколько удрученным и обеспокоенным чем-то. В связи с таинственным отзывом в Москву его странная болезнь принимала некоторый вполне определённый смысл.
В Советском Союзе не принят порядок почётных отставок для высших должностных лиц, если они не справляются со своими обязанностями, как это обычно в демократических странах.
Советские руководители или благополучно поднимаются кверху или — бесследно исчезают. Получив приказ об отстранении от должности, и не зная, что за этим последует, генерал имел все основания беспокоиться.
Через несколько дней генерал Шабалин в сопровождении Кузнецова выехал в Москву. Когда я видел экономического диктатора Германии в последний раз, выглядел он очень жалко и больше походил на человека, ожидающего расправы, чем на высокопоставленного генерала, с честью покидающего свой заслуженный пост.
Это было подсознательное чувство собственной неполноценности, абсолютной зависимости сверху и постоянного страха за свою судьбу, присущее новому классу советских руководителей.
Впоследствии, по возвращении в Москву, Шабалин снял свой генеральский мундир и получил довольно крупный пост по партийной линии, секретарем Обкома ВКП(б) где-то в Поволжье. Страхи его не оправдались.
Хотя в Штабе СВА административные заслуги Шабалина расценивались не слишком высоко и некоторые его коллеги прямо утверждали, что генерал глуп, прямых обвинений ему предложить было нельзя. Самое главное — он был старателен и предан Партии. А то, что он был глуп?! Глупость — не порок для партработников.
После ликвидации Экономического Управления все бывшие Отделы стали самостоятельными Управлениями, подчиняющимися Заместителю Главноначальствующего по Экономическим Вопросам. На пост Заместителя Главноначальствующего был назначен присланный из Москвы член Совнаркома тов. Коваль.
Часть работников личного штаба генерала Шабалина была передана в аппарат Коваля, часть же воспользовалась реорганизацией, чтобы перейти на работу в другие Управления. При этом можно было заметить характерную картину.
Те из бывших сотрудников Экономического Управления, кто не имел специального образования и вообще данных для работы в экономике, как клопы от света гурьбой устремились в дебри «аппарата», т. е. в личный штат Коваля, где работа заключается в основном в бумажной волоките, где вместо дипломов и знаний можно обойтись партбилетом.
Вся эта группа страшно волновалась, как бы не остаться без места в «аппарате», так как на какую-либо конкретную работу эти люди были не способны и не охочи. Лидером в этой гонке шёл Виноградов. Он был назначен на должность начальника личной канцелярии Коваля, получил представительный кабинет и казённую автомашину.
Посетители Виноградова едва ли предполагали, что всего несколько месяцев тому назад нач. лич. канцелярии по ночам, в поту и паутине, как вор лазил по подвалам и пустым квартирам Карлсхорста в погоне за всякими «трофеями».
Вторую группу составляли специалисты, привыкшие к действительной работе, которых тяготила обстановка «аппарата». Они, поскольку представлялась возможность, воспользовались реорганизацией чтобы перейти на работу в соответствующие Управления поближе к своей профессии.
Майор Кузнецов после возвращения из Москвы, уже в чине подполковника, был переведен в СВА Федеральной Земли Саксония и занимал пост начальника Отдела Горной Промышленности СВА в Дрездене.
Мне тоже предстояло переходить на новое место. Я мог бы спокойно ожидать вызова в Отдел Кадров и нового назначения. Но меня немного беспокоило, что полковник Уткин, заглянув в моё личное дело, снова предложит мне работу в Управлении Государственной Безопасности или в каком-либо из чисто военных Управлений. Отказываться от такого почётного предложения во второй раз было бы рискованно.
Мне вспомнились слова генерала Биязи: «Где бы Вы не находились, Вы всегда будете на особом учёте Генерального Штаба». В связи с предстоящим переходом на новую должность, эти слова доставляли душе беспокойство.
Ещё совсем недавно я гордился открывающейся передо мной карьерой военного дипломата. А сегодня мне все более и более понятны становятся безыскусные слова Вали Гринчук: «Хочется жить просто так — ради жизни…» Видно путь, по которому мы идём, не в ладах с жизнью, если у нас, молодых сталинских питомцев, появляется одно и то же подсознательное чувство.
Где-то смутно промелькнула мысль — ведь я пошёл на работу в Германию, чтобы излечиться от мучивших меня сомнений и колебаний. Ведь я умышленно пошёл на передовую линию послевоенного фронта, чтобы вернуться в Москву полноценным коммунистом.
И вот теперь, спустя полгода, я уже стремлюсь уйти в сторону. Теперь, когда мне представляется возможность или идти дальше по пути военной карьеры или вернуться к профессии инженера, я чувствую что…
Чтобы избежать разговоров с полковником Уткиным я, не дожидаясь вызова в Отдел Кадров, решил обратиться к Начальнику Управления Промышленности Александрову. Александров хорошо знал меня по работе у генерала Шабалина.
Просмотрев мои бумаги, он согласился ходатайствовать перед Командованием СВА о переводе меня в Управление Промышленности.
«Если только Уткин не заглянет в моё личное дело», — подумал я про себя.
Но всё сошло благополучно. На данном этапе специалисты промышленности требовались больше, чем военные. Через несколько дней я получил официальный приказ о назначении на должность ведущего инженера Управления Промышленности.
Эта должность называлась так потому, что данное лицо ведёт, т. е. контролирует, определённую отрасль промышленности.
Итак, я сделал ещё один шаг в сторону. Куда все это приведет?
3
Управление Промышленности СВА, по сути дела, выполняет функции министерства промышленности советской зоны Германии. В основные обязанности Управления Промышленности входит обеспечение репарационных поставок, в целях чего Управление Промышленности тесно сотрудничает с Управлением по Репарациям и Поставкам СВА, затем следует обеспечение поставок в счёт Группы Советских Оккупационных Войск в Германии и, наконец, обеспечение производства для нужд германского населения.
Последняя функция обычно фигурирует в бумагах, когда нужно пустить в ход какое-либо предприятие. Когда же предприятие начинает работать, его продукция переключается в счёт репараций.
Вскоре после капитуляции СВА создало ряд Немецких Центральных Управлений, соответствующих потребностям различных Управлений СВА, — Немецкое Управление Сельского Хозяйства, Немецкое Управление Промышленности и т. д.
Все эти Немецкие Управления помещались в здании бывшего Министерства Авиации Геринга и служили послушными орудиями в руках СВА. Позже на базе этих Немецких Управлений была организована, опять-таки по приказу из Карлсхорста, Немецкая Экономическая Комиссия DWK, в задачи которой входило планирование германской экономики немецкими руками, но по планам СВА.
Взаимоотношения между СВА и Центральными Немецкими Управлениями, марионеточными министерствами советской зоны, можно лучше всего увидеть на примере взаимоотношений между Управлением Промышленности СВА и Центральным Немецким Управлением Промышленности.
Это наиболее крупные представители обеих сторон. Обязанности сторон подразделяются очень просто: первый — приказывает и контролирует, второй — покорно выполняет и слушает ругань.
Во главе Центрального Немецкого Управления стоит вихлястый тип со столь же вихлястой фамилией — Скржепшинский. Никто не знает, за какие особые заслуги СВА назначило его на эту довольно ответственную должность. Наши инструкции он выполняет старательно. А это самое главное.
Начальник Управления Промышленности СВА Александров обладает очень обманчивой внешностью. Среднего роста, с обрюзгшим ничего не выражающим лицом, говорит всегда монотонным и бесстрастным голосом. Несмотря на столь невзрачные внешние покровы, он имеет большой опыт работы в промышленности и пользуется уважением сотрудников.
До своего назначения в Германию он был заместителем министра среднего машиностроения СССР. Очень трудно присутствовать на конференциях в кабинете Александрова. Один глаз Начальника Управления смотрит в окно, другой глаз — в потолок. Когда он говорит, абсолютно невозможно понять, куда он смотрит и к кому он обращается.
Заместитель Начальника Управления Смирнов — человек с бледным худощавым лицом, тонкими бесцветными губами и колючими глазами.
Он чем-то смахивает на характерный тип следователя МВД, что, впрочем, вполне соответствует его должности. Хотя он никому ничего дурного не сделал, большинство сотрудников избегает его и предпочитает иметь дело с Александровым.
При Управлении существует также Промышленный Комитет Контрольного Совета, в обязанности которого входит координировать работу Управления Промышленности с Промышленным Директоратом Контрольного Совета. Руководит Промышленным Комитетом Козлов — угрюмый и крайне необщительный человек.
Внутренняя атмосфера в Управлении Промышленности значительно отличается от среды в Управлении Политсоветника, Политуправления или же в чисто военных Управлениях. Хотя большая часть сотрудников Управления Промышленности и носит военную форму, все они в прошлом инженеры и техники и чувствуют себя таковыми.
Здесь от человека, прежде всего, требуется быть специалистом. В других же Управлениях главную роль играет партбилет со всеми вытекающими последствиями.
Девяносто пять процентов инженерного состава Управления Промышленности являются членами Партии. Однако это не мешает им смотреть на вещи окружающего мира более или менее самостоятельно и критически.
Если они и не всегда высказывают свои мысли, то, во всяком случае, чувствуют и думают иначе, чем «партийцы чистой воды». Здесь заметна разница между двумя понятиями — советская техническая интеллигенция и партийная интеллигенция.
Первые, будучи людьми советской эпохи, далеко не всегда искренне сочувствуют линии партии. В значительной части это вынужденные попутчики. Ведь быть инженером и при этом оставаться беспартийным — сочетание довольно опасное и на долгое время практически невозможное.
Вторые, назовем их партийной интеллигенцией, не имеют за душой ничего кроме партбилета, да узко специализированного партийного образования. Волей-неволей они должны быть верны партбилету и Партии, которой они обязаны своим положением.
Одним из первых мероприятий, в котором мне пришлось принимать участие в Управлении Промышленности, было установление мирного промышленного потенциала советской зоны Германии.
Чтобы понять это мероприятие, нужно иметь перед глазами картину послевоенного состояния промышленности советской зоны. Коротко это можно обрисовать следующим образом.
Непосредственно после прохождения линии фронта прошёл первый стихийный демонтаж. В течение нескольких месяцев демонтажники лихорадочно работали по всей советской зоне под лозунгом: «Всё на колеса!» Руководствовались при этом единственным принципом — дать как можно больше отгруженного тоннажа, независимо от того будет ли полезен или бесполезен данный объект в Советском Союзе. Никаких планов или лимитов не существовало.
Единственным, хотя и очень незначительным, островком был секвестр Группы Войск. Если данное предприятие выпускало продукцию, необходимую для Армии, то на это предприятие назначался секвестр — офицер с нарядом солдат, которые и не пускали демонтажников на завод силой оружия.
Секвестр Группы Войск играет незначительную роль в общем балансе, т. к. он затрагивал главным образом предприятия лёгкой промышленности.
После того, как демонтажники обработали промышленность советской зоны гаечным ключом, остатки её перешли в распоряжение СВА. Первым мероприятием СВА было создание Комитета по Ликвидации Военного Потенциала, который проделал свою работу очень быстро.
Работа эта заключалась просто-напросто в подрыве предприятий военной промышленности. Саперы сравнивали с землей фабричные корпуса, машинное оборудование которых было предварительно демонтировано демонтажными бригадами.
Поскольку вся промышленность Германии ещё задолго до войны перестраивалась на военные нужды, провести точную грань между мирной и военной промышленностью иногда, как, например, в случае химической промышленности, представляло большие трудности.
В результате деятельности Комитета по Ликвидации Военного Потенциала пострадала часть, если уж и не говорить мирной, то, во всяком случае, основной промышленности. Это приблизительно то же, что подрубить корни у дерева.
Поскольку часть работы демонтажников и подрывников даже для Управления Промышленности СВА является государственной тайной, а остальная часть не имеет систематизированной отчётности, то общая картина состояния промышленности советской зоны очень запутана как для Александрова, так и для ведущих инженеров по отраслям промышленности.
К этому надо ещё добавить значительное количество объектов, на которые наложило свою лапу МВД, и которые не фигурируют ни в какой отчетности. Это относится к тем предприятиям, где Москва особенно заинтересована и где она распоряжается без помощи СВА. Одним из таких объектов являются опытные станции и испытательные стенды для Фау-2 в Пенемюнде.
После первого демонтажа и подрыва предприятий военной промышленности СВА приступило к своим основным обязанностям на экономическом фронте послевоенной Германии — к изъятию репараций.
При этом не следует забывать, что демонтаж в той или иной форме продолжался по-прежнему. Москва буквально десятки раз устанавливала сроки.
Зная о наличии Управления Репараций СВА, которое по числу сотрудников является самым крупным Управлением в Главном Штабе, кажется странным, что Управление Промышленности фактически занимается тем же самым — опять-таки репарациями. Пользуясь воровским жаргоном роль Управления Промышленности можно охарактеризовать как работу «наводчика».
Здесь приходится столкнуться с понятием: репарации из текущего производства. Эта формулировка послужила камнем преткновения, о который, может быть только и формально, разбились все переговоры на последующих конференциях министров иностранных дел держав-победителей.
Репарации из текущего производства — это чистые, незамаскированные репарации, которые есть возможность учесть. Директора заводов советской зоны хорошо знают бланки репарационных нарядов-заказов с зелёной полоской поперек листа. Оригинал хранится в СВА, одна копия идёт на предприятие, выполняющее репарационный заказ, вторая посылается бюргермайстеру.
Поскольку нам, инженерам СВА, постоянно приходится иметь дело с цифрами репараций, нас нередко интересует чисто академический вопрос: включается ли стоимость демонтированного и вывезенного в СССР оборудования в сумму репарационных 10 миллиардов долларов, на которые мы претендуем. Немцев этот вопрос, для нас чисто академический, должен интересовать несколько больше.
В сейфе секретной части Управления Промышленности хранится особо секретный документ — сводный список всего демонтированного в советской зоне промышленного оборудования.
В этом списке, своим объёмом напоминающем майеровский лексикон, есть следующие графы: «объект», т. е. демонтированное предприятие, «количество единиц демонтированного оборудования», «отгруженный тоннаж», «отгружено в адрес…» Это все.
Подсчитывать стоимость демонтированного оборудования демонтажники представляют бухгалтерам демонтированных объектов. Когда-нибудь на каких-нибудь международных конференциях эти цифры, может быть, и будут фигурировать, но на сегодня в балансе репараций они не фигурируют.
Столь же академический вопрос представляет собой учёт немецкого имущества, конфискованного советскими властями в Австрии. Советские власти в Австрии конфисковали значительную часть австрийской промышленности на основании того, что данные предприятия являются немецкой собственностью.
Предположив, что опорное имущество действительно является немецкой собственностью, невольно встает вопрос, по какой статье оно будет заприходовано.
Однажды на конференции у Заместителя Главноначальствующего СВА по Экономическим Вопросам Коваля один из руководящих работников Управления Репараций СВА задал вопрос по этому поводу. Коваль только улыбнулся и ответил: «Пока мне не известно, чтобы эти цифры включались в репарационный актив Германии». Коваль достаточно авторитетная личность.
Поставки по счёту Группы Советских Оккупационных Войск ГСОВ не учитываются как репарации. Согласно Потсдамскому Договору, содержание оккупационной армии идёт за счёт оккупированной страны, т. е. Германии. Это, так сказать, карманные расходы.
Потсдамский Договор обязал контрольные органы союзников в Германии, т. е. Союзный Контрольный Совет, установить лимит мирного промышленного потенциала Германии, который, с одной стороны, исключал бы возможность ремилитаризации Германии, с другой стороны обеспечивал бы германскому народу среднеевропейский жизненный стандарт.
Поскольку приближалась Парижская Конференция министров иностранных дел союзников, где первым пунктом повестки дня должен был стоять германский вопрос, Контрольный Совет и Военные Управления четырех держав в Берлине занялись проблемой мирного потенциала. По этому поводу в кабинете начальника Управления Промышленности СВА была созвана спешная конференция всех ведущих инженеров по отраслям промышленности.
«В ближайшее время в Контрольном Совете на основании проектов всех четырёх сторон будут устанавливаться конкретные лимиты мирного промышленного потенциала Германии, — начал свою информацию Александров. — Главноначальствующий дал нам задание предоставить ему на утверждение наши соображения и проект мирного промышленного потенциала советской зоны для советской стороны в Контрольном Совете. Главноначальствующий указал, что одновременно этот проект пойдёт непосредственно в руки товарища Молотова».
Александров сделал глубокую паузу, чтобы подчеркнуть всё значение последних слов. После этого он пробормотал маленький спич о мудрости вождей и том великом доверии, которое они оказывают нам, поручая столь ответственную работу. Можно было подумать что нам, нескольким инженерам в кабинете Александрова, действительно кладется в руки судьба Германии.
На первый взгляд задание было интересное и серьёзное. Иными словами, устанавливая промышленный потенциал, мы устанавливали жизненные рамки для Германии. Едва ли есть другая такая страна в мире, где вся жизнь страны столь зависит от объёма её промышленного производства. Промышленный потенциал — это эквивалент жизненного стандарта Германии, это количество хлеба на столе каждого немца.
«Какие будут методические указания?» — задал вопрос один из присутствующих.
«За базу должны быть приняты средние условия до 1933 года, — ответил Александров. — Рассчитать потребление внутреннего германского рынка за эти годы в среднем на душу населения или в эквивалентных единицах. Исходя из этих данных и количества населения советской зоны в настоящее время, мы получим мирный промышленный потенциал советской зоны».
Александров упоминает лишь внутренний рынок. Каждый из нас, инженеров, прекрасно знает, что потребности внутреннего рынка Германии довольно незначительны по сравнению с внешним рынком. Исключить при расчётах экспорт — это означает искусственно снизить объём промышленного производства в несколько раз даже по сравнению с началом 30-х годов.
«Как рассматривать долю промышленного производства, приходившуюся раньше на экспорт?» — задал интересующий всех нас вопрос инженер Воронин.
«В наших расчётах экспорт не имеет места, — ответил Александров монотонным голосом. — На период оккупации квоту экспорта будут заменять репарации. На тот случай, если оккупационный режим будет изменён, на место прямых репараций придёт что-либо другое».
Александров очень обдуманно подбирает свои выражения. Он не говорит «окончание оккупации», а только «изменение оккупационного режима». Первые шаги по пути «чего-то другого» вместо прямых репараций пришли значительно скорее, чем изменение самого оккупационного режима. А именно в форме Советских Акционерных Обществ, которые были созданы полгода спустя.
«Что будет с теми существующими промышленными единицами, которые выйдут за границы лимита?» — спросил следующий участник конференции. Затем, по-видимому, вспомнив о демонтажниках, он поправился: «Впрочем, после проведения демонтажа, этот случай вряд ли будет иметь место. Но, что можно ожидать в обратном случае: если существующее на сегодня производство окажется ниже лимита будущего промышленного потенциала?»
«Это случай для нас чисто проблематический. Где будут требовать интересы репараций, там мы увеличим производство, — ответил Александров. — А в остальном — наше дело дать цифру лимита. Вся эта процедура интересует нас постольку, поскольку требуются цифры для Контрольного Совета».
Александров пытается преодолеть свою флегму и делает ударение на слове «цифры». Руководящим фактором в вопросах промышленного производства советской зоны для нас является только одно — обеспечение репараций. Установление же каких-то проблематичных мирных потенциалов будущей Германии для нас — это только жест вежливости по отношению к Потсдамскому Договору.
Проект мирного промышленного потенциала вырабатывался очень просто, почти буквально по инструкции Александрова. За основу бралось потребление внутреннего рынка в 1930 году по всей Германии.
Население Германии в границах 1930 года принималось за 70 миллионов. Поскольку население советской зоны составляет приблизительно 20 миллионов, то искомый мирный потенциал по отраслям и номенклатурам, казалось бы, легко можно было определить с помощью простейшего уравнения.
Так было в теории. На практике всё это, конечно, оказалось гораздо сложнее, и в первую очередь, из-за деления Германии на зоны. Например, большая часть электротехнической промышленности Германии расположена в советской зоне.
Здесь существующий объём промышленности во многих случаях оказался выше проектируемого потенциала. Зато по ряду отраслей металлургической промышленности получилась диаметрально противоположная картина.
Каждому из ведущих инженеров было совершенно ясно, что исходя из проблематических цифр мирного потенциала, никто не будет повышать или понижать объём производства промышленности советской зоны. Для этого существуют другие, гораздо более веские факторы. Единственным нормальным выходом было бы рассматривать Германию как единое целое.
Но советов по данному вопросу Молотов у нас не спрашивал. Проект мирного потенциала был составлен и передан дальше по инстанции для предоставления на рассмотрение Контрольного Совета. Мы, инженеры, принимавшие участие в его составлении, были, наверное, первыми, кто наперед знал его нереальность и невозможность его осуществления.
Данный проект долгое время обсуждался и десятки раз перерабатывался на заседаниях Контрольного Совета. Как и следовало ожидать, первой предпосылкой для установления потенциала явилось единство Германии.
Промежуточным решением проблемы мог бы послужить допуск свободного и неограниченного товарообмена между зонами. Но свободный товарообмен между зонами трудно совместить с изъятием репараций из текущего производства. При этом возникает опасность, что часть репараций уплывет в сторону.
По пути на Парижскую Конференцию в апреле 1946 года министр иностранных дел СССР Молотов останавливался в Берлине, в числе прочих вещей, рассматривал проект мирного потенциала и взял его с собой в Париж как доказательство желания Советского Союза установить нормальный режим в Германии. В Париже он горячо настаивал на мирном потенциале и одновременно на репарациях из текущего производства.
Для неспециалиста не легко разобраться в этих двух отвлеченных понятиях и в том, что эти две вещи взаимно исключают друг друга. Экскапады Молотова на Парижской Конференции были не чем иным, как пропагандным манёвром, рассчитанным на внешний эффект.
Забивая людям мозги отвлечёнными рассуждениями о мирном потенциале, СВА одновременно проводит в Германии некоторые гораздо более жизненные мероприятия дальнего прицела. Примером является социализация промышленности или создание Единой Социалистической Партии СЕД.
В Управлении Промышленности мне часто приходится иметь дело с Приказом маршала Жукова № 124. С этим приказом я сталкивался и раньше во время работы у генерала Шабалина. Из личной канцелярии маршала Жукова нам ежедневно пересылались пачки писем-прошений, поступавших на имя маршала, где немцы ходатайствовали о пересмотре секвестра, наложенного СВА на их имущество.
Приказ № 124, изданный вскоре после капитуляции, содержал в себе указания о конфискации и передаче в руки местных немецких самоуправлений недвижимого имущества, принадлежащего бывшим членам национал-социалистической партии и спекулянтам, нажившим себе капитал во время гитлеровского режима и войны.
Как правило, Экономическое Управление, не разбирая дела, снабжало эти прошения пометкой «рассмотреть на месте, согласно Приказа 124» и пересылало их дальше по адресу местных комендатур, где находился спорный объект.
Пометка «рассмотреть, согласно Приказа 124» по сути дела означала «отклонить». В то время мне не приходилось заниматься этим вопросом подробнее, а секвестр имущества бывших нацистов казался вполне естественным мероприятием.
Теперь же, в Управлении Промышленности, мне приходится вплотную сталкиваться с предприятиями, секвестированными на основании Приказа № 124. Этот приказ охватывает в основном те предприятия, где СВА не заинтересован непосредственно, т. е. где неприменим демонтаж и репарации, — мелкие фабрики, мельницы, ремонтные мастерские, предприятия обслуживающего или кооперирующего порядка.
С точки зрения СВА промышленность советской зоны можно подразделить на две категории — полезную и бесполезную. Первая категория — это основные промышленные предприятия, которые СВА держит под своим контролем при помощи специальных уполномоченных, назначенных на все более или менее крупные заводы.
Называются они сплошь и рядом по разному: просто секвестр-офицер, уполномоченные по демонтажу, оставшиеся на заводе после демонтажа в качестве контролеров СВА, уполномоченные по репарациям, советские конструкторские или научно-исследовательские бюро при заводах.
Так или иначе, на всех ведущих предприятиях сидят люди СВА, следящие за тем, чтобы данное предприятие работало по планам СВА. В этих случаях СВА не интересуется запутанной механикой юридических прав собственности на данное предприятие, будь то G.m.b.H. или K.G., или другое капиталистическое понятие. Этот вопрос был решен несколько позже в форме Советских Акционерных Обществ САО.
Вторая категория промышленности советской зоны, где СВА не заинтересован непосредственно, оказалась безнадзорной. Сажать своих представителей на мелкие предприятия для СВА не имело смысла, оставлять же их без присмотра тоже не в наших привычках.
Вот тогда-то и было решено использовать «бесполезную» промышленность с максимально возможным эффектом. Приказ № 124, где говорится только об имуществе бывших нацистов, практически распространили на всю группу «бесполезной» промышленности.
Эти предприятия отчуждаются или попросту конфискуются у бывших владельцев и передаются в руки местных немецких самоуправлений, получая ярлык «Landeseigene Betriebe».[9] Всё обставляется с подобающей данному случаю помпой, представители новой власти с гордостью заявляют, что наконец-таки предприятия стали «собственностью немецкого народа».
По сути дела это просто-напросто социализация мелкой промышленности. Маневр СВА исходит из двух соображений.
Во-первых, требуется вырвать экономическую базу из-под ног второй самостоятельной группы немецкого общества: предпринимателей-промышленников. В сельском хозяйстве эта операция уже проделана с помощью земельной реформы.
Во-вторых, этим создаётся видимость прогрессивности нового режима, создаётся временный политический капитал для нас и наших марионеток.
СВА со своей стороны ничего не теряет. В новых условиях планового хозяйства вся группа «бесполезной» промышленности осуждена на гибель, без кредитов и дотаций она не в состоянии продолжать своё существование. Здесь вполне целесообразно передать нерентабельный объект «в руки немецкого народа».
Впоследствии «Landeseigene Betriebe» сплошь и рядом в порядке кооперации, как заводы-смежники, выполняли заказы предприятий, работающих на репарации. Хотя «Landeseigene» сами и не получали репарационных нарядов-заказов, все равно они работали на репарации. Что и требовалось доказать.
Начавшаяся таким путем социализация, спустя некоторое время, распространилась и на другие области «частно-капиталистического сектора». С одной стороны СВА все больше и больше прибирает к рукам немецкие «самоуправления», с другой стороны передаёт в руки этих «самоуправлений» бывшие до того относительно независимыми сектора общественной и экономической жизни Германии. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Один из самых остроумных ходов, сделанных Политуправлением СВА в борьбе за политическое господство в Германии, является создание Единой Социалистической Партии СЕД.
С первых же дней после капитуляции СВА всячески стремилось, как можно больше усилить Коммунистическую Партию Германии КПГ и её авторитет среди германского народа. При этом пользовались испытанным на практике приёмом: с одной стороны, представляя членам КПГ всевозможные преимущества, с другой стороны, оказывая давление на людей, воздерживающихся от вступления в КПГ.
Старая, как мир, или, во всяком случае, как Советский Союз, политика кнута и пряника. Некоторое время это помогало, но затем прирост КПГ резко уменьшился, а вскоре и совсем приостановился. Ещё больше, чем численный прирост КПГ, упал авторитет компартии в глазах немецкого народа.
Для всех было ясно, что КПГ — это партия держащаяся на штыках оккупационной власти. Даже люди, до этого интересовавшиеся марксистскими учениями, после встречи с практикой сталинизма, значительно разочаровались в своих исканиях.
В результате этого сдвиг влево в среде германского народа, вполне естественный после крушения тоталитарной диктатуры, вылился в форме роста не компартии, а социал-демократической партии Германии СДП. Однако, СДП, несмотря на свою левизну, оказалась довольно несговорчивой и относилась холодно к настойчивым заигрываниям со стороны СВА.
Особенности переходного периода, наряду с бесцеремонными мерами экономического порядка, требуют соблюдения некоторых внешних демократических формальностей. Одной из первых таких формальностей являются выборы в представительные органы немецких властей.
Представители западных союзников несколько раз предлагали на повестку дня Союзной Комендатуры Берлина вопрос о проведении всеобщего голосования в Берлине. СВА продолжительное время отмалчивалось и всячески старалось затянуть решение этого вопроса.
Причиной служило то, что Карлсхорст был крайне неуверен в исходе голосования, в том, что КПГ получит желательное для СВА большинство голосов.
В Политуправлении СВА неоднократно собирались конференции с руководящими представителями КПГ во главе с Вильгельмом Пик. Политуправление настаивало на усилении влияния КПГ любыми средствами. Пик только беспомощно пожимал плечами. Тогда-то, после консультации с Политсоветником, и был впервые поднят вопрос о возможности слияния КПГ с социал-демократической партией.
Это сразу дало бы КПГ огромный прирост членов и голосов. СДП рассматривалось СВА как многочисленная, но мягкотелая и беспомощная политическая формация.
Если КПГ, малочисленная, но энергичная, беспринципная в средствах и к тому же пользующаяся поддержкой оккупационной власти, сможет проглотить и переварить СДП, то успех, во всяком случае внешний, будет обеспечен.
Так рассуждали политические гроссмейстеры Карлсхорста. Будущей коалиционной партии было решено дать промежуточную вывеску — Единая Социалистическая Партия Германии СЕД.
Сказано — сделано. Была проведена шумная политическая кампания за слияние КПГ и СДП. Диссонансом в этом оркестре прозвучал решительный голос центрального руководства СДП со штаб-квартирой вне досягаемости СВА: руководство СДП отказывается от коалиции, не признает слияния или вернее включения своих членов в состав СЕД, где крёстным отцом стоит СВА.
В ответ на это СВА раскопало в пределах своего господства несколько ренегатов, которые от имени СДП восточной зоны выразили свою готовность к социалистической коалиции с КПГ. Произошел формальный раскол СДП на две части — восточную и западную.
Вскоре жители восточной зоны увидели на заборах пестрые плакаты с братским рукопожатием КПД-СДП. Советские офицеры по этому поводу посмеивались: «Руку мы вам протянем, а ноги вы уж сами протянете».
Насколько Карлсхорст не учёл политическую зрелость немцев, стало видно из результатов голосования, проведенного в Берлине в октябре 1946 года. Новорожденный политический бастард, на которого СВА возлагало столько надежд, из четырёх Партий, участвовавших в голосовании, вышел на предпоследнее место.
Несмотря на скандальный провал в Берлине, где можно было ожидать свободного волеизъявления немцев, в провинциях советской зоны СЕД всеми правдами и неправдами пришла к власти. Оккупационный режим имеет достаточно средств воздействия на массы.
Меня, советского офицера, все эти мероприятия интересуют, в первую очередь, с той точки зрения, какую пользу они могут принести моему народу и моей стране. Делать выводы на эту тему пока ещё рано.
4
Здание Управления Промышленности расположено вне территории ограждения Карлсхорста. Результат вредного влияния окружающей среды налицо — напротив Управления стоит немецкий газетный киоск и многие сотрудники, идя на работу, покупают там немецкие газеты и журналы. Просто так — для «практики в немецком языке».
Три раза в неделю в Управлении производятся обязательные занятия по изучению немецкого языка. Сегодня занятия по каким-то причинам сорвались и образовалось неожиданное «окно».
Я сижу в своем кабинете и разбираю бумаги. Случайно дверь в соседний кабинет открыта и я вижу, как войдя в комнату, капитан Багдасарьян швыряет пачку газет на стол и попутно заявляет: «Ну, посмотрим, какие тут новые сенсации есть».
Его слова относятся к «Курьеру» и «Телеграфу» — газетам, издающимся во французском и Английском секторах Берлина. Аккуратно надев шинель на плечики и повесив её на гвоздь позади стола, — это уже явно европейская привычка, — он углубляется в чтение.
Капитан сидит за столом, наклонившись вперед и опустив голову вниз. Со стороны можно подумать что он разбирает сложные служебные документы, требующие особого внимания и сосредоточенности. Первым делом он раскрывает пёструю обложку «Иллюстрирте Рундшау».
Это еженедельный журнал, приложение к газете «Теглихе Рундшау». И газета и журнал являются официозами СВА на немецком языке и издаются под руководством главного редактора полковника Кирсанова.
«Так, так. Немцы тракторами пашут. Правильно — пусть пашут, кушать мы будем, — капитан перелистывает страницу. — Ага, вот и у нас пашут, — он ещё ниже склоняется над журналом, стараясь разглядеть еле уловимые детали. — Видно, тракториста одели, когда фотографию готовили для местной прессы — бедновато тракторист выглядит. Выношу замечание Кирсанову!»
Вместе с Багдасарьяном за вторым столом сидит лейтенант Компаниец. Он раскрыл перед собой учебник немецкого языка и беззвучно шевелит губами, повторяя немецкие склонения.
Капитан увлекается и продолжает разглагольствовать вслух: «А вот торты. Ах, какие вкусные и хорошие, сладкие и ар-р-роматные… На сей раз самого сына президента Рузвельта угощают. Хороший у него папа был, только идеалист. Торты прямо по конвейеру чешут — только рот подставляй. Вы там автомобили по конвейеру делаете, а мы зато — торты. У кого жизнь слаще?! Выкусите-ка американцы! Молодец Кирсанов! Правильную картинку всунул!»
Капитан рассматривает фотографии цехов московского кондитерского завода «Красный Октябрь» во время посещения его сыном президента Рузвельта. Для нас всех известно, что производство этой фабрики идёт преимущественно на экспорт, да ещё в магазины «Люкс».
«А кому шоколад надоест кушать — тот для разнообразия может хлебушка попробовать, — продолжает Багдасарьян философским тоном, листая журнал дальше. — А какая уйма хлеба — прямо с картинки вперёд прёт».
Капитан с видом эстета откидывается назад и ещё раз любуется картинкой. Внезапно он рывком наклоняется вперед и восклицает: «А-а-ага! Хлебушек ты мой родненький. Бока-то у тебя проваленные. Кто из немцев в плену был, тот этот хлебушек сразу узнает. Разве можно такую картинку немцам показывать».
Я встаю из-за своего стола, вхожу в соседний кабинет и в полголоса советую Багдасарьяну разглагольствовать не так громко. Наклонившись, я рассматриваю вместе с ним фотографию, где изображён один из цехов киевского хлебозавода.
На переднем плане показана целая гора свежевыпеченного хлеба. Кирпичики, действительно, знакомые — с проваленными боками. Значит внутри сырое липкое тесто-лепух.
Когда на фронте солдатам выдавали сухари из этого хлеба, то их невозможно было разбить даже прикладом. Капитан Багдасарьян, наконец, нашёл что искал. Если кого можно ввести в заблуждение экспортной пропагандой, то только не советских людей. У нас особый нюх к сталинской кухне.
«А вот хорошие автомобили, — продолжает капитан созерцательно. — „Комфортабельный лимузин „ЗИС“, пущенный в массовое производство на московском автозаводе имени Сталина“», — читает он подпись под фотографией.
«Как вернусь домой — обязательно куплю себе „ЗИС“. Немного вот только денег подсобрать придётся. Сколько это будет? — он берётся за логарифмическую линейку. — Старый „ЗИС“ стоил 29 000. Новый, говорят, стоит 50 000. Если я с женой будем вместе работать и экономить, то по сто рублей в месяц можно отложить. В год это будет 1200. За десять лет — 12 000. Получается всего сорок лет с хвостиком».
«Тут, кажется, всё в порядке, — капитан ещё раз изучает фотографию. — Только вот физиономия у рабочего угрюмая. Не догадался ему фотограф какую-нибудь чертовщину на пальцах изобразить, чтобы тот засмеялся. А, в общем, вполне уютно. Как это ещё ковры по цеху не положили».
«А знаешь — с коврами, действительно, фокусы можно делать, — подаёт голос Компаниец. — У меня один знакомый был, слушатель Военной Академии имени Сталина. Так к ним раз нагрянула какая-то иностранная делегация с визитом, не то персидская, не то турецкая. Решили перед азиатами лицом в грязь не ударить. Те входят — а кругом по коридорам сплошь ковры. Как в гареме. Куда они не пойдут — везде ковры. Пока они идут за ними эти коврики позади сворачивают — и бегом по чёрной лестнице наверх. Пока они первый этаж кончают — те же ковры на втором этаже раскатывают».
Багдасарьян берёт свежий номер «Теглихе Рундшау» и небрежно перелистывает. По всей его манере видно, что он не ожидаёт найти там что-либо интересное.
«Ничего нового, — говорит он. — Половина перепечатана с „Правды“, а фамилии авторов немецкие».
В это время дверь в комнату наполовину приотворяется и в щель показывается голова нашего шофёра Василия Ивановича. Увидев, что атмосфера в комнате безопасная, он безбоязненно появляется на пороге.
«Гутен морген!» — приветствует он офицеров. Затем по порядку старшинства подходит к каждому и здоровается за руку: «Здравия желаю, товарищ капитан! Здравия желаю, товарищ лейтенант! Моего хозяина ещё нет, так я к вам зашел погреться. Разрешите подождать?»
Ещё недавно Василий Иванович был солдатом. Теперь он демобилизован и остался работать в СВА в качестве шофёра. Пользуясь преимуществом своего гражданского положения, он никогда не пропускает случая поздороваться с офицерами за руку, скромно посидёть в углу и почтительно вставить слово-другое в их разговор.
После пяти лет солдатской лямки, когда всё общение с офицерами заключалось в отдании чести, эта возможность простой человеческой близости доставляет ему глубокое удовлетворение. Василий Иванович осторожно усаживается на кончик стула около двери.
Капитан Багдасарьян продолжает листать газеты. Присутствие нового человека заставляет его отказаться от своего любимого занятия — поисков ляпсусов и ошибок в работе полковника Кирсанова. Для него это такой же спорт, как для других — решать ребусы и кроссворды.
Для нас, советских офицеров в Германии, «Иллюстрирте Рундшау» играет роль самого весёлого и развлекательного юмористического журнала. Здесь можно и посмеяться и одновременно прочитать кое-что между строк, чего не найдешь в советских газетах. Теперь, после вторжения Василия Ивановича, приходится переменить пластинку.
«О! Даже Троцкого вспомнили, — говорит капитан, обращаясь к лейтенанту Компаниец. — Глянь, Семён Борисович. Что это, собственно, такое — перманентная революция?»
«Да какие-то там тактические расхождения», — отвечает лейтенант неохотно. Он углубился в учебник немецкого языка и старается не обращать внимания на окружающее.
«Ну, да — тактические расхождения, — отвечает за него Василий Иванович. — Один говорит — давай ломиться спереди, а другой — нет, давай сзади. Один говорит — давай сегодня, а другой — нет, давай завтра. Это даже в „Кратком Курсе“ написано, товарищ капитан», — делает он ссылку на учебник ВКП(б), чтобы придать веса своим словам.
«Что-то я не помню, чтобы там так было написано», — осторожно замечает Багдасарьян.
«Там ещё про „ножницы“ было написано. Знаете что это такое? По крестьянскому вопросу».
«Не помню…»
«Это тоже Троцкий с товарищем Сталиным спорили, — Василий Иванович стрижет в воздухе пальцами. — Один говорит — мужика нужно стричь, а другой говорит — церемониться нечего, можно брить. Так все и спорили — стричь или брить. Я вот только не понял, кто хотел брить, а кто стричь».
Капитан делает вид, что не слышит его слов.
«Да, всё тактические расхождения. После Николашки трон пустой остался, — бормочет экс-солдат и начинает играть своей шляпой, насаживая её то на одно колено, то на другое — Каждому влезть хочется… Говорят, когда товарищ Ленин умирал, то завещание оставил. Вы не слыхали, товарищ капитан?»
«Нет».
«Там, говорят, забавно было написано. Вроде товарищ Ленин того…»
Капитан Багдасарьян, уже до этого беспокойно ерзавший на стуле, решает прекратить опасный разговор. В Советском Союзе существует легенда, что в своем предсмертном политическом завещании Ленин так охарактеризовал своих двух наследников: «Троцкий — умный подлец, а Сталин — подлый дурак».
Шептали, что Ленин на смертном одре передал это завещание своей жене Крупской, у которой Сталин забрал его силой. Самую Крупскую «верный друг и ученик» её супруга отправил к праотцам вслед за своим «учителем».
Завещание, согласно легенде, по сей день хранится в личном сейфе Сталина, куда имеет доступ только он один. Такова легенда. Если она и не соответствует истине, то довольно наглядно характеризует мнение народа о своих «вождях».
Вполне понятно, почему капитан Багдасарьян постарался перевести разговор на другую тему.
«Глянь, Семён Борисович, — снова пытается он отвлечь своего товарища от изучения немецких склонений. — Какой шум иностранные газеты подняли из-за Зощенко. Написал он какие-то „Приключения одной обезьяны“. Ты не читал — что это такое?»
Лейтенант Компаниец не поднимает глаз от учебника. За него отвечает Василий Иванович.
«Не знаете, что это такое, товарищ капитан?» — с деланным удивлением спрашивает он. Видно, что он хорошо знаком с темой и старается вызвать капитана на разговор.
«А ты что — читал?» — спрашивает капитан, удивлённый знакомством простого шофёра с новейшей литературой.
«Да нет, не читал. Слыхал. Знаете, товарищ капитан, мы, шофёры, народ такой — всё знаем. Всяких умных людей возить приходится — и Соколовского и самого Вячеслав Михайловича. Тут всё знать будешь».
«Ну, ладно — так что тебе Соколовский рассказывал?» — скептически соглашается капитан.
Василий Иванович, задетый недоверием к его осведомленности, прочищает горло и начинает: «К-х-а, к-х-а… Жила-была, во-первых, обезьяна. Где-то там в Ленинграде. Надо полагать, уже война была к тому времени».
Он достает кисет с табаком и скручивает, не торопясь, сигаретку: «Разрешите, товарищ капитан, у вас немного газеты оторвать. В газете оно смачней получается».
«Ну, пришла этой обезьяне однажды блажь пожить среди людей. Культурой подышать захотела. Сказано — сделано, взяла и спрыснула. Ну, сначала села для интереса в трамвай. Когда села — была форменная обезьяна, а вылезла — ни обезьяна, ни человек. Потом пошла в баню. Ну, вы сами знаете — как оно там. Помыться не помылась, а блох набралась. Потом пожрать ей захотелось. Заходит в магазин. Поглядела, поглядела — и пошла дальше голодная».
Василий Иванович с наслаждением затягивается сигареткой из бумаги «Теглихе Рундшау».
«Где она ещё была — не знаю. Кончилось тем, что прибежала назад в клетку, захлопнула дверку и дрожит мелким бесом. Говорят, ещё долго нервами болела пока очухалась».
«Вот как насчёт клетки для Зощенко — не знаю. На очередь, наверное, записали, — глубокомысленно заканчивает Василий Иванович. — Что там в газете написано — не посадили его еще?»
«Ну, я пойду, посмотрю — может мой хозяин приехал», — Василий Иванович надевает шляпу на голову, пришлёпывает сверху рукой и тихо притворяет за собой дверь.
«Ты, вообще, его хорошо знаешь?» — спрашивает лейтенант Компаниец, кивая головой на дверь.
«Да, парень он хороший, только болтает много».
«Смотри, простая солдатня, а тоже политикой интересуется».
«Да, это они только нам — „Так точно!“ А послушай ты, что они между собой говорят».
«Я этого до войны как-то не замечал. Что на них — обстановка здесь действует, что ли».
«Что ни говори. После войны каждый солдат увереннее себя чувствовать стал. Ведь действительно — герои и победители. Разве ты этого сам не чувствуешь?»
«Да, это так», — соглашается лейтенант.
«Скоро уж мой герр Майер придёт, — говорит капитан Багдасарьян, глядя на часы. — Уверяет меня, что он коммунист. Врёт, наверное. Кто ещё до капитуляции коммунистом был — тому можно верить. А все эти теперешние…» — капитан пренебрежительно кривит губы.
Лейтенант рассматривает газету.
«Здорово Кирсанов Америку кроет, — говорит он. — Удивляюсь я ихнему терпению. Мы их ругаем почём зря, а они не знают что ответить».
«Критика союзников запрещена Контрольным Советом», — замечает капитан.
«Ты в Западной Германии был?» — перебивает Компаниец.
«Нет. А что?»
«Я руководил погрузкой демонтированного оборудования в Бремене, — говорит лейтенант. — Вот где я действительно удивился. На заборах повсюду висят коммунистические газеты и орут во все горло: „Долой Америку!“ А американцы ходят — хоть бы что. Повесили бы где-нибудь в нашей зоне „Долой СССР!“».
«Ну, а как там — много эти газеты читают?»
«Да я, наверное, один только и читал. Из любопытства. Там коммунисты всегда ухитряются клеить свои газеты около трамвайной остановки. Психологический расчёт — пока человек трамвая ждет, возьмёт да и прочтет со скуки».
«Может быть, это просто американский трюк. Неужели они разрешают писать против себя?»
«Если по сути дела разобраться, то это и не так опасно. Эти газеты нам больше вредят, чем пользы приносят».
«Как так?»
«Если на Западе умный человек коммунистическую газету прочтет, то только плюнет. Сразу видно, чьими деньгами плачено. Холодно — капиталисты виноваты, если жарко — тоже они. Зато всё, что в СССР — зер гут».
«А всё-таки печать — большое дело. Вот смотри — я тебе беру две газеты, — капитан хлопает рукой по куче газет на столе. — „Рундшау“ и какой-то „Курьер“. Ведь мы-то уж знаем, как всё это делается и что оно на самом деле. Да? А вот почитаешь „Курьер“ — и пусто, движения нет. Там забастовки, здесь кого-то убили, где-то какая-то актриса. Честное слово, почитаешь — и такое впечатление, что это действительно гнилой мир. Жизнь есть, а призыву нету».
«Это тебе с непривычки так кажется, — замечает Компаниец. — Помнишь в 33-м году? По улицам трупы валяются, а в газетах — сплошная благодать. А у них все наоборот — живут в своё удовольствие, а в газетах панику поднимают».
«Да, может это и так, — нерешительно соглашается капитан. — Но всё-таки… Возьми „Рундшау“. Здесь один сплошной призыв. Жизни у немцев сейчас, собственно, и нет. В такой момент они и могут пойти на призыв. Голодному человеку кто больше пообещает — туда он и пойдет».
«А что ты хочешь, — звучит голос лейтенанта. — Это хитрая политика — сначала раздеть человека до гола, а потом манить его пряником. Сытый на эту удочку не пойдет».
«Великое дело — призыв, — мечтает капитан. — У нас этого уже не чувствуется… По второму кругу идём».
Раздаётся стук в дверь. На пороге показывается нескладная фигура в зелёном балахоне и со шляпой в руке.
«Gut morgen, Herr Kapitan», — произносит фигура медовым голосом и подобострастно кланяется направо и налево.
«Ein Moment!» — бесцеремонно машет рукой капитан, как будто делая гипнотические пассы. Фигура пятится задом и снова исчезает за дверью. Капитан торопливо собирает разбросанные по столу газеты и прячет их в ящик, затем он вытаскивает несколько папок с делами.
«Уверяет, сволочь, что он коммунист. Надо на всякий случай газеты убрать», — бормочет он вполголоса и затем кричит: «Herr Meier! Herein!»
Так выглядит Главный Штаб Советской Военной Администрации снаружи — и изнутри, если заглянуть в души людей.
Глава 9 Майор Государственной Безопасности
1
Однажды на моём письменном столе зазвонил телефон. Я снял трубку — мало ли всяких телефонных звонков бывает за день.
«Штаб Советской Военной Администрации?» — слышу я незнакомый голос в трубке.
«Да».
«Майор Климов?»
«Я самый».
«Здравствуйте, Климов, — после минутной паузы. — Говорит Главное Управление МВД в Потсдаме».
«Да. Кого Вам нужно?»
«Вас», — звучит короткий ответ.
«По какому вопросу?»
«Тут Вами интересуется один майор Госбезопасности».
«Да. По какому вопросу?»
«По сугубо личному вопросу», — доносится слегка иронический ответ. И подчеркнуто вежливо: «Когда Вас можно видеть?»
«В любое время».
«Мы хотели бы видеть Вас в неслужебное время. Будьте сегодня дома после окончания работы. Ваш адрес? Да, впрочем, у нас есть Ваши координаты. Пока — всего хорошего!»
«До свиданья».
Откровенно говоря, я принял это за глупую шутку кого-либо из моих знакомых. Надо же разыгрывать такую идиотскую комедию, да ещё по телефону. Не нашёл другого пути застать меня дома.
Вечером я лежал на диване и читал газету, совершенно забыв об обещанном визите. Когда раздался звонок, я даже не вспомнил об этом. Держа газету в руке, я открыл дверь.
В коридоре передо мной молча стояла фигура офицера. Падающий сверху свет лампы ясно освещал ярко-синюю фуражку с малиновым околышем и погоны с синими кантами. Форма МВД. Работники МВД в Германии, как правило, носят общевойсковую форму или ходят в гражданском платье. В первый раз после окончания войны я встречаюсь с малиновым околышем и… у себя в квартире.
У меня неприятно опустилось сердце. Я только подумал: «Он один. Значит ещё не так плохо. Один на один аресты не производят».
«Разрешите?» — мой посетитель уверенно входит в переднюю.
Я даже не гляжу на его лицо, ошеломлённый неожиданным визитом и соображая, что это может означать. Не ожидая моего приглашения, офицер снимает шинель и фуражку, потом повернувшись ко мне, произносит: «Э, дружище, если бы я тебя встретил на улице, то тоже не узнал бы. Ну, принимай гостей!»
Я ошеломлённо смотрю в лицо майору Государственной Безопасности. Он явно доволен произведенным эффектом. Передо мной стоит мой школьный одноклассник и приятель студенческих лет Андрей Ковтун, которого я уже давно вычеркнул из списка живых.
2
В жаркий июльский день 1941 года мы стояли с Андреем Ковтун на улице. Мимо нас маршировали колонны солдат. Вчера ещё они были мирными людьми.
Сегодня их строем отвели в баню, остригли наголо, переодели в солдатское обмундирование, и теперь нестройная молчаливая колонна двигалась навстречу неизвестности. Солдаты не пели песен, на их лицах нельзя было прочесть ничего, кроме покорности судьбе.
Одеты они были в старое выцветшее до бела обмундирование, сохранившееся от прежних призывных возрастов.
«Как ты думаешь — чем всё это кончится?» — спросил меня Андрей.
«Поживём — увидим», — ответил я, просто чтобы сказать что-нибудь.
«А я думаю, что немцы здесь скоро будут», — произнес он загадочным тоном и испытующе посмотрел на меня.
Андрей был забавный парень — и внешне и внутренне. Неладно скроен, но крепко сшит. Большого роста, со слегка кривыми ногами, с чересчур длинными руками. На непропорционально длинной шее сидела приплюснутая с боков голова.
Он страшно гордился своими густыми и жёсткими, как щётка, волосами и даже отпустил себе чуб, напоминавший казаков николаевских времен.
Во всей его внешности было что-то ассиметричное и одновременно диковатое: слишком чёрные глаза, слишком смуглый цвет лица, слишком много веснушек для взрослого человека.
Иногда я говорил ему в шутку: «Андрей, если учёные когда-нибудь позже откопают твой скелет, то обрадуются. Подумают — пещерного человека нашли». В то же время от него дышало девственной энергией, чернозёмом и простором степей.
Самой выдающейся особенностью характера Андрея было неукротимое честолюбие.
Когда мы были ещё школьниками в одном и том же классе, мы часто ходили вдвоём на озера, расположенные в двадцати километрах от города. Андрей тащил с собой удочки и сети, я брал старое охотничье ружье.
По пути он всегда устраивал соревнование — кто может быстрее ходить. Он определял условия состязания до мелочей, затем махал изо всех сил своими нескладными ногами и поминутно поглядывал на меня — не выдохся ли я ещё и не попрошу ли я у него пардона.
После нескольких часов гонки он, запыхавшись как загнанная лошадь, снисходительно говорил мне: «Да, ты тоже немножко можешь ходить. Давай передохнем, а то я боюсь, что с тобой удар сделается».
Растянувшись в придорожной траве, он, с трудом переводя дыхание, пыхтел: «Конечно, твой самопал легче, чем мои удочки… А то бы я тебя перегнал… Давай теперь поменяемся…»
Будучи уже студентом, Андрей нашёл новое поле деятельности для своего честолюбия. Теперь он с упоением изучал историю великих людей. Он просто рылся по каталогам библиотек и выискивал книги, начинающиеся словом «Великие…», вплоть до трёхтомного труда «Великие куртизанки мира».
Придя ко мне, он усаживался верхом на стул, некоторое время молча барабанил пальцами по столу, затем, вытянув вперед свою плоскую как у ящерицы физиономию, тоном инквизитора спрашивал: «О Клеопатре ты, возможно, кое-что знаешь. А скажи-ка мне, кто была Мессалина? Э!» Если я не мог ответить на его вопрос, то он был чрезвычайно горд.
Я обычно не шёл на его ловушки, а применял тактику контрвопросов. Если он спрашивал меня, каким камнем пользовался Нерон вместо очков, то я с презрительным видом говорил: «Это чепуха. Скажи мне лучше — какая разница между когортой и фалангой? Вот вопрос для мужчин».
Андрей смущённо ерзал по стулу, чувствуя, что ему ещё далеко до Нерона. Он мог безошибочно показать на карте место, где находился Карфаген, исчезнувший с лица земли две тысячи лет тому назад, но когда я спрашивал его, где Мурманск, то он попадал в затруднительное положение.
Нужно принять во внимание, что у нас в школе изучение истории начиналось с Парижской коммуны. То, что творилось на свете до этого, по мнению советских педагогов, вполне можно отнести к теории Дарвина — происходила эволюция от обезьяны к человеку, а собственно человек появился только со времени первого коммунистического восстания Парижской коммуны.
Это считалось достаточным для просвещения советской молодёжи в области истории. По закону действия и противодействия мы питали органическое отвращение к «шарманке», так мы называли уроки истории, — и во время уроков истории предпочитали игру в футбол.
Поэтому знание древней и средней истории было явлением исключительным в нашей среде. Для этого нужно было изучать эти вещи самостоятельно по книгам, достать которые стоило большого труда. Я читал старые учебники по древней истории уже будучи студентом университета, в порядке отдыха от скучных дифференциалов и интегралов.
Не знаю, что заставило Андрея заинтересоваться прахом Александра Македонского, наверное, тоже честолюбие. Он полагал, что только он один мог додуматься до столь оригинальной вещи, и чрезвычайно удивлялся, когда я отвечал на его каверзные вопросы.
Второй необычайной чертой характера Андрея была животная ненависть к советской власти — он ненавидел её как собака кошку.
Мне это часто было непонятно и просто неприятно. Я был более либерален. Отец Андрея был сапожником-кустарем, по советской классификации он принадлежал к разряду ликвидируемого класса собственников, хотя вся его собственность заключалась в мозолистых руках да согнутой спине.
Андрей, наверное, с колыбели слышал немало горьких проклятий по адресу Сталина и всей «коммунистической шатии». Я не находил себе другого объяснения, когда ещё в школе он оттаскивал меня в угол и шептал мне на ухо антисоветские частушки, которые обычно пишут в уборных.
Потом он испытывающе смотрел на меня своими чёрными глазами и спрашивал: «Ну, как? Здорово — не правда ли?» Я обычно не пускался на дискуссии и ограничивался молчанием. Нам было тогда по шестнадцать лет, но я не забывал, что в соседней школе недавно арестовали трех школьников по обвинению в антисоветской деятельности.
Когда мы уже были студентами, Андрей часто заходил ко мне. Мы не были закадычными приятелями. Я думаю, у него вообще не было близких друзей. Его дружба выражалась, главным образом, в одностороннем соперничестве по всем вопросам. Он постоянно хотел перещеголять меня в экзаменах, в общих гуманитарных знаниях, даже в области успеха среди девушек.
Я же только посмеивался над его чудаковатыми манерами, спускал его с облаков на землю и доказывал необходимость совершенствоваться. Для меня он был не столько товарищем, как любопытным типом. Он едва ли мог быть хорошим другом, в его душе было что-то неприятное.
Хотя он никогда не сделал мне никакой гадости, но я подсознательно сохранял в наших отношениях некоторую дистанцию. Он же слегка снисходительно удостаивал меня своей дружбой-соперничеством, говоря, что я хоть немного разбираюсь в «высоких материях».
Андрей считал себя непревзойденным и неотразимым. В нашей компании это служило источником весёлых шуток по его адресу. Достоинством Андрея было, что он, несмотря на честолюбие, никогда не обижался. Если и обижался, то никогда не подавал вида. Просто исчезал на некоторое время, а затем, переварив обиду, снова появлялся в моей комнате, как ни в чём не бывало.
Однажды в начале учебного года, когда мы были уже на третьем курсе Индустриального института, Андрей пришёл ко мне и по привычке оседлал стул. Я, согнувшись над столом, чертил курсовой проект, и не обращал на него никакого внимания — он был у меня слишком частым гостем.
На этот раз у Андрея была особенно важная новость. Он напустил на себя чрезвычайно таинственный вид и вертелся, как уж. В то же время он старательно молчал, пытаясь разжечь этим моё любопытство. Я чувствовал, что он почти лопается от потребности поразить меня своей тайной, но не подавал вида.
«Ты ничего не знаешь?» — наконец не выдержал он.
Я продолжал чертить.
«Ну, конечно, ты ничего не знаешь, — Андрей понизил голос до шепота. — В этом году на первом курсе исключительно интересные девушки. Я специально интересовался проблемой нового набора. Я был вчера в общежитии Химфака (химический факультет). Ах, какие девочки. А одну я там нашел — настоящая принцесса, в полном смысле слова принцесса. Я даже её имя узнал — Галина! Я разработал детальный план и пришел теперь посоветоваться с тобой. Да, брось ты свои чёртовы чертежи. Слушай сюда!»
Андрей говорил так, как будто сердце принцессы уже лежало в его кармане.
«Я чертовски умно придумал. Посмотрел, в какой комнате Галина живёт — это раз. Посмотрел, кто с ней ещё в комнате живёт, их там четверо, — это два. Выбрал самую уродливую изо всех и очаровывал её целый вечер, как Мефистофель. Теперь эта жаба воображает, что я в неё по уши влюблён, даже пригласила меня к себе в комнату. Понимаешь? А в комнате-то Галина. А-ах! Видишь, как дела делаются».
Андрей подскочил на стуле и издал какой-то нечленораздельный звук в восторге от своего собственного острого ума.
Потом он снова зашептал: «Дело наполовину сделано. Мне только неудобно ходить туда одному. Нужен компаньон. Пойдём со мной!» «Ты все равно конкурент не опасный», — добавил он с чувством собственного превосходства.
Слова Андрея меня удивили — он считался среди студентов самым отъявленным женоненавистником. Благодаря своей угловатой внешности он не пользовался успехом у студенток. За неимением других доказательств он с апломбом говорил: «Женщины всё равно ни черта не понимают. Им нужна внешняя оболочка, а не душа».
Затем, видимо, чтобы утешить себя, он бормотал: «К тому же все великие люди до самой смерти были холостяками».
Итак, что-то случилось, если Андрей заговорил о женских прелестях. До сего времени его интересовали женщины не моложе Екатерины Великой.
Вскоре я сам встретил принцессу, вокруг которой Андрей плёл свои хитроумные сети. Остается ещё добавить, что в результате наша с Андреем дружба-соперничество распространилась также и на Галину.
Весной 1941 года мы с Андреем защитили перед Государственной Экзаменационной Комиссией наши дипломные работы и стали молодыми инженерами, перед которыми раскрывался мир.
Студенческая жизнь, несмотря на все её прелести, была не лёгкой. Больше половины выпускников нашего курса заплатили за высшее образование дорогой ценой — туберкулёз, катар желудка, неврастения.
Но мы боролись за наше будущее. Теперь оно раскрывало перед нами свои заманчивые дали. Теперь мы имели солидную профессию, перспективы на лучшее материальное обеспечение, возможность осуществить свои планы в жизни. Путевка в жизнь лежала в нашем кармане.
22 июня 1941 года…
Многие из нас никогда не забудут эту дату. Война пришла как гром среди ясного неба. Она разрушала все наши планы на будущее. На долгие годы мы должны были отказаться от личной жизни, шагнуть в неизвестность.
Несмотря на это, мы восприняли войну до странности спокойно. Германия олицетворяла для нас Европу, а Европа была для большинства молодой мыслящей интеллигенции запретным идеалом.
Абсолютный запрет всякого контакта с внешним миром имеет свои отрицательные стороны — многие из советской молодёжи видели в Европе преувеличенное до абсурда воплощение своих духовных и материальных стремлений.
Многие в первую минуту полагали, что это означает начало коммунистической мировой революции, что война инсценирована Сталиным, что это очередной эволюционный маневр Коминтерна — и они испугались.
Но, когда через несколько дней пришли первые известия об ошеломляющих успехах немецких войск, о катастрофических поражениях Красной Армии, люди успокоились.
Многие в принципе, в глубине души, даже радовались войне. Именно такой войне. Они внутренне воспринимали эту войну, как крестовый поход Европы против большевизма. Это парадокс, о котором мало кто подозревает в Европе, а русские люди стараются не вспоминать об этом — слишком горько было разочарование потом.
Гитлер сыграл в руки Сталина крупнейший козырь — доверие народа. Если до войны большинство молодой интеллигенции принципиально не хотело верить советской пропаганде или относилось к ней очень критически, то в годы войны эти люди получили кровавый урок, который они никогда не забудут.
Встретив меня где-нибудь, Андрей взволнованно тащил меня в сторону и сообщал последние сводки с фронта. Немецкие сводки. С немецкого фронта, где он был душой. Когда немецкие войска были ещё далеко от Киева, он клялся что Киев уже пал.
Каждое поражение советских войск он воспринимал не только с радостью, но прямо-таки с животным злорадством. В своём воображении он уже командовал какой-то террористической бандой и в уме подсчитывал количество повешенных его рукой коммунистов.
Вскоре война разбросала нас с Андреем в разные стороны.
В конце 1941 года я получил от него первое письмо. Написанное на грязном обрывке бумаги, оно было пронизано безысходной тоской. Это было не письмо, а волчий вой на луну. Он находился где-то в тылу, в какой-то учебной части.
В довершение всего это была часть специального назначения — по окончании обучения их должны были перебросить в немецкий тыл в качестве партизан. Он был инженером-строителем, теперь стал офицером-сапером. Это определяло его будущую специальность — диверсионная работа в тылу неприятеля.
Прочитав письмо, я был уверен, что на следующий день Андрей перебежит к немцам.
Второе письмо я получил от него не скоро, почти через год. Диковинный конверт, бумага носила гриф немецкого штаба, крест-накрест перечеркнутый рукой Андрея. Когда я прочёл письмо, то был немало удивлен, до чего человек может лицемерить.
Письмо было написано в напыщенном стиле гомилетики, это был сплошной хвалебный гимн Родине, партии и правительству. Написать имя Сталина у Андрея всё-таки рука не повернулась.
Он писал:
«Только здесь, в тылу врага, я понял, что такое Родина — Родина с большой буквы. Теперь это для меня не отвлечённое понятие, а живое существо, родное существо, Родина-Мать. Я нашел то, что тщетно искал — смысл в жизни. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Если уж жить, так жить с лапстосом.[10]
Теперь я член Коммунистической партии, награждён тремя орденами и представлен к повышению. Командую партизанским отрядом, по численности равным полку, а по его боевому балансу ещё больше.
Я сделал глупость, когда пошел учиться на инженера. Теперь я твёрдо решил — после победного окончания войны пойду работать в органы НКВД, переменю фамилию на Орлов».
Маленький Нерон уже не сомневался в исходе войны. Он хотел переквалифицироваться в работника НКВД, поскольку считал это учреждение квинтэссенцией советской власти. Он подробно перечислял в письме количество взорванных мостов, пущенных под откос поездов и уничтоженной живой силы противника.
Я не поверил перерождению Андрея. Я просто подумал, что он пишет, учитывая наличие военной цензуры. Морально-политическая характеристика и повышение офицеров во многом зависит от их писем. Я подумал, что честолюбие и жажда карьеры взяли верх надо всеми другими чувствами его горячей души.
Я порядком обозлился и написал в ответ:
«Боюсь, как бы мы не очутились с Вами по разные стороны стола, гражданин Орлов».
Это было по адресу будущего следователя НКВД.
Последнее письмо я получил от Андрея ещё через год. Это были уравновешенные строки взрослого человека. Он сообщал, что командует соединением регулярных партизанских отрядов, что равняется по численности армейской дивизии.
Деятельность его подразделений охватывала по карте район, равный по величине среднему европейскому государству. О боевых делах его частей сообщалось в сводках Совинформбюро. Он уже не перечислял своих орденов, а только коротко упомянул, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Мой друг-соперник действительно сделал карьеру. Андрей любил похвастаться, но никогда не врал. К тому времени в русской душе произошли большие перемены и я искренне гордился подвигами Андрея. В конце письма он сообщал, что передвигается вместе с наступающим фронтом на запад в район Прибалтики, что работа там трудная и возможен перерыв в нашей переписке.
С тех пор я ничего не слышал об Андрее Ковтун. Я с грустью подумал, что его голова всё-таки оказалась в кустах, и мысленно поставил крест над его именем.
3
И вот теперь Андрей снова передо мной живой и невредимый, воскресший из мёртвых. В моём представлении умер чудаковатый парень, мечтавший о великих подвигах. Сейчас передо мной стоит мужчина в расцвете лет. На его груди поверх нескольких рядов орденских лент поблескивает золотом пятиконечная граненая звезда — высший знак воинской доблести Советского Союза.
Его фигура дышит спокойной уверенностью человека, привыкшего командовать, черты лица потеряли юношескую угловатость и приобрели своеобразную мужественную красоту. Только характер у Андрея не изменился. Выдумал сюрприз, от которого у меня сердце в пятки опустилось.
«Давно мы с тобой, братик, не видались. Принимай дорогого гостя!» — говорит Андрей незнакомым для меня голосом. В его тоне налет покровительственности, как будто он привык говорить с людьми сверху вниз.
Злые годы мчатся вскачь, так и не видишь, как летит время. Только вот встретившись со старым приятелем, чувствуешь, сколько воды утекло с тех беззаботных студенческих лет.
«Гость ты действительно редкий, — говорю я. — Только чего ты меня раньше не предупредил. Сейчас я даже и не соображу, как нам отпраздновать твоё воскресение из мёртвых. Почему ты не писал?»
«Знаешь что такое — спецзадание? Я два года даже матери писать не мог. Ну, а ты как живешь? Женился — или всё ещё на подножном корму?»
Андрей ходит по комнате, твёрдо ступая сапогами по ковру и засунув руки в карманы синих галифе. Жизнь научила маленького утёнка крепко стоять на собственных ногах. Раньше на стуле рядом с моим чертёжным столом он чувствовал себя не так уверенно.
«Ну, а теперь рассказывай все по порядку, — говорит Андрей, усаживаясь в кресло между письменным столом и книжным шкафом. — Как воевал?»
«Как и все», — отвечаю я.
Я ещё не пришел в себя от неожиданности и чувствую некоторую неловкость. Андрей так изменился за эти годы, найдем ли мы теперь общий язык.
«Люди воевали по-разному, — звучит голос Андрея. — Знаешь, умный наживается, а дурак навоюется. Впрочем, это уже дело прошлого. Какие у тебя планы на будущее?»
«Завтра встаю к десяти часам на работу», — говорю я.
«Это похвально. Значит ты по-прежнему реалист».
Наш разговор натянут и неестественен. Странно, как время стирает былую задушевность и близость юношеских лет.
«Эх, хорошее было время — студенческие годы. Кажется, тысячу лет с того времени прошло, — говорит задумчиво Андрей, как бы угадывая мои мысли. — Скажи, чем кончилось дело с Галиной? Я был уверен, что встречу её твоей женой».
Андрей не забыл нашу принцессу студенческих лет. Да и мне приятно это воспоминание безоблачных дней. Так полузаметённые ветром следы маленькой ножки на прибрежном песке будят в нашем сердце милые расплывчатые образы. След на песке дарит нам сладкий, как дым опиума, сон улетевшей мечты. След на песке, далёкое море, солнечный ветер. Лечь бы на этом песке и смотреть в голубое ничто.
Некоторое время мы сидим молча. Я предлагаю Андрею сигарету, он отказывается.
«Ты что — так и не научился курить?» — спрашиваю я.
«Нет, пробовал в лесах со скуки, но не прививается», — отвечает он.
Я знаю, что раньше Андрей органически не переносил спиртных напитков. Когда я поставил перед ним бутылку с яркой этикеткой, он начал изучать её со всех сторон, как будто это было лекарство.
«Мой главный недостаток — не могу пить, — говорит он. — Дома у меня лежат коллекционные вина из подвалов Геринга — так и не трогаю. А часто трудно приходится. Другие пососут бутылку и забываются, мне же это не помогает».
«Что у тебя — угрызения совести начинаются? — спрашиваю я — Ведь ты же сам, если не ошибаюсь, в Робеспьеры лез. Да, кстати, как твоя фамилия — Орлов?»
Я напоминаю ему о письмах из партизанского тыла.
«Нет. То было просто опьянение… Своеобразное опьянение», — отвечает Андрей, и мне слышится неуверенность в его голосе.
«Скажи, Андрей, зачем ты мне писал всякие глупости в письмах. Просто учитывал цензуру?»
«Возможно ты не поверишь этому, — отвечает он, — но эта была правда. Сейчас мне это самому кажется глупым. Если сказать тебе по совести, годы войны были и, наверное, останутся самыми счастливыми в моей жизни. В них я нашел себя. Тогда я купался в крови, но до последнего фибра моей души был убеждён, что я прав, что я делаю великое и нужное дело. Тогда все казалось мне ясным и чистым, как безбрежное снежное поле. Я чувствовал себя хозяином русской земли и готов был умереть за неё. Вот просто так — раскинув руки в снегу».
Слова Андрея выходят с трудом, он говорит их с каким-то едва уловимым колебанием, в них нет его обычной самоуверенности и героического пафоса.
«Ну, так в чём же дело?» — спрашиваю я.
«Теперь же у меня иногда нет такой уверенности, — продолжает он, как будто не слыша моего вопроса и глядя в одну точку. — Раньше я убивал немцев. Смотри! — он протягивает вперед свои узловатые загорелые руки. — Этими руками я перебил столько немцев. Просто убивал, ведь партизаны в плен не берут. Убивал и чувствовал себя хорошо. Потому что был уверен в своей правоте».
«А знаешь, что я сейчас делаю? — Лицо Андрея передергивает нервная судорога, в его голосе слышится затаённая злоба. Странная злоба — как будто он сердится на самого себя. — Теперь я убиваю немецкую душу и мозг. Геббельс когда-то сказал: „Если хочешь покорить нацию, то нужно вырвать у нее мозги“. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Плохо только что своя голова трещит».
«„Мы должны быть заинтересованы в Германии постольку, поскольку это необходимо для обеспечения наших интересов“. Правильно! Но дело заходит слишком далеко. Да это и не главное. Как тебе это сказать…»
Некоторое время он молчит. Потом говорит медленно, подбирая слова: «У меня проклятое сомнение. Мне кажется… то, что мы здесь убиваем… это лучше того, что за нашей собственной спиной. Мне не жалко немцев, но мне жалко самого себя, нас самих. Вот в этом суть вопроса. Мы разрушаем стройную систему культуры, реорганизуем по нашему образцу, а этот образец — плюнуть хочется. Помнишь нашу жизнь там?»
«Послушайте, майор Госбезопасности, чем Вы сейчас, собственно, занимаетесь? — спрашиваю я. — Потом, говорите немного потише. В немецких домах стены тонкие».
Вот тебе и эволюция! Майор МВД начинает говорить интересные вещи.
«Что я делаю?» — повторяет мой вопрос Андрей. Затем говорит уклончиво: «Разные я дела делаю. Помимо тех задач, которые обычно приписывают МВД, у нас много других, о которых никто не догадывается. Например, у нас есть точная копия вашего СВА, только в миниатюре. Мы контролируем вашу работу, одновременно помогаем, там где требуется радикальное вмешательство — быстро и без шума. Москва не столько доверяет отчетам Соколовского, как нашим параллельным докладам».
«Ты уж, наверное, знаешь по опыту, — продолжает он. — Лейтенант МВД может приказывать вашему полковнику, а слово майора МВД — это закон для ваших генералов. Во всяком случае, неписаный закон, — генерал задним умом понимает, что это приказ, нарушение которого может иметь очень неприятные последствия».
«Ты знаешь Политсоветника Семёнова и полковника Тюльпанова? — спрашивает Андрей и, не дожидаясь моего ответа, продолжает. — Мы редко встречаемся с ними, но они повседневно чувствуют нашу отеческую заботу. Начиная с таких мелочей как создание соответствующей аудитории и морального духа в Доме Культуры Советского Союза».
«Мы очень часто приглашаем для дружеского собеседования Вильгельма Пика и прочих вождей, — слова „дружеское собеседование“ и „вожди“ Андрей произносит подчеркнуто ироническим тоном. — Мы с ними даже за руку не здороваемся — чтобы им в голову не пришли всякие вольтерьянские мысли. Мы с ними не цацкаемся, как ваш Тюльпанов».
«Только поработав в нашем аппарате, можно познать глубину человеческой подлости. Вообще никому руки подавать не хочется, — презрительная усмешка кривит губы Андрея. — Все наши дорогие гости ходят на цыпочках. Если не нравится — до Бухенвальда не далеко. Пик и братия это хорошо знают — там уже коптятся некоторые его коллеги».
«Демократизация Германии… Ха… Всех булочников и колбасников — на Колыму. Ликвидация собственников, как класса. Из ихних локалей построим красные уголки имени Пика или ещё какой-нибудь сволочи, — последние слова Андрея это смесь холодного презрения и гадливости.
«Знаешь, как мы производили чистку Берлина после капитуляции? В одну ночь! Тридцать тысяч человек из постели курсом на Сибирь. Мы имели все списки ещё тогда, когда войска стояли за Одером. Получили всё от местных коммунистов».
Андрей молчит некоторое время, закидывает ногу за ногу, смотрит на собственное колено.
«От старательных подлецов отбою нет. Знаешь, после капитуляции у нас буквально стояли очереди добровольных доносчиков и информаторов. Один раз я приказал прикладами разогнать целую толпу этой человеческой мрази из моей приёмной — не выдержал».
Слова Андрея напоминают мне о характерном отношении советских солдат к нашим немецким «единомышленникам».
Незадолго до соединения советских и американских войск группе русских солдат повстречался одинокий немец. На спине его был рюкзак, рядом он вёл велосипед, на котором было нагружено все его остальное имущество. Он шёл на восток. Увидев советских солдат, немец пришел в дикий восторг: «Stalin — gut… Ich Kommunist… Kamerad»…
Он попытался объяснить солдатам, что он идёт в Советскую Россию, что он вместе с ними хочет строить коммунизм. Солдаты, молча переглянулись, повернули его лицом на запад и добродушно дали подзатыльник. Когда немец попытался упорствовать в своем желании идти на восток, то солдаты обозлились, отобрали у него велосипед и рюкзак.
Избитый паладин в Кремль после коммунистического крещения еле унес ноги назад под напутственные слова солдат: «Теперь камрад настоящий коммунист. Твоё — моё. Сталин — гут».
Солдаты были глубоко убеждены, что они сделали доброе дело — спасли человеку жизнь.
В первые месяцы после капитуляции, в период междуцарствия, солдаты иногда занимались охотой на немцев с автомашинами — просто чтобы покататься. Если «Фриц» пытался доказать что он «свой», коммунист, то солдаты с удивлением спрашивали партдокументы: «Смотри, Петя — видал дурака! Если уж у нас коммунизм — так это понятно. Но чего этим идиотам нужно? Наверное, какая-нибудь сволочь!» И «идеологический Фриц» получал дополнительную санобработку,[11] после которой, лёжа в госпитале, имел время пересмотреть свои взгляды на коммунизм. Машина после прогулки, если оставалась цела, просто отдавалась очередному «Фрицу», показавшемуся солдатам симпатичным. Русская душа живёт импульсами.
Функционеры КПД-СЕД, водрузив на радиаторах автомашин красные флажки и чувствуя себя хозяевами, гоняли по Берлину как на пожар, превышая все границы дозволенной скорости.
Тут уж каждый советский офицер или солдат за рулем считал своим кровным долгом заняться идеологической перековкой зазнавшегося «камрада». Чем выше по партийному чину был «камрад», тем большей честью считалось разбить ему радиатор и физиономию. «Чтобы не так торопился к коммунизму!» — говорилось в таких случаях.
Сам комендант берлинского Кремля — Карлсхорста — полковник Максимов только посмеивался, когда ему докладывали о подобных проделках.
Это не были просто акты варварства. Пожив в Германии, советские солдаты отзывались о немцах с уважением и даже некоторой завистью. По адресу же немецких коммунистов слышались выражения: «Подлецы и продажные шкуры». Советский человек, увидав Европу, глубоко убеждён, что коммунистом может быть только дегенерат, состоящий на жаловании у Москвы.
«Да, кстати, что ты делал недавно на Петерсбургерштрассе?» — неожиданно спрашивает Андрей.
Я удивлённо смотрю на его неподвижную фигуру. Неделю тому назад я действительно был на Петербургерштрассе. Одна из моих московских знакомых Ирина пригласила меня к себе. Она окончила в Москве Институт Иностранных Языков и теперь работала в Берлине в должности преподавательницы немецкого языка.
Когда я нашёл нужный мне дом, то он мало чем отличался от остальных. Снаружи не было никакой надписи, не было даже красного флага, указывающего, что дом занят оккупационным учреждением. Проходя по улице, можно было подумать, что это обычный немецкий дом. Но, когда я открыл дверь, то очутился нос к носу с часовым в форме войск погранохраны МВД.
Моя офицерская форма и удостоверение личности помогли мало. Ирина должна была сойти вниз и подтвердить мою личность, только тогда я получил пропуск. В этом здании была школа цензоров МВД, здесь же они и жили на казарменном положении. Условия были очень строгие, как и во всех учреждениях под опекой МВД.
Даже в воскресенье, уходя куда-либо, Ирина, хотя она и была вольнонаемной, должна была получить разрешение у своего начальника, затем отметить в регистрационной книге время ухода и цель, возвращаясь она ставила время прихода и опять свою роспись. Жили они все, по её собственным словам, на правах полузаключённых.
«Откуда ты знаешь, что я был на Петербургерштрассе?» — спрашиваю я.
«Откуда? Очень просто — предварительно я поинтересовался твоим личным делом. Не подумай что это то личное дело, которое ты имеешь здесь, в Отделе Кадров. Ведь я не ошибусь, если буду утверждать, что недавно ты слушал „Евгения Онегина“ в Адмирал-Паласте, смотрел балет „Петрушка“. Могу даже напомнить, с кем ты там был».
Андрей искоса смотрит на меня, интересуясь, как я буду реагировать на его слова. Он по-прежнему любит дешёвые эффекты.
«Впрочем, это пока не считается грехом, Адмирал-Паласт в советском секторе, — говорит он. — Но рекомендую тебе воздержаться от посещения театров в других секторах — такие вещи идут по статье дебет. Понял?! Мы имеем свою бухгалтерию на каждого офицера СВА вплоть до маршала Соколовского. Твоё личное дело пока в полном порядке — с чем тебя и поздравляю».
«Да, о Петерсбургштрассе! — продолжает Андрей. — Там есть ещё несколько интересных заведений. Например, специальный питомник немецких инструкторов — кадры будущего немецкого МВД. Некоторые вещи удобнее делать немецкими руками».
«Меня поражает одно — то, чего эти люди стараются, — говорит Андрей. — Мне иногда кажется, что некоторые из них искренне верят, что они строят лучшую Германию. Вся эта мелочь даже не получает доппайков как спецтройка».
«Знаешь что это такое — спецтройка? — Андрей опять смотрит на меня. — Немцы называют трио Гротеволь-Пик-Ульбрихт сокращенно ГПУ. А мы сами окрестили их для краткости „спецтройкой“».
Андрей снова начал рассказывать лозунги со стен уборных. Видно ему доставляет удовольствие делиться со мной литературными перлами из архивов МВД.
«А знаешь ты что такое СЕД? — звучит голос майора Госбезопасности. — Немцы говорят — „So endet deutschland“[12]. Может быть, они и не подозревают, насколько они правы. Это станет ясно, когда Германия обернется Германской ССР, а теперешняя СЕД будет переименована в КП(б)Г. Конечно дело не в названиях, а в сущности».
У Андрея странное выражение лица. В нём остатки наигранной таинственности — эта свойственная его душе потребность удовлетворения ярко выраженного чувства собственного «Я». С другой стороны — в нем неприкрытая горечь.
Ещё в студенческие годы у Андрея были сильно развиты какие-то тёмные подсознательные инстинкты. Может быть, и здесь он не просто Андрей Ковтун, а только майор Госбезопасности при исполнении служебных обязанностей? Может быть, этот разговор просто провокация с целью выяснить мою реакцию?
Для нашей общей пользы я говорю Андрею: «Ты болтаешь довольно странные вещи. Будь на твоём месте кто другой, то я безусловно поставил бы об этом в известность соответствующие органы. Но поскольку предо мной майор Госбезопасности, да ещё в полной форме, то я принимаю все эти штучки как заведомую провокацию. Исходя из этого, я считаю излишним давать ход делу. Крой пока не надоест».
Андрей смотрит на меня и смеётся: «Однако, ты предусмотрительный человек. Застраховаться никогда не мешает. Кто это сказал: „Не полководец тот, кто не обеспечивает путь для отступления.“ Мольтке что ли? Для успокоения собственной совести можешь принимать всё за провокацию. С такой предпосылкой я даже могу говорить откровеннее».
Андрей встаёт и начинает ходить по комнате. Остановившись у книжного шкафа, он рассматривает корешки книг.
«Посмотри вот, — он вытащил книгу о Голландии, листает её и показывает мне. — Голландцы моют мылом даже тротуары перед домами. Все сыты и одеты. Мне эти маленькие страны особенно жалко. За каким им чёртом коммунизм? А достаточно двух десятков подлецов, — и они тоже будут маршировать с красными флагами. А мытьё тротуаров… Они тогда и сами мыться перестанут».
Андрей бесцельно перебирает книги на полках. Стоя ко мне спиной он говорит: «Забавно только — как легко целые нации суют голову в эту петлю. Возьми Германию. Если бы Сталин имел всю Германию в своих руках — немцы бы уже сегодня плясали все как один под его дудку. Знаешь как у них — «Befehl ist Befehl»[13]. Конечно сначала предпосылка — будет создана форма самостоятельного немецкого государства — с премьерами и прочими марионетками. Пощекочут немецкое чувство национализма. А потом, когда возьмут вожжи в руки, немцы единогласно проголосуют за создание Германской ССР. Какая она там будет по счёту — двадцатая или двадцать первая».
Шагая по комнате, Андрей продолжает свои созерцательные размышления. Видимо, ему давно не представлялось возможности высказывать свои мысли вслух.
«Форма и содержание, — говорит он, как будто ни к кому не обращаясь. — Возьми, к примеру, социализм и коммунизм. По Марксу социализм — это первичная стадия коммунизма. Социалистические тенденции очень сильны в мире. Прогресс современного общества естественно требует каких-то новых форм. Социал-демократические партии, социализация при Гитлере, сегодняшние социалистические течения в Англии. Это видишь на каждом шагу. Так что, действительно все дороги ведут к Коммунизму?»
Андрей молчит некоторое время, как будто он не может выразить то, что хочет сказать.
«Теперь посмотри на то, что мы сегодня имеем в России, — говорит он. — Это называется социализмом. По форме это как будто действительно социализм — всё принадлежит обществу в лице государства. А по содержанию? По содержанию это государственный капитализм или социалистическое рабовладение. Народ вытягивает последние жилы ради будущего коммунистического рая. Больше всего это похоже на осла, перед которым на оглобле привязан пучок сена — осёл тянет, а сено все на том же месте. А наивные идеалисты на Западе путают понятия социализм и коммунизм и добровольно суют голову в тот же хомут».
«Помнишь сказку Андерсена „Новое платье короля“? — продолжает Андрей. — Чудесная вещичка! Помнишь, как голого короля вели по улицам, а все кругом расхваливали, какое у него чудесное платье. Невидимое, но чудесное. Коммунизм играет роль такого платья в современном обществе. Одни расхваливают его, потому что зарабатывают на этом, другие надеются заработать, третьи из боязни, что их примут за реакционных дураков. И все хором повторяют: „Ах, какое хорошее платье!“ А никто, кроме нас не знает, что это за платье. Не даром кремлёвские ткачи берегут свою стряпню за семью замками».
«Есть твёрдые законы человеческой психики. Если человеку изо дня в день повторять одно и то же — то он, в конце концов, начинает верить этому. Здесь можно вспомнить заповедь Геббельса: „Чем ложь невероятнее, тем ей больше верят“. Из гитлеровской компании я больше всех уважаю Геббельса, он был умный человек и откровенный циник».
После ужина мы сидим ещё некоторое время за столом. Я задумался над словами Андрея. На эти темы не часто приходится говорить, стараешься даже не думать.
Нужно признать, что коммунистическое учение — это действительно сильная вещь. Ещё не существовало в мире другого мировоззрения, которое бы служило таким универсальным оружием в руках держащего его. Гитлер имел базой расовую доктрину, теорию национального превосходства германской расы.
Слабость национальной доктрины была в её региональной ограниченности. Чем больше расширялась Гитлеровская Империя, тем труднее было применять эту доктрину. В оккупированных странах она служила больше во вред Гитлеру, чем на пользу. Преимущество коммунистической доктрины — в её интернационализме.
Муссолини хотел построить Новую Италию по образцу Римской Империи. Его идея была стара, как пыль веков. Вместе с тем история говорит нам, что только те политические доктрины прошлого имели успех, которые корнями уходили в будущее. Коммунистическая доктрина сильна именно своими рецептами исцеления всех болезней современного общества — в будущем.
В демократическом мире пролетарии надеются улучшить своё существование, хватаясь за коммунизм, — для человека вполне естественно стремиться к лучшему. Мы уже потеряли все иллюзии, но не видим другого пути, не имеем возможностей. Часто мы тщетно пытаемся убедить себя в том, чему мы уже не верим, пытаемся найти какой-то компромисс.
«Как это ни странно, но с коммунистическим ученьем можно провести только одну историческую параллель — это христианское ученье, — говорит Андрей. — Только оно было так же ортодоксально. Благодаря этому оно и распространилось по всему свету. Христианское ученье говорило душе человека: „Отдай твоему ближнему“, — не так ли? История шагнула к материализму. Коммунизм бьёт по инстинктам человека. Вульгарный примат коммунизма — «возьми у твоего ближнего». Новое общество по примеру пауков в яме. Это принцип. А всё остальное — только мелочи оформления. Пёстрые тряпки чтобы прикрыть наготу».
«Человек должен верить во что-то, — продолжает он. — Почему люди поклонялись солнцу или языческим идолам и богам? По той же причине. Сталин преследует религию потому, что она является его конкурентом в борьбе за душу человека. Убив веру в Бога, Сталин поставил на его место идола — самого себя. Производное от амёбы поставило себя на место Бога».
«Знаешь, меня ещё до войны приводила в ярость страсть Сталина к лицемерию и преклонению со всех сторон. Умный и морально чистый человек сам бы положил этому конец. Больше того, эта грязная черта его характера даёт мне повод к беспокойству, — Андрей пощёлкивает пальцами, подбирая подходящее выражение. — Ему определённо было бы приятно, чтобы весь мир… Нет сомнения, если бы он мог проделать этот эксперимент безнаказанно, то он не колебался бы ни минуты. Эта цель стара, как и всякая диктатура. Есть много примеров, чем все эти затеи кончаются. А ведь на карту поставлена судьба нашего народа».
Андрей медленно опускается в кресло, вытягивает ноги вперед, кладёт голову на плюшевую спинку: «После капитуляции я полагал, что мы возьмём у Европы все лучшее, — ведь мы, в конце концов, победители, — и наведём порядок у себя дома. Вместо этого мы насаждаем здесь свой бардак, а из нашего народа последние жилы тянем. Перманентная революция! Я здесь строю коммунизм во всегерманском масштабе, Вильгельм Пик бегает у меня на побегушках, а дома у нас что творится?»
В глазах Андрея вспыхивает злобный огонёк. Он вскакивает и снова начинает мерить ковёр шагами. Голос его сдавлен от бешенства: «Ради этого я воевал?!»
«Послушай, Андрей, — говорю я. — Допустим на момент, что твои слова не провокация, а твои действительные мысли. Как можно совместить всё это с работой в МВД?»
Андрей на одно мгновение смотрит мне в глаза, затем снова устремляет взор в несуществующую точку в полутьме комнаты.
«Ты думаешь, я для чего красную шапку таскаю? — говорит он. — Просто для смеха. Чтобы позабавиться, как от меня люди шарахаются. Это теперь единственное удовлетворение во всей моей работе. Если пусто внутри, то поневоле ищешь что-то внешнее».
«У тебя эта жилка и раньше была — a la Neron, — говорю я. — Но на этом далеко не уедешь».
«Да, ты прав. Между прочим, знаешь ты профессиональные болезни работников МВД? — криво усмехнувшись, Андрей продолжает. — Алкоголизм считается самой безобидной. Большинство наркоманы — морфий, кокаин. Статистикой установлено, что три года работы в оперативных органах достаточны для хронической неврастении».
Андрей смотрит на меня с непонятной усмешкой: «В Крыму есть даже специальный санаторий МВД с первоклассным оборудованием для лечения наркоманов и импотентов. Только это мало помогает. Нервную систему трудно восстановить. Люди с нормальной психикой не выдерживают этой работы. Интеллигентность для нашей профессии вообще противопоказана. Интеллигенты выдерживают меньше, чем другие».
«Для того, чтобы сделать карьеру в МВД, нужно быть профессиональным подлецом, — продолжает он. — Идеалисты уже давно сложили свои головы, старая гвардия отошла в область истории ВКП(б). Осталось в основном две категории: или безмолвные исполнители, которым безразлично, каким путем они зарабатывают свой хлеб, или люди готовые продать свою мать во имя карьеры. Ты знаешь советскую заповедь — спереди будь рабом твоего начальника, а сзади копай ему могилу, тогда сядешь на его место. То же самое в МВД, только в геометрической прогрессии. Как она там — парабола в квадрате, а гипербола по третьей степени — так что ли? Всё забыл. Раньше рассчитывал одноконсольные балки и жёсткие рамы. Теперь аналогия — виселица да решётка. Применение сопромата в политическом аспекте».
«Недаром следователи за кокаин хватаются. Ты обращал внимание, что у всех оперативников восковые лица? Это от ночной работы. Живут как совы. Днем спят, а ночью работают».
Андрей ещё больше сползает в кресле, закидывает назад голову: «Когда уж больно тошно станет, сажусь среди ночи в машину и гоняю как чумовой по Берлину. На всю педаль по Ост-Вест-Аксе. Английские патрули пробовали гоняться, но куда там — у меня восьмицилиндровая „Татра“. Разгоню на сто с гаком и ж-ж-ить сквозь Бранденбургские ворота. Один миллиметр поворота руля — и разлетишься на атомы. Меня даже иногда искушение берет… Так просто… Всего один миллиметр…»
«Хорошо тебе — ты инженер. Пахнет маслом и дымом, — говорит Андрей тихо, как будто отвечая своим собственным мыслям. — А кругом меня пахнет кровью».
«Когда я шёл в университет, карьера инженера представлялась мне чем-то солидным. Как в песне поётся „Дощечка медная и штора синяя его окна…“. Потом, как побывал на практике, как посмотрел на этих инженеров. Кончал университет просто по инерции. Хотел чего-то другого. А сейчас сам не знаю, чего я хочу. Знаю только одно — погибну от пули… своей или чужой».
Мне становится жалко Андрея. В дверь вошёл мужчина в полном расцвете жизненных сил, уверенно смотрящий вперед и, казалось бы, достигший своей цели в жизни. Теперь же в его голосе звучали нотки обречённости. Спокойствие, с каким он произносил эти слова, только усиливали впечатление.
«Но ведь ты тоже инженер, — говорю я. — К тому же ты член партии, заслуженный герой войны. Можешь переключиться на старое».
«Это исключено, — отвечает Андрей. — Из органов МВД нет пути назад. Даже для нас самих нет. Много ты встречал таких людей? Раньше работа в ЧК по анкетным данным была положительным фактором. Теперь мы прогрессировали также в этой области. Вопрос рассматривается из обратного, ab adversum — как говорил профессор Лузин. Теперь тебя спрашивают: „А почему Вы ушли из органов МВД?“ Теперь это не заслуга, а преступление — дезертирство с самого ответственного участка коммунистического фронта. Меня никогда не отпустят, разве что сам попаду за решётку».
«Потом, кто однажды попробовал вкус власти, чувства силы над людьми — тому трудно ловить бабочек и разводить герань на окнах, — говорит Андрей с нехорошей усмешкой. — Это пикантное блюдо. Это блюдо отрывают от человека вместе с головой».
Снова в словах Андрея звучит двойственность его дикой души.
Однажды я встретил в прифронтовом госпитале солдата штрафной роты. До войны он был авиаинженером. Когда он был призван в Армию, то его, как партийца, направили работать в органы НКВД. Он попал в секретную часть Центрального Аэрогидродинамического Института ЦАГИ в Москве. В то время в ЦАГИ производились особо секретные работы по конструированию высотных самолетов с турбокомпрессорами.
Никто из москвичей не подозревал, что почти всю войну изо дня в день над Москвой висел в воздухе одинокий немецкий самолет Хеншель. Он кружил над Москвой на огромной высоте и был невидим для невооруженного глаза.
Только посвящённые в эту тайну специалисты понимали значение белых зигзагообразных полос, медленно расплывавшихся в небе, — это был морозный след, оставляемый таинственным самолетом.
Самолёт никогда не бомбил, он только производил аэрофотосъемку с помощью инфракрасной камеры. Иметь регулярные аэрофотоснимки московского ж. д. узла, через который проходил основной поток грузов с востока на запад, было чрезвычайно важно для немцев.
Инфракрасная камера позволяла даже ночную съёмку в темноте. Самолет-призрак висел над Москвой день и ночь. Когда он улетал — на смену прилетал другой. Это действовало на нервы Кремлю.
Когда советские истребители, поднявшись выше десяти километров, задыхаясь, судорожно карабкались вверх, Хеншель спокойно забирался ещё выше, делал вираж, это означало, что он ещё не достиг своего потолка — и обстреливал ЯК-и и МИГ-и[14] из турельного пулемета. Обычно же он не удостаивал их этой честью, просто посмеиваясь с недоступной высоты над беспомощными советскими истребителями.
ЦАГИ было дано специальное поручение Совета Обороны — спешно разработать методы борьбы с высотными самолетами. Новоиспечённому лейтенанту НКВД, бывшему авиаинженеру, была поручена почётная задача внутреннего контроля за работой ЦАГИ. По даваемому из Главного Управления НКВД плану, он был обязан ежемесячно сдавать в НКВД определённый процент шпионов и диверсантов.
План был твёрдый, каждый месяц столько-то процентов шпионов, столько-то диверсантов и прочих врагов народа. Иногда давался спешный заказ на десять «шпионов» — фрезеровщиков VI разряда или пять «вредителей» — лаборантов-металлургов. В зависимости от внутренних потребностей НКВД, — где-то на спецстройку НКВД требовались люди таких специальностей.
После нескольких месяцев работы нервы лейтенанта НКВД не выдержали. Не будучи хорошо знаком с порядками в НКВД, он подал рапорт с просьбой перевести его на другую работу. На другой день он был отправлен рядовым солдатом в штрафную роту. Встретились мы с ним в госпитале, где он лежал после ампутации обеих ног.
Да, Андрею не уйти из МВД.
«Где сейчас Галина?» — неожиданно спрашивает он.
«Где-то в Москве», — отвечаю я.
«Теперь у меня единственная надежда, — оговорит Андрей задумчиво. — Может быть, если я встречусь с Галиной…»
В это время раздаётся звонок в дверь. Я иду открывать и возвращаюсь с Михаилом Зыковым, который живёт неподалеку от меня. Зыков сопровождает свое появление обычной тирадой: «Шёл мимо, вижу у тебя свет горит, дай думаю заcк…» Он замечает сидящего в глубине комнаты Андрея и обрывает свою речь на полуслове. Лица Андрея не видно в полутьме, яркий свет настольной лампы под абажуром освещает только синие с золотом погоны МВД и густо украшенную орденскими лентами грудь кителя. Михаил Зыков здоровается с Андреем, тот, не поднимаясь с кресла, отвечает ему молчаливым кивком головы. Зыков чувствует, что попал некстати.
С майором МВД нельзя разговаривать так запросто, как с другими. Потом неизвестно, по какому поводу он здесь, может быть это визит служебного характера. В таких случаях лучше всего незаметно испариться. К тому же молчаливый майор не проявляет особой охоты завязывать новое знакомство.
Отказавшись от предложенного мною стула, Зыков говорит: «Ну, я, наверное, побегу дальше. Посмотрю, что в клубе делается».
Он исчезает так же внезапно, как и появляется. Завтра на работе он, безусловно, разгласит, что я в приятельских отношениях с МВД, определённо приукрасит факты. Мои акции в официальных кругах СВА пойдут в гору — близкое знакомство с МВД что-то да значит.
Андрей сидит некоторое время молча, потом поднимается и говорит: «Ну, пора и мне домой. Если будешь когда в Потсдаме — заезжай ко мне».
Глава 10 Король атом
1
«„Сименс“ в Арнштадте — это Ваше предприятие?»
«Да»
«Прочтите!»
Начальник Управления Промышленности протягивает мне украшенную красной поперечной полосой секретную депешу-шифровку. В депеше значится:
«Обнаружены электронные измерительные приборы неизвестного назначения. Предполагаю атомные исследования. Жду инструкций.
Васильев».
Полковник Васильев — это уполномоченный СВА на заводах „Сименса“ в Арнштадте и одновременно директор советского Научно-исследовательского Института Телевидения, работающего на базе этих заводов. Васильев достаточно опытный и серьёзный человек. Если он упоминает слово «атом», то значит, для этого есть основания.
Я держу депешу в руках и жду, что скажет Александров.
«Нам нужно послать туда человека. Поскольку завод Ваш, лучше всего, если поедете Вы», — предлагает он.
«Хорошо было бы взять ещё кого-нибудь из Отдела Науки и Техники», — говорю я.
Через полчаса заместитель начальника Отдела Науки и Техники, майор Попов, и я выезжаем из Карлсхорста в Тюрингию. После нескольких часов езды мы в Арнштадте. Несмотря на то, что стрелка часов близится к полуночи, мы немедленно отправляемся на квартиру к полковнику Васильеву, который живёт в домике как раз напротив завода. Васильев, предупреждённый по телефону, ожидает нас со своим помощником.
«Что за открытие Вы здесь сделали, тов. полковник?» — спрашивает майор Попов.
«Пойдемте сразу на завод. Посмотрите сами», — говорит Васильев, приглашая нас следовать за ним.
Освещая дорогу карманными фонарями, мы идём в темноте между фабричными корпусами. Нас сопровождает начальник караула. В самом конце фабричного двора, там, где помещаются склады сырья и кладовые готовой продукции, нас останавливает окрик часового. Внутри здания у опечатанной сургучом двери мы натыкаемся на второго часового с автоматом.
Вскрыв печати, мы входим в огромный пакгауз, загроможденный полусобранными магнитными станциями, щитами управления и исковерканной военной радиоаппаратурой. Неоконченная военная продукция, ржавеющая на складах. Характерная картина на всех немецких заводах после капитуляции.
Полковник Васильев останавливается у лежащих на стапелях длинных деревянных ящиков. Тщательно упакованные в распорках и амортизационных креплениях, в ящиках поблёскивают огромные стеклянные приборы с шарообразными расширениями в средней части. По виду они несколько напоминают обычные катодные трубки осциллографа, но во много раз превосходят их размерами.
Не трудно догадаться, что загадочные приборы предназначены для целей электрических измерений. Судя по изоляции, они должны быть рассчитаны на колоссальные напряжения. Такие напряжения и магнитные поля применяются в циклотронах при опытах над расщеплением атомного ядра.
На одном из приборов имеются специальные приспособления для снятия фотограммы процесса. Что за чудовищные электромагнитные поля должен регистрировать этот прибор? Судя по конструкции, приборы рассчитаны не на длительную, а на ударную нагрузку. Разряд циклотрона?
На ящиках стоят предостерегающие надписи: «Vorsicht! Glas!»[15] Напрасно мы осматриваем ящики в поисках отправителя и места назначения. Вместо этого виднеются только ряды чёрных ничего не говорящих цифр и букв.
«Откуда эти вещи сюда попали? — спрашиваю я полковника Васильева. — Ведь на Вашем заводе их изготовить не могли».
Полковник только пожимает плечами.
Утром следующего дня мы проводим официальное следствие. В кабинет Васильева по очереди вызывают всех, кто может иметь какое-либо отношение к загадочным ящикам в пакгаузе. Опросу подвергаются все, начиная от кладовщиков и кончая техническими директорами производства. Кладовщики ничего не знают, т. к. ящики не вскрывались с момента их поступления в склад.
Технические руководители подтверждают, что данная аппаратура в Арнштадте не изготовлялась, а была прислана из Берлина вместе с другим эвакуированным оборудованием основных предприятий «Телефункена» и «Сименса». Мы убеждаемся, что они даже не знают точно, о какой аппаратуре идёт речь. Со своей стороны, мы никому не высказываем наших предположений.
Не замешивая в это дело СВА Тюрингии, мы даем шифровку в Карлсхорст, прося помощи со стороны специалистов Особой Группы. Особая Группа — это высшая в Германии советская инстанция по делам научных изысканий, входящая в Отдел Науки и Техники МВД в Потсдаме. В случае необходимости они имеют возможность моментального контакта со всеми научно-исследовательскими Институтами СССР.
В ожидании прибытия специалистов Особой Группы, мы подводим результаты и обсуждаем дальнейшие возможности.
То, что загадочная аппаратура оказалась на складах Сименса, не представляет собой ничего особенного. В последний год войны крупные немецкие предприятия, как правило, эвакуировали производство, создавали филиалы и склады в безопасных от авианалётов районах.
Непосредственно перед капитуляцией наиболее ценное оборудование и сырье вывозилось в тайные склады в самых заброшенных уголках Германии. Мы нередко наталкивались на заманчивые сюрпризы в самых неожиданных местах.
Нам важно установить, кто заказывал эту аппаратуру, и для кого она предназначалась. Самый лёгкий путь к этому — узнать, где эта аппаратура изготовлялась. Такого рода заказ под силу только довольно ограниченному числу германских предприятий. Основной комплекс подобного рода предприятий находится в Сименсштадте в английском секторе Берлина. Это вне пределов нашей досягаемости. Во всяком случае, официально.
Зато, совсем рядом находится завод «Телефункена» в Эрфурте, где изготовляются крупные генераторные лампы для радиостанций. «Телефункен-Эрфурт» в состоянии выполнить подобный заказ. Кроме того, технические директора в Эрфурте имеют постоянные деловые связи с Сименсштадтом и хорошо осведомлены обо всём, что происходит на других предприятиях концерна «Телефункен». Там мы должны попытаться найти нити, ведущие к таинственной аппаратуре на складах «Сименса».
Мы решаем, что полковник Васильев останется в Арнштадте ожидать прибытия специалистов из Особой Группы, а майор Попов и я тем временем съездим в Эрфурт на завод «Телефункен».
Предупреждённые по телефону, контрольные офицеры СВА на «Телефункене», подполковник Евтихов и лейтенант Новиков, ожидают нас в кабинете директора. Узнав о цели нашего посещения, они облегченно вздыхают. По-видимому, они опасались очередной ревизии по поводу хронического невыполнения производственного плана и поставок по репарациям.
Узнав, что нас интересует не нехватка вольфрамовой и молибденовой проволоки, а катодная аппаратура, подполковник Евтихов с готовностью берётся помогать нам. Одного за другим мы опрашиваем всех инженеров, работающих в отделе генераторных ламп. Здесь мы получаем некоторые существенные нити.
Да, незадолго перед капитуляцией здесь выполнялись специальные заказы неизвестного назначения — огромные электроды и сборные детали совершенно новой конструкции. Рабочие чертежи поступали из Берлина. Изготовленные детали снова отправлялись в Берлин, где, по-видимому, производилась сборка. Работа была строго засекречена.
Когда мы настойчиво допытываемся об источнике чертежей и заказчике, технический руководитель отдела генераторных ламп неуверенно произносит: «Берлин-Далем… я так предполагаю…» Этого для нас достаточно. В Берлин-Далем во время войны помещались секретные лаборатории атомной физики, работавшие по особым заданиям над расщеплением атомного ядра.
«Поскольку заказ сугубо специализированный, то для его выполнения должны были быть изготовлены особые шаблоны и инструменты. Сохранились ли они?» — спрашиваем мы.
«Да… Если только они не пропали в дни капитуляции», — также неуверенно отвечает технический руководитель.
В это время полковник Васильев телефонирует из Арнштадта о прибытии экспертов Особой Группы. Зная исключительную лень подполковника Евтихова, я прошу лейтенанта Новикова немедленно поставить надёжных людей на поиски всего, что может быть связано с таинственным заказом, опечатать и поставить всё обнаруженное под вооруженную охрану.
Пока лейтенант Новиков, энергичный и образованный инженер, впоследствии, после перехода «Телефункен-Эрфурт» в собственность Советских Акционерных Обществ САО, назначенный на должность главного инженера завода, заканчивает расследование, мы с майором Поповым возвращаемся в Арнштадт.
В кабинете Васильева расположилась группа людей, которых сразу можно определить как научных работников, привыкших к лабораториям и кабинетной работе. Их неотступно сопровождают несколько молчаливых фигур в штатском. Они не вмешиваются в разговоры по техническим вопросам и держатся на заднем плане. Одновременно чувствуется, что последние являются здесь хозяевами положения. Это — тени МВД.
Эксперты Особой Группы уже побывали в пакгаузе и осмотрели таинственную аппаратуру. Без вопросов мы понимаем, что они не опровергают наших предположений.
Майор Попов докладывает о результатах нашей поездки на «Телефункен-Эрфурт». Неприятно бросается в глаза, что наш доклад вскоре принимает характер допроса. Как будто тени МВД подозревают, что мы станем утаивать что-либо. У МВД своя специфическая методика обращения даже с советскими офицерами. Лица без малейшего выражения, каждое слово протоколируется стенографисткой.
Весь день продолжаются скрупулёзные допросы технических сотрудников «Сименса». После допроса с каждого берется подписка о молчании, грозящая страшными карами в случае её нарушения. К вечеру таинственная аппаратура с чрезвычайными предосторожностями и под усиленной охраной отправляется в Берлин.
На нескольких автомашинах комиссия Особой Группы, а также майор Попов и я едем в Эрфурт. Подполковник Евтихов получил приказ не выпускать с завода всех лиц, необходимых для следствия.
Снова всю ночь продолжаются допросы. Для молчаливых людей с бледными лицами ночь и день, по-видимому, не составляют большой разницы. Допросы производятся в кабинете Евтихова, но он сам, также как майор Попов и я, проводим всю ночь в соседнем кабинете.
Время от времени кого-либо из нас вызывают в комнату, где заседает комиссия Особой Группы, для подтверждения соответствующих фактов или дачи показаний, в качестве лиц, осведомлённых с делами «Телефункена».
Ночной допрос, помимо всего прочего, дал в руки представителей Особой Группы ряд фамилий немецких учёных и инженеров, непосредственно связанных с выполнением таинственного заказа. Снова нити ведут к Институту Кайзера Вильгельма и секретным лабораториям атомной физики в Берлин-Далем.
Берлин-Далем был штаб-квартирой немецких атомных изысканий. В последние годы войны немцы упорно работали над проблемами атома. Ученик Макса Планка, доктор Отто Хан, являлся одним из ведущих атомных физиков Германии.
Ряд немецких учёных, работавших в лабораториях доктора Хан, попали после капитуляции в наши руки и были переправлены в Советский Союз, где им предоставили самые широкие возможности продолжать свои исследования.
Ряд видных немецких ученых, получивших известность своими работами в области атомной физики, среди них профессор Герц и доктор Арден, работают сегодня в составе комплекса научно-исследовательских институтов СССР, связанных с атомными проблемами и находящихся под общим руководством профессора Капица, являющегося начальником Главного Управления Научно-Исследовательских Заведений Министерства Специальных Видов Вооружения.
В самые последние месяцы войны немцы имели в своем распоряжении циклотронные установки, необходимые для расщепления атома.
Но катастрофическое положение на фронтах, а также и факт уничтожения английской авиацией в Норвегии немецких заводов по производству тяжёлой воды, необходимой для экспериментов с циклотронами, заставили немцев приостановить всякие дальнейшие попытки овладеть тайной атома.
Перед капитуляцией они тщательно разбросали все оборудование атомных лабораторий, запрятав его в такие места, где оно не могло бы попасть в руки победителей.
С нашей стороны имелись специальные части, занятые исключительно поисками секретного оружия Германии, на которое Гитлер возлагал столько надежд, но которому не довелось послужить своему назначению.
Теперь мы идём по следу закопанного меча фюрера.
В течение последующего месяца всех, кто связан с находкой в Арнштадте, ещё несколько раз вызывают в Потсдам-Бабальсберг, где помещается Особая Группа. Дело пустило широкие круги. Неизвестно, из каких источников и, какими путями, но в руках Особой Группы имеются показания немецких учёных, находящихся в западных зонах Германии.
Тут же показания немецких учёных, работающих в настоящее время в Советском Союзе. Иногда невольно приходится восхищаться чёткости и быстроте, с которой работает МВД. Недаром в их руки передали самую ответственную область научно-исследовательских изысканий.
Пока Особая Группа распутывала клубок Арнштадской загадки, СВА сделало вторую важную находку. Из Веймара на имя полковника Кондакова пришла депеша следующего содержания:
«Группа Левковича обнаружила секретный склад оборудования неизвестного назначения. Прошу срочно выслать экспертов В/Отдела.
Суслов».
Находки такого рода не являлись редкостью. Не раз демонтажники наталкивались на двойные стены, между которыми были замурованы станки. После этого циркулярным распоряжением было приказано выстукивать все глухие стены на демонтируемых заводах.
Кроме того, демонтажники занимались систематическими поисками оборудования, вывезенного с заводов непосредственно перед капитуляцией. По-видимому, депеша касалась подобной находки.
Полковник Левкович — начальник демонтажной группы, оперирующей в Тюрингии. Капитан Суслов — уполномоченный Отдела Науки и Техники СВА в Тюрингии.
Немедленно полковник Кондаков откомандировал из Карлсхорста двух сотрудников своего отдела. По прибытии на место последние обнаружили в заброшенных штольнях неоконченного постройкой, замаскированного в лесу, подземного завода тщательно упакованные аппараты, возбудившие подозрение полковника Левковича.
По виду таинственные аппараты походили на колоссальные трансформаторы напряжения или высоковольтные разрядники, употребляемые в лабораториях для исследования токов высокого напряжения. Бросались в глаза сверхдеминзионные габариты аппаратов и в особенности высоковольтной изоляции. Аппаратура была рассчитана для условий работы при столь высоких величинах тока и напряжения, какие до сих пор в промышленности не применялись.
Следовательно, это была лабораторная аппаратура. Для исследования чего? У экспертов Карлсхорста, хотя им и не приходилось сталкиваться с циклотронами, сразу же мелькнула мысль. Атом!
Эксперты полковника Кондакова немедленно затребовали по телефону специалистов Особой Группы. Спустя несколько часов, к месту находки прибыла автомашина из Бабальсберга. За ней следовала вторая автомашина с нарядом солдат в зелёных фуражках — спецчасти Войск МВД. Специалистам Особой Группы было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в значении подземной находки.
В Москву в Министерство Специальных Видов Вооружения полетела шифровка на имя генерала Пащина. На следующий день из Москвы самолетом прибыла группа работников специального назначения МВД, которая и взяла на себя всю дальнейшую заботу о найденных аппаратах.
Со дня прибытия людей из Москвы, место находки на много километров вокруг было оцеплено охраной МВД. Ни сотрудники Карлсхорста, ни Особой Группы из Бабельсберга не имели больше права вступать на эту территорию, пока вся аппаратура не была оттранспортирована в Советский Союз.
Позже выяснились все детали, связанные с обнаружением атомной аппаратуры в Тюрингии и её научной ценностью. Техническая сторона находки не представляла ничего нового для ученых Советского Союза. Подобные аппараты конструировались в СССР непосредственно перед войной в ленинградских лабораториях академика Капица.
Из высказываний начальника Отдела Науки и Техники СВА полковника Кондакова можно заключить, что мы не обнаружили в Германии сколько-нибудь серьёзных новшеств в области атомных исследований. В годы войны Германия не имела возможности широко развернуть эту работу из-за нехватки технических возможностей. Даже для такой технически высокоразвитой страны, как Германия, эта задача была не под силу.
Чисто научная же сторона проблемы атома известна уже сравнительно давно учёным многих стран. Как это ни странно, но тайна атома скрывается в основном за техническими препятствиями в форме колоссальных силовых сооружений и столь же чудовищных источников энергии, необходимых для раздробления атомного ядра и начала цепной реакции.
В кругах советских научных работников утверждают, что выработанный в СССР незадолго до войны проект гигантского энергетического узла, так называемый «Проект Большой Волги», с системой гидроэлектростанций вблизи Куйбышева был тесно связан с проблемой необходимости соответствующего силового источника для проектировавшегося на Урале центра советских атомных исследований.
Там же проводилась параллель между американским центром атомных исследований в Оук-Ридж, энергетическим узлом «Тенесси-Проджект» и расположенной неподалеку крупнейшей в мире гидроэлектростанцией «Биг Слейв» в ущельях Колорадо.
Затронув проблему атома, невольно бросается в глаза яркая разница в освещении этого вопроса советской и заграничной прессой. Нам, советским людям, стоящим на грани двух миров, это видно лучше, чем кому-либо. Если советская пресса излишне молчалива, то западная пресса излишне криклива. В вопросе атома заграничная пресса напоминает женщину, падающую в истерику при виде мыши.
Преувеличенный шум вокруг атомной бомбы служит больше для самоуспокоения тех, кто этот шум поднимает, и означает недостаток чувства реальности. В конечном итоге не одна атомная бомба решает судьбы мира. Атомную бомбу породил Человек и Человек всегда будет сильнее атома.
«Забавно как здесь много кричат об атомной бомбе», — сказал однажды полковник Кондаков.
«К тому же все сведения из первоисточников, — усмехнулся его помощник майор Попов. — То из кругов близко стоящих к Карлсхорсту, то прямо из Москвы. Видно запросто по телефону со Сталиным беседуют».
«Да. Иностранные газеты знают больше, чем мы сами, — вздохнул полковник. — Погоня за „сенсацией…“»
Слова полковника Кондакова очень характерны для положения советских официальных лиц. Каждый из нас знает ровно столько, сколько ему необходимо для его работы. Притом, большинство людей даже умышленно старается знать поменьше.
В свете этих фактов публикуемые в иностранной прессе сведения «из первоисточников» кажутся, по меньшей мере, несерьёзными. Достаточно приблизительно знать координаты источника, чтобы сразу понять, что «источник» просто-напросто не мог знать того, что ему приписывается.
Пока мир трясётся в атомной лихорадке, жизнь идёт своим чередом. В связи с погоней за атомом, у меня в голове невольно ассоциируется следующий сравнительно пустяковый факт повседневной жизни.
Вскоре после возвращения с охоты за атомом в Тюрингии, ко мне на стол пришла из Управления Репараций папка с чертежами, к чертежам было приложено сопроводительное письмо:
«Настоящим направляем Вам типовой проект стандартного дома-коттеджа для рабочих поселков Советского Союза по репарационному наряду-заказу №…
Просим согласовать с нами и утвердить электрическую часть в указанных проектах. Кроме того, просим составить сводную спецификацию электрооборудования из расчёта всего наряд-заказа в количестве 120 000 домов и одновременно указать, на каких предприятиях эти заказы могут быть размещены.
Начальник Отдела Электропромышленности Упр. Репараций — Петров».
На чертежах был изображён обычный немецкий дом на одну семью, состоящий из трех комнат с кухней, ванной и уборной. В подвальном этаже кроме погреба для хранения угля было также отдельное помещение для стирки белья.
Я и ещё несколько инженеров с интересом просмотрели чертежи.
«Вот вернемся в Россию — тоже такой домик получим», — сказал кто-то из присутствующих.
Электротехническая сторона проекта была согласована, проект был подписан и послан Управлением Репараций в Москву для окончательного утверждения.
Вскоре проект снова очутился на моём столе. Сопроводительная записка гласила:
«Прошу произвести необходимые изменения в расчётах, вытекающие из указаний Министерства Строительной Промышленности СССР.
Петров».
Я развернул бумаги, любопытствуя, что за усовершенствования диктует Москва. Первым делом — ликвидируется подвальное помещение для стирки. По мнению Министерства, стирать можно и на кухне. Затем ликвидируется веранда. Это понятно. Чтобы люди не засиживались на веранде с праздным видом.
После изменения и согласования проект снова пошёл на утверждение в Москву. Через несколько недель я опять нашел на столе злополучную папку с лаконической запиской:
«Прошу внести соответствующие изменения.
Петров».
На этот раз изменения были радикальны. Без объяснения причин предлагалось изъять и ванную и уборную. В рабочих посёлках есть общественные бани. Тогда к чему ванные в каждом доме? Это понятно. А уборные? Видимо московские руководители рассуждали так — зачем уборные, когда можно бегать в кусты.
Схема электрооборудования дома была густо усеяна жирными вопросительными знаками красным карандашом. В спальне эти вопросы стояли над электроточками, соответствующими лампам на ночных столиках и проводке выключателя-шнура для гашения света, не вставая с постели. Видимо, дядя в Москве не знал, что это за вещи. Или, если знал, хотел выразить свое недоумение наличию такой роскоши в жилищах, предназначенных для рабочих.
120 000 домов для рабочих посёлков были переделаны на советский манер. Из коттеджей получились обычные избы. Окончательно «модернизированный» проект ходил затем по рукам инженеров Управления Промышленности в качестве анекдота. Люди качали головами и молчали. Никто не высказывал желания жить в таком доме.
От одной четверти до одной третьи суммы общего бюджета текущей послевоенной пятилетки «восстановления народного хозяйства СССР», приблизительно 60 миллиардов рублей, идёт прямо или косвенно в жертву атому. Если же Человек, венец творенья и творец атомной бомбы, захотел до ветру, — то беги в кусты. Так требуют интересы государства.
2
В середине лета в Карлсхорст прибыли из Москвы комиссии, различных Министерств в целях изыскания на местах новых возможностей размещения заказов по репарациям и использования готовой продукции, имеющейся на товарных складах промышленных предприятий Германии.
Представители Министерства Судостроительной Промышленности СССР, беседовавшие со мной о возможностях моей отрасли промышленности, предложили мне проехать с ними по провинциям советской зоны для ознакомления с положением на местах. На другой день инженер-полковник Быков, капитан II ранга Федоров и я выехали из Карлсхорста курсом на Веймар.
По дороге я ближе познакомился с моими спутниками. Оба оказались на редкость милыми людьми и вопреки военной форме обращались друг к другу и ко мне по имени и отечеству, а не по званию, как этого требует устав. Они были не строевыми офицерами, а инженерами.
Это составляет большую разницу в интеллектуальном цензе военнослужащих. Кроме того, они были офицерами Военно-морского Флота. Тот кто сталкивался с моряками, сразу знает разницу между Флотом и Армией.
По прибытии в Эрфурт мы остановились в отеле «Хаус Коссенхашен», который занят под штаб-квартиру демонтажников, оперировавших в Тюрингии. Отель «Хаус Коссенхашен» офицеры СВА в шутку окрестили «Малым Совнаркомом».
Сидя в старинном, отделанном тёмным дубом, холле лучшего отеля Эрфурта в ожидании обеда, мы беседовали и наблюдали происходящее кругом. Я уже не первый раз бывал здесь и всё это было для меня не ново. Мои же спутники, только несколько дней тому назад приехавшие из Москвы, были явно заинтригованы.
«Скажите, Григорий Петрович, тут что — экспедиция на Северный Полюс подготовляется?» — перегнувшись через кресло, спросил в полголоса инженер-полковник.
Поводом к столь странному вопросу служил тот факт, что все как один демонтажники, с деловым видом торопливо снующие вокруг нас, выряжены в огромные унты из оленьего меха. В то же время на дворе стоит лето. Облачённые в меховую обувь люди ни на минуту не расстаются с охотничьими двустволками, которые они тащат с собой даже в обеденный зал.
«Нет. Просто демонтажники разыскали где-то склад немецкого авиационного обмундирования для полётов в Арктике. Ну, вот и вырядились на радостях, — отвечаю я. — А ружья они таскают с собой потому, что после обеда они все отправляются на охоту».
«Забавная компания! — качает головой инженер-полковник. — Что им — нечем больше здесь заняться?»
«Тут положение запутанное, — поясняю я. — Основной демонтаж давно окончен и большинству из них здесь абсолютно нечего делать. Но живётся им здесь неплохо и потому они всеми правдами и неправдами стараются затянуть свою работу. Поскольку ими командует Москва, СВА бессильно что-либо предпринять».
«А чем же они сейчас занимаются?» — спрашивает капитан II ранга.
«Просто шаромыжничают, — отвечаю я. — До обеда рыскают по окрестным заводам в поисках, где чем можно поживиться. Кто поленивее, тот просто сидит в Коссенхашене и пьёт водку».
«Нам в Берлине рассказывали, что многие сделали себе здесь настоящее состояние. На всю жизнь хватит», — говорит капитан.
«Как раз недавно Отдел Точной Механики СВА занимался одним подобным делом, — говорю я. — Там замешан директор II Госчасзавода. Вы об этом ничего не слыхали?» Получив отрицательный ответ, я продолжаю: «Этого директора послали сюда в Германию для демонтажа часовой промышленности. Вскоре после возвращения в Москву в СВА поступили материалы, что в процессе демонтажа он незаконно присвоил себе несколько тысяч золотых часов и несколько десятков килограмм золота».
«Этого, действительно, на всю жизнь хватит, — уверенно говорит капитан. — Для пожизненного заключения тоже».
«Вот последнее — не думаю», — замечаю я.
«Как так?» — удивляется капитан.
«Очень просто, — отвечаю я. — Дело было передано выше, а там его без шума замяли».
«Но почему?» — не может понять капитан.
«Для меня это тоже загадка, — говорю я. — Видимо, не хотят дискредитировать таких людей. Как говорится — не выметай сор из избы… Это не первый случай».
«Мало ему было, что имеет. Золота захотелось, — возмущается инженер-полковник. — И это называется советский директор!»
У меня невольно появляется горькая усмешка. Я киваю головой в сторону снующих вокруг нас демонтажников и говорю: «Все, кого Вы здесь видите, в Советском Союзе являются руководящими работниками Министерств или директорами заводов. И все они мало чем отличаются от директора II Госчасзавода. Поверьте уж моему опыту. К нам в CВА все чаще и чаще поступают подобные материалы».
Наш разговор заканчивается неловким молчанием. Вскоре к нам подходит метрдотель и приглашает нас в обеденный зал.
В течение двух дней мы обследуем заводы в районе Эрфурта. Мои спутники имеют задания, касающиеся специальной электроаппаратуры для оборудования военно-морских судов, в особенности подводных лодок.
Торговый флот, потерпевший колоссальные потери во время войны, пока восстанавливать не думают. Все внимание уделяется строительству Военно-Морского Флота. Так выглядит послевоенное восстановление народного хозяйства СССР.
Мне невольно бросается в глаза реакция моих спутников на всё окружающее. Я пробыл уже год в Германии и все контрасты потеряли для меня свою новизну. Я уже привык к тем вещам, которые кажутся интересными для человека, несколько дней тому назад прибывшего из СССР.
Однажды мы приехали на завод «Телефункен», чтобы установить возможности размещения репарационных наряд-заказов на изготовление приёмно-передаточных станций для Военно-морского Флота.
Когда мы проехали заводские ворота, и наш автомобиль спускался вниз по дороге, ведущей к зданию заводоуправления, инженер-полковник, смотревший из окна автомашины, сказал капитану: «Посмотрите, Виктор Степанович! Корты!» Тот, в свою очередь выглянул в окно. Действительно, несколько теннисных кортов, аккуратно обтянутых сеткой. Кругом разбиты клумбы цветов и подобие маленького сквера для отдыха. Всё это внутри территории завода и, по-видимому, предназначается только для служащих данного предприятия.
Капитан смотрит на корты со странным интересом. Он окидывает взором не только корты, но также и скрытую зеленью фабричную ограду и возвышающиеся неподалёку производственные корпуса, как будто оценивая факт местонахождения теннисных площадок именно в этом месте.
В СССР поднимают много шума о необходимости устройства для рабочих подобных уголков отдыха на территории заводов. Несмотря на шум, зелёные уголки отдыха существуют преимущественно на бумаге, да ещё на некоторых предприятиях, где это создано исключительно на показ.
И вдруг здесь в Германии из-за кустов, без крика и без шума, выглядывают вещи, которые в СССР рекламируются как исключительные достижения советской системы. Мне кажется, что во внимательном взгляде капитана я прочел без слов: «Да ведь эти корты построены здесь давным-давно…» Неподалёку от здания, где помещается заводоуправление, осиротело ржавеют несколько рядов специальных стоек для велосипедов.
«Григорий Петрович, — спрашивает меня капитан, — а где же велосипеды?»
«Ну, это уж совсем детский вопрос, — отвечаю я. — Конечно, в России».
«Ах, да… — улыбается капитан. — А раньше их видно много было. Почти на каждого рабочего велосипед».
После беседы с советскими контрольными офицерами и представителями дирекции «Телефункена», во время которой мы оформляем необходимые нам наряд-заказы, инженер-полковник обращается ко мне с неожиданным предложением: «Как бы нам устроить маленькую экскурсию по заводу. Ознакомиться с процессом и организацией производства».
Технический директор «Телефункена» с готовностью берётся сопровождать нас по заводу. Мы проходим по всем отделам, соответственно движению выпускаемой заводом продукции.
В огромном зале, где производится намотка и сборка электродов радиоламп, сидят за сборочными столами несколько сот девушек и женщин. Технический директор объясняет нам детали процесса, которые, по его мнению, должны интересовать советских инженеров.
Инженер-полковник почти не слушает объяснений технического директора. Он несколько отстал от нас и, по возможности не привлекая внимания окружающих, осматривает перспективу зала. Его глаза медленно скользят по огромным окнам, как бы оценивая количество световых единиц на рабочее место.
Затем они так же внимательно прикидывают высоту помещения. Его глаза на минуту задерживаются на перегородках из армированного стекла, отделяющих работниц друг от друга наподобие кабинок для чтения в благоустроенном читальном зале.
Инженер-полковника не интересуют рассуждения о принципе отжига радиоламп. Вместо этого он внимательно осматривает рабочее место одной из работниц. Крупный министерский работник, начальник одного из Главных Управлений в Министерстве Судостроительной Промышленности, он без сомнения хорошо знаком с условиями труда рабочих в Советском Союзе.
Теперь он столкнулся с чем-то, что его глубоко заинтересовало. Я угадываю его мысли. В уме он сравнивает условия труда на немецком предприятии с соответствующими советскими заводами.
Когда мы собираемся выходить из зала, капитан останавливает меня: «Григорий Петрович, как Вам нравится этот стул?» Капитан садится на стоящий неподалёку пустой стул, ничем не отличающийся от сотен других, на которых сидят работницы. Это стандартный стул с пружинной спинкой и регулируемой высотой сиденья.
«Что Вы в нём особенного нашли, Виктор Степанович?» — спрашиваю я.
«Во-первых, стул удобный, — отвечает он. — Для рабочих, можно сказать, даже шикарный стул. А потом обратили Вы внимание, какие стулья в заводоуправлении стоят?»
«Нет. Не смотрел», — признаюсь я.
«Те же самые стулья, — с лёгкой усмешкой произносит капитан. — И директор, и рабочие работают на одинаковых стульях. Стулья, действительно, удобные».
«Здесь это стандарт», — говорю я.
«Хм…» — коротко заключает капитан, когда мы шагаем вдогонку обогнавшей нас группе.
Мы входим в вакуумное отделение. Здесь жарко. Поблескивают язычки газового пламени. Слышится монотонное шипение сжатого воздуха.
«Вот здесь наша основная трудность, — говорит тех. директор. — Мы установили несколько старых вакуумных агрегатов, но они не соответствуют техническим требованиям. Этим, в основном, объясняется масса рекламаций со стороны Управления Репараций».
«Да, тут что-то не в порядке», — соглашается инженер-полковник, оглядываясь кругом. Работающие вакуумные насосы для откачки воздуха из колб радиоламп взяты, по-видимому, со свалки железного лома. Рядом виднеются несколько пустующих бетонных фундаментов. Из фундаментов, наподобие перерезанных артерий, торчат трубы подводки газа, воздуха и тока.
«А эти агрегаты где?» — спрашивает капитан.
«Демонтированы и теперь работают на „Светлане“», — отвечаю я.
«А-а-а…», — принимает к сведению капитан.
В ходе объяснений тех. директор жалуется на большую текучесть рабочей силы. Это отрицательно влияет на качество продукции.
«Мы обучаем рабочего в течение четырех недель, — говорит он. — Многие из этих рабочих, проработав неделю, на завод больше не показываются. Кроме того, очень велико количество прогулов».
«Неужели Вы не имеете возможности воспрепятствовать этому?» — спрашивает инженер-полковник, удивлённый беспомощностью директора по отношению к рабочим. Директор пожимает плечами.
«До трёх дней рабочий имеет право не выходить на работу без документального объяснения причин, — говорит он. — В случае более продолжительного периода времени рабочий обязан представить справку от врача».
«Что же может предпринять дирекция против прогульщиков и текучести рабочей силы?» — спрашивает инженер-полковник.
«В случаях, которые я только что упомянул, мы не имеем права уволить рабочего. Если же рабочий хочет уволиться, то мы не имеем права его удерживать», — отвечает директор.
«Я говорю не об увольнении, а о том, чтобы заставить рабочих работать», — настаивает инженер-полковник.
Директор смотрит непонимающе.
«Bitte!?» — произносит он, прося повторить вопрос. Инженер-полковник повторяет.
«Мы не имеем законных прав заставлять рабочих работать. Мы имеем только право увольнять тех, кто нарушает трудовой кодекс», — отвечает директор.
Возникает неловкая пауза. У немцев самым суровым наказанием является увольнение рабочего с завода. В СССР увольнение часто является для рабочего недостижимой мечтой.
Советский директор распоряжается рабочим полностью по своему усмотрению — он может перевести рабочего в порядке приказа на низшую и хуже оплачиваемую работу, может, или вернее обязан, отдать рабочего под суд за опоздание на работу на несколько минут.
Рабочий, со своей стороны, не имеет права оставить место работы без разрешения директора. В противном случае — суд и тюрьма.
Мы привыкли к этому и для нас непонятна беспомощность немецкого директора. Он, в свою очередь, удивляется нашим, по его понятиям, диким вопросам. Два мира — две системы.
«Вы сказали о трудовом кодексе, — продолжает инженер-полковник. — Скажите, пожалуйста, какие законные положения определяют на сегодняшний день взаимоотношения работодателя и рабочего? Законы гитлеровского времени?»
«В основном германский трудовой кодекс был принят ещё во времена Бисмарка, — отвечает директор. — Если не считать незначительных изменений, то он останется в силе и сегодня».
«Во времена Бисмарка?! — недоверчиво переспрашивает инженер-полковник. — Ведь это около 70 лет тому назад…»
«Да, — говорит директор и по его лицу в первый раз мелькает еле заметная тень гордости. — Социальное законодательство Германии считается одним из передовых в мире… Я хочу сказать в Западной Европе», — быстро поправляется он, вспомнив, что перед ним стоят советские офицеры.
Инженер-полковник смотрит на капитана. Тот, в свою очередь, обменивается взглядом со мной. Я уже привык к этому немому разговору. Так реагируют советские люди на вещи, которые заставляют их думать о многом, но которые нельзя дискутировать.
Воспользовавшись тем, что с нами нет контрольных офицеров, стационированных на «Телефункене», я спрашиваю директора о причинах резкого понижения выпуска радиоламп за последний месяц. Контролируя заводы, всегда рекомендуется выслушивать обе стороны независимо друг от друга.
«Основной причиной является нехватка вольфрамовой и молибденовой проволоки», — отвечает директор.
«Да, но ведь недавно Вашему заводу был выделен контингент, достаточный для обеспечения плана на шесть месяцев, — говорю я. — Разве Вы не получили эту проволоку из Берлина?»
«Разве Вам, герр майор, не известно… — бормочет в смущении директор. — Разве герр Новиков не докладывал Вам?»
«Нет. А в чём дело?»
Директор мнется некоторое время, потом говорит: «Мы испытывали такую острую нужду в проволоке, что, не дожидаясь прибытия контингента по железной дороге, отправили специальный грузовик в Берлин».
«Ну и что?» — спрашиваю я.
«На обратном пути машина была остановлена и ограблена…»
«А проволока?»
«Герр майор, наши люди не могли ничего сделать…»
«А где проволока?»
«Когда наш грузовик подъезжал ночью к Лейпцигу, ему преградил дорогу другой грузовик, поставленный поперек полотна. Вооруженные автоматами люди высадили шофёра и экспедитора на дорогу, а автомашину угнали с собой. Проволока…»
«Кто были бандиты?» — спрашиваю я.
«Эти люди были в советской форме», — после некоторого колебания отвечал директор.
Когда мы, распрощавшись с директором, садимся в автомашину, капитан говорит: «Кому мог понадобиться грузовик с проволокой? Может быть это диверсия, чтобы сорвать репарации».
«Мы к таким диверсиям уже привыкли, — говорю я. — Скоро этот грузовик найдут где-нибудь в лесу. С проволокой, но без резины и без аккумулятора. На это, наверное, надеется и Новиков. Потому он пока и молчит».
«Кто же тут такими вещами занимается?» — спрашивает капитан.
«А вот поживёте подольше — увидите», — говорю я, избегая прямого ответа.
После «Телефункена» мы выехали на завод прецизионных станков и часов фирмы «Тиль», находящийся в маленькой деревушке, которую мы с трудом отыскали по карте. В этой же деревушке было ещё несколько довольно крупных промышленных предприятий, выпускавших электроарматуру.
Деревушка тянулась по дну узкой долины, зажатой между поросшими лесом горами. По склонам гор карабкались аккуратные тюрингские домики, выкрашенные яркими красками. Трудно было предположить, что живописная деревушка является рабочим посёлком, и здесь размещены несколько крупных заводов.
«Больше смахивает на санаторий, чем на рабочий посёлок, — заметил капитан то ли с завистью, то ли с сожалением. — Тут рабочие живут, как на курорте».
После нашего визита к контрольным офицерам СВА, расквартировавшимся на вилле владельца одного из заводов, инженер-полковник усмехнулся: «Виктор Степанович, как Вы думаете — чего эти ребята больше всего боятся?»
«Чтобы их отсюда не перевели куда-нибудь», — ответил капитан не задумываясь.
Слово «куда-нибудь» было понятно нам всем и без точного обозначения.
Люди Запада никогда не догадаются, что больше всего удивляет советского человека, в частности инженера, при первом столкновении с заводами Германии. Люди Запада, наверное, предполагают, что советские инженеры стоят, разинув рот, поражённые грандиозными заводами, многочисленными машинами и прочими достижениями техники.
Нет, это время ушло в область прошлого. Если говорить о размерах промышленных предприятий и их техническом оснащении, то удивляться придётся людям Запада, если они столкнутся с советскими заводами.
Новым для нас на Западе сегодня является не Техника и Машина, а положение Человека в комплексе общества и государства. Нам приходится убеждаться, что люди Запада, люди в системе свободной эволюции социальных отношений, пользуются гораздо большими правами и свободами, что они имеют гораздо больше от жизни, чем советские люди соответствующего социального уровня.
Покончив с заводом «Тиль», вечером этого дня мы выезжаем к следующему пункту нашей поездки. Вблизи Иены у нашей автомашины садится аккумулятор и начинает шалить зажигание. Чтобы не разряжать аккумулятор окончательно, мы выключаем фары и медленно едем в темноте. С одной стороны узкой дороги поднимается вверх поросшая деревьями круча, с другой стороны обрывается чёрная бездна.
Капитан ворчит, обвиняя шофёра-матроса в небрежности. Тот молчит, вцепившись руками в руль и прижавшись лицом к ветровому стеклу.
В самом диком месте, среди темноты и ущелий, наш автомобиль окончательно отказывается двигаться дальше. Пока шофёр при свете карманного фонаря копается в моторе, мы выходим из машины, чтобы размять ноги.
Неожиданно из темноты вырываются два ослепительных огненных глаза. Чуть не наскочив на нас, встречная автомашина резко тормозит и останавливается. Из темноты звучит голос по-русски.
«Товарищи офицеры, вы здесь стрельбы не слыхали?»
«Нет, — отвечает кто-то из нас. — А в чём дело?»
«Да здесь наши люди поехали на охоту и одного из своих подстрелили. С нами врач едет. Вот теперь дорогу не найдем».
«Ну, кажется, попали мы в подходящее место», — бормочет капитан, когда призрачный автомобиль снова исчезает в темноте.
Мимо нас по дороге шагает тёмная фигура, ведя в руке велосипед.
«Что это здесь за место?» — спрашиваю я.
«Это замки Гёте, — отвечает немец. — Вот как раз над Вашей головой».
«А есть здесь где-нибудь жильё поблизости?»
«Да. Вот сейчас будет мост, а за мостом деревня», — отвечает голос из темноты.
«Ничего не могу поделать, товарищ полковник, — докладывает в это время матрос. — Нужно в мастерскую».
«Что же нам теперь делать? В машине ночевать придётся?» — досадуют мои спутники.
«Зачем? — говорю я. — Тут рядом деревня. Там и переночуем».
«Что Вы, Григорий Петрович! — в ужасе восклицают моряки. — Ведь там же нет ни комендатуры, ни гостиницы для военнослужащих».
«Вот это самое и хорошо», — говорю я.
«Нет, нет. Оставьте такие шутки, — возражают мои спутники. — Нам ещё жить не надоело».
«А в чём дело?» — удивляюсь я.
«Да разве Вы забыли, где мы находимся? Ведь тут же что ни день, то убийства. Ведь сами только что слыхали, что рядом кого-то подстрелили».
«А, так это же наши, — говорю я. — Ничего удивительного, что подстрелили».
«Григорий Петрович, нам всё время рассказывали, чтобы мы были осторожнее. Даже рекомендовали шофёра на ночь в машине не оставлять, а то убьют. Ведь тут всё время… Ну, сами знаете, что творится».
«Где это Вы такие вещи слыхали?»
«Нас ещё в Москве предупреждали».
Я не могу удержаться от смеха.
«Ну, если в Москве, то это возможно. Здесь же всё выглядит несколько иначе. Во всяком случае, в деревне спать мы будем лучше, чем в комендантской гостинице. Это я Вам гарантирую. К тому же у нас у всех пистолеты».
После долгих уговоров мои спутники соглашаются на риск ночёвки в неизвестной немецкой деревне. Приказав шофёру оставаться в машине, мы отправляемся в путь.
«А где же мы там спать будем? — снова с сомнением спрашивает капитан. — Неудобно среди ночи будить людей и вламываться в дом».
«Об этом не беспокойтесь, Виктор Степанович, — беру я на себя роль проводника. — Первый же дом, на который мы наткнёмся, будет гостиницей. Хотите держать со мной пари?»
«Вы, Григорий Петрович, прямо фокусничаете. Отчего Вы так уверены, что первый дом будет гостиницей? — спрашивает капитан. — Если будет по-Вашему, то откупорим бутылку коньяка».
«Очень просто. Мы идём по дороге, а у немцев гостиницы всегда стоят у дороги при входе и выходе из деревни. Видите, как просто я Вашу бутылку выиграл?»
«Всё-таки вся эта затея мне не нравится», — мрачно вздыхает капитан.
После десяти минут ходьбы перед нами из темноты вырастают неясные очертания моста. Сейчас же за мостом мы видим пробивающийся сквозь щели свет из окон.
«Ну, а теперь смотрите, Виктор Степанович. Кто прав? — говорю я, направляя луч карманного фонаря на чернеющую над входом узорчатую вывеску с изображением пивной кружки. — Вот Вам и гостиница».
Через несколько минут мы сидим за столом в зале деревенского гастхауза. Мои спутники недоверчиво озираются по сторонам, как будто каждую минуту ожидая нападения. Зал-гостиная отделан на тюрингский манер — тяжёлая резная мебель из тёмного дуба и масса оленьих рогов по стенам.
Люстры и стенные канделябры тоже сделаны из оленьих рогов. В глубине зала блистает многочисленными никелированными кранами стойка-буфет. За стойкой улыбаются две девушки в белых передниках.
Договорившись с хозяином о ночлеге, мы заказываем горячий кофе. Из чемоданчиков, которые мы взяли с собой, появляются хлеб, колбаса и, наконец, бутылка коньяка, которую капитан захватил в дорогу «против гриппа».
«Ох, Григорий Петрович, выпьем мы, а потом всех нас здесь ухлопают, как куропаток, — тяжело вздыхает капитан, откупоривая бутылку. — Ну, Вы за всё перед апостолом Петром отвечать будете».
«Хотите, я Вам выдам мой маленький секрет, — говорю я. — Тогда Вы наверняка будете спать спокойнее. Мне частенько приходилось бывать в командировках. Несколько раз я объезжал всю Тюрингию и Саксонию в сопровождении грузовика с грузом. В этом случае, действительно, есть опасность и нужно быть осторожным. И вот всегда, когда приближалась ночь, и нужно было останавливаться на ночёвку… Что Вы думаете, я делал?»
«Ну, конечно, старались добраться до комендантской гостиницы», — с уверенностью отвечает капитан.
«Так я сделал только один раз. Первый и последний раз. После этого я всегда старался избегать городов, где есть комендатура и советский гарнизон. Я нарочно не доезжал до города, выискивал первую попавшуюся деревню и останавливался в первой попавшейся гостинице».
«В чём же дело?» — заинтересовывается инженер-полковник.
«Так надёжнее всего, — отвечаю я. — За год моего пребывания в Германии я три раза вынимал пистолет, собираясь стрелять… И все три раза это были люди в советской форме… С целью ограбления», — поясняю я, после некоторой паузы.
«Интересно…» — цедит сквозь зубы капитан.
«Раз я остановился в гостинице для офицеров в Глаухау, — продолжаю я. — Грузовик, на всякий случай, поставил под окном. Не успел лечь в постель как слышу, что мой грузовик уже демонтируют».
«Забавно…» — вторит инженер-полковник.
«Для меня совсем не было забавно, когда я с пистолетом в руке и в нижнем белье носился по улице», — замечаю я.
«И чем же это кончилось?» — спрашивает инженер-полковник.
«Задержал двух наших лейтенантов и одного сержанта. Вызвал комендантский патруль и сдал их под арест. На утро комендант города мне говорит: „Верю Вам, товарищ майор, но арестованных придётся отпустить. Мне такими мелочами заниматься некогда. В следующий раз советую Вам поступать так. Подождите, пока разберут автомашину. Чтобы были вещественные доказательства. Потом перестреляйте всех на месте и вызовите затем нас. Мы протокол составим и Вам ещё спасибо скажем. Жаль, что Вы в этот раз погорячились“».
В это время в зал входит элегантная молодая женщина. За ней следует мужчина. Они садятся за столик напротив нас и закуривают. Дым от сигарет голубыми волнами поднимается кверху.
«Всё это хорошо, — говорит капитан. — Но мне здесь одно не нравится — публика слишком хорошо одета. Посмотрите на этого типа, что с дамой напротив? Наверное, все бывшие крупные нацисты. Попрятались здесь в глуши, а мы вот теперь в их гнездо попали. Заметили вы кучку молодых парней — зашли, пошептались и опять ушли! Все это мне кажется очень подозрительным».
«Ну, тогда пойдемте спать, — предлагаю я. — Утро вечера мудренее».
«Ох, спать, — морщится инженер-полковник. — Надо будет посмотреть, куда окна выходят».
Когда мы поднимаемся на верхний этаж в отведённые нам комнаты, инженер-полковник и капитан начинают рекогносцировку. Они открывают и закрывают окна, потом проверяют прочность задвижек.
«Нам говорили, что здесь ручные гранаты в окна бросают», — поясняет капитан.
Затем он выходит в коридор и пытается проверить, не заняты ли соседние комнаты вервольфами. В заключение он пробует прочность запоров на дверях.
«Ей Богу, Виктор Степанович, глядя на Вас, мне тоже страшно становится, — говорю я. — Может быть, у Вас особое чутье на всякие приключения».
Мои спутники занимают одну комнату. Мне приходится устраиваться в комнате рядом. В первый раз за время моего пребывания в Германии я чувствую некоторую неуверенность. Закрыв дверь на задвижку, и поразмышляв минуту, я вынимаю пистолет из портфеля и кладу его под подушку. Затем я тушу свет и ныряю под пуховики.
На следующее утро я стучу в дверь моих соседей. Из-за двери раздаются сонные голоса, затем громыхают запоры. Мои спутники с трудом вылазят из постелей. Оказывается, они ещё долго после полуночи сидели, совещаясь, спать ли им раздевшись или одевшись. Теперь же, при свете солнца, все их страхи и опасения рассеялись, и они даже подшучивают друг над другом.
«Виктор Степанович, расскажи, как ты ночью в уборную с пистолетом ходил?» — лукаво подмигивает инженер-полковник.
«Знаете, что это вчера была за шикарная пара? — говорю я. — Местный сапожник с женой. К тому же старый коммунист. Я уже у хозяина справки навел. А Вы их за крупных наци приняли».
Ещё вечером мы попросили хозяина гостиницы послать рано утром автоэлектрика на помощь нашему шофёру. Когда мы подходим к месту стоянки нашей автомашины, оба усердно заняты ремонтом. Чтобы убить время, мы решаем пойти и осмотреть замки Гёте, которые должны быть где-то наверху над нашими головами. По крутой тропинке между кустов мы карабкаемся вверх.
После непродолжительного пути мы взбираемся на вершину. На самом краю крутого обрыва стоят два дома, окруженных зарослями кустов и деревьев. Далеко внизу у наших ног вьётся лента дороги, на которой чёрным пятном виднеется наш автомобиль и копошащиеся около него люди. Далеко-далеко во все стороны открывается чудесная панорама.
Мы подходим ближе к довольно неказистым домам, носящим гордое обозначение замков. У бокового входа развешены для просушки заячьи шкурки. Здесь живёт сторож, хранитель и одновременно проводник по замкам, являющимся сегодня музеями.
Посетителей, по-видимому, немного и сторожу приходиться попутно зарабатывать себе на жизнь браконьерством. С его помощью мы осматриваем исторические достопримечательности и даже собственноручную надпись Гёте карандашом на подоконнике. Надпись аккуратно обрамлена специальной рамкой из стекла.
Этот дом когда-то служил летней резиденцией тюрингского курфюрста. Затем некоторое время он принадлежал Гёте. Обстановка бедна и ничем не напоминает королевское или княжеское жилище.
Когда мы, осмотрев замки, выходим снова в парк, инженер-полковник говорит: «Всё-таки интересно посмотреть дом, где ступала нога Гёте. Ощущаешь какой-то внутренний трепет. Но внешне все это нельзя сравнить с нашим Петергофом или Царским Селом. Бедно жили ихние курфюрсты».
«Приятно когда видишь здесь порядок и уважение к культурному наследию Гёте, — размышляет капитан. — А что они сделали с нашими дворцами в Петергофе? Ведь все дворцы кругом Ленинграда разграбили и ещё хуже — загадили. Я это всё своими глазами видел».
«Это характерно для немцев, — делает вывод инженер-полковник. — Они слишком самовлюбленны. Вот этот дом — для них святилище. Такое же святилище он и для нас. А почему же, спрашивается, они во дворцах Екатерины конюшни устраивали?!»
Мы идём по парку. По деревьям шмыгают белки, не обращая на нас ни малейшего внимания. Одна из них спокойно сидит на ветке как раз над нашей головой. Слова моих спутников наводят меня на неожиданную мысль. Я вытаскиваю из кобуры пистолет и неторопливо целюсь в белку.
«Что Вы, Григорий Петрович?! — хватает меня за руку капитан. — Я думал, что Вы взрослый человек?!»
«А, что же тут такого?» — упорствую я и снова целюсь в белку.
«Оставьте! — протестует инженер-полковник, присоединяясь к капитану. — Разве можно здесь стрельбу поднимать!»
«Не беспокойтесь, — смеюсь я, пряча пистолет. — Это я просто хотел посмотреть, как вы будете реагировать на варварство…»
В это время со стороны дороги, где стоит наш автомобиль, раздаются два выстрела. Это шофёр даёт нам условный сигнал, что машина в порядке. Через полчаса замки Гёте остаются далеко за нашей спиной.
Еще в течение нескольких дней мы носимся по Тюрингии и Саксонии. Мы контролируем заводы, накладываем секвестр, реквизируем текущую продукцию, подготовляем проекты наряд-заказов для Управления Репараций.
В этой поездке мне впервые приходится ощущать довольно странную вещь. Я убеждаюсь, что год пребывания за пределами Советского Союза не прошел для меня бесследно. Каким-то образом я изменился внутренне. Я это ясно вижу при контакте с моими спутниками-моряками. Они только вчера прибыли из Москвы и завтра они снова вернутся туда. Для меня они являются своего рода реагентом, на котором я имею возможность проверить происходящий во мне процесс.
Из контакта с ними я с внутренним содроганием почувствовал, что мыслями и мироощущением я удалился от той орбиты, в которой вращается советский человек. Это не было отказом от того, что я имел, в пользу чего-то другого. Это было расширение кругозора.
Глава 11 В когтях системы
1
«Познакомьтесь! — представляет полковник Кондаков. — Подполковник Динашвилли».
Я пожимаю руку человека в сером гражданском костюме. Расстёгнутый ворот белой рубашки без галстука. Слегка подчёркнутое пренебрежение к гражданской одежде, свойственное кадровым военным.
Обрюзгшее лицо. Матовая лоснящаяся кожа, отвыкшая от солнечного света. Усталое и безразличное выражение чёрных на выкате глаз. Такое же ленивое и безразличное пожатие влажной руки.
Полковник Кондаков и я приехали по запросу Центральной Оперативной Группы МВД для экспертизы показаний ряда заключенных. Поскольку данные дела переплетались с аналогичными материалами, находящимися в отделе полковника Кондакова, МВД запросило консультации и помощи СВА.
Полковник Кондаков знакомится с протоколами предыдущих допросов и материалами следствия. Первым идёт дело одного из бывших научных сотрудников в лабораториях Пенемюнде, служивших центром немецких исследований в области реактивных снарядов.
«Немного задержались, — говорит подполковник МВД, поглядывая на дверь. — Я приказал, чтобы его сначала привели в человеческий вид».
«Давно уже он у Вас здесь?» — спрашивает полковник Кондаков.
«Около семи месяцев», — отвечает подполковник в гражданском таким сонным голосом, как будто он не спал с самого дня рождения.
«Как он к Вам попал?»
«Нам поступили агентурные сведения… После этого мы решили заняться им поближе».
«А почему… в такой обстановке?» — спрашивает полковник.
«Он жил в западной зоне, а его мать здесь в Лейпциге. Мы предложили матери написать ему соответствующее письмо с просьбой приехать к ней… Ну, вот и приходится держать его под замком до выяснения».
«Как же это мать согласилась?»
«Мы пригрозили, что в противном случае отберём у неё овощную лавку. А потом — мы интересуемся сыном только для дружеской беседы», — поясняет подполковник, позёвывая.
Через некоторое время конвойный сержант вводит в дверь заключённого. Меловая бледность лица и лихорадочный блеск глубоко запавших глаз говорят больше, чем все старания следователя МВД привести своего подследственного в человеческий вид.
«Ну, вы пока займитесь им, а я отдохну», — снова зевает подполковник и растягивается на стоящем у стены диване.
Подследственный, инженер по артиллерийскому вооружению, представляет для нас особый интерес, так как, согласно агентурным сведениям, он работал в Пенемюнде в так называемом отделе третьего периода.
Первым периодом считались виды вооружения, проверенные на практике и пущенные в серийное производство, вторым — виды вооружения, не вышедшие ещё из стадии заводских испытаний, и третьим — виды вооружения, существующие только в расчётах и чертежах.
С результатами первых двух периодов мы знакомы довольно хорошо, последний же период является для нас тёмным пятном, т. к. почти все чертежи и расчёты были уничтожены в дни капитуляции и в наши руки не попало никаких материальных доказательств, кроме устных показаний целого ряда лиц.
Согласно протоколов предыдущих допросов подследственный работал в группе учёных, имевших своим заданием создание реактивных снарядов противовоздушной обороны. Разработку этого проекта начали в связи с безусловным превосходством средств воздушного нападения союзников над оборонительными противовоздушными средствами Германии.
Особенностью проектируемых снарядов являлось наличие в головной части высокочувствительных приборов, ведущих ракету на цель и производящих взрыв в непосредственной близости от цели. Отстрел ракеты производится со специального станка-лафета без точного прицела.
Когда ракета попадает на определённое расстояние от обречённого самолета-цели, начинает действовать аппарат-наводчик, который самостоятельно корректирует предварительную наводку, ведёт ракету на цель и при определённом приближении к цели производит детонацию заряда. Подобный принцип немцы удачно использовали в магнитных минах и торпедах, нанесших чувствительный удар союзному флоту в первый период войны.
В случае ракеты, решение проблемы осложнялось несравненно большими скоростями снаряда и цели, меньшей массой цели и тем фактом, что самолёт, в основном, построен из немагнитных металлов.
Несмотря на это, имелись данные, что немцам удалось справиться с решением проблемы. Каким путём воспользовались немцы для преодоления специфических трудностей данного задания — по принципу радара, фотоэлемента или каким другим методом? В этом вопросе была масса расхождений.
Протоколы допросов показывают, что от подследственного требовали возобновления на память всех расчётов и чертежей, относящихся к проекту ракеты «V-N». Полковник Кондаков ведёт допрос совершенно в ином направлении.
Сверяясь с имеющимися у него данными, он старается установить место, которое занимал подследственный в сложной системе научно-исследовательского штаба Пенемюнде. Для него ясно, что один человек не может знать всего объёма работы над проектом, как этого требует МВД.
«Согласны ли Вы продолжить Вашу работу в одном из советских научных учреждений?» — обращается полковник к заключенному.
«Я уже несколько раз просил дать мне возможность доказать правоту моих показаний, — отвечает подследственный. — Я мало, что могу доказать… здесь. Вы понимаете!»
В этот момент серая фигура, до того безмолвно лежавшая на диване спиной к нам, как пружина взвивается вверх. Подполковник МВД с дикой руганью вскакивает на ноги: «Свободы захотел? Почему на Запад бежал? Почему здесь ничего не говоришь?»
Он в ярости шагает к сидящему на стуле заключенному. Тот беспомощно пожимает плечами и виновато смотрит на нас через стол, как будто извиняясь за поведение своего следователя.
«Я предлагаю передать его в распоряжение генерала… — обращается полковник Кондаков к следователю и называет имя генерала, руководящего советской научно-исследовательской базой в Пенемюнде. — Там мы получим от него всё, что он может дать».
«А если он сбежит?» — недоверчиво косится следователь в сторону заключённого.
«Товарищ подполковник, — натянуто улыбается Кондаков. — Для нас решающим является максимальная целесообразность каждого случая. В данном случае я буду ходатайствовать перед высшими инстанциями о переводе этого человека в Пенемюнде».
Покончив с первым делом, мы переходим ко второму. Здесь речь идёт о довольно фантастичном изобретении. Проект не вышел ещё из стадии расчётов и чертежей самого изобретателя и рассмотрению официальными немецкими учреждениями не подвергался.
Перед тем как попасть за решетки МВД в Потсдаме, изобретатель жил во французской оккупационной зоне Германии. Первоначально он предложил свой проект на рассмотрение соответствующим французским властям.
В результате, через каналы французской компартии об этом узнали заинтересованные советские учреждения, призвавшие на помощь МВД.
Методика и маршрут путешествия немецкого изобретателя в папке следствия на указывается, но из протоколов ясно, что подследственный уже десятый месяц гостит в подвалах Потсдамской Оперативной Группы, где его всеми доступными «мерами следственного воздействия» поощряют к дальнейшей работе над своим изобретением.
Перед нами ещё сравнительно молодой человек, инженер по слаботочной технике. Во время войны он работал в исследовательских лабораториях целого ряда ведущих электротехнических фирм Германии, особо специализировался на телемеханике и телевидении.
Над своим изобретением он работал продолжительное количество лет, но реальные формы его проект принял только к моменту окончания войны, когда немецкие военные власти уже не интересовались подобными вещами.
Подследственный начинает объяснять своё изобретение. Он постепенно развивает свою мысль, подтверждая её ссылками на труды крупных немецких ученых в области оптической физики. Его изобретение в технической форме состоит из двух аппаратов — датчика и приёмника.
Датчик, сравнительно миниатюрный аппарат, будучи заброшен на несколько километров за вражескую линию фронта, позволяет видеть на экране приёмника, находящегося в расположении собственных войск, то, что находится между датчиком и приёмником, т. е. диспозицию противника и его технических средств. Комбинация ряда датчиков и приёмников позволяет охватить любой участок по фронту.
Неизвестно из каких соображений МВД в течение десяти месяцев держало изобретателя у себя в погребе. Со свойственной этому учреждению подозрительностью следователи предполагали, что заключенный стремится утаить от них свой секрет, и всеми мерами пытались заставить его сказать больше, чем он на самом деле знал.
На этот раз допрос полковника Кондакова преследует несколько иную цель, чем в случае ракетного специалиста. Теперь он старается установить, насколько идея изобретателя обрела технически осуществимую форму. Полковник интересуется не только теоретическими обоснованиями, но и путями их технического осуществления.
Сыпятся специальные вопросы по технике беспроволочной связи и телевидению. К нашему общему удовлетворению подследственный с честью выдерживает испытание. Одновременно он с упорством, кажущимся странным в стенах МВД, отказывается давать показания о ключевых узлах своего проекта.
Может быть, он опасается, что, вырвав у него сущность изобретения, МВД просто ликвидирует его, как ненужного и неудобного свидетеля.
«Согласны ли Вы доказать техническую осуществимость Вашего проекта в условиях соответствующего советского научно-исследовательского учреждения?» — задаёт вопрос полковник.
В глазах у заключенного вспыхивает искра надежды.
«Герр полковник, это единственное, чего я желаю и о чем уже давно прошу», — отвечает он дрожащим голосом.
«Врёт, сволочь! — как эхо звучит голос с дивана и подполковник МВД снова вскакивает на ноги. — Он только ищет возможности сбежать. Почему он предлагал свое изобретение французам?!»
«Я предлагаю перевести этого человека в распоряжение полковника Васильева в Арнштадт, — обращаясь к следователю, делает своё заключение полковник Кондаков. — Если Васильев отрицательно отзовётся о его работе, тогда можете получить его обратно и решать вопрос по своему усмотрению».
«Так Вы у меня всех заключённых распустите», — ворчит подполковник.
Остаток дня мы посвящаем разбору документов, имеющихся в распоряжении МВД, но касающихся науки и техники. В основном это агентурные материалы о немецких научных работниках и их работах, находящихся в западных зонах Германии.
Здесь требуется установить техническую ценность данных ученых и их работ для Советского Союза. В случае положительной оценки МВД берёт на себя практическое осуществление дальнейших шагов для реализации дела. По многим документам уже были вынесены решения специальными комиссиями.
К вечеру мы покончили со всеми делами и собирались ехать домой. Взглянув на часы и на стоящий на столе телефон, я решил позвонить Андрею Ковтун. Узнав, что я нахожусь в Потсдаме, Андрей попросил меня немедленно заехать к нему на службу.
Со времени нашей первой встречи с Андреем на моей квартире в Карлсхорсте прошло несколько месяцев. Андрей почти каждую неделю бывал у меня. Иногда он приезжал среди ночи, иногда под утро. Когда я предлагал ему ужин или завтрак, он устало отмахивался рукой и говорил: «Я просто так на минутку заскочил. Я буду спать у тебя здесь на кушетке».
Сначала эти неурочные и беспричинные визиты меня удивляли. В наших разговорах он с болезненной радостью наслаждался воспоминаниями о наших совместных похождениях в школе и на студенческой скамье. Он готов был десятки раз до мельчайших подробностей пережёвывать наши юношеские романы, сопровождая их неизменной репликой: «Эх! Хорошее было время!» Порою мне казалось, что в моём обществе и в этих разговорах он ищет спасения от окружающей его действительности.
Я попросил полковника Кондакова ссадить меня у подъезда здания Центрального Управления МВД, где работал Андрей. Комплекс нескольких зданий был обнесён глухой стеной, через которую тянулись ветви деревьев.
В проходной уже лежал пропуск на моё имя. В сумерках летнего вечера я пересек сад и поднялся на второй этаж здания, где помещался кабинет Андрея.
«Ну, сворачивай свои дела! — произнес я, входя в обитую войлоком и клеёнкой дверь. — Поедем в Берлин!»
«Хм! Кому работа кончается, а кому начинается», — буркнул Андрей.
«За каким же ты хреном меня сюда звал?!» — с некоторой досадой произнес я. Целый день пребывания в кабинете подполковника Динашвилли был достаточен, чтобы я стремился поскорее выбраться на свежий воздух.
«Не волнуйся, Гриша! Я у тебя уже пол протолок, а ты ко мне ещё ни разу в гости не заехал. Один раз тут интересно побывать», — говорит Андрей.
«Я сегодня целый день сидел в подобной берлоге», — отвечаю я и не могу скрыть своего недовольства.
«День?! — усмехается Андрей. — А ночью ты здесь никогда не бывал?»
«Знаешь что, Андрей, — говорю я. — У меня сейчас нет никакого настроения торчать здесь. Если хочешь, то поедем в Берлин в театр. Если нет…»
«Так ты, значит, в театр хочешь, — перебивает Андрей. — Тут тоже можно кое-что увидеть. Такое не увидишь ни в каком театре».
«Сегодня у меня настроения нет…» — повторяю я.
«Послушай, Гриша!» — Андрей меняет тон.
Наигранная личина спадает и голос Андрея напоминает мне те дни, когда он ёрзал верхом на стуле рядом с моим чертёжным столом. Тогда он также начинал напыщенный разговор о великих людях и великих делах, а затем вдруг заискивающим тоном просил у меня конспекты по теоретической механике или спрашивал к какому лектору лучше идти на экзамены.
«Послушай, Гриша! — продолжает Андрей. — Меня уже давно интересует один вопрос. Для того чтобы ты понял этот вопрос, я должен несколько углубиться в прошлое. Ведь нам с тобой нечего скрывать друг от друга. Ведь, пожалуй, нет другого человека на свете, который знал бы меня лучше, чем ты».
Андрей молчит некоторое время, потом заканчивает: «А вот я тебя до сегодняшнего дня не знаю…»
«Что тебя, собственно, интересует?» — спрашиваю я.
Андрей идёт к двери и поворачивает ключ в замке. Затем он вытаскивает из стены несколько розеток, шнуры от которых идут к его столу.
«Помнишь наше детство? — говорит он, откидываясь в кресле. — Ты был таким же мальчишкой, как и я. И ты должен был думать тоже, что и я. Но ты молчал. Я тогда сердился на тебя за это. Сегодня я тебя могу за это похвалить. Знаешь почему?»
Я молчу.
После некоторого колебания Андрей говорит, глядя куда-то под стол: «Это дело прошлого… Мне тогда было четырнадцать лет… Как раз в канун Октябрьских праздников меня вызвали с урока в кабинет директора школы. Там был ещё какой-то человек. Коротко — этот человек отвёл меня в ГПУ. Там меня обвинили, что я приклеивал окурки на портреты Сталина и во всякой другой контрреволюции… Конечно, всё было выдумано. Затем сказали, что учитывая мою молодость, согласны простить мои грехи, если я буду помогать им. Что я мог делать?! С меня взяли подписку о сотрудничестве и молчании. Так я стал… сексотом. Ненавидел Сталина всей душой, писал антисоветские лозунги в уборных — а сам был сексотом. Не бойся. Я ни на кого не донес. Когда уж слишком жали, то писал доносы на таких же сексотов. Имея связь с ГПУ, я знал кое-кого. Им от этого не было вреда».
Андрей ворочается в кресле и говорит, не поднимая глаз: «Тогда я сердился на тебя, что ты не разделял вслух мои искренние мысли. Я был убеждён, что ты думаешь, как и я. Теперь! Когда мы были студентами… Помнишь Володьку?»
Он произнёс имя нашего совместного товарища, который незадолго до войны окончил Военно-Морскую Академию имени Дзержинского.
«Если жив, то теперь, наверное, крейсером командует, — продолжает Андрей. — Володька говорил со мной откровенно… А ты по-прежнему молчал. А дальше — всё больше и больше. Я вступил в комсомол. Ты — нет. Теперь я в партии. Ты — нет. Я — майор Госбезопасности и вместе с тем… большая контра, чем все мои заключённые вместе взятые».
Андрей поднимает на меня глаза и спрашивает в упор: «А ты по-прежнему праведный советский гражданин? Какого дьявола ты молчишь?!»
«Что ты от меня хочешь? — со странным безразличием говорю я. — Признание в контрреволюции? Или в верности Сталину?»
«А-а-х! На это ты мне можешь не отвечать, — злобно машет ладонью Андрей. — Просто, я считаю тебя своим ближайшим другом и хочу знать, что ты из себя представляешь».
«Что тебе для этого нужно?» — спрашиваю я.
«Почему ты не вступаешь в партию?» — Андрей смотрит мне в глаза настороженным взглядом следователя.
«Мне на это вопрос ответить не трудно, — говорю я. — Труднее ответить на вопрос — почему ты вступил в партию».
«Опять ты виляешь хвостом!!» — в ярости кричит Андрей. С его губ срывается грязное ругательство. «Не сердись! Это я просто так…» — спохватывается он извиняющимся голосом.
«Всё дело, Андрей, в том, что твоя жизнь идёт наперекос к твоим убеждениям, — говорю я. — Я же делаю ровно столько…»
«Ага! Так вот почему ты не вступаешь в партию?!» — с нескрываемым злорадством восклицает Андрей.
У меня появляется чувство, что он хочет уличить меня в чём-то.
«Не совсем… — возражаю я. — Когда я улетал из Москвы в Берлин, то собирался по возвращении вступить в партию».
«Собирался?!» — повторяет Андрей насмешливо.
«Не будем придираться к грамматическим временам, гражданин следователь!» — пытаюсь я придать разговору шутливый характер. У меня в голове мелькает забавная мысль. Мне начинает казаться, что сидящий напротив меня майор Государственной Безопасности СССР подозревает и пытается уличить меня в симпатиях к коммунизму.
«Гриша, шутки в сторону, — тихо говорит Андрей, наклоняясь вперед и глядя мне в глаза. — Скажи, подлец ты или не подлец?»
«А ты?» — бросаю я через стол.
«Я — жертва… — шепчет Андрей и снова опускает глаза вниз. — У меня нет выбора… А ты ведь свободен…»
В кабинете воцаряется мёртвая тишина. Затем снова звучит истерический беззвучный крик: «Скажи, подлец ты или нет?!»
«Я прилагаю все усилия, чтобы стать полноценным коммунистом…» — отвечаю я задумчиво. Я хочу говорить искренне, но мои слова звучат неестественно и фальшиво.
Андрей сидит некоторое время молча, как будто ища в моих словах скрытый смысл. Затем он говорит спокойно и холодно: «Мне кажется, что ты сказал правду. И мне кажется, что я могу тебе помочь. Ты хочешь полюбить советскую власть? Не так ли?!» Не получив ответа, Андрей продолжает. «У меня был один знакомый. Сейчас он большой человек в Москве. Так вот он делал так. Арестует человека, обвинит его в подготовке покушения на Сталина, во взрыве Кремля, отравлении московского водопровода и тому подобное. Затем даёт ему готовый протокол и говорит: „Если любишь Сталина, то подпиши всё это!“»
Андрей натянуто смеётся и говорит: «Я тоже могу помочь тебе полюбить Сталина. Хочешь? Я тебе устрою маленький эксперимент. Это тебе определённо поможет в твоем стремлении стать полноценным коммунистом».
«Что я должен делать?» — спрашиваю я, в душе досадуя на Андрея. Весь этот разговор, тем более в стенах Главной Квартиры МВД в Германии, непроизвольно действует на нервы. «Протоколов никаких я подписывать не буду. И второй раз я к тебе сюда больше не приеду».
«С тебя хватит и одного раза, — криво ухмыляется майор Государственной Безопасности и смотрит на часы. — Вот скоро и театр начнется. Скучать не будешь».
«Теперь ни звука!» — говорит Андрей и приключает розетки телефонных шнуров к гнёздам в стене. Он вынимает из ящика стола папки с делами и, сверяясь с бумагами, берётся за телефонную трубку.
Так он повторяет несколько раз, выискивая что-то по внутреннему коммутатору. Судя по разговорам, на другом конце находятся кабинеты следователей, подчинённых Андрею по службе. Наконец, он удовлетворенно кивает головой и кладёт трубку.
«Действие первое. Явление первое. Название можешь придумать позже сам», — говорит Андрей в пол голоса и поворачивает переключатель диктофона.
Диктофоны — это аппараты, поддерживающие двухстороннюю связь между кабинетом начальника и подчинёнными ему следователями. Диктофоны дают возможность слышать всё, происходящее на другом конце, с такой же ясностью, как если бы все происходило в данном помещении.
Кроме того, МВД широко использует микро-диктофоны, маскируемые в стенах или меблировке, которые позволяют тайное подслушивание. Оператор, сидящий на подслушивании, имеет под рукой звукозаписывающую аппаратуру, стоящую на его столе и позволяющую, в случае необходимости, записывать разговор на пленку.
В тишину огромной комнаты врываются два голоса. Мелодичный женский голос говорит чисто по-немецки. Мужской голос отвечает с сильным русским акцентом.
«…Теперь, если герр лейтенант позволяет, я хотела бы спросить о судьбе моего мужа», — звучит женский голос.
«Единственное, что я могу сказать Вам определённо, это что судьба Вашего мужа целиком зависит от Вашей работы для нас», — отвечает мужской голос.
«Герр лейтенант, ровно год тому назад Вы обещали мне, что при определённых условиях, мой муж будет отпущен на свободу через несколько дней», — звучит женский голос.
«Ваша работа для нас является почётным долгом. Этим Вы только подтверждаете Вашу приверженность к новой демократической Германии. Или Вы хотите сказать?.». — в голосе мужчины звучат угрожающие нотки.
«Я ничего не хочу сказать, герр лейтенант. Я только спрашиваю о моем муже», — звучит тихий голос без акцента.
«Ваши материалы за последнее время нас не удовлетворяют. Мне будет очень неприятно, если мы будем вынуждены принять соответствующие меры. Может получиться так, что Вы встретитесь с Вашим мужем не там, где это Вам хотелось бы», — раздаётся в ответ.
Слышно приглушенное женское рыдание. Так плачет человек, уткнув голову в руки. Андрей поворачивает рычажок диктофона. Затем достает из папки листок бумаги и протягивает его мне. Это приговор Военного Трибунала МВД, гласящий: 25 лет каторжных работ «за террористические действия, направленные против Оккупационных Войск Советской Армии».
«Коммунист с 1928 года, — поясняет Андрей. — Сидел 8 лет в гитлеровском концлагере. Через месяц после начала оккупации подал заявление о выходе из компартии. Слишком много разговаривал. Результат — перед тобой. Жена его работает переводчицей у англичан. Пользуется у них доверием, как жена пострадавшего от фашизма. После ареста мужа нами, ей доверяют ещё больше. До последнего времени была нашим ценным агентом».
Андрей снова берётся за трубку телефона, спрашивает номера дел, по которым ведутся допросы в соседних кабинетах, одновременно сверяется со своими папками. Когда я интересуюсь, почему он не пользуется диктофоном Андрей отвечает: «Третьи лица не должны слышать, что говорят следователи. Да и вообще они не должны знать о существовании и цели диктофонов. Эти вещи здесь преимущественно для внутренней слежки начальника за своими подчинёнными. Я могу в любую минуту слушать, что делают мои следователи. При том они не знают включен ли мой аппарат или нет. Отключать диктофоны от сети запрещается. Советская система в миниатюре! Притом совершенно откровенно».
Наконец он находит то, что ему нужно, снова делает мне знак молчания и поворачивает рычажок диктофона. На этот раз слышны два мужских голоса, разговаривающих опять-таки по-немецки.
«…Вы хорошо оправдали себя за последнее время. Теперь мы даём Вам более ответственную работу, — звучит голос с акцентом. — В своё время Вы были активным членом национал-социалистической партии. Мы стараемся дать людям возможность исправить их ошибки в прошлом. Мы даже дали Вам возможность вступить в ряды СЕД. Теперь мы ждём, что Вы с честью оправдаете оказанное Вам доверие».
«Герр капитан, даже будучи, в силу обстоятельств, в рядах НСДАП, я всегда сочувствовал идеям коммунизма и с ожиданием глядел на Восток», — раздаётся голос без акцента.
«Сегодня в рядах СЕД находится значительное количество людей, раньше сочувствовавших идеям национализма, — звучит первый голос. — Возможно, что и теперь они продолжают сочувствовать этим идеям. Нас очень интересуют эти националистические тенденции среди членов СЕД. Такие люди, прикрываясь партбилетом СЕД, на деле работают за реставрацию фашизма и являются злейшими врагами новой демократической Германии…»
«О, да! Я Вас понимаю, герр капитан!» — поддакивает собеседник.
«Так вот! — продолжает голос, принадлежащий капитану МВД. — Вам, как бывшему национал-социалисту, люди подобного склада мыслей, конечно, доверяют больше, чем кому-либо другому. Вашей задачей будет не только слушать все высказывания на подобную тему, но, также, и самому зондировать настроения Ваших коллег в этом вопросе. Персонально я поручаю Вашему особому вниманию следующих лиц…»
Следует перечисление ряда имен.
«Будут какие-либо детальные инструкции, герр капитан?» — деловитым тоном осведомляется невидимый немец.
«Нас в особенности, интересует следующее, — разъясняет капитан МВД. — Может быть, Вам удастся услышать среди членов СЕД высказывание, что политика товарища Сталина является отклонением от идей марксизма и коммунизма, что советская система не имеет ничего общего с социализмом, что братская дружба компартии Советского Союза и прогрессивных партий стран новой демократии является просто-напросто вассальной зависимостью. Может быть, кто-либо из Ваших партийных товарищей будет высказывать мнение, что лучше было бы проводить в жизнь идеи социализма самостоятельно, силами германского народа. Вы должны понимать, что подобные ревизионистские высказывания являются не чем иным, как маскировкой реставрации фашизма…»
«О, да! Таким людям место в Сибири, герр капитан!» — убеждённо соглашается бывший нацист.
«В Сибири места для многих хватит, — двусмысленно замечает голос капитана МВД. — Мы умеем карать тех, кто против нас. Но, мы умеем и вознаграждать преданных нам людей. Если Вы с честью будете выполнять все наши поручения, то мы позаботимся о Вашем дальнейшем повышении по службе. В следующую пятницу Вы принесёте очередной материал ко мне на квартиру. Не следует, чтобы Вас видели здесь…»
Андрей выключает диктофон и, водя глазами по актам, зачитывает: «Шпик Гестапо с 1934 года. С мая 1945 года сотрудничает с нами. По его материалам произведено 129 арестов. По нашей рекомендации принят в члены СЕД».
За столом напротив меня сидит майор Государственной Безопасности при исполнении служебных обязанностей. Он увлёкся и деловито роется в бумагах. Из стального сейфа, стоящего у стены за его спиной, он вытаскивает ящик картотеки. Вынув оттуда карточку с номером, он находит по этому номеру объёмистую папку.
«Ага! Любовь на службе государства, — произносит Андрей, раскрывая папку. — Баронесса фон… С 1923 года патронесса института для заключения браков в высшем обществе и по совместительству содержательница публичных домов. С 1936 года — штатный агент Гестапо. С июля 1945 года зарегистрирована у нас. Два сына — военнопленные в СССР. Приказ начальнику Управления Лагерей о запрещении освобождать их без особого указания МВД. Интересуешься красивыми девочками? Посмотри!»
Андрей протягивает мне папку и карточку через стол. На обложке папки жирными буквами выведены номер по картотеке и кличка. Таким образом, охраняется тайна идентичности агента. Карточка картотеки содержит персональные данные. В левом верхнем углу карточки прикреплена фотография седоволосой благообразной женщины в кружевном воротничке.
Я раскрываю папку. Она заполнена стандартными типографскими бланками с прикрепленными к ним фотографиями молодых красивых женщин. Это поднадзорные баронессы.
Все женщины, как на подбор, красавицы и делают честь человеколюбивому заведению благообразной старухи. На каждом листке, помимо персональных данных, имеется рубрика «Компрометирующие данные».
Под фотографией жизнерадостной улыбающейся блондинки в этой рубрике значится:
«Жених служил в СС. С 1944 года в плену в СССР. 1946 г. — сифилис».
Следующая фотография, девушка с глазами газели, имеет пометку:
«Отец — член НСДАП. Интернирован в СССР. 1944 г. — внебрачный ребенок».
На следующем листе жгучая брюнетка итальянского типа и внизу запись:
«Зарегистрирована в полиции за проституцию. 1946 — ребенок от негра».
Все записи снабжены точными датами и фактическими данными.
«Пансион баронессы находится в американском секторе, — поясняет Андрей. — Соответственно этому и поле деятельности».
Он берёт из моих рук лист с фотографией девушки с глазами газели, смотрит на контрольный номер вверху, затем вынимает из стола другую папку с этим же номером и протягивает мне: «Посмотри!» Эта папка содержит агентурные материалы, поступившие от девушки с глазами газели. Фотографии американских солдат в форме. Цифры. Даты. Любовные записки в качестве образцов почерка. Характеристики с указанием места службы и должности, образа личной жизни, политического образа мыслей, домашнего адреса в Америке.
«К чему американский адрес?» — спрашиваю я.
«В случае необходимости, мы всегда имеем возможность войти в контакт с интересующим нас лицом, — отвечает Андрей. — Там это для нас даже легче, чем здесь».
Майор Государственной Безопасности указывает пальцем на один из отделов папки. Здесь аккуратно рассортированы фотографии девушки с глазами газели, снятой в обществе американского лейтенанта. Сначала идут любительские фотографии лейкой, отражающие все этапы развития знакомства. Затем на отдельном листе, тщательно пронумерованные и снабжённые датами, прикреплены фотографии несколько иного типа.
По технике печати видна работа автоматической микрокамеры. По жанру — порнографические открытки самого откровенного содержания. Они запечатлевают не только любовь без покров, но к тому же ещё и любовь извращённую. Мало кому доставит удовольствие видеть подобные произведения искусства с собственной персоной в роли главного действующего лица. Американский лейтенант был ясно виден на всех компрометирующих снимках.
«Этот мальчик теперь тоже работает у нас, — усмехается Андрей. — У него в Америке молодая и богатая невеста. Когда его поставили перед выбором, — или компрометация в глазах невесты, а, следовательно, и верное расторжение брачного контракта и потеря солидного капитала, или незначительная помощь для нас, — то он предпочёл второе. Теперь поставляет нам довольно ценные материалы».
«Это тебе только один образчик из работы баронессы, — продолжает он. — Всего у неё двадцать шесть женщин, которые рассчитаны для направленных знакомств, и тридцать четыре уличных проститутки, поставляющие случайный материал. По типу баронессы у нас есть специальные инструктора, занимающиеся обработкой проституток во всех четырёх зонах Германии. Как видишь, предприятие поставлено на широкую ногу».
«Оправдывает ли это себя?» — интересуюсь я.
«Больше чем это можно предполагать, — отвечает майор Государственной Безопасности. — Проституция и шпионаж испокон веков идут рука об руку. Мы только подвели под эти вещи новую идеологическую базу. В зависимости от каждого отдельного случая. Вместе с тем, почти у каждой из этих женщин имеется заложник в наших руках. Наша система — самая дешёвая в мире».
Стрелка часов перешла за полночь. Когда я поднимаю глаза от ярко освещённого письменного стола, все кругом теряется в полумраке. Окна задернуты глухими тёмными портьерами.
Из рамы портрета, висящего на стене за спиной Андрея, на нас смотрит лицо с низким лбом и тяжёлыми усами. Я возвращаюсь глазами к столу. Маленький мирок, замыкающийся в свете настольной лампы, говорит о человеке в цепях. Папки на столе сковывают судьбы сотен людей, которые не имеют выбора.
«Зажги, пожалуйста, верхний свет», — прошу я. Когда Андрей нажимает кнопку в стене и под потолком вспыхивает матовый шар, я спрашиваю: «Тебе, конечно, приходилось видеть людей, обречённых на смерть. Скажи часто ли ты видел людей, умирающих с верой в правоту своего дела?»
«В начале войны я часто видел ССовцев перед расстрелом, — говорит Андрей в раздумье и трёт лоб. — Они кричали „Хайль Гитлер!“ Когда я был в партизанах, то мне приходилось видеть, как немцы вешали русских. Перед смертью они ругали немцев матом и кричали „Да здравствует Сталин!“ Некоторых из этих смертников я знал лично. И знал, что за всю свою жизнь они никогда не произносили подобных слов. А перед смертью вот кричали. По-моему, тут дело не в вере, а в личной храбрости. Просто они хотели выразить свое презрение к смерти и к врагу».
«Сейчас ты занимаешься истреблением врагов государства, — продолжаю я. — Капиталисты и помещики, говоря языком истории ВКП(б), уже давно истреблены. Следовательно, те, с кем приходиться бороться сегодня, являются выходцами из нового общества. Если они враги, то что они из себя представляют? Как их можно классифицировать? Идейные ли это враги или люди, в силу обстоятельств совершившие проступки, караемые кодексом МВД?»
«К чему это ты спрашиваешь?» — подозрительно косится Андрей.
«Меня с некоторого времени интересует этот вопрос, — говорю. — Кто на него может лучше ответить, как не майор МВД?»
«А ты этого сам не знаешь?»
«Мне хотелось бы знать твоё мнение…»
«Чёрт бы тебя побрал, Гриша! — неожиданно произносит Андрей со вздохом. — Я хотел помучить тебя и облегчить собственную душу. А ты вместо этого сидишь, как пень, да ещё ковыряешься в моей душе. Ты так, как будто невзначай, задаёшь мне вопрос, который уже давно висит надо мной, как топор».
Андрей говорит медленно. Слова выходят из его груди с трудом, как будто он не решается произносить свои мысли вслух.
«Если говорить об идеологических врагах, то нашим идеологическим врагом сегодня является весь народ. Те же, кто осужден МВД, — это только жертвы жребия. Из ста обвинительных заключений МВД — девяносто девять являются чистым вымыслом. Мы исходим из принципа, что каждый — это враг. В душе, в сердце — он враг. Для того, чтобы поймать врага с поличным, нужно дать ему совершить вражеское действие. Если мы будем ждать, то тогда будет поздно. Ведь их — миллионы. Поэтому мы хватаем любого, обвиняем его в любом преступлении. Он этого не сознаёт, что в душе он созрел для всех тех антигосударственных преступлений, в которых мы его обвиняем. Этим мы ликвидируем некоторую часть потенциальных врагов и одновременно парализуем волю к действию у остальной массы врагов. Это — превентивный метод. Понимаешь?! Ходом истории мы были вынуждены прибегнуть к этому. Одновременно обнаружились побочные положительные факторы подобной системы…»
Майор Государственной Безопасности задумчиво чертит карандашом по полям папки на столе, затем, не поднимая головы, спрашивает: «Как ты думаешь — каково общее число заключённых в лагерях МВД?»
«Для любого нормального человека эта цифра покажется фантазией, — продолжает он, не дожидаясь моего ответа. — Около пятнадцати миллионов. Степень точности плюс-минус три миллиона. Получается колоссальный резервуар рабочей силы. Почти одновременно с переходом к превентивному методу работы органов госбезопасности, развитие промышленности потребовало огромного количества рук в тех местностях, куда добровольно ни один человек не пойдёт. Таким образом, превентивный метод идеально разрешил проблему рабочей силы. Впоследствии потребности лагерей в рабочей силе стали одним из факторов, определяющих работу следственных органов. Как видишь — получилась система устойчивого равновесия. Система несколько аморальная, но жизненно необходимая и, кроме того, рентабельная для государства. Для высшего командного состава МВД даются специальные секретные бюллетени, где подо все эти вещи подводится идеологическая база. Закон и Право исходят из генеральной линии Партии. Число заключённых диктуется не Законом и Правом, а потребностями лагерей и политическими соображениями».
«Ты лекции по марксизму-ленинизму ещё не забыл? — спрашиваю я. — Помнишь теорию государства в коммунистическом обществе?!»
«А-а-а-а… В коммунистическом обществе государство постепенно отмирает, — криво усмехается Андрей. — И как первое отмирают органы принуждения государства — полиция и прочее…»
«Выходит всё в порядке», — говорю я.
«Да, по мою сторону стола — все в порядке, — произносит Андрей, снова возвращаясь к действительности. — Если смотреть на проблему с другой стороны этого стола… Иногда тяжело бывает».
«Ты так и не ответил на мой вопрос, — говорю я. — Приходилось ли тебе встречать настоящих врагов. Таких, чтоб смотрел тебе в глаза и говорил — да, я против».
Майор Государственной Безопасности смотрит на меня исподлобья: «Почему ты не пойдешь сам работать в МВД? Из тебя вышел бы идеальный следователь, — ворчит он. — Я нарочно старался избегнуть этой темы. У меня сейчас есть живой ответ на твой вопрос… Только я не хотел тебе его показывать. Боюсь, чтобы это не повлияло на твои отношения ко мне лично».
Андрей выжидающе смотрит на меня и колеблется. Стрелка часов, когда я поднимаю голову от стола, маячит где-то вдалеке. Все предметы в комнате расплываются. Уже далеко за полночь. Здание в глубине сада живёт своей ночной жизнью.
По коридору раздаются приглушённые звуки, понятные только людям, знакомым с работой МВД. Несколько раз в дверь раздаётся осторожный стук. Тогда Андрей выходит из комнаты, замыкая дверь на ключ. Наш разговор прерывают частые телефонные звонки.
«Хорошо! — говорит, наконец, Андрей. — Но я тебя прошу… Не думай при этом ничего обо мне…»
Он снимает трубку телефона и звонит в одну из соседних комнат: «Товарищ капитан, что у Вас нового по делу 51-В?» Он выслушивает рапорт, затем говорит: «Всё по старому? Хорошо. Вызовите его на допрос. Я приду к Вам ещё с одним офицером».
Мы спускаемся этажом ниже. Здесь уже нет ковров по коридорам. Стены, окрашенные серой масляной краской. Двери с номерами. Здесь рабочие кабинеты следователей.
Мы заходим в одну из комнат. За письменным столом лицом к дверям сидит капитан с пехотными погонами. Над столом тот же портрет, что и в кабинете Андрея. Андрей кивком головы отвечает на приветствие, затем проходит к дивану, стоящему у стены, и молча углубляется в папку следствия. Я так же молча сажусь на другом конце дивана.
Стук в дверь. Сержант в зелёной фуражке рапортует: «Заключенный 51-В по Вашему приказанию, товарищ капитан!» Следом на пороге появляется тёмная фигура со скрещенными на спине руками. Второй конвойный закрывает дверь.
«Ну! Как дела, Калюжный?» — приветливо спрашивает капитан.
«Что?.. Давно меня не видел, собака?!..» — раздаётся хриплый клокочущий голос. В нём смесь бесконечной ненависти и презрения, затаённая боль и смертная тоска. И всё это покрывают звучащие из глубины души вызов и угроза. Таким голосом говорят люди, которые уже простились с жизнью и желают только одного — продать свою жизнь подороже.
Заключённый, покачиваясь из стороны в сторону, подходит вплотную к столу и останавливается. Ноги, ища опоры, широко расставлены в стороны. Голова неестественно вывернута на бок. Руки за спиной скованы наручниками. К наручникам МВД прибегает обычно в случае смертников или особо опасных заключённых.
Крупная мускулистая фигура в обрывках военного обмундирования. Крутые слегка сутулые плечи. Характерная фигура молодого рабочего от станка. Настольное «солнце» освещает только нижнюю часть туловища заключенного, оставляя все остальное в тени.
«Ну, как — вспомнил что-нибудь?» — спрашивает капитан, не поднимая голову от протокола следствия.
В ответ звучит яростная нечленораздельная ругань. Тёмная фигура осыпает потоками брани капитана, МВД, советскую власть и, наконец, человека в раме портрета над головой следователя.
«Хоть раз в жизни поговорю свободно…» — хрипит заключённый и наклоняется вперед то ли от изнеможения, то ли намереваясь броситься на следователя. Конвойные, стоящие по бокам, хватают шаткую фигуру за плечи и силой усаживают на стул.
«Теперь давай поговорим спокойно, — произносит капитан. — Курить хочешь?»
По знаку капитана конвойные снимают наручники. Несколько минут в комнате царит тишина. Человек на стуле жадно затягивается папиросой. В груди его что-то хлюпает и клокочет. Он натужно закашливается и отхаркивает на ладонь черные сгустки.
«На, капитан, радуйся! — он протягивает руку через стол. В ярком свете лампы чёрным студнем колышутся сгустки крови. «Лёгкие отбили… Гады!» — хрипит заключённый и вытирает кровь о край стола.
«Слушай, Калюжный, — ласковым голосом говорит следователь. — Мне чертовски жалко, что ты так упрям. Ведь ты был примерным гражданином Советского Союза. Смотри! Сын рабочего, сам рабочий, герой Отечественной войны. Ну, теперь совершил ошибку…»
«Это не ошибка…» — хрипит по другую сторону стола.
«Мы умеем ценить прежние заслуги, — продолжает капитан. — Раскайся, загладь свою вину… И Родина простит тебе…»
«Это кто — Родина? — клокочет из груди заключённого. — Это вы, кровососы, Родина?!»
Капитан с трудом сохраняет спокойствие. Он поворачивает настольное «солнце» так, что свет падает в лицо человека, сидящего по другую сторону стола. Лица нет. Вместо лица сплошная маска запекшейся крови.
Волосы ссохлись от крови колючей корой. Кровавая рваная рана на месте рта. Когда человек говорит, слова его выходят с трудом. Прокушенный распухший язык с трудом шевелится между искрошенными остатками зубов.
«Я хочу только облегчить твою участь, — говорит капитан. — Укажи нам остальных. Тогда я даю тебе честное слово коммуниста…»
«Слово коммуниста… — безмерной ненавистью дышит кровавый хрип. — Ты, гад, под это честное слово… скольких уже расстрелял?»
Терзаемый болезненным кашлем человек на стуле переламывается пополам, сплевывает кровь на пол.
«Моё слово — это слово Партии. Сознайся — и ты будешь свободен», — усилием воли сдерживается следователь.
«Свободу!? — насмехается кровавая маска. — Я эту свободу знаю… На небе она…»
«Подпиши протокол!» — протягивает капитан через стол лист бумаги.
«Сам писал — сам и подписывай…» — звучит в ответ.
«Подписывай!» — угрожающе приказывает капитан. Он забывает о присутствии двух безмолвных фигур на диване и, разражаясь проклятиями, вытаскивает из стола пистолет.
«Давай… Подпишу!» — хрипит заключенный. Он берет протокол допроса и полной грудью харкает на бумагу кровавые сгустки. «На тебе… С коммунистической печатью!» — радостным торжеством вибрирует голос смертника. Окровавленная фигура с трудом поднимается со стула, медленно наклоняется через стол навстречу дулу пистолета: «Ну! Стреляй!» Искаженная судорогой кровавая маска ползет на дуло пистолета. Глаза заключенного встречаются с глазами следователя: «Ну, палач, теперь стреляй!.. Дай мне свободу!»
Капитан в бессильной злобе опускает пистолет и делает знак конвоирам, стоящим по сторонам стола. Удар прикладом автомата бросает заключенного на пол. Щелкают стальные браслеты.
«Так легко ты от нас не отделаешься, — цедит сквозь зубы капитан. — Ты ещё смерть как родную мать звать будешь».
Человек в наручниках лежит без движения на полу. Конвоиры рывком ставят его на ноги. Он стоит, пошатываясь, сдерживаемый солдатами.
«Поставить его к стойке![16] — приказывает капитан и делает знак увести заключенного.
Неожиданно тёмная фигура отчаянным рывком освобождаётся из рук солдат. Скованный заключенный бешеным ударом ноги с грохотом опрокидывает стол следователя. Тот отскакивает в сторону, затем с рёвом бросается вперед. Рукоятка пистолета глухо опускается на голову человека, извивающегося в руках конвоиров. По заскорузлой маске запёкшейся крови торопливо растекаются горячие алые струи.
«Товарищ капитан!» — резко звучит голос Андрея Ковтун.
Когда заключённого волоком утаскивают из комнаты, капитан, тяжело переводя дыхание, говорит: «Товарищ майор, прошу разрешения закончить следствие и передать дело на рассмотрение Трибунала».
«Придерживайтесь тех инструкций, которые я Вам дал», — сухо отвечает Андрей и направляется к двери.
Мы молча идем по коридору. За каждой дверью слышатся приглушённые звуки. Звуки, обещающие соблазны жизни в обмен на предательство. Звуки, сулящие собственную жизнь в обмен на жизнь других. Тех, кто сегодня ещё смеется и наслаждаётся жизнью, кто не знает, что на него уже пал жребий.
«Ты сам хотел видеть это», — мрачно говорит Андрей, когда за нами закрывается дверь его кабинета. Он произносит эти слова торопливо, как будто оправдываясь, как будто стараясь предупредить то, что должен сказать я.
«За что он арестован? — спрашиваю я.
«Как раз за то, чем ты интересовался, — говорит Андрей и устало опускается в кресло. — Человек, который говорит открыто — да, я против. Прошёл всю войну с первого до последнего дня. Много раз ранен. Много раз награждён. Когда после войны подошел срок его демобилизации, то добровольно остался на сверхсрочную службу. А месяц тому назад арестован за антисоветскую пропаганду в Армии. После ареста его окончательно прорвало. Рубашку на груди рвет и кричит: „Да! Я — против!“»
«Ты его допрашивал? — спрашиваю я.
«Да…» — после некоторого колебания отвечает Андрей.
«Чем ты объясняешь всё это?»
«Недавно он был в отпуске в России. Приехал домой, а там — пусто. Старуху-мать выслали в Сибирь… За коллаборацию. Во время оккупации, чтобы не умереть с голоду, она мыла посуду у немцев. Младший брат в 1942 году был угнан немцами на работу в Германию. После репатриации брата осудили на 10 лет рудников… Да и вообще посмотрел он, что кругом творится. Когда вернулся в часть, то начал об этом рассказывать. В результате… сам видишь».
«О каких там сообщниках шла речь?» — спрашиваю я.
«У, как обычно, — пожимает плечами Андрей. — Из одного человека нужно раздуть целую контрреволюционную организацию. Вот тебе яркое доказательство того, что каждый — враг, — монотонным голосом продолжает майор Государственной Безопасности. — Внешне — образцовый советский человек. Вот такие во время войны умирали с криком: „Да здравствует Сталин!“ А когда, копнешь глубже…»
«Так ты считаешь его идеологическим врагом?» — спрашиваю я.
«У него нет идеи, — отвечает майор. — Но он уже пришёл к отрицанию существующего. Главная опасность в том, что он — это миллионы. Брось сюда направленную идею — и всё это вспыхнет как пороховая бочка».
«Недаром идею в СТОН[17] загнали, — добавляет он беззвучно. — Хозяева в Кремле учитывают эту опасность».
Я молчу. Как будто угадывая мои мысли, Андрей беспомощно шепчет. «Что я могу сделать?!» Затем с неожиданной злостью кричит: «Зачем ты хотел это видеть?.. Ведь я тебе говорил…»
В полусвете комнаты лицо Андрея выглядит усталым и постаревшим. Глаза его мутны и лишены выражения. Он избегает встречаться со мной взглядом и вялыми пальцами перебирает документы на столе.
«Андрей!» — громко окликаю я и поворачиваю абажур лампы так, что луч света ударяет ему в лицо. Майор Государственной Безопасности вздрагивает, поднимает голову и недоумённо смотрит на меня. Я пристально смотрю ему в глаза.
Чёрные глаза Андрея, не мигая, устремлены через стол. Зрачки не суживаются. Зрачки не реагируют на свет. Затем я в первый раз вижу, как в глазах Андрея мелькает страх.
«Ты знаешь, что такое реакция светом?» — по возможности мягко спрашиваю я.
«Знаю…» — отвечает Андрей и тихо опускает голову.
«Это значит, что ты уже дошёл до ручки, — говорю я. — Через пару лет от тебя останется только живой труп».
«И это знаю…» — ещё тише шепчет Андрей.
«Неужели у тебя нет другого пути, как морфий?» — спрашиваю я и кладу руку на плечо моего школьного товарища.
«Нет пути, Гриша… Нет», — шепчут тубы майора Государственной Безопасности.
«Знаешь, иногда меня преследуют… Как это в медицине называется — навязчивые представления, — голосом безо всякого выражения говорит Андрей. — Меня повсюду преследует запах крови… Не просто крови… Свежей крови… Этот ковер. Эти папки. Мои собственные руки… Потому я иногда и заезжаю к тебе так неожиданно. Я бегу от этого запаха».
«Успокойся, Андрюша», — говорю я и поднимаюсь на ноги. Я беру с вешалки фуражку и смотрю на часы: «Уже 6 часов утра. Поедем в город!»
Майор Государственной Безопасности подходит к металлическому шкафу, вделанному в стену, и вынимает оттуда гражданский костюм.
«У нас у всех обязательная гражданская форма, — поясняет он в ответ на мой молчаливый взгляд. — Теперь я этим костюмом тоже пользуюсь, чтобы забыть проклятый запах».
Перед тем, как покинуть кабинет, Андрей достает из ящика стола книгу и говорит, протягивая её мне: «Возьми почитай. Я таких книг не много встречал».
На полотняной обложке я вижу заглавие по-немецки «Lässt alle Hoffnungen fahren…»[18] и имя автора — Ирена Кордес.
«У меня мало времени для чтения, — говорю я, листая книгу и по беглому взгляду убеждаюсь, что речь идёт о СССР. — Я уже достаточно подобных глупостей читал. Тем более 1942 год издания».
«Поэтому я её тебе и даю, — произносит Андрей. — Это единственная немецкая книга о СССР, которую нужно прочитать каждому немцу. Для меня лично она имеет ещё свою особенную ценность. Эта женщина провела четыре года под следствием НКВД».
«Ведь это антисоветская книга. Как она к тебе попала?» — спрашиваю я.
«У нас есть специальная библиотека. Вся антисоветская литература, которая когда-либо издавалась на немецком языке», — звучит ответ Майора Государственной Безопасности. «Своего рода справочный материал для работников МВД», — поясняет он.
Позже я прочитал книгу, которую мне дал Андрей Ковтун. Автор, Ирена Кордес, вместе со своим мужем жила в Москве. Оба были арестованы в период «ежовщины» просто за то, что говорили на улице по-немецки. Этого было для НКВД достаточно, чтобы обвинить обоих немцев в шпионаже.
Затем следуют четыре года хождения по мукам, по следственным камерам зловещей памяти Лубянки, Бутырок и других тюрем Советского Союза. Четыре года, вполне оправдывающие заглавие книги, снятое с ворот Дантовского ада.
После подписания договора о дружбе с гитлеровской Германией, Ирена Кордес была освобождена и выслана в Германию. Её муж так и пропал без вести в стенах НКВД.
Характерно то, что книга была издана в 1942 году. Может быть, этим и объясняется ничтожный тираж книги. Истинное величие души человека показала маленькая немецкая женщина.
Проведя четыре года в таких условиях, в которых любой человек проклянет и режим, и страну и сам народ, вольно или невольно являющийся виновником советской системы, Ирена Кордес на всём протяжении книги не проронила ни одного слова упрёка или обвинения по адресу народа.
Я тщетно выискивал подобные места. В крови и муках рождается человек, в крови и муках люди познают друг друга. Проведя четыре года в аду вместе с десятками и сотнями русских людей, разделявших её судьбу, Ирена Кордес познала русский народ, как его знают немногие иностранцы.
Прочитав книгу, я согласился со словами майора Государственной Безопасности Андрея Ковтун: «Такой женщине руку поцеловать надо! Ведь за моим столом много немцев сидело. Может быть, у них была такая же душа, как у этой женщины…» В голосе майора слышалось колебание.
Первые лучи восходящего солнца золотили верхушки деревьев когда мы вышли с Андреем из дверей здания в глубине сада. В лицо пахнуло утренней свежестью. Здесь в лучах солнца просыпалась жизнь.
Там, за нашей спиной, между ночью и днем, жизнь билась в судорогах, исходила струйками крови, хрипела в предсмертных судорогах. Меня охватило непреодолимое желание ускорить шаги, уйти подальше от места, где человека преследует запах дымящейся крови.
Наш автомобиль выезжает на автостраду. Андрей молча сидит за рулем. В расплывчатом свете зарождающегося утра лицо его кажется серым и безжизненным. Он ведет машину судорожными рывками. Мотор ревёт и даёт перебои. Стальное сердце не имеет нервов и не может понять, почему дрожит нога на педали.
Когда автомобиль приближается к Ваннзее, Андрей отпускает педаль газа и, взглянув на часы, предлагает: «Тебе на работу к десяти. Давай заедем к озеру? Полежим часок на песке».
«Давай», — соглашаюсь я.
По широкому простору озера ходят мелкие волны. Обивая крылом капли воды, над волнами носятся чайки. Свежий ветер разгоняет свинцовую усталость бессонной ночи, освежает отяжелевшую голову. Мы раздеваемся и бросаемся в воду. Чем дальше удаляется от нас берег, тем больше охватывает меня чувство свободы, простора, необъяснимое чувство потребности плыть всё дальше и дальше. Я испытываю странное внутреннее облегчение. Как будто встречные волны смывают с нас кровь этой ночи.
Искупавшись, мы ложимся на песок. Андрей наблюдает редких утренних купальщиков. Я смотрю в небо, по которому бегут барашки облаков.
«Ну, что? Помог я тебе в твоем желании стать подлинным коммунистом?» — спрашивает Андрей деревянным голосом и пытается улыбнуться.
«Нового ты мне ничего не открыл», — отвечаю я и не узнаю свой собственный голос. Он мне кажется чужим и идущим откуда-то издалека. «Многие вещи при ближайшем рассмотрении неприятны», — добавляю я.
«Так ты что — оправдываешь все это?»
«Нужно стараться охватить не часть, а целое, — продолжаю я. — Не средство, а цель».
«Так!.. Цель оправдывает средства, — с горечью говорит Андрей. — Из тебя выйдет, пожалуй, лучший большевик, чем я».
«Я — питомец сталинской эпохи…» — отвечаю я.
«Так значит, по-твоему, все в порядке?»
«Я хотел бы этого…»
«Что тебе ещё не хватает?»
«Я боюсь, что у меня не хватает кругозора, — медленно говорю я. — Когда я решу проблему целесообразности или нецелесообразности конечной цели, тогда мне будет легко… В обоих случаях будет легко… Вот тебе мой последний ответ, Андрюша. А до того времени оставим разговоры на подобные темы».
Две девушки играют неподалёку, перебрасываясь мячом. Одна из них в пылу игры, как молодая козочка, с разбегу перескакивает через нас и шаловливо смеется. Андрей стряхивает с волосатой груди песчинки, делает попытку улыбнуться, но улыбка быстро исчезает с его лица, уступая место выражению безразличия и усталости.
«Посмотри! — произносит он, кивая головой на девушек. — В них бурлит жизнь. А мы уже неспособны радоваться. Старики мы…»
«Тебе нужно взять отпуск и отдохнуть», — говорю я.
«Это не поможет, — уныло вздыхает Андрей. — Мне нужно что-то другое».
«Тебе нужно или найти веру, которая оправдывала бы твою работу, или…»
Я не знаю, что говорить дальше.
«Мне поздно уже искать, Гриша, — качает головой Андрей и смотрит в песок. — Опалил я крылья… Теперь ползай…»
2
Маленькая Лиза была очаровательным ребенком. Когда она со старухой-гувернанткой выходила гулять на Гоголевский Бульвар, люди, отдыхающие с детьми на скамейках, говорили назидательно своим малышам: «Вот смотрите, какая хорошая девочка! Видите, как она себя хорошо ведёт». И, обращаясь к соседям по скамейке, завистливо качали головами: «Эх! Есть счастливые дети! Вырастет — человек будет…» Маленькая Лиза слышала эти слова, горделиво одёргивала бархатное платьице и подчеркнуто громко обращалась к гувернантке по-немецки. Люди удивленно шептали вслед: «Это, наверное, иностранцы…» Отец Лизы был одним из тех людей, которые умеют приспосабливаться к жизни. Он вовремя поступил в партию, умел говорить то, что надо и где надо, а ещё лучше умел держать язык за зубами.
Таким образом, он оказался в управлении одного из крупных торговых трестов Москвы. Достаточно высоко, чтобы использовать материальные возможности своего служебного положения, и достаточно низко, чтобы не подвергаться риску ответственности за судьбу предприятия.
Сыновей он предусмотрительно воспитал в духе своей карьеры. Зато дочерей сумел выдать замуж за людей, которые обеспечивали бы семье не только материальное благополучие, но и светский лоск. Лиза была младшей дочерью и любимицей отца. С раннего детства она привыкла к шумным выражениям восторга со стороны родственников и знакомых, к наивной детской зависти своих подруг-однолеток.
Так шли года. Опадали листья на Гоголевском Бульваре осенью, набухали сладким ароматом почки деревьев весной. Лиза окончила школу и стала взрослой девушкой.
Она трезво смотрела на жизнь. Когда подошёл её срок выбирать свой жизненный путь, она, посовещавшись с отцом, решила поступить в Московский Институт Иностранных Языков — МИЯ.
Это обеспечивало сравнительно лёгкую учёбу и по окончании возможность столь же лёгкой работы. Кроме того, МИЯ был известен тем, что часто он служит путём во многие заманчивые области — в Министерство Иностранных Дел, Министерство Внешней Торговли и другие места, о которых говорят шёпотом.
Среди московских девушек ходит много таинственных слухов о массивном жёлтом здании по Метростроевской Улице. Здесь доносятся шорохи далекой и загадочной заграницы, здесь сладко дурманят голову ароматы «Коти́», здесь на студенческих балах танцуют принцы девичьих грёз, одетые по последней заграничной моде. Двери МИЯ казались Лизе вратами в Terra incognita.
Благодаря хорошим знаниям немецкого языка, полученным в детстве от гувернантки, и связям отца Лиза без труда поступила в Институт. В первый же год учёбы она обратила внимание профессоров своим острым умом и прекрасными успехами.
Успехи в учёбе были для Лизы делом чести. В детстве она привыкла ко всеобщему восхищению и преклонению перед её длинными локонами, кружевными платьицами и дорогими игрушками.
С годами это чувство стало для нее болезненной потребностью. Теперь она старалась снискать восторги и зависть окружающих другими путями. Она во всём старалась перещеголять других студентов — в отметках, в манерах, в одежде.
И Лиза добилась своего. Профессора ставили её в пример прилежания. Подруги морщились от её эксцентричных выходок. Молодые люди провожали взглядом её стройную фигуру, удивляясь вызывающим манерам и туалету.
Так прошел первый год учёбы. Начался второй. По Метростроевской улице мёл холодный осенний ветер, когда однажды утром Лиза привычно взбежала по ступеням Института. В коридорах было холодно. Засунув руки в рукава пальто, Лиза торопливо шла к своей аудитории, надеясь до начала лекций поделиться новостями с подругами.
Не успела она подойти к кучке студентов, шумно толпившихся у дверей лекционного зала, как староста группы отозвал её в сторону.
«Лиза, тебя вызывают в Спецотдел, — произнёс он строгим шепотом. — Явиться немедленно!»
Институтский Спецотдел помещался в комнате рядом с кабинетом ректора Института. Никому из студентов не были известны функции Спецотдела. О них можно было только догадываться. Двери этой комнаты открывались редко. Люди оттуда не выходили, а выскальзывали, стараясь открывать двери поменьше, а закрывать потише.
Предварительно постучав, Лиза робко приоткрыла дверь в таинственную комнату. За столом сидела женщина с подчёркнуто самоуверенными манерами, какие бывают у женщин, исполняющих мужскую работу. По слухам Лиза знала, что это начальник Спецотдела.
Не вынимая изо рта папиросы, женщина извлекла из стоящего за её спиной железного шкафа папку, держа её так, чтобы Лиза не могла видеть содержимое.
Затем она метнула на Лизу испытывающий взгляд, сверяясь с фотографией в папке. Минуты тянулись бесконечно долго. Лиза тоскливо глядела на крыши домов за окном и думала: «Или арестуют, или выгонят из Института…» Наконец, женщина с манерами мужчины протянула через стол запечатанный конверт и сказала: «Сегодня вечером к 9 часам явитесь по этому адресу».
Лиза взглянула на конверт и буквы запрыгали у нее перед глазами. На конверте значилось:
«Лубянская площадь. Подъезд 8. Комната 207».
«В комендатуре скажите свою фамилию, — пояснила начальник Спецотдела. — Там Вас будут ждать».
В этот день Лиза была необычайно рассеянна. Она почти не слушала профессоров и не могла сосредоточиться на конспектах. В голове у неё неотступно колотились слова: «Лубянская площадь… Девять часов вечера…» Она осторожно открывала портфель и заглядывала внутрь. Серый конверт со зловещим адресом лежал на своём месте.
Ровно без пяти минут девять Лиза вошла в окованные бронзой створчатые двери Главного Управления НКВД на Лубянской площади. Дежурный лейтенант НКВД позвонил по телефону, затем вручил Лизе пропуск.
Теперь восьмой подъезд, клетки этажей, наконец, дверь с табличкой «207». С замирающим сердцем Лиза почти неслышно прикоснулась к двери костяшками пальцев.
«Вы так точны. Это хороший признак! — с приветливой улыбкой произнес молодой человек в гражданском костюме, открывая дверь. — Прошу Вас!»
Он вежливо указал рукой на мягкое кресло напротив письменного стола. Лиза машинально опустилась в кресло, поджав под себя ноги и не решаясь облокотиться. Срывающимся голосом она назвала свою фамилию.
«Очень приятно, очень приятно, — расплылся в улыбке незнакомец. — Разрешите предложить Вам папиросу?!»
Он протянул Лизе через стол коробку дорогих папирос. Лиза неслушающимися пальцами долго не могла справиться со станиолевой оболочкой. Наконец, она осторожно взяла папиросу, недоумевая, что этот радушный приём может означать.
«Может быть, Вы желаете чаю? Или кофе?» — осведомился любезный незнакомец. Лиза растерялась ещё больше. Не дожидаясь ответа девушки, гостеприимный хозяин нажал кнопку на столе и через минуту перед Лизой стоял никелированный поднос с кофе, печеньем и коробкой шоколадных конфет.
Чтобы как-то скрыть свою неуверенность и робость Лиза откусила кусочек печенья. Печенье показалось ей горьким и не хотело идти в горло.
«Как Вы думаете, зачем я Вас пригласил сюда?» — мягко произнес незнакомец, закурив папиросу и рассматривая Лизу со стороны.
«Не знаю…» — дрожащим голосом ответила Лиза и почувствовала, как у нее остановилось сердце.
«Мы уже давно интересуемся Вами, — начал человек в гражданском костюме, откидываясь поудобней в кресле и устремив взор поверх Лизиной головы. — Вы культурная и привлекательная девушка. Я бы даже сказал очень привлекательная».
Он сделал ударение на слове «привлекательная».
«Кроме того, Вы из хорошей советской семьи, — продолжал незнакомец. — Ваш отец — старый партиец. Вы тоже показали себя в Институте как активная комсомолка. У нас очень хорошие отзывы о Вас».
Человек по другую сторону стола сделал паузу и посмотрел на Лизу, проверяя действие своих слов. С лица Лизы медленно исчезало выражение тревоги, уступая место напряженному ожиданию.
«Мы не только наказываем врагов советской власти, — продолжал человек за столом. — Мы так же помогаем расти кадрам настоящих советских людей. Конечно, в том случае, если эти люди покажут себя достойными гражданами Советского Союза, преданными делу партии и товарища Сталина. По имеющимся о Вас отзывам мы считаем нашим долгом позаботиться также и о Вашей будущей судьбе».
Человек снова сделал паузу, ещё раз взглянул на Лизу, сидевшую не поднимая глаз, затем спросил: «Скажите, разве не правы мы, считая Вас преданным советским человеком и желая помочь Вам в Вашей жизненной карьере?»
«Я ещё слишком молода, — произнесла Лиза в замешательстве. — Пока я ещё не имела возможности…»
«О да! Я понимаю, — согласился человек по другую сторону стола. — Вы всегда желали доказать свою преданность делу партии, но у Вас не было возможностей. Не так ли?»
«Да… Я всегда старалась… — пролепетала Лиза запинаясь, — Я всегда посещала комсомольские собрания…»
«Я знаю. Комсомольская организация рекомендовала Вас с самой лучшей стороны, — успокаивающе кивнул головой человек за столом. — Как видите, я довольно детально ознакомился с Вашей личностью, прежде чем пригласить Вас сюда».
«И вот теперь мы считаем, что Вы достаточно сознательны, чтобы оправдать себя на деле, — продолжал он. — Вы учитесь в Институте Иностранных Языков. Вы знаете, что по окончании учёбы некоторые выпускники будут иметь возможность работать с иностранцами или даже получат командировку на работу заграницу. Это является высшей честью для выпускников. Не хотелось бы Вам быть в числе этих избранных людей?»
Голос человека по другую сторону стола звучал вкрадчиво и мягко.
«Конечно, товарищ! — с готовностью воскликнула Лиза и сейчас же осторожно добавила. — Если это будет в интересах партии и правительства».
Она почувствовала, что на сей раз вечерний визит в НКВД далёк от тех неприятных последствий, которые ей мерещились. Может быть, сейчас ей предоставляется один из тех шансов, о которых шепчут в коридорах Института. Лиза решила призвать на помощь все свои способности, чтобы не упустить маячащие на горизонте загадочные возможности.
«Называйте меня Константин Алексеевич, — дружеским тоном разрешил человек за столом и пододвинул Лизе коробку с шоколадом. — Я вижу, Вы умная девушка. Работа с иностранцами или заграницей?! Знаете Вы, что это значит?! Это значит лионские шелка, парижские духи, лучшие рестораны мира… Это особые ставки для работников заграничной службы… Это высшее общество. Блеск, лёгкая и красивая жизнь, наполненная удовольствиями… Это мужчины у Ваших ног…»
Константин Алексеевич перевел дух и бросил взгляд на Лизу. Лиза сидела неподвижно как в трансе. Глаза её блестели от волнения. Надкушенная конфета таяла между пальцами.
«Но всё это возможно только лишь при одном условии, — с лёгким вздохом сожаления произнес новый знакомый Лизы и растопырил пальцы по столу, как бы желая показать, что путь к красивой жизни лежит у него под рукой. — Это условие — наше абсолютное доверие. А это доверие каждому не даётся… Его нужно заслужить».
В последних словах Константина Алексеевича Лизе почудилось что-то безжалостное, холодное. На мгновение она снова ощутила лёгкую беспомощность и страх. В следующий момент заветные мечты о блестящей жизни, где все будут оглядываться ей вслед, рассеяли Лизины колебания.
«Что я должна делать?» — по-деловому спросила Лиза.
«О, различные поручения, которые дадут Вам возможность доказать Вашу преданность делу партии, — произнес Константин Алексеевич таким тоном, как будто речь шла о пустяках. — Это легче выполнить, чем объяснить».
Потом, как будто уже заручившись согласием девушки, он деловым тоном разъяснил: «Вы пройдёте дополнительный курс специального обучения. Для каждого отдельного задания Вам будет даваться соответствующий инструктаж… и соответствующие средства для необходимых расходов».
«Но, может быть я не буду соответствовать некоторым требованиям, — слабо попыталась возразить Лиза, не ожидавшая такого быстрого оборота дела. — Может быть, я просто не смогу?»
Инстинктивно она хотела испробовать путь к отступлению.
«Мы поможем Вам, — успокоил её Константин Алексеевич. — Кроме того, мы хорошо знакомы с Вашими возможностями по имеющимся у нас характеристикам. Теперь я попрошу Вас подписать эту бумагу!»
Он протянул через стол стандартный бланк с местом для подписи.
Лиза быстро пробежала бумагу глазами. Это была подписка о сотрудничестве и молчании, грозившая в случае нарушения «применением всех мер по охране государственной безопасности Союза ССР». Сияющие образы красивого будущего несколько померкли перед глазами Лизы. Константин Алексеевич предупредительно обмакнул ручку в чернила и протянул через стол. Лиза подписала.
Таким образом, исполнилась мечта о красивой жизни одной из студенток Московского Института Иностранных Языков. Таким образом, гранитное здание на Лубянке пополнилось ещё одним агентом-ловушкой. В скором времени Лиза, не прерывая учебы в Институте, стала образцовой сиреной НКВД.
Во время войны в Москве не было немцев-иностранцев в точном смысле этого слова. Поэтому Лизу ввели в круги тех немногих немцев-антифашистов, которые когда-то прибыли в СССР как политэмигранты и которые благополучно пережили бесконечные чистки. Вскоре эта работа показала себя бесцельной.
На свободе сохранились только лишь те немцы-коммунисты, которые сами являлись тайными агентами Лубянки. НКВД запустило Лизу в их среду в надежде лишний раз проверить благонадежность собственных сексотов. Но немцы, умудренные опытом, громко курили фимиам Сталину и хором повторяли модный в те годы лозунг: «Убей немца!» Лизу тошнило от такой преданности и от невозможности проявить свои способности.
Через некоторое время Константин Алексеевич, бывший прямым шефом Лизы, убедился в её исключительно остром уме и в сравнительно редком для женщины общеобразовательном кругозоре.
Лиза была подлинным мастером заводить и поддерживать разговор на любую тему. Её перевели для работы в среде крупных партийных работников. Лизе была предоставлена возможность посещать закрытые клубы различных Наркоматов и даже, считающийся особенно привилегированным, Клуб Наркоминдела на Кузнецком Мосту.
Результаты Лизиной работы хранятся в делах и тюрьмах НКВД. Доказательством успехов служит факт, что Лизу надолго закрепили на «внутреннем фронте». Работа с иностранцами, по классификации НКВД, считается довольно низко квалифицированной.
В случае иностранцев интересуются внешними деталями и фактическим материалом. В случае слежки за «бобрами», т. е. крупными советским партийцами, требуется узнать его сокровенные мысли и настроения. Эта работа значительно более сложная и требует от сирены подлинного искусства.
Весной 1945 года Лиза в числе лучших окончила Институт. В то время многих выпускников откомандировали для работы в Советскую Военную Администрацию в Германию. В этот поток попала и Лиза.
Опять-таки со специальным заданием. Она была прикреплена в качестве переводчицы, и одновременно соглядатая НКВД, к одному из членов Особого Комитета по Демонтажу при СНК СССР, находившемуся в Германии с целью изучения возможностей наиболее рационального использования экономических ресурсов Советской зоны.
После того, как генерал от демонтажа вернулся в Москву, Лизу передали в распоряжение Отдела Кадров Штаба СВА. На её личном деле стояла пометка:
«Назначение согласовать с Управлением Государственной Безопасности».
Через несколько дней Лиза стала личной переводчицей экономического диктатора Германии — генерала Шабалина.
Так мне пришлось познакомиться с Лизой Стениной лично. Вскоре майор Кузнецов сделал мне таинственное предостережение. Долгое время работая с генералом, он приобрел соответствующий опыт. Догадывался ли сам генерал, что за люди окружают его? Позже я убедился, что он имел основания не доверять всем и каждому. Вот несколько примеров.
Генеральский ординарец Николай в своё время служил в войсках НКВД. Согласно принятому в Советском Союзе обычаю, люди, однажды имевшие какие-либо отношения с НКВД, — не только бывшие сотрудники НКВД, но также и бывшие заключенные, — никогда не теряют связи с этим учреждением. Этот обычай был, конечно, знаком генералу. Николай, являясь денщиком, в то же время был сторожем своего господина.
Горничная генерала Дуся. Милая и тихая девушка. В конце 1945 года всех бывших девушек-репатрианток, до того работавших на различных низовых должностях, отправили на родину. Ко всеобщему удивлению, Дуся осталась.
Тогда люди предполагали, что это объяснялось протекцией генерала. Когда генерал вернулся в Москву, а Дуся всё же осталась в Карлсхорсте, люди думали что у Дуси есть какой-то другой протектор. Только немногие догадывались, что это за протектор.
Дуся была очень милой девушкой. И всегда меня поражала печать тихой грусти и тоски, никогда не оставлявшей свежего личика девушки. Она знала, какая участь постигла её подруг-репатрианток. Она знала, что в конце-концов её ожидаёт та же судьба. И вместе с тем, она была вынуждена служить инструментом в руках людей, которые завтра будут её тюремщиками.
Итак, денщик, горничная и личная переводчица генерала были шпиками МВД. Позже я имел возможность убедиться в этом из официальных источников. Мне кажется, что генерал был не настолько глуп, чтобы не замечать этого. Если и не замечал, то по опыту знал, что так должно быть. Для простоты он считал всех своих ближайших сотрудников за соглядатаев МВД. В том числе и меня.
После предупреждения Кузнецова я стал обращаться с Лизой осторожнее. Затем меня посвятили в лизину тайну её бывшие подруги по Институту, работавшие переводчицами в Главном Штабе. Помимо безудержного тщеславия, Лиза была бесконечно хвастлива. С такими предпосылками «доверие МВД» не могло остаться долгое время тайной. Позже я узнал подробности из других источников.
Однажды вечером Лиза зашла ко мне под каким-то предлогом. В Карлсхорсте было принято заходить к соседям без особых приглашений. Покрутившись по комнатам, Лиза бесцеремонно расположилась на кушетке и заявила: «Григорий Петрович, Вы плохой кавалер. И к тому же скряга».
В ответ на мой вопросительный взгляд, она поджала под себя ноги и указала: «Достаньте-ка вон из того ящика бутылку вина и будем чувствовать себя, как дома».
«Я и так чувствую себя, как дома», — заметил я.
«Не будьте таким противным, — промурлыкала Лиза. — Я скоро уезжаю. Хотя я Вас и терпеть не могу, но давайте простимся».
«У нас взаимная любовь, — вздохнул я. — А вместе с тем мне почему-то жалко, что ты уезжаешь».
Это было время, когда Лиза, после отъезда Шабалина, ожидала назначения на новую работу. Не имея на этот вечер определённых планов, я решил провести время в обществе Лизы.
«Так Вам всё-таки жалко расставаться со мной, — взглянула на меня Лиза своими тёмно-карими глазами. — Признайтесь!»
Если говорить о женских чарах Лизы, то самым привлекательным в ней является шлиф большого города, образованность и культура в сочетании с непревзойдённой вульгарностью. Такое сочетание невольно притягивает своей новизной.
«Ты интересуешь меня так же, как красивая шкурка змеи», — признался я.
«Почему Вы меня избегаете, Григорий Петрович? — спросила Лиза. — Ведь мы с Вами по всем данным должны лучше понимать друг друга, чем другие».
«Вот именно поэтому, Лиза», — сказал я и прикоснулся к её плечу.
Она подняла голову и посмотрела мне в глаза.
«Не сердись на меня, Лиза, — сказал я. — Хочешь, я тебе судьбу погадаю? Слушай! Твоим мужем будет пожилой генерал. Только это удовлетворит твои запросы к жизни. Ты достаточно трезво смотришь на вещи, чтобы согласиться с моим предсказанием».
Лиза посмотрела на меня слегка растерянно, соображая, как принять мои слова — в шутку или всерьёз. Затем она заговорила уверенно и с жаром, как будто защищаясь: «Хорошо… Откровенность за откровенность! Да, я выйду замуж за возможно высокого человека! Наверное, он будет уж не молод. Но, что такое, так называемая, чистая любовь по сравнению с тем, что мне может дать высокопоставленный муж?! Красивых мальчиков я подберу на улице и они будут делать то, что я захочу. Ха! Любовь?! Пусть другие бегают без чулок и играют в чистую любовь. Нужно иметь власть, пусть то будут деньги или высокое положение… Тогда, только тогда можно понять, как дёшево стоит любовь…»
«Дело вкуса!» — пожал я плечами.
«Это дело не вкуса, а разума, — возразила Лиза, сверкая глазами и дрожа от возбуждения. — Вы, Григорий Петрович, достаточно взрослый человек и должны понимать, что жизнь — это борьба. Это — сильные и слабые. Если хочешь жить, то нужно быть сильным. Если ты сам слаб, то служи сильным. Равенство, братство?! Ха! Где Вы это видели? Красивые сказки для дураков…»
«У тебя очень критический подход к жизни», — сказал я.
«Да, я хочу быть вверху, а не внизу, — продолжала Лиза как в забытье. — Жизнь можно понять, только взглянув на неё сверху… Для этого нужны крылья…»
«Лиза, сегодня ты мне нравишься, — сказал я почти искренне. — Иногда жизнь, действительно, тяжела. Иногда ищешь красивой сказки. Как ты говоришь — для дураков. Но… Помнишь сказку об Икаре? Это сказка для умных. Он тоже хотел иметь крылья… Знаешь, чем это кончилось?»
Лиза посмотрела на меня в недоумении.
«Что Вы хотите этим сказать, Григорий Петрович?» — спросила она нерешительно.
«Просто так… Ассоциация…» — ответил я.
В начале 1946 года Лиза была откомандирована переводчицей в состав советской делегации на Нюренбергский Процесс над главными виновниками войны. Пробыла она там около года.
В документальном фильме о Нюренбергском Процессе можно мельком уловить кадры, где она снята среди союзного технического персонала в зале суда. Конечно, и в Нюренберге Лиза попутно выполняла другую работу, свою основную работу. Кто были очередные жертвы кремлёвской сирены — наивные американцы, корректные англичане или галантные французы?!
Лиза интересна как яркий представитель нового типа советских людей. Этот тип воспитан эпохой и имеет все данные для успешного процветания в советских условиях. Выросши в среде, исключающей свободный дух и идею, сознание этих людей автоматически переключено на материальные стороны жизни.
Здесь движущим началом служит желание подняться на высшую ступень существующей социальной лестницы. Средства? Люди типа Лизы приучены не задумываться над моральной сущностью своих поступков. Советская мораль оправдывает всё, что служит интересам партии.
Невольно возникает сравнение между Андреем Ковтун и Лизой Стениной. Оба служат одному и тому же делу. Первый, в душе протестуя, но не имея возможности изменить что-либо.
Вторая — совершенно добровольно и сознательно. Андрей уже познал достаточно, чтобы понять, что он только беспомощный раб системы. Лиза ещё стремится вверх. Может быть, и её скоро станет преследовать запах крови.
Глава 12 Между двух миров
1
Когда-то ещё до войны мне довелось читать книгу Поля де Крюи «Стоит ли им жить?» Книга эта была настоящей находкой для Гослитиздата, она вполне соответствовала тогдашнему курсу Политбюро против «гнилых демократий» и поэтому была издана на русском языке огромным тиражом.
На обложке были изображены оборванные дети, похожие на живых скелетов, роющиеся на свалке в поисках съестного. Позади несчастных детей и мусорной кучи возвышались небоскребы Нью-Йорка. Достаточно было поглядеть на обложку, чтобы знать, о чём будет идти речь в книге.
Дальше следовало предисловие к русскому изданию за подписью Поля де Крюи. Оно было настолько своеобразно, что я зачитал его вслух одному из моих товарищей. Там было написано буквально следующее:
«Я не могу считать себя пролетарием, вернее всего я самый настоящий буржуа, изнеженный и избалованный всеми благами моего социального положения. Мне трудно, держа в одной руке крылышко куропатки, а в другой стакан бургундского вина, рассуждать о социальных язвах и наболевших проблемах современного общества. Но я всё же восхищаюсь великим советским экспериментом, поднимаю свой правый кулак (с куропаткой или с вином?) и говорю — „Рот фронт!“[19]»
На этом месте мой товарищ Семен не выдержал и с проклятьем шварканул книгу изо всей силы о стенку. Оба мы горько сожалели, что наивного Поля нет с нами в этой комнате. Может быть, кому и доставляет научный интерес смотреть на вспоротого подопытного кролика, но сам кролик вряд ли разделяет это удовольствие.
Конечно, Поль де Крюи ничего не лгал, он вполне правдиво и искренне описал недостатки современного американского общества. Он преследовал этим лучшие цели и его книга в американских условиях послужила стимулом для облегчения участи многих людей, возможно, она даже способствовала проведению некоторых социальных реформ.
В книге с искренним возмущением констатировались факты, что американские безработные, получая пособие по безработице, вынуждены жить в исключительно тяжёлых условиях, питаясь только лишь жареной картошкой да ужасно соленой свининой.
Дети этих безработных в порядке благотворительности получают ежедневно только лишь несколько литров обычного коровьего молока, хотя и пастеризованного, но не витаминизированного. После этого Поль де Крюи восклицает: «Стоит ли им жить?» Конечно, понятия хорошо и плохо — понятия относительные. Может быть, Поль де Крюи и прав, что такое положение — это очень плохо по сравнению с американскими условиями.
Советскому же человеку при этом хочется спросить: «А как же с теми советскими рабочими, которые работая до седьмого пота и получая жалованье, а не пособие по безработице, очень-очень редко могут позволить себе такое лакомство, как свинина, соленая или только просоленная?
Как же с детьми этих советских рабочих, которые, даже в лучшие годы советской власти, видят меньше молока, чем дети американских безработных? Что же тогда можно сказать об этих детях — стоило ли им рождаться!? Какому эксперименту радуется тогда мистер Поль и кому он приветственно поднимает свой правый кулак с кличем — „Рот фронт!“»?
Теперь мне снова приходит в голову эта книга, в особенности дети на её обложке и вопрос автора «Стоит ли им жить?» Ведь теперь мы имеем возможность своими глазами видеть детей демократического мира, причём в обстановке побежденной Германии, обстановке более тяжёлой, чем в большинстве других демократических стран. Теперь мы имеем возможность сравнения.
Однажды майор Дубов и я сидим у подъезда дома. У забора, в нескольких шагах от нас, копошится соседский мальчик Коля. На нём, несмотря на тёплую погоду, толстое ватное пальто. На голове у мальчугана взаправская офицерская фуражка с красной эмалевой звездой, переделка из отцовской.
Коля сосредоточенно ковыряет прутом грязь на земле. Ему и не скучно, и не весело — просто безразлично. Мать послала его на улицу поиграть, ну, вот он и играет. Комки земли летят от Колиного прутика во все стороны и падают у наших ног.
«Эй, клоп! — говорит майор Дубов. — Как тебя зовут?»
Коля не смотрит на нас и делает вид, что не слышит вопроса. Он продолжает свое занятие и ещё усерднее ковыряет землю.
«Иди-ка сюда, — продолжает Дубов. — Ты что — глухой?!»
«М-м-м…» — мычит в ответ Коля и недружелюбно косится на нас.
«Ты что — немой?» — настаивает майор.
«М-м-м…» — следует тот же неопределённый звук. Коля, как пугливый зверек, отворачивается в сторону и опускает глаза вниз.
«А что ты такой грязный? — не унимается майор. — Поди, скажи матери, чтобы она тебя умыла».
«М-м-м…» — реагирует Коля, на этот раз уже с некоторой враждебностью и хлещет прутиком по забору.
«Ну, если ты и глухой и немой и грязный — тогда убирайся подальше, не бросай в нас грязью», — заканчивает майор, исчерпав все попытки вступить в дружеские отношения с Колей.
Тут, до сей поры безмолвный, Коля разражается диким ревом и стремглав бежит жаловаться матери, что мы его обидели. Лакмусовая бумажка советского воспитания.
Коля не реагировал на дружелюбность, но подсознательно уловил даже невысказанную угрозу в словах майора, преломил её в чувство страха и это на него подействовало. Обратная реакция — жаловаться. Сегодня он жалуется матери, когда вырастет — будет хорошим информатором НКВД.
«Посмотришь вот на такое создание — и жалко становится и досадно», — смущённый такой развязкой, бормочет вполголоса майор, смотря вслед Коле.
Здесь в Германии нам болезненно колет глаза разница между детьми двух систем. Сначала мы замечаем только внешнее различие. Пожив в Берлине и больше понаблюдав, мы убеждаемся в другой, гораздо более глубокой разнице. Эта разница не внешняя, а внутренняя.
Советские дети кажутся маленькими бездушными автоматами, у которых выхолощена детская жизнерадостность, непринуждённость, своеобразное детское очарование, свойственное только ребёнку.
Это результат многолетнего разложения семьи государством, результат отрыва ребенка от семейной среды. Иногда мы пытаемся оправдать это тяжёлыми условиями последних военных лет. Но это слабая отговорка. Мы прибегаем к ней уж слишком часто, чтобы войти в компромисс с собственной совестью.
Советские дети подрастают в атмосфере замкнутости, недоверия, подозрительности. Вступить в разговор или дружеские отношения с ребёнком кого-либо из советских офицеров, который живёт рядом с нами и нас прекрасно знает, для нас гораздо трудней, чем с любым немецким карапузом на берлинских улицах.
Немецкие дети, родившиеся в эпоху Гитлера и растущие в годы после капитуляции, не могут быть эталоном образцового ребёнка.
Они родились в тоталитарном государстве, пережили кошмарные трудности тотальной войны в современном тылу, сегодня они вместе со своими родителями на каждом шагу чувствуют на себе все тяжести проигранной войны.
У нас нет другого сравнения перед глазами. Тем тяжелее наблюдать эту огромную внешнюю и внутреннюю разницу в детях двух систем. Ведь дети — это наше будущее!
Ребёнок и его воспитание в дошкольном возрасте — это почти исключительная функция матери. Советская мать не имеет времени для ребенка — она или на службе, или в вечных очередях в погоне за куском хлеба, за каждым пустяком, необходимым в жизни.
Характерная деталь — у немцев не принято держать тёщу в доме, это считается семейной катастрофой. Да и сами немецкие тёщи, выдав дочку замуж, считают, что им теперь ещё можно «пожить» — они взапуски катаются на велосипедах, ходят в кино и живут в свое удовольствие.
В советской семье, где есть ребёнок, явление как раз обратное. Тёща в доме — это счастье для матери и, в особенности, для ребёнка. Советские дети обычно подрастают на руках у бабушки.
Если у немецкой женщины после сорока лет и после выдачи дочки замуж часто начинается «вторая молодость», то русская женщина в сорок лет практически не имеет личной жизни и полностью посвящает себя «второй семье» — своим маленьким внучатам. В этих случаях можно ожидать нормального воспитания ребёнка.
Если говорить обобщённо: немецкая женщина принадлежит семье, американская — society[20], а советская — государству. Теперь спрашивается — что больше соответствует самой женщине и интересам общества в целом?
Результат можно лучше всего видеть по естественной биологической функции женщины — рождению и воспитанию потомства. Женщина атомного века остается такой же матерью и продолжателем рода, как и женщина-самка каменного века.
Советская женщина может быть водителем локомотива, шахтёром, каменщиком. Кроме того, ей даётся почетное право голосовать за Сталина и быть заложницей за своего мужа, если им интересуется НКВД.
Ей не дано только одно маленькое право — право быть счастливой матерью. Женщина уравнена в правах с мужчиной — и Ваня и Маня пекутся под одним и тем же сталинским солнцем.
В советской педагогической науке долгое время боролись две противоположные теории формирования ребёнка. Одна из них, теория наследственности, говорила, что в развитии душевных качеств ребенка основная роль принадлежит задаткам, данным ребёнку от родителей, так называемым наследственным генам.
Эта теория получила особое распространение в педагогике после появления теории Дарвина и оформления самостоятельной науки о наследственности видов — генетики.
Вторая теория, теория среды, утверждала, что душа ребёнка — это tabula rasa, чистая восковая дощечка, на которой окружающая среда пишет законы его развития. Это теория ставила психическое развитие ребенка в исключительную функцию влияния окружающей среды.
Обе теории не новы, они существовали в благополучном содружестве ещё во времена Песталоцци, натуралистическую теорию среды проповедовал Жан-Жак Руссо, о ней же упоминал Аристотель. Все великие мыслители были одновременно педагогами, нельзя мыслить о жизни, не думая об эмбрионах человеческого развития — детях.
Советская педагогика, по прямой указке Политбюро, решительно признала своей отправной базой теорию среды. Тоталитарное государство ревниво борется за душу и тело своего гражданина, оно не хочет признавать в области формирования гражданина никаких конкурентов, никаких наследственных ген.
Советская педагогика коротко, но ясно и безапелляционно, заявляет, что советский ребенок — это стопроцентный продукт коммунистической среды. В этом я вполне согласен с Политбюро. Это освобождает нас от крайне неприятных поисков причины колоссальной разницы советских детей и их немецких сверстников.
Мне, да и не только мне, а многим из нас — советским офицерам в Германии, чертовски больно и обидно делать неблагоприятные выводы о наших советских детях, мы их запросто считаем русскими детьми. Политбюро, устами Министерства Просвещения, избавляет нас от этих мрачных мыслей, само признавая, что советские дети — это продукт тоталитарного государства, а не русских ген.
Сделаем маленький экскурс в область сталинской «кузницы кадров».
В период искания новых форм в области педагогики Политбюро строило систему воспитания советского гражданина на тенденциозной программе школ и на политических организациях молодёжи — пионеротрядах и Комсомоле. Уже здесь начиналось служение государству.
Духовным героем советских детей был сделан пионер Павлик Морозов. Его подвиг заключался в том, что он донёс на своего отца в НКВД, где отец был расстрелян. Когда Павлика убили его же собственные братья, то верного слугу государства причислили к лику советских мучеников, поставили ему памятник в полной пионерской форме. Другим детям усиленно предлагалось следовать его примеру.
Идут годы. Советское государство всё больше сужает разницу между своей формой и содержанием. После многолетних экспериментов по орфографии самого Политбюро от «методов убеждения» диалектически переходят к более стабильным «методам принуждения».
В 1940 году создаётся Комитет по Делам Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР, организуются Фабрично-заводские и Ремесленные Училища. Набор в эти Училища производится с 14-летнего возраста в принудительном порядке, в виде мобилизации трудовых резервов.
В 1943 году очередным Указом создаются Суворовские и Нахимовские Военные Училища. Задача этих Военных Училищ, — а количество их около сорока, — с восьмилетнего возраста на казарменном положении подготовлять детей для военной карьеры.
Однажды мне пришлось побывать в Калининском Суворовском Военном Училище. Это училище ближайшее к Москве и поэтому самое привилегированное. Характерно, что в Москве Суворовских Училищ нет. В Калининском Суворовском Училище я имел счастье познакомится почти со всеми внучатами дедушек из Политбюро.
Петька Орджоникидзе сидел на кровати без штанов, так как его форменные брюки с широкими красными лампасами находились в ремонте, а штаны по регламенту полагаются только одни и в этом вопросе не помогает даже слава знаменитого дедушки.
Капитан-воспитатель жаловался на щекотливое положение с младшим отпрыском Микояна — снабжает всё училище контрабандными папиросами, а посадить его в карцер неудобно, дедушка его ещё не умер и пока прочно сидит в Политбюро.
Пострелята с удовольствием отбивали строевой шаг и козыряли на каждом шагу. Некоторые из двенадцати-тринадцатилетних учеников носили на груди военные медали, они проявили себя в военных действиях среди партизан.
Вблизи всё это выглядит не так страшно — Суворовские Училища считаются привилегированными учебными заведениями, там одевают и кормят за счёт государства, кандидатов избыток и попасть туда обычному ребёнку не так просто. В Калининском Суворовском Училище около половины воспитанников были отпрысками генералов и советской аристократии.
Детям пролетариев трудно попасть в Суворовские Училища, их удел — быть такими же пролетариями, как и их родители, для них есть Ремесленные Училища.
В свою очередь суворовцы не имеют права по окончании Суворовского Училища поступить куда-либо кроме как в Офицерскую Школу. Судьба и карьера ребёнка решается с восьмилетнего возраста.
Бесклассовое общество ещё с колыбели начинает разделяться на строго замкнутые касты — привилегированная каста воинов и каста пролетариев, задача которых производительно работать, в меру плодиться и молча умирать во славу Вождя.
Тоталитарное государство пришло к своим законченным формам. Теперь едва ли можно ожидать отказа от этих двух основных советских институтов — кузницы кадровых солдат и профессиональных рабов. Корни пущены глубоко, в одном случае с 14-летнего возраста, в другом случае — с 8-летнего. Это политика дальнего прицела… Это не этап, а конечная станция.
Один попутный штрих. В немецких газетах западных секторов Берлина пишется о таинственном и бесследном исчезновении сотен немецких детей, указывается, что эти дети «уведены» советскими властями. Немцы ломают себе голову — для чего?
В своем романе «Человек, который смеется» Виктор Гюго описал банду средневековых бродячих циркачей — компричикосов, которые занимались кражей детей и затем приучали их к своему ремеслу.
Этим детям средневековые хирурги делали специальные пластические операции лица, которые превращали детей в уродов и навсегда приковывали их к презренной профессии паяцев на подмостках.
Сегодня кремлевские компричикосы сотнями воруют детей в Германии и Греции. Этим детям путём долгих лет коммунистического воспитания в специальных детских интернатах Советского Союза делается соответствующая пластическая операция души.
Когда придёт время, птенчики из кремлёвского инкубатора будут играть свою презренную роль политических паяцев на мировой арене.
В 1937 году, когда провалилась советская авантюра в Испании, тысячи испанских детей были привезены в СССР. Генерал Франко, наверное, забыл о них, но это самое сильное оружие Кремля в будущем решении испанской проблемы.
Когда пробьёт час и когда Кремль протянет «руку освобождения» к Пиренейскому полуострову, сотни и тысячи прекрасно выдрессированных квислингов с испанскими именами и говорящие на чистейшем испанском языке займут все ключевые позиции в стране.
Эта политика уже оправдала себя в большинстве стран Восточной Европы, находящихся сегодня в сфере советского влияния. Теперь паяцы сторицей выплачивают Кремлю капитал, который был вложен в это предприятие. Немного неудобно, что премьеры Новых Демократий имеют в карманах советские паспорта и советское подданство. Но это не беда. Скоро народы этих стран единодушно попросят присоединить их в великую семью народов СССР и тогда премьерам не потребуется ещё раз менять паспорта.
Недавно в кабинете Начальника Политуправления Штаба СВА было созвано экстренное совещание по вопросу улучшения педагогической работы в русских школах Карлсхорста. Поводом этому послужили некоторые нездоровые явления среди школьников старших классов. Это наделало много шума за шлагбаумами берлинского Кремля, хотя подробности и держались в строжайшей тайне.
Месяц тому назад один из учеников 9-го класса застрелил в квартире своего отца и его молодую сожительницу. Отец — член партии, подполковник юстиции и работник Правового Отдела Штаба СВА. Привычки военного времени видимо пришлись по вкусу партийному пастуху от юстиции. Его не смущало то обстоятельство, что всё происходило на глазах взрослого сына и дочери, мать которых осталась в России.
Семнадцатилетний сын, член Комсомола, после безрезультатных разговоров, просьб и споров с отцом, решил обратиться за помощью в Парторганизацию.
Он подал официальный рапорт на имя Начальника Политуправления Штаба СВА, начальство его отца по партийной линии. Когда обвиняют партийца в бытовом или уголовном преступлении, то парторганы обычно руководствуются принципом: «Сор из избы не выметать».
Политуправление Штаба СВА постаралось замять дело и ограничилось тем, что передало рапорт… отцу. Последствия были, как и следовало ожидать.
Взбешённый отец, совместно с сожительницей, предприняли активные меры против взбунтовавшегося сына. Кончилось тем, что сын выхватил служебный револьвер отца и уложил наповал обоих.
Не успел ещё стихнуть шум, поднятый трагическим убийством, как комендант Карлсхорста полковник Максимов отправил целую роту солдат комендантской охраны в полном вооружении на несколько необычайное боевое задание.
В поросших лесом пустошах и песчаных дюнах вокруг Карлсхорста, — как указывалось в плане боевой операции: квадрат Kahtarinen-Spital, ипподром Карлсхорст и южная оконечность Кепеник, — орудовала таинственная шайка разбойников, наводившая панику на окрестности.
Солдатам был дан строжайший приказ не стрелять без особого распоряжения командующего экспедицией, а постараться выловить разбойников живьём. Ведь лесные пираты были школьниками старших классов школы Карлсхорста во главе с сыном одного из генералов Штаба СВА. Вооружены были разбойники довольно солидно — отцовскими пистолетами, некоторые даже автоматами.
Подозрительную местность прочесали по всем правилам военного искусства, штаб-квартиру разбойников нашли в подвале разрушенного дома и устроили форменную осаду. Только после длительных переговоров через посредство парламентеров, где на помощь были призваны смущённые родители и учителя, атаман разбойников согласился на капитуляцию.
Характерно, что первым условием со стороны потомков Робин Гуда было требование гарантии, что их в наказание не отправят домой в Советский Союз. Командующему Экспедицией пришлось посылать связного в Штаб СВА с затребованием соответствующих инструкций. Это было очень характерное условие капитуляции, порядком взволновавшее Политуправление СВА.
Успеваемость в старших классах школы Карлсхорста понизилась по сравнению с учёбой в СССР, зато прогулы пропорционально повысились. Улучшились только отметки по немецкому языку, чему дирекция школы не особенно радовалась. Это было доказательством контакта с немецкой средой и могло иметь неприятные последствия для дирекции.
Комендантские патрули вылавливают школьников Карлсхорста из темноты берлинских кинотеатров, куда они предпочитают ходить в учебное время. Немецкие кинофильмы их интересуют больше, чем история Парижской коммуны и уроки по изучению Сталинской Конституции.
Обыск, произведенный в партах школьников старших классов, обнаружил переписанные от руки листки с запрещёнными стихами Сергея Есенина и аморальные куплеты Константина Симонова, ходившие по рукам солдат во время войны. «Нажимай на все педали — спишет все вой-на-аа!.». Видно война не списала, а ещё пишет свой послевоенный счёт молодёжи.
В довершение всего госпиталь СВА доложил Начальнику Штаба о нескольких зарегистрированных случаях венерических заболеваний среди школьников старших классов.
В госпиталь была доставлена шестнадцатилетняя школьница с тяжёлым кровотечением в результате неудачного аборта. Несколько месяцев в госпитале боролась между жизнью и смертью другая школьница, почти ребёнок, после безуспешной попытки отравления светильным газом на почве неудачной любви.
Всё это вместе взятое привело к созыву чрезвычайного совещания в кабинете Начальника Политуправления, где было решено принять радикальные меры по улучшению коммунистического воспитания советской молодёжи в Германии.
Самым действенным было признано испытанное лекарство ото всех болезней — ввести в школах дополнительные часы по изучению «Краткого Курса Истории ВКП(б)» и специальные часы по детальному ознакомлению школьников с детскими и юношескими годами вождей мирового пролетариата — Ленина и его верного друга, соратника и ученика Иосифа Виссарионовича Сталина.
Попутно было принято решение о возможности отправки неисправимых грешников в Советский Союз. До сего времени это наказание распространялось только на взрослую часть населения Карлсхорста.
Хотя кинотеатр «Капитоль» теперь закрыт для немецкой публики и там показываются только сугубо идеологически выдержанные советские фильмы, хотя трамвайную остановку и перенесли подальше от Карлсхорста, всё равно — яд послевоенной Германии просачивается сквозь заборы и шлагбаумы берлинского Кремля.
Всё это пахнет атмосферой «Дневника Кости Рябцева» и «Собачьим переулком», наделавшими много шума в педагогических кругах в 20-х годах. Тогда молодёжь находилась в духовном тупике или на идеологическом распутье, когда старые идеалы были втоптаны в грязь, а новые ещё не были созданы. Чем это можно объяснить теперь?
«Молодёжь — это барометр нашей Партии», — сказал в свое время Троцкий. Он сказал это по отношению к Комсомолу, но его слова имеют более широкое значение. Молодёжь — это барометр народа. Стрелка барометра после войны пошатнулась. На что она показывает?!
2
«Ну, как — понравилось?»
«Да. Своеобразная вещь!»
«Спора нет — действительно шедевр…»
В темноте сплошной человеческий поток несёт нас через задний выход из зала кинотеатра Офицерского Клуба в Карлсхорсте. Невидимые люди на ходу обмениваются мнениями о картине.
Сегодня Надя, секретарь Парторга Управления Промышленности поразила всех своей вежливостью. Она обошла поочерёдно все комнаты и раздала каждому билеты в кино. Даже любезно спрашивала, кто сколько билетов желает. Обычно билеты в кинотеатр достать не так просто. Когда у кого-либо появлялось желание пойти в кино, то приходилось заранее звонить Наде по телефону с просьбой заказать билеты.
«А, Наденька, солнышко ясное! Что там сегодня за картина?» — спросил я, тронутый таким необычным вниманием.
«Очень хорошая картина, Григорий Петрович. „Клятва“! Вам сколько билетов?»
«А-а! „Клятва“?! — произнёс я с уважением. — Тогда давай два».
Об этой картине много писали в советских газетах, превознесли её до небес как новый шедевр подлинного киноискусства. Хотя я и отношусь критически ко всяким шедеврам, но пойти всё-таки решил. Вокруг картины создавалась такая назойливая слава, что не посмотреть её было бы просто опасно.
После пяти минут пребывания в зале, мы с капитаном Багдасарьяном не столько смотрели на экран, как на часы. Уйти из зала было бы самоубийством, а смотреть…
«Пойдём, выйдем — вроде в уборную», — шепчет Багдасарьян.
«Сиди лучше, смотри ради научного интереса», — успокаиваю я его.
Если в довоенных советских фильмах наряду с Лениным усиленно выпячивалась фигура Сталина, то в «Клятве» Ленин служит только декорацией. Крестьяне, узнав о тяжёлой болезни Ленина, приходят из далеких деревень в Горки.
Оказывается, они пришли в Горки специально затем, чтобы со слезами на глазах умолять Сталина быть ихним Вождем. На целом километре плёнки они клянутся ему в верности.
Я тоже клянусь. Клянусь, что ещё никогда в жизни, даже в довоенные годы, не видел такой глупой, грубой и нахальной стряпни. Сам фильм и вся шумиха вокруг него не случайны. Недаром уже несколько месяцев в нашем клубе перестали показывать заграничные фильмы.
«Знаешь, что всё это значит? — говорит капитан Багдасарьян, когда мы идем домой. — Это значит — цурюкк! „Клятва“ — это же не искусство, — продолжает он. — За границей такую вещь покажи, так люди подумают, что все русские действительно дурачки».
«У них тоже дрянных картин хватает», — пытаюсь я успокоить расходившегося приятеля.
Те немногие заграничные фильмы, которые показывались в СССР, были действительно шедеврами мирового киноискусства. Конечно, показ этих фильмов был только кратковременной уступкой каким-то высшим интересам и всегда соответствовал зигзагам советской внешней политики.
Благодаря этому у советских людей создалось преувеличенно восторженное мнение о заграничном киноискусстве. Попав в Берлин, мы имеем богатую возможность досыта насмотреться кинопродукцией всех держав.
Нередко мы до слез смеёмся после просмотра душераздирающего американского боевика, где больше выстрелов, чем разговоров, где кровь течёт рекой с экрана прямо в зал, и где невозможно понять кто, кого и за что, собственно, убивает. Характерно, что эти фильмы не доставляли удовольствия даже простым русским солдатам, если уж позволить себе говорить о вкусах «плебса».
Недалеко от Карлсхорста, в Кепенике, находится кинофабрика «Кодак». Как-то некоторые сотрудники СВА, находящиеся в деловом контакте с этой фабрикой, пронюхали, что там есть зал для закрытого просмотра кинокартин и богатые возможности пользоваться архивами всей европейской кинопромышленности.
Они отнеслись к своему открытию с подобающей осторожностью и ревниво хранили заманчивую тайну, втихомолку наслаждаясь созерцанием запретного мира за все тридцать лет назад. Но в мире нет ничего абсолютного, в том числе и абсолютных тайн. Под страшным секретом с торжественной клятвой молчать до гроба тайна «Кодака» ползла по Карлсхорсту.
Вскоре закрытые просмотры у «Кодака» стали неофициальным клубом для многих сотрудников СВА. Там можно было увидеть все документальные и художественные фильмы, которые после капитуляции были запрещены для демонстрации даже немецкому зрителю. Там мы громко «возмущались» при демонстрации европейских фильмов антисоветского содержания, показ которых мы сами же заказали дирекции «Кодака» с целью «технического просмотра».
Фильмы эти по существу были безобидны, в некоторой мере наивны. Но они в какой-то мере отражали взгляд Европы на Советскую Россию. Нас интересовало смотреть на своё собственное изображение глазами окружающего мира. В этом было своеобразное удовольствие. Кроме того, было приятно ощущение свободы, сознание, что мы смотрим «запрещённую» вещь.
Как это ни странно, но немецкие кинофильмы нравятся русским больше, чем какие другие. Если сравнить музыку, литературу, кино искусство, — эти духовные проявления жизни нации, — то немецкая душа более понятна русским, чем всё остальное. Здесь чувствуется та же сентиментальность, лёгкая грусть, поиски глубинных причин явлений. Недаром Достоевский пользуется в Германии большим успехом, чем среди русских, а «Фауст» был и остается коронным номером на русской сцене.
Часто приходится слышать, как русские оживлённо дискутируют о немецком кино и театре. Бросается в глаза необычайный для советского человека интерес к деталям, фактам, самим артистам. Здесь есть, о чём спорить. О «Клятве» спорить не приходится.
«У них искусство пассивное, а у нас — активное. У них искусство показывает, а у нас — приказывает, — говорит капитан Багдасарьян. — Ты „Суд Народов“ видел?»
«Да».
«Ну, как?»
«Сильная вещь».
«Я её недавно смотрел в американском секторе. Они дали совершенно другой монтаж под названием „Нюрнберг“. Та же самая тема, а никакого впечатления».
В своё время мы видели в нашем Офицерском Клубе документальный фильм по материалам Нюрнбергского Процесса. Фильм был смонтирован исключительно искусно. Кадры из боевой кинохроники переплетались со сценами из зала Суда, в темноте звучала зловещая текстовка в чтении Хмары.
Когда мы сидели в кинозале, у нас сжимались кулаки, когда мы вышли из кинотеатра, то хотелось взять в руки автомат и косить всех немцев подряд. Таково было колоссальное впечатление от фильма. Этот же материал в американском монтаже «Нюрнберг» был абсолютно безобиден, это была только холодная хроника.
Мы пришли на квартиру Багдасарьяна. Под впечатлением только что просмотренного фильма у нас завязывается разговор на тему о пропаганде с помощью средств искусства.
«Американцам ещё сто лет учиться надо, как из чёрного белое делать», — лениво потягивается капитан, снимая китель.
«Припечёт, так тоже научатся», — говорю я.
«За один день тут ничего не сделаешь. Массы нужно воспитывать годами».
«А чего ты, собственно, за американцев болеешь?» — спрашиваю я.
«Да просто так — с точки зрения абсолютной справедливости».
«Кого она интересует — эта справедливость? Прав тот, кто силён. А справедливость — это сказки для простачков».
«Ставлю Вам пятерку по диамату», — иронически замечает капитан.
«Англичане снова подготовляют „Анну Каренину“, — говорит он, показывая на один из журналов. — Её уже наверное десятый раз заграницей кинофицируют. А наши эту вещь ещё ни разу на экран не поставили. Очередь не дошла. То Петра Великого изнасилуют, то Ивана Грозного в голубку перекрасят».
«Что ты хочешь? Государственные интересы…» — пытаюсь возразить я.
Перед войной советская кинематография подняла подозрительную возню вокруг кинофикации исторических личностей русского прошлого. Сначала к удивлению зрителей Петр I предстал на экране не тираном и «эксплуататором», а великим государственным деятелем. Затем ещё больше шума, кончившегося прямым скандалом, наделала постановка «Ивана Грозного».
Даже для привыкших к фальсификации советских сценаристов и режиссеров заказ Политбюро оказался не под силу. Первый вариант подвергся резкой критике и был снят с экрана. Это было ещё не так удивительно, такая судьба постигла уже не первый фильм. Удивительно было то, что приказали фильм переделать заново.
Такая же история произошла с постановкой «Ивана Грозного» на сцене Московского Малого Театра. После первого спектакля весь руководящий персонал был разогнан, подвергся репрессиям и… был снова дан приказ — переделать заново.
Загадка нашла свое объяснение, когда на закрытых собраниях партактива лекторы ЦК ВКП(б) безо всякого смущения объявили: в иностранной печати часто проводятся исторические параллели между днями царствования Ивана Грозного и эпохой сталинской России.
Теперь всё понятно — поскольку нельзя изменить настоящее, то нужно постараться фальсифицировать прошлое. Надо ещё заметить, что ни в какой «иностранной печати» эти параллели не проводились. Они сами созрели в воспалённом мозгу Политбюро.
Двадцать пять лет советские учебники истории или вообще молчали о Грозном или упоминали его царствование, как пример самого зверского и кровавого абсолютизма. Теперь тень Ивана Грозного не давала Сталину покоя.
«Глянь, как звали любимую жену Грозного?» — спрашивает Багдасарьян.
«Не помню, — отвечаю я. — Знаю, что седьмая по счёту».
«Раз, один солдат божился, что Сталин своими руками удушил Алилуеву. Говорит, что она была против его политики коллективизации. А недавно я слыхал, что он такую же штуку проделал со своим сыном Яшкой. Тот ведь был в плену у немцев, а потом вернулся домой».
«Вот видишь — тут и нужен фильм „Иван Грозный“, — говорю я. — Посмотришь — и сразу тебе станет ясно, что все это необходимо для блага народа. Иван Грозный тоже жён душил и сына убил ради государственных интересов».
«Хорошо было во время войны, — вздыхает капитан. — Помнишь, какие американцы для нас картины делали?»
«Да, хорошие картины. Забавно только, до чего они жизни нашей не знают. В „Полярной Звезде“ у колхозника в избе стол так накрыли, как сейчас Соколовский не кушает».
«А на полянке хороводы ведут — как в доброе старое время», — усмехается Багдасарьян.
С 1943 года в СССР показывались фильмы американского производства на русские темы. Нам особенно запомнился фильм «Полярная Звезда». Несмотря на массу наивности и незнания советской действительности, там сквозила искренняя симпатия к русским.
Часто приходилось слышать, как русские зрители после этого фильма говорили «Молодцы американцы!», хотя на экране были показаны только русские. В своем положительном изображении зрители чувствовали симпатии американского народа.
«Там какие-то консультанты были с русскими фамилиями, — говорю я. — Они России, наверное, тридцать лет не видали, если не больше. Понасадили развесистой клюквы. А „Миссия в Москву“? Х-а!»
«Комедия! Помнишь, как Карл Радек заходит в кабачок, а там семерки из „Яра“, самовары, сам он в пушкинской накидке. А самое главное — никакого вывода».
«Механика у них хороша, а идеологии никакой, — констатирую я. — Они, наверное, вообще не знают, что это за штука»
«Сталин их кроет почём зря, а они только глазами лупают, — размышляет Багдасарьян. — Не знают, что делать. Теперь же начинают Ивана ругать — он и рябой, он и косой, и зубы у него кривые. Дурачки! Ведь последние тридцать лет истории России — это белое пятно, это неисчерпаемый колодец. Обработай всё это как надо. Ведь Сталина можно в один миг догола раздеть — так показать, что весь мир только плюнет. Да и мы б не возражали. А когда они Ивана, начинают ругать…»
Капитан многозначительно хмыкает. Ему досадно, что американцы не могут додуматься до такой простой вещи.
Нас поражает, насколько окружающий мир, действительно, не знаком с истинным положением вещей в советской России. Тридцатилетняя ложь государственной машины и герметическая изоляция свободной информации сделали своё дело. Миру, как маленькому ребенку, твердят об исторической обречённости капиталистической системы.
В этом вопросе советские люди не занимают твердой позиции. История движется вперед, и требует новых форм. Но историческая обусловленность коммунизма, фраза что «все пути ведут к коммунизму», — это параметр в уравнении со многими неизвестными и отрицательными величинами. Причём для нас, для советских людей, это уравнение уже приняло иррациональную форму.
Нас соединяет не внутреннее единство государственной идеи, а внешние формы материальной зависимости, личной заинтересованности или карьеры. Надо всем этим господствует страх. Для одних это непосредственный физически-ощутимый предмет, для других — только неотвратимое последствие, если они будут действовать или даже мыслить в ином направлении, чем этого требует тоталитарная машина.
Если какой-нибудь немец подойдет к советскому солдату и попробует ему сказать «Иван — шлехт», солдат без разговоров даст ему в зубы. Если этот же немец будет ругать последними словами Сталина, советскую власть и коммунистов, то солдат наверняка отдаст ему свои последние папиросы. Это автоматическая реакция. Таким же образом будет реагировать русский солдат и в другом случае, более серьёзном случае…
Позже, уже находясь на Западе, мне довелось посмотреть американский фильм «Железный Занавес» на тему о провале советского атомного шпионажа в Канаде. До этого я читал массу критики о «Железном Занавесе», яростные нападки коммунистической прессы. Меня интересовало, в каком же виде обработали американцы эту благодатную тему. После просмотра у меня осталось два впечатления.
С одной стороны чувство удовлетворения — типажи были подобраны исключительно удачно, жизнь советских официальных представителей заграницей и роль местной компартии были показаны совершенно правильно. Я ещё раз переживал в душе мои годы в берлинском Кремле. Это была абсолютно беспристрастная, даже вежливая картина. Против такого показа не возразит никто из русских.
Не удивительно, что заграничные компартии подняли вой по поводу «Железного Занавеса», — ведь самая грязная роль в этой игре принадлежит им. То, что для персонала военного атташе — служебное поручение, для коммунистических наймитов — это измена своей родине.
С другой стороны, у меня осталось необъяснимое ощущение лёгкой досады. Не сумели всё-таки американцы использовать все возможности. Это было то же, что в свое время ощущал капитан Багдасарьян.
Советские люди привыкли к политической заостренности фильма, где зрителю предлагается сделать соответствующий вывод. Сценарий «Железного Занавеса» был явно слаб.
Я уверен, что капитан Багдасарьян, переодевшись в гражданское, с большой опасностью пробрался в какой-нибудь из блокированных секторов западного Берлина, чтобы посмотреть «Железный Занавес». Просто «ради спорта». Я уверен, что он не мог отказать себе в этом удовольствии. Вернувшись из рискованной экспедиции домой в Карлсхорст, он, конечно, опять ругал наивных американцев, которые не могут сделать правильного антисоветского фильма.
3
Находясь здесь, в Берлине, мы, советские люди заграницей, имеем возможность сравнения двух миров. При этом иногда бывает интересно сопоставить впечатления действительной жизни с теми фикциями, которые советское государство создаёт и поддерживает вокруг себя. Непосредственными творцами этих фикций являются работники пера, по советской терминологии — «инженеры человеческих душ».
Нас больше всего, конечно, интересуют писатели, занимающиеся в той или иной мере проблемами советской России. Их можно подразделить на три основных категории: советские писатели — рабы «социалистического заказа», иностранные писатели, отвернувшиеся от сталинизма, и, наконец, те проблематичные существа среди иностранной интеллигенции, которые и по сей день пытаются искать жемчужное зерно в навозной куче.
Рассмотрим их глазами советского человека.
Однажды я нашел на столе у Белявского пеструю книжку на французском языке. Увидев на обложке фамилию автора — Илья Эренбург, я немало удивился.
«Ты что — разве не читал это на русском языке?» — спросил я.
«Пока что эта книжка на русском языке не издавалась».
«Как так?!»
«Очень просто».
Советское литературоведение утверждает, что в современной литературе лучшими представителями жанра журналистики являются Эгон Эрвин Киш, Михаил Кольцов и Илья Эренбург. Спору нет — все они талантливые писатели. Литературная карьера Михаила Кольцова в 1937 году оборвалась благодаря вмешательству НКВД.
Говорят, что сейчас он пишет свои мемуары в СТОНе. Так называется Сибирская Тюрьма Особого Назначения, Алексеевский равелин сталинской эпохи, где люди погребены заживо без права сношения с внешним миром.
Илью Эренбурга долгое время классифицировали как «попутчика». Имея в кармане советский паспорт, он благоразумно предпочитал жить заграницей на почтительном расстоянии от Кремля. Климат Западной Европы казался ему безопасней для здоровья. Это позволяло ему некоторую независимость.
Книги его в советских издательствах появлялись с большим отбором и только после тщательной редакционной обработки. Неудивительно, что я встретил на французском языке его книгу, неизвестную в Советском Союзе.
Свою литературную окраску Илья Эренбург менял соответственно политической погоде, но только лишь гитлеровское вторжение во Францию загнало его, в конце концов, на долгожданную родину.
Илья Эренбург, прежде всего, космополит. Многие рассматривают его как коммуниста. Он с большой тонкостью и умом критикует все недостатки Европы и капиталистического мира. Но для этого не нужно быть коммунистом. Современный мир действительно не является идеалом и многие писатели показывают его недостатки, вовсе не будучи коммунистами.
Писатель, даже самый талантливый, в какой-то мере является ремесленником — он продаёт свой товар и должен думать о рынке сбыта. Илья Эренбург стоял перед дилеммой. Обличать Сталина и коммунизм было для него, во-первых, не безопасно, даже живя в Европе, а, во-вторых, не рентабельно.
Если же накинуться на противную сторону, то это не страшно под сенью демократических законов, и, кроме того, гарантирует обширный рынок сбыта, как в СССР, так и в окружающем мире.
Трансакция рублей в иностранную валюту гораздо выгоднее, чем наоборот. А убеждения? Убеждениями сыт не будешь! Эренбург пошел на гешефт с собственной совестью, оставив для себя открытой заднюю дверь — в его писаниях редко можно встретить слово «коммунизм» и прямое утверждение этого предмета. Эренбург вскоре стал коммивояжёром от литературы, специалистом по взлому общественного мнения.
Предусмотрительность Эренбурга пришлась ему очень кстати, когда в 1940 году блудный сын вынужден был вернуться в родное лоно. Хотя его и не считали совсем «своим», но и против него не было каких-либо улик.
Прочистив горло после остервенелой площадной ругани по адресу фашистских захватчиков, Илья Эренбург садится за пишущую машинку и бойко строчит слащавые статейки о прекрасной изнасилованной Франции, о стойком британском льве, о демократической Америке.
Во время войны нам приятно было читать эти статьи, но дело пахло анекдотом, когда внизу красовалась подпись Ильи Эренбурга. Сегодня, повинуясь голосу хозяина, он с пеной у рта мечет чернильные громы и молнии на головы американских империалистов.
Мало вероятно, чтобы Эренбург получил теперь постоянный заграничный паспорт. Да он и сам едва ли совершит такую неосторожность. У всех ещё в памяти судьба Максима Горького. После революции у Горького были большие расхождения с большевиками. Долгие годы он прожил в Италии, затем вернулся в Москву. Поговаривали, что он снова просил визу на выезд, но ему отказали.
Когда во время Московских процессов официально объявили, что он вместе с сыном был-де отравлен «троцкистско-бухаринской бандой», то для каждого советского человека было ясно как день, чья рука приготовила ему яд.
Его вина заключалась в том, что после возвращения в Москву он практически не написал ни слова. Понятно, против кого этот молчаливый протест был направлен, и для кого была целесообразна его смерть. Советские люди привыкли толковать все официальные сообщения наоборот, — этим путем можно узнать некоторую истину.
Таким образом, Илья Эренбург, в начале пользовавшийся некоторой независимостью, был полностью приведён к кремлёвскому знаменателю.
Карьера и судьба Ильи Эренбурга очень характерны для многих советских писателей. Выбор один — или писать то, что требует Политбюро, или быть литературным трупом.
Если бы Лев Толстой, Александр Пушкин или Лермонтов жили в сталинскую эпоху, то эти имена не были бы известны в пантеоне человеческой культуры. Разве что в списке одного из лагерей НКВД. Литературная смерть писателя в Советской России обычно сопровождается его физической гибелью.
В студенческие годы мы из рук в руки зачитывались книгами: «Девять точек» Казакова, «Тяжёлый дивизион» Лебеденко, «Капитальный ремонт» Соболева. Имена эти мало известные широкой публике книги были изданы искусственно малым тиражом и достать их было трудно, хотя это были талантливые произведения талантливых писателей.
Характерно, что все они охватывали период 1917–21 годов, когда в массах был порыв, призыв, надежды. О более позднем времени этим писателям не позволяла писать собственная совесть — там нужно было или лгать или молчать.
Мы имеем свою прекрасную национальную литературу, принятую и признанную культурой Запада. Но нам самим наше собственное творчество преподносится с большим отбором — чистка культурного наследия прошлого и искусственное направление современного творчества в желаемое для диктатуры русло.
Даже Пушкину, в первые после революции годы, пришлось ожидать долгое время на задворках Гослитиздата, пока сталинские цензоры признали его политически безвредным. Рассказывает там какие-то сказки про золотых петушков. Какая от этого польза для мировой революции? То ли дело Маяковский — тот прямо во все горло горланит:
«Кто там шагает правой? Левой, левой!»Такие петухи нам нужны!
«Бей пар-р-рабелум по ор-р-робелым, пули погущ-щ-ще в гущ-щ-щу бегу-щ-щ-щим!»Жаль только, что Маяковский пустил себе пулю в лоб, когда убедился, что кричал он и надрывал глотку попусту. По его собственному выражению — «захлебнулся коммунистической блевотиной». В предсмертной записке он перефразировал слова своего великого предшественника: «И дернул же меня чёрт родиться в СССР с душой и талантом…» Трудно быть советским писателем — подлинный талант не может творить в клетке. Даже сапожники от пера типа Демьяна Бедного и те, в конце концов, ломают шею.
На советских писателей нельзя обижаться. Человек создан из плоти, а плоть слабее, чем свинец и колючая проволока. Кроме того, заманчивое искушение: с одной стороны — смерть творческая и физическая, с другой — все блага привилегированного положения. Может быть, многим покажется странным, что в стране коммунизма существуют миллионеры?
Да, самые настоящие миллионеры, у которых счёт в Госбанке и стоимость имущества превышают миллион рублей. Примером является Алексей Толстой, автор фальсификаций «Петра I» и сценариев к «Ивану Грозному». Кто может обвинить человека, поставленного перед таким выбором?! Поставьте себя на их место, прежде чем бросить камень.
Советские писатели — это птички в позолоченной клетке. Они могут петь или молчать, но улетать им некуда. Сложнее обстоит дело с писателями Запада.
Западным писателям доверять нельзя. Даже мёртвым нельзя. Когда-то Джон Рид руководил американской секцией Коминтерна. Жил он, правда, в Москве, но это в порядке вещей. Добросовестно написал солидную книгу. «10 дней, которые потрясли мир».
Сам Народный Комиссар Просвещения — Луначарский — и жена Ленина — Надежда Константиновна Крупская — в предисловии к этой книге подтвердили, что сие есть самое правдивое описание коммунистического переворота в России. Джон Рид догадался своевременно сыграть в ящик, а его бренные останки были замурованы в кремлёвскую стену — почётная квартира для особо отличившихся коммунистов.
А потом скандал! Не предусмотрел Джон Рид, что история в сталинской России задним числом выворачивается наизнанку. Умудрился во всей революции уделить великому Сталину только две строчки, да и то попутно. Превознёс до небес Троцкого и других делателей революции, которые после смерти Ленина начали наперебой умирать от насморка и прочих подобных болезней.
Пришлось посмертно вытрушивать честного Джона из кремлёвской стенки.
Можно было бы указать на десятки людей с мировой известностью, которые в поисках новых путей увлекались коммунизмом. Познакомившись с советской действительностью, эти люди навсегда излечились от своих просоветских увлечений. Достаточно назвать одного из последних в этой категории.
Теодор Пливье, — автор «Сталинграда», немецкий писатель и коммунист, долгие годы проживший в Москве, — бежал из Советской зоны в Западную Германию. В интервью, данном представителям печати, он заявил, что в сталинской России нет и следа коммунизма, что все коммунистические идеи там задушены, что все социалистические институты превращены в орудия тоталитарного режима Кремля.
Он понял это вскоре после своего прибытия в Москву, но должен был молчать и мириться с окружающей действительностью поскольку фактически он был пленником.
Теодор Пливье не отрекается от коммунизма, но его признание для Сталина более опасно, чем прямая критика коммунизма. Судьба Теодора Пливье — это судьба значительной части коммунистической интеллигенции Запада, увидевшей сталинскую Россию собственными глазами.
Не все имеют физическую возможность или моральную честность совершить подобное признание, многие предпочитают служить Кремлю за счёт своей совести. Совесть — это понятие абстрактное, а есть много вещей и понятий более реальных.
Кремлёвских адвокатов трудно обвинить в прямой лжи. Существует утончённая форма лжи — односторонее освещение предмета. На этом поприще кремлёвские фокусники и их коммивояжеры достигли особенного искусства. Абсолютно замалчивать или остервенело ругать одно, одновременно превозносить до небес другое. На языке шулеров это называется «передергивать».
Здесь в Берлине нам попадают в руки забавные книжонки. Очень забавные. Они написаны заграничными авторами и изданы заграничными издательствами, они истошно восхваляют Сталина и сталинскую Россию.
Очень характерно, что эти книги или вообще не издаются на русском языке или издаются ничтожным тиражом, который не поступает в обращение. Эти книги предназначены только для внешнего употребления. Кремль предпочитает не показывать подобные книги русским — ложь слишком наглядна.
Недалеко от Бранденбургских Ворот есть магазин «Международная Книга». Это советский магазин, специально торгующий литературой на иностранных языках и рассчитанный на заграничных покупателей.
Мы часто бывали там. Конечно, мы покупали не труды Ленина, а обычные граммофонные пластинки. То, что ни за какие деньги невозможно достать в Москве, — в избытке предлагается иностранцам. Вот в этом то магазине и торгуют книгами типа писаний декана Кентерберийского.
Что могло побудить «красного декана» писать подобные вещи? Может быть, декан задним умом думает, что в случае если Сталин доберется до Британских островов, то он своими заблаговременными «социальными» молитвами спасет свою шкуру от Сибири? Или назначит архиепископом Всея Английской ССР? Советский человек не может дать другого объяснения этим слугам кремлевской пропаганды.
Пропаганда! Только советский человек понимает, что это такое. Говорят, что «Кока-Кола» стоит 5 центов: два цента стоит само месиво, а три цента — реклама. Американцы убеждены, что на свете нет ничего вкуснее, полезнее и благодатнее. Людей убедили с помощью рекламы.
Подобно этому обстоит дело с коммунизмом для советских людей. Их убеждали и убеждают, что коммунизм — это самое лучшее, самое непревзойдённое достижение. Смесь более сложная, чем «Кока-кола». Она насквозь пронизывает человека со дня его рождения.
То, что в Америке делает реклама, в СССР делает пропаганда. Человек ходит голый, голодный, поставленный на уровень безмолвного робота. При этом его уверяют, как раз в обратном. И что самое удивительное — он верит. Вернее — пытается верить. Так легче переносить трудности, когда нет возможности избавиться от них или бороться с ними.
Кремль знает чудовищную силу пропаганды на души людей, он знает опасность, если мираж будет разрушен. В тоталитарной гитлеровской Германии слушание вражеских радиостанций во время войны было запрещено, но радиоприемники не были отобраны.
То ли Гитлер считал, что его государственную систему бесполезно критиковать для немцев, то ли он больше доверял своим подданным. Во всяком случае, его кремлёвский партнер поступил иначе. В СССР все абсолютно радиоприемники были конфискованы в первые дни войны.
Кремль прекрасно знает своё уязвимое место. Если тридцатилетние труды кремлёвской пропаганды будут поколеблены, — эфемерное духовное единство Кремля и народа распадется как карточный домик от первого порыва ветра.
Советских людей поражала примитивность немецкой пропаганды во время войны. Они говорили на русском языке, но не для русских. От их передач пахло нафталином или чужим немецким духом.
Пропаганда — это пища для души, тут нужно знать рецепты и формулы, необходимые для русской души. Они ничего не говорили о будущем, они не могли дать разумной критики кремлёвской диктатуры. Они надеялись на грубую силу — прусская тупость, известная уже раньше. Для души нужно искусство психиатра, а не крик фельдфебеля.
«Печать — это самое сильное оружие нашей партии», — сказал Сталин. Иными словами: пропаганда — это самое сильное оружие Кремля. Пропаганда цементирует внутренние силы и разлагает внешние. Тем лучше для Сталина, если его противники не уяснили себе всей правоты и значения этих слов.
Глава 13 Диалектический цикл
1
Лето 1946 года клонилось к концу. Над Берлином изо дня в день стояло в небе солнце. Как раскалённый шар мерцало оно сквозь дымку висящей над городом известковой пыли. Эта же пыль густым слоем лежала на траве и листьях деревьев.
В мареве лета Карлсхорст жил своей обычной жизнью. Около комендатуры деловито сновали немцы, добивающиеся пропуска в Главный Штаб. В Управлениях и Отделах Главного Штаба СВА кипела лихорадочная работа. В водовороте работы люди с золотыми погонами на плечах подчас забывали, что Карлсхорст это лишь далёкий остров, окружённый чужой и враждебной стихией.
Зато, когда подходил день отпуска и поездки на родину, они с удвоенной остротой ощущали, что далеко на Востоке лежит огромная страна, их страна, интересы которой они призваны защищать за её пределами.
Письма из Советского Союза сообщали о необычайной засухе на всей территории европейской части СССР. Откровенно высказывались опасения за судьбу будущего урожая. Хлеб, ещё не созрев, осыпался на корню.
Мелкие огороды, которыми жила основная масса народа, выгорели от солнца. Люди с тоской смотрели в безоблачное небо и опасались наступления голода ещё худшего, чем они перенесли за годы войны. Письма с родины дышали безнадёжностью и отчаянием.
Незаметно прошел год с того времени, как я прибыл в Берлин на работу в Советскую Военную Администрацию. Начинался второй. В конце лета подошёл, наконец, срок и моего отпуска. На полтора месяца я мог отряхнуть с моих ног прах Берлина и отдохнуть на родине.
Андрей Ковтун взял отпуск одновременно со мной и мы договорились ехать вместе. Мы решили сначала остановиться в Москве, затем съездить навестить наш родной город на Юге и, наконец, отдохнуть где-нибудь на побережье Чёрного моря. Андрею обязательно хотелось организовать отпуск так, чтобы мы могли провести время среди воспоминаний нашего юношества.
На Силезском Вокзале Берлина толкотня и давка. Около воинской кассы оживлённая торговля — меняют оккупационные марки на рубли. Приехавшие из СССР стремятся обменять пачки бесполезных червонцев на заманчивые марки. Уезжающие в СССР рады избавиться от марок, чтобы иметь советскую валюту на дорожные расходы.
Полагаясь на свою форму офицера МВД, Андрей отправился к военному коменданту вокзала и вскоре вернулся с двумя плацкартами в мягкий вагон. Его предусмотрительность оказалась очень кстати.
Все вагоны переполнены до отказа. У большинства пассажиров масса багажа, с которым они ни в коем случае не желают расстаться, не доверяя услугам багажных вагонов. У нас с Андреем тоже по два чемодана, наполненных, главным образом, подарками родным и знакомым.
До Бреста наш поезд дошёл без всяких приключений, хотя советские воинские поезда, курсирующие на линии Берлин-Москва, нередко являются объектом обстрела и даже нападений со стороны скрывающихся в лесах польских националистов.
На советском погранично-пропускном пункте в Бресте производится первая проверка документов и багажа. Все пассажиры переходят в другой поезд. Погранохрана МВД особенно тщательно обыскивает багаж демобилизованных военнослужащих в поисках оружия, которое кто-либо вздумал бы провезти с собой домой в качестве трофеев.
Лейтенант погранохраны МВД в зелёной фуражке, проверявший документы стоящего впереди нас капитана, обращается к нему с вопросом:
«Почему Вы, товарищ капитан, не оставили личное оружие по месту службы?»
«Я не получил на это соответствующего приказа», — отвечает тот, с досадой пожимая плечами.
«По прибытии в место назначения Вам придётся сдать пистолет в местной комендатуре, где Вы будете регистрироваться», — говорит лейтенант МВД, возвращая документы.
«Вот оно — порядки мирного времени, — ворчит капитан вполголоса, когда мы выходим из помещения контрольного пункта. — Все чего-то боятся».
В ожидании отхода московского поезда мы с Андреем сидим в зале вокзала. Кругом нас много офицеров в польской форме с квадратными конфедератками на головах. Все они разговаривают между собой по-русски и польским языком пользуются лишь в случае ругательств.
Это офицеры советских войск маршала Рокоссовского, стационированные в Польше и переодетые в польскую форму. Вскоре к ним присоединяется несколько офицеров, возвращающихся в Советский Союз из Германии. Завязывается разговор на местные темы.
«Ну, как там у вас в Германии, — спрашивает офицер с безошибочным сибирским акцентом и польским орлом на фуражке, обращаясь к лейтенанту из Дрездена. — Пошаливают немцы?»
«Куда там! — безмятежно отвечает лейтенант. — Дисциплинированный народ. Им сказано — нельзя, значит нельзя. Мы сначала сами ожидали, что будут беспорядки или покушения. Ничего подобного!»
«Да неужели! — удивляется сибиряк и качает головой. — Зато наши паны жизни дают. Что ни ночь — или зарежут, или подстрелят кого-нибудь. И эта курица не помогает».
Он показывает на орла на своей конфедератке.
«Не умеете вы с ними обращаться», — с видом превосходства говорит лейтенант.
«Не так это просто, — вмешивается в разговор ещё один советский офицер в польской форме. — Рокоссовский во время войны от Сталина шестнадцать благодарностей в приказах получил, а за последний год в Польше — двадцать выговоров. Всё из-за поляков! Они в тебя из-за угла стреляют, а ты их не имеешь права пальцем тронуть — иначе Трибунал. Политика!»
Офицер тяжело вздыхает.
«Вот недавно в Гдыне дело было, — говорит сибиряк в конфедератке. — Там в порту стояла флотилия наших канонёрок. Ну, моряки пошли себе погулять. Тут же прямо на пристани к ним привязались поляки и давай задираться. Через пять минут сбежалась целая толпа. Тут тебе и ножи, и стрельба — что хочешь. В общем, зарезали нескольких моряков прямо на глазах у остальной флотилии».
«Ну, и как же?» — интересуется лейтенант из Дрездена.
«Моряки-братишки, сам знаешь, что за народ, — подмигивает сибиряк. — Не долго думая, развернули скорострельные пушки по борту и — всей флотилией ураганный огонь по набережной. Дали полякам перцу! Потом целую неделю панские потроха по крышам собирали».
«Зато весь командный состав флотилии под Трибунал попал, — скептически добавляет второй псевдополяк. — А Рокоссовский ещё один выговор получил».
Разговор заканчивается, так как проезжие офицеры встают, намереваясь идти в город.
«Смотрите, не задерживайтесь в городе после темноты», — советуют им вслед офицеры в польской форме.
Вскоре после того, как наш поезд отошёл от Бреста, по вагонам была произведена повторная проверка документов. Не проехали мы нескольких часов, как эта процедура повторилась ещё раз.
За окном вагона медленно бежит чахлый пейзаж Белоруссии. По-прежнему, как и в годы войны, лежат в развалинах вокзалы. Уныло чернеют трубы печей на месте сожжённых дотла деревень.
Безжизненно смотрят в небо журавли над заброшенными колодцами. Редко где виднеются фигуры людей. Люди такие же оборванные и жалкие, как и год тому назад. Как и десять лет тому назад. Безрадостна ты, серая и печальная, родная сторона!
Андрей сидит молча, прислонившись в угол. Он не обращает внимания на происходящее кругом и погружён в свои мысли. Время от времени дверь купе стремительно распахивается. Новый пассажир заглядывает внутрь.
Увидев форму офицера МВД, человек делает вид, что ошибся дверью и идёт искать место в другом купе. Даже в мягком вагоне, где у каждого пассажира в кармане партбилет, люди предпочитают держаться подальше от МВД.
К вечеру Андрей, до того сохранявший молчание, немного оживает. Под впечатлением пейзажа за окном завязывается разговор о прошлом. Постепенно Андрей переходит к воспоминаниям о Галине.
Он увлекается все больше и больше. Я с удивлением наблюдаю за ним. Видимо, он всё время вращался мыслями вокруг Галины, но только теперь решился заговорить на эту тему. Время и расстояние притупляли чувства. Теперь же его сердце снова горит старым огнем.
История отношений Галины и Андрея была довольно своеобразной. Галина была на редкость красивой девушкой. В её красоте было что-то возвышенное и чистое.
И, что самое главное, её внутреннее содержание полностью соответствовало её внешности. Она имела трепетную душу и благородное сердце настоящей женщины. Андрей боготворил девушку и служил ей как жрице.
Долгое время Галина была холодна к ухаживаниям Андрея и не замечала его раболепные знаки внимания. Затем между ними установилась крепкая дружба.
Может быть, девушку покорили незнающие границ жертвенность и преданность Андрея. Может быть, она чувствовала, что любовь Андрея не похожа на ухаживания других молодых людей.
Для окружающих эта дружба казалась странной. Слишком бросалось в глаза противоречие между угловатой фигурой Андрея и подчёркнуто одухотворенной внешностью Галины. Никто не мог понять, что связывало их. Подруги Галины доводили её до слез, подчеркивая при каждой возможности недостатки Андрея.
Приятели Андрея откровенно поздравляли его с незаслуженным, по их мнению, счастьем. Несколько раз это служило поводом к кратковременным расхождениям.
Тогда Андрей не находил себе места и бродил как тень по следам Галины, не решаясь приблизиться и не имея сил расстаться. Так или иначе — до самого начала войны они были неразлучной парой. Война забросила Андрея в трущобы партизанских лесов, дала иной ход его необузданным чувствам. Город, где осталась Галина, был вскоре занят немецкими войсками и всякая связь оборвалась.
В окно вагона смотрит душная сентябрьская ночь. Андрей расстегнул пуговицы кителя, подставил открытую грудь врывающемуся в окно встречному ветру. Он как будто переродился и с оживлением рассказывает о своих делах в годы войны.
«В жизни мы всё время стремимся к чему-то, — говорит он. — Стремимся к власти, славе, орденам. Но всё это внешнее. Когда дойдешь до определённой черты, то чувствуешь, что ты всё время только давал от себя. Задаёшься вопросом — что ты получил за всё это?» «Сейчас у меня странное ощущение, — продолжает он. — Если отбросить в сторону все внешние причины и думать только о себе, то мне начинает казаться, что всё что я делал, стремясь вверх, я делал ради Галины. Говоря откровенно, сейчас я несу эту форму и эти ордена к ногам Галины».
Андрей окидывает взором свою подчёркнуто аккуратную форму, стряхивает пылинку с синих галифе и говорит мечтательно: «Теперь Галина инженер. Живёт в Москве. Имеет достойную работу, уютную квартиру. Разве это не предел, которого может сегодня достигнуть женщина? И вот, в довершение всего, перед ней появляется некий майор Государственной Безопасности — защитник и страж её благополучия. Разве это не логичный конец?! Вот здесь, дружок, я и надеюсь, что жизнь мне отплатит с процентами за всё!» — Андрей крепко стучит мне ладонью по колену, встает и смотрит вперед из окна вагона, как будто надеясь увидеть в бегущей навстречу темноте то, чем вознаградит его судьба.
Уже и раньше я часто замечал, что Андрей как-то странно рассуждает о Галине. Вложив всю свою горячую душу в честолюбивые стремления и в обмен не получив от жизни никакого удовлетворения, больше того, мучаясь своим положением человека, вынужденного действовать вопреки своим убеждениям, он подсознательно стал искать какой-то компромисс с жизнью.
Он стал убеждать себя, что старая любовь и семейное счастье заполнят пустоту в душе и примирят его с мучительной действительностью. Постепенно встреча с Галиной стала для него навязчивой идеей. Он, как маниак, убегал в мечты, убеждая себя, что встреча с любимой женщиной послужит чудом, принесущим ему избавление.
«Знаешь что?! — Андрей неожиданно отрывается от окна. — Я должен достать бутылку водки».
«Ты же не пьёшь», — говорю я.
«Это тебе, — коротко бросает он. — Я хочу, чтобы кругом меня весело было. Ведь я не на похороны еду, чёрт побери. На свадьбу еду!»
В его голосе переливается через край безудержная стихия.
Я пробую отказаться.
«Ты что — обидеть меня хочешь? Да?!» — категорически заявляет Андрей. Мне не остается ничего другого как надеяться, что в это время ночи он вряд ли где достанет водку.
На первой же станции Андрей исчезает. Через несколько минут он возвращается с оттопыренным карманом.
«Достал по всем правилам закона, — насмешливо ухмыляется он. — Комендант станции у кого-то конфисковал, а я у него конфисковал. Вот оно что значит — красная шапка!»
«Эх! Хочется, чтобы стены кругом трещали! — наливает Андрей стакан так полно, что бесцветная жидкость плещется через край. — У меня на душе горит — и чего-то не хватает. Пей за меня!»
Равномерно стучат колеса, отбивая километры. Тускло светит лампочка под потолком купе. Где-то позади уходит Берлин. Где-то впереди приближается Москва.
«Знаешь, временами я до боли ощущаю пустоту на душе, — Андрей сидит на диване, широко расставив ноги в стороны и упёршись ладонями в коленки. — Иногда я задумываюсь о Боге — и завидую людям, которые верят. Лучше верить в несуществующего, но непогрешимого Бога, чем в земных самозванных мерзавцев».
«Ты когда последний раз в церкви был?» — спрашиваю я.
«Лет двадцать тому назад, — отвечает Андрей задумчиво. — Меня отец за руку в церковь водил. Мальчишкой я все молитвы наизусть знал».
«Да… Душа человека — это не лакмусовая бумажка, — вздыхает он. — Тут сразу не поймешь, какая она — красненькая или синенькая. При моей проклятой работе часто приходится задумываться о душе человека. У меня теперь психоз — ищу людей, которые верят во что-то».
Водка в стакане колышется в такт хода поезда. Андрей отодвигает стакан в сторону, затем продолжает: «Редко встречаешь таких людей. Раз я вёл дело одного ССовца. Много у него на счету было. Он уже в списке на расстрел стоял. Пришёл я к нему в камеру, а он вскакивает на ноги и руку кверху: „Хайль Гитлер!“ Сам в камере смертников сидит, а от своей веры не отрекается».
В поезде тишина. В других купе люди уже спят. На остановках в эту тишину врывается шум с перрона. Толпы людей, обвешанных чемоданами и мешками, штурмуют соседние вагоны.
«Я тогда этому ССовцу даже позавидовал, — продолжает Андрей. — За то, что человек веру имеет».
«Это ему мало помогло, — говорю я. — Разве что на том свете».
«Как сказать, — произносит Андрей и мрачная улыбка мелькает по его лицу. — Вместо него я отправил на расстрел другого».
«Кого?» — спрашиваю я.
«Тоже ССовец, только другого фасона, — отвечает Андрей нехотя. — Сначала был коммунистом, потом работал в Гестапо, а после капитуляции вспомнил старое и пришел искать работу у нас. Ну, вот я и нашел для него употребление».
«Неужели у вас это так просто?»
«В то время у нас было слишком много работы. Ни фотографий, ни отпечатков пальцев к делу не прилагалось. Ведь тогда день и ночь фильтровали. Номер камеры — и всё».
В проходе между купе раздаётся шум. Два человека идут по коридору, громко разговаривая и стуча палкой по стенам вагона. Слышно как ночные гости бесцеремонно открывают двери соседних купе и заглядывают внутрь. Через некоторое время шаги останавливаются у нашей двери.
«А тут что за птицы?» — слышится грубый голос и двери купе с шумом распахиваются.
На пороге стоит коренастый человек в накинутой на плечи солдатской шинели без погон. На глаза надвинута армейская фуражка без звезды. Так обычно ходят демобилизованные солдаты. Пустой левый рукав выцветшей гимнастерки безжизненно засунут за пояс.
В правой руке инвалид держит завернутый в бумагу продолговатый, похожий на ножку от стула, предмет, которым он постукивает по сторонам. Из-за спины незнакомца выглядывает вторая фигура в такой же истрёпанной солдатской форме с самодельной деревянной культяпкой вместо ноги.
«Ага! Тут тебе сам гражданин-товарищ майор Государственной Безопасности расположился, — нараспев говорит безрукий инвалид и прислоняется к косяку. — Вы чего не спите граждане-товарищи?»
«А вы тут чего слоняетесь среди ночи?» — строго спрашивает Андрей и хмурится, раздражённый бесцеремонным тоном солдат.
«Мы тут за порядком смотрим, — насмешливо отвечает безрукий. — Может, у кого чемодан лишний, или сапоги не по ноге».
«Весело люди живут — водку пьют!» — вторит из-за его спины безногий.
На лицах обоих инвалидов вызывающая усмешка. Они загородили дверь купе и как будто ищут повода к ссоре, осматривая нас с головы до ног и обмениваясь грубыми репликами.
Безрукий продолжает постукивать кругом своим завернутым в газету инструментом. Звук тяжёлый, как будто от железа. Безногий отбивает такт деревяшкой ноги.
Кругом в поезде тишина. Равномерно стучат колеса. Я внимательно наблюдаю за Андреем, пистолет которого висит в кабуре над его головой. Пальцы Андрея нервно выбивают дробь по колену.
«Что это у Вас такое, гражданин-товарищ майор? — вдруг неожиданно спрашивает безрукий и указывает на зелёную с красными полосками ленточку, приютившуюся в самом конце орденских лент на груди Андрея. — Никак в партизанах были?!»
В голосе инвалида нотки враждебности сменяются смешанным чувством удивления и недоверия.
Андрей, все ещё хмурясь, сухо отвечает: «Да, был в партизанах».
«Так мы тоже партизаны!»
Безрукий откидывает борт шинели и стучит себе палкой в грудь выцветшей гимнастерки, где на грязных засаленных ленточках колышутся многочисленные ордена и медали.
«Вот она — партизанская!» — он тычет в висящую на зелёной с красными полосками ленточке медаль «Партизану Отечественной Войны».
Как будто сравнивая, инвалид снова переводит глаза на грудь Андрея, затем недоверчиво косится на его погоны МВД.
«Угостите водочкой бывших партизан, товарищ майор! — басит безногий из-за спины безрукого. — Когда-то кровь вместе проливали — не пожалейте теперь стаканчика водки!»
Он тоскливо смотрит на плескающуюся в стакане бесцветную жидкость. Вызывающая грубость в глазах инвалида сменяется затаенным желанием вспомнить с помощью водки то время, когда он сидел с таким же майором у партизанского костра, как равный с равным.
«А ну — давай залпом! — неожиданно командует Андрей и улыбается грубой солдатской улыбкой. — Пей!»
Безногий неуклюже ковыляет к столику, неловко берет хрупкий стакан грубыми негнущимися пальцами. Он медлит, колеблясь последовать приглашению.
«Пей за моё здоровье!» — подбадривает Андрей.
«За партизанскую жизнь!» — наконец решившись, одним махом опрокидывает инвалид водку в горло, раскатисто крякает и утирает рот рукавом. «Извините, товарищ майор Государственной Безопасности, а за Ваше здоровье нехай черти на том свете водку пьют!» — поясняет он и с треском ставит стакан обратно на столик.
Снова в купе воцаряется напряжённая тишина. Снова я с тревогой бросаю взгляд на висящий на стенке пистолет.
«Вот это сразу видно — партизан!» — неожиданно с нескрываемым удовольствием говорит Андрей и смеется. «А ну, хлопцы, заходите сюда! Садитесь! — командует он. — На каком фронте воевали?»
Удивлённые столь неожиданным приглашением и дружеской улыбкой Андрея, инвалиды нерешительно переминаются с ноги на ногу. Затем безрукий первый осторожно опускается на мягкое сиденье. Свой завернутый в газету инструмент он бросает на противоположный диван.
Тот тяжело падает на плюшевое сиденье, бумага разворачивается и обнажает обрубок водопроводной трубы. Безногий следует примеру безрукого и тоже садится. Напускная развязность и враждебность медленно сменяются на лицах неловкостью солдат, попавших в общество офицеров.
«Ну, на каком фронте воевали, хлопцы? — повторяет свой вопрос Андрей. — Может, где встречались».
«Повсюду свою кровь проливали, товарищ майор», — угрюмо говорит безногий.
«Ну, а как она жизнь, хлопцы? — спрашивает Андрей. — Мы сами из Германии едем. Давно уже родины не видели».
«Не видели, так увидите, товарищ майор», — со странной усмешкой бормочет безрукий. Он показывает на несколько рядов знаков ранений на своей гимнастерке: «Вот всё, что завоевали. Как с госпиталя выписались, так вот уже два года в той же одёже ходим».
«Куда едете?» — спрашивает Андрей.
«Куда глаза глядят, товарищ майор, — уныло отвечает безногий. — Земля наша, слава Богу, широкая».
«А где дома будете?»
«У нас дом — под каждым кустом, — усмехается однорукий. — Мы люди вольные, живём как птицы небесные».
«А что вы здесь в поезде делаете?» — допытывается Андрей.
«Воруем, товарищ майор, воруем!» — снова с неожиданной злостью отвечает инвалид.
«Вы на нас не обижайтесь, товарищи офицеры, — примирительно говорит его спутник. — Кабы другое время, разве мы этим стали бы заниматься? Жизнь заставляет! Мы люди жизнью покалеченные».
«Эх, жизнь-жестянка… — уныло вздыхает однорукий. — Разве это жизнь?! Разрешите налить стаканчик, товарищ майор Государственной Безопасности. Вам за это на том свете лишний грех простится!»
Инвалид залпом опрокидывает стакан и мотает головой из стороны в сторону. Затем он поднимает глаза и смотрит в упор на Андрея: «Вижу я, что у Вас много орденов, товарищ майор. Кроме того, в партизанах были. Значит Вы — человек настоящий. Только вот красную шапку Вы зря носите!»
Он кивает головой на форменную фуражку МВД, покачивающуюся на стенке в такт ходу поезда.
«Не слушайте пьяного человека, товарищ майор», — пытается вмешаться безногий.
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», — беззлобно говорит Андрей и смотрит на инвалидов странным взором.
«Вот это Вы правы, товарищ майор Государственной Безопасности, — кивает головой безрукий. — А потом мне терять нечего — я Вам могу всю правду в глаза сказать. Когда-то я тоже горячим был. Теперь вылечился. Хотите, я Вам свою судьбу расскажу? Потом судите меня».
Безрукий молчит и смотрит в пол. Сонная тишина заполняет купе мягкого вагона. Равномерно постукивают колеса, отбивая километры.
«Когда-то я тоже партийцем был, — тихо говорит инвалид. — В первый же день войны добровольцем пошел. Пули на лету ловил. На танки с бензиновой бутылкой лез. Грудь под пулеметы подставлял и кричал: „За Сталина!“ Под Киевом до последнего патрона дрался, был ранен, попал в окружение. Две недели без памяти на восток полз. Дополз до своих. Меня в награду за верность родине — под Трибунал. Других расстреляли, а меня, как раненого, помиловали — в штрафбат значит. Одна рана не зажила, ещё две других достал. Вот они!»
Он снова тычет рукой в ленточки ранений на груди гимнастерки.
«Под Ростовом в плен попал, — продолжает безрукий, тряся головой. — Партбилет в землю зарыл — чтобы врагу в руки не достался. Мне тогда партбилет дороже своей жизни был. Завезли меня немцы на край земли, аж до самого океана. Бежал я оттуда, да по дороге поймали — в кацет заперли. Я и оттуда бежал. Три месяца как зверь по лесам пробирался, траву ел. Всё на восток шёл. Добрался до партизан. Два года партизанил. Жизни не жалел. Вон сколько орденов заработал, а ран уж и не считал. Всё за родину страдал. А как соединились с Красной армией, меня сразу к алтарю — в спецлагерь на проверку. Там я с вашим братом, государственной опасностью, хорошо познакомился. По сей день не забуду! Перемыли мне там кости и как изменника родины — опять в штрафбат. Там я руку и потерял».
«Вот так-то оно! — захмелевшим голосом бормочет безрукий и тянется к бутылке. — Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, товарищ майор Государственной Безопасности…» «Так меня и учили родину любить, — безрукий уставился глазами в пол купе и устало трясет головой. — Как война кончилась — один-одинешенек на белом свете. Работать не способен — у меня больше ран, чем живого мяса. Пенсия, сами знаете, одно название. Зарабатывал на хлеб, махоркой торговал — а меня в тюрьму за спекуляцию. Вот теперь и ходим, грязным делом занимаемся, извините, воруем».
Он шевелит обрубком в пустом рукаве: «Рука гниет, сам вор… И партбилет мой где-то в земле догнивает. Такая-то она жизнь».
Стучат колеса. Тускло светит лампочка под потолком. За окном вагона бежит чёрная ночь.
«Ну, мы пойдем, — поднимается на ноги безрукий, поправляя на плечах измятую шинель. — Вы нас извините, товарищи офицеры, за беспокойство. И Вы, товарищ майор Государственной Безопасности, на меня не сердитесь. Больно много я от вашего брата перетерпел. Может когда жизнь и Вас научит. А за водку сердечное спасибо».
Оба ночных гостя, стараясь не цепляться плечами за стенки, боком выходят из дверей купе и, пошатываясь, продолжают свой путь.
«Партизаны, партизаны… Любимой родины вы верные сыны», — доносится до нас по коридору слова партизанской песни.
«Во время войны я с такими из одного котелка ел, — говорит задумчиво Андрей и трёт лоб. — А теперь они меня за врага считают».
Кругом нас тишина. Навстречу нам бежит родина.
На следующий день поезд прибыл в Москву. Мы вышли на залитую солнцем вокзальную площадь и остановились, оглядываясь по сторонам. Кругом гремели трамваи, бесшумно катились автомобили, торопливо сновали люди. Кипел привычный водоворот лихорадочной жизни столицы. Всё было так просто и обыденно. Как будто мы и не уезжали отсюда.
Благодаря своей форме МВД и золотой звезде Героя Советского Союза Андрей без труда достал номер на двоих в гостинице «Старо-Московская», расположенной напротив Кремля по другую сторону Москва-реки.
Из окон нашей комнаты, выходящих на Москва-реку, виден новый Каменный Мост, ряды начинающих желтеть деревьев на Кремлёевской набережной, островерхие башни и золотые купола за кремлёвской стеной.
От берега за стеной круто поднимается обсаженный вечнозелёными ёлками откос. На откосе безжизненно смотрит многочисленными рядами окон длинное белое здание. Там мозг нашей страны и лаборатория нового мира.
Первый день мы провели бесцельно блуждая по Москве. Нам обоим не терпелось посмотреть на жизнь Москвы своими глазами, хотелось продлить предвкушение встреч с людьми, о которых мы мечтали издалека.
Хотя прошёл лишь год с того времени, как я покинул Москву, этот год был так насыщен событиями, что мне казалось, будто я заново знакомлюсь с родной столицей.
Где-то в глубине переплетались чувства непонятного ожидания, внутреннего недоверия и тихой настороженности. Как будто я наперекор всему стремился найти в Москве нечто. Нечто, что могло бы переубедить меня в том, что уже твёрдо решено.
В Берлине, в особенности в первое время, нам, советским офицерам, пришлось привыкнуть к тому, что на нас обращают внимание. Теперь же на улицах Москвы нас преследует странное ощущение: к нашему удивлению окружающие провожают нас взглядами.
Люди замечают в нас нечто непривычное: то ли бросается в глаза наша подчеркнуто выхоленная заграничная экипировка, значительно отличающаяся от обмундирования большинства офицеров, то ли этому виной независимая и уверенная манера держать себя, порождённая средой и работой в условиях победы и оккупационного режима в Германии. Странное ощущение — в своей родной стране чувствуешь себя как интурист.
Летний вечер застал нас с Андреем на площади Маяковского. За нашей спиной по улице Горького шумел поток автомобилей. Перед нами из предвечерней мглы поднимался на фоне неба чёрный куб здания Института Маркса-Энгельса-Ленина. В этой каменной коробке, как высшая святыня, хранится в спирту мозг идеолога и основателя советского государства — Ленина.
По левую сторону с площадью граничит здание газеты «Правда». На крыше «Правды» сверкает огненная реклама, передающая последние известия. Никто из людей на площади не обращает на эти известия ни малейшего внимания.
Мы задрали головы кверху и стали собирать бегущие огненные буквы: «Хлеборобы рапортуют… о досрочном перевыполнении… плана сдачи урожая».
Мы с Андреем переглядываемся. До войны подобные новости напролет плясали из вечера в вечер, из года в год на крыше «Правды». И сегодня опять! Разве не было войны и всего, с нею связанного?
«Что это там такое написано, сынок?» — раздаётся за нашей спиной дребезжащий старческий голос.
Андрей отрывает глаза от светящихся букв. Рядом с ним стоит дряхлый старик. На нем домотканный зипун неопределённого цвета. Всклокоченная рыжая бородка обрамляет румяное старческое лицо, откуда поблескивают не по годам живые глаза.
Из-под старого картуза висят пряди длинных волос. Старик стоит, слегка сутулясь, заложив руки за спину. Среди окружающей нас суеты центра Москвы он кажется пришельцем из другой эпохи. Теперь таких можно встретить лишь на картинках, да ещё в глухих деревнях.
«Слаб я глазами стал, сынок, да и грамоте не учен, — как будто извиняясь бормочет старик. — Сделай милость — прочти тёмному человеку что там сказано».
Он говорит с Андреем так, как это принято у простых людей при обращении к вышестоящим — с уважением и подкупающей искренностью.
«Что же ты, отец, грамоте не научился?» — с улыбкой говорит Андрей, тронутый видом и просьбой старика.
«К чему нам, простым людям, грамота, — рассуждает тот, переминаясь с ноги на ногу. — На то есть учёные люди, чтобы всё понимать».
«Ты сам, отец, откуда будешь?» — подделывается Андрей под крестьянскую речь.
«Мы люди подмосковские, — отвечает старик протяжно. — Наша деревня шестьдесят километров отсюда».
«Сына навестить приехал?» — спрашивает Андрей.
«Нет, сынок, — качает головой старик. — За хлебом приехал».
«Что же у вас на деревне — хлеба нет?»
«Нет, сынок. Хлеб весь сдали. Теперь вот картошку со своих огородов возим на рынок, продаём, а на эти деньги хлеб покупаем».
«Почём сейчас хлеб на базарах?» — интересуется Андрей.
«Семьдесят рублей кило, сынок».
«А государству почём сдавали?»
Старик переминается с ноги на ногу, вздыхает и нехотя говорит: «По семь копеек…»
Наступает неловкое молчание. Мы делаем вид, что забыли о первоначальной просьбе старика прочесть ему светящиеся буквы, и идём дальше. Через несколько шагов мы останавливаемся посреди площади перед острым гранитным обелиском, по сторонам которого прикреплены бронзовые доски.
Раньше я десятки раз ходил по этому месту, но только сегодня гранитный обелиск привлекает наше внимание. Мы с Андреем подходим ближе, пытаясь разобрать в сумерках выгравированные на досках бронзовые надписи.
«Скажи мне, сынок, хоть про что тут говорится?» — опять звучит знакомый старческий голос. Старик в картузе как тень стоит за нашей спиной, смиренно переминаясь с ноги на ногу.
Улыбка скользит по лицу Андрея, когда он возвращается глазами к обелиску, намереваясь исполнить на этот раз просьбу старика. Он медленно читает вслух первые слова, затем замолкает и молча пробегает взглядом по рядам бронзовых букв. Углы рта его постепенно опадают, между бровей ложится глубокая складка.
«Что же ты, сынок? — сочувственно бормочет в бороду старик. — Али там не по-русски прописано…»
Андрей молчит и избегает смотреть в сторону старика. Я следую его взору и читаю неясные в сумерках позеленевшие буквы. Это выдержки из конституции СССР, права и свободы граждан Советского Союза. Голодная и оборванная Москва, жалкий крестьянин, приехавший в Москву за хлебом — и бронзовые обещания земного рая. Я понимаю, почему замолчал Андрей, почему помрачнело его лицо.
Когда мы уходим от памятника, Андрей говорит сквозь зубы: «Сначала эти инвалиды… Теперь этот старик… Называет меня сыном, а я должен читать ему насмешку». Некоторое время мы идём молча. Когда я думаю, что Андрей уже забыл о встрече у обелиска, он снова бормочет в полголоса: «Во время войны эти ребята со мной вместе кровь проливали. Такие старики мне свой последний кусок хлеба отдавали. А теперь…»
На следующий день, это была суббота, мы решились, наконец, разыскать и навестить Галину. Из писем наших общих знакомых я знал, что она работает в должности инженера-химика на одном из московских заводов.
Когда Андрей позвонил по телефону в заводоуправление, ему ответили, что Галина не числится больше в списке служащих завода, и отказались дать какую-либо более подробную информацию. Наведя справки в адресном столе, мы, к нашему удивлению, получили адрес, находящийся в пригородной местности в часе езды на электричке.
Солнце начинало клониться за верхушки соснового леса, когда мы с Андреем постучали в двери сколоченного из брёвен домика в дачном посёлке неподалеку от железной дороги. Посёлок утопал в сыпучем песке, из которого тянулись кверху голые стволы чахлых сосен.
Открывшая нам дверь пожилая неряшливо одетая женщина окинула нас недружелюбным взглядом, молча выслушала наши слова и так же молча указала рукой на шаткую лестницу, ведущую на второй этаж.
Андрей пропустил меня вперед, чтобы я не мог видеть его лица. По звуку его шагов и по тому, как он тяжело опирался на дряхлые трясущиеся перила, я чувствовал, как много значит для него эта встреча. Мы медленно поднимались по скрипучим ступеням, с недоверием оглядываясь кругом.
Наверху на площадке лестницы развешено для просушки мокрое бельё. На подоконнике, вперемежку с грязными тряпками, громоздятся закопчённые кастрюли. Худая облезлая кошка, пугливо оглядываясь, прыгает при нашем приближении в окно. Непригляден замок, где ютится сегодня наша принцесса.
Перед нами дощатая дверь на заржавленных петлях. Из щелей между досок торчат куски ваты. Я нерешительно берусь за разболтанную ручку и стучу.
За дверью раздаются шаркающие шаги. Кто-то толкает дверь изнутри. Ветхое сооружение шатается на петлях, скребет по дощатому полу, медленно отходит назад. На пороге в пролете двери стоит женщина в простеньком платье и стоптанных туфлях на босу ногу.
Женщина вопросительно смотрит в неясный свет на лестнице, как будто удивляясь, кто к ней может придти. Затем она различает фигуры в военной форме и удивление в её глазах сменяется испугом. Тот же молчаливый испуг застыл на её полуоткрытых губах.
«Галина!» — тихо произносит Андрей.
Лицо молодой женщины в пролёте дверей заливается густой краской. Она делает шаг назад.
«Андрей!» — срывается с её губ подавленный крик. В этом всплеске чувств смесь неожиданной радости, девичьей стыдливости и ещё что-то неуловимо печальное. Она часто и прерывисто дышит, как будто ей не хватает воздуха.
Андрей избегает смотреть по сторонам. Он старается не видеть нищенского убранства полупустой комнаты, старается не замечать старенького платья на плечах Галины и её порванных туфель. Он видит только до боли знакомое лицо любимой женщины. Весь мир уходит в небытие, утопает в глубине её глаз.
Как часто в эти долгие годы мечтал Андрей о глазах любимой. В снегах и туманах, в крови и пожарах, шагая по трупам, он шёл к этой встрече. И вот теперь глаза любимой медленно ласкают Андрея с головы до ног.
Молодая женщина скользит взором по золотым погонам с синим кантом и майорской звезде на плечах Андрея, по ярко-малиновому околышку над лакированным козырьком фуражки. Ещё раз её глаза, не доверяя самим себе, возвращаются к нарукавному знаку МВД и затем смотрят в лицо стоящего перед ней офицера.
«Галина!» — как во сне повторяет Андрей и протягивает вперед обе руки.
«Григорий, закрой, пожалуйста, дверь!» — произносит Галина, как будто не замечая Андрея и не слыша его слов. Голос её звучит как чужой, глаза потухли, лицо похолодело. Она избегает встречаться взором с Андреем и, не говоря ни слова, подходит к открытому окну в другом конце комнаты.
«Галина, что с тобой?! — нервно спрашивает Андрей. — Почему ты здесь?.. В таких условиях?.».
За окном бесшумно кивают колючими лапами облезлые сосны. Косые лучи заходящего солнца бросают длинные тени по дощатому полу комнаты. Дыхание воздуха шевелит пушистые пряди волос на голове молодой женщины у окна.
«Расскажите лучше что-нибудь о себе…»
Галина избегает обращаться к нам по имени. Видно, что эта встреча и наше присутствие для нее мучительны.
«Галина! Что с тобой?!»
В голосе Андрея звучит поднимающаяся тревога.
Некоторое время в комнате царит молчание. Затем Галина поворачивается к нам спиной и, глядя в окно, почти неслышно произносит: «Я уволена с работы… и выселена из пределов Москвы».
«Почему?!»
«Я — враг народа…» — звучит тихий ответ.
«В чём дело?!»
Снова молчание. Затем как шелест ветра за окном: «Потому что я любила моего ребёнка…»
«Ты замужем?» — голос Андрея захлебывается беспредельным отчаянием человека, услышавшего свой смертный приговор.
«Нет…» — тихо роняет Галина.
«Так это… Это же не так плохо, Галя», — страх в дрожащем голосе Андрея сменяется облегчением. В нём мучительная борьба чувств — прощение, просьба, надежда. Снова в комнате повисает тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием Андрея.
«Посмотри!» — молодая женщина медленно кивает головой на маленькую фотографию, стоящую на столе. Глаза Андрея следуют её взору. Из простенькой деревянной рамки навстречу майору Государственной Безопасности Союза СССР улыбается человек в форме немецкого офицера.
«Это отец моего ребенка», — звучит голос девушки у окна.
«Галина… Я ничего не пойму… Расскажи в чём дело…» — дрожа всем телом, Андрей бессильно опускается на стул.
«Я полюбила этого человека, когда наш город был под оккупацией, — едва слышно отвечает молодая женщина, снова повернувшись к нам спиной и глядя в окно. — Когда немцы отступили, я прятала ребёнка. Кто-то донёс. Ну, а дальше ты сам должен знать…»
«Где же ребёнок?» — спрашивает Андрей.
«Его у меня забрали», — горло Галины перехватывает судорожная спазма. Её плечи беззвучно вздрагивают. Так плачет человек, когда у него нет слез.
«Кто взял?!» — в голосе Андрея прорывается угроза.
«Кто? — как эхо звучит ответ Галины. — Люди в такой же форме, как и ты!»
Она поворачивается к нам лицом. Теперь это не хрупкая и ласковая девушка первых дней нашей юности. Перед нами женщина во всем величии своей женственности. Женщина, потерявшая своего детёныша.
«А теперь прошу тебя оставить мой дом…» — Галина в упор смотрит на неподвижную фигуру Андрея. Тот, согнувшись, как под ударами кнута, сидит на стуле и бессмысленно смотрит в дощатый пол. Плечи его повисли, глаза лишены выражения, жизнь ушла из его тела.
За окном догорает оранжевое солнце. Бесшумно качают ветвями пыльные сосны. Лучи солнца озаряют трепетным ореолом пушистые волосы женщины в пролёте окна, они ласкают её горделиво откинутую голову, неясные очертания шеи, хрупкие плечи под стареньким платьем.
Это сияние оставляет в тени нищенское убранство полупустой комнаты и все низменные следы человеческой бедности. У окна, ласкаемая лучами солнца, стоит женщина, ещё более далекая и ещё более желанная, чем когда-либо. На стуле посреди комнаты, сгорбившись и дрожа всем телом, сидит живой труп.
«Галя… я попытаюсь…» — глухо говорит Андрей. Он сам не знает, на что можно надеяться и умолкает.
«Нам не о чем больше разговаривать», — тихо и твёрдо произносит Галина. Её глаза неподвижно устремлены на поблескивающий в последних лучах солнца знак МВД на рукава когда-то любимого человека.
Андрей тяжело поднимается на ноги, беспомощно оглядывается по сторонам. Он невнятно бормочет, протягивает вперед руку, то ли прося чего-то, то ли прощаясь. Галина смотрит в сторону, не замечая протянутой руки. Так продолжается несколько томительных мгновений.
Осторожно, как в присутствии покойника, я первый покидаю комнату, где Андрей надеялся найти своё счастье. Андрей выходит следом. Как слепой держась за стену, он спускается по лестнице. Его лицо посыпано пеплом, с губ срываются несвязные слова. Глухо отдаётся звук наших шагов по скрипучим ступеням.
Мы идём назад к станции. Над нашими головами шумят иглами сосны. Ноги вязнут в сыпучем песке. Бессмысленный шепот вверху — и тянущая тяжесть внизу. А между голыми стволами пусто. Так же пусто в глазах и на душе майора Государственной Безопасности Андрея Ковтун.
Когда мы сидим в поезде электрички, Андрей стеклянным невидящим взором смотрит в окно и упорно молчит. Я пытаюсь разговором отвлечь его мысли в сторону. Он не слышит моего голоса, не замечает моего присутствия.
Когда мы сходим на вокзале в Москве и направляемся к станции метро, Андрей в первый раз нарушает молчание и неожиданно спрашивает: «Ты в какую сторону едешь?» Я догадываюсь, что он хочет избавиться от меня. Одновременно я чувствую, что я ни в коем случае не должен оставлять его одного.
Мы возвращаемся в гостиницу. Весь остаток вечера я как тень брожу за Андреем. Когда он на короткое время выходит из комнаты, я разряжаю наши пистолеты, лежащие в ящике стола. Андрей отказывается от ужина и необычайно рано ложится в постель.
В сумерках я вижу, как он беспокойно ворочается в постели и не может заснуть. Он хочет хоть во сне уйти от этой жизни, хочет найти забвение от мучительных мыслей — и не может.
«Андрей, лучше всего будет, если ты завтра поедешь домой», — говорю я.
«У меня нет дома», — после долгого молчания раздаётся из другого угла комнаты.
«Поезжай к родным», — настойчиво повторяю я.
«У меня нет родных», — глухо отвечает Андрей.
«Твой отец…»
«Мой отец отрекся от меня», — звучит из темноты.
Отец Андрея был человеком старой закалки. Крепок как дуб и упрям как вол. Когда пришли годы коллективизации, старый казак предпочёл уйти с родной земли в город, чем работать в колхозе. В городе он взялся за ремесло.
Никакие репрессии и никакие налоги не могли загнать его в артель, так же как раньше в колхоз. «Я вольный родился, вольный и помру!» — был его единственный ответ. Так всю жизнь гнул он свою упрямую спину над плугом, а затем над верстаком. Воспитывал из последних сил сына, надеялся, что тот будет ему утехой в старости. И вот чем ответил старый казак сыну, когда узнал, что тот перешёл в лагерь врагов.
«Он у тебя и раньше был со странностями, — не задавая лишних вопросов, пытаюсь я утешить его. — Ведь ты больше с матерью дело имел».
«Отец проклял меня и запретил матери называть моё имя», — монотонно отвечает Андрей.
Всю ночь ворочался Андрей в постели, тщетно ища забвения во сне. Всю ночь я лежал в темноте, не смыкая глаз и борясь со сном. Шли часы. В открытое окно смотрели рубиновые звезды кремлёвских башен.
Когда побледнело небо на горизонте и первый неясный свет зарождающегося утра пополз по комнате, Андрей по-прежнему лежал без сна. Он зарылся лицом в подушки, руки его беспомощно свисали по сторонам кровати.
В тишине комнаты раздавались странные звуки. Как будто давным-давно в детстве я слыхал нечто подобное. Страстный шепот звучал в полутьме: «Господи! За что ты меня наказываешь…» В первый раз за эту ночь я закрываю глаза. Я не хочу мешать человеку, дошедшему до грани. Снова в предутренней тишине звучит отрешённый от всего земного шепот забытой молитвы: «Господи! Прости твоего раба грешного…» В ответ по другую сторону Москва-реки бьют Кремлёвские куранты.
2
Будучи в Берлине, я сравнительно редко переписывался с Женей. Женя была слишком чувствительна к малейшей фальши и недомолвкам, а военная цензура продолжала свое существование и её приходилось учитывать.
Искренне описывать окружающую действительность и свои впечатления было бы непростительной глупостью. Личной жизни, которая могла бы интересовать Женю, у меня в Карлсхорсте практически не было. Писать же бессодержательные письма просто из вежливости — для этого мы оба были ещё слишком молоды и слишком любили жизнь.
Таким образом, я предпочитал использовать те ночи, когда мне приходилось бывать в круглосуточном дежурстве по Штабу и оставаться в кабинете Главноначальствующего наедине с «вертушкой», прямым телефонным проводом в Москву.
Тогда я среди ночи подключался к Жениной квартире и по телефонной линии Берлин-Москва раздавались долгие разговоры, имеющие мало общего с кабинетом маршала и политикой. Слухачи, дежурящие на проводе, могли спокойно читать дальше свои романы.
Возвращаясь в Москву, я с нетерпением ожидал момента встречи с Женей. Собираясь в первый раз идти к ней, я довольно долго расхаживал по комнате и раздумывал, что мне лучше надеть — военную форму или гражданский костюм. В конце концов я остановился на последнем. Почему я раздумывал и почему я так поступил — на это я затруднился бы ответить.
Дома я застал одну Анну Петровну. Она изнывала от скуки и воспользовалась моим приходом, чтобы засыпать меня вопросами о Берлине и одновременно последними московскими новостями. Вскоре вернулась из института и Женя.
Теперь семья была в полном сборе. Отец Жени, Николай Сергеевич, после окончания операций против Японии вернулся домой и уже довольно длительное время находился в Москве.
Как и раньше, Анна Петровна не знала о службе и работе генерала ничего, кроме номера его служебного телефона и жила в постоянной тревоге, что не сегодня-завтра он снова исчезнет в неопределённом направлении и на неопределённое время.
После обеда Женя предложила поехать до вечера на дачу. Анна Петровна понимающе усмехнулась и отказалась от приглашения ехать с нами. Я был искренне благодарен Жене, что она решила вспомнить именно это место.
Маленькая загородная дача была свидетельницей первых дней нашего с Женей знакомства, первых встреч, окутанных дымкой неизвестности военного времени, надежд и мечтаний.
Женя сама села за руль своего открытого «Капитана». Когда автомобиль выехал за пределы Москвы и кругом шоссе потянулись пригородные посёлки, рассыпавшиеся среди сосновых перелесков, мною овладело неопределённое чувство беспокойства. Вскоре Женя свернула с шоссе на просёлочную дорогу. Окруженные соснами домики по сторонам дороги подступили ближе. Моё беспокойство возросло ещё больше. В конце концов я не выдержал и обратился к Жене:
«У тебя карта есть с собой?»
«Зачем тебе карта? — удивленно спросила она. — Я дорогу и так знаю!»
«Я хочу посмотреть здесь одно место», — уклончиво ответил я, вытаскивая из кармана в обивке автомобиля карту окрестностей Москвы.
Женя время от времени бросала на меня недоумевающие взгляды, когда я сосредоточенно возил пальцем по карте. Я не мог объяснить ей, что я ищу. Я искал посёлок, где живёт Галина. Меня преследовало неотвязное чувство страха, что мы можем проехать мимо ветхого домика, где за открытым окном одиноко ютится гордая и несчастная девушка.
Издалека до меня доносились слова, которые сказал Андрей однажды ночью в Потсдаме — «… люди, на которых пал жребий». Я боялся, что из своего печального уединения Галина может увидеть меня в окружении безмятежного счастья.
Приехав на дачу, Женя необычайно долго и подробно расспрашивала меня о жизни в Германии. Её не удовлетворяли все мои объяснения и рассказы. Она допытывалась до каждой мелочи и затем, совершенно без связи с предыдущим, неожиданно посмотрела мне в глаза:
«А почему ты такой худой?»
«Я чувствую себя прекрасно, — ответил я. — Может быть, просто замотался с работой».
«Нет, нет… — покачала головой Женя. — Ты очень плохо выглядишь. Ты чего-то не договариваешь».
Она посмотрела на меня внимательно, как будто стараясь прочесть мои мысли.
«Может быть, что-нибудь и есть, — тронутый заботой в голосе Жени, согласился я. — Но я этого сам не замечаю».
«Зато я замечаю, — прошептала Женя. — Сначала я думала, что это между нами… Теперь я вижу, что это другое. Забудь обо всём…»
И я забыл обо всём. Я был беспредельно счастлив видеть кругом только знакомые стены, слышать только Женю, думать только о ней.
Когда над лесом стали опускаться вечерние сумерки и полутьма поползла по комнате, Женя решила устроить торжественный ужин по случаю моего приезда. Она полностью чувствовала себя хозяйкой и задорно суетилась вокруг стола.
«Сегодня ты мой, — сверкнула она глазами в мою сторону. — Пусть отец сердится, что мы уехали. Пусть знает, как мучается мама, когда его нет дома. Я ему нарочно покажу!»
Только мы сели за стол, как за окном послышался шум приближающейся автомашины. Женя настороженно подняла брови. Автомобиль остановился у крыльца и через минуту в комнату смеясь вошла Анна Петровна, за ней следовал Николай Сергеевич и его товарищ по службе генерал-полковник Клыков. Вся компания была в очень весёлом настроении. Дом наполнился шумом и говором.
«Вот это замечательно! Не успели мы приехать — и стол уже накрыт, — смеясь и потирая руки, начал генерал-полковник. — Николай Сергеевич, у тебя не дочка, а прямо клад!»
«Ты думаешь, она это для нас приготовила? Жди! — отозвался Николай Сергеевич и шутливо обернулся к Жене. — Извините, что помешали, Евгения Николаевна! Разрешите присоединиться к вашему обществу?»
«А ты тоже хорош! — обернулся он ко мне. — Переоделся в гражданское и уже про армейские порядки забыл?! Знаешь, что первым долгом начальству нужно представляться. Ах вы, молодёжь, молодёжь…»
«А мы как раз домой собирались…» — начала было Женя.
«Зачем же ты тогда стол накрыла? Для нас? — захлебнулся от веселья отец. — Мы значит сюда, а вы — туда! Ну и хитра, дочка! Но я тоже не дурак. В наказание будете весь вечер с нами сидеть!»
Анна Петровна принялась за хозяйство. Вскоре на столе появилось обильное пополнение, привезённое в автомашине из Москвы. Этикетки на консервных банках и бутылках поражают своим разнообразием, здесь изделия всех стран Восточной Европы — Болгарии, Румынии, Венгрии.
Это не трофейные продукты, которые нам часто приходилось видеть во время войны, это нормальная продукция мирного времени. Здесь же знакомые американские консервы, видимо остатки от американских поставок по ленд-лизу во время войны. В магазинах Москвы всех этих продуктов нет, зато в закрытом генеральском распределителе их изобилие.
«Ну а теперь, Гриша, рассказывай всё по порядку, — обратился ко мне Николай Сергеевич, когда на столе появился десерт. — Как там жизнь в Германии?»
«Жизнь как жизнь», — ответил я неопределённо, ожидая, пока генерал уточнит свой вопрос.
«Квартира у него там, во всяком случае, лучше, чем у нас с тобой», — вставила свое слово Женя.
Генерал делает вид, что не слышал слов дочери, и снова спрашивает меня: «Что там сейчас Соколовский делает?»
«Делает то, что Москва прикажет, — отвечаю я и невольно улыбаюсь. — Вам здесь лучше знать, что он делает».
Видимо, я попал в точку, дав Николаю Сергеевичу возможность начать разговор, к которому он искал повода. Он обдумывает свои мысли. Анна Петровна наполняет вином бокалы. Женя со скучающим видом смотрит по сторонам.
«Германия — крепкий орешек, — первым нарушает молчание генерал-полковник. — Много времени пройдет, пока мы его раскусим. Союзники из Западной Германии без скандала не уйдут, а из одной восточной Германии толку мало. То ли дело со славянскими странами — раз-два и готово».
Он пробует вино, медленно опускает бокал на стол и говорит: «Я думаю, что наша первая задача — это создать крепкий блок славянских государств. Если мы создадим славянский блок, у нас будет хороший санитарный кордон вокруг границ. Наши позиции в Европе будут достаточно сильны, чтобы избежать повторения 1941 года».
«Ты, дружок, все назад смотришь, а нужно смотреть вперед, — укоризненно качает головой Николай Сергеевич. — Что нам толку со славянского блока? Старые мечты о пан-славянской империи! Такими игрушками баловались сто лет тому назад царские политики. Теперь у нас, брат, эпоха коммунистического наступления по всему фронту. Здесь забудь про славян, а ищи слабое место и действуй. Восточная Европа и западнославянские государства для нас сегодня интересны, главным образом, как наиболее благоприятная почва для проникновения, как плацдарм для дальнейшего».
«Пока что хозяева проводят совершенно ясную пан-славянскую политику», — возражает генерал-полковник. По принятой в московских верхах манере он прибегает к расплывчатому обозначению «хозяева», за которым подразумеваются Кремль и Политбюро.
«На то она и политика, чтобы скрывать конечные цели, — говорит Николай Сергеевич. — Сегодня стыдно было бы не использовать возможности. Одна половина Европы наша, а вторая напрашивается, чтобы её взяли и навели там порядок».
На дворе уже совершенно темно. В открытое окно на яркий свет ламп над столом летят ночные мотыльки. Ударившись о стекло и опалив крылья, они беспомощно падают вниз. Среди полуживых мотыльков по столу медленно, с трудом перебирая лапками, ползёт сонная осенняя муха. Муха не имеет цели, она просто ползёт и всё.
«Вот она — Европа! — с презрительной усмешкой говорит генерал и неторопливо, как будто подчеркивая свое превосходство, берет сонную муху между пальцев. — Ее даже ловить не нужно — просто взять!»
«А скажи по совести, Николай Сергеевич, зачем тебе эта дохлая муха? Какой тебе из неё прок?» — говорит генерал-полковник.
«Сама по себе Западная Европа для нас, конечно, не представляет большого интереса, — немного подумав, отвечает отец Жени. — Привить европейцам коммунизм пожалуй труднее, чем кому-либо другому. Для этого они слишком избалованы и экономически и духовно».
«Вот видишь! Ты сам говоришь, что коммунизировать Европу очень трудно, — подхватывает его мысль генерал-полковник. — Если мы захотим строить там коммунизм всерьёз, то придётся половину Европы переселить в Сибирь, а вторую половину кормить за свой счёт. Какой нам смысл?»
«Европа нам нужна для того, чтобы Америка, лишённая европейских рынков, задохнулась экономически. Впрочем…»
Николай Сергеевич замолкает и задумчиво катает несчастную муху между большим и указательным пальцами правой руки. Затем, как будто придя к определённому решению, он щелчком сбрасывает свою жертву со стола и снова повторяет «Впрочем…» «Мы с тобой не знаем, что думают хозяева, да мы и не должны этого знать, — в словах Николая Сергеевича проскальзывает нечто, заставляющее полагать, что он знает больше, чем старается показать. — Коммунистическая теория гласит, что революция должна разворачиваться там, где для этого есть наилучшие предпосылки — в самом слабом звене капиталистической системы. А это звено сейчас не в Европе».
Николай Сергеевич протягивает свой пустой бокал через стол, жестом прося Анну Петровну пополнить его вином. Свет лампы скользит по груди генерала.
Там среди орденов с германского фронта поблескивают несколько крупных монгольских и китайских звёзд. Эти звёзды появлялись на груди генерала каждый раз, когда он возвращался со своих таинственных миссий в довоенное время.
«Сейчас Азия созрела для революции, — продолжает он. — Там с наименьшим риском и наименьшей затратой средств мы можем добиться наибольших успехов. Азия просыпается национально. Мы должны использовать это пробуждение в наших целях. Азиаты не настолько культурны и избалованы, как европейцы».
«Азия в наших руках важнее, чем Европа, — отвечает Николай Сергеевич своим мыслям. — Тем более, что Япония теперь вышла из строя. Сегодня ключ к Азии — это Китай. Одновременно с этим, нигде в мире нет таких благоприятных предпосылок для революции, как в Китае».
«Ну, хорошо, я тебе отдам Китай, — шутливо говорит генерал-полковник. — Что ты с ним будешь делать?»
«Это колоссальный резервуар живой силы, — отвечает Николай Сергеевич. — Шутка сказать — иметь такой резерв для армии и для промышленности. А самое главное — этим мы поставим Америку на колени».
«Опять тебе Америка покоя не даёт», — смеется генерал-полковник.
«Рано или поздно, а наши дороги перекрестятся, — говорит отец Жени. — Или мы должны отказаться от нашей исторической миссии, или быть последовательными до конца».
«А я всё-таки полагаю, что наша послевоенная политика направлена к тому, чтобы по возможности обеспечить безопасность наших границ. Как на Западе, так и на Востоке», — настаивает генерал-полковник.
Из осторожности он придаёт своим словам форму толкования политики Кремля, а не своей личной позиции в этом вопросе.
Николай Сергеевич с улыбкой превосходства качает головой: «Не забывай, дорогой, что социализм можно построить в одной стране, а коммунизм — лишь во всем мире».
«Какое тебе дело до всего мира, когда ты русский?»
«Мы, прежде всего коммунисты, а потом уже русские…»
«Так, так… Значит тебе необходим весь мир», — слегка иронически постукивает пальцами по столу генерал-полковник.
«Такова генеральная линия Партии!» — холодно звучит ответ Николая Сергеевича.
«Наша политика во время войны…» — слабо пытается возразить Клыков.
«Политика может измениться в зависимости от обстановки, а генеральная линия остается генеральной линией», — не даёт ему окончить Николай Сергеевич.
«Так должно быть, — медленно говорит он, ни к кому не обращаясь и как бы подводя итог своим мыслям. — Это историческая необходимость! Мы уже исчерпали все возможности внутреннего развития. Внутренний застой равносилен смерти от старческой слабости. Мы и так уже во многом вынуждены хвататься за прошлое. Мы должны или окончательно отступить на внутреннем фронте, или идти вперед на внешнем фронте. Это закон диалектического развития каждой государственной системы».
«Ты заходишь слишком далеко, Николай Сергеевич. Ты ставишь интересы государственной системы выше интересов твоего народа и твоей страны».
«На то мы с тобой и коммунисты», — медленно и твёрдо говорит отец Жени и поднимает бокал, подтверждая этим свои слова и как бы приглашая следовать его примеру. Генерал полковник делает вид, что не замечает приглашения и лезет в карман за папиросами. Анна Петровна и Женя прислушиваются к разговору со скучающим видом.
«То, что ты, Николай Сергеевич, говоришь — это слова, а на деле это означает — война, — после долгого молчания говорит Клыков. — Ты недооцениваешь внешние факторы, например Америку».
«Что такое Америка? — Николай Сергеевич не торопясь поднимает в знак вопроса растопыренные пальцы. — Конгломерат людей, не имеющих нации и идеалов, где объединяющим началом является доллар. В определённый момент жизненный стандарт Америки неминуемо упадёт, классовые противоречия возрастут, появятся благоприятные предпосылки для развертывания классовой борьбы. Война с фронта будет перенесена в тыл врага».
Уже глубокий вечер. В Москве бесчисленные инвалиды, вдовы и сироты пораньше ложатся в постель, чтобы не чувствовать голода в пустом желудке, чтобы забыться во сне от своих горестей и забот.
Где-то далеко на Западе, окутанные ночной мглой, в мёртвой безнадежности лежат Германия и Берлин — наглядный урок тем, кто рассматривает войну, как средство политики.
«На то мы с тобой и генералы, чтобы воевать», — как эхо звучат слова Николая Сергеевича.
«Генерал, прежде всего, должен быть гражданином своей родины, — глубоко затягивается папиросой Клыков и пускает дым к потолку. — Генерал без родины — это…»
Он не заканчивает своих слов.
Во время войны генерал-полковник Клыков успешно командовал крупными соединениями Действующей Армии. Незадолго до окончания войны он был неожиданно снят с фронта и назначен на сравнительно подчиненную должность в Наркомате Обороны.
Для боевых генералов такие перемещения не происходят без соответствующих причин. Перед отъездом в Берлин я несколько раз встречал Клыкова в обществе Николая Сергеевича и Анны Петровны. Всегда, когда речь заходила о политике, он был очень умерен и придерживался национально-оборонческой позиции.
В то время, в конце войны, можно было часто слышать довольно независимые разговоры или, вернее, догадки о будущей политике СССР. Едва ли приходится сомневаться, что слишком откровенные высказывания генерал-полковника, не совсем гармонирующие с молчаливыми планами Политбюро, послужили причиной его перевода из Действующей Армии в тыл, поближе к недремлющему оку Кремля.
Желая смягчить свои последние слова, Клыков после наступившей неловкой паузы примирительно говорит: «Не будем лучше об этом спорить, Николай Сергеевич. В Кремле сидят головы поумней нас с тобой. Пусть они и решают».
Оба генерала замолкают. Анна Петровна листает журнал. Женя с тоской попеременно смотрит, то на часы, то на поднимающуюся над лесом луну за окном. Наконец она не выдерживает и поднимается на ноги.
«Ну, вы здесь можете дальше мир делить, а мы поедем домой. Все равно нужно две машины вести», — добавляет она в оправдание.
«Что? Луна тебе покоя не даёт! — смеётся отец. — Езжайте, только не заблудитесь по дороге. В случае чего я с тебя, Гриша, ответ спрошу».
Он шутливо грозит пальцем в мою сторону.
Через несколько минут мы выруливаем за ворота дачи. В лунном свете призрачно ползут по земле тени деревьев. Чёрным куполом раскинулось вверху мерцающее небо.
Тишина. Иногда из-за деревьев, отражая лунный свет, поблёскивают стекла в окнах спящих дач. Машина покачивается на неровной лесной дороге. Я молча сижу за рулём.
«Что это ты сегодня как в рот воды набрал?» — спрашивает Женя.
«А что я могу говорить?» — спрашиваю я в свою очередь.
«То, о чем и другие говорят».
«Повторять то же, что и твой отец, я не могу. А поддерживать Клыкова мне нельзя».
«Почему?»
«Потому что я не Клыков. То, что твой отец терпит от Клыкова, он никогда не позволит мне. Ведь Клыков говорит очень неосторожные вещи».
«Забудь о политике!» — шепчет Женя. Она протягивает руку к щиту управления и выключает фары.
Ночь, чудная лунная ночь ласкает нас своей тишиной, зовет и манит. Я смотрю на омытое лунным светом личико Жени, на её затуманенные в полусвете глаза. Моя нога медленно опускает педаль газа.
«Если ты опять не закроешь глаза…» — шепчет Женя.
«Женя, я должен править».
Вместо ответа стройная ножка ложится на тормоза. Машина не хочет слушаться руля, медленно ползет в сторону и останавливается. Лунная ночь отражается в глазах Жени.
Последующие дни я провел, навещая моих многочисленных московских знакомых и друзей. Со всех сторон сыпались вопросы о жизни в Германии. Хотя оккупированная Германия и не являлась больше, в полном смысле слова, заграницей, хотя многие русские уже видели Германию своими глазами, болезненный интерес основной массы народа к миру по ту сторону рубежа не ослабевал.
Мне, имевшему возможность ознакомиться с обеими сторонами медали, было странно слышать наивные вопросы людей, представлявших себе жизнь заграницей чем-то вроде сказочного рая. Этот болезненный интерес и преувеличенно радужное представление о внешнем мире являются реакцией на абсолютную изоляцию Советской России.
Кроме того, у русских имеется одна характерная черта, довольно редкая в мышлении большинства других наций мира. Русские всегда стараются искать в своих соседях по планете лишь хорошие стороны. В свое время немцы объясняли это примитивным мышлением Востока.
Удовлетворив, по возможности, любопытство моих знакомых, я сам переходил к вопросам и интересовался жизнью в Москве. Люди очень охотно слушали мои сдержанные рассказы о жизни в оккупированной Германии, но на мои вопросы о жизни в Москве отвечали ещё более сдержанно. Настроение у всех было безрадостное. Цены на продукты питания, слегка падавшие в последний год войны, в первые месяцы после капитуляции Германии остановились на точке замерзания, а затем медленно, но неуклонно, поползли вверх.
Благодаря очень скудному рационированию основная масса населения вынуждена, в той или иной мере, пользоваться, так называемым, вольным рынком, где покупатель и продавец рискуют попасть в конфликт с законами.
Цены на этом вольном рынке являются барометром жизни страны. И вот через год после победного окончания войны и без того астрономические цены военного времени неуклонно ползут вверх. Это означает голод. Причем голод, где уже отсутствует возможность объяснения его трудностями военного времени.
Люди ожидали, что вскоре после окончания войны условия жизни значительно улучшатся. Вместо этого газеты снова истерически кричат о новой военной опасности. Люди не знают, чего им больше бояться — новой ли войны или непрекращающегося голода.
Одни высказывают предположение, что назойливая пропаганда новой военной опасности служит манёвром, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних трудностей, объяснить эти трудности внешними причинами.
Другие качают головами и уверяют, что продолжающаяся нехватка продуктов вызвана тем, что правительство собирает стратегические запасы на случай новой войны.
Помимо того, для всех ясно, что урожай этого года плохой. Даже и без внешних причин, он едва ли удовлетворит нужды страны. Так или иначе, настроение в Москве мало напоминает радужные надежды в дни победы над Германией. Победители не только голодают также, как и побеждённые, но ещё и мучаются страхом новой войны. Немцы свободны хоть от последнего и могут быть счастливы, что вышли из игры.
Когда люди узнают, что в Берлине мы запросто встречаемся с американцами, разговариваем и даже пожимаем друг другу руки, они смотрят на меня, как на привидение, и не знают, что сказать по этому поводу.
Хотя за год, прошедший после окончания войны, отношения союзников в Берлине заметно охладели, сам факт совместного пребывания в одном городе как-то сглаживал постепенно возрастающую натянутость официальных отношений.
Здесь же, в Москве, благодаря односторонней и беспрерывной травле с помощью всех средств печати и пропаганды, люди непроизвольно, вопреки своим личным убеждениям, начинают думать об американцах, как о людоедах. Яд пропаганды делает своё дело.
Однажды вечером я, как обычно, зашел к Жене. В доме была заметна подготовка к отъезду. Анна Петровна объяснила мне, что на следующее утро они всей семьёй собираются навестить родителей Николая Сергеевича, живущих в деревне между Москвой и Ярославлем, и передала мне приглашение генерала ехать вместе с ними.
Из рассказов Анны Петровны я знал, что родители генерала простые крестьяне и что до сегодняшнего дня, несмотря на все уговоры сына, они не желают переселяться в Москву, а предпочитают оставаться на родной земле и заниматься своим крестьянским трудом.
Выслушав приглашение Анны Петровны, я с удовольствием согласился. Женя слегка наморщила нос и не сказала ни слова. По её сдержанному тону я уже и раньше заметил, что она не любит навещать своих деревенских родственников и ездит туда только по желанию отца. Выросшая в новой среде в Москве, она в глубине души чуждалась своего крестьянского происхождения.
Ранним утром следующего дня Николай Сергеевич, Анна Петровна, Женя и я сели в лимузин генерала и выехали из Москвы в направлении на Ярославль. Над землей поднимался утренний туман. По дороге в грязных засаленных костюмах неторопливо плелись на работу рабочие многочисленных заводов, раскиданных в пригородах Москвы.
Шли они, не разговаривая друг с другом и не глядя по сторонам. На их лицах и одежде лежала серая печать безразличия. Не видно было ни велосипедов, ни мотоциклов, как это обычно на дорогах Германии.
Через некоторое время пригороды столицы, с их трубами заводов, беспорядочно разбросанными домами новостроек, вперемежку с ветхими деревянными избушками и клочками огородов, остались позади.
По сторонам шоссе зашумел листьями пышный девственный лес. Подмосковные леса — это не аккуратные лесонасаждения Германии, где даже присутствие диких кабанов и коз не может сгладить следов руки человека. Здесь царит дикая природа — стихия, где человек чувствует себя в гостях.
К полудню, после блужданий по лесным дорогам, мы приближаемся к месту назначения. Тяжело покачиваясь на ухабах, лимузин ползком преодолевает последние препятствия и выезжает на улицу деревни. Мёртвая тишина и безлюдье. Не видно домашних животных и кур, не видно и не слышно даже собак. Деревня кажется покинутой своими жителями.
Наш автомобиль останавливается у одной из изб на окраине деревни. Генерал, кряхтя, вылезает из машины и разминает ноги после долгого сидения. Анна Петровна возится в машине, собирая свои вещи. Женя и я ждём, пока они пойдут вперед. В избе ни движения, ни признака жизни. Никто не появляется встречать нас.
Наконец, генерал поднимается по ступенькам крыльца и открывает незапертую дверь. Мы проходим тёмную переднюю, где пахнет навозом. Генерал без стука открывает дверь в жилое помещение. На полу посреди комнаты сидит босоногая простоволосая девочка лет восьми.
Она качает свисающую с потолка люльку с грудным ребёнком и в полголоса припевает. Увидев нас, девочка замолкает. Не поднимаясь с пола, она полуудивленно, полуиспуганно смотрит на новоприбывших.
«Здравствуй, красавица! — обращается к ней генерал. — Ты что — язык проглотила?»
Девочка молчит и от смущения засовывает палец в рот.
«А где остальные?» — спрашивает генерал. Он стоит посреди комнаты, широко расставив ноги и засунув руки в карманы галифе с двойными красными лампасами.
«На работе», — односложно отвечает ребёнок.
За нашей спиной раздаётся шум. На огромной русской печи, занимающей почти половину комнаты, шевелятся чьи-то ноги в дырявых валенках. Некоторое время с печи доносится приглушённое кряхтение и оханье, затем из-за ситцевой занавески высовывается всклокоченная седая голова.
«А-а-а… Это ты, Миколай! — звучит слегка хрипловатый старческий голос. — Опять приехал?!»
Это отец генерала. Лицо старика равнодушно и не обнаруживает ни малейшей радости при виде своего сына.
«А кому же быть, как не мне, — с наигранной весёлостью шутит генерал. — Я тебе, Сергей Васильевич, чего-то привез. Чтобы кости не болели. От бутылки водки, наверное, не откажешься?!»
Он треплет спустившегося с печи старика по плечу.
«Ты бы лучше хлеба привез, чем водки», — бурчит тот.
«А ну, Маруся, давай бегом к председателю колхоза, — командует генерал, обращаясь к девочке. — Скажи, чтобы отпустил всех наших с работы. Скажи, что генерал приехал».
«Генерал, генерал… — ворчит старик в бороду и затем любовно кладёт руку на голову Жене. — А ты все цветёшь, стрекоза? Не забыла ещё старого деда в этой своей Москве?!»
Я вытаскиваю из машины пакеты и свёртки с подарками, которые привез с собой генерал. Один за другим появляются с работы остальные жители избы — многочисленная родня генерала и их уже взрослые дети. Все они держатся очень неловко и не обнаруживают радости при виде гостей, они смущены непредвиденной помехой и связанной с этим суетней.
Последним приходит опирающийся на палку инвалид, — кладовщик в колхозе и двоюродный брат генерала.
По принятому в деревне обычаю в доме командует старший. Старик, лежавший при нашем приходе на печи, отец генерала Сергей Васильевич, машет рукой в сторону одной из женщин.
«Накрывай на стол что ли, Серафима, — говорит он. — Давайте обедать коли уже гости приехали».
«Ты, Миколай, картошку давно не кушал? — продолжает он, обращаясь к своему сыну генералу. — Так вот, теперь попробуешь! Хлеба у нас в доме нет. Заместо хлеба картошку кушаем».
«А где же ваш хлеб? — спрашивает генерал. — Разве ещё не получили из колхоза?»
«Получили, получили… — ворчит дед Сергей Васильевич. — Всё до последнего зёрнышка колхоз сдал государству и ещё в долгу остался. Плана поставки не выполнили. Пока картошкой обходимся, а зимой так вообще неизвестно чем жить будем».
«Ну, это не беда, — успокаивает генерал и кивает головой на лежащие в углу пакеты. — Мы с собой хлеб привезли».
«Ах ты, Миколай, Миколай… — дед Сергей Васильевич стучит по столу ложкой, подгоняя Серефиму, возящуюся с горшками у печи. — Кабы, ты не мой сын был, я бы тебе на дверь указал. Ты шо, — для насмешки в деревню со своим хлебом приехал? У нас здесь такой обычай — хозяева гостей угощают. Будешь кушать то, что и мы едим. И никаких мне тут разговоров. Прошу не побрезговать нашим обедом!»
Дед Сергей Васильевич жестом приглашает всех к столу, где в огромном чугуне дымится борщ. Серафима ставит рядом алюминиевую кастрюлю с варёной картошкой в мундире. Затем она расставляет по столу глиняные миски и деревянные ложки.
Генерал первый с шумливой весёлостью занимает место за столом. Анна Петровна, смущённо улыбаясь, следует его примеру и осторожно опускается на лавку, предварительно подвернув свое шелковое платье. Женя возится в углу комнаты, делая вид, что всё происходящее её не касается.
Генерал разговорчивее всех и усиленно старается показать, что он чувствует себя очень уютно в доме, где он когда-то родился.
Он с шутками чистит вареную картошку, заменяющую за обедом хлеб, с готовностью подставляет свою глиняную миску, куда Серафима наливает пёстрое варево, называющееся борщом и где нет и признаков мяса или жиров. Некоторое время за столом царит молчание и слышен лишь стук ложек.
«Что это за обед без водки, — наконец не выдерживает генерал, встает из-за стола и идёт к своим пакетам. — Вот сейчас пропустим по маленькой — и сразу веселее будет».
Все присутствующие мужчины охотно следуют приглашению генерала и вскоре бутылка водки оказывается пустой. За ней на столе появляется другая.
Крестьянский обед, состоящий из одного борща с картошкой вместо хлеба, быстро подходит к концу. Генерал снова прибегает к помощи своих пакетов и стол загромождается пестрыми банками консервов с надписями на всех языках Европы.
Дед Сергей Васильевич угрюмо смотрит на эту картину, хочет сначала запротестовать, но потом сдерживается и, глядя на диковинные банки, ограничивается коротким замечанием: «Награбили…» Он качает головой из стороны в сторону и ворчит про себя: «А те-те… Дожили… В России хлеба нет… Как хотите, а я эту ворованную дрянь в рот не возьму».
Обильное количество водки делает свое дело. У всех развязываются языки. Над столом поднимается нескладный шум и говор.
«Ну, как, Миколай. Говорят, снова войной пахнет?» — спрашивает дед Сергей Васильевич, немного оживившийся после нескольких стопок водки.
«До войны-то пока далеко, но ко всем неожиданностям нужно быть готовым», — отвечает генерал. Он расстегнул китель и откинулся назад, облокотившись на подоконник. «Войну мы выиграли, теперь надо мир выиграть», — добавляет он с самосознанием.
«Это какой-такой мир? — хитро щурится дед Сергей Василич. — Опять что ли это… пролетарии всех стран соединяйтесь?»
«Да, конечно, пролетариев других стран тоже забывать нельзя», — говорит генерал лениво, сам чувствуя неуместность своих слов в окружающей обстановке. «Пролетарская солидарность!» — добавляет он, избегая смотреть по сторонам.
«Так, так… То шо мы пролетари, это я своим брюхом круглый день разумею, — усмехается старик. — А насчёт этой самой солидарности как? Штоб другие, значится, вместе с нами голодали. Так что ли?»
«Давай лучше выпьем, Сергей Василич», — генерал видит, что ему бесполезно спорить с упрямым отцом и наполняет стакан водкой.
«Ты вот мне одно скажи, Миколай, — переходит в наступление дед Сергей Василич. — То шо мы эту войну и кровь проливали и голодали — за это я молчу. Слава Богу, что оно так кончилось! Но ты вот одно скажи — хотели солдаты сначала воевать или нет? Ты, как генерал, это знать должен».
Генерал молча смотрит в стол.
«Молчишь!? — торжествует дед Сергей Василич. — Не хотели солдаты воевать! Сам знаешь почему. Потому им эти песни давно поперек горла стали. Песнями сыт не будешь».
«Ну, а войну-то мы всё-таки победили», — защищается генерал.
«Ты, Миколай, хоть мне, твоему отцу, в глаза не ври, — горячится старик. — Ты шо, забыл, что там во время войны обещано было? Почему церкви открыли? Почему русские погоны дали? Почему ты на грудь царские ленты вывесил? За спину русского народа спрятались! Земля и воля нам была обещана! За то и воевали! Где всё это?»
Дед в ожесточении стучит костлявым кулаком по столу, так что дребезжат стаканы. Из всклокоченной бороды сыпятся запутавшиеся там крошки хлеба.
«Где всё это?» — ещё раз кричит он и яростно тыкает сухим старческим пальцем в разбросанную по столу картофельную шелуху.
«Не всё сразу», — слабо возражает генерал.
«Что это — не всё сразу? — как пороховая бочка взрывается дед Сергей Василич. — Что? Ещё хуже будет?»
«Да, нет. Всё сразу не поправишь, что разрушено», — отступает генерал.
«А, это дело другое. А то ты мне опять со старой молитвой. Солидарность! Пролетари! Мы эту песню наизусть знаем! Спереди назад и сзади наперед».
Генерал молчит и апатично жует хлебную корку. Дед Сергей Василич не может успокоиться. Он собственноручно наливает дрожащими руками стакан водки и опрокидывает его в горло. Утерев рот ладонью, он оглядывается кругом, ища, кто осмелится противоречить.
Остальные члены семьи безучастно смотрят в свои пустые тарелки. Только лишь инвалид, сидящий в углу стола, нервно играет пальцами и беззвучно шевелит губами. Он хочет что-то сказать, но не решается выступить против генерала.
«Ты мне, Миколай, сказки не рассказывай, — решительно заявляет дед Сергей Васильевич и вызывающе смотрит через стол. — Я твоё занятие насквозь вижу. Думаешь, я не знаю, как ты двадцать лет по белу свету с факелом носишься? Думаешь, я не знаю, откуда у тебя все эти блямбы?»
Дрожащий старческий палец устремлен на иностранные ордена на груди сына.
«Когда ты в этой люльке лежал, — старик кивает головой через плечо на свешивающуюся с потолка колыбель. — В этом доме тогда не то, что хлеба — всего полная чаша была. Теперь ты в генералы вылез, а в той люльке ребёнок с голоду кричит. Где совесть твоя? Ты что — совесть свою на эти блямбы променял?»
Старик снова сверкает злобным взглядом на ордена на груди сына.
«Дедушка Сергей, где у тебя лукошко?» — спрашивает Женя, до того молча сидевшая рядом с отцом. Она поднимается из-за стола и идёт в переднюю, где висят на стенке берестяные плетёнки.
«Что, стрекоза, надоело тебе? — смотрит ей вслед старик. — Пойди, сходи лучше по грибы. На ужин грибы с картошкой сделаем».
Женя стоит в дверях с лукошком через руку и кивает мне головой, приглашая следовать за ней. Когда я выхожу из комнаты, вслед мне доносятся слова деда Сергея Василича:
«Так-то вот, Миколай! Чтобы я в моём доме больше о пролетариях не слыхал! Это для меня как ругательство. Мы и есть самые, что ни на есть последние пролетарии. Если уж кого освобождать — так это нас. Понял! Так себе на лбу и запиши».
Генерал не отвечает ни слова. В родном деревенском доме господствует древний закон — закон старшинства, где права старческая седина и мудрость поколений.
Мы с Женей выходим за околицу деревни. Неподалёку начинается лес. Небо от края и до края подернуто серой пеленой. По-осеннему прозрачен воздух. Он наполнен запахом прелой листвы и сырости. Женя накинула на голову платок, повязала его узлом под подбородком. Свои туфли на высоких каблуках она сняла и бросила в лукошко.
Женя молча идёт впереди, осторожно ступая в траве босыми ногами. Я следую за ней, лаская глазами гибкую фигурку девушки. Мы всё дальше углубляемся в лес и, наконец, выходим на широкую поляну.
Огромные, поросшие мхом пни спиленных деревьев, вокруг которых разрослось буйное царство диких ягод, грибов и трав. Между пнями тянется к жизни новый подлесок. Шелестят жёлтыми листьями стройные берёзки. Присели к земле молодые ёлочки, как будто пряча что-то под своими ветвями.
«Зачем только отец сюда ездит», — нарушает молчание Женя. Она бесцельно идёт вперед, опустив голову и глядя себе под ноги. «Дедушка Сергей ему каждый раз такой театр устраивает, а отцу это как будто нравится», — добавляет она.
«Может быть, отцу приятно лишний раз увидеть разницу, кем он был и кем стал», — говорю я. Несмотря на то, что я стараюсь говорить безразличным тоном, в моём голосе проскальзывает что-то новое.
«Меня уже давно тяготит эта комедия, — продолжает Женя, не оборачиваясь и медленно шагая вперед. — И ещё больше неприятно, что ты теперь тоже увидел это».
«Женя!» — окликаю я тихо.
Девушка оборачивается так быстро и с такой готовностью, словно она уже давно ожидала этого оклика. Карие глаза устремлены на меня в ожидании.
«Женя, о какой комедии ты говоришь?» — спрашиваю я и чувствую, как внутри у меня поднимается скользкое и неприятное подозрение. Девушка смотрит растерянно, поражённая звуком моего голоса.
Я беру её осторожно за руки и прислоняю спиной к огромному мшистому пню, поднимающемуся вровень с её головой. Она покорно повинуется.
«Разве ты сам не замечаешь этого?» — пробует она уйти от вопроса.
«Дело не в самой комедии? — я смотрю Жене в глаза и вижу, что она ожидает и одновременно боится моих слов. — Кого ты считаешь здесь комедиантом?»
«Я… я не знаю, Гриша…»
«Женя, кого ты считаешь здесь комедиантом?» — сурово повторяю я.
«Мне жалко дедушку Сергея», — шепчет Женя, опустив глаза. По выражению её лица видно, что этот разговор для неё мучителен. «Но все это так несуразно…» — как будто извиняясь добавляет она.
«Так, по-твоему, дедушка Сергей комедиант?» — настаиваю я.
«Нет, он прав. Но…» — в глазах у Жени стоят слёзы.
Чувство облегчения смешивается в моей груди с тёплой волной нежности. Я медленно беру голову Жени между рук и молча целую её в губы. Я не хочу дальше мучить девушку, заставляя её отрекаться от родного отца. Остальное понятно и без слов.
«Знаешь что, Женя, — говорю я, лаская выбивающиеся из-под косынки пряди волос. — Я тебе сейчас очень благодарен».
«Почему?!» — шепчет она удивленно.
«Я боялся за тебя. Я очень боялся, что ты скажешь иначе…»
Трепещут листья берёз от невидимого дыхания ветра. На ветке засохшего куста качается маленькая лесная птичка и смотрит на нас чёрной бусинкой глаза.
«Мне было обидно за старика, — говорю я в раздумье. — До войны каждый жил в своем гнезде и каждый строил своё благополучие, как умел. Во время войны все изменилось — была опасность всем и все были равны перед смертью. Среди крови и зла я видел слишком много добра от незнакомых мне людей, простых людей, таких как дед Сергей. Война нас кровью побратала. Сейчас я за этих людей душой болею».
По небу ползёт серая пелена. От земли тянет запахом сырости. Птичка вспархивает и улетает. Осиротело качается сухая ветка, где сидела птичка.
«Мы с тобой наверху, — тихо говорю я. — Этого нельзя забывать, но этого нельзя и переоценивать. Наше пребывание наверху только тогда имеет смысл, когда мы не забываем этого. Мне кажется, что твой отец забыл об этом. Этого я боялся и в тебе…»
Шорохи осеннего леса стелятся по лесной поляне. Я смотрю на босые ноги Жени, на её крестьянский платочек, на лукошко, стоящее рядом на земле. Девушка держит в руках сорванную по дороге кисть рябины.
«Я был бы бесконечно счастлив, если бы ты была только внучкой твоего деда и жила в этой избе», — говорю я.
Женя плотнее прижимается ко мне, как будто ей холодно. По мшистому пню, устало перебирая лапками, ползет муравей.
«…Тогда бы я знал, что ты моя», — шепчу я на ухо Жене.
«Знаешь, я сейчас с тоской вспоминаю наши первые дни. Когда ты была для меня просто Женей — очаровательной девушкой и подругой солдата. Помнишь, как я стучал в твои двери? В измятой шинели, с фронтовой дороги… Я каждый раз гордился тобой, маленькой солдатской женой…»
Муравей ползает по круглому срезу пня, не находя выхода. Он доползает до края, удивлённо смотрит вниз, в открывающуюся перед ним бездну.
«Гриша, скажи мне теперь всё откровенно», — девушка, прислонившаяся спиной к мшистому пню, мало чем напоминает былую задорную и беззаботную Женю. Она говорит тихо и серьёзно. В её голосе нет ни обвинения, ни просьбы.
«Ты вернулся из Берлина, совсем другой. Тебя как будто подменили изнутри. И все время ты отмалчиваешься. Я чувствую — тебя угнетает что-то. Что это?»
«Мне печально, Женя, что наша дружба так и останется только дружбой…»
«Что тебе мешает?»
«Когда я впервые познакомился с твоим отцом, я гордился им. Тогда он был для меня первым солдатом…»
«А теперь?» — Женя смотрит мне в глаза странным взглядом.
Я не отвечаю прямо на вопрос. Я ещё сам не могу понять этого, я это только чувствую.
«Оставить твою среду и быть только моей — этого я не могу требовать от тебя, — тихо говорю я. — Мне же включиться в твою среду — это означает гибель для нас всех».
«Так значит на пути мой отец?!» — со странным спокойствием произносит девушка. Слова звучат, как ответ собственным мыслям.
Я молчу и тихо глажу хрупкие плечи. Трепещут листья берёз. Безмолвно нависло пасмурное небо. Бесцельно ползет муравей по пню.
«Не бойся, Гриша. Я сама догадывалась об этом, — в голосе Жени слышится усталость. — Только я тебе одно хочу сказать — между нами стоит не отец. Между нами встало то же, что уже давно стоит между мной и отцом. Я только женщина и дочь. Я чувствую это по-другому». Она молчит некоторое время, потом тихо добавляет: «Я когда-то уже говорила тебе, что я — сирота…»
Девушка в крестьянском платочке подносит ветку рябины к лицу и ласкается щекой о холодные грозди. Воздух пронизывает свежесть приближающейся осени. Мы молча стоим среди лесной поляны, забыв, зачем мы сюда пришли.
«Так ты уже твёрдо решил это?» — спрашивает, наконец, Женя.
Я только беспомощно пожимаю плечами и смотрю на муравья.
«А если я брошу всё — и уеду к тебе в Берлин?»
«Мое положение там слишком неуверенно. Я не могу рисковать твоим будущим…»
Женя в забытье играет оранжевой кистью ягод. Её глаза устремлены куда-то в даль поверх моего плеча.
«Я никогда не забуду тебя, моя девочка…» — говорю я и не знаю, кого я хочу утешить — её или себя. Сердце ещё раз, как когда-то давным-давно, захлёстывает безвыходная волна солдатской разлуки, грусти и нежности. Но на этот раз тело девушки не трепещет и не ласкает меня, как в былые дни. Оно безжизненно и холодно.
«Не сердись на меня… — прошу я. — Мне самому очень тяжело. Очень…»
Девушка в крестьянском платочке поднимает голову. Пустота в её глазах медленно уходит, уступая место безудержному зову жизни.
«Если так должно быть…» — шепчет она. «Маленькая солдатская жена не будет плакать», — улыбаются сквозь слезы глаза Жени.
Она положила руки на мои плечи и откачнулась назад, как будто рассматривая меня в первый раз. Затем горячий поцелуй до боли ожигает наши губы.
Тихо шелестели листья берез и угрюмо молчал мшистый пень, глядя на девушку в крестьянском платочке и мужчину в непривычном для леса костюме.
«Откуда они пришли сюда, эти двое?» — шептали любопытные березы.
«Куда они идут?!» — вздохнул в ответ седой пень.
Пробыв две недели в Москве, я неожиданно почувствовал щемящую пустоту и тревожное беспокойство. Я с нетерпением ожидал, когда я смогу закончить свои дела в Энергетическом Институте, которые я, воспользовавшись пребыванием в Москве, решил привести в порядок. Всё это время меня не оставляло чувство человека, опаздывающего на поезд.
Андрей Ковтун уехал из Москвы еще раньше. В течение нескольких дней после встречи с Галиной он бродил как в трансе, совершенно не реагируя на окружающее. С большим трудом мне удалось уговорить его взять билет в Сочи и использовать отпуск для санаторного лечения. Даже при прощании на вокзале он не улыбнулся и, пожимая мне руку, смотрел куда-то в сторону.
Вскоре после нашей поездки с Женей в деревню я поймал себя на мысли, каким образом можно переслать по назначению подарки, которые я привёз с собой из Берлина. Меня пугала перспектива ехать из Москвы дальше, видеть и слышать больше, переживать крушение всех надежд ещё глубже.
Когда я уезжал из Берлина в отпуск на родину, я не ощущал необходимости отдохнуть. Теперь же, побыв в Москве, я почувствовал смертельную усталость и острую потребность в отдыхе.
Однажды утром в конце третьей недели, не дожидаясь когда истечет срок моего шестинедельного отпуска, я торопливо собрал в чемоданчик свои немногочисленные вещи и сел в троллейбус, идущий к Центральному Аэродрому.
Уже раньше я узнал по телефону, что в самолетах СВА, летящих из Москвы в Берлин, всегда есть свободные места. Как год тому назад стоял я в управлении Аэропорта, внося своё имя в регистрационный список пассажиров.
С щемящим сердцем я вошёл в телефонную кабину и набрал номер Жени. Когда в трубке отозвался знакомый голос, я сказал:
«Женя, я звоню с аэродрома. Меня спешно отзывают назад в Берлин».
«Ты лжёшь, — услышал я голос в трубке. — Но я не сержусь на тебя… Жаль только, что ты не поцеловал меня на дорогу…»
Я хотел сказать что-то, но Женя уже повесила трубку.
Через полчаса самолет поднялся в воздух. На этот раз пилот не делал прощального круга над Москвой. На этот раз я не смотрел в окно. Я не радовался тому, что ожидало меня впереди. Я старался не думать о том, что оставалось позади.
Глава 14 Эмиссары маршала
1
Итак, я бежал из Москвы в Берлин.
Когда за мной закрылась дверь моей квартиры в Карлсхорсте, я сел за стол и с тоской посмотрел на календарь. До окончания отпуска оставалось ещё две недели. Что делать? Явиться досрочно на работу? К чему!
Одни сочтут меня за сумасшедшего, другие — за карьериста. Пойти навестить друзей? Будет слишком много вопросов, на которые у меня нет никакого желания отвечать. Я торопился покинуть Москву, а куда и зачем — неизвестно.
Я решил просто отдохнуть и несколько дней подряд, переодевшись в гражданский костюм, ездил на пляж. Я специально выискивал места, где было скопление людей, и молча лежал на песке, наблюдая за бурлящей кругом жизнью чужого, беззаботного мира.
Сначала я находил в этом странное удовлетворение. Как будто эта бесцельная суета успокаивала меня. Затем мне стало досмерти скучно изо дня в день видеть те же свертки с бутербродами и те же детские игры взрослых людей.
На десять дней раньше положенного срока я явился к начальнику Управления Промышленности и отрапортовал о своем возвращении и желании приступить к исполнению служебных обязанностей. Лицо Александрова выразило приятное удивление.
«Ну, как отдыхалось в Москве?» — спросил он.
«Очень хорошо», — ответил я.
«Ваше возвращение как нельзя более кстати, — перешел Александров к делу. — Больше половины сотрудников сейчас в отпуску, а Главноначальствующий поручил нам спешную и ответственную работу. Нужно собрать для Москвы материал против демонтажников».
В течение получаса Александров объясняет мне натянутое положение, создавшееся между Управлением Репараций СВА и Особым Комитетом по Демонтажу при Совете Министров СССР. Для того, чтобы отстоять перед Москвой точку зрения СВА, необходимо собрать по возможности больше обвинительного материала о работе Особого Комитета в Германии.
С этой целью Управление Промышленности должно выделить в распоряжение Главноначальствующего специальную комиссию в составе нескольких инженеров, официальной задачей которых будет координирование работы СВА и Особого Комитета, а неофициальной задачей — сбор компрометирующего материала о деятельности демонтажников.
Работа комиссии должна протекать почти в беспрерывных командировках по крупнейшим промышленным предприятиям Советской зоны Германии.
«Если Вы согласны, то я предложу Вашу кандидатуру в состав комиссии, — заканчивает Александров. — Тем более, что Вы знаете немецкий язык, а там будет необходимость тесного контакта с немецкими директорами предприятий».
Работа в беспрерывных командировках и непосредственно на предприятиях. Последующие недели, может быть месяца, я буду свободен и от Москвы и от Карлсхорста! Это было самое благоприятное, чего я только мог желать в данное время. Я с готовностью согласился на предложение Александрова.
На следующий день я был включен в состав координационной комиссии, работающей непосредственно в аппарате Главноначальствующего.
Советский гражданин, сбежавший из Москвы, советский офицер, не находящий себе места в Карлсхорсте — и одновременно эмиссар Главноначальствующего СВА, работающий для Москвы. Случайное совпадение? Нет! Скорее всего, закономерность. Просто-напросто в советском аппарате прибавился ещё один механизм, работающий на холостом ходу.
Духовная жизнь приведена к нулевому знаменателю. Это — внутри. А снаружи — образцовый советский человек, автоматически выполняющий свои обязанности.
Золотые погоны и внешние функции стали не проявлением содержания этого механизма, а средством борьбы за жизнь в данных условиях среды. Ещё в одном советском человеке пришел к завершению тот болезненный процесс, который уже проделали тысячи и миллионы других советских людей.
2
Серый «БМВ» разрезает носом холодный осенний воздух. Монотонно шуршит под колёсами бетон автострады. По голому полю недалеко от автострады перелетает стайка куропаток.
«Давай стрельнём?» — спрашивает майор Дубов и тянется за двустволкой, засунутой за спинку сидения.
«Брось, — отвечаю я. — Всё равно кому-нибудь отдавать придётся».
«Очень хорошо, — смеётся майор. — Развяжем язык, кому надо. Василий Иванович — к бою!»
Наш шофёр — пожилой демобилизованный солдат. Он опускает стекло бокового окна. Серый «БМВ», как огромная ящерица, сползает с автострады. Объём черепной коробки у куропаток невелик — они не подпускают идущего человека, но в машине их дави хоть колесами.
Карлсхорст остался где-то позади. В кармане мандат за подписью маршала Соколовского:
«…в провинцию Тюрингия для выполнения спецзадания Главноначальствующего Советской Военной Администрацией в Германии».
Этого достаточно, чтобы открыть нам все двери в Тюрингии. Если кому этого будет мало, то на отдельном листе — Полномочное Задание:
«…для проверки выполнения приказа СВАГ №… и Распоряжения Совета Министров СССР от…»
Эти громкие формулировки предназначены главным образом для уполномоченного Особого Комитета по Демонтажу и советского директора на заводах «Цейсс» в Иене генерала Добровольского.
Хотя Добровольский и сугубо гражданский человек, бывший до этого директором одного из оптических заводов в СССР, и, кроме того, принадлежит к проблематичному племени «демонтажников», он пользуется авторитетом, т. к. имеет сильные позиции в Москве.
Несмотря на категорический приказ маршала Соколовского, обязывающий всех демонтажников снять шинели и переодеться в гражданское, Добровольский делает вид, что ему об этом приказе ничего не известно.
При встречах Добровольского с Соколовским, последний, не обращая внимания на генеральские погоны Добровольского, всегда дружелюбно-иронически обращается к нему по имени и отчеству, вопреки требуемому уставом обращению к военным по званию.
Кроме своей детской привязанности к генеральским погонам Добровольский славится своим крутым нравом. Бывали случаи, когда он запросто спускал всякого рода контролеров вниз по лестнице или вообще не пускал их на территорию «Цейсса».
При этом он вежливо добавлял: «Если не нравится — жалуйтесь в Москву». Но для того, чтобы жаловаться, нужно иметь материал, а до «Цейсса» не доберёшься иначе, как через Добровольского.
Если, у СВА есть внутренние враги или противники в Германии, то в первую очередь это относится к людям и организациям, известным под сводным именем — «демонтажники».
Начальник Управления по Репарациям и Поставкам СВА — генерал Зорин — после тщетных попыток координировать свою деятельность с демонтажниками, в отчаянии поставил крест на всякую возможность кооперации и все переговоры с людьми, подчас находившимися в пяти минутах езды от Карлсхорста, вёл через Москву в форме жалоб, требований и рапортов о дефиците плана репараций за счёт деятельности демонтажников.
Те же только посмеивались и продолжали рыскать по Германии в поисках того, на что СВА ещё не успел наложить секвестр. Но и секвестр СВА мало помогал.
Демонтажники быстро связывались с Москвой и оттуда обычно приходил приказ о передаче объекта в распоряжение демонтажников. Добровольского генерал Зорин видеть не мог и его посещения принимал как личное оскорбление.
В основные обязанности Экономического Отдела СВА входит обеспечение поставок по репарациям и обеспечение работы немецкой промышленности в соответствии с установленным для Германии по Потсдамскому Договору мирным экономическим потенциалом.
Уже согласование этих двух пунктов, принимая во внимание размер репарационных планов, представляет собой, мягко говоря, некоторые трудности. Тут же вмешивается ещё третья сила — демонтажники. Сила для нас стихийная, поскольку она подчинена не СВА, а непосредственно Москве.
Работа демонтажных организаций направляется Особым Комитетом по Демонтажу при Совете Министров СССР, т. е. самим Советом Министров, а также непосредственно заинтересованными Министерствами.
Политика довольно умная. Это своего рода социалистическое соревнование — два дяди взапуски доят одну и ту же корову.
Один дядя работает как браконьер — набрал как можно больше и ушел восвояси. Это демонтажники. Со второго же дяди и молоко требуют и полумертвая корова у него на шее останется, которую ещё долго доить придётся. Это мы, т. е. СВА. Что бы ни было с коровой и обоими дядями, а хозяин молоко до капельки получит.
В первые дни, когда Красная Армия переступила границу Германии, работа по сбору и учёту трофеев возлагалась на армейские трофейные бригады.
В их обязанности входил также и демонтаж промышленного оборудования. Вскоре стало ясно, что трофейные бригады не в состоянии справиться с огромным объёмом работ. Тогда-то и появилось на свет беспокойное племя демонтажников.
В начальной стадии это было в значительной мере стихийное явление, объединённое затем в своей деятельности Особым Комитетом по Демонтажу. Каждый Наркомат, Главные Управления Наркоматов, даже отдельные заводы посылали в Германию свои демонтажные бригады. Демонтаж стал модой.
Дошло до того, что даже Всесоюзная Библиотека им. Ленина в Москве послала своих книгонош демонтировать Гёте и Шиллера, а московский стадион «Динамо» спешно командировал свою футбольную команду в Германию на поиски подходящего для демонтажа плавательного бассейна.
Погоны и звания демонтажникам нацепляли исходя из следующих соображений: техник — лейтенант, инженер — майор, директор — полковник, ведущий работник Наркомата — генерал. Силы, породившие демонтажников, недолго ломали себе голову над этой проблемой.
Зато тем больше хлопот было для СВА, когда приходилось иметь дело с этими кустарными офицерами. Со временем они вошли во вкус обладания погонами и стоило большого труда демонтировать у них эти украшения.
Перед носом нашего «БМВ» расстилается бетонная лента автострады. Для нас, инженеров Главного Штаба СВА, командировки в провинцию — всегда желанное задание. Здесь за несколько дней можно почерпнуть массу нового и ценного с нашей профессиональной точки зрения материала.
Мы роемся в потрохах германской промышленности, как хирург на секционном столе. Потроха у пациента в достаточной мере вывернуты наружу. Жаль только, что когда-то цветущий здоровьем пациент на наших глазах прощается с жизнью.
Мы переливаем кровь другому пациенту. Иногда у нас возникает печальный вопрос: достоин ли второй пациент этой операции? Для беспристрастного хирурга-инженера этот вопрос временами становится мучительным. Но мы не должны думать об этом. Мы, прежде всего, — советские офицеры.
Майор Дубов послан в эту командировку, как специалист по оптике и точной механике. Его присутствие имеет некоторые побочные положительные стороны.
Он ещё со студенческой скамьи лично знаком с Добровольским. Пока он будет заговаривать ему зубы воспоминаниями, я без помех буду копать яму нашему врагу-конкуренту № 1.
Противоречия интересов между СВА и Особым Комитетом особенно ярко выступают на примере заводов Цейсса. После того, как прошла первая волна демонтажа, предотвратить которую СВА не имело ни времени, ни желания, стали думать об экономических соображениях.
С первых же дней Особый Комитет настаивал на необходимости полностью демонтировать предприятия Цейсса и пересадить их на новую почву в Сов. Союзе. Это было целесообразно с военно-стратегической точки зрения. Но были на этом пути и препятствия.
Дело в том, что промышленное оборудование «Цейсс» представляет собой сравнительно небольшую ценность. Там практически не было уникальных станков, которых бы не имелось в Сов. Союзе.
Ценность предприятий Цейсса была в людях-специалистах, начиная от простых рабочих-шлифовальщиков, проработавших на этих заводах всю свою жизнь и опыт которых передавался из поколения в поколение, и кончая инженерами, создавшими классические формулы оптической механики.
Если пересадить только оборудование «Цейсс», то оно не будет стоить и ломанного гроша без людей-специалистов. Пересадить же заводы со всеми людьми — это было слишком громоздкое и рискованное предприятие.
Пробовали применить компромиссное решение проблемы, предложили посылать для обучения советских рабочих и инженерно-технический персонал из Сов. Союза в Иену. По возвращении они должны были осваивать демонтированное оборудование и технический опыт Цейсса в Сов. Союзе.
Этот план в некоторой мере осуществлялся, но недостаточно. Кремль очень неохотно отпускает своих сынов заграницу, даже в оккупированную Германию. Они могут увидеть здесь кое-что помимо технического опыта Цейсса. Потом придётся проветривать их в Сибири. Сложно, долго и ненадёжно.
Первая очередь демонтажа показала себя нерентабельной. Демонтированное у «Цейсс» оборудование не давало сколько-нибудь значительного экономического эффекта в Сов. Союзе.
Одновременно ампутированный «Цейсс» в Иене превзошёл все ожидания и продолжал давать подлинно цейссовскую продукцию к удивлению самого генерала Добровольского, который после проведённого демонтажа остался на «Цейссе» в качестве советского директора.
В этой продукции генерал Добровольский был сравнительно мало заинтересован, т. к. она поступала в распоряжение Управления по Репарациям СВА и все лавры шли его заклятому врагу — генералу Зорину.
Зато СВА очень заинтересовалось заводами Цейсса, поскольку их продукция при установлении оккупационного стабилитета стала играть видную роль в балансе репараций.
Если будет произведён демонтаж второй очереди «Цейсса», чего настойчиво добивается Добровольский, то из репарационного баланса СВА выпадет крупнейшая активная статья.
Поскольку Совет Министров сумму репарационного плана никогда не снизит, — об этом бесполезно и думать, — то придётся изыскивать какие-то новые источники репараций, находить которые со временем становится всё трудней и трудней. Начинается дуэль СВА контра Особый Комитет.
Добровольский клятвенно уверяет Москву:
«Если я окончательно демонтирую «Цейсс», то через год он будет в Сов. Союзе давать продукции на 100 миллионов рублей».
СВА парирует и заявляет:
«Первая демонтированная очередь «Цейсс» в Сов. Союзе даёт пока убыток в 50 миллионов рублей и требует дотаций, а полуживой «Цейсс» в Иене даёт ежегодно поставки по репарациям в 20 миллионов марок».
Накось, тов. Добровольский! Мы ещё из-под тебя директорское кресло вытащим.
Спор СВА с Добровольским приобретает несколько неожиданный для обоих партнеров оборот. Москва, ознакомившись по отчётам обоих сторон с положением дел в Иене, отдаёт приказ:
«Для работы в оптической промышленности Сов. Союза на базе демонтированных предприятий Цейсса выделить из личного состава заводов «Цейсс-Иена» и подсобных предприятий необходимое количество высококвалифицированных немецких специалистов по принципу индивидуальных рабочих договоров и перебросить к месту назначения.
Отбор специалистов и выполнение настоящего постановления возлагается на директора заводов «Цейсс-Иена» тов. Добровольского. Одновременно указывается на необходимость форсировать восстановление основного предприятия «Цейсс-Иена» в соответствии с предыдущими постановлениями.
По полномочию Совета Министров СССР — Министр Точной Промышленности».
На этот раз Добровольский частично выиграл. Решили пока демонтировать цейссовских специалистов. Надо же, однако, додуматься, чтобы в одном и том же постановлении требовать разрушать и тут же «форсировать восстановление» одного и того же предприятия.
Несколько дней тому назад я читал в «Тэглихе Рундшау» до тошноты слащавое письмо одного из этих немецких специалистов, откомандированных в Сов. Союз «по принципу индивидуальных договоров». Как быстро прививается немцам стиль советской писанины. То ли это идеологическая обработка на новом месте работы, то ли литературная обработка полковника Кирсанова, редактора «Тэглихе Рундшау».
Счастливый специалист, судя по стилю письма, не светило науки, спешит сообщить всему миру, что ему живётся очень хорошо и что он получает 10 000 рублей в месяц. Ставка маршала Соколовского на сегодняшний день составляет 5000 рублей в месяц. Советский средний инженер получает от 800 до 1200 рублей в месяц.
Пару месяцев специалист будет получать по 10 000 рублей, а потом десять лет будет работать на той же работе, но уже бесплатно — в качестве заключённого. Восторженные письма будет писать другой энтузиаст.
Дело сделано. Значительная часть рабочих и техников «Цейсса» укатила на Восток «в порядке индивидуальных договоров». Производительность «Цейсса» упала. Добровольский торжествует победу, доказывая всем правильность своей теории о необходимости окончательного демонтажа «Цейсса». Мы же с майором Дубовым едем в качестве разведчиков во вражеский лагерь.
«А, коллега! Ну, как живешь!» — радостно трясет майор Дубов руку Добровольского.
«Тебя, каким ветром сюда занесло?» — довольно нелюбезно встречает старого товарища Добровольский и смотрит волком. На заводе он ведёт себя как диктатор и одновременно как генерал в осаждённой крепости. В особенности, когда от посетителей доносится запах СВА.
Я отхожу в сторону, рассматриваю укреплённые на стене образцы продукции, и создаю впечатление, что все окружающее меня нисколько не касается. Когда майор Дубов увлекает Добровольского в кабинет, я приступаю к фланговому маневру.
Через внутреннюю дверь я прохожу из приёмной Добровольского в приёмную немецкого директора завода. Помахав перед носом секретарши мандатами за подписью маршала Соколовского, я изъявляю желание говорить с директором. Последний очень рад меня видеть и спешно провожает из кабинета бывших у него посетителей.
Передо мной довольно молодой человек. Член СЕД. Не так давно был на этом заводе рабочим где-то в отделе упаковки или снабжения. Сегодня — он директор. Как раз то, что нам нужно. Не умён, но исполнителен. Мальчик на побегушках у Добровольского. Фигаро здесь — Фигаро там.
На директоре новый галстук и слишком новый костюм. Когда я здороваюсь с ним, то чувствую твердую мозолистую руку. Впрочем, новому директору много думать не приходится. За него думаем мы, да и то наполовину. У нас есть человек, который думает за всех.
«Ну, герр директор. Похвастайтесь, как у Вас идут дела?» — спрашиваю я.
Я знаю, что директор борется между двумя чувствами: чувством страха перед Добровольским и чувством профессионального или национального долга, если эти понятия существуют для члена СЕД.
Директор должен понимать, что СВА отстаивает интересы завода, поскольку вопрос касается его существования. Мне не нужно объяснять ему положение вещей, он понимает это и сам. Он только хочет быть гарантирован, что об этом разговоре не узнает Добровольский.
Несмотря на довольно искреннее со стороны директора желание насолить Добровольскому, разговор с ним приносит мне мало пользы. Помимо желания нужны также знания и экономический кругозор более широкий, чем у экс-кладовщика.
Я благодарю директора за исключительно бессодержательную информацию и прошу его разрешения переговорить с техническими руководителями предприятия. «Чтобы уточнить некоторые детали…» Герр директор настолько предупредителен, что предоставляет в моё распоряжение свой кабинет. Через несколько минут в двери появляется худощавый человек в роговых очках и белом халате. Это уже существо из других сфер. Я молча смотрю на него и улыбаюсь, как старому знакомому. Я уже был предварительно осведомлен о составе технической дирекции «Цейсса». После нескольких вводных фраз по адресу «Цейсса» и его продукции мы понимаем друг друга.
Я прямо заявляю ему, что моя цель, хотя и не основана на филантропии, но всё же направлена на то, чтобы освободить «Цейсс» от террора Добровольского.
В данном случае мы вынужденные союзники. Зная наперед ход его мыслей, я гарантирую ему безусловное сохранение тайны нашего разговора. Герр доктор рад моей догадливости и предлагает все свои знания и опыт на службу СВА.
«В чём, по Вашему мнению, узкие места в работе предприятий «Цейсс», герр доктор?» — вуалирую я катастрофическое положение заводов словом «узкие места».
«Проще было бы перечислить широкие места, герр оберинженер, — отвечает с печальной улыбкой доктор. — Не хватает всего. А самое главное: у нас вырвали мозг — наших специалистов. Этого не восстановить и за десятки лет».
Передо мной разворачивается грустная картина.
Промышленность Германии, в отличие от промышленности Сов. Союза, в исключительной степени зависит от кооперации смежных предприятий.
В Сов. Союзе, жертвуя экономическими соображениями, стремились к автономии промышленности в большом и малом, в масштабах всего государства и в масштабах отдельных заводов. Здесь больше думали не об экономических, а о военно-стратегических соображениях.
В основе демократического метода организации производства лежит рентабельность или самоокупаемость предприятия. Структура предприятия и его жизнеспособность обуславливаются строжайшим экономическим расчётом и активным балансом. Для экономистов Запада — это неопровержимая истина.
Для них покажется абсурдом, что в Сов. Союзе большинство ведущих предприятий промышленности средств производства нерентабельны и существуют только за счёт государственных дотаций, которые государство в плановом порядке перекачивает из отраслей лёгкой промышленности, выпускающих переоценённые средства потребления, и из коллективизированного сельского хозяйства.
«Мы работаем сейчас за счёт старых запасов сырья и полуфабрикатов. Новых поступлений нет. Когда запасы будут исчерпаны… — технический директор беспомощно разводит руками. — Наши прежние поставщики в Сов. Зоне в большинстве случаев прекратили свое существование. Поставки сырья из Сов. Союза пока остаются только обещаниями. Получить что-либо из Западных Зон практически невозможно. Мы уже пытались посылать нелегально, на свой страх и риск, грузовики через зелёную границу, чтобы восстановить старые торговые связи и получить что-либо. Но это не выход из положения».
Нас, советских инженеров, часто удивляло, что германская промышленность, несмотря на все перенесенные трудности тотального ведения войны, безоговорочной капитуляции и стихийного демонтажа, всё же сохранила свою жизнеспособность. Запасы сырья на германских заводах в момент капитуляции зчастую превышали нормы, положенные на советских заводах в мирное время.
В мае-июне 1945 года, на другой день после капитуляции Берлина, нами был произведен спешный демонтаж промышленного оборудования в Сименсштадте, сердце германской электротехнической индустрии.
Уже тогда, ещё до Потсдамской Конференции, было известно, что германская столица будет оккупирована всеми четырьмя союзниками. Официально это решение было принято 5 июня 1945 года по соглашению четырёх держав.
Вступление союзников в Берлин было искусственно затянуто ещё на месяц. Причина — демонтаж. Демонтажные бригады в секторах Берлина, отходящих по Договору к союзникам, работали с лихорадочной поспешностью день и ночь. Демонтировали на совесть — вплоть до канализационного оборудования ватер-клозетов.
Через год я посетил Сименсштадт вместе с полковником Васильевым, бывшим в своё время начальником демонтажных работ на этих заводах. Полковник только головой качал: «Откуда они новое оборудование взяли? Ведь мы здесь не так давно даже кабели из кабельных канав повынимали!» Немецкие директора Сименсштадта вежливо приветствовали полковника, как старого знакомого: «А-а, герр полковник, как поживаете! Может быть, у Вас будут, какие заказы для нас?» Без тени иронии, сугубо по-деловому. Надо отдать долг справедливости — немцы умеют держать себя вежливо и с достоинством даже с демонтажниками.
«Мы стараемся дать и даём то, что от нас требуют и что мы можем дать. Но это идёт только за счёт внутреннего истощения производства. Этот внутренний процесс пока мало заметен, но в один прекрасный момент он приведет к полному краху», — продолжает технический директор.
Я понимаю его. Заводы работают за счёт «внутреннего жира». Даже и без радикальной помощи Добровольского в форме окончательного демонтажа, заводы идут к концу. Невозможно существовать капиталистическому острову в наступающем море социалистического окружения.
Если так будет идти дальше, то единственным шансом для дальнейшего существования предприятия будет переключение его на какую-то форму советского метода производства. Будет ли тогда продукция старого Цейсса заслуживать название цейссовской аппаратуры?
Я прошу технического директора составить отчет и экономический анализ состояния предприятий Цейсса. На обратном пути в Берлин я заеду к нему и захвачу эти бумаги. Я ещё раз гарантирую, что его имя не будет фигурировать в докладе маршалу Соколовскому.
После этого я проделываю подобную операцию ещё с двумя докторами, техническими руководителями предприятия. Я должен иметь всестороннюю картину, хотя разницы в их словах мало.
Посетив начальника экономического отдела комендатуры в Иене, я узнаю от него некоторые подробности о деятельности Добровольского. Комендатура в данном случае работает на обе стороны.
Они охотно помогали Добровольскому в оформлении «индивидуальных рабочих договоров» при отправке специалистов «Цейсс» в Сов. Союз. Столь же охотно они сообщают все детали этого спецзадания представителю СВА.
От Начальника Экономического Отдела СВА в Тюрингии генерала Колесниченко нельзя получить никакой новой информации, кроме ругани по адресу Добровольского: «Нахально саботирует работу СВА. Ему наплевать, что будет с репарациями, лишь бы влезть в доверие в Москве. „Отгружено столько-то единиц оборудования в адрес Министерства Точной Промышленности…“. А какая там от этого польза — ему безразлично. Сейчас там уже сажают людей за то, что не могут использовать это оборудование».
В этом генерал Колесниченко прав. Многие из демонтажников получили ордена и награды за демонтаж. Многие из их коллег, а зачастую и сами свежеиспеченные орденоносцы, были посажены за решетку, когда дело дошло до монтажа демонтированного оборудования в Советском Союзе.
Например, была демонтирована и отгружена поточная линия из 100 специализированных станков-автоматов, рассчитанных на массовый выпуск определённой номенклатуры.
По пути один из станков понравился какому-то другому охотнику за станками. Симпатичный станок без долгих разговоров перегружается по новому адресу.
Когда он приходит на место, то с досадой убеждаются, что немного ошиблись — станок специализированный и на этом заводе абсолютно бесполезный. Станок без лишнего шума выбрасывают на свалку. Когда же в другом месте приступают к монтажу всей линии, то обнаруживают, что одного станка не хватает.
Без этого одного станка вся линия абсолютно бесполезна. Заменить специализированный станок невозможно. Девяносто девять станков отправляются по пути своего предшественника — на свалку. Вся линия списывается по статье капиталовложения, а несколько человек идут под суд за саботаж.
Снова серый казённый «БМВ» разрезает носом морозный воздух Тюрингии. Эмиссары Карлсхорста подводят итоги своей работы. Результат будет один. Соколовский будет иметь материал для очередного рапорта в Москву и обвинений по адресу Добровольского. Положение дел от этого не изменится. Кремль знает, что ему нужно.
Майор Дубов больше интересуется чисто технической стороной дела. Затем он неожиданно спрашивает меня: «Ты знаком вообще с историей „Цейсс“?» Не ожидая моего ответа, он продолжает: «Довольно интересная и своеобразная вещь. Когда старик Цейсс умирал, то он завещал свои заводы городу Иене. В завещании было точно оговорено управление заводами: в верховный орган управления входили поровну представители городского самоуправления и представители предприятий Цейсса. Своего рода добровольная социализация или подчинение промышленности государству в масштабах города Иена».
«Кроме того, — здесь майор Дубов смотрит в окно и говорит, как будто попутно. — Кроме того, согласно завещанию Цейсса все рабочие и служащие предприятий Цейсса непосредственно участвуют в доходах предприятия. Это то, что по нашим теориям должно быть в идеальном социалистическом обществе. У Цейсса это существовало десятки лет вплоть до последних дней».
Наш шофёр Василий Иванович, о присутствии которого мы иногда забываем, сдвигает шляпу на затылок и добавляет: «Пока здесь не появились мы…»
Глава 15 Партия Сталина
1
Дни идут своим чередом, становятся неделями, недели месяцами. Неустанная поступь времени, где нет цели, где только оглядываешься назад и ощущаешь пустоту в душе.
На дворе стоит зима. Приближается Новый Год. В эти дни принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий год. Эта грань возбуждает у нас, советских людей, стоящих на стыке двух миров, мало радостных воспоминаний и ещё меньше радостных надежд.
Недавно мы были свидетелями двух знаменательных событий — первые после капитуляции выборы в берлинский магистрат, происходившие в октябре, и очередные выборы кандидатов в Верховный Совет СССР, состоявшиеся в ноябре.
Немецкие выборы вызвали у советских людей гораздо больший интерес, чем это можно было ожидать. Может быть потому, что они значительно отличались от того, к чему мы привыкли. Странно было смотреть на предвыборные лозунги нескольких партий.
Бросалась в глаза сильная и умело поставленная пропаганда СЕД. Здесь чувствовался долголетний опыт советской пропаганды, самоуверенность и — бесстыдство. Последнее сильнее всего чувствовалось нам самим — хозяевам СЕД, знающим, что скрывается за этими лозунгами и обещаниями.
Мне врезался в память один случай в связи с берлинскими выборами.
Однажды в воскресное октябрьское утро я и ещё двое офицеров решили воспользоваться чудесной погодой и предпринять прогулку на мотоциклах. Для этой цели мы взяли из автобатальона три мощных военных мотоцикла и, ревя моторами, вырвались из Карлсхорста на Франкфуртер Аллее.
Где-то по пути к Александерплатцу мы нагнали медленно марширующую колонну людей с красными транспарантами и флагами в руках. Вид у демонстрантов был на редкость унылый и безрадостный. По бокам колонны суетились взад и вперед люди в тельмановских кепках с красными повязками на рукавах.
«Посмотри — слона ведут!» — насмешливо крикнул мне один из товарищей, указывая рукой на демонстрацию.
Мы сбавили газ и стали объезжать колонну. Это была организованная профсоюзами советского сектора демонстрация, долженствующая выражать волю и желание немецкого народа. Кто не являлся для участия в демонстрации, рисковал потерять свое место. Смешно и жалко было смотреть на людей в фетровых шляпах, как стадо баранов плетущихся под водительством пастухов в тельмановских кепках.
Не знаю, что нам взбрело всем трём в голову. Может быть то же ощущение, когда смотришь на внушающую отвращение гусеницу и хочешь раздавить ее. Три мощных военных мотоцикла в руках советских офицеров начали с угрожающим рёвом кружиться вокруг колонны.
Люди в фетровых шляпах испуганно озирались, полагая, что это военный патруль, следящий, чтобы стадо не разбежалось. Пастухи в тельмановских кепках посматривали на нас недоуменно — мы утюжили бока колонны и пастухам приходилось, забыв о своем достоинстве, отпрыгивать в сторону, чтобы не попасть под колеса игривых офицеров.
С одной стороны противно смотреть на эту омерзительную комедию. С другой стороны приятно, что на этот раз не нужно участвовать в обезьяньем театре самому. Рёвом газующих моторов мы выражали наши чувства отвращения и одновременно радости.
В этот же день в Берлине советским патрулем был застрелен американец, пытавшийся сфотографировать подобную демонстрацию в советском секторе. Видно кто-то учитывает, что эти фотографии могут произвести на внимательного зрителя такое же впечатление, какое они произвели на нас.
21 октября состоялись выборы. Мне не приходилось ещё слышать или видеть, чтобы при выборах в советские избирательные органы люди интересовались результатами голосования. В день же выборов берлинского магистрата не было, пожалуй, ни одного человека в Карлсхорсте, кто не поинтересовался бы результатом выборов.
У многих в руках были немецкие газеты с таблицей результатов голосования. Самым интересным оказался тот факт, что изо всех партий СЕД вышла на предпоследнее место. Об этом многоговорящем факте много не говорили.
В Управлении Промышленности СВА берлинские выборы послужили поводом к следующему разговору между капитаном Багдасарьяном и майором Ждановым.
«Знаешь, как посмотришь на эти выборы, то приходит в голову дикая мысль, — сказал капитан Багдасарьян, указывая на одну из газет с отчетом о результатах выборов. — Все партии голосуют. Ну и вот допустим, что коммунистическая партия получит большинство голосов! Так что — значит, так её к власти и допустят?»
«Да, как будто оно так получается…» — неуверенно ответил майор Жданов.
«3абавно как-то! — покачал головой капитан. — Когда компартия приходит к власти, то она первым делом сворачивает шеи всем остальным партиям. И вместе с тем эти остальные партии готовы без сопротивления передать власть в её руки. Несуразица какая-то! Это всё равно, что верёвку на собственную шею мылить».
«С этой демократией сразу не разберешься», — вздохнул майор.
«Явная глупость!» — присоединился к его мнению капитан.
«Может быть, это и не так глупо, — майор наморщил лоб, пытаясь вникнуть в сущность непонятного явления. — Демократия, как политическая форма, это воля большинства. Раз большинство проголосует за коммунизм — значит, будет коммунизм. Правда, пока мало кто голосует», — закончил он несколько другим тоном.
«Всё-таки как-то странно… — запустил пальцы в свои курчавые волосы капитан Багдасарьян. — Друг против друга говорят — и никто никого не сажает. У нас ничего не говоришь — а тебя сажают. Даже ничего не думаешь — и то сажают…»
В декабре в Офицерском Клубе Карлсхорста начались избирательные собрания, на которых выдвигались кандидаты в Верховный Совет СССР. В день, назначенный для Управления Промышленности СВА, все сотрудники Управления обязаны были явиться в Клуб, разукрашенный по этому случаю утроенным количеством портретов вождей и красного кумача.
Люди сидели в зале и скучали. Наконец председатель президиума предоставил слово заранее назначенной личности. Личность вылезла на трибуну с бумажкой в руке и по шпаргалке монотонным голосом разъяснила нам наше счастье, что мы имеем возможность сами выбирать представителей верховной власти нашей страны.
Затем на трибуне появился следующий статист и предложил нашего кандидата в Верховный Совет от Особого Избирательного Округа, каким являлась советская оккупационная зона Германии.
Следом, как в хорошо прорепетированной пьесе, из-за кулис на эстраду вышел сам кандидат в генеральском мундире и рассказал свою биографию. Таким вялым и покорным голосом генерал не говорил, наверное, за всю свою военную карьеру.
Вторым кандидатом была абсолютно никому не известная величина. Присутствующие на собрании узнали о существовании этого человека, лишь когда он вылез на трибуну, — на этот раз не из-за кулис, а из публики, — и опять-таки по бумажке зачитал свою биографию. Ему предстояло играть роль кандидата «из самой гущи народа». Кандидатуры обоих кандидатов были заранее намечены Политуправлением СВА и утверждены Москвой.
Публика, зная, что после собрания будет кино, с нетерпением ожидала конца нудной процедуры. Когда председатель президиума вежливо предложил перейти к голосованию, люди в зале облегчённо вздохнули и, не ожидая команды к голосованию, торопливо задрали кверху правые руки.
То ли они желали поскорее покончить с «выборами», то ли опасались что их заподозрят в недоверии к кандидатам. Многие для надёжности подставили левую ладонь под правый локоть.
По залу с карандашами и бумажками в руках забегали подсчётчики голосов. Зал зашумел, выражая свое нетерпение. Наконец, голоса были подсчитаны и председатель президиума сонным голосом спросил: «Кто, против?!» В зале воцарилась мёртвая тишина. Никто не шевелился.
Председатель сделал паузу и повел взором по залу, стараясь этим подчеркнуть, что всем предоставляется полная возможность голосовать против. Затем, чтобы усилить эффект монолитности воли избирателей, он с наигранным удивлением спросил: «Никого, против?!» Из темноты задних рядов раздался чей-то молодой нетерпеливый голос: «Все единогласно… Даёшь кино!» В зале вспыхнул свет. Ряды кресел облегчённо зашевелились в ожидании последующего киносеанса.
Так мы выбрали «народных избранников» в Верховный Совет СССР. Если бы у избирателей по выходе из зала собрания спросили фамилии только что избранных кандидатов, то вряд ли кто запомнил их.
Грань между 1946 и 1947 годами ознаменовалась в Карлсхорсте целым рядом событий, которые заставляют ещё раз оглянуться на прошедшие со времени капитуляции Германии полтора года.
В начале осени 1946 года министр иностранных дел США Бирнс произнес в Штуттгарте речь, где он в первый раз со времени окончания войны попытался дать трезвый обзор событий и указал вехи американской внешней политики, вытекающей из создавшегося положения.
Только через полтора года американцы начали смутно понимать, что с добрым парнем Джо трудно кушать кашу из одной миски. Для этого нужно иметь длинную ложку.
Речь Бирнса пришлась не по вкусу Кремлю. Резким ответом прозвучал доклад Молотова на юбилейных торжествах 7-го ноября 1946 года. Докладу Молотова придавалось такое значение, что его в обязательном порядке прорабатывали на кружковых политзанятиях по всем Управлениям СВА.
Для ответственных работников СВА даже не скрывали внутренней связи между речью Бирнса и докладом Молотова — оба выступления прорабатывались одновременно и участвующие в дискуссиях должны были поочередно разоблачать империалистические происки Бирнса и миролюбивую политику Молотова. Для политически малоподкованных сотрудников речь Бирнса считали опасной и довольствовались лишь проработкой доклада Молотова.
Эти два политических выступления можно считать официальной датой начала холодной войны. Отношения союзников в Контрольном Совете, уже давно потерявшие свою первоначальную цель, стали ещё холоднее и не выходили больше за рамки дипломатической вежливости. Судьбы Германии из залов заседаний Контрольного Совета перемещались всё дальше и дальше в правительственные кабинеты Кремля и Белого Дома.
Создавшееся положение послужило одновременно сигналом для окончательного закручивания гаек на послевоенном фронте советской жизни. Политуправление СВА издало погромный приказ, обвиняющий низовые парторганизации в отрыве от масс и пренебрежении политико-воспитательной работой.
Это было щёлканье бича. Нетрудно было догадаться, что за этим последует. И действительно — первым результатом была смена парторгов во всех Управлениях СВА. Следом за этим началась волна мероприятий по закручиванию винтов и винтиков во всех частях советского аппарата.
До этого люди Карлсхорста жили и работали без политзанятий. Кто знает советскую жизнь, тот оценит этот факт. Большие начальники в душе удивлялись, остальная мелочь — тихо радовалась. И те, и другие помалкивали, исходя из принципа — не называй чёрта, а то явится. И вот теперь снова вводятся политзанятия и изучение «Краткого Курса». Притом усиленным темпом. Видимо, чтобы нагнать упущенное.
Следующим мероприятием явилась кампания по поднятию трудовой дисциплины. Советским гражданам заграницей решили напомнить о существовании советских трудовых законов. По всем Управлениям вывесили новенькие табельные доски и каждый должен был четыре раза в день снимать и вешать свой номерок. В Советском Союзе табельные доски вызывают страх, у нас же они вызвали больше всего досаду.
Начальник Управления Александров передал свой номерок своему шофёру, который его вскоре потерял. Офицеры, для которых табельные доски показались пощёчиной, поочередно снимали номерки сразу за несколько человек. Но советский Закон со всеми последствиями опять висел, как топор, над головой каждого.
Затем разразилась истерическая кампания бдительности. Во всех Управлениях СВА ввели, отсутствовавшие до этого, собственные Отделы Кадров. Назначение их ясно каждому — более детальная слежка за сотрудниками Управления. Снова замелькали обширные анкеты, «для советских граждан заграницей».
Анкеты имели бесчисленное количество пунктов и каждые три месяца их нужно было заполнять заново. Поэтому многие сотрудники один экземпляр заполненной анкеты держали дома «для памяти» и в последующих случаях просто переписывали ответы с одного листа на другой. Советское государство снова решило заглянуть в зубы своим гражданам.
Начальником Отдела Кадров в Управлении Промышленности был назначен демобилизованный лейтенант войск НКВД. С первого же дня он стал вести себя с такой бесцеремонностью и наглостью, что многих офицеров это покоробило. Нужно учитывать, что большинство сотрудников Управления было старшими офицерами.
Из своего кабинета в подвальном этаже новый начальник ОК звонил по телефону: «Товарищ полковник, зайди-ка ко мне заполнить анкетку!» Нередко на это раздавался ответ: «Если тебе нужно, то возьми анкету и принеси мне. Пока что я, кажется, полковник…» Всем сотрудникам СВА был зачитан приказ Начальника Штаба генерала Дратвина, где без указания имен объявлялось, что жёны целого ряда ответственных работников СВА использовали время, когда их мужья находились на работе, чтобы ездить в западные сектора Берлина, где они поддерживали непозволительные знакомства с офицерами западных держав.
Приказ был на редкость скандальный — в нём фигурировали фешенебельные рестораны, дорогие меха и, как завершение, агенты иностранных разведок. Все виновные в 24 часа откомандировывались в Советский Союз, а супругам объявлялись выговора за отсутствие большевистской бдительности.
Загадка этого необычайного по своей откровенности приказа объяснялась вторым пунктом, где всем сотрудникам СВА категорически запрещалось посещать западные сектора Берлина и напоминалось о необходимости соблюдения особой бдительности в условиях нахождения заграницей. Порка жён должна была служить уроком для остальных.
В заключение генерал Дратвин грозил нарушителям приказа применением строжайших мер взыскания… вплоть до откомандирования в Советский Союз. Здесь генерал Державин невольно проговорился. Откомандирование на родину официально, устами Начальника Штаба СВА, объявлялось строгим наказанием для советских граждан заграницей.
Всё это для нас не ново. Мы к этому привыкли в своё время в Советском Союзе. Но после победного окончания войны, после болезненных надежд на какие-либо изменения в советской системе и, в особенности, после пребывания в условиях относительной свободы в оккупированной Германии, после всего этого резкий поворот к старой практике заставляет думать о многом. Вернее — ни о чём не думать. В этом единственное спасение.
2
С майором Дубовым я впервые познакомился ещё во время войны. Даже короткая фронтовая дружба связывает людей крепче, чем многолетнее знакомство в мирных условиях. Может быть поэтому, встретившись в СВА, мы почувствовали себя старыми знакомыми.
Дубову было за сорок лет. Внешне суровый и замкнутый, необщительный с окружающими, он имел мало друзей и избегал шумного общества. Сначала я относил его сдержанность просто за счёт характера.
Позже я заметил, что он с болезненной неприязнью относится к людям, заводящим в его присутствии разговоры о политике. Я подумал, что у него есть на это свои основания, и никогда не беспокоил его излишними вопросами.
Получилось так, что я оказался единственным, кого Дубов ввёл в свою семью. У него была милая и образованная жена и двое детей. Познакомившись с семейной жизнью майора, я убедился, что он не только идеальный супруг и отец, но и на редкость морально чистый человек.
Подлинной страстью Дубова была охота. На этой почве мы сошлись ещё ближе. Часто по субботам мы садились в машину и уезжали на охоту. Там мы проводили целые сутки, отрезанные от Карлсхорста и всего окружающего мира.
Однажды, во время одной из таких поездок, устав после многочасового блуждания среди кустарников и мелких озёр, мы расположились на отдых. Зашёл случайный разговор об одном из знакомых нам офицеров. В этом разговоре я проронил фразу: «Он ещё слишком молод и глуп…» Майор Дубов посмотрел на меня внимательно и со странной усмешкой спросил: «А ты сам уже настолько стар и умён?»
«Да, не совсем, — ответил я. — Но всё-таки уже научился держать язык за зубами».
Майор снова посмотрел на меня пристально: «Скажи, у тебя было в жизни что-нибудь… такое?»
«Абсолютно ничего», — ответил я, поняв на что он намекает.
«А почему ты не в Партии?» — спросил меня майор почти сурово.
«Просто не было времени», — коротко ответил я, не желая углубляться в эту область.
«Смотри, Григорий Петрович, не шути с этим! — медленно сказал Дубов и мне послышалось в его голосе что-то отеческое. — В твоём положении это похоже на демонстрацию. Со стороны это видней, чем тебе самому. В конце концов это может плохо кончиться».
«Свою работу я выполняю не хуже, чем другие партийцы», — возразил я.
Дубов улыбнулся слегка печально.
«Я когда-то тоже так думал», — сказал он и в его словах проскользнула горькая усмешка.
После этого, безо всяких вопросов с моей стороны, он бесстрастным голосом рассказал мне свою историю, которая привела его в Партию и научила сторониться людей, разговаривающих о политике.
Вот она — история члена ВКП(б) майора Дубова.
В 1938 году инженер Дубов работал на одном из заводов точной механики в Ленинграде. Дубов был способным инженером и вел ответственную работу по конструированию точных приборов для авиации и военно-морского флота.
Он целиком отдавался своей специальности, всё свободное время посвящал исследовательской работе и уделял мало внимания политике. Несмотря на занимаемую им ответственную должность, он оставался беспартийным.
В один прекрасный день инженер Дубов был вызван со своего рабочего места в кабинет директора. С этого момента на заводе его больше не видели. Домой он тоже не вернулся. Причину отсутствия мужа жена Дубова поняла, когда среди ночи на квартиру явились сотрудники НКВД и, произведя тщательный обыск, конфисковали все личные вещи мужа.
На другой день она пришла в НКВД справиться о муже. Ей ответили, что такого здесь не знают и посоветовали не беспокоиться и не беспокоить других. Так будет лучше для всех. В случае если будет необходимость, она получит соответствующее извещение.
Больше года провел Дубов в следственных подвалах ленинградского НКВД. Обвинение гласило — саботаж и контрреволюционная деятельность.
Приговор был стандартный — 10 лет заключения. Свой срок заключения инженер Дубов был осужден отбывать в одном из лагерей средней Сибири, где производилась стройка новых военных заводов. В лагере он по-прежнему работал в должности инженера.
Причину своего ареста Дубов узнал спустя два года, когда в лагерь с новой партией в числе прочих заключённых прибыл бывший главный инженер ленинградского завода точной механики. Дубов очень обрадовался, узнав своего бывшего начальника. Тот вёл себя до странности сдержанно и всячески избегал Дубова.
Проходили месяцы. Постепенно оба инженера сблизились и между ними установилась дружба заключённых, которых связывают общие воспоминания о воле. Однажды между ними зашел разговор о причинах, приведших их в лагерь.
«На меня кто-то донес…» — сказал Дубов.
Главный инженер опустил глаза, потом вздохнул и горько усмехнулся: «Хочешь знать, кто на тебя донёс?» Дубов посмотрел на него со сдержанным недоверием.
«Я!» — коротко произнес главный инженер и, не давая Дубову возможности сказать что-нибудь, торопливо заговорил: «К нам на завод регулярно приходили приказы из НКВД. Дать им столько-то и столько-то людей, таких-то и таких-то специальностей. Списки должен был подготовить парторг, а утверждать — главный инженер и директор. Что я мог делать?! Ведь у меня тоже жена и дети…»
«А почему попал в список я?» — со странным безразличием спросил Дубов.
«Потому что ты не был член Партии, — ответил его новый товарищ по заключёнию. — Твою кандидатуру предложил парторг».
Дубов долго молчал, затем устало посмотрел на бывшего главного инженера: «А почему попал сюда ты?»
Новый заключённый только беспомощно пожал плечами…
Четыре года пробыл Дубов в заключении. Все эти годы не так страдал он, как его жена и дети. По советским законам вина политического заключенного распространяется и на его семью. Жена была раздавлена морально и физически.
Дети подрастали с сознанием, что их отец «враг народа» и на каждом шагу чувствовали, что они неполноценные члены советского общества.
В 1943 году заключенный Дубов был досрочно освобождён. Без объяснения причин он был полностью реабилитирован и с него была снята судимость. Прямо из места заключения он был призван в Армию.
Это и было причиной досрочного освобождения. Не встретившись и не простившись с женой и детьми, с офицерскими погонами на плечах Дубов попал на фронт.
На фронте майор Дубов был образцовым офицером. Так же как он был образцовым инженером в Ленинграде и образцовым заключённым в сибирском лагере. Он был справедлив к солдатам и безжалостен к врагу. И он был предан Родине с её парторгами и лагерями.
Незадолго до окончания войны, вместе с очередной боевой наградой, в качестве почётного отличия ему было предложено вступить в члены ВКП(б). На этот раз майор Дубов не колебался. Он молча заполнил анкеты и бланки. Так же молча он принял партийный билет из рук заместителя командира корпуса по политчасти.
Таким путём майор Дубов пришел в Партию.
В Советской Военной Администрации майор Дубов считался одним из самых серьёзных и знающих инженеров. Он выполнял ответственную работу по переводу промышленности Германии на новые рельсы, но его чин и должность оставались без движения. Почему?
Ответ на это крылся в его личном деле. Несмотря на полную реабилитацию и снятие судимости, в личном деле майора Дубова стояла короткая пометка: «Судимость по 58. ст». Этого было достаточно, чтобы испортить всю дальнейшую жизнь человека, на которого пал жребий.
3
За время пребывания в Карлсхорсте я очень сблизился с капитаном Белявским. Постепенно я познакомился с его прошлым, о котором он говорил очень неохотно, большей частью обрывками фраз.
В 1936 году Михаил Белявский находился в Испании, где он в чине советского лейтенанта служил при штабе республиканских войск. В это время в Советском Союзе его отец был арестован и бесследно исчез в разгуле «ежовщины».
Белявский был немедленно отозван из Испании и без объяснения причин демобилизован. Вплоть до 1941 года он делил судьбу остальных родственников «врагов народа», т. е. был человеком за бортом — для него были закрыты все области советской жизни, где требовалось заполнять анкету. Смысл и значение этого может понять только советский человек.
В начале войны 1941 года Белявского не призвали в Армию как «политически-неблагонадёжного». Когда немецкие войска подступили вплотную к Ленинграду, родному городу Белявского, он явился в Военкомат и подал рапорт о зачислении его в Армию добровольцем.
Его просьба была удовлетворена, в тот же день он в качестве рядового солдата был брошен в бой в составе штрафного батальона, т. е. попросту на убой. Но на этот раз судьба оказалась милостивее, чем государство — Белявский отделался только ранением.
Последующие три года он провел рядовым солдатом в осаде Ленинграда. Он был образцовым солдатом и его несколько раз выдвигали для аттестации в офицерское звание, но каждый раз этому препятствовала анкета. В 1944 году, когда положение с офицерскими кадрами было исключительно тяжёлым, Белявского снова вызвали в штаб.
Полковник просмотрел анкету Белявского, затем, указывая пальцем на «58 ст.», спросил: «А зачем Вы пишете глупости в анкетах?» Белявский стоял молча.
«Вы что — воевать не хотите?» — резко повторил полковник, избегая встречаться взглядом с орденами на груди солдата.
Белявский только пожал плечами. Ордена тихо зазвенели, как бы отвечая на вопрос полковника.
«Если Вы пишете подобные вещи, то я могу повернуть Ваше дело как уклонение от воинской службы, — сказал полковник. — Возьмите новую анкету и заполните так, как надо. Для военного звания оставьте чистое место».
Солдат Михаил не вернулся больше в свою роту. Зато на другой день в Москву выехал старший лейтенант Белявский. В его кармане лежало командировочное предписание в Военно-Дипломатическую Академию Генштаба Красной Армии. В военное время требуются люди и нет времени проверять анкеты. Для этого будет время после войны — для тех, кто останется жив.
Таким образом, Михаил Белявский попал в одну из наиболее привилегированных Военных Академий СССР.
Осенью 1945 года Белявский был отчислен из Академии и в чине капитана направлен на работу в Советскую Военную Администрацию в Германию. Это было нормальным явлением. Многих слушателей Академии снимали с учёбы даже среди учебного года и направляли на работу.
В Берлинском Кремле Белявский полной грудью вдохнул воздух Победы. Работа в Контрольном Совете дала ему возможность снова почувствовать себя настоящим человеком и полноценным гражданином советского общества. Он думал, что после победного окончания войны государство решило забыть мелкие личные счёты со своими гражданами. Тем более, если эти граждане искупили свою проблематичную вину кровью, пролитой ради сохранения этого государства.
Личное дело капитана Белявского, хранящееся в отделе Кадров СВА, было безупречным. Во всех характеристиках стояла фраза: «Партии Ленина-Сталина предан». Хотя эта фраза была стандартной и стояла в личном деле почти каждого офицера, в деле капитана Белявского она больше соответствовала действительности, чем в делах большинства других офицеров.
В один из дней, отведённых для политучебы, капитан Белявский, как обычно, явился на службу на два часа раньше, занял место и развернул конспекты. Кружок Белявского был повышенного типа и состоял целиком из людей с высшим образованием.
Кругом сидели далеко не глупые люди. Они с серьёзным видом листали в «Кратком Курсе», делая вид что с головой погружены в это занятие. В то же время все они в душе сознавали, что книга эта — сплошная ложь и фальсификация, к тому же написанная безграмотным полудетским языком.
Руководитель кружка, в обычное время такой же обычный человек, как и остальные члены кружка, начинает занятия вопросом: «Ну, кто желает выступить по третьей главе? Добровольцем?!» Присутствующие ниже опустили головы над книгами. Одни ещё усиленнее стали листать в конспектах, другие устремили взор в стол, как бы концентрируя свои мысли и давая понять, что они предпочитают выступить позже. Желающих выступить добровольно не оказалось.
«Ну, что-ж… Тогда будем по списку…» — предложил руководитель.
Он вызывает первого по списку. По комнате проносится вздох облегчения.
Большинство руководителей имеет алфавитный список членов кружка. Каждый знает за кем он идёт. Здесь вопрос решается просто. Первый по списку начинает пересказывать главу, второй в это время читает дальше свой абзац и подчеркивает красным карандашом. Пока первый отговорился, второй уже подготовился. Таким образом, занятия в большинстве политкружков проходят по-семейному.
Все присутствовавшие прорабатывали и перерабатывали «Краткий Курс» уже по несколько раз. Всем эта обезьянья комедия надоела до смерти. Исполнив свой долг, человек смотрит в окно, курит или чинит карандаши.
Все шло своим чередом как обычно. Монотонно гудели голоса выступающих. Руководитель сидел, устремив взор в свою записную книжку и не слушал что говорится. В комнате было жарко и людям хотелось спать. И вот в этом сонном царстве с капитаном Белявским неожиданно произошло нечто, причину чего он и сам затруднился бы объяснить.
Когда подошла его очередь выступать, он должен был рассказать по книге о трех походах Антанты. Тема, если взять её в отдельности, была героическая и перекликалась с событиями недавно окончившейся войны. Капитан Белявский встал и заговорил.
С первых же его слов руководитель кружка поднял сонные глаза от записной книжки и удивлённо посмотрел на говорящего. Затем все присутствующие в комнате стали поочередно бросать в его сторону недоумевающие взоры.
Белявский говорил как на трибуне. Голос его звучал необычайно уверенно, почти захватывающе. В нем была вера, был призыв. Он описал три попытки иностранных интервенций в СССР после революции 1917 года и удачно увязал это с вторжением и разгромом гитлеровских армий в 1941–45 годах.
Он не пересказывал «Краткий Курс», он говорил от себя, от сердца. В недоумевающих взорах остальных членов кружка стоял немой вопрос: «Что он — с ума сошёл?! К чему этот излишний труд?!» В этот день на политзанятиях в качестве наблюдателя присутствовал инструктор Политуправления СВА. Выступление Белявского привлекло его внимание. Видно ему не часто приходилось слышать, чтобы на политзанятиях люди говорили с верой в голосе.
Инструктор навел справки и принял соответствующее решение. На следующий день Белявский был вызван в Политуправление.
«Послушайте, товарищ капитан! — обратился инструктор к Белявскому, когда тот вошёл в его кабинет. — Я Вам удивляюсь! Я посмотрел Ваше личное дело. Образцовый офицер, самые лучшие аттестации — и вместе с тем не в Партии. Это никуда не годится! Партия должна воспитывать и заботиться о таких людях, как Вы…»
«Нет, нет, нет… — словно опасаясь, что Белявский будет возражать, инструктор категорически поднял правую ладонь. — Вчера Вы так замечательно выступали на политзанятиях… И до сих пор у Вас нет партнагрузки. Мы дадим Вам вести политзанятия с жёнами офицеров. Это раз! И затем немедленно подавайте заявление в Партию. Это два! И чтобы никаких разговоров. Понятно?!»
Белявский и не думал возражать. Членство в Партии будет означать, что он полностью займет своё место в обществе. Сердце его радостно затрепетало и он искренне пожал руку инструктора Политуправления.
Приближались ноябрьские торжества. Берлинский Кремль усиленно готовился к празднованию годовщины Октябрьской Революции. Помимо ведения политзанятий, Белявский был назначен уполномоченным по подготовке к праздникам. Он с головой окунулся в общественную работу и посвящал ей всё свободное время.
В душе капитан Белявский второй раз рождался на свет. Больше всего его радовала уверенность, что Партия забыла о прошлом, что теперь с него снят волчий билет. Только теперь он полностью осознал, как тяжело было ему раньше чувство отчуждённости от общества, чувство человека за бортом.
Одновременно с этим произошло незначительное, даже глупое, событие, которому суждено было иметь неожиданные последствия.
Белявский был большим любителем мотоциклов. Со времени его прибытия в СВА у него в руках перебывало бесчисленное множество этих машин. В конце концов он остановился на исключительно красивом гоночном «БМВ». Эту машину знал весь Карлсхорст и многие молодые офицеры останавливались, чтобы поглядеть на никелированного красавца.
Однажды вечером, проезжая на своем «БМВ» мимо дома, где жила Валя Гринчук, Белявский увидел свет в окнах Валиной квартиры и решил зайти навестить девушку. Он прислонил мотоцикл к решетчатой ограде и, не собираясь оставаться долго, не замкнул машину на замок, как он это делал обычно.
У Вали оказались гости, компания была весёлая и в результате Белявский задержался дольше, чем предполагал. Около десяти часов вечера он распрощался с Валей и вышел из дома. Держа в руке ключ от зажигания, он открыл калитку. Место, где стоял мотоцикл, было пусто.
Он оглянулся кругом, думая что кто-нибудь в шутку перекатил мотоцикл в сторону. Нет, мотоцикла нигде не было видно.
Белявский разразился проклятиями. Было ясно, что мотоцикл украден. Больше всего Белявского взбесило, что мотоцикл украден кем-то из своих. Ведь ни один из берлинских воров ни за что не заберется в Карлсхорст, а тем более за мотоциклом.
Комендатура Карлсхорста находилась в нескольких шагах. Белявский зашел к дежурному коменданту и заявил о краже. Дежурный лейтенант посочувствовал взволнованному капиталу и пообещал проверить не украден ли мотоцикл кем-либо из комендантских часовых. Лейтенант был хорошо ориентирован, кто чаще всего занимается воровством в Карлсхорсте.
Мало полагаясь на Комендатуру, Белявский немедленно отправился в немецкий полицейский участок, расположенный неподалеку за зоной ограждения. Там он взял немецкого полицейского с собакой-ищейкой и воротился к месту, где исчез мотоцикл. Хотя шансы на успех в данном случае были не велики, но он решил испытать и это.
Полицейский-проводник пустил собаку по следу. Та сразу же стала рваться в соседнюю калитку. Белявский знал, что здесь живёт парторг Правового Управления майор Ерома и его заместитель майор Николаев.
Поэтому поведение собаки показалось ему несуразным. Ищейку ещё несколько раз пускали по следу, но каждый раз она упорно вела к соседней калитке. В конце концов Белявский безнадёжно махнул рукой и отпустил полицейского.
На следующий день Белявский проходил мимо калитки, куда рвалась ищейка. На всякий случай он решил зайти в дом и навести справки. В гостиной сидели четыре молодых женщины.
В одной из них Белявский узнал хозяйку квартиры жену майора Николаева, во второй — жену самого Начальника Политуправления СВА генерала Макарова.
Все они были проблематичными жёнами своих мужей, т. е. только в пределах Карлсхорста. Почти все без исключения начальство СВА имело в Карлсхорсте на редкость молоденьких жён. Жена маршала Соколовского была на несколько лет моложе его дочери. Это были последствия войны.
Здесь может служить примером история маршала Рокоссовского и Валентины Серовой. Последняя, в свое время маленькая артистка Театра Ленинского Комсомола, затем жена знаменитого летчика Серова, после его гибели вторично вышла замуж за поднимавшегося на горизонте писателя и поэта Константина Симонова.
Попав во время фронтовых гастролей в штаб маршала Рокоссовского, она застряла там надолго. Именно с этого времени, как утверждают литературные критики, в поэзии Симонова зазвучали грустные песни о неверных жёнах, которые, главным образом, и снискали ему популярность среди солдат на фронте. Идиллия кончилась только лишь тогда, когда сам Сталин приказал Рокоссовскому «прогнать эту потаскушку».
Вежливо извинившись за беспокойство, Белявский объяснил причину своего прихода и поинтересовался, не видели ли обитатели дома прошлым вечером чего-либо подозрительного.
Молодые женщины смущённо переглянулись и высказали своё возмущение кражей. Они видимо скучали и были так любезны, что пригласили Белявского к столу. Завязалась довольно оживлённая беседа.
В истории с мотоциклом этому разговору суждено было играть немалую роль. Главным образом, потому что Белявский произвёл на молодых женщин очень хорошее впечатление.
Следующая неделя не дала никаких результатов. Белявский мысленно уже распрощался со своим любимым мотоциклом, когда однажды в конце рабочего дня его позвали к телефону. К удивлению Белявского в трубке раздался женский голос.
«Товарищ капитан? — осведомилась незнакомка и затем торопливо заговорила. — Извините меня, что я не называю своего имени. Это звонит одна из дам, которые… Помните, Вы заходили и спрашивали о мотоцикле… Так я хочу сказать, что Ваш мотоцикл находится в подвале того же самого дома. Пойдите сейчас же и Вы его найдете. Кто его украл Вы, наверное, догадываетесь… Прошу Вас никому не говорить, каким образом Вы это узнали. Я не хотела бы…»
Не дослушав до конца, Белявский торопливо поблагодарил и бросил трубку. Минуту он сидел за столом, соображая, что делать. Ведь вором должен быть не кто иной, как сам парторг Правового Управления СВА и майор юридической службы Ерома.
Наконец, он решился действовать. Он попросил пойти с ним в качестве свидетелей подполковника Попова и майора Берко. По пути они зашли в комендатуру, захватили с собой дежурного коменданта и отправились на квартиру майора Еромы.
Майора Еромы не оказалось дома, он задержался на партсовещании в Политуправлении. По просьбе дежурного коменданта был открыт подвал. Там, блестя никелем, стоял мотоцикл капитана Белявского.
Дежурный комендант составил официальный протокол о краже и обнаружении краденого. По простоте душевной комендант написал: «Вор — майор юрид. службы Ерома, парторг Правового Управления СВА». Протокол был подписан всеми свидетелями, в том числе и женой майора Еромы.
Когда четверо офицеров, кряхтя и чертыхаясь, с трудом вытаскивали тяжёлый мотоцикл вверх по ступенькам, дежурный не мог удержаться от замечания: «Тут один человек управиться не мог. По меньшей мере, ещё двое помогало!» Позже выяснилось, что комендант оказался прав.
В день кражи майор Ерома и ещё двое офицеров Правового Управления возвращались как обычно поздно вечером с партийного инструктажа в Политуправлении.
Подходя к своему дому, Ерома заметил у соседней калитки поблескивающий в темноте чудесный мотоцикл. Недолго думая, он с помощью партийных товарищей укатил мотоцикл в свой подвал.
Дело на этом пожалуй бы и кончилось, если бы не случайная встреча Белявского с молодыми женщинами. Все они прекрасно знали, что майор Ерома за день до этого неизвестно откуда приобрел мотоцикл.
Когда Белявский рассказал о своем несчастии, все присутствующие догадались о связи между двумя событиями, но по понятным причинам не высказали сразу своих предположений. Когда Белявский ушел, начался спор.
Бывшая в компании молоденькая жена Начальника Политуправления стала на сторону капитана и сказала, что мотоцикл нужно возвратить. Об остальном можно догадаться.
Возмущённый случившимся, Белявский решил принять все меры в целях примерного наказания виновного. Он написал соответствующие рапорта Начальнику Штаба СВА генералу Дратвину, в Политуправление и в Военную Прокуратуру СВА.
Если делу дать законный ход, то майора Ерому следует исключить из Партии, сорвать офицерские погоны и дать тюремное заключение за кражу. Так гласит Закон.
Тот самый Закон, который даёт 10 лет за собираемые в поле колхозные колоски и 5 лет за украденный с фабрики для голодных детей кусок социалистического сахара.
Когда майор Берко узнал о рапортах, он посоветовал Белявскому не торопиться. В лице майора Еромы одновременно обвинялось и многое другое. В таких случаях рекомендуется осторожность. Берко предложил Белявскму повстречаться сначала с самим майором Еромой. Они решили нанести ему визит в обеденный перерыв.
На этот раз Ерома был дома. Он сидел за столом в распущенной гимнастерке без пояса. Перед ним стояла дымящаяся алюминиевая миска с борщом. При виде посетителей он даже не поднял головы и продолжал хлебать из миски.
«Ну, как, Ерома?! — обратился к нему Белявский. — Каким образом мой мотоцикл попал в Ваш подвал?»
«Я его нашёл», — ответил тот с полным ртом и не повел даже бровью.
«Я напишу на Вас рапорт в Политуправление», — не нашел сказать ничего другого Белявский, опешивший от железобетонной наглости парторга.
Ерома продолжал жрать борщ. Он не ел, а именно жрал — чавкая, хлебая, выгнув горбом спину и закрывая глаза от удовольствия. По лицу его от напряжения тёк пот. Покончив с борщом, парторг взял миску, опрокинул её над ложкой, ожидая пока стекут последние капли. Затем он засунул ложку в рот и плотоядно облизнулся.
«Нет, такого ты рапортом не проймешь, — не выдержал Берко. — Плюнь ему лучше в тарелку — и пойдём!»
Но на парторга даже это не подействовало. Он хладнокровно протянул миску своей жене, молча наблюдавшей эту картину, и знаком попросил добавки. Посреди Европы, посреди Берлина, в сердце Советской Военной Администрации сидела и запихивалась борщом скотина, какую ни Берко, ни Белявский не встречали за всю свою жизнь. Они с силой хлопнули дверью и ушли.
Вечером Белявский зашёл в приемную Начальника Политуправления и передал рапорт дежурному адъютанту. Пока адъютант заинтересованно читал рапорт, в приёмную из кабинета вышел сам генерал Макаров.
«Ещё одно дело на Ерому, товарищ генерал», — с усмешкой доложил адъютант.
«Ага, вот это хорошо, — бросил генерал на ходу. — Он уже у нас на примете за бигамию…»
Адъютант объяснил Белявскому, что Ерома, следуя примеру старших, тоже обзавелся новой женой. Только он совершил тактическую ошибку. Во-первых, в отличие от других, зарегистрировал свой брак в ЗАГСе Карлсхорста. Во-вторых, он не побеспокоился взять развод от первой жены в России.
Следом Белявский зашёл к Военному Прокурору СВА подполковнику Орлову. Подполковник знал Белявского лично и потому, прочитав рапорт, сказал ему откровенно:
«Под суд мы его отдать не можем. Здесь все зависит от Политуправления. Сам знаешь — Партия!»
Если бы Белявский был опытнее в вопросах партийной жизни, то он, наверное, воздержался бы от мысли тягаться силами с Партией. Глупая история с мотоциклом привела к совершенно неожиданным результатам.
В Политуправление поступило на утверждение решение низовой партийной организации о приёме капитана Белявского в члены Партии. К этому решению были приложены блестящие боевые характеристики и служебные аттестации капитана за все время войны.
Одновременно с этим дело о ворованном мотоцикле подняло шум на весь Карлсхорст. Политуправление решило замять скандальную историю. Нужно было убрать одну из сторон и выбор пал на Белявского.
Как гром среди ясного неба капитан Белявский неожиданно получил приказ о демобилизации и откомандировании в Советский Союз. Он сразу догадался, в чём дело. Он не догадался только о том, что ожидаёт его по прибытии в Советский Союз. Там его ожидал суд. В то же время вор, бигамист и партийный организатор Ерома благополучно продолжал свое существование в Карлсхорсте.
Развязка объясняется следующим образом. Незадолго до того Белявский, как и все сотрудники СВА, заполнил анкеты. На этот раз в связи с новыми послевоенными директивами анкеты после заполнения рассылались по указанным этапам жизни данного лица для проверки местными органами МВД.
Вскоре анкета Белявского вернулась из Ленинграда с пометкой: «отец судим по 58 ст».. Этого было достаточно для Политуправления. Белявский был демобилизован и отправлен в Советский Союз, где ему предстоял суд за дачу в анкете ложных показаний, к которым он был в своё время принужден под угрозой Трибунала.
Так окончилась борьба Михаила Белявского за своё место в жизни. Государство не забыло о том проблематичном пятне, которое капитан считал смытым своей кровью, пролитой ради сохранения этого государства. Каждому своё место. Место Михаила Белявского — за бортом.
Случайное столкновение с Партией, в лице майора Еромы, не играло решающего значения в откомандировании Белявского. Это был только попутный штрих. Даже и без этого судьба капитана была решена. Он входил в определённую категорию, участь которой была предопределена.
Это подтверждает тот факт, что почти одновременно с Михаилом Белявским аналогичный приказ о демобилизации и откомандировании в Советский Союз получил майор Дубов. Что скрывалось за этим приказом, знал лишь Отдел Кадров СВА, да ещё сам майор Дубов. Ему тоже предстояло занять своё послевоенное место в жизни.
4
Два человека из моего ближайшего окружения вырваны из жизни и выброшены за борт. Я уважал их как людей и любил как товарищей. В глазах других они тоже были и останутся положительными образцами нового советского общества.
И вместе с тем, эти люди обречены на гибель. Никто не знает второй половины их жизни. Никто и не подозревает причины, послужившей поводом их исчезновения из Карлсхорста.
Майор Дубов и Михаил Белявский не имеют ничего общего со старыми классами, которые по марксистской классификации осуждены на истребление.
Дубов и Белявский созданы советской средой и являются подлинными гражданами современного советского общества в лучшем смысле этого слова. Вместе с тем — они обречены, безвозвратно обречены на гибель. По меньшей мере — гибель духовную. И что самое главное — таких людей миллионы.
В этом легко убедиться. За тридцать лет существования советской власти было репрессировано по политическим соображениям минимум тридцать миллионов человек.
Считая, что каждый из них имел двух родственников и принимая во внимание, что родственники политически репрессированных автоматически попадают в категорию политически неблагонадежных, это даёт шестьдесят миллионов человек в чёрном списке.
Если считать, что из вышеуказанных тридцати миллионов, десять миллионов умерло в лагерях, десять миллионов, как минимальная цифра, находятся в настоящее время в лагерях и десять миллионов после отбытия срока заключения выпущены на свободу, оставаясь на особом учёте НКВД, то в результате получится восемьдесят миллионов человек, которых советское государство сделало своими врагами. Во всяком случае — считает своими врагами.
Здесь становится ясным, для чего в каждой ячейке советской государственной машины существуют отделы кадров и практика непрерывных анкет. Сегодня многомиллионная армия автоматических врагов советского государства без сомнения составляет основной класс нового советского общества.
Этот невидимый класс автоматических врагов и одновременно рабов пронизывает советское общество сверху донизу. Стоит ли приводить примеры?! Здесь не только рабы в полном смысле слова — заключенные трудовых лагерей НКВД. Здесь можно назвать много имён маршалов Советского Союза и сталинских лауреатов, имеющих за плечами заключение в НКВД. Это большие люди, о которых знает весь мир. О миллионах мелких столкновений государства и личности не знает никто.
Государство и личность. Здесь невольно встаёт перед глазами образ Вали Гринчук. Маленькая девушка-партизанка. Борясь за свою свободу, она взялась за оружие в огневые годы войны. Она храбро билась. Она не только отстояла свою свободу от внешнего врага, но и поднялась вверх по ступенькам советского общества.
Из серой массы она, в какой-то мере, стала личностью. И вот, поднявшись вверх, эта новорожденная личность вскоре почувствовала тяжёлую руку государства.
По долгу службы Вале часто проходилось бывать в Контрольном Совете. Там она познакомилась с одним молодым союзным офицером.
Внешне это знакомство не могло вызвать никаких возражений, так как Валя посещала Контрольный Совет в порядке служебных обязанностей. Через некоторое время знакомство приняло форму личной дружбы.
В один прекрасный день Валю вызвали в партийную организацию. Там ей в очень вежливой форме дали понять, что Партии известно о её знакомстве с союзным офицером.
К удивлению девушки ей не сказали больше ничего и как будто отнеслись к этому знакомству сочувственно. Через некоторое время эта история повторилась. У Вали создалось впечатление, что её знакомство даже поощряется.
Проходило время и дружба советской девушки с союзным офицером стала искренней привязанностью двух молодых людей. В этот момент Валю снова вызвали в парторганизацию и поставили её, как члена Партии, перед необходимостью совмещать любовь с государственными интересами.
На следующий день Валя слегла в госпиталь. Врачи констатировали лихорадочное состояние, сильно повышенную температуру, ненормальное давление крови. Причину этого болезненного состояния врачи обнаружить не могли. Проходили недели, а состояние девушки не улучшалось.
Однажды в палату пришел пожилой и опытный врач-невропатолог. Он просмотрел историю болезни и, покачав головой, спросил Валю: «А у Вас не было каких-нибудь крупных неприятностей… э-э-э в личной жизни?»
«Нет», — коротко и твёрдо ответила девушка.
В госпитале Валя пробыла больше двух месяцев. После выписки из госпиталя она, под предлогом болезни, добилась перевода на другую работу, где ей не требовалось посещать Контрольный Совет. Через знакомых Валя попросила передать любимому человеку, что она уехала в Россию. У маленькой девушки было сердце солдата.
Мало кто знал о связи этих явлений. Для всех Валя по-прежнему оставалась боевым офицером, заслуженно занимающим свое место в советском обществе. Мало кто обратил внимание, что вместо украшенного орденами офицерского кителя девушка всё чаще и чаще одевала обычное женское платье.
Всё это происходит вокруг меня. Меня лично это касается постольку, поскольку я сам доложен вступать в Партию. Другого выбора у меня нет. Разве что смотреть в глаза тому будущему, которое стало для майора Дубова и Михаила Белявского настоящим.
Постараюсь быть абсолютно честным перед самим собой и попытаюсь разобраться в окружающей меня действительности.
На сегодняшний день в Советском Союзе нет коммунистической партии. Есть только Партия Сталина с устаревшей вывеской. Самоцелью для этой Партии стало одно — Власть, безраздельная Власть.
Идеальный член Партии Сталина не должен думать самостоятельно, он должен быть лишь тупым исполнителем воли свыше. Наглядный пример — партийный организатор Ерома, процветающая скотина и идеальный большевик сталинской школы.
На мне погоны советского офицера и я ровесник советской власти. Если бы я родился на двадцать лет раньше, я, возможно, был бы убежденным марксистом и революционером в Октябрьской Революции.
Сегодня же я, вопреки всему, не член коммунистической партии. Если бы я не стоял перед этой необходимостью, — да — безусловной необходимостью, то мне даже не пришла бы в голову мысль вступать в ту партию, которая носит сегодня имя Компартии СССР.
Глава 16 Душа востока
Берлин-Карлсхорст.
Дорогая Хельга!
У меня масса новостей и не терпится поскорей написать тебе. Ты никогда не догадаешься, что случилось в прошлое воскресенье. Ты, конечно, подумаешь, что новое любовное приключение. Нет!
Что-то интересней. Ты скажешь, что в наши дни ничего не может быть интересного? Коротко — теперь я работаю у русского офицера. И где? В самом таинственном Карлсхорсте.
Расскажу всё по порядку.
В воскресенье я ехала на трамвае навестить Шарлотту в Обершёневайде. Около Лихтенберга на площадку поднимается русский офицер и прислоняется к двери в самом проходе. Эти русские всегда станут там, где не полагается стоять.
Я стою как раз напротив. Офицер безразлично смотрит на улицу и продолжает торчать в дверях, не обращая внимания на то, что его толкают со всех сторон. Чисто по-русски!
Потом он случайно смотрит на меня. Через некоторое время он опять смотрит на меня, на этот раз уже более внимательно. Ты ведь знаешь — все говорят, что у меня исключительный цвет лица.
Офицер довольно бесцеремонно рассматривает меня с головы до ног. Слава Богу, что воскресенье, и я надела новые чулки. Меня эта бестактность задела. Что я — призовая лошадь?
Я поворачиваю голову и без страха смотрю ему в глаза. Во-первых он военный, а во-вторых русский. В обоих случаях можно временно забыть бабушкины советы. Пусть не думают, что мы их боимся. Теперь уж не так страшно, как в мае месяце.
К тому же одеты они по-другому. На этом офицере все тип-топ: сапоги блестят, пуговицы блестят. Даже гладко выбрит. Наверное, по случаю воскресенья. Только физиономия слишком серьёзная для воскресенья.
У них у всех каменные лица. Они наверно не знают, что когда улыбаешься, то самому на душе легче и другим приятно. Не знают даже этой простой вещи! В маленьких деталях, которые делают жизнь приятной — они абсолютные варвары.
Едем дальше. Офицер рассматривает меня, как будто собирается поставить на меня ставку в следующем забеге. Я время от времени смотрю ему только в глаза. Это не вызов, но и не отказ. Как это делает Марика Рёкк.
Наш трамвай мчится, как молния, сквозь Карлсхорст. Мой офицер, несмотря на свои нескромные взгляды, не думает предпринимать что-либо дальше, хотя я стою теперь совсем рядом с ним. Ведь он, наверное, живёт в Карлсхорсте и на следующей остановке встанет. Зачем же он так смотрел? Досадно! Настоящий варвар. Никакого чувства такта к женщинам.
Хоть бы спросил что-нибудь. Конечно, я ему наотрез откажу. Но всё-таки любопытно.
Проехали Карлсхорст. Едем дальше. Может быть, он нарочно проехал свою остановку, чтобы встать вместе со мной? Бывает и так.
Нет, теперь он вообще не смотрит на меня.
Слезаем на конечной станции Обершёневайде. Я не тороплюсь. Ведь воскресенье создано для отдыха. Мой офицер идёт позади меня. Вдруг я слышу: «Халло, фрейлейн!» Сначала я даже испугалась. Смотрю на него, как будто с луны упала. Говорит так серьёзно и так уверенно. Я думаю — сейчас отведет в комендатуру и…
А он говорит: «Извините, фрейлейн, я не хотел бы Вас обидеть. Могу я поговорить с Вами?»
«Битте», — говорю я и думаю: «Ага, наконец. Сейчас я ему откажу».
«Мой разговор может показаться странным. Прошу Вас наперед, извинить меня».
«Битте, битте», — говорю я и думаю: «Однако, он довольно хорошо для варвара говорит по-немецки».
«Видите ли, я не знаком с обстановкой здесь. Я не имею ни знакомств, ни времени».
«Ага, сейчас он пригласит меня куда-нибудь, — думаю я. — Отказать или нет? Страшно всё-таки».
А он продолжает: «Я здесь абсолютно один. Иногда это трудно».
Я думаю: «Начинается. Обычный подход. Так они все говорят».
«Мне хотелось бы найти человека, который… ну, вёл бы моё хозяйство. Не могли бы Вы помочь мне? Порекомендовать кого-либо, например».
Mein Gott![21] я чуть не упала. Вот свинья! Останавливать посреди улицы молодую элегантную даму и спрашивать такие вещи. Heiland Sakrament![22] И ещё смотрел на меня целый час. Теперь я начинаю убеждаться, что от русских все можно ожидать.
Но вежливость обязывает. Даже по отношению к таким… Все-таки мы европейцы. Я говорю ему: «С удовольствием. Если я могу быть Вам полезной».
«Если Вы знаете кого-нибудь… Я буду Вам очень обязан. Вот номер моего телефона», — говорит он и я вижу, что разговор заканчивается. Неужели это всё?
«Скажите, почему Вы так смотрели на меня в трамвае?» — спрашиваю я. Может быть, он всё-таки опомнится, что сегодня воскресенье.
«У Вас очень хороший цвет лица, фрейлейн. Как у ребёнка. Красивое всегда приятно для глаз, — отвечает офицер и улыбается загадочной улыбкой. — Вы на меня не обижаетесь?»
На таких нельзя обижаться. У него какая-то особая манера. Говорит так серьёзно, что это даже нельзя принять за комплимент.
«Auf Wiedersehen».
И на этом мой воскресный роман закончился.
Когда я рассказала вcё Шарлотте, та только руками всплеснула: «Вот глупенькая! Ведь тебе самой счастье в руки лезет. У нас тут только и мечтают, чтобы попасть на работу в Карлсхорст. Если ты не хочешь, то дай номер телефона мне».
Тогда я решила рискнуть сама. Сейчас такое время — не приходится быть разборчивой. Хоть и страшно, но всё же попробую. Сейчас без работы трудно, дорогая Хельга. Ты ведь сама знаешь.
Сегодня утром я пришла в комендатуру Карлсхорста и позвонила «ему» по телефону. Он заказал для меня пропуск и — я в Карлсхорсте. Одной ногой в Германии, другой ногой в России. Кругом все военные, но не страшно. Может быть, потому что днём.
Недавно у них тут был большой праздник. Рассказывают, что солдаты пили водку ртом из бочек прямо на улицах, а потом выкатили пушки и стреляли друг в друга. Я это от многих слышала.
Через пять минут я у дверей его квартиры и нажимаю кнопку звонка. Он очень удивился, когда увидел меня, и говорит: «Вы сами? Так быстро и так рано?»
Он помог мне снять пальто, как настоящий кавалер. Потом говорит: «Я тороплюсь на работу. Давайте завтракать».
Посадил меня за стол, а сам гремит посудой на кухне. Я сунулась было тоже на кухню, а он мне: «Не так скоро, детка. Когда я уйду, тогда Ваша очередь».
После завтрака он оставил мне все ключи и говорит: «Будьте здесь хозяйкой. Чтобы был порядок. В три часа я приеду обедать».
Как тебе это нравится?
Ну вот, теперь я сижу хозяйкой за его письменным столом и пишу тебе письмо. Включила радио. Сбоку греет электрический камин. Самое главное — пока не страшно. Опишу все в следующем письме.
С берлинским приветом!
Твоя Марго.
* * *
Берлин-Карлсхорст
Дорогая Хельга!
Как тепло в квартире у моего капитана! Сегодня я у себя дома мерзла даже под пуховиками. А этот варвар включил по всем комнатам электрические печи и жжёт тока больше, чем весь наш Лихтенберг.
Счётчик гудит и крутится, как в лихорадке. Контролер попробовал было сунуться однажды и даёт капитану счёт. Капитан похлопал его по плечу и смеется: «Это в счёт репараций!» Дал ему пару папирос и выставил за дверь.
Да, я тебе не сказала, что мой офицер имеет чин капитана — это четыре звёздочки. Зовут его Михаэль — Михаэль Белявский.
В квартире рядом живёт лейтенант. Тот выдумал ещё лучше. Когда уходит на работу, то зажигает на целый день газовую плиту. Чтобы тепло было. Надо же додуматься!
Газ часто выключают днём а потом снова включают. Когда лейтенант приходит вечером, то иногда вся квартира полна газом. Я когда мимо двери прохожу, то слышу, как газ из-под двери ползет. Майн Готт! Когда-нибудь весь дом взлетит на воздух. А в подвалах полно брикетов.
Если бы я не боялась, что дом взорвется, то было бы совсем хорошо. Всё так интересно! Как в дикой Африке. Или среди людоедов.
Опишу тебе «мою» квартиру. Ведь я здесь полная хозяйка. Мой капитан ничего не запирает. Ключи торчат в замках, но всё открыто. Для чего тогда замки — для красоты? Удивительно доверчивый народ. Как и все дикари!
Вчера герр Шмидт, наш домоуправляющий, рассказывал, как мой капитан устраивал свою квартиру.
Все жители были выселены из Карлсхорста в 24 часа. Наш дом большой — около восьмидесяти квартир. Капитан явился с двумя солдатами, когда дом был уже пустой.
Он потребовал у герра Шмидта ключи ото всех квартир, потом приказал солдатам пойти на улицу и «поймать шесть немцев». Наловили, кто под руку попался, и привели. Как тебе это нравится?
Затем капитан обошёл весь дом и выбрал себе квартиру по вкусу. Ты думаешь, на этом дело кончилось? Нет, у русских все наоборот.
Первым делом он приказал своей рабочей команде выбросить из квартиры абсолютно всё. Затем он отправился по другим квартирам. Где-то нашел обстановку кабинета по своему вкусу и приказал тащить всё «домой».
Потом отправил разведчиков с приказом «найти» ему в Карлсхорсте коричневое пианино — под тон кабинета. Сам же отправился искать подходящую обстановку спальни. Выкопал где-то спальню, как у Марии Антуанетты. Двуспальная кровать, на которой только в футбол играть.
Откуда только у этого варвара вкус оказался? Должна признаться, что квартира получилась уютная. Кабинет, как у министра.
На письменном столе огромный бронзовый орёл. По стенам очень редкие рога — из квартиры д-ра Мейсснера, исследователя Африки. Конечно, при таких условиях — это не трудно. Цап-царап!
А спальня! Тут воплощенная невинность голову потеряет. На ночном столике маленькое радио и белый телефон, а на полочке — бронзовая коробка для сигарет и… пистолет. Когда я пыль стираю, то боюсь притрагиваться.
Ни один человек не поверит, что в этой спальне живёт холостой мужчина. А вместе с тем — он не женат. К довершению всего над кроватью висит большая картина — «Кающаяся Магдалина», тоже откуда-то из соседней квартиры. Может быть он действительно монах!
Недавно капитан привез из Дрездена одеяло из малинового шёлка и теперь посылает меня купить специальные пододеяльники и обязательно с кружевами. Каково?
Потом принес в кармане маленького попугайчика и пустил его летать по комнатам. Говорит, что если попугай улетит, то следом вылечу и я. Очень любезно! Теперь нужно доставать где-то клетку.
Требует, чтобы я ему купила маленький аквариум с золотыми рыбками. Откуда он только додумался, что такие вещи существуют на белом свете. Неужели он видал это в своей дикой России?
Меня удивляет, как эти русские не приспособлены к мелочам жизни. В квартире рядом испортилась кнопка дверного звонка. Ведь что проще, как позвать герр Шмидта и сказать ему починить. Вместо этого хозяин квартиры откручивает звонок у своего соседа и ставит себе. Тот, в свою очередь, поступает таким же образом и делает на звонке пометку, чтобы не украли второй раз.
Так продолжается по двадцати квартирам, пока кто-либо просто не примирится с отсутствием звонка. Если что-либо поломалось, то русские возятся с этим сами. Как будто они не знают, что для этого существует герр Шмидт, который работает тоже «в счёт репараций».
Единственное место в Берлине, где очереди у магазинов обычное явление — это Карлсхорст. В Берлине мы, немцы, получаем по 100 грамм жиров в месяц, но без очереди. Русские получают по несколько килограмм, но зато надо стоять часами в очереди. Как им только не стыдно!
Все магазины на Трептов-аллее. По ней же сквозь Карлсхорст проезжает немецкий трамвай. Все видят очереди у каждого магазина. Ещё лучше, — в одной очереди стоят немецкие домработницы, жёны русских офицеров и — сами офицеры.
Ведь в магазине несколько продавщиц, а никто не догадаётся сделать отдельные очереди. В неприятных вещах у них действительно полное равенство.
Холостые офицеры в обеденный перерыв или после работы вместо того, чтобы отдохнуть, стоят по очередям. Притом никто не удивляется и не возмущается. Как будто они с первого дня рождения привыкли к очередям.
Вчера я нашла на ночном столике капитана книгу в чёрном переплете. Дорогая Хельга — я испугалась. Я ожидала какую-нибудь порнографию или любовный роман. Знаешь, как это принято у офицеров. Это был «Майн Кампф»!
Эту книгу теперь стараются не держать дома даже немцы. А он — советский офицер. В книге — подчёркнутые карандашом места и пометки его рукой на полях. Значит, он читает эту книгу не для развлечения перед сном. Это для меня новая загадка.
Потом я заглянула в библиотеку. Самое интересное я нашла на нижних полках, которые не видно снаружи. Там оказались целые кипы нацистских журналов. Тут было всё, что угодно — вплоть до «Мифа XX века». Такую коллекцию трудно найти в доме самого заядлого наци. Зачем ему, советскому офицеру, копаться в развалинах прошлого?
Жаль, что он не разговаривает со мной. Я для него только служащая. Он, конечно, не предполагает, что в лучшие времена я была студенткой Кунстакадемии.
Заканчиваю письмо. Уже время готовить обед.
Дорогая Хельга, я очень сержусь на тебя за твое молчание. Пиши!
С приветом!
Твоя Марго.
* * *
Waldheim-Sachsen
Дорогая Марго!
Жизнь моя идёт не так весело, как у тебя. Наш маленький городок нельзя сравнить с Берлином. Да и у меня лично очень много неприятностей. И дома и на сердце.
Ведь ты знаешь, что я ожидаю ребёнка. Этот ребёнок доставляет мне не радость, а только горе. Ведь это плод насилия. Я уже тебе писала.
Мне особенно горько читать твои письма, где ты так беззаботно пишешь о твоих знакомствах с русскими. С меня достаточно этого первого и последнего знакомства с воспоминанием. Я хотела бы предостеречь тебя, чтобы с тобой не случилось такой же печальной истории. Ведь жаловаться тогда будет поздно и некуда.
Русский сержант, отец моего будущего ребёнка, служит в комендатуре нашего городка. Недавно я случайно столкнулась с ним на улице. Он пытался поздороваться со мной, но я убежала.
Теперь я всегда перехожу на другую сторону улицы, когда вижу его издалека. Я не могу видеть это грязное чудовище. Я никогда не забуду и не прощу тот ужасный день.
Мама очень опечалена будущим ребёнком. Ведь ты знаешь, как у нас здесь смотрят на эти вещи.
Милая Марго, мне ужасно тяжело. Я так мечтала иметь ребёнка и заботливо любящего отца, к которому мой маленький протягивал бы ручонки и говорил: «Па-а-а…» А теперь наверно ещё в колыбели он будет кричать: «Uri, Uri… Frau komm…» Кошмар!
Если хочешь доставить мне удовольствие, то не пиши мне ничего о русских! Будь осторожна! Я уверена, что твой новый хозяин первым делом попытается изнасиловать тебя или снимет с тебя часы. Что от них ещё можно ожидать?
Так жалко, что ребёнок не будет иметь отца. Иногда я плачу от отчаяния. Я уже сейчас представляю себе, какой будет ребёнок и радуюсь ему. Несмотря на всё.
Ведь мы, женщины, созданы, чтобы быть матерью. Когда я вспоминаю об отце, об этом грубом животном, у которого сердце, наверное, поросло волосами… Может ли он вообще иметь какие-либо отцовские чувства в сердце?!
Я уже сейчас вяжу для бэби крошечные штанишки и рубашонку. Мама, к моему удивлению, взялась помогать мне. Она говорит, что ребёнок дан Богом и не виноват.
Я думаю, какое имя дать ребенку. Будет это мальчик или девочка? Ведь это мой первенец, и я люблю его. Я уже купила для него пелёнки и детское приданое. Теперь так тяжело достать что-нибудь.
Тяжело будет моему маленькому. Ведь мы сами голодаем.
Бедная наша Германия и твоя бедная подруга Хельга.
Берлин-Карлсхорст.
Дорогая Хельга!
Ты писала мне, чтобы я была осторожна, что мой капитан изнасилует меня. Х-а! Иногда я думаю, что может получиться только наоборот! Досадно, что мы — девушки — не имеем права активного голоса в этих вопросах. А тем более попробуй-ка скажи офицеру, у которого ты работаешь.
Я однажды попыталась улыбнуться моему капитану слегка соблазнительно. Так как улыбается Марлен Дитрих. Знаешь, что из этот получилось? Он повернул меня лицом к кухне и хлопнул ладонью по… пониже спины.
Самым бессовестным образом. Как будто я школьница! Как будто мне не 21 год! Как будто все молодые люди не уверяют, что я очень хорошенькая! И при этом говорит, что лучше бы я надевала чистый передник, когда он приходит домой.
А вместе с тем мне этот дикарь начинает нравиться. Если тебе признаться, то это даже больше. Иногда я спрашиваю себя: может быть это просто временный интерес к дикарю? Или во мне говорит инстинкт женщины, на которую мужчина не обращает внимания? Или это от скуки?
У него выправка, как у настоящего офицера. Он не мальчишка, как все эти желторотые в цивильном. Одно плохо — он принципиально не хочет видеть во мне женщину.
На нём всегда сапоги блестят, как зеркало. Сапоги он мне чистить не позволяет. Слава Богу — это его собственная привилегия. Но зато синие галифе и зелёный китель — это для меня мука.
Не успею погладить галифе, как новое дело — неси китель в химчистку или подшивай белый воротничок. На днях спросил меня, — неужели я сама не догадываюсь заглянуть в его гардероб и приводить всё заранее в порядок. Но ведь я ему не бабушка!
Недавно устроил мне первый семейный скандал. Утром я прихожу и вижу на письменном столе слой пыли, а на нем пальцем капитана написано «Sau»[23]. Я завозилась с обедом, затем меня позвали соседи и я совсем забыла об этом. Когда он приехал обедать и увидел опять пыль на столе, то разразилась буря.
В первый раз я увидела, как он сердится. Как он затопал ногами, как закричал на меня. Я уж не помню — что он ругался. И по-русски и по-немецки. Потом слов не хватило — подходит к столу, пальцем по нем почертил и мне к носу: «Was ist das?[24] Свинство! Сколько раз я уже говорил?» И этим же пальцем мне по носу провел.
Бог ты мой — я и испугалась и обидно.
А он опять кричит: «Хир никс Русслянд! Хир — Дейчлянд! Чтобы у меня здесь немецкий порядок был. Цум тейфель![25]» Я расплакалась и убежала на кухню, а он улегся на кушетку и курит.
Минут через пять успокоился и приходит на кухню. Я сижу и плачу. Он мне говорит: «Поди накрой стол для двоих».
Я тарелки ставлю, а у самой слезы капают от обиды. Думаю завтра возьму расчёт и уйду. Пусть тогда сам тарелки моет.
Мой капитан полез в шкаф и гремит бутылками. Я думаю, теперь напьется, как свинья, и побьёт меня. Вот оно — русская душа, где показывается. Нужно уходить, пока не поздно.
Капитан откупорил бутылку вина, потом бутылку водки. Ставит на стол и говорит: «Поди, сними фартук и давай обедать».
Я очень удивилась. Что это такое — в первый раз он приглашает меня обедать вместе. Но раз приказывает, то я противоречить боюсь и сажусь, полужива от страха, за стол.
Он наливает два больших бокала водки и смеется. Неужели заставит меня пить эту гадость. Я слышала, что они всегда пьют водку, когда мирятся. А, выпивши — опять дерутся. Мама родная — помоги! Теперь буду аккуратно вытирать пыль.
Мой капитан делает вид, что все забыл и обращается со мной так, как будто он видит меня в первый раз и я у него в гостях. У меня от страха кусок в горле застревает, а он только смеётся, глядя на меня, и подливает вино.
«Скажи, Марго, когда у тебя будет муж, то ты также будешь заботиться о нем, как обо мне?»
Тут я осмелела и говорю: «Но Вы же не мой муж».
«Тем более. Ты должна учиться. Я хочу чувствовать заботу. Понимаешь? За-бо-ту! Я уже пять лет абсолютно один, Марго. Четыре года я провел в грязи и крови. Среди выжженных развалин и снега…»
Тут он стал грустный и не захотел больше говорить. Подошел к радиоле и поставил русскую пластинку. Когда русские пьяные — они не умеют веселиться. Или дерутся безо всякой причины, или поют грустные песни и плачут. Только тогда у них сердце выходит наружу.
Больше он мне не сказал ни слова. Только помрачнел весь. Не стал больше кушать и лег опять на кушетку. Долго молчал. Потом позвал меня к себе, посадил рядом, положил мне голову на колени и ласкается.
Но ласкается так странно, как дитя к матери. Мне его жалко стало. Видно, он очень одинок, но не говорит об этом. А я думала, что люблю его, и хотела ему помочь улыбкой Марлен Дитрих! Ему дороже всего забота. Теперь буду стирать пыль два раза в день. Может быть, тогда он заметит меня.
В комнате стало между тем полутемно. Кругом тихо-тихо. Тепло и так уютно. Как хорошо если бы я была здесь не служащей, а пусть даже просто его подругой.
Чем он занимался во время войны? У него много орденов. Неужели он тоже убивал людей? Он всё-таки добрый — накричал на меня, а потом стыдно стало.
Я-то, дура, испугалась, думала он сейчас позвонит в комендатуру и прикажет посадить меня в погреб. Лейтенант из соседней квартиры всегда угрожает так своей Маргарите, когда она ему суп пересолит.
Пока я мечтала, мой капитан заснул у меня на коленях. Я хотела его поцеловать, но побоялась. Встала потихоньку и принялась стирать пыль. Завтра перерою все его вещи и, когда он придёт домой, буду нарочно штопать носки у него на глазах. Пусть видит, что я о нём забочусь. У разных мужчин любовь приходит разными путями.
Дорогая Хельга, меня страшно интересует вопрос — есть ли у него какая-нибудь девушка. Пока я видела, что к нему заходит только фрейлейн Валя. Но тут не может быть ничего серьёзного.
Милая Хельга, мне так хочется увидеться с тобой и поболтать. Не горюй о бэби. Я уверена, что всё будет хорошо.
С приветом —
Твоя Марго.
* * *
Waldheim-Sachsen
Дорогая Марго!
Благодарю тебя за твои милые поздравления в предыдущем письме. Мой маленький — очень здоровый и милый ребенок. Теперь это для меня вся радость и забота. Для того, чтобы почувствовать что такое ребенок, — нужно быть его матерью. Теперь у меня масса хлопот и забот, это отвлекает меня от неприятных мыслей.
Можешь себе представить — мама теперь ругает меня всё время, что я мало забочусь о ребёнке, постоянно вмешивается и даёт советы. Я этого никак не ожидала.
Мама как-то пустилась философствовать и говорит, что брак без ребёнка — это пустоцвет, что только дети скрепляют семейную жизнь и связывает супругов. Правда потом получилась довольно неловкая пауза. Связывает супругов! Только не в данном случае.
Когда мы стали совещаться, какое имя дать ребенку, то мама опять внесла свое предложение. Как ты думаешь — что она предложила?
Она какими-то путями узнала, как зовут этого… Ну, этого сержанта. И хочет окрестить ребенка его именем. Это теперь даже принято — большинство детей, рождающихся от русских, называют русскими именами. Я не хотела, но мама настаивала и потом я согласилась.
Теперь у нас в доме есть маленький Петер, который голосит с утра до вечера. Какой он горластый — ужас!
На днях я шла с маленьким Петером на руках по улице и столкнулась опять с сержантом. Он остановился стоять посреди улицы и долго смотрел мне вслед. Я ушла поскорее, так как мне было стыдно.
Вчера наша соседка фрау Гюнтер пришла к нам и рассказала, что сержант приходил к ним, расспрашивал обо мне и о ребёнке. Спрашивал, чей это ребёнок. Потом сержант долго качал головой и что-то говорил по-своему, но они не могли понять что. Я опять испугалась и плакала. Что он ещё хочет от меня?
Вчера поздно вечером, когда мы уже хотели ложиться спать раздался стук в дверь. Мама пошла открывать и входит затем в комнату с… этим сержантом.
Я лежала в постели вместе с маленьким Петером. Хотела вскочить и убежать в другую комнату, но не могла. Мама странная — она так спокойно разговаривает с сержантом. Я только закрыла маленького Петера и повернулась к стене.
Но сержант был теперь совсем другой. Такой тихий и неловкий. Стоит в дверях и переминается с ноги на ногу, как медведь. Потом снимает с плеча тяжёлый солдатский мешок и даёт маме.
Отдал мешок и опять мнется в дверях. Как будто ему чего-то хочется, но он боится. Мама взяла его за руку и подводит к кровати, чтобы он посмотрел на ребёнка.
Я чуть не плачу, а маленький Петер улыбается во весь рот и махает ручонками. Он ничего не знает. Может быть, он инстинктом ребенка чувствует, что это его отец. Дети не понимают всей тяжести нашей жизни.
Сержант боязливо посмотрел на маму, на меня он старается не смотреть. Потом осторожно протягивает руку. Маленький Петер хвать его за палец и смеётся. Сержант так странно смотрит на ребёнка, совсем забыл о нас с мамой. Начал причмокивать губами и разговаривать с ним что-то по-русски.
Сержант спрашивает маму, как зовут ребенка. Мама ему отвечает: «Петер. Ты — большой Петер, а это — маленький Петер», — и взяла ребенка из кровати. Тот барахтается ручками и ножками, как котёнок и тянется к сержанту.
Затем, милая Марго, я очень удивилась.
Сержант бормочет: «Петя, Петя»… И вдруг я вижу, что у него по лицу слезы текут. Я ещё никогда не видела, как мужчины плачут. И вдруг он… он плачет. Всхлипывает, а слезы по лицу катятся. Лицо все перекривилось, как будто хочет удержаться и не может.
Мужчины плачут иначе, чем женщины. Женщины всегда прячут лицо. А этот — сидит, смотрит на маленького Петера, а из открытых глаз слёзы текут.
Потом вдруг вскочил, как будто за ним гонятся, и ушел, не сказав ни слова.
Я долго думала об этом. Что это всё может означать? Он теперь не такой страшный, как казалось раньше, а какой-то жалкий и беспомощный. Может быть мама права? Как он странно смотрел на маленького Петера. И потом эти слёзы… Звери не могут плакать.
Когда мама открыла мешок, то там оказалось несколько буханок хлеба, большой пакет масла и банки со сгущённым молоком. Зверь всё-таки заботится о своем детёныше. Мой бедный маленький Петер. Ведь нам действительно очень голодно.
Кончаю письмо и целую тебя крепко.
Твоя Хельга.
Берлин-Карлсхорст
Дорогая Хельга
Я сижу и пишу письмо, а противный Ганс, — так зовут эту нахальную птицу, — разгуливает по столу и мешает мне. Я часто сержусь на Ганса. Капитан заботится о нём больше, чем обо мне.
Когда капитан читает газеты, Ганс разгуливает у него по погонам и сует свой нос повсюду. Иногда капитан возьмет на язык корма и Ганс клюет у него с языка. Оба очень довольны. Как будто целуются. Тоже нашёл с кем целоваться — с попугаем!
У меня очень своеобразный распорядок дня. Во-первых, я не должна появляться в квартире до десяти часов, т. е. пока капитан не уйдёт на работу. Во-вторых, я не должна оставаться в квартире после пяти часов. Как будто он опасается, чтобы нас не заподозрили в чём-то интимном. О его жизни я больше узнаю от фрау Шмидт.
Теперь у капитана новая страсть. Встает каждое утро ни свет, ни заря, садится в машину и отправляется купаться на Мюггельзее. Если он так рано встаёт ради купанья в холодной воде, то надо полагать, он проводит не слишком весёлые ночи. Зачем ему тогда только спальня Марии Антуанетты?
Когда я пишу об этом, то вспоминаю старшего лейтенанта из четвёртого подъезда. Молодой мальчишка. Сначала был такой скромный и тихий. Затем начались женщины, женщины и женщины. Все с улицы — из-под моста около «Капитоля». Вскоре лейтенант бесследно исчез.
Фрау Шмидт рассказывает, что он теперь в «Голубой Дивизии». Так русские называют изолятор для сифилитиков на острове Рюген, где они живут за колючей проволокой. Потом их всех отправляют в Сибирь.
Недавно трамвайную остановку около «Капитоля» перенесли на полкилометра дальше от Карлсхорста. Половина венериков в госпитале Карлсхорста уверяет, что их продуло ветром около этой трамвайной остановки.
Фрау Шмидт знает абсолютно всё. Она клянётся, что в этом госпитале русских лечат от гонореи впрыскиванием скипидара в мягкие части.[26] Шшш-приц! Полтора кубика. А от двух кубиков умирают лошади. Представляю себе удовольствие!
Русские говорят, что эти уколы «морально-политические» — чтобы отбить охоту общаться с немецкими женщинами.
Скипидарно-политические уколы и Голубая Дивизия! Если русские говорят об этом так спокойно, то может быть у них есть ещё что-нибудь другое, о чем не говорится. Может быть, поэтому мой капитан такой непонятный? Ведь он не только мужчина, но и советский офицер. Это обязывает его не забывать законы своей страны.
Я слыхала, что после заключения Мирного Договора с Германией Сталин разрешит русским жениться на немецких девушках. Я спросила об этом капитана. Он посмотрел на меня искоса и говорит: «Забудь об этом детка. Кто тебе это говорил?»
«Я в городе слышала», — отвечаю я.
«Если тебе это говорил русский, то он просто обманывал тебя. Будь осторожна с такими людьми. Тот, кто даёт обещания, которым он сам не верит, не может быть хорошим человеком. Это старая ловушка для девушек».
«Но я это слышала от немцев».
«Тогда это просто пропагандный трюк», — говорит он.
Недавно у моего капитана был день рождения, — я узнала это из его документов. Я купила по этому случаю особенно хороших цветов и привела квартиру в праздничный вид.
Я испекла вместе с фрау Рот шоколадный торт с его инициалами, приготовила особенно вкусный обед. Я даже позвонила ему по телефону на службу и спросила, не опоздает ли он к обеду. Для этого дня я надела свое лучшее платье и чулки.
Пока я возилась, принесли ещё один торт из кондитерской у нас в Карлсхорсте. Оказывается от фрейлейн Вали. Видимо, она дружит с ним не на шутку, если помнит его день рождения. Мне стало обидио — все мои приготовления отходят на задний план. Мой торт нельзя сравнить с кондитерским! Теперь я опять только бедная немецкая девушка.
Когда капитан приехал обедать, то кричит мне с порога: «Марго, кушать! Быстро!» Неужели он опять собирается уезжать? Вот так день рождения? Мог бы немного отдохнуть.
Капитан заходит в кабинет и с любопытством оглядывается по сторонам, не понимая, по какому случаю всё это праздничное убранство. Рассматривает моё новое платье и белоснежный передник. Видимо это больше всего нравится ему. Он улыбается с таким выражением, будто говорит: «Ага, наконец-то!» Затем он спрашивает: «Детка, что это всё означает?» Я поздравляю его с днем рождения.
Он раздумывает что-то, как будто вспоминает какой сегодня день; смотрит на шоколадную цифру и говорит: «Ах да, в самом деле! Ведь сегодня мой день рождения!» Неужели он так заработался, что забыл об этом? Нет, мужчина не может существовать без женщины! Он хуже ребенка и все забывает за своими ужасно важными делами.
При том это беспомощное существо ещё воображает что оно венец творенья. Все это выдумки! Без женщин мужчины наверно и по сей день бегали бы голяком.
В награду за мою заботу капитан опять делает из меня леди на час и командует накрыть стол на двоих. Ах, только бы не пришёл кто-нибудь!
Еще не садясь за стол, капитан налил себе стакан водки и залпом выпил. Что за ужасные привычки! Я уже не раз замечала у него эту манеру заложить фундамент. Потом он начинает потихоньку пить всякие хорошие вещи — на столе шампанское, вино, ликёр.
Эту русскую манеру предварительно оглушить себя стаканом водки замечали многие из нас здесь в Карлсхорсте. Как будто русские хотят сломить этим стаканом какую-то железную завесу в душе. Тогда они становятся разговорчивы и оживлены. Пока не перепьются.
Я попробовала ухаживать за столом, как это полагается хозяйке дома. Но не тут-то было! Капитан опять повернул у себя в душе какой-то выключатель, и теперь я для него только дама и гость. Как будто он нарочно создаёт внутреннюю преграду.
Ведь было бы так просто обнять меня и поцеловать. Ведь я немножко пьяна и это простительно. Минутная слабость! Я бы сделала вид, что ничего не помню…
А он ведёт себя, как джентльмен, как будто у него в жилах сахарная водица. Как противно, когда мужчины слишком долго разыгрывают из себя джентльменов! Ведь я у него уже не первый день, ведь я пользуюсь успехом у мужчин. Но только не здесь.
Капитан включил радио и лег на кушетку. Я села рядом и молчу. Музыка играет тихую мелодию. Я знаю — это действует на него и он сам заговорит. И он сказал. О Боже, что он сказал!
«Марго, ты очень хорошая девушка. Я бы даже сказал слишком хорошая, — гладит меня по руке и задумчиво добавляет: — У тебя, наверно было много мужчин?!»
Я чуть не взорвалась. Надо же так хорошо начать и так плохо кончить! Я уже хотела ответить ему подобающим образом, но удержалась.
«Вы любите кого-нибудь, герр капитан?» — спросила я.
«Конечно, люблю».
«Кого?» — и жду с нетерпением, что он скажет.
«Я люблю Ганса, яичницу, да ещё розовые щёчки», — и смеётся. Видимо он не хочет говорить со мной всерьёз и переводит все в шутку.
«Только смотреть?» — спрашиваю я.
Мне хотелось пошутить. Ведь не даром в моих жилах течет берлинская кровь. Мне хотелось разжечь его, а потом холодно осадить. Ведь он так долго мучает меня.
«Марго, я с удовольствием поцеловал бы твои щёчки. Они у тебя такие свежие. Я даже отсюда чувствую, как они пахнут свежестью», — говорит капитан. У него поразительная манера говорить такие вещи самым спокойным тоном и без малейших намеков на дальнейшее.
«Но мир построен на диалектике, — продолжает капитан. — Ты знаешь, что это такое? Ну, это значит, что после поцелуя в щеку мне захочется поцеловать тебя в губы, затем дальше и дальше».
«Ну, и что же здесь плохого?» — говорю я и думаю: «Неужели у него такая толстая шкура, что он не поймет и этого намёка?»
«А плохо то, что нам тогда придётся расстаться».
«Почему?» — удивляюсь я.
«Об этом бесполезно говорить. Так должно быть».
«Но ведь многие русские имеют знакомых немецких девушек?» — возражаю я.
«Есть приказ, согласно которому связь советских офицеров с немецкими женщинами карается судом Военного Трибунала», — говорит капитан, не глядя на меня.
«Но ведь так часто видно…» — говорю я и не верю его словам.
«Это — уличная любовь, Марго. О ней не стоит говорить. И не она подразумевается в приказе маршала Соколовского».
«Но откуда будут знать, что Вы делаете дома, герр капитан».
«Хорошо. Возьмём наглядный пример. Допустим, я люблю тебя. Тогда я не должен лицемерить и скрывать это ото всего мира. Если же я не буду скрывать этого, то я рискую попасть в Сибирь. В лучшем случае — позорное разжалование с занесением в личное дело. Пятно на всю жизнь. Ты не поймешь этого».
«Но я знаю столько примеров…» — опять стараюсь возразить я.
«Это не примеры. Это — вынужденный выход из положения. Если я буду любить тебя, а на глазах других буду разыгрывать комедию… Это автоматически убивает любовь и остается только грязная связь. Нельзя повенчать чёрную жабу с белой розой».
Я растерянно смотрю на него и не знаю, как понять это. У тридцатилетних мужчин какая-то особая манера говорить о любви, — они понимают её и анализируют.
Он весело улыбается, берёт мою руку и кладет её себе на лицо, как будто ласкаясь.
«Это только пример, — говорит он. — Но даже если бы я любил тебя, то я предпочитаю постоянно любоваться тобой издалека, чем один раз вблизи. Ведь потом пришлось бы расстаться! Любовь — это нежный цветок и с ним нужно уметь обращаться. Понимаешь?»
Раздался звонок в дверь. Так громко и по-хозяйски звонит только фрейлейн Валя. Она вихрем влетела в комнату и с разлёта крепко поцеловала капитана, откинулась назад и шаловливо смотрит какое это произвело на него впечатление. На эти поцелуи приказ маршала Соколовского не распространяется…
Капитан вместе с фрейлейн Валей уехали на работу, а я с досады села писать тебе начатое раньше письмо. Нарочно нарушила приказ капитана и осталась в квартире после пяти часов. Теперь я понимаю, почему он запретил мне это. Пусть же соседи подумают теперь что-нибудь, хотя этого и нет.
Привет тебе и твоему маленькому Петеру.
Твоя Марго.
Waldheim-Sachsen
Дорогая Марго!
Видно Провиденье уравновешивает чаши нашего горя и радости. Теперь я живу почти счастливой жизнью. Мой маленький Петер растёт и доставляет мне вcё больше и больше хлопот и радости. Даже соседи теперь заходят к нам и ничего не говорят плохого. Ведь теперь у ребёнка есть отец.
Маленький Петер теперь не незаконный ребенок. Зато большой Петер — незаконный отец. Он страшно боится, чтобы его начальство не узнало, что у него ребёнок и что он бывает здесь. Он говорит, что тогда его немедленно отошлют назад в Россию. Разве это преступление?
Я думала, что наши расовые законы были несправедливы, но что же за законы в этой стране, где так много кричат о равенстве и братстве. Большой Петер теперь буквально несчастный. Чем больше он привыкает к ребёнку, тем больше он боится видеть, чтобы об этом не узнали.
У Петера была в России жена и ребёнок. Оба погибли во время оккупации на Украине. Когда он мне говорил об этом, то смотрел в пол. Может быть, он думает, что я, как немка, тоже косвенно виновата в этом.
Как-то мама спросила его, почему так советские солдаты вели себя во время наступления по Германии. Петер нехотя ответил: «Нам всё время говорили, что немцы то же делали в России». Потом подумал немного и добавляет: «Жизнь плохая. А немцы ещё хуже сделали. На свою жизнь мы злые».
Большой Петер сидит на табурете, держит в руках маленького и говорит: «Потом новый приказ пришёл. Запретили. В один день многих солдат постреляли за это. Иван всегда виноват».
Теперь Петер почти каждый вечер приходит к нам. Всегда приносит что-нибудь: то колбасу, то масло. Продаёт свои сигареты и хлеб — приносит деньги. Раз я спросила его — разве ему не платят жалования. Он отвечает: «Ивану платят восемь рублей в месяц. На это пачки папирос не купишь».
Теперь Петер относится ко мне с уважением, как к своей жене. Когда я ему сделаю какую-нибудь мелочь, например сама возьму и постираю его бельё, то он радуется этому как подарку. Мне кажется, что русские привыкли к слишком тяжёлой и безрадостной жизни. Каждое пустяковое проявление заботы они воспринимают прямо с болезненной благодарностью.
Теперь Петер из кожи вон лезет, чтобы угодить мне и маме. Но всё это он делает в постоянном страхе. В таких условиях не может быть счастья. Когда я читала твое последнее письмо, то я подумала, что твой капитан прав. То, что офицер думает головой, — солдат только чувствует сердцем.
По воскресеньям Петер одевает все свои ордена и приходит к нам на весь день. Когда я ему однажды предложила пойти погулять на улицу, то он только испуганно посмотрел на меня.
Постепенно я так привыкла к нему, что ожидаю с нетерпением, когда он постучит в дверь. Раз я спросила его, любит ли он меня и возьмет ли он меня с собой в Россию. Он задумался. Видно эта мысль никогда не приходила ему в голову. Почему? Ведь я чувствую, что он счастлив со мной и маленьким Петером.
Он сказал только: «Тебя никогда не пустят в Россию. А если я скажу об этом своему командиру, то на другой день ты меня здесь не увидишь».
Какие же секреты счастливой жизни охраняются так строго в стране Советов? Почему тогда так хорошо воевали русские? Маленький Петер часто играется блестящими орденами на груди у отца. Когда тот смотрит на них, то в его глазах иногда вспыхивает злоба.
Время купать маленького Петера.
Кончаю писать и желаю тебе всего лучшего.
Твоя Хельга.
Берлин-Карлсхорст
Дорогая Хельга!
Вчера я праздновала мой день рождения. Теперь мне уже двадцать один год. Как быстро летит время!
Капитан удивил меня. Он поздравил меня, потом взял за подбородок и в первый раз поцеловал. Но опять не так, как надо. Так можно целовать распятие, но не меня. Ведь я не из дерева. А он смеётся, как будто ему доставляет удовольствие эта игра на нервах.
Вместе с тем я чувствую, что он умышленно сохраняет дистанцию. Что-то неуловимое и незримое заставляет его оставаться на расстоянии. Он знает этого невидимого бога и подчиняется его воле.
Я решилась пригласить капитана на день рождения к себе. Ответ, как и следовало ожидать: «К сожалению, я должен завтра работать до позднего вечера, детка. Желаю тебе хорошо веселиться». А сам будет сидёть один-одинёшенек и разговаривать нежными словами с этим отвратительным Гансом.
Ну и хорошо! Пусть хоть с золотыми рыбками целуется, а я буду веселиться. Вечером нарочно позвоню ему по телефону, проверю, как он будет «работать до позднего вечера».
У русских характерная манера праздновать свои советские праздники. Тогда весь Карлсхорст пестрит красными тряпками и иллюминацией. Но все эти праздники только внешние.
Как будто русские не привыкли праздновать в уютной домашней обстановке. Когда я спросила капитана, то он загадочно ответил: «Не не привыкли, а разучились».
Зато русские очень часто собираются в тесной кампании и празднуют безо всякого календарного повода. Когда есть настроение. Тогда дом трещит и дым из окон идёт.
То же и с подарками. Русские не привыкли к мелочным и регулярным подаркам. Как будто это не в обычаях или возможностях Советской России. Но когда они вспоминают о подарках и дарят, то часто не знают в этом меры. Как будто для них вещи не имеют ценности.
С одной стороны русские гоняются здесь в Берлине за каждым пустяком, за каждой тряпкой. В особенности женщины. Но русские также легко расстаются с этим.
В особенности мужчины. У них в какой то мере атрофировалось чувство личной собственности. Русские гонялись за часами, потому что их не было в благословленной стране Советов, но на другой день они беззаботно дарили их, так как привыкли обходиться без часов.
Как-то мы спорили с подругами о союзниках здесь в Берлине и обсуждали, какая между ними разница. Конечно, нас больше всего интересовал вопрос отношения к женщинам. Девушки были из разных секторов Берлина и уже видели виды.
Немцы больше всего недолюбливают французов. Родители, если уже до того дело дошло, говорят дочке: «Лучше ходи с десятью русскими, чем с одним французом».
Видимо, тут русские играют роль какого-то отрицательного эквивалента. У англичан каждый солдат — это рождённый джентльмен. Даже если он возьмет уличную женщину, то ведёт себя с ней как с настоящей дамой. Этим мужчина только подчёркивает уважение к самому себе.
В американской любви главную роль играют шоколад и сигареты. Я не говорю о серьёзной любви — о ней не болтают языком на улицах. К сожалению, многие видят в американце не человека, а мешок с сигаретами.
Конечно — это плоды нашего трудного времени. Любовь на голодный желудок мало заманчива в наш материалистический век.
Русские… Русская любовь? Об этом трудно сказать что-либо. На улицах Берлина никогда не увидишь русского рядом с немецкой девушкой.
Поскольку это покрыто тайной, — об этом много говорят и строят нелепые догадки. Даже живя здесь в Карлсхорсте, я не могу ничего сказать по этому вопросу.
Что можно сказать о наших молодых людях? Им не остается ничего лучшего, как вспоминать золотые времена в оккупированных странах. Теперь им приходится познакомиться с оборотной стороной медали.
На днях в Карлсхорсте застрелился один старший лейтенант. Печальная история. Старший лейтенант не видел своей семьи с самого начала войны — больше пяти лет. Оказывается, у них вообще не существовало отпусков в армии во время войны. Недавно он был переведен на работу в СВА.
Просил разрешения на въезд семьи — отказали, т. к. въезд семей в Германию был разрешён только короткий срок после капитуляции. Когда смотришь кругом, то кажется, что офицеры имеют право выписывать свои семьи.
Но это только обман зрения. Это немногие семьи, которые успели «проскочить». Получив отказ, старший лейтенант подал прошение о демобилизации. Снова отказали. Старший лейтенант взял пистолет и застрелился.
Сейчас никто не имеет права выписывать жён в Германию. А за общение с немецкими женщинами — Сибирь. Богатый выбор и полная свобода личности!
Передо мной на письменном столе капитана лежит письмо. Конверт сделан из газеты и склеен мучным клейстером. Адрес написан чернилами поверх газетного шрифта.
Это — письмо матери капитана, которое пришло по Военно-Полевой Почте. Многие места в письме замазаны цензурой. Цензура внутри страны на второй год после победоносного окончания войны! Какие тайны может писать мать сыну? Когда я думаю об этом, то я начинаю понимать капитана. Его молчание и его непонятные ответы.
Уже половина восьмого. Скоро капитан вернётся домой. В субботу русские тоже работают до половины восьмого. Для чего у них так построен рабочий день?
Может быть для того, чтобы они не имели возможности общаться с внешним миром? Мне кажется, я начинаю немного понимать русских. Они в плену у какой-то невидимой, но всевидящей злой силы. Неужели они не чувствуют этого сами?
Кончаю. Бегу домой. Целую!
Твоя Марго
* * *
Waldheim-Sachsen
Дорогая Марго!
Жизнь в нашем маленьком городке течёт уныло и однообразно. Было бы ещё тоскливей, если бы у меня не было заботы о маленьком Петере. Иногда я не представляю себе, что бы я делала, если бы у меня весь день не был занят ребёнком.
Петер теперь в другом городе. Комендатуры в маленьких городах ликвидируют и переводят в более крупные гарнизоны. Петер служит в сорока километрах отсюда. Когда он узнал, что их комендатура уезжает, то был очень взволнован, боялся, что их переведут слишком далеко.
Теперь он бывает у нас только раз в неделю. Приходит всегда по ночам, на плече мешок с продуктами. Он видит, что мы голодаем, и тащит всё, что может. Паёк у них у самих очень скудный. Когда он посидит у нас немного, то, как будто, забывает об окружающем мире и становится совсем другой — весёлый и такой простой.
Меня удивляет одно. Он рассказывает о жизни в России, говорит, что жизнь там тяжёлая, что там нет того, к чему мы привыкли здесь. Но он никогда не ругает Россию, а только хвалит. Когда я его спросила, как это может быть — сразу и плохо и хорошо, он только рукой махнул и ничего не ответил.
Еще хорошо, что Петер служит в комендатуре. Он говорит, что там больше свободы. Действительно, в соседнем городе в казармах стоит регулярная воинская часть.
Там солдат вообще в город не выпускают и одеты они очень плохо. У Петера же хорошее шерстяное обмундирование. Он говорит, что такое дают только офицерам, да ещё солдатам, служащим в комендатурах: «Для вида. Чтобы перед немцами не стыдно было».
Дорогая Марго, я хочу сообщить тебе мою тайну. Недавно Петер сказал мне, что скоро его демобилизуют и он должен будет ехать домой в Россию. Он был очень печален, но не сказал пока больше ничего.
Теперь я уверена, что он любит меня и маленького Петера. Но он думает, что я не поеду в Россию, потому что там тяжёлая жизнь. Я долго думала об этом и, наконец, решилась.
Вчера я написала письмо маршалу Соколовскому в Карлсхорст. Я подробно описала ему всё. О маленьком Петере, о том, что я и сержант любим друг друга.
Я посоветовалась с умными людьми и даже приписала, что я люблю коммунизм, Советскую Россию и Сталина. Умные люди говорят, что это у русских теперь так же необходимо, как у нас раньше «Хайль Гитлер!» Я прошу маршала Соколовского разрешить мне с ребёнком поехать вместе с Петером в Россию, когда он будет демобилизован. Я уверена, что он поможет мне и тогда мы все будем счастливы. Я так верю этому! Я ничего не сказала Петеру. Пусть это будет для него сюрпризом.
Иногда я завидую тебе, что ты в Берлине. Там так весело.
Привет от мамы и маленького Петера.
Твоя Хельга.
* * *
Берлин-Карлсхорст
Дорогая Хельга!
Опять зима. Опять я сижу за тем же письменным столом капитана, как год тому назад. В комнате тепло, но на душе у меня холодно. Холодно стало в Карлсхорсте. Это какая-то внутренняя атмосфера. Это трудно передать словами, но это чувствуется на каждом шагу.
Я уже второй год здесь и чувствую глубокую внутреннюю перемену. Год тому назад русские были другие. Был какой-то беспорядок, какая-то ломка… Я не могу выразить это. Но люди были весёлые, самоуверенные и непринуждённые. Теперь надо всем этим опустилась свинцовая пелена. Все вошло в колею, но в какую-то мертвящую колею.
Я в шутку сказала капитану, что Карлсхорст стал теперь совсем русским. Он с кривой усмешкой согласился: «Да… Советским».
Раньше русских часто можно было видеть в немецких театрах и кино. Теперь для них в Карлсхорсте открыли несколько клубов и они ходят только туда. Кругом Карлсхорста строят всё новые и новые заборы. Даже трамвайную линию, проходящую сквозь Карлсхорст, отгородили с обеих сторон железными решетками.
Теперь много русских ходит в гражданском платье. Большинство одеты в одноцветные тёмные пальто и костюмы. О моде, о европейской моде русские не имеют понятия. Как будто они выросли в другом мире, где об этом не приходилось думать.
О чём думают русские женщины там в России?
Недавно я видела в просоветском журнале «Иллюстрирте Рундшау» фотографию — бригада каменщиков на стройке. Из шести каменщиков — пять были женщины. Наверно им не до европейской моды.
Например, я и мои подруги имеем теперь мало возможности шить новые платья, но мы переживаем эти новые платья в душе. Ах Хельга, ведь это такое удовольствие — сидеть и изобретать фасон нового платья!
В Карлсхорсте стоят очереди даже за сковородками и кастрюлями. Какова же жизнь в этом коммунистическом раю? В немецких газетах теперь так много пишется о коммунизме.
Но я не слыхала, чтобы сами русские употребляли это слово. Когда я спросила об этом лейтенанта из соседней квартиры, то он только буркнул «…твою мать». Что это такое? Может быть, по-ихнему так произносится коммунизм?
Мой капитан теперь тоже изменился. Герр Шмидт рассказывает, что он часто встаёт среди ночи и ездит ещё до рассвета на охоту. В темноте садится в машину и едет куда-то в окрестности Берлина.
Один. К началу работы возвращается по уши в грязи. С ружьём, но часто без дичи. Мне иногда кажется, что он просто старается вырваться из Карлсхорста, подышать свежим воздухом.
Я почти каждое утро нахожу на кухне оба ведра наполненными пустыми бутылками из-под водки и вина. Раньше этого не было. Фрау Шмидт говорит, что у него вечерами бывают те же друзья.
Раньше они уезжали кампанией в театр или кино. Иногда среди ночи брали патефон и отправлялись купаться при луне на Мюггельзее. По воскресеньям на весь день уезжали в Берлин. Теперь же только сидят у него каждый вечер в квартире и пьют водку.
Капитан изменится внешне. Замкнулся, ушёл в себя. Такой же строгий и подтянутый, но только редко улыбается. После обеда ложится на кушетку и закрывает лицо газетой. Но не спит, потому что я вижу, как он реагирует на происходящее кругом.
Да, я и забыла сказать тебе. Незадолго до того, как в нём произошла эта перемена, он ездил в отпуск в Россию. Вернулся похудевший и какой-то невесёлый. С этого собственно и начались ночные пьянки и утренние поездки на охоту. Как будто у него что-то тяжёлое на сердце.
Как-то я спросила у него: «Почему Вы так изменились, герр капитан? Год тому назад Вы были совсем другой».
Сначала он сделал вид, что не слышит моих слов, потом нехотя сказал: «Тогда мы были звери, вырвавшиеся на свободу. Ну, и резвились кругом… Теперь снова посадили нас на цепь».
Я спросила его: «Вам нравится в Германии, герр капитан?» Он ответил: «Человек должен оставаться там, где он рождён…» Он отвечает не на мой вопрос, а своим собственным мыслям. Когда я завожу разговор на личные темы, он всегда думает о другом. О чём он думает?
О нашей жизни в Берлине тебе пишет мама, поэтому не буду повторяться.
С приветом, твоя Марго.
Дорогая Марго!
Случилось что-то ужасное. Я пишу тебе это письмо из маленькой деревни вблизи границы. Сегодня ночью мы идём через границу. Я, маленький Петер и… Петер.
Вчера среди ночи кто-то постучал в окошко. Это был Петер. Но, Боже, в каком виде! Грязный, в измятой шинели, небритый. Молча вошел в комнату и первым делом стал искать глазами ребенка. Я в первый раз видела его в таком состоянии. Он был похож на затравленного зверя.
Он торопливо объяснил мне все. Мы должны бежать. Он был арестован. Его обвинили в государственной измене. Шпионаж в пользу иностранной державы. Запретная связь с немкой. Боже, Боже…
Он говорит, что ему показали какое-то письмо. Сказали, что эта немка арестована и во всем призналась. Знают, что у него есть ребёнок. Он говорит, что это означает Военный Трибунал. Этой ночью он бежал и пешком пришел сюда. Он говорит, что мы должны немедленно бежать… Куда?
Я, не помня себя, как во сне оделась. Думаю, что вот каждую минуту постучат в дверь и всех нас арестуют. Теперь я понимаю, почему Петер так боялся раньше. Петер сбросил шинель и я вижу что у него через плечо висит автомат. Он такой страшный. Он сейчас такой, каким я видела его в те ужасные дни войны. В его глазах — смерть.
Маленький Петер проснулся и плачет. Большой Петер ходит вокруг маленького Петера с автоматом в руках. Он не может ни на минуту остановиться. Он как медведица около своего детёныша. Я знаю, что он убьёт каждого, кто станет на его пути.
Он всё время торопит меня. Скорей уйти из этого дома. Скорей… Мы бежали ночью, закутав маленького Петера в одеяло.
Сейчас вечер. Мы сидим в комнате у незнакомых людей. Они понимают нас. Я им все объяснила. Большой Петер держит на коленях маленького. Он не выпускает автомат из рук. Его лицо — камень.
Через несколько часов мы идём через границу. Помоги нам Бог и пожалей маленького Петера…
Хельга.
Берлин
Дорогая Хельга!
Всякий красивый сон приходит к концу и остается только грустное воспоминание. Моего капитана уже нет здесь. Он уехал в Россию. Я тоже оставила Карлсхорст — там теперь слишком пусто и безрадостно.
Я не забуду наш последний день в Карлсхорсте. Это был чудесный день, Хельга. Капитан совершенно преобразился в этот день.
Я спросила его: «Любишь ли ты меня, Миша?» Ведь я прочла это в его глазах.
Он посмотрел на меня со своей загадочной улыбкой: «Во всяком случае, ни одна девушка в Берлине не нравилась мне больше, чем ты, Марго…»
Мне стало так грустно. Он любил меня всё это время. По своему любил. Может быть сильнее и глубже, чем я это могла понять. Какая же безжалостная сила заставляла его скрывать свои чувства, замораживать кровь? Ради чего?
Я спросила: «Почему же ты был такой, Миша?»
Он гладил мои волосы и ласкал меня. Но эти ласки были холодны. Будто он ласкал любимую вещь, но не женщину.
«На это трудно ответить, Марго, — сказал он. — Ты слишком хорошая девушка, чтобы взять тебя и потом выбросить. Ты достойна большего. А это большее в наших условиях исключено. Я не хотел осквернять тебя и свою собственную душу. Ты никогда не можешь быть моей женой…»
Я перебила его: «Но почему?»
Он опять улыбнулся так, словно я задаю ему вопросы, которые невозможно объяснить. Он ничего не ответил.
На прощанье он сказал мне: «Я хочу, Марго, чтобы ты не оставалась больше здесь в Карлсхорсте. Найди себе работу и любовь в своей среде. Пообещай мне!»
Он взял мою кеннкарту и перечеркнул крестом штемпель комендатуры СВА. Когда перечеркнут этот штемпель — на работу в Карлсхорст больше не принимают.
Мы весь день провели вместе. Наш первый и последний день, когда мы знали, что любим друг друга. Теперь он где-то далеко, в своей любимой холодной России.
Он был прав! Розы не растут на болоте…
Твоя маленькая одинокая Марго.
Глава 17 Член Политбюро
1
«Милый мой мальчик, извини меня, что плохо пишу — старая уж я стала совсем. На покой пора, а Бог смерти не даёт. Руки дрожат, перо за бумагу цепляется. Левый глаз совсем не видит, правый тоже не слушается…»
Передо мной лежит пожелтевший листок корявой бумаги, вырванный наверное из моих старых школьных тетрадей. Крупный, похожий на детский, почерк. Неясные, много раз разведенные водой чернила. Я с трудом разбираю буквы, старательно выведенные ржавым пером.
«…Сижу при свете керосиновой моргалки, как в двадцать первом году, и пишу тебе письмо. Электричество горит только по два часа в день, да и то не каждый день. Я придвинула стол к печке, тут хоть немного тепло. От окон ужасно дует, хотя я и позатыкала все дырки ватой. Кровь уж не греет, милый мой…»
Нет электричества! Нет угля для печи! И это через два года после победного окончания войны. И это в сердце Донецкого угольного бассейна, богатейшего в Европе угольного месторождения.
Впрочем, чему удивляться. До войны студенты нашего института всю зиму сидели в аудиториях закутавшись в шубы, с меховыми шапками на головах. Мёрзли пальцы. Хотелось засунуть руки в карманы, а нужно было писать конспекты.
Топки центрального отопления Новочеркасского Индустриального Института им. Серго Орджоникидзе были рассчитаны на донецкий антрацит, а теперь их кормили никуда не годным штыбом. Зато в научной библиотеке Института мы любовались немецкими журналами «Der Bergbau», где на последней странице из номера в номер рекламировался на продажу заграницу дешёвый донецкий антрацит.
Однажды мой приятель Василий Шульгин стал самым популярным человеком на Энергетическом Факультете. Никому неизвестными путями он достал где-то авиационный комбинезон с электрическим обогреванием, какие применяются при полётах в Арктике.
Из лаборатории ОЭТ он притащил под свою скамью трансформатор, раздобыть длинный шнур было уже совсем пустяком. Щёлк — и Василий стал знаменитостью.
В первый день этого подвига мы не столько слушали профессоров, как наблюдали за Василием — скоро ли от него пойдет пар или не загорится ли он. Один из ближайших друзей на всякий пожарный случай принёс из коридора огнетушитель и засунул его неподалеку от героя.
Триумф Василия продолжался несколько дней. Иногда он с гордым, видом щёлкал выключателем у себя на боку и мерзнущая аудитория понимала, что Василию слишком жарко. Мы все сообща любовались и гордились мешкообразной фигурой на задней парте, как будто это был наш коллективный подвиг.
К нашему всеобщему удивлению и разочарованию, в один морозный январский день Василий снова появился в своем стареньком пальтишке на рыбьем меху. На наши недоумённые и настойчивые вопросы он односложно отвечал, что «машина» испортилась.
Только нескольким доверенным друзьям он поведал свою горькую тайну. Оказывается, его вызвали в Спецотдел, институтский филиал НКВД, и там предложили прекратить «антисоветскую демонстрацию», иначе дело будет передано в «соответствующие органы».
По правде сказать, это было ещё большой любезностью со стороны спецотдела. Все студенты мерзнут и молчат, а одному захотелось погреться — контрреволюционная агитация и подрыв социалистической экономики!
Так было все довоенные годы. Это была система. Люди просто привыкли не замечать этого.
Немцы сейчас мёрзнут в своих нетопленых квартирах. Они, конечно, проклинают советских офицеров, которым не нужно считать каждого брикета. Но никому из них не придёт в голову, что семьи этих офицеров в далекой России мерзнут ещё больше, чем немцы.
«…Но я всё-таки креплюсь. Весь день-деньской на ногах, всё хозяйство веду. Плохо, что сил нет, кости старые болят. Кушаю только сладкий чай, да иногда сухарик в чае размочу. Во рту два зуба осталось, жевать нечем».
«Мать уходит в семь часов утра на работу. Вечером еле-еле с палочкой добирается до дома, идёт — за заборы держится. Не так устанет от работы, как от трепки нервов. Люди все озлобленные, чуть что — ругаются последними словами, ничего слушать не хотят».
«Мать ходит на работу в туфлях, что ты прислал. Для дома я ей сшила туфли из тряпок — она очень довольна. Жаль что и тряпок-то нет, шить не из чего.
Недавно мать надела на работу присланные тобой чулки. Все девчонки молодые так рассматривали, что матери неудобно стало. Одну пару мать подарила Марусе Силенко, за то, что та ухаживала за матерью, когда она была больна. Маруся была рада до смерти…»
«…Мать теперь боится ходить на почту получать твои посылки. Бандиты следят за людьми, кто получает посылки из Германии, вламываются ночью и убивают. А днём мальчишки-ремесленники караулят около почты и отнимают посылки на улице среди бела дня…»
Я вспоминаю Горьковский Автомобильный Завод им. Молотова, известный всему миру ГАЗ. Там в начале войны я наблюдал этих так называемых «ремесленников» — новые кадры советского пролетариата.
Когда советская промышленность зашла в тупик с молодыми кадрами — никто из молодёжи не хотел добровольно идти в рабочие — незадолго до войны был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации в Фабрично-заводские и Ремесленные Училища». Миллионы подростков в возрасте 14–17 лет в принудительном порядке были мобилизованы в эти училища. Это была кузница нового класса советских рабов.
В заводской столовой сначала кушали эти «ремесленники» из ремесленного училища при заводе. Питание ремесленников было паршивое, но всё таки лучше, чем рабочих — ведь подростки не так сознательны, как взрослые, и их одними лозунгами не накормишь.
К тому же многие «ремесленники» получали кое-какие продукты из деревни, откуда они в большинстве были родом. В результате этого они иногда оставляли свои порции недоеденными, часто из мальчишеского озорства запросто выворачивали несъедобные обеды на стол.
Не успевали ещё «ремесленники» покинуть зал столовой, как туда бегом врывалась очередная партия рабочих. Одни кидались в очередь перед кассой или раздатком. Другие спешили занять места за столом, иначе придётся, глотая слюни, ожидать за стулом, пока покушает более быстроногий пролетарий.
Третьи же, выхватив из карманов ложки и стыдливо озираясь, бросались к столам с недоеденными и разбросанными по столам остатками от обеда их младших братьев-пролетариев и торопливо с животным голодом поедали эти остатки.
Что думали «ремесленники», наблюдая эту картину? Ведь через несколько месяцев они тоже должны были стать полноправными рабочими, получать рабочий паёк и все прочие блага, записанные в скрижалях солнечной Сталинской Конституции.
Рядом была маленькая комната, откуда пахло яичницей и жареным салом. Там помещалась столовая для начсостава: директора, парторга ЦК ВКП(б) и прочих вождей. Рабочие не особенно завидовали вождям.
Вожди так часто менялись, что люди даже не успевали запоминать их фамилии. Куда они исчезали, люди тоже не интересовались. Известно куда — Аист приносит, а Чёрный Ворон уносит!
На заводе ГАЗ в те годы работала группа английских сержантов и техников. Они руководили сборкой танков, присылаемых в СССР по ленд-лизу. У них, конечно, осталось самое лучшее впечатление о заводе.
«…Вчера мать купила на базаре два стакана кукурузы, я потолкла её в ступке и теперь мы два дня кушаем кашу. Если бы было масло, то было бы совсем вкусно. Теперь холодно и крестьяне на базар привозят мало. Картошка стоит XXX, горох — XXX, молоко — XXX, о мясе и масле мы даже не думаем».
Затем следует несколько строчек, замазанных черной краской цензора.
Два стакана кукурузы…
Ранней весной 1945 года я cдал курсовые экзамены в Военной Академии. После этого я должен был ехать на фронт, на боевую стажировку перед защитой окончательных Государственных Экзаменов.
Так как часть курсовых экзаменов была зачислена мне из прежних учебных заведений, то я освободился раньше других и с большим трудом получил недельный отпуск домой, правда, опять таки под предлогом служебной командировки в том же направлении.
С вещевым мешком за спиной, засунув руки в карманы, я хожу под сводами Казанского Вокзала. Шагаю через спящие на полу тела в серых шинелях. Надежд сесть в поезд мало. Люди не могут попасть на поезд неделями.
Я начинаю знакомиться с дислокацией вокзала в поисках обходного маневра, смотрю по сторонам — может быть есть какая-нибудь дырка, где можно пролезть на перрон.
Единственное моё преимущество — это отсутствие багажа, молодая сила, да ещё социалистическая смекалка. Билеты и деньги?! Ха — это доисторические пережитки.
«Братишка, у тебя, если не ошибаюсь, Те-Те?» — раздаётся сиплый бас за моей спиной, здоровенная ручища хлопает меня по плечу.
Сзади меня ухмыляется во весь рост удалой матрос в чёрном бушлате и сдвинутой на затылок бескозырке. Несмотря на холод, на его обнаженной груди красуются все символы матросской жизни.
Татуирован он до самого подбородка — видно уже места не было, а требовалось запечатлеть на собственной коже недавнюю эпопею Севастополя. Один из тех, о ком говорят, «рубаха парень», кому всё на свете трын-трава и все моря по колено. Матрос улыбается мне, как будто мы с ним давно знакомы, и показывает пальцем на кобур моего пистолета.
«Да. Те-Те. А что такое?» — спрашиваю я.
«Ты с каким едешь — в одинадцать двадцать?» — звучит бас. Получив утвердительный ответ, матрос ещё шире улыбается: «Ну, тогда все в порядке. Отдать концы! Пошли!»
«Куда?!»
«Раз говорю, пошли, значит пошли! Держи в кильватер! Ты что, братишка, — сегодня на свет народился?» — говорит мой новый родственник. У матросов своя особая манера. Для них весь белый свет — братишка.
Мы выходим из вокзала, лезем в темноте по каким-то крышам, через какие-то заборы. Матрос кряхтит: «Эх, Одесса-мама у меня дырок больше, чем живого мяса».
Наконец мы приземляемся на железнодорожных путях по другую сторону вокзала. Между составами по перрону ходят патрули. Как диверсанты мы подкрадываемся к стоящему на путях поезду. Все вагоны заперты.
«Теперь давай твой Те-Те, братишка», — командует матрос.
«Что ты будешь делать — стрелять?
«Да нет. Держи обойму. Теперь смотри — билет на весь свет!»
Матрос оттягивает назад верхнюю скобу пистолета, ставит её на защелку. Затем он ловко вставляет торчащее вперед дуло в гнездо трехгранного замка. Поворот — и мы внутри вагона.
«Я по этому билету больше проехал, чем по каким другим», — гордо поясняет «братишка», отдавая мне пистолет.
Впоследствии мне ещё несколько раз приходилось пользоваться необычайным качеством пистолета системы «ТТ» — нарезка и канал ствола в точности соответствовали всем железнодорожным замкам.
Мы забираемся на привилегированную верхнюю полку. Итак — мы уже на колесах, можно сказать дома. Конечно, у нас у обоих были воинские билеты, но с этими билетами мы спали бы несколько дней на вокзальном полу. Билет системы «ТТ» куда лучше!
У порога родного дома я останавливаюсь и оглядываюсь кругом. Всё покосилось, вросло в землю. Заборов нигде нет — сожгли. Через весь город можно пройти дворами, напростец. Со смешанным чувством радости и печали я открываю шаткую дверь, увешанную ржавыми крючками и хитроумными щеколдами.
Дверь такая дряхлая, что её боязно открывать, того и гляди развалится. Осторожно ступаю тяжёлыми сапогами по скрипящим половицам кухни.
Всё такое прогнившее, ветхое и запущенное — как в детских сказках об избушке на курьих ножках. Открывая дверь в следующую комнату, я втягиваю голову в плечи, чтобы не зацепиться за перекладину. Тесен стал отчий дом после скитаний по белу свету.
В углу комнаты у печки маленькая сгорбленная старушка в фартуке. Она почти по пояс мне. Когда-то она вынянчила меня на своих руках, теперь же я могу взять её на руки как ребёнка. Седые волосы, аккуратно убранные под белую косынку, все та же клетчатая шаль на плечах. Маленькая старушка оборачивается на шум закрываемой двери.
«Гриша!?»
Звук этого слова нельзя передать. В этом одном коротком звуке все переживания долгих лет войны — надежда, страх, ожидание, радость.
Я испугался. Я испугался, когда увидел, как задрожали морщины на её лице, как беспомощно упали вниз её руки.
«Бабуся!?»
Я только схватил её плечи, я боялся, чтобы она не упала. Мы долго стояли молча. Прижавшись в моей груди, она жалобно, по-детски плакала слезами радости. Я осторожно гладил её сгорбленную спину под старенькой фланелевой блузкой. Я чувствовал под моими пальцами её хрупкие кости, я боялся причинить ей боль моими грубыми руками.
«А где мать?» — спросил я, оглядываясь кругом.
«Она на работе. Вернётся к шести».
«Я пошлю кого-нибудь из пацанов со двора. Пусть скажут ей», — предложил я, сбрасывая шинель.
«Что ты, Гриша… Упаси Бог! — торопливо и испуганно пролепетала старушка. — Она от радости убежит с работы, а потом под суд или выгонят…»
Я почувствовал, как воротник кителя стал мне неожиданно узок, как кровь прилила к голове и зашумела в ушах от ярости. Вот как встречает солдата-сына советская мать после четырёх лет разлуки! Мне хотелось пойти и разбить рукояткой пистолета морды начальству учреждения, где работает мать. Эх ты — билет на весь свет системы «ТТ»! Тут ты бессилен…
Поздно вечером приплелась с работы мать. Бабушка по случаю моего приезда готовит праздничный ужин. Она с гордостью достала микроскопическую баночку с мёдом и поставила на стол, видно, эта баночка долго хранилась в дальнем углу ради торжественного случая. Затем на столе появляется крошечный аптекарский пузырек из-под лекарства — в нём вишнёвая настойка.
Когда я шагнул к моему вещевому мешку и начал выкладывать на стол пёстрые американские банки с консервами, в глазах матери загорелось чувство радости и облегчения.
Они были сами голодны, но ещё тяжелее было им сознание того, что им нечем накормить и угостить сына-солдата, вернувшегося домой живым после долгой разлуки. Теперь на столе были американские консервы.
Когда русские люди слышат слово «ленд-лиз», то в их памяти встают горы и горы консервных банок. Эти банки можно было встретить в самых диких трущобах знаменитых Брянских лесов, в болотах Ленинградского края, на каждом шагу, где прошла советская армия.
Россия — это признанная богатейшая сельскохозяйственная страна с неисчерпаемыми природными богатствами. И эта страна с 1942 по 1945 год жила и боролась исключительно за счёт американских продуктов.
Мы, офицеры, все глубоко убеждены, что мы могли бы продержаться без американских танков и самолетов, но просто умерли бы с голода без американских продуктов.
Мясопродукты, жиры и сахар в Армии на 90 % были американского происхождения, почти такая же картина была в тылу. Даже бобы и белая мука были американские. Единственное, что было советским — это чёрный хлеб, если не считать ещё воду.
Кстати о воде. В Москве вполне серьёзно утверждали, что американское посольство даже воду получает из Америки в консервных банках. Наверное, при этом подразумевались банки с грейпфрутовым соком, который по американским понятиям удлиняет жизнь человека и способствует успеху в делах. В Москве же после войны говорили, что Кремлёвские склады обеспечили себя американскими продуктами на много пятилеток вперед.
Однажды, в начале 1943 года, все магазины в крупных городах СССР оказались буквально завалены мешками кофе в бобах. Видно американцы подбросили пару пароходов.
До войны натуральный кофе считался в СССР предметом роскоши. Теперь же все полки в магазинах, до этого пустовавшие, ломились под тяжестью мешков с красными заграничными буквами. Без карточек, по 80 рублей кило. Хлеб в то время на вольном рынке стоил 150 рублей кило.
Вскоре люди стали покупать кофе целыми мешками. Не то чтобы русские люди заразились иностранными вкусами. Вовсе нет. Они выпаривали кофейные бобы в кипятке, благовонную жижу сливали ко всем чертям, вываренные бобы сушили, толкли их в ступке или мололи на кофейной мельнице и… пекли из этого продукта хлеб. Хлеб из кофе! До этого подобные фокусы проделывались с горчицей в порошке. Хлеб из горчицы! Хлеба, хлеба!
Вся жестяная посуда в СССР в годы войны изготовлялась из американских консервных банок. Русские люди не скоро забудут эти банки и их содержимое — «Porked Meat».
В бессильной злобе, стараясь уменьшить эффект консервной пропаганды, слухачи НКВД распускали слухи, — НКВД имеет людей, которые не только собирают слухи, но и распускают их по приказу свыше, — что американцы делают консервы из мяса южноамеканских обезьян и посылают их в СССР.
«…Милый Гриша, может быть у тебя есть там какая-нибудь чашечка? Я свою недавно разбила и теперь чай не из чего пить. Если пришлешь, я буду очень рада. Как буду чай пить — буду тебя вспоминать, родной мой».
«…Ты зашиваешь посылки в очень хорошую парусину. Не бойся — мы её не выбрасываем, а делаем из этого полотенца. Не сердись на нас, если мы у тебя чего-нибудь просим. Ведь ты у нас один. Я только и живу твоими письмами. Жить то мне уж не долго осталось.
Будь здоров, мой хороший. Береги себя!
Твоя бабушка».
Я медленно поворачиваю голову и смотрю на золотой погон на моём плече. В груди поднимается горький комок, свинцовая тяжесть наливает затылок. Глаза и мозг застилает пелена кровавого ослепляющего тумана.
Это всеиспепеляющая жажда уничтожения, жажда возмездия. С таким кровавым туманом в глазах русский солдат шёл со штыком в лоб на пулеметы, бросался грудью на амбразуру немецкого ДОТа. В кармане у него было письмо, где из родной деревни сообщали, что его дом сожжён, а семья умерла с голода.
Хочется крови. Злоба и горечь распирают мою грудь. Что делать?! Вынуть из угла шкафа автомат, выйти на улицу и стрелять в звезды?! Или, не спуская палец с курка, чертить крестом стены. Хорошо было во время войны, там было хоть на ком злость сорвать.
Что делать?! Я достаю мешок для посылки. Набиваю его до десяти килограмм дамским кружевным бельём, шёлковыми чулками, отрезами материи.
В самую середину осторожно засовываю несколько фарфоровых чашек. Что ещё? Ведь там нужно абсолютно всё. Они продадут это и купят себе масла, а ходить будут все равно в лохмотьях. Разве наполнишь бездонную бочку!
Сегодня вечером я хотел пойти куда-нибудь. Письмо отбило у меня всякую охоту выходить из дома. Я сижу за письменным столом, передо мной проходят картины моей жизни.
2
1921 год. В то время я был ещё совсем ребенком. Пожалуй, единственное воспоминание, врезавшееся мне в память, — это галки. В освещённой керосиновой лампой комнате по полу прыгают галки. Одна из них неловко волочит за собой по полу крыло, капли крови тянутся вслед. Мигает пламя лампы, таинственные тёмные углы, а на полу бедные жалкие галки.
Зимой галки летали чёрными стаями. Когда в сумерках зимнего вечера они с громким «кар-кар» проносились над крышами домов люди говорили: «Это к морозу. Завтра ещё холодней будет».
Малиново-красная полоса заката на горизонте, сиреневая морозная мгла и кричащие стаи галок. Они усаживались, как гроздьи чёрных ягод, на голые ветки высоких тополей в садах и вели перед сном свои птичьи разговоры.
Галки очень умные птицы. Вы можете танцевать и кричать под деревом, где они сидят — галки не обратят на вас ни малейшего внимания. Но если у вас в руках будет ружьё, то они не допустят вас и на сто шагов. Предостерегающий крик дежурной галки и вся стая с громким «кар-кар» срывается с места.
Мой дядя изобретал самые хитроумные способы, чтобы подобраться к горлатой дичи с ружьём. Это была самая настоящая охота — ведь галки шли на рагу.
Я не помню, какой вкус имеет рагу из галок. Люди постарше уверяют, что оно нисколько не хуже другой дичи. У каждой дичи свой особый специфический запах — амбре, как говорят любители. Таково было советское рагу образца 1921 года.
В то время на улицах в снегу сидели закутанные в лохмотья дети и молча протягивали вперёд руки. У них уже не было сил выговорить слово «Хлеба!» Когда прохожие несколько часов спустя возвращались мимо этого места, то дети уже не протягивали руки.
Морозный иней лежал на их ресницах. Хлопья мягкого чистого снега медленно падали на жалкую кучку лохмотьев, которая называется человеком. Называлась человеком — эти были уже замерзшие трупы. Дети были мертвы. Дети — цветы жизни.
В Кремле в то время решались проблемы эпохи военного коммунизма. Вожди пока ещё сравнительно мирно таскали друг друга за волосы, споря куда идти — вправо или влево.
1921 год мало вспоминают. После этого было много других «годов», которые острее сохранились в памяти людей. 1921 год был чем-то естественным — война, послевоенная разруха. Поэтому он не казался таким ужасным.
1926 год. Годы Новой Экономической политики. «Период временного отступления для организации решающего наступления по всему фронту», — как пишется в истории ВКП(б).
Если в эти годы отец давал мне десять копеек, то я был богатым человеком и мог удовлетворить все мои мальчишеские желания. Период 1925–26 годов это были единственные годы за всё время существования Советской Власти, когда люди не думали о хлебе.
Я не помню царскую Россию. Период НЭПа для людей моего поколения — это эквивалент нормальной и зажиточной жизни. Мне приходилось слышать от стариков различные сказки, но я в то время был пионером и больше интересовался игрой на барабане.
Раскинув руки на два аршина такой музейный старичок с восторгом и сожалением говорил: «При Николае в-о-о-т т-а-а-кой залом (сушёная рыба) стоил три копейки, а теперь…» Старичок глотал слюни и уныло махал рукой. Мне было жалко старичка, но игра на пионерском барабане интересовала меня больше, чем трёхкопеечные заломы.
1930 год. Я — школьник. Название школы меняется каждые три месяца, педагогические программы — соответственно этому. Меня всё это сравнительно мало интересует — у меня нет времени.
Основную часть дня я провожу в очередях за хлебом. Около хлебных магазинов день и ночь стоят очереди. Шестьсот, семьсот… Часто номер, написанный чернильным карандашом на моей ладони превышает тысячу.
В то время это было для нас своего рода спортом. Когда к магазину подъезжает фургон и из него начинают разгружать хлеб, начинается горячее время. Кричат полураздавленные женщины, дикая матерная ругань, стон и плач.
В это время мы, мальчишки, пытаемся ворваться в магазин через окно или через любую другую дырку, куда пролезет наша голова. Это было для нас заменой детских игр. Это был героизм, подвиг. Где-то дети играют в индейцев, мы же боролись за нашу жизнь, за кусок хлеба. Так подрастали молодые строители социализма, так закалялась сталь.
Учились мы во второй смене, в школе было так же холодно, как и на дворе. На улице было гораздо веселей, здесь хоть согреешься от беготни. Какой толк, что учительница опять будет рассказывать сказки о Парижской Коммуне, от этого сыт не будешь. Вместо Бастилии мы штурмовали хлебные лавки.
1932 год. Всеобщая коллективизация. По улицам лежат трупы людей, умерших с голода. Живые ходят с трудом, распухли ноги, водянка — спутник голода.
Мой старший брат, как комсомолец, мобилизован на выполнение спецзадания. Им выдают винтовки. По ночам они стоят в качестве охраны у церкви, превращенной в пересыльную тюрьму. Не хватает тюрем, не хватают охраны.
Вечерами в полутьме пригоняют партии раскулаченных — сотни оборванных крестьян и крестьянок. На руках у матерей закутанные в тряпки грудные дети. Многие еле передвигают ноги. С заряженными винтовками ходят они, мальчишки, вокруг церкви. Сами голодные, они охраняют голодных людей.
Морозным утром открываются церковные врата. Классовых врагов в лохмотьях гонят дальше на Север. Несколько десятков трупов остаются лежать на холодном каменном полу. Для них проблема ликвидации кулачества как класса уже разрешена. Они счастливчики. Других ожидают ещё мучения и все равно тот же конец.
Проходит зима и наступает весна. Начинается кампания по засыпке семенного фонда. Крестьяне пекут хлеб из коры деревьев, а люди с наганами в руках требуют зерно для посевной кампании.
Одетая в лохмотья женщина с грудным ребенком на руках. Ещё двое испуганно выглядывают из-за подола матери. Женщина истерически кричит: «Сама голодная. Молока в грудях нету для ребёнка. — В яростном порыве протягивает вперед плачущий комок. — Засыпайте детей в семфонд!»
Зимой крестьяне ели кору с деревьев, кошек, собак, конский навоз. Случаи каннибализма были частым явлением. Никто не знает, сколько миллионов умерло с голода в 1933 году. Может быть, треть, может быть половина всего сельского населения Юга России.
Летом по опустевшим селам бродят немногие оставшиеся в живых и одичавшие собаки, питаются человеческим мясом. Сначала хозяева ели собак, теперь собаки лакомятся своими хозяевами. Много полей не засеяно, засеянные поля некому убирать.
Нас, школьников старших классов, ежедневно гоняют убирать урожай на поля. Дорога ведет по окраине городского кладбища. Каждое утро, когда мы идем на работу, мы видим десятки свежевырытых глубоких ям.
Возвращаясь с работы, мы видим эти ямы уже засыпанными вровень с землёй. Некоторые наиболее любопытные школьники пробовали расковыривать рыхлую землю ногой. Натолкнувшись под слегка притрушенным слоем земли на голые человеческие ноги и руки, они потеряли свою любознательность.
Иногда, когда мы, вытянувшись вереницей, шли через кладбище, в эти зловещие ямы, как ненужную падаль сбрасывали с подвод голые распухшие трупы из тюрем и больниц. Эти были те, чью работу мы теперь делали в поле. Порастут бурьяном неизвестные могилы и никто не узнает цену звонкого слова кол-лек-тив-визация!
Искусственный голод 1932–33 годов был политическим мероприятием Политбюро, это не было стихийное бедствие. Необходимо было показать, кто хозяин в стране. Решение было принято и подписано в Кремле. Последствия — миллионы человеческих жизней, может быть десятки миллионов. Голод стал отныне орудием кремлёвской политики. Он стал новым Полномочным Членом Политбюро.
Демпинг! Тупозвучный экономический термин. В тридцатых годах сэры из Палаты Лордов прокатили в британском парламенте билль о запрещении советским торговым судам бросать якорь в английских портах.
Конечно, англичане исходили из своих внутренних соображений — нужно было защитить экономические интересы империи, канадских и австралийских экспортёров зерна. Англичанам, вероятно, не пришло в голову, как этому решению радовались миллионы русских людей.
Советы лезут со своей баснословно дешёвой пшеницей, дешевле себестоимости пшеницы на мировом рынке. Для Советов механика проста — у коллективизированного крестьянина хлеб забирается по цене 6 копеек за килограмм, рабочим он продаётся по 90 копеек за килограмм. Никаким капиталистам такие дивиденды и не снились. Тут уж можно побаловаться и демпингом.
Богатая и сытая Советская Россия предлагает по бросовым ценам зерно на мировом рынке. Жадные до наживы капиталисты бросаются на дешёвку. Англичане с удовольствием жуют дешёвый и очень белый русский хлеб. Но… Но вскоре начинает трещать песок на зубах.
Канадские и австралийские фермеры чертыхаясь жгут свое зерно в топках, пускают его по ветру под радостные вопли московского радио: «Смотрите, что творится в бесплановом капиталистическом мире».
Но у бравых канадцев и австралийцев после зернового аутодафе не оказывается денег, чтобы покупать английские промышленные товары. В результате закрываются английские фабрики и заводы, растёт безработица.
У озлобленных английских рабочих нет в кармане шиллингов, чтобы купить такой белый и соблазнительный, такой дешёвый русский хлеб.
А там, за морем, в чудесной стране строящегося коммунизма нет безработицы, а хлеб такой дешёвый, что его продают почти даром заграницу. В результате усиливаются забастовки и рост революционного движения на Западе.
«Революция продолжается, товарищи», — потирают руки дяди в Кремле.
Откармливаются дешёвым советским сахаром свиньи в Дании. В СССР пьют чай вприглядку, по праздникам вприкуску. Голодают советские рабочие и крестьяне, зато есть деньги для финансирования капитального строительства, есть импортные станки и машины.
Растёт база тяжёлой индустрии — тяжёлое орудие в арсенале мировой революции.
Рабочим и крестьянам обещали, что тяжёлая индустрия будет делать лёгкую индустрию, а та, в свою очередь, ситец и ботинки. Но пока что производятся только самолёты и танки. Ничего не поделаешь — капиталистическое окружение. Терпите!
Теперь нет места чувству буржуазной сентиментальности. Статистика говорит, что рождаемость и рост народонаселения обратно пропорциональны жизненному стандарту. Чем хуже люди живут, тем быстрее плодятся. С одной стороны Индия и Китай, где с голоду ежегодно умирают тысячи, а на их место рождаются миллионы.
С другой стороны сытые, изнеженные страны на закате цивилизации, Франция и Англия с падающей кривой рождаемости, где наибольший удельный вес падает на отмирающие возрастные группы.
Вспомните мемуары Ллойд Джорджа и его сравнение с опрокинутым треугольником. Исходя из этих предпосылок Сталину нет необходимости опасаться последствий политики голода, рабочими руками и солдатами он будет обеспечен в достаточной мере и при всех условиях. Со всех точек зрения активный баланс для государства.
Сентябрь 1939 года. Подписан пакт о дружбе Сталин-Гитлер. Состав за составом катится советский хлеб, масло, сахар курсом на Германию. Одновременно всё это исчезает с полок советских магазинов, и до этого не блиставших изобилием.
Чтобы объяснить перемену политического курса слухачи НКВД распускают повсюду очередной слух: «Риббентроп привез в Москву фотокопии документа, подписанного четырнадцатью иностранными державами. Эти державы предлагали свою помощь Гитлеру, если он нападёт на СССР. Гитлер предпочёл нашу дружбу. Мы хотим мира. Но за это надо платить».
Тысяча девятьсот сорок первый год. Война! Голод из стадии хронической нехватки переходит в свою законченную форму. Карточная система. Рационирование.
Это уже не недоедание, а форменный голод. Зимой 1941–42 года килограмм картошки на вольном рынке стоит 60 рублей — это недельная зарплата рабочего, килограмм масла 700–800 рублей — это трехмесячная зарплата.
По карточкам рабочий получает ровно столько, чтобы двигаться, чтобы работать. Практически основной и единственной пищей является хлеб. Шестьсот грамм хлеба в день. Того хлеба, от которого немецкие военнопленные болели язвой желудка и дизентерией и мёрли как мухи.
Однажды я сижу в кабинете директора радиозавода им. Ленина, куда я попал по служебным делам. Стук в дверь прерывает наш разговор. Секретарша просовывает голову и докладывает: «Сердюкова в приёмной. Прикажете впустить или пусть ждёт?» Сердюкова робко входит в кабинет. По её измазанному лицу трудно определить, сколько ей лет. На ней засаленная и торчащая коробом чёрная рабочая куртка, на ногах мокрые мужские ботинки поверх ватных стёганных чулок-бахил. По пятнам мыльной смазки на её одежде видно, что она работает у станка.
Женщина в молчаливом ожидании стоит у двери. Выражение её лица угрюмое и вместе с тем безразличное, апатия бесконечной усталости притупила все остальные чувства.
«Сердюкова, почему Вы вчера не вышли на работу? — спрашивает директор. — Это крупное преступление и карается по законам военного времени. Вы ведь знаете, что за это полагается».
«Больна я была, товарищ директор. Не могла из постели встать», — отвечает Сердюкова простуженным голосом. Она переминается с ноги на ногу и лужица воды растекается по паркету.
Прогул без уважительной причины карается принудительными работами. Это в лучшем случае, по законам мирного времени. Теперь же это может повести за собой тюремное заключение до десяти лет. Смотря по обстоятельствам «дела» это может быть сформулировано как саботаж в военной промышленности.
«Справка от врача есть?» — спрашивает директор.
«Нет… Какая там справка. Некого было за врачом послать. Я перележала, а как встала, так пришла на завод».
Сердюкова воплощает собой тот тип русских женщин, которые безропотно переносят любые трудности жизни, которые воспринимают всё как неизбежное, неотвратимое, посланное свыше. В этой молчаливой покорности судьбе кроется своеобразная религиозность. Это не слабость, это источник огромной душевной силы русского человека.
Глядя на Сердюкову, я вспоминаю пожилого солдата, вернувшегося после очередного ранения из госпиталя на фронт, это было, наверное, десятое ранение. Совершенно спокойно, таща на спине станок от пулемёта, он высказывал свое сокровенное желание:
«Эх, хоть бы руку или ногу оторвало. Тогда вернулся бы домой в деревню».
Меня ужаснули не его слова, а его спокойствие и его искреннее желание заплатить рукой или ногой за возможность снова вернуться к родному очагу. Несмотря на это он был образцовым солдатом.
«Вы должны знать советские законы, Сердюкова, — продолжает директор. — Прогул без уважительной причины. Я вынужден передать дело в суд».
Сердюкова начинает бормотать срывающимся голосом: «Но, товарищ директор… Изо дня в день по четырнадцати часов у станка… Сил нету… Больна…»
«Ничего не могу поделать. Закон. Так мы все больны».
Лицо Сердюковой искажается.
«Все Вы так больны?! — кричит она и делает несколько шагов к столу директора. — Все?! А это вы видели?!»
По лицу её текут слезы, но она сама не замечает этого. В порыве импульсивной ярости, стоя посреди кабинета, она задирает подол юбки. Это уже не человек, не женщина — это затравленное существо, охваченное храбростью отчаяния.
«Все? Все? Все вы так больны?!»
Я вижу ослепительно белое женское тело на холодном фоне серых стен кабинета. Это не стройные ноги женщины, это два бесформенных вздувшихся столба, где не видно грани между коленями, где не видно сгиба ноги.
Круглые подвязки из обрезков красной автомобильной шины глубоко врезались в распухшее мясо, выпирающее по краям тестообразной синеватой массой. Голодный отек ног.
«А это вы видели, господа директора?! У вас это тоже?! — кричит молодая женщина, не помня себя от стыда и обиды. — Уже пятый месяц менструаций нет… Уж сколько раз у станка без памяти падала…»
«Неужели тут ничего нельзя поделать?» — спрашиваю я у директора, когда мы снова остаемся вдвоем.
«А что тут поделаешь? — отвечает он и безнадежно смотрит в бумаги на столе. — У половины женщин та же самая история. Тут пилюлями не поможешь. Голод — не тётка».
«Я не о том. Насчёт суда. Неужели нельзя замять дело?»
«Укрывательство прогульщиков наказуется так же, как и сам прогул. Если я замну дело, то НКВД посадит нас обоих. Ведь от Лузгина ничего не скроешь», — отвечает директор.
Мне не приходилось встречаться с Лузгиным, но я часто слыхал о нём. Он начальник заводского спецотдела — глаза и уши Партии.
Однажды я проходил по площади Свердлова в городе Горьком. Был март и на улицах стояли лужи талого снега, смешанного с грязью. Впереди меня по воде шлёпали туфлями две девушки с портфелями в руках, по-видимому студентки. Внезапно одна из них уронила портфель на землю и тетради рассыпались по грязи.
Девушка шатаясь, как бы ища опоры, сделала несколько шагов в сторону стены ближайшего дома, ноги её подкосились и она медленно осела на землю. Голубой платочек сбился в сторону, пряди каштановых волос смешались с талым снегом и грязью на тротуаре. Смертельно бледное с синевой молодое лицо, беспомощно раскинутые в стороны руки. Обморок!
Подруга торопливо бросилась на помощь. Несколько проходивших мимо людей помогли поднять девушку и отнести её в подъезд ближайшего дома. Слышатся взволнованные вопросы: «Что такое? В чём дело?» Подруга девушки смущённо отвечает: «Это ничего. Просто слабость». Мужчина в солдатской шинели без погон предлагает вызвать карету скорой помощи. Пожилая женщина в огромных мужских сапогах на ногах деловито помогает девушке, склонившейся над своей бесчувственной подругой.
«Вы откуда? Со станции?» — спрашивает она. Не дожидаясь ответа, со свойственной простым женщинам участливостью она запричитала: «Бедные студенточки! Сами голодные, еле на ногах стоят, а последнюю кровь сдают. Разве можно так?! Так и до могилы недалеко».
Большая часть доноров Станции Переливания Крови состояла из студенток и матерей, имеющих маленьких детей. За 450 куб. см. сданной крови донору платили 125 рублей — на это можно было купить неполный килограмм чёрного хлеба.
После сдачи крови донор получал на месяц продуктовую карточку повышенной категории — ежедневно на 200 грамм хлеба больше. Кроме того, полагался единовременный доппаек: 250 грамм масла, 500 грамм сала, 500 грамм сахара. Такова была цена человеческой крови в тылу.
Эти матери и девушки прекрасно сознавали свой патриотический долг, ведь кровь шла для их мужей и братьев на фронте. Но гнал их на этот поступок главным образом голод, чувство патриотизма только скрашивало грязную причину этой торговли собственной кровью. Матери хотели ценою своей крови накормить голодных детей, студентки предпочитали лучше жертвовать своей кровью, чем своим телом.
На станции Переливания Крови имелись специальные бланки писем. Доноры-девушки часто посылали на фронт вместе со сданной кровью письма солдатам, которым предназначалась их кровь. Чистые человеческие чувства переплетались с унизительным чувством голода.
Часто эти письма служили поводом для дальнейшей переписки, теплой далекой дружбы. После окончания войны нередки были случаи встречи и подлинной любви, скреплённой кровью. При брачной церемонии голод стоял шафером за их спиной. Он был их верным спутником в прошлом, настоящем и будущем. Он будет стоять крестником у колыбели их будущего ребёнка.
В центре города Горького есть площадь имени жертв 1905 года. С одной стороны площадь замыкают стены старой тюрьмы, где когда-то томились герои горьковской «Матери». Посредине площади, похожий на кубическую скалу, возвышается монумент борцам на баррикадах 1905 года.
Хорошо, что могилу борцов за свободу России придавили таким тяжёлым камнем! Если бы они на минуту встали из могилы и оглянулись кругом, то они пожалели бы свою кровь, пролитую за идеалы русской революции. Подготовляют революцию идеалисты, выполняют её фанатики, а пользуются — подлецы!
Позади сквера, где находится этот памятник, возвышается здание Горьковского Театра Оперы и Балета. Однажды в антракте между действиями я стоял с группой товарищей в фойе. По залу под звуки оркестра танцевали многочисленные пары.
Моё внимание привлекла гибкая миловидная девушка, танцевавшая с каким-то офицером. Её стройную фигуру обтягивало серое платье матового шелка, волосы были подняты в простой, но оригинальной прическе. Её туалет и вся манера держать себя говорили о хорошем вкусе, о чувстве собственного достоинства.
«Что это за девушка?» — спросил я у моего товарища, который был хорошо знаком с местной обстановкой.
«Студентка. Медичка с последнего курса», — ответил он коротко.
«Интересная девушка…» — сказал я.
«Не советую связываться».
«А что такое?»
«Да просто так… Не советую», — большего он не захотел мне объяснять.
Эти странные слова меня заинтересовали. Я обратился с тем же вопросом к другому знакомому.
«Эта девушка в сером?! — сказал он, кося глазами на высокую фигуру. — Если тебя интересуют знакомства на одну ночь, то это очень просто — всего одна банка консервов… или буханка хлеба».
Я недоверчиво посмотрел на говорящего. Я особенно любил студенческую среду и считал её «своей» средой. Его слова показались мне личным оскорблением. Студенчество было самой морально чистой и духовно развитой средой в довоенное время. Неужели война за один год принесла такие изменения?
«Не может быть. Не болтай глупости», — сказал я.
«Не глупости, а печальный факт. Она живёт в общежитии, с пятью подругами в одной комнате. Каждую ночь у них двое-трое гостей. Все офицеры. У кого теперь найдется что лишнее — только у офицеров».
До войны проституция в СССР практически не существовала. Эта статья расходов не укладывалась в бюджет среднего советского человека. Существовала только политическая проституция под опёкой НКВД — около ресторанов «Интурист» и вообще там, где вращаются иностранцы. В значительной мере видоизмененная торговля телом процветала в Москве в высших сферах нового господствующего класса, у которого было чем возместить продажную любовь.
В Москве, в особенности в артистических кругах, муссировались амурные приключения престарелого «всесоюзного старосты» Мих. Ив. Калинина, которого прозвали «кремлёвским козлом».
Чудодейственные силы таинственного корня Жень-Шень, старого и испытанного средства тибетской медицины, возвращающего Мафусаилу силы первой юности, в сочетании с многочисленными именами московских балерин — это были обычные компоненты московских разговоров.
Перечислялись подарки Сталина прима-балерине Большого Театра Семёновой с интимным значением каждого из них. Кремль кормил людей будущим раем, а сам не забывал гурий в раю земном.
Теперь же, в военное время, голод погнал женщин на улицу. Не ради шёлковых чулок, парижских духов или предметов роскоши. Нет. Ради куска хлеба или банки консервов. И что самое ужасное — первой жертвой стало студенчество, подрастающие кадры советской интеллигенции. Дорогой ценой покупалось высшее образование.
На заводе № 645 в конструкторском бюро работали два старичка — Никанор Иванович и Петр Евстигнеевич. Оба они уже давно были пенсионерами, но голод опять погнал их на работу, на пенсию было абсолютно невозможно прожить.
Никанор Иванович был в своё время известным инженером-авиаконструктором. Ещё до первой Мировой войны он работал во Франции на заводах «Блерио», строил первые в мире самолеты.
Он знал лично всех отцов русской авиации — Жуковского, Сикорского, Пионтковского. В советское время он много потрудился в области авиации и с гордостью показывал многочисленные хвалебные аттестаты, награды и вырезки из газет с его именем. Теперь же это была только беспомощная развалина. Приняли его на завод больше из жалости, так как работать он уже был не способен от старости.
С раннего утра Никанор Иванович и Петр Евстигнеевич садились за стол в самом дальнем углу и, загородившись от окружающего мира чертёжной доской, начинали беседу о тех кушаньях, которые они испробовали за свою долгую жизнь. Каждый день, встречая друг друга они торопились рассказать о каком-нибудь новом блюде, которое всплывало в их памяти из тьмы годов.
Так сидели они час за часом, день за днём и всё рассказывали, брызгая слюнями, стараясь перещеголять друг друга. Иногда они даже ссорились из-за способа приготовления соуса а ля Жан или из-за рецепта маринованных грибов.
Но вскоре их сердца не выдерживали, они снова сходились и шептались, шептались, шептались. Другие конструктора считали, что они слегка помешались на почве голода.
Однажды я краем уха слышал, как Никанор Иванович жаловался Петру Евстигнеевичу: «Теперь уж третий день без каши сижу. Все калачики по нашей улице съел, а больше нигде не найду. Каша из калачиков, должен Вам признаться, Петр Евстигнеевич, замечательная вещь. Прямо как молочный поросенок с каштанами. Теперь надо будет по книгам порыться — говорят ещё корни какие-то съедобные есть».
Бедный Никанор Иванович! Поел всю траву на улице, теперь будет корни искать. Хорошая пища для желудка заслуженного инженера, пионера советской авиации.
За два часа до обеденного перерыва Никанор Иванович вынимал из жилетного кармана именные часы на толстой серебряной цепочке, тоже память о былых заслугах, и клал их перед собой на стол. Каждые пять минут он с тоской и ожиданием поглядывал на медленно плетущиеся стрелки.
За четверть часа до обеда он начинал громыхать своим ящиком, искал ложку и вилку, засовывал их в карман, затем проверял крепко ли сидят калоши на ногах. Это была изготовка к старту, в семьдесят лет нелегко бегать на перегонки. В конце концов он даже выпросил у начальства разрешение уходить на обед на пять минут раньше чем другие.
После всех этих ожиданий и приготовлений Никанор Иванович, придерживая рукой золотое пенсне на носу, семенил через двор в столовую. Не бегом, не шагом — впритрусочку. Там его ожидал обед: на первое — зелёные помидоры, вываренные в кипятке, на второе — овсяная каша на воде и без всякой приправы. Порция достаточная для кошки, но не для человека.
После обеда Никанор Иванович долго и старательно скреб алюминиевую тарелку, тщательно вылизывал ложку. Теперь опять работать, после работы можно будет отправиться на поиски съедобных корешков. Сталинская конституция гарантирует всем советским гражданам работу и обеспечение в старости!
Когда я вспоминаю Василия Васильевича, моего товарища по службе в Горьком, мне всегда приходят на память его рассказы о Волге.
«Эх, знаешь, как раньше нищие жили? — говорил Василий Васильевич. — Позавидовать можно! Раньше нищий три сумки имел: набедренник, махалку и лаковку. В набедренник муку сыплет, в махалку за спиной куски махает, а лаковка на рукаве — для яичек и прочих хороших вещей. Тогда нищий за один день больше собирал, чем я сейчас за месяц получаю. Да, жили нищие! Весело жили, деревни в карты проигрывали…»
«Как так?» — спрашивал я недоуменно.
«Очень просто, — пояснял Василий Васильевич с чувством превосходства перед моей неопытностью в вопросах прошлого. — Идут себе нищие по дороге, кругом солнышко светит, травка зеленеет. Увидят они вдалеке деревню, садятся на травку и давай эту деревню в карты разыгрывать. Кто выиграет — тому идти в этой деревне побираться. Одно слово — нищие, а подумать — так счастливые люди были».
Раньше Волга славилась своими рыбными промыслами. Сегодня волгарь забыл как рыба и пахнет. Даже неприхотливые раки повылезали на берег и подохли. По берегам Волги выросли оборонные химические заводы, спускающие свои отходы прямо в реку. Рыба в Волге пропала, а химпродуктов в стране не прибавилось.
Каждый из нас с готовностью простит этим заводам и стерляжью уху, и подохших раков и многое другое — ведь они помогли нам отбить немцев. Одно беспокоит нас — эти заводы и старые лозунги Кремля о «мировой революции». Мы с готовностью отдадим всё для нужд и защиты нашей родины, но не для шахматной игры людей в Кремле.
1944 год. Советская Армия, как стальной таран, атакует немцев на важнейших участках фронта. Территория Советского Союза почти очищена от немецких войск. Танковые клинья рвутся к границам Райха.
В тылу, в запасных полках, солдаты с нетерпением ожидают дня отправки на фронт. Не из патриотизма. Нет. Просто от голода. Нормы питания в регулярных частях на формировке таковы, что некоторые из солдат с голода роются в мусорных ямах в поисках капустных листьев или мороженой гнилой картошки.
«Путь к сердцу солдата ведёт через желудок!» — сказал генерал Бонапарт. Сталин модернизировал слова великого полководца на свой лад.
Достаточно оказать, что в Советской Армии существует двенадцать норм довольствия: 1-ая фронтовая, 2-ая фронтовая, 1-ая прифронтовая, 2-ая прифронтовая и т. д. до 12-ой нормы, так называемой санаторной. Только две из этих норм действительно нормальны, 1-ая фронтовая и санаторная, всё остальные — это только различные стадии голода.
Трудности военного времени! Много раз я насильно пытаюсь оправдать перед своим внутренним «я» всю дрянь, которая лезет в глаза на каждом шагу. Ведь я советский офицер, ведь я должен знать, ради чего я посылаю людей в бой. Часто я задаю себе вопрос — что будет после того, как мы изгоним последнего немца с нашей земли? Снова то же, что было раньше?! Не хочется вспоминать о «героических буднях социалистического строительства».
Если кто-либо из окружающего мира когда-либо спросит меня: «Скажите мне коротко, что такое советская жизнь глазами простого человека?» — то мне трудно будет ответить. Я расскажу обо всём том хорошем, что у нас действительно есть.
Чувство национальной гордости и стыда за поруганное понятие о человеке никогда не позволяет мне признаться: «Советская жизнь?! Это просто голый голодный человек. Его одевают красивой ложью и кормят ещё более красивыми надеждами. Если он не достаточно радуется своему счастью, то его перевоспитывают за колючей проволокой».
Голод в Советской России возведён в систему. Он стал средством воздействия на массы — Полномочным Членом Политбюро, верным и надёжным союзником Сталина.
Старик Руссо в своих педагогических изысканиях подразделил человеческие чувства потребности на шесть категорий. Каждое последующее возникает в сознании человека только тогда, когда удовлетворены все предыдущие.
После чувства потребности сохранения собственной жизни, на втором месте, стоит чувство потребности удовлетворения голода, и только на пятом месте приходит чувство потребности удовлетворения моральных, политических и общественных интересов.
Коротко — если ваша жизнь в опасности, то вы думаете, прежде всего, как бы сохранить жизнь, вы забываете о пище. В свою очередь, если вы голодны, то вы думаете только о пище, забывая всё остальное.
У советского человека, при заботливом руководстве Партии и правительства, все чувства заторможены на этом втором пункте — голоде. Таким образом, он освобождается от опасного труда ощущать общественно-политические потребности. Хронически голодный человек больше думает, где бы ему достать буханку хлеба, чем ломает себе голову над политическими доктринами. За него думают вожди. Старик Руссо был, право, не дурак!
Ленинград. Гордое слово. Я был там вскоре после освобождения города от блокады. Никто не знает точной цифры жертв голода за время осады. При наступлении немцев жители окрестностей сбились в город в количестве около восьми миллионов. Как минимальная цифра, около трёх миллионов умерло голодной смертью.
Однажды я проходил с одним офицером по берегу озера на окраине Ленинграда. Около самой воды раскинулось маленькое кладбище, молодая весенняя трава пробивалась между запущенных могил. Моё внимание привлёк красный гранитный камень неподалёку. Могила была совсем свежей.
«Летчик старший лейтенант… Пал смертью героя в битве за город Ленина», — прочел я высеченные по граниту слова.
«Счастливчик, — произнес мой спутник, проведший всю осаду в обороне города. — Тот, кто пережил блокаду — это не люди уже. Это только оболочки от людей».
«Я пассивный убийца, — рассказывает мне другой житель Ленинграда. — Человек лежит на улице в снегу, он упал и не может встать от слабости. Он просит меня подать ему руку, помочь встать — иначе он замёрзнет. Но я не могу дать ему руки, тогда я сам упаду и больше не поднимусь, замёрзну рядом с ним. Я плетусь дальше, оставляя его умирать на снегу».
С холодным ужасом я смотрю на людей, спокойно объясняющих мне, что на жаркое идут преимущественно задние части, а суп лучше всего получается из человеческих внутренностей — больше навар.
Дальше следуют подробности — оказывается наваристее всего пожилые женщины. Мои собеседники подозрительно хорошо знакомы с этой рецептурой.
Из всего Политбюро самой жирной фигурой обладал Андрей Жданов. Он же был генерал-губернатором Ленинграда во время осады. Говорят, что ему приходилось принимать дополнительные меры предосторожности, дабы не попасть на жаркое.
Я бы дал каждому живому ленинградцу золотой знак с лавровыми ветвями. Со времен Трои история не знает другого подобного случая массового гражданского мужества, подобного города-героя. Это геройство граждан Ленинграда. Было ли это стратегическое соображение или лишь вопрос голого престижа Сталина?
Когда умирает один человек — это драма, когда умирают миллионы — это только статистика! В особенности, когда наблюдаешь за этим из-за кремлевских стен.
Незадолго до окончания войны я еду поездом с фронта в Москву. На железнодорожных станциях и полустанках толпы оборванных, одетых в лохмотья женщин с детьми на руках. У детей сине-бледные прозрачные лица, воспалённые золотухой гноящиеся глаза, безразличное старческое выражение — без улыбки, без радости. Дети протягивают вперед тоненькие скелетообразные руки: «Хлеба! Хлеба!» Солдаты развязывают мешки, молча протягивают в окна вагона солдатские сухари и хлеб. У каждого назойливая угнетающая дума о своих детях и жёнах. Эта помощь будит в душе минутное чувство облегчения, надолго остается мучительное чувство стыда и горечи. Разве накормишь этим куском всю страну, молча страдающую в тисках голода?!
Многих из нас поражает один факт. В областях, освобождённых от немецкой оккупации, картины голода менее заметны и не так бросаются в глаза, как там, где хозяйничала рука Политбюро. Гитлер оставил нетронутой колхозную систему, систему, дающую возможность самой идеальной экономической эксплуатации, но он не имел такого опыта в этой области, как его кремлёвский партнер.
Когда немецкие военнопленные вернутся домой, то они без сомнения будут рассказывать об ужасных условиях питания в советских лагерях для военнопленных. Со своей точки зрения они правы. Эти условия по европейским понятиям убийственны, сырой чёрный хлеб был отравой для европейского желудка.
Я был в лагерях для немецких военнопленных, я видел своими глазами условия жизни там. Мне хотелось бы добавить только одно. Обращали ли внимание немецкие военнопленные на то, что русское население, по другую сторону колючей проволоки, питалось ещё хуже пленных?
Думали ли они, что эти так называемые «русские» условия обусловлены советской системой, и что эти «русские» условия будут позже успешно процветать в Восточной Германии?
Нормы питания советских рабочих были ниже, чем нормы питания военнопленных. Неработающие члены семьи рабочего вообще не получали карточек, работающим приходилось делить свой паек с остальными. В то же время военнопленных офицеров, а в некоторых лагерях и солдат, не заставляли работать, а работающие получали повышенную норму питания.
Конечно, в основе были отнюдь не гуманитарные соображения, а политические факторы. С одной стороны, ковались кадры новой армии фельдмаршала Паулюса во главе с комитетом «Свободная Германия», которой предназначалась роль очередной пешки в кремлёвской игре.
С другой стороны, часть пленных когда-либо могла вернуться домой и порассказать некоторые вещи, нежелательные Кремлю. Это были факторы, которые значительно облегчали положение пленных и которыми не пользовались сами русские. Спора нет — советский плен был тяжёл, но нормальная жизнь свободного советского человека ещё тяжелей.
Москва. Последние дни войны. На московских рынках оживлённая торговля. По углам жмутся бледные изможденные женщины — в вытянутых руках пара кусочков сахара, одна-две селёдки. Муж убит на фронте, дома кричит голодный ребёнок. Она продаёт свой и без того голодный паек, чтобы купить молока ребенку или хлеба. Хлеба, хлеба! Во всех глазах тот же молчаливый вопль, тот же голод.
Самый бойкий товар — это махорка. Махорка в мешках, махорка в противогазных подсумках. 15 рублей стакан.
«Эй, гражданин-товарищ! Закурим махорочки — жизнь слаще будет!» — кричит безногий инвалид на костылях, увешанный бряцающими медалями и орденами.
Рынок кишит инвалидами — безногими, безрукими, в фронтовых шинелях и гимнастёрках, с красными нашивками ранений на груди. Милиционеры делают вид, что не замечают нарушителей монополии совторговли.
Если кто-либо из блюстителей порядка пытается «забрать» инвалида, воздух наполняется истошными воплями: «За что боролись?! За что кровь проливали?!» Как взбудораженные осы слетаются инвалиды со всего рынка, в воздухе мелькают костыли, палки, разгораются страсти. В глазах ищущая выхода злость, в разинутых кричащих ртах — голод.
Капитулировал Берлин, через несколько дней безоговорочно капитулировала Германия. Люди думали, что буквально на другой день станет легче. Это были надежды человека, у которого ничего нет кроме надежд.
Отгремела война. Прошёл первый послевоенный год. Идёт к концу второй. И вот мы, люди советских оккупационных войск, читаем письма с родины. Читаем, и эти письма действуют на нас как яд. Этому горькому сознанию помогает ещё и то, что мы видим кругом.
Однажды я сидел вдвоём с Андреем Ковтун. Мы беседовали о том, что окружает нас здесь, в Германии. Постепенно разговор перешел к сравнению — там и здесь.
«Берлинский метро действительно дрянь, — сказал Андрей. — Когда сравниваешь с московским, то на душе приятно становится. Я теперь ловлю себя на том, что специально выискиваю в Германии вещи, которые говорят в нашу пользу. Трудно согласиться с мыслью, что всю жизнь мы гнались за тенью. Тогда ещё труднее увязать практическую работу с пустотой в душе».
«Да, — согласился я. — Здесь люди живут в настоящем, а мы всю жизнь прожили в будущем. Будем говорить ради будущего. Я вполне понимаю твои чувства. Нарушение внутренней гармонии — так сказал бы психиатр. Единственное лекарство от этой болезни — это снова постараться найти веру в будущее».
«Посмотри, Григорий, — продолжал Андрей. — У нас есть прекрасные самолеты и танки, мощная индустрия. Оставим в стороне цену всем этим вещам, забудем кровь, пот, голод. Это всё в прошлом, а результаты в настоящем. Теперь, казалось бы, пришел момент использовать все эти достижения на нашу собственную пользу. Ведь мы ничего не видели от жизни. Были только цели да идеи — социализм, коммунизм. Когда же мы будем собственно жить? Помнишь что говорил профессор Александров с кафедры Высшей Партшколы ЦК ВКП(б): „Если пролетарии других стран не смогут сами освободиться, то мы протянем им руку помощи“. Мы знаем, что это за „рука помощи“. Что если все обещания военного времени — только вексель без обеспечения?! Во время войны я не боялся, а теперь боюсь… Да, боюсь».
Андрей выражал те же мысли и опасения, которые волнуют большинство молодой советской интеллигенции. Мы гордимся достижениями нашей родины и нашей победой. Мы не сожалеем о перенесенных трудностях и лишениях, ценой которых куплена победа и слава нашей страны.
Но, попав на Запад, мы очень остро почувствовали, что всё то, что рекламируется советской пропагандой как исключительные достижения советской власти, всё это является колоссальной ложью. Если раньше у нас были сомнения, то теперь они перерастают в уверенность, против которой мы тщетно пытаемся бороться.
Мы поняли, что мы ещё не жили, что мы только приносили жертвы ради будущего. Теперь у нас поколеблена вера в это будущее. По мере того, как развиваются события послевоенных лет, в нас все больше и больше растёт тревога. К чему всё это идёт?
Берлин был эти годы политическим пупом земли. Мы сидели в первом ряду шахматного турнира международной политики. Мы сами были пешками в этой игре. Практика послевоенных лет показывала полную противоположность всем надеждам и ожиданиям, которыми русские солдаты и офицеры жили в годы войны. Что дальше?
«Политика — политикой, а жизнь — жизнью! — звучит в моих ушах голос Андрея. — А что мы имеем от жизни? Немцам сейчас туго приходится, но у них есть, что вспомнить в прошлом, они ещё имеют надежду на будущее. Побеждённые?! Ха! Они хоть могут надеяться, что мы уйдём и они снова заживут. А на что можем надеяться мы — победители?!»
Теперь прошло два года после окончания войны. Теперь мы находим самые худшие подтверждения нашим опасениям. Снова в стране царит голод, голод более жестокий, чем во время войны. Партия снова решила взять народ ещё крепче в свои руки, решила заставить народ забыть и отказаться от иллюзорных надежд, которые она сама искусственно будила и поддерживала в нём во время критического периода войны. Партия снова решила показать народу, кто действительный хозяин в стране и призвала на помощь своего первого слугу — Голод.
Если раньше голод был стихийным бедствием, то сегодня он обдуманное орудие политики в руках Кремля. Сегодня голод это полномочный член Политбюро.
За моей спиной размеренно бьют часы. Я встаю и оглядываюсь кругом в комнате, как будто я здесь чужой. Я смотрю на свои ноги, затянутые в сапоги и синие галифе с красными кантами.
Мой взгляд скользит по золотым пуговицам тёмнозелёного кителя. На плечах поблескивают твёрдые погоны. Всё такое близкое и знакомое — и одновременно бесконечно чужое.
Стены комнаты исчезают передо мной. За ними тёмная звездная ночь над Европой. Где-то дальше, далеко-далеко на Востоке, лежит граница родной земли. Там темно и тихо, тихо, как в свинцовом гробу.
Глава 18 Крылья холопа
1
В начале 1947 года член Политбюро и Чрезвычайный Уполномоченный Совета Министров СССР по экономическому освоению оккупированных территорий и стран-сателлитов Анастас Микоян произвёл детальную инспекционную поездку по советской зоне Германии.
После этого он имел в Карлсхорсте длительное совещание с маршалом Соколовским и его заместителем по экономическим вопросам тов. Коваль.
На конференции были подведены итоги экономической перестройки Германии. Земельная реформа, проведённая в первые месяцы после капитуляции, не принесла положительного экономического эффекта. Этот факт не удивил и не обеспокоил ни Анастаса Микояна, ни маршала Соколовского.
С помощью земельной реформы были достигнуты необходимые тактические результаты — созданы исходные позиции для последующего наступления на крестьян и предпосылки для конечной коллективизации сельского хозяйства.
В области промышленности, после массированного демонтажа и социализации мелких предприятий в форме «Landeseigener Betriebe»[27], самым крупным мероприятием СВА явилось объединение практически всей основной промышленности советской зоны Германии в один колоссальный промышленный концерн в форме комплекса Советских Акционерных Обществ САО.
Этому мероприятию, которое в своё время было продиктовано Москвой, на конференции у маршала Соколовского было уделено особое внимание.
История возникновения САО такова. Во второй половине лета 1946 года заместитель Главноначальствующего CВА по экономическим вопросам тов. Коваль был в Москве и вернулся оттуда с новыми секретными инструкциями. Вскоре между Управлением Промышленности, Управлением Репараций и канцелярией Коваля стали курсировать таинственные бумаги. Их называли шёпотом — «список 216» или «список 235».
Цифра в списке всё время менялась. Это были подготавливаемые для Москвы списки предприятий, предназначенных для передачи в Советские Акционерные Общества. Вскоре этот список пошёл на утверждение в Москву и вернулся оттуда в качестве приложения к официальному приказу об организации Управления Советских Акционерных Обществ в Германии.
Это Управление САО, которое раскинуло свою штаб-квартиру в здании бывшего общества «Аскания» в Берлин-Вайссензее, объединило тринадцать Советских Акционерных Обществ по важнейшим отраслям промышленности, куда входили в общей сложности около 250 крупнейших промышленных предприятий советской зоны.
Согласно статуту нового концерна 51 процент акций всех входящих в него предприятий являются советской собственностью. Таким образом, практически вся промышленность советской Зоны Германии оказалась в советских руках не только по праву победителя и на время оккупации, но и на будущее время.
На Потсдамской Конференции при деятельном участии Сталина очень большое внимание уделялось вопросу декартеллизации германской экономики и было решено ликвидировать немецкие промышленные концерны, которые рассматривались не только как важный экономический, но и роковой политический фактор часто агрессивного характера.
Соответственно этому, одним из первых вопросов на повестке дня Союзного Контрольного Совета в Германии был вопрос ликвидации германских концернов, где в своё время ломал копья генерал Шабалин. И вот теперь по приказу из Москвы в советской зоне создан крупнейший не только в Германии, но, пожалуй, и во всём мире, новый промышленный концерн.
Экономический и политический вес этого концерна превосходит всё, существовавшее до сего времени в Германии и Европе. Единственная разница заключается в том, что эти факторы находятся теперь не в немецких, а в советских руках. В разворачивающейся между Востоком и Западом борьбе за Германию и Европу САО будет играть роль увесистого козыря в руках Кремля.
Все последовательные экономические мероприятия СВА в Германии, как и вся экономическая политика Кремля, за треском демагогических фраз преследуют собой далеко идущие политические цели.
Цель сегодняшнего преобразования экономики советской зоны — надеть на Германию невидимые, но крепкие экономические цепи. Это необходимый экономический плацдарм для дальнейшего политического наступления. Понимать это будут немногие, чувствовать это будут все.
Почти одновременно с Микояном аналогичную инспекционную поездку по странам восточной Европы и по Германии предпринял второй член Политбюро и Министр Внутренних Дел СССР Лаврентий Берия.
После этого также состоялась длительная конференция с маршалом Соколовским и начальником Управления Внутренних Дел СВА генерал-полковником Серовым.
На конференции обсуждались мероприятия по укреплению внутреннего политического фронта в Германии. Это было закономерное развитие событий — за мастером экономической эксплуатации идёт заплечных дел мастер.
Одним из результатов визита Берия в Карлсхорст явилась новая волна чистки среди персонала СВА. Всё большее число офицеров, находившихся в Карлсхорсте с момента организации СВА, стало откомандировываться в Советский Союз.
На их место из Москвы прибывали новые люди, которых можно было безошибочно определить как партийцев чистой воды. Во время войны их не было видно, они сидели, забившись где-то по щелям. Теперь же эта надёжная опора Партии вылезала на поверхность и занимала командные посты.
Смена людей в Карлсхорсте вполне соответствовала послевоенной политике Кремля — снова взять все ключи в свои руки.
При этом ещё раз бросилась в глаза разница между «номинальными партийцами» и «партийцами чистой воды». Ведь почти каждый советский офицер является членом Партии. Вместе с тем сама Партия далека от того, чтобы считать их настоящими партийцами.
Немало воды утекло в Шпрее с того времени, как Карлсхорст из тихого пригорода германской столицы стал берлинским Кремлём и известным всему миру понятием. Многое изменилось за это время во внешнем мире и в Карлсхорсте.
Значительная часть этих изменений явилась следствием деятельности Карлсхорста как форпоста советской внешней политики. Одновременно с этим изменилась международная атмосфера, что в первую очередь ощутили люди Карлсхорста.
Теперь можно было только вспоминать те дни, когда русских везде встречали как освободителей и союзников. Послевоенная политика Кремля не оставила следа от тех симпатий всего мира, которые завоевали себе русские солдаты на полях сражений.
Героизм и самопожертвование русского народа в борьбе за родину вывели Советский Союз на первое место среди великих держав мира и привели к неожиданным результатам.
Кремль решил использовать создавшееся положение для своих внешнеполитических целей. Вместо ожидаемой послевоенной передышки народ должен нести теперь все тяжести, связанные с азартной внешнеполитической игрой Кремля.
На международном горизонте собираются новые грозовые тучи. Лучше всего их видят люди форпоста Карлсхорста. Они не любят говорить об опасности новой войны, но каждый думает об этом с тяжёлым сердцем.
Однажды я зашел к подполковнику Попову, чтобы договориться насчёт предполагаемой поездки в Дрезден. Подполковник был в гараже и возился со своей автомашиной. Когда я заговорил о поездке, он сказал что ехать придётся на казенной машине, так как у него нет бензина.
Увидев в углу кучу канистр, я машинально попробовал их концом сапога. Судя по звуку, канистры были полны.
«А это что такое?» — спросил я.
«А это — железный резерв, — ответил подполковник и многозначительно добавил. — Знаешь, на всякий случай… Ведь у меня жена, дети».
Я не стал расспрашивать его подробней. У каждого из нас ещё свежи в памяти первые роковые дни 1941 года и судьба советских военнослужащих в Прибалтике и Польше.
В момент начала войны многие из них оказались в ловушке и вынуждены были бежать под обстрелом спереди и сзади. Подполковник Попов держал железный резерв именно на этот случай.
Чем дальше развиваются события, тем больше приходится думать об опасности новой войны. Это кажется нелепым и противоестественным, но факт остается фактом.
Многие пытаются убедить себя, что послевоенные разногласия между союзниками являются просто спором из-за дележа добычи. Но это слабая отговорка. Нам, советским офицерам, лучше, чем кому-либо, известна теория марксизма-ленинизма о мировой революции.
Нам, советским людям на грани двух миров, кто с первого дня был в Берлине, кто пережил весь процесс развития отношений между союзниками после капитуляции Германии, кто своими глазами убедился, что Запад действительно стремился и стремится к миру, и кто видел, как все попытки мирного сотрудничества систематически саботировались советской стороной, нам известно многое, чего не знают люди в Советском Союзе.
Мы хорошо помним первые месяцы после капитуляции Германии. Западные союзники демобилизовали свои армии с такой поспешностью, какую только позволяли транспортные средства.
В это время советское командование с такой же поспешностью приводило свои потрёпанные дивизии в боевой порядок — пополнялся людской состав, прибывали новые танки и самолеты.
Тогда люди ломали себе голову — к чему всё это? Может быть, для переговоров за дипломатическим столом нужно иметь бронированный кулак? События последующего времени показали к чему. Волю к миру Кремль рассматривает как слабость, демобилизацию демократий — как возможность к дальнейшей агрессии.
Следовательно, для демократий не остается иного выхода как тоже вооружаться. Значит — снова гонка вооружений вместо мирного экономического восстановления России, снова всё то, что мы так хорошо знаем по довоенному времени. К чему всё это приведет?
Когда огонь политических страстей перекинется на национальные чувства, что особенно нужно для Кремля, когда гонка вооружений будет в разгаре, тогда трудно будет разобрать, кто всё это начал и кто в этом виноват. Тогда, вполне естественно, каждый будет обвинять другого.
На этот раз мы, люди советских оккупационных войск, хорошо знаем одно — что бы ни было дальше, а вся вина за последствия лежит только на Кремле. На этот раз нам ясно, кто затеял игру с пороховой бочкой. На этот раз у нас нет сомнений в первопричине новой военной опасности.
2
Чем больше сгущается окружающая атмосфера, тем однообразнее идёт жизнь в Карлсхорсте. Дни тянутся серо и монотонно, похожие один на другой. В один из таких дней я приступил к очередному круглосуточному дежурству по Штабу. Такие дежурства мне приходилось нести раз в месяц.
Обязанности ответственного дежурного по Главному Штабу СВА заключаются в следующем. В течение дня дежурный находится в приёмной Главноначальствующего СВА и является помощником адъютанта маршала. В течение ночи дежурный остаётся один в кабинете маршала на правах адъютанта.
В шесть часов вечера я, как обычно, занял свое место в приёмной. В этот вечер маршал Соколовский находился в Потсдаме и, поэтому в приёмной было пусто. Половина восьмого, адъютант ушёл и я остался один за его столом.
Чтобы быть в курсе текущих дел я просмотрел папки на столе и документы в работе. Так незаметно проходило время, нарушаемое лишь телефонными звонками.
После полуночи по принятому регламенту я занял место за столом в кабинете маршала. Это делалось для того, чтобы быть наготове у прямых телефонов на столе Главноначальствующего. Среди ночи нередки случаи телефонных звонков из Кремля. Тогда нужно принять телефонограмму и передать её по назначению.
Сидя в кресле маршала, я начал приводить в порядок разбросанные по столу бумаги. Среди них мне попал на глаза отпечатанный на гектографе «Информационный Бюллетень». Эти бюллетени предназначены только для высшего командного состава, являются секретными документами и каждый экземпляр несёт свой порядковый номер. Я начал просматривать листки с пометкой рукой маршала.
Содержание этих бюллетеней очень своеобразно. Это подробнейший сборник всего того, что тщательно умалчивается советской прессой или о чём советская пресса утверждаёт как раз обратное.
Если кто-либо из советских людей осмелится произнести вслух нечто подобное, то его обвинят в контрреволюции со всеми вытекающими последствиями. И вместе с тем, передо мной официальный информационный бюллетень для Главноначальствующего СВА.
Глубоко ошибается тот, кто пытается оправдать какие-либо поступки советских руководителей их незнанием данного вопроса или отсутствием информации. В своё время были случаи, что к кремлёвским воротам приходили из глухих деревень крестьянские ходоки.
Они наивно полагали, что из-за кремлёвских стен Сталин не видит того, что творится кругом, что Сталин добр, что нужно только рассказать ему правду и все будет изменено. Крестьянские ходоки жертвовали своей жизнью и всё продолжалось по-старому. Советские вожди знают всё и они полностью ответственны за всё.
Среди ночи я решил позвонить Жене. Подключившись к московскому коммутатору, я долго ожидал ответа. Наконец в трубке раздался сонный голос: «Да!?»
Женя думала, что звонит кто-нибудь из Москвы.
«Женя, говорит Берлин, — сказал я. — Что нового в Москве?»
«Ах, это ты… — раздался далёкий вздох. — Я думала, ты уже совсем пропал».
«Ничего. Скучно…»
«Да, нет… ещё не совсем. Что у тебя нового?»
«Как папа?»
«Опять уехал».
«Куда?»
«Недавно он прислал мне шёлковый халат. Наверное, где-то там…»
«А-а-а…»
«Ну, а у тебя как дела?» — спрашивает Женя.
«Да вот сижу в маршальском кресле».
«В Москву не собираешься?»
«Когда пошлют».
«Мне здесь так скучно одной, — звучит голос девушки в трубке. — Приезжай поскорей!»
Мы долго разговаривали, мечтая о будущей встрече, перебирая в уме, что мы будем делать, обсуждая планы на будущее. Это был сладкий сон, куда мы убегали, забывая об окружающем.
В этот момент я с сожалением думал о Москве и искренне желал вернуться туда. Не мог я предугадать, что днём позже моё желание исполнится. Прошла бессонная ночь. Наступил день, заполненный рабочей сутолокой в приёмной Главноначальствующего СВА. Кругом суетились генералы из провинций, по углам робко жались немецкие представители новой демократии. Кузня нового режима работала полным ходом.
К шести часам вечера, когда подошёл срок сдачи дежурства, в приёмную зашёл инженер Зыков, чтобы договориться со мной о предстоящей поездке на охоту. Звонок телефона прервал наш разговор.
Я снял трубку и ответил привычной формулой: «Дежурный по Штабу!» В трубке раздался голос заместителя Главноначальствующего по экономическим вопросам и моего непосредственного начальника Коваля:
«Товарищ Климов?»
«Так точно!»
«Зайдите, пожалуйста, ко мне на минутку».
«Коваль зовет не дежурного по Штабу, а меня лично, — думаю я, выходя из приемной и направляясь в кабинет Коваля. — Что там может быть такое экстренное?»
Коваль встречает меня вопросом: «Вы не знаете в чём здесь дело?»
Он протягивает мне бланк с приказом по Штабу СВА. Я беру белый листок и читаю:
«…Ведущего инженера Климова Г. П., как квалифицированного специалиста народного хозяйства СССР демобилизовать из рядов Советской Армии и освободить от работы в Советской Военной Администрации с направлением в Советский Союз для дальнейшего использования по специальности».
В первый момент я не моту понять, что это означает. Приказ действует на меня неприятно. Здесь что-то не ладно. По отношению к руководящему составу обычно соблюдается некоторая формальная вежливость. В таких случаях предварительно говорят лично, а не подсовывают готовый приказ.
«Вы сами не ходатайствовали о переводе в Москву?» — спрашивает Коваль.
«Нет…» — отвечаю я, ещё не придя в себя от неожиданности.
«Подписано Начальником Штаба и без согласования со мной», — разводит руками Коваль.
Пятью минутами позже я захожу в кабинет начальника Отдела Кадров СВА. Мне неоднократно приходилось встречаться с полковником Уткиным и он знает меня лично. Не ожидая моих вопросов, полковник говорит: «Ну, как — можно поздравить? Человек едет домой…»
«Товарищ полковник, в чём здесь дело?» — спрашиваю я.
Меня интересует причина неожиданного приказа. Без веских причин работников Карлсхорста в Советский Союз не откомандировывают. Ходатайства сотрудников СВА, по собственному желанию просящих о возвращении в СССР, как правило, отклоняются Штабом.
«Меня не столько трогает содержание приказа, как его форма, — говорю я. — В чём здесь дело?»
Уткин молчит некоторое время, затем с лёгким колебанием произносит: «Здесь замешано Политуправление. Между нами говоря, я удивляюсь, что Вы здесь так долго держались, будучи беспартийным…»
Я с благодарностью пожимаю руку полковника.
На прощанье он советует мне: «Имейте ввиду, что после того, как будет подписан пограничный пропуск, Вы должны выбыть отсюда в три дня. Если что-либо нужно, то растяните сдачу дел».
Я выхожу из кабинета полковника с чувством облегчения. Теперь для меня всё ясно. Я иду по полуосвещенному коридору и мною медленно овладевает странное ощущение. Я чувствую, как моё тело наливается силой, как далекий трепет пробегает по жилам, как душу охватывает неизъяснимый простор.
Такое же чувство владело мною, когда я впервые услыхал о грянувшей войне. Такое же чувство владело мною, когда в впервые одел солдатскую шинель. Это было предощущение больших перемен. Это был ветер в лицо.
И вот теперь я шагаю по коридорам Главного Штаба СВА и снова чувствую на моём лице дыхание этого ветра. Он пьянит меня, этот ветер в лицо.
Я иду домой по пустынным улицам Карлсхорста. За решётчатыми заборами качают голыми ветвями деревья. Кругом сырая немецкая зима. Темно и тихо. Кто-то встречный отдаёт мне честь, я машинально отвечаю. Я не тороплюсь. Мой шаг медленен и сосредоточен.
Словно я не иду знакомой дорогой домой, словно я только лишь начинаю свой путь. Я оглядываюсь кругом, глубже вдыхаю воздух, ощущаю землю под моими ногами так, как я её давно не ощущал. Странные необъяснимые чувства владеют мной. Навстречу мне дует свежий ветер.
Только лишь я закрыл дверь моей квартиры, как следом пришел Зыков. По моему лицу он сразу догадался, что что-то случилось.
«Куда посылают?» — спрашивает он.
«В Москву», — отвечаю я коротко.
«Зачем?»
Я, не снимая шинели, стою у письменного стола и молча барабаню пальцами по полированной поверхности.
«А почему?» — снова спрашивает Зыков.
«Не обзавелся вовремя красной книжицей…» — отвечаю я неохотно.
Зыков сочувственно смотрит на меня. Затем он лезет в грудной карман, достает продолговатый кусок красного картона и вертит его между пальцами.
«А что тебе стоило?! — говорит он, глядя на партбилет. — Крикнешь раз в неделю на партсобрании „Хайль!“ — потом можешь пойти в уборную и сплюнуть».
Слова Зыкова действуют на меня неприятно. У меня инстинктивно мелькает в голове мысль, что этот кусок картона должен быть тепел теплотой его тела, там где бьётся сердце.
Как будто угадывая мои мысли, Зыков добавляет: «Я сам шесть лет в кандидатах ходил… Дальше нельзя было».
Присутствие этого человека и его слова раздражают меня. Мне хочется остаться одному. Он приглашает меня в клуб. Я отказываюсь.
«Пойду в бильярд играть, — говорит Зыков, направляясь к двери. — От двух бортов в угол — и никакой идеологии».
Оставшись один, я продолжаю стоять у письменного стола. Я не снимаю шинель. Ощущение шинели на плечах отвечает тому внутреннему чувству, которое надвинулось на меня — чувству дороги. Я пробую сесть на стул и сейчас же снова вскакиваю на ноги. Я не могу сидеть спокойно. Что-то жжёт меня изнутри. Засунув руки в карманы, я хожу по комнатам.
Я пробую включить радио. Беззаботная музыка режет мне по нервам и я выключаю приемник. Надрываясь звонит телефон, я не обращаю на него внимания и не снимаю трубку. На обеденном столе стоит накрытый ужин, который приготовила немецкая прислуга. Я даже не смотрю на еду и, опустив голову в пол, хожу из угла в угол.
Белая бумажка приказа прорвала внутри меня плотину, которая уже давно давила мою грудь. Я чувствую, что внутри меня всё взорвано, всё перемешано. Я чувствую болезненную пустоту в душе. И вместе с тем, откуда-то издалека медленно наползает нечто другое. Нечто безрадостное и неумолимое, от чего нельзя уклониться.
Сегодня я должен подвести черту.
Сегодня мне ясно только одно — я не верю в то, что за моей спиной. Вместе с тем, если я вернусь в Москву, я должен немедленно поступить в Партию, которой я не верю. Другого выхода у меня нет. Я должен буду сделать это просто для того, чтобы спасти свою жизнь, чтобы иметь право на существование.
Всю жизнь я должен буду лгать и лицемерить ради голой возможности жить. В этом у меня нет сомнений. Передо мной наглядные примеры. Андрей Ковтун — человек в тупике. Михаил Белявский — человек за бортом. Майор Дубов — человек на холостом ходу. А разве я сам не на холостом ходу? Как долго это сможет продолжаться?
Я обзаведусь домом — и буду ждать ночного стука в дверь. Я женюсь — для того, чтобы бояться собственной жены. У меня будут дети, которые в любую минуту могут предать меня или которые будут сиротами, стыдящимися своего отца.
При этой мысли кровь начинает приливать к моей голове. Воротник кителя душит горло. В груди поднимается горячая волна бешенства. Мне становится жарко и я чувствую тяжесть шинели. Пока ещё эта шинель на моих плечах и оружие пока ещё в моих руках. Мне не хочется расставаться с этой шинелью, с оружием. Почему?
Я как маятник хожу по комнате и не нахожу себе места. Мой мозг работает лихорадочно, мои мысли спутаны и несвязны.
Если я вернусь, рано или поздно, так или иначе — я погибну. Ради чего? Я не верю в будущее. А что я имею в прошлом? Я пытаюсь вспомнить это прошлое.
Когда я впервые увидел свет, в моих глазах отразились пожарища революции. Я подрастал беспокойным волчонком и в моих глазах всё время полыхали эти огни. Я был волчонком сталинского племени, я зубами и когтями боролся за жизнь и рвался вперед. Сегодня сталинский волчонок стоит в расцвете жизненных сил и смотрит, куда он пришел.
Сегодня я должен признаться перед самим собой — всю жизнь я заставлял себя верить тому, чему я не верил с первого дня рождения. Всю свою жизнь я только искал компромисса с жизнью. Я не верю! И если кто из моих ровесников скажет, что он верит — я скажу ему, что он лжёт, что он трус. Разве верят такие, как Зыков?
Я шагаю по комнате и смотрю на мои сапоги. Они топтали землю от Москвы до Берлина. Я вспоминаю окутанные дымом и пламенем годы войны — огненную купель, где рождаются чувства ответственности перед Родиной. Перед моими глазами ещё раз проходит озарённая победными салютами Красная Площадь и стены Кремля — дни гордости и славы, когда из горла рвался волчий вой переполненных чувств.
В моих ушах ещё раз звучат слова, которые когда-то бились в моей груди — «Первый из первых, среди лучших из лучших, ты шагаешь сегодня по Красной Площади!» Теперь же я шагаю из угла в угол, как волк по клетке. Да, война сбила нас с толка! В ослеплении борьбы за родину, мы забыли о многом. В то время нельзя было иначе, у нас не было иного выхода.
Те, кто пошёл по другому пути… С болезненной остротой я вспоминаю первые дни войны. Я глубоко благодарен судьбе, что я не попал на фронт в эти первые дни. Это избавило меня от необходимости трудного выбора.
Когда пришла моя очередь надеть солдатскую шинель, я уже твёрдо знал, что русскому не по пути с немцем. И я бился до конца. Бился за то, чему я не верил. Бился и утешал себя надеждами.
Сегодня у меня нет и этих надежд. Сегодня я чувствую, что мы сделали ошибку — мы не доделали дело, а поверили обещаниям. Потому я не хочу снимать сегодня шинель. Пока ещё не поздно!
Сегодня на горизонте снова стягиваются грозовые тучи. Эти тучи играют для меня большую роль. Если я вернусь в Москву, я снова буду поставлен перед тем же мучительным выбором что и в июне 1941 года. Опять я буду вынужден идти защищать то, чему я не верю.
Больше того, я уверен, что люди в Кремле ведут страну по гибельному пути. Сегодня нам никто не угрожает. Зато мы угрожаем миру. Это ненужная и опасная игра. Если мы победим — к чему нам это? Если нас победят, кто будет виноват и кто будет платить по кремлёвскому счёту? Каждый из нас!
Я пережил страх за родину, борьбу и победу. Кроме того, я своими глазами видел всю горечь поражения. Поверженная в прах Германия этому хороший пример. Их вожди тоже любили азартную игру. Германия корчится в судорогах голода и позора — а где виноватые? Виноваты лишь вожди или сама нация, не повесившая этих вождей своими руками?
Если война начнётся, тогда будет уже поздно. Война имеет свои законы. Те, кого Кремль сделал своим врагом, будут считать врагом нас. Они не хотят войны, но если война неизбежна, то они будут вести её за свои интересы.
Это означает, что в случае поражения нас не ожидает ничего хорошего, тогда мы не будем иметь права голоса. Кремлёвские банкроты исчезнут, а платить придётся нам. Так что же остается делать — снова быть игрушкой в руках преступных игроков?
Час за часом хожу я по комнате в шинели на плечах. Уже далеко за полночь, но я не думаю о сне. Пусто позади — и пусто впереди. Я чувствую только одно категорическое сознание — я не могу идти назад. В моей голове неотвязно бьется одна и та же мысль: «Что делать?» Уже под утро я почувствовал усталость и лег, не раздеваясь, на кушетку. Так я и заснул, укрывшись с головой шинелью.
3
Последующие дни я медленно сдавал свои служебные дела. Следуя совету полковника Уткина, я умышленно затягивал эту процедуру. Не зная ещё к чему, я старался выиграть время. И всё это время меня угнетали те же мучительные мысли и неотступно преследовал вопрос: «Что делать?» В один из таких дней, одетый в гражданское платье, я вышел из метро на Курфюрстендамме в английском секторе Берлина. Под ногами хлюпала мокрая жижа талого снега. В воздухе стояла пронизывающая сырость. На этот раз хорошо знакомая улица показалась мне чужой и неприветливой. Я бесцельно шел вперед, скользя глазами по вывескам у входов домов. В кармане пальто мои пальцы играли ручкой пистолета.
Наконец, я остановил свой выбор на одной из вывесок и вошел в подъезд. Широкая мраморная лестница когда-то роскошного дома. Теперь здесь полутьма. В разрушенные воздушными бомбардировками окна свищет холодный ветер. С трудом я нахожу нужную мне дверь и звоню. Мне открывает миловидная девушка в накинутом на плечи пальто.
«Могу я видеть герра Дильс?» — говорю я.
«Вам по какому делу?» — вежливо спрашивает девушка.
«У меня с ним частный разговор», — отвечаю я сухо.
Девушка проводит меня внутрь и просит подождать. Я сижу в холодной и тёмной приёмной адвоката. Девушка исчезает в боковой двери. Через несколько мгновений она снова появляется на пороге со словами: «Битте! Герр доктор просит Вас…»
Я вхожу в огромный нетопленый кабинет. Пожилой немец с золотыми очками на породистом носу поднимается мне навстречу из-за письменного стола.
«Чем я могу служить Вам?» — спрашивает адвокат, предлагая мне кресло. Он потирает от холода руки в ожидании очередного бракоразводного дела.
«Моя просьба несколько необычна, герр доктор», — говорю я и в первый раз в разговоре с немцами ощущаю некоторую неловкость.
«О, здесь стесняться не приходится», — с профессиональной улыбкой помогает мне адвокат.
«Я — русский офицер», — медленно говорю я, машинально понизив голос.
Расплываясь в улыбке, адвокат старается показать, что он очень польщен моим визитом.
«Как раз на днях у меня был один советский офицер с немецкой девушкой», — говорит он, видимо желая ободрить меня.
Я плохо слышу его дальнейшие слова — зачем, собственно, был у него этот офицер. У меня в голове мелькает досадливая мысль: «Неудачное начало…»
Но отступать уже поздно и я решаюсь перейти к делу.
«Видите ли, я демобилизован и должен возвращаться в Россию, — говорю я. — Я не буду отнимать у Вас время объяснениями — зачем и почему. Коротко — я хочу попасть в Западную Германию».
Улыбка замерзает на лице адвоката. Несколько мгновений он не знает что сказать, затем осторожно спрашивает: «А-а… А что я могу здесь помочь?»
«Мне нужно войти в контакт с союзниками, — говорю я. — Я хотел бы просить права политического убежища. Сам лично я этого сделать не могу. Если меня сейчас увидят с кем-нибудь из союзников или заметят, что я выхожу из союзного учреждения, это для меня слишком большой риск. Поэтому я хотел бы просить Вас помочь мне».
Некоторое время в комнате царит тишина. Затем я замечаю, что герр Дильс начинает делать бессмысленные вещи. Он беспокойно ёрзает в кресле, растерянно ищет что-то по карманам, роется среди бумаг на столе.
«Да… Да… Я понимаю Вас, — бормочет он в полголоса. — Я тоже пострадал от нацистского режима».
Затем герр Дильс вытаскивает из кармана толстый бумажник, торопливо перебирает многочисленные документы. Наконец он находит, что ему нужно, и слегка дрожащей рукой протягивает мне через стол бумагу старательно подклеенную на сгибах и, видно, часто бывающую в употреблении.
«Вот видите… У меня даже удостоверение есть», — говорит он мне, словно оправдываясь в чем-то.
Я мельком пробегаю бумагу глазами. В ней подтверждается, что предъявитель сего является жертвой нацизма и чуть ли не коммунистом. У меня снова мелькает неприятная мысль, что я попал по фальшивому адресу. Одновременно я чувствую, что адвокат чего-то боится и старается перед чем-то застраховаться.
«Герр доктор, откровенно говоря, в данный момент мне было бы приятнее иметь дело с самым отъявленным нацистом», — говорю я, протягивая бумагу назад.
«А кто порекомендовал меня Вам?» — спрашивает нерешительно адвокат.
«Никто, — отвечаю я. — Я зашёл к Вам наугад. Я руководствуюсь только одним соображением — я не могу доверять никому из моего окружения».
«Я полагал, что в Вашем лице я встречу человека, который в состоянии помочь мне, — продолжаю я. — С другой стороны, если по каким-либо причинам Вы не можете помочь мне, у Вас нет оснований вредить мне».
Адвокат сидит погружённый в раздумье. Наконец он приходит к какому-то заключению и обращается ко мне со следующими словами: «А скажите, чем я могу быть гарантирован, что Вы…»
Он сосредоточенно вертит в руках карандаш и избегает смотреть мне в лицо. Затем, словно решившись, он поднимает глаза и с запинкой произносит: «…Что Вы не агент этого… этого Ге-Пе-У?»
Мне режет ухо старое наименование знакомого учреждения. Видимо немцы ещё не знают нового имени. Несмотря на серьёзность положения, вопрос адвоката заставляет меня невольно улыбнуться. То, чего я опасаюсь в других, — подозревают во мне самом.
Я только пожимаю плечами и говорю: «Мне ещё не приходилось думать об этом, герр доктор. Пока я думаю только о том, чтобы сохранить свою собственную голову от этого… Ге-Пе-У».
Адвокат сидит неподвижно и высказывает свои мысли вслух: «Вы хорошо говорите по-немецки… Слишком хорошо… Потом все это так необычно…»
Он внимательно, как будто стараясь прочесть мои мысли, смотрит на меня, затем говорит: «Ну хорошо. Я старый человек и знаю людей. Мне кажется, что Вы говорите правду. Скажите, куда бы Вы хотели попасть?»
«В американскую зону», — отвечаю я.
«Почему именно в американскую?» — удивлённо поднимает брови адвокат.
«Герр доктор, если человек уходит по политическим соображениям, то вполне естественно он ищет убежище у наиболее сильных врагов того режима, от которого он уходит».
«Да, но здесь английский сектор. У меня нет связей с американцами!»
Я понимаю, что это означает отказ и делаю последнюю попытку: «Может быть, Вы могли бы порекомендовать мне кого-либо из Ваших коллег, кто имеет связи с американцами?»
«О, да! Это можно сделать», — отвечает адвокат и берется за телефонный справочник. Он роется в поисках нужного ему адреса, затем тяжело поднимается из-за стола и направляется к двери со словами: «Извините на минутку! Я напишу Вам адрес».
Адвокат выходит в переднюю. Я слышу, как он разговаривает с секретаршей, как он обменивается фразами с другими ожидающими клиентами. Раздаются телефонные звонки. Кто-то приходит и уходит.
Медленно текут минуты. В нетопленой комнате холодно и я чувствую озноб. Глупое ощущение полной зависимости от порядочности или подлости абсолютно незнакомого человека.
Я усаживаюсь поглубже в кресле, запахиваю плотнее пальто, опускаю правую руку в карман. Я спускаю предохранитель пистолета и направляю его дулом на дверь. Если на пороге появится советский комендантский патруль, я открою огонь, не вынимая руку из кармана.
Наконец, зябко подергивая плечами, адвокат снова входит в кабинет и протягивает мне узкую полоску бумаги с напечатанным на машинке адресом. Снова у меня мелькает мысль: «Что это — предосторожность или просто привычка немцев всегда пользоваться пишущей машинкой?!» Со сдержанным вздохом облегчения я покидаю кабинет адвоката и выхожу на улицу. В серых сумерках зимнего вечера шумят трамваи и автомобили, торопливо бегут люди. Каждый спешит домой, каждый имеет что-то, куда он идёт. А я? Меня охватывает острое чувство одиночества. Я надвигаю шляпу на глаза и ныряю в тёмную дыру метро.
После долгой езды и блужданий по ночным улицам Берлина я с трудом нахожу указанный мне адрес виллы на окраине города. Доктор фон Шеер занимает довольно высокий пост и мне нелегко добиться личной аудиенции.
Когда, наконец, мы оказываемся наедине в кабинете и я объясняю причину моего визита, доктор сразу же переходит к делу. Он вытаскивает из ящика стола и передаёт мне фотокопию документа, удостоверяющего, что он связан по служебным делам с Советской Центральной Комендатурой. Передо мной знакомые печати и подписи.
Я невольно делаю такую кислую гримасу, что доктор фон Шеер не может удержаться от улыбки.
«А чем я могу быть гарантирован, что Вы не агент этого… э-э-э?» — спрашивает доктор. Он подмигивает мне и дружески хлопает по колену.
Мне не остается ничего другого как опять пожать плечами. Уже во второй раз я натыкаюсь на тот же вопрос.
Доктор фон Шеер оказался деловым человеком. После короткой беседы, он согласился переговорить со знакомыми ему американцами и попросил зайти к нему за результатами через два дня.
Попрощавшись с доктором, я направился домой. По пути в Карлсхорст я был не совсем уверен, что в этот момент доктор фон Шеер не звонит по телефону в Советскую Комендатуру, сообщая о моём визите.
Прошло два дня. В назначенный срок, со смешанным чувством надежды на успех и одновременно в ожидании возможной засады, я снова вошел в кабинет доктора. Он коротко сообщил мне, что переговоры окончились безрезультатно. Американцы не хотят вмешиваться в это дело. По-видимому, по той же причине: «А чем мы можем быть гарантированы?» Поблагодарив доктора за его любезность, я ощупью спустился по ступенькам виллы и шагнул в темноту ночного Берлина. Снова я возвращаюсь в Карлсхорст. Я не могу пользоваться своей автомашиной с советскими номерами и мне приходится ездить на трамваях. Так и на этот раз я стою на площадке трамвая, среди суеты и давки возвращающихся с работы людей.
На одной из остановок вблизи Контрольного Совета на площадку поднимается советский офицер и становится рядом со мной. Это пожилой человек добродушного вида с портфелем в руке. По-видимому, он задержался на работе в Контрольном Совете и пропустил служебные автобусы. Глядя на знакомую форму, я ощущаю некоторое беспокойство.
Вдруг офицер обращается ко мне по-немецки и спрашивает что-то. Я отвечаю ему так же по-немецки. Одновременно у меня больно сжимается сердце. Вот оно — начинается! Я уже не доверяю никому, я уже не решаюсь признаться, что я русский.
При пересадке из одной линии трамвая в другую, я брожу в темноте по мокрому грязному снегу. Неподалеку я различаю фигуру немецкого полицейского. Безо всякой определённой мысли я подхожу к полицейскому и спрашиваю у него где находится американский консулат. Полицейский видимо догадывается, что я не немец, и освещает меня с ног до головы фонариком.
В послевоенной Германии иностранцы, не носящие военной формы или не имеющие союзного паспорта, являются самыми презренными и бесправными существами. Часто я видел на улицах Берлина эти бесцельно слоняющиеся фигуры — выброшенные на чужой берег остатки кораблекрушения.
Полицейский принимает меня за одного из таких иностранцев и смотрит на меня с подозрением. Он привык, что эти люди обычно держатся подальше от полиции.
«Мы не даём подобных справок», — отвечает он, наконец, и ещё раз освещает меня фонариком, колеблясь не спросить ли мои документы.
Хорошо, что он не спросил мои документы. Это избавило его от неприятной неожиданности. Пока что в моём кармане документы советского офицера, а немецкие полицейские обязаны отдавать честь советским офицерам.
Полицейский уходит, а в моей груди ещё раз поднимается сосущее чувство. Вот начало того пути, по которому я хочу идти.
Мои мысли переносятся назад. В первые дни после капитуляции, гуляя по Берлину, я часто надевал гражданское платье. Это давало своеобразное ощущение европейца среди европейцев. Иногда это приводило к неожиданным результатам.
В то время в немецкой душе тесно переплетались прежнее высокомерие по отношению к другим нациям с паническим страхом перед русскими. Иногда меня принимали за «остарбейтера».
Взбешённый оскорбительной наглостью забывшегося «юберменша», я предъявлял ему моё красное удостоверение личности с серпом и молотом, где я был изображен в военной форме. Затем я совал ему в ноздри дуло пистолета и спрашивал, чем это пахнет.
Немец явно ощущал запах далекой Сибири. По немецким понятиям, где солдатский мундир считается почётней бобровой шубы, советский офицер в гражданском платье мог быть только одним — ужасным агентом ужасного Ге-Пе-У. Немец уже видел себя в компании сибирских медведей тоже с серпом и молотом на лбу.
Побелев от страха, он слёзно умолял меня пожалеть его фрау и маленьких киндер. Я пугался, что с человеком сделается разрыв сердца, совал ему в рот сигарету и поспешно уходил. Мне было неприятно это сочетание безграничной наглости и раболепия.
Теперь мне приходится вспоминать об этом. Там, куда я иду, у меня не будет ни пистолета, ни могущественного документа, определяющего сегодня моё место в жизни.
Приехав в Карлсхорст и открывая ключом дверь моей квартиры, я слышу надрывающийся звон телефона. Это звонит кто-то из моих товарищей. Я не снимаю трубки. Я не хочу видеть никого. Я должен остаться один, чтобы подвести результаты и обдумать дальнейшее.
Снова я хожу из угла в угол и не могу найти себе место. Итак, попытка войти в контакт с союзниками окончилась неудачей. В действительности всё выглядит не так просто, как это кажется на первый взгляд. Единственный результат — теперь мне ясно, что я должен идти на свой собственный страх и риск.
Пытаясь войти в контакт с союзниками, я интересовался не столько формальным выполнением поставленной задачи, как принципиальной стороной дела. Мне известно, что между американским военным губернатором Мак-Нарней и советским командованием существует секретное соглашение, по которому обе стороны взаимно обязуются выдавать дезертиров.
Англичане более предусмотрительны и они не заключали подобного договора. Но эта предусмотрительность служит малой гарантией для человека, посвящённого в обычаи военной разведки. Хотя я демобилизован и, таким образом, не являюсь дезертиром, одновременно с этим, у меня не написано на лбу, что я политический эмигрант.
Советские военные власти со своей стороны принимают соответствующие меры. Во всех случаях бегства советское командование обвиняет беглеца в тяжёлых криминальных преступлениях и затем требует его выдачи на основании международной практики выдачи уголовных преступников.
Близкое знакомство с подполковником Орловым[28], главным военным Прокурором СВА, позволяет мне хорошо разбираться в этих вопросах.
В таких условиях понятно, почему я пытался предварительно восстановить связь на Запад. Это естественно придёт в голову каждому человеку. Но это внешняя сторона проблемы. Есть ещё и другая сторона, о которой я не подумал.
Я хожу из угла в угол и мои собственные поступки последних дней начинают казаться мне непростительной глупостью. Я не должен терять чувства действительности.
Категорическое сознание разрыва с прошлым слишком повлияло на меня. Я отрекся от своей жизни и как слепой котёнок сунулся в новый мир. Болезненное отрицание одной половины мира породило во мне ошибочное представление, что вторая половина мира безупречна. Я должен трезво смотреть фактам в лицо.
Я считаю себя инженером и забыл о том, что я офицер советского генштаба, прошедший высший шлиф кремлёвской школы. Ведь с таким же успехом я могу сейчас вернуться в Москву и месяцем позже поехать заграницу в аппарат военного атташе — командовать целым штабом тайных агентов, покупать и продавать тех, у кого я сегодня ищу убежища.
Я, не доверяющий всем и каждому, хочу доверия к себе! Кто поверит мне, когда я сам не знаю, что со мной происходит. Я чувствую только одно — во мне лопнула пружина и механизм негоден. Разве я имею право на доверие? Я — заблудившийся сталинский волчонок?!
Шагая по комнате, я слышу слова: «Непростительная глупость, товарищ Климов!» Я вздрагиваю и замечаю что эти слова я сказал вслух.
Я хотел восстановить контакт с союзниками. Хорошо, что из этого ничего не получилось! Мне, больше чем кому-либо, должны быть известны общепринятые правила войны в темноте. Хорошо встречают лишь того, кто заслужил доверие. Как это доверие заслуживается, мне тоже хорошо известно.
Человеком интересуются до тех пор, пока он может принести пользу. Если его считают достаточно глупым, то используют в пропагандных целях. После этого его выбрасывают на помойную яму. При случае беглецов обменивают на своих засыпавшихся агентов. Всё это делается тихо и без шума. И я хотел идти по этому пути?
«Плохо Вы усвоили мои уроки, товарищ Климов!» — звучит в моих ушах голос генерала Биязи.
Я знаю, что советская разведка под видом беглецов часто засылает на Запад своих агентов. Их маскируют так, что в течение долгих лет они не проявляют себя. Запад знает об этом. Правда, мне известна также инструкция, где в этих случаях, как правило, рекомендуется не пользоваться людьми русской национальности.
С одной стороны, русские возбуждают открытое подозрение, с другой стороны советская власть меньше всего полагается на советских людей. Но эта деталь неизвестна на Западе. И в таких условиях я, офицер советского генштаба, хотел сказать, что я есть я?
Внутренний разрыв с миром лжи пробудил во мне болезненную тягу к правде. Я искал доверия. К чему мне их доверие? Мне нужно только одно — чтобы меня оставили в покое. Я не знаю, что я буду делать дальше. Я только отрекся от всего. У меня в душе пусто. Я должен иметь передышку, чтобы найти новое содержание жизни.
Во мне всё больше и больше зреет решение — я должен исчезнуть, потерять лицо. До тех пор, пока я не найду нового лица.
Я подвёл черту под моим прошлым. Я не думал о будущем. Первая попытка войти в контакт с другим миром заставляет меня задуматься о будущем. Я стараюсь привести в систему все стоящие передо мной возможности.
Теперь я свободен от присяги и по правилам международной этики я свободен идти куда хочу. Я хочу отказаться от советского паспорта и стать бесподданным политическим эмигрантом.
Если ты хочешь быть политическим эмигрантом, ты должен отказаться от советского паспорта и не отказываться от твоей страны. Это означает, что ты отказываешься от всякой правовой защиты могущественного государства.
Ты стоишь голый и безоружный в том несовершенном мире, где считаются лишь с тем, кто силён — пусть это будет оружие в твоих руках, деньги в твоем кармане или танковые дивизии за твоей спиной.
Сегодня Кремль восстановил против себя весь мир. Люди окружающего мира, затаив страх и недоверие, с лицемерной улыбкой будут пожимать руку тех, кто имеет советский паспорт, а свои бессильные чувства будут изливать на тебя, потому что у тебя этого паспорта нет. Это одно лицо эмиграции.
Жизнь на чужбине нелегка. Я видел примеры. Я часто встречал в Берлине заслуживающих сожаления людей. Они говорили по-русски, но боялись разговаривать со мной. Иногда они охраняли мою автомашину около театра и были благодарны, когда я им давал пачку сигарет. Это второе лицо эмиграции.
Конечно, есть другой выход — простой и лёгкий. Для этого нужно отказаться от своей страны, от своего народа, от самого себя — нужно врасти в новую среду, жить её содержанием и её интересами, я не обвиняю таких людей, но они не возбуждают во мне симпатии.
Таковы для меня аспекты и возможности нового мира. Такова цена свободы!
Глубоко за полночь хожу я по комнате. Мертвая тишина царит в доме. Спит Карлсхорст. Кругом необъятное море чужого мира. Я чувствую его холодное безразличное дыхание.
Наконец, не раздеваясь, я ложусь на кушетку, засовываю пистолет под голову и засыпаю.
4
Проходит ещё несколько дней. Все это время я живу двойной жизнью. Первую половину дня я провожу в Карлсхорсте — сдаю служебные дела, оформляю бумаги для отъезда в СССР, выслушиваю поздравления и пожелания знакомых.
Я вынужден делать вид человека, радующегося предстоящему возвращению домой, должен меняться адресами с обещанием писать из Москвы. Вторую половину дня я рыскаю по зимнему Берлину — навещаю моих немецких знакомых, незаметно зондирую почву. Мне нужно знать пути, которыми идут люди на Запад.
День за днём проходит безрезультатно. Обычный срок оформления к отъезду — три дня. Я провёл уже две недели.
Чем больше уходит время, тем тяжелее становится мне вести двойную игру. Я начинаю замечать, что мои нервы не выдерживают напряжения. Все чувства ненормально обострены. Знакомые, встретив меня на улице, спрашивают, чем я болен. Я ссылаюсь на грипп.
Я почти ничего не ем. Вид пищи вызывает во мне ощущение тошноты. Тело наполнено необычайной лёгкостью. Временами эта лёгкость переходит в припадки непреодолимой слабости. Незаметно для себя я засыпаю в трамвае или сидя за столом.
С каждым днём моё пребывание в Карлсхорсте становится всё опаснее. Мне приходится считаться с возможностью провала и принимать меры предосторожности. Советские офицеры в Германии часто собирали трофейное оружие. Также и у меня в доме целая коллекция оружия. Теперь я вспомнил о нём.
Я вытащил из угла шкафа немецкий автомат. Набив рожок патронами, я повесил автомат на вешалке у двери, прикрыв его шинелью. Поблизости я положил несколько запасных рожков и ящик с патронами.
Это на тот случай, если меня попытаются арестовать на квартире. Затем я зарядил свой крупнокалиберный парабеллум, сохранившийся у меня ещё с фронта.
На следующий день я поехал в окрестности Берлина и, заведя автомашину в заросли леса, начал методично, как на стрелковом полигоне, проверять оружие. Короткие автоматные очереди вспарывали морозную тишину зимнего вечера. Тяжёлые пули парабеллума рвали сочное тело молодых сосенок.
Осечки быть не должно! Всё что угодно — но только не оказаться в беспомощном положении. Я не думал много, я боялся только одного — осечки.
Так проходили дни. В один из этих дней, после очередных бесплодных блужданий по Берлину, я усталый и расстроенный, вернулся поздно вечером домой. Меня охватила апатия. Видимо, мне не остается ничего другого, как идти на Запад вслепую, в надежде затеряться среди немецких беженцев.
Я сел за письменный стол. Мне не хотелось ни кушать, ни пить. Зато мне до боли хотелось иметь рядом с собой какое-либо живое существо, с кем я мог бы поделиться своими мыслями. Я чувствовал бесконечную усталость и опустошённость. Человек, потерявший лицо. Человек остался один.
Я вспоминаю, что после поездки в лес я не почистил оружие. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, я принимаюсь за смазку пистолета. Это на время успокаивает меня. На столе раз за разом звонит телефон. Я не отзываюсь и продолжаю своё занятие.
В окно смотрит чёрная ночь. Вся комната погружена в полумрак. Лишь на письменном столе горит яркая лампа под абажуром. В жёлтом пятне света холодно поблескивает маслянистое тело пистолета. Я бесцельно смотрю на безжизненный кусок металла и не могу отвести от него глаз. Мерцающий блеск притягивает меня к себе, зовёт и подсказывает.
Я пытаюсь оторваться от пистолета и оглядываюсь кругом. Кругом меня тишина. В этой напряжённой тишине мне чудится слабый шорох. Где-то совсем рядом. Я ищу этот звук и моё внимание привлекает согнутая тёмная фигура в углу письменного стола.
Там на грани между светом и полутьмой сидит скорчившись черная обезьяна. Она сидит и смотрит на меня. Смотрит и шевелит губами.
Когда-то один из моих знакомых подарил мне большую бронзовую статуэтку. На квадратном пьедестале чёрного мрамора набросаны кучей свитки пергамента, книги и реторты — материальные символы человеческой мысли. На всем этом с важным видом восседает на корточках отвратительная звероподобная обезьяна.
Она держит в волосатой лапе хрупкий человеческий череп и созерцает его с тупым любопытством. Гений скульптора воплотил в бронзе всю тщетность человеческих стремлений. Я поставил статуэтку на письменный стол и редко обращал на нее внимание.
Теперь я смотрю на чёрную обезьяну и вижу, что она шевелится. Одновременно в моей голове мелькает досадливая мысль — у меня начинаются галлюцинации. Я стараюсь отвлечь свои думы в другую сторону, но чёрная обезьяна не даёт мне покоя.
Я пытаюсь думать о прошлом. Ещё раз перед моими глазами проходят годы войны, Красная Площадь и Кремль. Ещё раз в моих ушах звучит волчий вой возбужденных чувств.
«Первый из первых, среди лучших из лучших…» — звучит издалека.
«Завтра ты будешь последний среди последних, побеждённый среди побеждённых», — звучит где-то совсем рядом. Я поворачиваю голову. Это чёрная обезьяна смотрит на меня и шевелит губами.
Я пытаюсь думать о будущем. Передо мною открывается серая пустота, где я не вижу ничего. Там я должен буду отказаться от всей своей жизни, потерять лицо, уйти в ничто.
Уйти в ничто… Может быть, это можно сделать как-нибудь проще? Я смотрю на мерцающее маслом тело пистолета, протягиваю руку к нему и машинально играю предохранителем. Белая точка — красная точка. Теперь нажать спуск. Совсем просто…
«Посмотри — у тебя грязные пальцы, — шепчет чёрная обезьяна. — Завтра тебя найдут грязным и небритым».
Я смотрю на свой палец, играющий на предохранителе, и вижу грязь под ногтями. Последние дни я сплю не раздеваясь и забываю следить за собой. Я встряхиваю головой. Пустота и одиночество оказываются тяжелее, чем я это мог предполагать. Я должен продержаться до конца. Осталось ещё немного. Так или иначе, скоро всё решится.
Меня угнетает пустота этих дней. Всю жизнь я служил долгу — и сомневался в нём. Я считал, что долг есть производное веры в непогрешимость основного принципа — и я упорно искал это рациональное зерно. Сегодня я убеждён в ложности основного принципа. Сегодня я потерял веру. Что дальше?
«Ты не потерял, а нашёл, — шепчет мне черная обезьяна. — В отрицании прошлого ты нашел своё настоящее убеждение и тебя мучает чувство настоящего долга».
Еще раз я переношусь мыслями назад и воспоминаю, с каким нетерпением ожидал я конца войны, как страстно мечтал я о мирной жизни. И вот теперь, когда я могу уйти в эту мирную жизнь, когда исполняется моя голубая мечта — я бросаю всё и ухожу в обратную сторону. Почему?
Я подсознательно чувствую, что причина лежит в нависшей опасности новой войны. Я чувствую, что если бы не это обстоятельство, то я, вопреки всему, всё таки вернулся бы на родину и продолжал бы делить с ней все радости и печали. Возможность войны будит во мне глубокие и противоречивые чувства. Какая здесь связь?
В тишине комнаты я слышу шёпот. Чёрная обезьяна опять шевелит губами. Она шепчет мне: «Есть чувства, которые лежат так глубоко в сердце, что ты сам не решаешься признаться в них. Судьба Германии перед твоими глазами. Теперь ты убеждён, что твою родину ожидает подобное будущее. Ты знаешь преступников, которые ведут твою родину к гибели, и не хочешь быть соучастником этого преступления. Ты уходишь сегодня, чтобы бороться с ними в твоём завтра. Ты не хочешь признаться в этих мыслях — они кажутся тебе изменой. Помни, что если два отрицательных понятия перекрываются, то результат получается положительный. Измена изменнику — это верность основному принципу. Убийство убийцы — это только добродетель».
От угасающего окурка я прикуриваю новую сигарету и откидываюсь назад в кресле. Во рту неприятный горький привкус. Бронзовые утята на мраморной пепельнице утопают в куче окурков. По комнате ползёт холодная тишина.
В этой тишине монотонно звучат слова чёрной обезьяны: «Свободу и родину мало любить — за них нужно бороться. Ты не видишь иной возможности борьбы, как уйти в другой лагерь и бороться оттуда. Это твой путь к Родине!»
5
На семнадцатый день я получил пограничный пропуск. Он был помечен конечной датой. В течение следующих трёх дней я обязан пересечь границу Советского Союза в Брест-Литовске. Во всяком случае, я не могу оставаться в Карлсхорсте больше трёх дней.
Над Берлином опускались вечерние сумерки, когда в этот день я заехал к знакомому немцу, директору одного из заводов, где мне часто приходилось встречаться с ним по служебным делам. Во время этих встреч я нередко вёл с директором довольно откровенные беседы на политические темы.
Так и в этот вечер у нас завязался разговор о будущем Германии. В разговоре я высказал свое мнение, что немцы слишком радужно смотрят на будущее.
«Вы недооцениваете внутренней опасности, — сказал я. — Вы слепо ждёте конца оккупации. Даже если советские войска уйдут из Германии, это мало изменит положение. Предварительно Германия будет связана по рукам и по ногам, продана оптом и на долгое время».
«Кем?» — спрашивает директор.
«Для этого существует СЕД и народная полиция».
Я знал, что с недавнего времени директор является членом СЕД и что мои слова для него не совсем приятны. Он посмотрел на меня искоса, помолчал некоторое время, затем сдержанно произнес: «Многие из членов СЕД и народной полиции в глубине души думают совсем не то, что хотят оккупационные власти».
«Тем хуже, если они думают одно, а делают другое».
«Пока у нас нет другого выхода, герр оберинженер. Но когда наступит решающий момент, поверьте мне, СЕД и народная полиция будут делать не то, на что надеется Москва».
«Желаю Вам успеха», — улыбнулся я.
После некоторой паузы, желая перевести разговор на другую тему, директор спрашивает: «Ну, а как у Вас идут дела?»
Усталый и промерзший, я только безнадёжно махнул рукой и вздохнул: «Я уезжаю в Москву…»
Директор видимо улавливает разочарование в моём голосе и смотрит на меня удивленно: «Разве Вы не рады возвращению на родину? На Вашем месте я…»
«Я готов поменяться с Вами местами», — говорю я.
Директор снова бросает на меня взгляд и истолковывает мои слова по-своему.
«Так значит, Германия нравится Вам больше, чем Россия?» — спрашивает он.
«Она могла бы нравиться мне, если бы я не был советским офицером», — отвечаю я уклончиво.
«Победители завидуют побеждённым…» — задумчиво качает головой директор.
Он встает и начинает ходить по комнате, обдумывая что-то. Затем он резко останавливается напротив меня и говорит: «А почему бы тогда Вам не остаться здесь?»
«Где — здесь?» — спрашиваю я равнодушно.
«Да поезжайте в другую зону!» — восклицает директор. Он разводит руками, удивляясь, что я не могу додуматься до такой простой вещи.
«Разве это так просто?» — спрашиваю я, внутренне насторожившись, но сохраняя безразличный вид.
Директор долгое время молчит. Затем, видимо решившись, он обращается ко мне, слегка понизив голос: «Герр оберинженер, если только Вы захотите остаться в Германии, то нет ничего проще, как перейти зелёную границу».
Движением руки он изображает всю лёгкость перехода границы.
Я ещё более настораживаюсь и спрашиваю: «Да, но как на это посмотрят американцы?»
Директор делает пренебрежительный жест: «А-а-а… Плюньте на этих свиней. Они нисколько не лучше, чем…»
Он прикусывает язык.
Я невольно улыбаюсь. Мне начинает казаться, что директор и член СЕД любыми путями хочет уменьшить Советскую Армию на одну боевую единицу. Вместе с тем, я хорошо знаю директора и у меня нет оснований опасаться провокации с его стороны. Я сижу молча. Если ему так хочется соблазнить меня, пусть расскажет побольше.
«У меня много знакомых в Тюрингии, — продолжает директор. — Если Вы пожелаете, я могу дать Вам рекомендательные письма к надёжным людям. Они помогут Вам перейти на ту сторону».
«А как с документами?» — спрашиваю я.
Директор пожимает плечами: «Сегодня каждый третий человек живёт по фальшивым документам».
«А где достать такие документы?»
«У меня есть один знакомый человек. Он будет рад помочь Вам достать документы». При этих словах директор слегка улыбается и добавляет: «Кстати, этот человек — офицер народной полиции».
Наконец я решаюсь открыть свои карты. Я меняю тон. Мои слова звучат тяжело, почти сурово.
«Герр директор, — говорю я. — Вы не осудите меня за мою сдержанность! Дело, о котором мы говорим, уже давно решено. Если бы я не встретил Вас, мне не оставалось ничего другого, как идти на Запад своими средствами».
Директор молчит некоторое время, затем говорит: «Уже и раньше, встречаясь с Вами по деловым вопросам, я чувствовал, что Вы не такой, как другие. Тем только одно — давай, давай!»
Последние слова он произносит по-русски.
Вспоминая наши предыдущие деловые встречи по вопросам демонтажа и репараций, я не совсем уверен в искренности его слов.
Мы обсуждаем все подробности. На тот случай, если мне придётся задержаться в Берлине или на случай проверки в дороге, директор обещает достать мне немецкие документы.
Договорившись встретиться на другой день, я покидаю дом директора и выхожу на улицу. Кругом так же темно и так же пронизывающе холодно, как и два часа тому назад. Но теперь я не ощущаю холода и воздух напоён для меня живительным ароматом.
На следующий день я снова встречаюсь с директором. С чисто немецкой точностью он кладет передо мной на стол бланк немецкой кеннкарты. У окна стоит молодой белокурый немец с военной выправкой.
Директор представляет нас. Два человека в гражданском пожимают друг другу руки и по привычке щёлкают каблуками.
Мы заполняем кеннкарту. У меня невольно появляется горькая усмешка, когда я смотрю на моё новое имя. Так звали когда-то мою немецкую овчарку. В первый раз в жизни я делаю дактилоскопический оттиск пальцев. На мою фотографию ложится немецкая полицейская печать. Мне невольно кажется, что немец, положив печать, смотрит на меня уже по-другому.
Любезность офицера народной полиции простирается так далеко, что он готов ехать вместе со мной до границы. Он уже взял на несколько дней отпуск. Одновременно он хочет проведать своих родственников в Тюрингии.
На всякий случай я решаю взять с собой в дорогу одно из моих прежних командировочных удостоверений в Тюрингию — для выполнения специальных заданий маршала Соколовского. Кроме того, у меня есть мои офицерские документы.
Если по дороге будет проверять немецкая полиция, они увидят советские документы — это действует на немцев, как змея на кролика. Если будет проверять советский патруль — в машине будет сидеть человек, потерявший лицо.
Мы договариваемся, что завтра в час дня мой новый знакомый подъедет к Карлсхорсту на автомашине и позвонит мне по телефону.
Когда я прощаюсь с директором, он спрашивает меня: «А почему, всё-таки, Вы, советский офицер решили покинуть Советский Союз?»
«Потому же, почему Вы, член СЕД, решили помочь мне, советскому офицеру», — отвечаю я и крепко жму ему руку.
6
Утром следующего дня я вскочил на ноги ещё в полутьме. Я ощущал необычную энергию и прилив сил. Сегодня я, во что бы то ни стало, должен покинуть Карлсхорст. Уже двадцать дней прошло с того дня, как я получил роковой приказ. Дата пограничного пропуска помечена сегодняшним днём.
В этот день я должен быть в Брест-Литовске. Если меня сегодня застанут в Карлсхорсте, мне трудно будет объяснить причины моего пребывания здесь. Каждая лишняя минута в Карлсхорсте увеличивает висящую надо мной опасность.
На сегодня я заказал билет и место в московском поезде. Перед тем как покинуть Берлин, я остановлюсь на Силезском вокзале и зарегистрирую свой отъезд у военного коменданта. Теперь мне необходимо оставить квартиру в таком состоянии, как это соответствует человеку, уезжающему в Москву. Я начинаю последние приготовления.
Я разжигаю печь и уничтожаю содержимое письменного стола. Мною владеет необъяснимое чувство внутреннего освобождения. Летят в печь пачки документов и удостоверений с печатями СВА.
Тают в огне фотографии — на фоне разрушенного Рейхстага, среди мраморных статуй Аллеи Победы в Тиргартене, вместе с маршалом Жуковым и генералом Эйзенхауэр на взлётном поле «Темпельгофа». Рассыпаются чёрным пеплом письма дорогих и близких людей. Дымом разлетаются последние духовные связи с прошлым.
Я охвачен жаждой уничтожения. Чувство отречения ото всей своей жизни и абсолютная пустота в будущем оставляют во мне лишь одно болезненное желание — уничтожить все своими собственными руками.
Мне не приходит в голову, что когда-нибудь эти документы могут понадобиться мне, что лучше было бы оставить их где-нибудь на хранение. Мне абсолютно безразлично, что будет со мной в будущем. Сегодня я человек, потерявший лицо — без прошлого, без имени, без родины.
«Ну, так — похороны викинга считать законченными!» — говорю я сам себе, бросая в огонь последние бумаги.
Я сажусь за письменный стол и пишу последние письма, которые я брошу в почтовый ящик Карлсхорста. Вероятно, никогда в жизни я не буду больше иметь возможность писать этим людям.
В письмах всего одна короткая строчка: «Сегодня выезжаю в Москву», последний привет и подпись. По моей подписи в частных письмах всегда можно судить о моём настроении в данный момент. Сегодня подпись ясна, тяжела и сурова, как приговор. Люди поймут всё по подписи.
Я рассчитал в уме все возможные варианты провала и всё, что нужно будет делать в каждом случае. Оружия и патронов у меня достаточно. Единственное, что я твёрдо знаю — живым я в руки не дамся.
Этим утром я особенно тщательно выбрился и оделся, даже надушил носовой платок. В этот день мне понятен обычай моряков, одевающих чистое белье и лучшую форму, идя в последний бой.
Я вспоминаю фронтовые дни — там я был грубым закалённым солдатом, не знающим что такое нервы. Сегодня, в первый раз в жизни, я чувствую внутри что-то, что называется душой.
Долгие дни внутренней борьбы, мучительные поиски выхода, сознание постоянной опасности не прошли бесследно. Сегодня я чувствую, что мои нервы на грани, что это последняя вспышка.
Я знаю, что в определённый момент последует разрядка и реакция. Только бы дотянуть до границы, а там лечь и закрыть глаза. Там мне будет всё безразлично. Так или иначе, там я буду живым трупом.
Я смотрю на часы и у меня мелькает тревожная мысль: «Что если мой проводник передумает или испугается ехать в берлинский Кремль?» Тогда мне не остается ничего другого, как выйти из дома и, засунув руки в карманы, идти на Запад по карте. Так или иначе, сегодня всё должно решиться. Это сознание успокаивает меня.
В накинутом пальто я хожу из угла в угол. В комнате пусто и холодно. Звук шагов раздаётся непривычно громко по голому полу. Часы бьют двенадцать. До телефонного звонка остался ещё час. Теперь я не думаю ни о чем. Я только жду телефонного звонка.
Внезапно в напряженную тишину врывается резкий звонок в передней. Я останавливаюсь и слушаю. Я уже несколько дней не отзываюсь на звонки и не открываю двери. Звонок снова звучит — долго и требовательно. Значит, кто-то знает, что я дома.
Я опускаю правую руку в карман пальто и опять слушаю. Звонок звучит ещё резче, ещё требовательнее. Деланно неторопливым шагом, не вынимая руки из кармана, я выхожу в переднюю. Левой рукой я открываю дверь — и моя правая рука крепче охватывает рукоять пистолета.
В сером полусвете зимнего дня передо мной стоит человек в форме МВД. Я смотрю на него невидящими глазами и чувствую, как дуло пистолета поднимает подкладку кармана. Человек стоит молча и не шевелится.
Я делаю над собой усилие и смотрю в лицо человека. До моего сознания медленно доходит, что передо мной Андрей Ковтун. Он не заходит, как обычно, а стоит неподвижно, словно не решаясь. Так проходит несколько мгновений.
«Можно к тебе?» — говорит, наконец, Андрей.
Я молчу. Откуда он узнал, что я ещё здесь? Зачем он пришел? Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел сейчас мою квартиру. Здесь много мелочей, несоответствующих для человека, уезжающего в Москву. Я ещё раз смотрю на Андрея. Во всей его фигуре застыла необычайная молчаливая просьба.
«Заходи!» — говорю я коротко.
Я отступаю в сторону так, что ему можно пройти только в кабинет. Он идёт вперед и старается не смотреть по сторонам. Походка у него вялая и неуверенная. Бросив взгляд на лестницу, я закрываю дверь, поворачиваю ключ в замке и кладу его в карман. Тяжёлый пистолет бьет меня по бедру. Я перекладываю его во внутренний боковой карман.
Андрей грузно опускается в свое обычное кресло. Я не знаю о чем нам говорить и, чтобы делать что-то, включаю электрический камин. При этом я бросаю взгляд за окно и убеждаюсь, что машина Андрея пуста.
«Так ты уезжаешь?» — чужим голосом оговорит Андрей.
«Да».
«Когда?»
«Сегодня».
«Значит, ты не хотел проститься со мной?!»
Наступает неловкая пауза. Андрей не ожидает моего ответа. Он закидывает голову на спинку кресла, смотрит в потолок, потом закрывает глаза. Он сидит в шинели и фуражке, даже не сняв перчаток. Только теперь мне приходит в голову, что мы не пожали друг другу руки.
Я бросаю взгляд на часы, на телефон, затем снова смотрю на Андрея. После нашей поездки в Москву я очень редко встречался с ним. Мне казалось, что он сам избегает этих встреч.
Теперь мне бросается в глаза, как изменился Андрей за это время. Лицо его осунулось, постарело, скулы обтянуты блестящей кожей. На лице застыло выражение, какое бывает у неизлечимо больных людей. На всей его фигуре лежит печать безнадежной усталости.
Проходят минуты. Андрей сидит не шевелясь и не открывая глаз. Я смотрю через окно на улицу и бесцельно выстукиваю по полу.
«Может быть, я мешаю тебе?» — спрашивает Андрей тихо. В первый раз я слышу в его голосе неуверенность, почти беспомощность.
Меня охватывает чувство жалости. Я вижу, что от Андрея осталась одна оболочка. И, вместе с тем, я не доверяю ему, мне не даёт покоя его форма МВД. Я щупаю ключ в кармане и мельком гляжу на улицу. Если в этот момент за мной придут — я выпущу первую пулю в Андрея.
В этот момент в передней снова раздаётся звонок. Звонок короткий и нерешительный. Так неуверенно может звонить лишь незнакомый. Я иду в переднюю и открываю дверь.
Передо мной стоят на пороге две маленьких безмолвных фигурки. Я вижу бледные детские лица и синие замерзшие ручонки. Это дети беженцев.
«Клепа…» — непривычно звучит русское слово из уст немецких детей. «Клепа…» — ещё тише повторяет вторая фигурка. В глазах детей нет ни просьбы, ни ожидания — только детская беспомощность. Судорога перехватывает мне горло. Жалкие фигурки кажутся мне видением того мира, куда я иду.
Я молча делаю детям знак войти, нахожу на кухне мой старый солдатский мешок и набиваю его тем, что оставалось в доме. Взявшись за лямки, дети с трудом тащат мешок к двери. Я провожаю их.
Закрывая дверь, я слышу за моей спиной невнятное бормотание Андрея: «Это не спроста… Это знамение…» Я удивлённо смотрю на него. Он опускает голову и, избегая встречаться со мной взглядом, шепчет: «Их Бог послал».
Дети уходят. Андрей снова опускается в свое кресло. Стрелки часов показывают половину первого.
Я вспоминаю, что я ещё ничего не ел сегодня. Я должен иметь силы на дорогу. Я делаю несколько бутербродов и, преодолевая чувство тошноты, заставляю себя есть. Вторую тарелку я ставлю перед Андреем.
Перегибаясь через стол, я замечаю, что глаза Андрея устремлены на меня со странным выражением. Они устремлены в одну точку. Я следую его взору. Пола моего пальто распахнулась и из внутреннего кармана выглядывает рукоять парабеллума. Я ощущаю, как во рту у меня становится сухо.
Советские офицеры при демобилизации в Советский Союз обязаны сдавать все имеющееся у них оружие. Попытка провезти оружие через границу карается самыми суровыми наказаниями. Поэтому никто не едет домой с пистолетом в кармане. Майор Государственной Безопасности должен знать это лучше, чем кто другой.
Незаметным движением я запахиваю пальто и искоса смотрю на Андрея. В его зрачках нет удивления и лицо совершенно спокойно. По комнате ползёт гнетущая тишина и холод. Стрелки часов приближаются к назначенному часу.
«Мы, наверное, не увидимся с тобой больше», — нарушает тишину голос Андрея. Его слова звучат не как вопрос, а как ответ собственным мыслям.
«…и ты не хотел проститься со мной», — говорит Андрей и в его голосе слышится грусть.
Я молчу и делаю вид, что не слышу его слов.
«Всю жизнь я не доверял тебе, — медленно и тихо звучат слова моего друга детства. — Когда я поверил тебе — ты не доверяешь мне…»
Его слова режут мне по сердцу, но я не могу ничего ответить. Я знаю только одно — сейчас будет телефонный звонок и если кто станет мне на пути — я буду стрелять. Если это будет Андрей — я убью его.
На секунду мой мозг пронизывает мысль — откуда Андрей узнал, что я здесь, что я уезжаю сегодня. За эти долгие дни было много возможностей… Может быть, он узнал это по своей служебной линии? Может быть, у него в кармане ордер на арест? Усилием воли я гоню от себя эти мысли, встаю и хожу по комнате.
Словно в ответ моим мыслям слышится голос майора Государственной Безопасности: «Не сердись, что я пришёл к тебе…» Как капли воды тикают часы.
И тихо, едва слышно, звучат слова Андрея: «Если бы не пришел я, к тебе пришли бы другие…» Я хожу по комнате, время от времени бросая взгляд на часы.
«Может быть, тебе нужна моя машина?» — спрашивает Андрей.
«Нет. Спасибо…»
«Так ты, значит, уходишь, а я остаюсь, — звучит голос майора Государственной Безопасности. — Я принесу больше пользы, оставаясь на своем посту… Если когда будешь меня вспоминать, Гриша, помни… я делаю, что могу».
Снова в холодной комнате повисает тишина. В окно смотрит пасмурный зимний день. Ясно слышно тиканье часов.
«Может быть, ты оставишь мне что-нибудь на память?» — нарушает тишину голос Андрея. Он звучит до странности неуверенно, почти жалобно.
Я оглядываюсь кругом в пустой комнате. Мой взгляд останавливается на чёрной обезьяне, скорчившейся на письменном столе. Я пристально смотрю на нее, словно ожидая, что она пошевелится.
«Возьми это!» — киваю я головой на бронзовую фигуру.
«Над миром сидит черная обезьяна, — бормочет Андрей. — Так вот стремишься к хорошему, чистому… А потом видишь, что все это грязь…»
Как выстрел пистолета звенит телефон на столе. Я сдерживаю свою руку и не торопясь снимаю трубку. Издалека слышится голос: «Der Wägen ist da!»[29]
«Jawohl!»[30] — отвечаю я коротко.
«Ну… Я должен ехать!» — говорю я Андрею.
Он с трудом поднимается с кресла, деревянным шагом идёт в переднюю. Я следую за ним. С усилием, как будто он смертельно устал, Андрей оправляет измятую шинель. Воротник шинели зацепился за золотой погон кителя и не даёт натянуть рукав. Андрей смотрит на погон. Затем он с такой силой рвет шинель, что погон с треском ломается.
«Крылья… холопа!» — медленно и тяжело падают в тишине слова Андрея. Он произносит их с такой непередаваемой горечью, что я невольно содрогаюсь.
«Желаю тебе счастливого пути!» — говорит Андрей и протягивает мне на прощанье руку. Я пожимаю его руку. Он смотрит мне в глаза, хочет сказать что-то, затем только ещё раз крепко встряхивает мою руку и спускается по ступенькам. Я смотрю ему вслед, но он не оборачивается.
Я стою и слушаю, как замирает вдалеке шум автомашины. Проходит несколько минут. Время идти мне. Я уже раньше отдал ключи от квартиры и мне остается только захлопнуть дверь.
Я немного задерживаюсь на пороге, затем с силой хлопаю дверью. Пробую ручку. Дверь закрыта накрепко. Пути назад нет.
Я поворачиваюсь и иду навстречу будущему…
Цена свободы (Дополнение ко 2-му изданию книги «Берлинский Кремль»)
Многие читатели «Берлинского Кремля» интересовались: «А что же было потом?» Когда я это им рассказывал, они восклицали: «Боже, ведь это ж так интересно! Почему же вы этого не описали?» Вот я и решил теперь описать то «интересное», чего я не описывал раньше.
Если сегодня, в 1971 году, какой-нибудь советский турист, матрос или кагэбэшник спрыгнет с поезда или парохода, то его сразу тащат в Америку. Чтобы в порядке психологической войны покричать в прессе, что он избрал американскую свободу. Этак даже дочку Сталина в Америку притащили.
Это потому, что сейчас США и СССР официально враги. А когда я избирал свободу, в 1947 году, они были официально друзья и союзники. И никакой псих. войны ещё не было. И избрание свободы тогда выглядело немножко иначе. Тогда я работал ведущим инженером СВА — Советской Военной Администрации в Германии.
Попробовал я тогда — в поисках свободы — через немецких посредников попросить у западных союзников, англичан и американцев, так называемого политического убежища. По-джентльменски. Но союзные джентльмены ничего такого и слышать не хотели.
А в берлинских газетах в это же самое время писали, что англичане обменяли своего агента-шпиона Игоря Штерна, засыпавшегося и арестованного в советской зоне, на какого-то советского офицера, который избрал свободу и искал «политического убежища» в английской зоне.
Несколько лет спустя, англичане дали этому же Игорю Штерну за какие-то грязные дела 10 лет тюрьмы. А русский, искавший свободы, заплатил за этого Штерна своей жизнью.
Поскольку я попал в берлинский Кремль одним из первых, то у меня была хорошая квартира и много всяких хороших вещей. Демобилизованные офицеры имели право увезти всё это с собой как трофеи. Я же теперь раздаривал все эти хорошие вещи своим хорошим друзьям.
Это были майоры и подполковники инженерной службы, почти все партийцы. Получая мои подарки, они догадывались, что я собираюсь ехать куда-куда, но только не в СССР. Некоторые прямо намекали мне об этом. Но я, с пистолетом в кармане, упрямо твердил своё:
— Я еду в Москву!
Один приятель-майор, оглушив себя для храбрости стаканом водки, признался мне, что у него дядя в Париже, и предложил записать его адрес. Я покачал головой:
— Я еду в Москву!
Одной милой немецкой подружке по имени Инга я подарил на прощанье целую автомашину всяких вещей. Она тоже сообразила, что советский офицер, уезжающий в Россию, не раздаёт всех своих вещей, и говорит:
— Слушай, хочешь, я помогу тебе бежать в Западную Германию?
Я молчу.
— У меня есть один школьный товарищ, — говорит Инга. — Во время войны он был в Эс-Эс. А сейчас он промышляет тем, что водит людей через границу. Правда, я должна тебе сказать, что на границе он их убивает — стреляет в затылок и грабит… Но я скажу ему, что ты мой жених, и он тебя не убьёт… Хочешь, я с тобой пойду?
Я поблагодарил и сказал, что еду в Москву. Эх, хорошая была эта Инга. Приятно вспомнить!
В конце концов, с помощью немецких посредников я добрался на автомашине до пограничной деревушки в Тюрингии. Ночью два проводника, отец и сын, местные крестьяне, повели меня через границу. Они часто ходили этими лесными тропинками к своим родственникам по другую сторону границы.
Светлая зимняя ночь. Помня о рассказе Инги, я на всякий случай иду позади моих проводников — с парабеллумом в кармане. Под пальто висит через плечо дулом вниз трофейный немецкий автомат. По карманам рассованы ручные гранаты и запасные обоймы для автомата. Это на тот случай, если встретятся советские пограничники.
Шли мы так часа два или три. И благополучно добрались до первой железнодорожной станции в американской зоне. Позади здания станции я расплатился с моими проводниками: дал им, кажется, тысячу оккупационных марок, что тогда составляло около 5 американских долларов.
Это была первая плата за свободу и, должен сказать, заработанная совершенно честно. В качестве наградных я отдал моим проводникам свой парабеллум, автомат и ручные гранаты, за что они очень благодарили и долго раскланивались. Может быть, они не ожидали, что позади них шагает целый арсенал.
Сел я в поезд. Поехали. Даже не знаю куда. Только подальше от границы. Я так концентрировался на том, как сбежать из советской зоны, что совершенно не думал, что я буду делать в американской зоне.
Потеряюсь среди немцев, осмотрюсь, а там видно будет. С этой целью я даже обзавелся немецкой кеннкартой на имя Ральфа Вернера.
Вскоре по поезду стала ходить американская военная полиция: союзники проверяют документы. Показываю я свою кеннкарту — и оказываюсь под арестом. На следующей станции союзники передают меня немецкой полиции. Спрашиваю добродушного немецкого полицейского, в чём дело.
А дело в том, что моя чертова кеннкарта, оказывается, из советской зоны, а у них здесь другие кеннкарты. А посему герра Вернера со следующим поездом отправят домой — в советскую зону. Полицейский мне очень сочувствует, но таков приказ американских оккупационных властей: гнать всех немецких беженцев из советской зоны назад. В том числе и герра Вернера.
Видя, что делать нечего, я вынул из другого кармана моё удостоверение личности СВА (СВА — Советская Военная Администрация), где я был изображен в форме советского офицера.
На следующий день я оказался в гостях у союзников: на загородней вилле около Касселя, где было что-то вроде дома отдыха для офицеров американской разведки. После обеда один из них пригласил меня посостязаться в стрельбе из пистолета.
Стреляли мы во дворе по чуркам свеженапиленных дров, поставив их на попа. Американский разведчик вытащил из-за пояса куцый револьвер, почти без ствола, какие носят в кинокартинах лихие агенты Эф-Би-Ай. Стрелял он тоже как ковбой в кино — от бедра, не целясь. И, естественно, все время мазал.
Потом он вытянул из кармана кольт 32 калибра и протянул мне. Поскольку я стрелял из нормального пистолета и нормальным образом, то результаты у меня были значительно лучше.
Но у меня маленькое подозрение, что после этого американский разведчик пришел к заключению, что я превосходный стрелок и, следовательно, опасный советский агент. В свое оправдание могу только сказать, что стрелять хуже, чем он, было просто невозможно.
Так или иначе, на следующий день меня посадили в джип и отвезли в лагерь «Камп-Кинг» в Оберурселе, около Франкфурта. Это был бывший немецкий концлагерь, в котором американцы теперь держали в основном немецких военных преступников. Над воротами надпись: «Главная Квартира американской контрразведки в Европе».
В этом концлагере я просидел три месяца. В одиночной камере. Так я избрал свободу — и в первый раз в жизни попал за решётку. Вместе с немецкими военными преступниками. Союзник в гостях у союзников!
За всё это время у меня было, кажется, только два допроса. Тогда я свободно владел немецким языком, а по-английски только читал, но говорить почти не мог. Потому на первом допросе в качестве русского переводчика была женщина-галичанка в форме американского сержанта. Но она не понимала по-русски, а я не понимал по-галицийски. Что понимал от такого допроса молоденький американский лейтенант? — Не знаю.
Я сидел и думал: «Боже, значит, у них в Главной Квартире американской контрразведки нет ни одного русского переводчика!? На протоколах допроса стоит штамп „Особо секретно“. А ведь эта баба не понимает и половины того, что я говорю. И от этого зависит моя жизнь. Какое идиотство!?» На втором допросе мне дали немецкого переводчика. Это был молоденький еврей в форме американского капрала, который вместо немецкого говорил на идиш. Он не понимал немецкого, а я не понимал идиш. И допрос происходил так:
Вопрос:
— Какое учебное заведение вы окончили?
Я отвечаю по-немецки:
— Политехнише Хохшуле, то есть Политехнический Институт, откуда выпускают инженеров. Переводчик переводит по-английски так:
— Вокейшенал Хай Скул, — что в Америке означает ремесленное училище, куда попадают самые плохие ученики, не способные окончить нормальную среднюю школу.
Из последующих вопросов следователь узнает, что я окончил это училище в 23 года, тогда как самые глупые американцы справляются с этим к 18 годам. Значит, я какой-то суперкретин. И после этого я был ведущим инженером СВА. Что понял следователь от такого допроса? — Не знаю.
Я сидел и думал: «Как же вы допрашиваете ваших немецких военных преступников, если у вас и немецких переводчиков нет? (Кстати, одним из таких переводчиков американской разведки был еврей Генри Киссингер, который потом стал правой рукой Президента Никсона). И эта лавочка — это Главная Квартира американской контрразведки в Европе?!» В Москве я как-то случайно окончил Военно-Дипломатическую Академию, где тысячи людей изучали все языки мира, вплоть до негритянских наречий Африки. А здесь?..
Чтобы быть объективным, должен сказать, что кормили хорошо. Каждое утро, при подъёме флага, установленный во дворе громкоговоритель играл американский гимн, который я слушал, признаюсь, с величайшим отвращением. Даже теперь, 24 года спустя, когда я слушаю этот гимн, он автоматически напоминает мне лагерь «Камп-Кинг».
Одиночная камера. На стенах надписи, оставшиеся от бывших заключенных. На всех языках мира, в том числе и по-русски. Некоторые из них явно предсмертные.
За окном, за решёткой, выглядывает пушка американского танка. Потом колючая проволока. За проволокой — зелёное поле, по которому спокойно бегают немецкие зайчики. Иногда эти зайчики даже залезают под колючую проволоку и резвятся под моим окном.
А я сижу и думаю: «Эх, почему я не зайчик?» Заключённый под номером М-62. Человек, избравший свободу. На допросе я заявил, что я ушел из СССР по политическим причинам и считаю себя политическим эмигрантом. Но почему меня держат? Почему нет допросов? Ведь моё дело совершенно ясное.
Со мной все мои советские документы. Моё имя стоит в протоколах Союзного Контрольного Совета в Берлине, где я работал с американцами и англичанами. У меня много немецких знакомых, которые живут в американском и английском секторах Берлина, и которые годами знают меня и по службе, и лично. И все это очень легко проверить.
Если смотреть с легальной точки зрения, то существует договор о взаимном обмене дезертирами. Но у меня удостоверение о демобилизации из Армии. Со всеми подписями и печатями. И даже пропуск через границу, на денежной бумаге с водяными знаками и с моей фотокарточкой. Только пропуск этот не в ту сторону. Но, так или иначе, договор об обмене дезертирами ко мне не относится.
Но почему же тогда меня держат? Да ещё в одиночке. И без допросов. И под штампом «Особо секретно». «Может быть, — думал я, — чтобы просто обменять на американского шпиона, засыпавшегося в советской зоне, наподобие Игоря Штерна?» Эх, вы, торговцы живым товаром!
То ли за это время не нашлось никакого подходящего товара для обмена, то ли какая другая причина — не знаю. Так или иначе, через 3 месяца какой-то американский майор безразлично информировал меня, что меня выпускают.
Попутно он заметил, что им придётся купить для меня новую кеннкарту. На чёрном рынке. За мой, конечно, счёт — из тех денег, которые были отобраны у меня при аресте.
Меня немножко удивило, что у Главной Квартиры американской контрразведки, да ещё по всей Европе, не было других возможностей достать человеку документы, как покупая их на чёрном рынке. Но тогда мне было на все наплевать. Хорошо хоть выпускают.
Ночью, ещё до рассвета, какой-то таджик, который еле-еле говорил по-русски, и который, по-видимому, служил в этом лагере шофёром, отвез меня на автомашине из «Камп-Кинга» в Штутгарт.
По пути он заехал в какой-то лагерь ДП и взял там клочок бумажки, удостоверяющий, что я, герр Ральф Вернер, человек неопределённой национальности, выписался из лагеря ДП и перехожу жить на частную квартиру, то есть перехожу из американских рук на немецкую экономику. А посему мне должны выдать новые документы. В этом-то и заключался весь трюк с покупкой документов на чёрном рынке.
С этим клочком бумажки мы пошли в немецкую полицию и мой таджик стал получать для меня новые документы. Но он говорил по-немецки так, что полицейский его не понимал. Тогда я пришел на помощь американской разведке и объяснил полицейскому, что документы нужны не этому таджику, а мне, герру Вернеру. Так я получил новую кеннкарту, разрешение на прописку и продуктовые карточки.
Так победитель избрал судьбу побеждённых.
Распрощавшись с таджиком, я сел на скамейку в парке и открыл запечатанный пакет, который таджик сунул мне в последний момент — от имени своего начальства. Там должны быть мои документы и деньги, отобранные при аресте. Но все документы исчезли. Вместе с ними исчезла и половина моих денег — 20 000 оккупационных марок, цена новой кеннкарты.
Работая ведущим инженером СВА, я получал 8000 марок в месяц на всём готовом. Потому не удивительно, что к моменту избрания «свободы» у меня оказалось около 40 000 оккупационных (и инфляционных) марок.
Немецким проводникам, которые вели меня через границу, я заплатил 1000 марок. И это был честный гешефт. Но теперь американская разведка взяла с меня за «свободу» 20 000 марок и все профессиональные документы, включая и диплом инженера, который может ещё пригодиться мне в будущем. И этот американский бизнес особого восторга во мне не вызывал.
В переводе на американские деньги 20 000 марок были тогда чепухой — что-то около 100 долларов. Но офицеры американской разведки не побрезгали и этим. Однако для меня, беженца, эта сумма выглядела иначе. Ведь тогда немцы, среди которых мне предстояло жить, получали 400–500 марок в месяц.
Если бы американская разведка обокрала только меня, если бы это была случайность, то я просто плюнул бы и не описывал бы этого так подробно. Но это была не случайность, а система.
Так тогда, в 1945–50 годах, поступали почти со всеми советскими людьми, кто «избирал свободу». Позже, будучи председателем Центрального Объединения Послевоенных Эмигрантов из СССР, то есть людей, прошедших подобный путь, я слышал от них много подобных историй.
Американскую разведку официально называют «The intelligence arm of the U. S. Government». Но я должен сказать дяде Сэму, что эта его рука не столь интеллигентная, как воровливая.
Должен заметить, что воровство или грабеж в «Камп-Кинге» производились вполне организованно и предусмотрительно. За день до того, как меня выпустили, в мою камеру вошёл американский сержант и сунул мне для подписи бумажку, где говорилось, что настоящим я подтверждаю, что я получил назад в целости и сохранности все документы, ценности и вообще всё, что было отобрано у меня при аресте.
Поглядев на пустые руки сержанта, я спросил:
— А где же всё это?
— Вы получите это завтра, когда вас будут выпускать, — ответил сержант.
После трёх месяцев в одиночке, да ещё с перспективой выдачи назад — на расстрел, мне не особенно хотелось спорить с сержантом из-за каких-то бумажек. Поэтому я взял и подписал подсунутую сержантом бумажку.
Так американская разведка меня не только обокрала, но ещё и получила расписку, что мне всё вернули. Может быть, только для этого меня и держали три месяца в одиночке — в качестве психологической подготовки, чтобы запугать человека. Никакой другой логической причины я не вижу.
Пожив несколько дней в Штутгарте, я стал думать, что же мне делать дальше. По Штутгарту тогда ещё разгуливали советские офицеры из репатриационной миссии. И герру Вернеру было как-то немножко странно смотреть на эту форму, которую ещё недавно носил и он сам.
Мне почему-то вспомнился Союзный Контрольный Совет в Берлине, где я встречался с американцами. Там ясно чувствовалось, кто настоящие победители гитлеровской Германии. Советская сторона вела себя явно бесцеремонно, а американцы явно заискивали.
Там они щупали мои пуговицы, погоны и льстиво улыбались. Тогда за моей спиной стояли советские танковые дивизии. Тогда они думали, что я советский, а я думал, что они джентльмены. Теперь советский стал русским, а джентльмены стали жуликами. Конечно, не все, но…
Но у меня ещё не выветрилась психология победителя из Контрольного Совета. А что, подумал я, если я просто пойду к американскому консулу в Штутгарте и попрошу у него совета, что мне делать?
Ведь в Контрольном Совете американцы лопались от желания со мной поговорить. Но тогда я не мог. А теперь я могу. Ну, вот, давайте поговорим. Ведь вы здесь хозяева. И мне от вас скрывать нечего. Если даже американская разведка и засорена жульём, то уж американские дипломаты должны быть настоящими джентльменами.
Итак, я сижу у консула. На вид — симпатичный джентльмен с брюшком. Но этого джентльмена почему-то больше всего заинтересовало, где и как я получил свою кеннкарту.
— В немецкой полиции, — отвечаю я. — Но с помощью американской разведки.
— А вы что-нибудь за это платили?
Вопрос довольно щекотливый и даже немножко провокационный. Если я умолчу, то консул может проверить, и тогда меня спросят: А почему вы это скрываете? Может быть, вы и ещё чего-нибудь скрываете?
— И да — и нет, — отвечаю я.
— То есть? — настаивает консул.
— Я-то сам не платил, но у меня взяли.
— Сколько?
— Двадцать тысяч марок.
— Кто?
— Американская разведка.
Выяснив этот финансовый вопрос, джентльмен с брюшком сразу потерял ко мне всякий интерес. «Может быть, это и правда, что американцы интересуются только деньгами?» — подумал я. Прощаясь, консул пообещал, что он что-то сделает.
И, действительно, — уже на следующее утро меня подняла из постели американская военная полиция. Посадили в джип — со всеми вещами — и повезли. Привезли в тот же самый лагерь «Камп-Кинг» около Франкфурта. Отобрали мою новую кеннкарту и опять заперли в одиночку.
В этой одиночке я просидел ещё три месяца. Без единого допроса. Только один раз за все это время в мою камеру зашли, — так, как будто промежду прочим — три джентльмена: полковник, майор и сержант, служивший в качестве переводчика с английского на немецкий, вернее, опять на идиш, где я с трудом понимал только отдельные слова.
Укоризненным тоном полковник сообщил мне, что они хотели мне помочь, но, поскольку вместо благодарности я доставляю им только неприятности — трабл, то теперь они просто не знают, что со мной делать: по-видимому, им просто придётся отправить меня назад. После этого, укоризненно качая головами, джентльмены удалились.
«Поскольку полковник является, по-видимому, одним из начальников лагеря, — думал я, — то, значит, это не проделки отдельных офицеров, а система: вся Главная Квартира американской контрразведки в руках гангстеров. И американский консул в Штутгарте тоже не лучше. Все они одна шайка — джентльмены с большой дороги».
Моё личное мнение, конечно, чепуха. Но так думал не только я, но и сотни советских людей, которые избрали свободу и прошли идеологическое перевоспитание в «Камп-Кинге».
Как-то ночью я проснулся от грохота в одной из соседних камер. Сквозь стены доносился шум борьбы, как будто там кого-то связывают, и громкая матерная ругань… По-русски… Топот и голоса американцев… Потом кого-то тащат по коридору.
Эх, подумал я, значит, кого-то из наших потащили… На выдачу…
После этого мне стало так противно, что из чувства протеста я решил объявить голодную забастовку и утром отказался брать поднос с завтраком. Но сержант поставил поднос на верхнюю койку и запер дверь. Там завтрак стоял до обеда. В обед другой сержант поставил другой поднос, который стоял там до ужина. А ужин стоял на верхней койке до утра. И так каждый день. В течение двенадцати дней.
Если кто подумает, что это танталовы муки, то ничего подобного. Хотя пища все время стояла у меня над головой, есть мне совершенно не хотелось. Потом даже перестаешь пить. Только появляется усталость и сонливость. И всё это абсолютно безболезненно. Кто хочет похудеть — может попробовать. Но сначала нужно сесть в камеру смертников.
Наконец, после двенадцати дней голодовки, ко мне в камеру пришёл американский майор с трубкой в зубах и спросил, в чём дело. «Дело в том, — сказал я, — что я сам хочу знать — в чём дело? И почему меня здесь держат?»
Глядя на трубку в зубах майора, я вспомнил, что я уже несколько дней не курил, и попросил у него закурить. Майор пошарил по карманам, потом заглянул в свою трубку, которая была пуста и даже без пепла, и сообщил, что у него нет ни сигарет, ни табаку. Он сосал пустую трубку. Просто для фасона.
«Подражает Шерлоку Холмсу», — подумал я.
Кроме того, с точки зрения фрейдовского психоанализа, который столь популярен в Америке, пустую трубку любят сосать импотенты — чтобы казаться мощными мужчинами. А импотенция частенько связана с садизмом.
А садизм в свою очередь частенько связан с патологической жаждой власти над другими людьми. И такими типами кишат все злачные места — Чека, Гестапо или американский концлагерь — где один человек может безнаказанно поиздеваться над другим.
Посасывая свою пустую трубку, майор сквозь зубы процедил, что завтра меня отправляют, и порекомендовал прекратить голодовку, чтобы набраться сил на дорогу.
— А куда меня отправляют? — спросил я.
— Этого я не знаю, — ответил майор.
— А это точно, что завтра?
— Даю вам честное слово американского офицера, — сказал майор, видимо, слегка задетый тем, что я не верю ему с первого слова.
«Ну, что ж, — подумал я, — если завтра отправляют и неизвестно куда, то лучше, действительно, запастись силами на дорогу — чтобы продать свою жизнь подороже».
Не вынимая изо рта своей пустой трубки, майор пожелал мне приятного аппетита и ушел. Но, поскольку забастовка кончалась на довольно туманных условиях, несмотря на двенадцать дней голодовки, аппетита у меня не было.
На верхней койке стоял поднос с остывшим обедом. Но я подождал до ужина, когда принесли тёплую смену, и только тогда поел. И тоже без аппетита.
Следующий день прошел безо всяких изменений. За ним второй. И третий. Итак, честное слово американского офицера оказалось такой же ложью, как его пустая трубка!
До этого меня, как особо опасного преступника, выводили на прогулку одного. Теперь же я прогуливался в компании эсэсовского генерала и гестаповского полковника. Сначала я стеснялся сказать им, кто я такой.
Мне было стыдно не за себя, а за американцев. Когда же я, наконец, раскрыл свою тайну, мои тюремные коллеги чуть не лопнули от смеха. Они ожидали всё, что угодно, но не такого абсурда.
Но мне было не до смеха. Что же всё-таки делать? Ждать, пока тебя ночью свяжут, как барана, и выдадут назад? А по советским законам бегство за границу официально считается государственной изменой, и за это полагается расстрел. И подобные приговоры я не раз читал в приказах по Штабу СВА.
Из чувства бессильного протеста я решил испробовать самоубийство. Конечно, я вряд ли собирался самоубиваться всерьёз. Но когда тебя вскоре могут убить другие, то почему не попробовать это удовольствие сначала самому. Есть хоть то преимущество, что в последний момент можно передумать. В этом пока моя единственная свобода.
После ужина я принялся за дело. Разорвал свою рубашку на полоски, скрутил из них жгуты и смазал их мылом. Потом связал эти жгуты в верёвку и сделал на конце петлю. Единственное, куда эту верёвку можно было прицепить — это решётка в потолке, за которой была спрятана электрическая лампочка.
В камере уже полутьма. Я уселся на верхнюю койку, привязал верёвку к решётке — и посмотрел на потолок. Потом надавил на потолок рукой. Для инженера, изучавшего сопротивление материалов, было ясно, что игра не стоит свеч: моя шея была значительно крепче, чем тонкий фанерный потолок.
Чтобы не заниматься самообманом, я решил сначала проверить потолок. А чтобы не тратить свою шею попусту, я взялся за петлю обеими руками и прыгнул вниз.
Мои расчёты по сопротивлению материалов оказались правильными. Я мягко, как в гимнастическом зале, приземлился на полу. А сверху мне сыпались на голову всякие строительные материалы и осколки электрической лампочки.
Поскольку спать мне ещё не хотелось, то я решил испробовать другой метод самоубивания. В темноте я нащупал на полу патрон от электрической лампочки с острыми, как пила, обломками стекла по краям. Усевшись на нижнюю койку, я принялся пилить этим инструментом вены на левой руке. Там, где бьётся пульс.
Мне было вовсе не жалко перепилить вены, откуда течёт кровь. Крови у меня много. Во время войны я часто давал свою кровь для переливания — просто так, поскольку у меня её много.
Но, как ни странно, мне почему-то было жалко перепилить в темноте сухожилия, которые где-то совсем рядом. «Ведь потом, — думал я, — в случае чего и кулака не сожмешь».
По руке, как говорят писатели, текло что-то тёплое и липкое. Пилка с осколками стекла была довольно неудобная и рвала мясо. В конце концов эта скучная процедура мне надоела и захотелось спать. Я лег на койку, опустил руку вниз (пощупал — течёт) и заснул.
Потом сквозь сон слышу, как открылась дверь, заскрипели на полу обломки стекла и строительных материалов. По камере метнулся луч карманного фонаря, упёрся в лужу крови на полу. Потом в коридоре раздался сигнал тревоги.
В общем, ни спать, ни умереть мне не дали: вызвали доктора, перевязали руку, отобрали очки и перевели в другую камеру. Конечно, опять в одиночку. Как полагается для опасных преступников.
На следующий вечер в мою камеру пришел посетитель. В военной форме, с объёмистым животиком преуспевающего рантье, с огромным пистолетом на столь же объёмистом заду, а на рукаве чёрная повязка с белым крестом. Я смотрел и недоумевал: что это — пират или доктор? Но оказалось, что это протестантский священник.
Единственное, что я понял, это то, что когда-то и почему-то он тоже самоубивался. Кажется, когда он был миссионером в Африке, а его ученики решили, что его лучше сварить и съесть.
То, что людоеды собирались съесть пастора, в этом была какая-то логика. Пусть и каннибальская, но всё-таки логика. Пастор был жирный, и голодным каннибалам была бы от него определённая польза. Но какая польза была американцам от того, что они делали со мной? — Этого я понять не мог.
Ведь тогда я считал себя таким же искренним сторонником Запада, как, скажем, в обратном случае, те американские коммунисты, которые перебегают на советскую сторону.
Но если бы советская разведка встречала этих коммунистов так, как меня встретили американцы, то всех этих жуликов и воришек перестреляли бы как собак. Не за воровство, а за вредительство интересам государства. А здесь? Что же это за демократия?
Иногда в камеру приносили обтрёпанные книги по-английски. Всё это были романы про уголовщину или шпионаж. Я читал и думал: видно, по этим книжкам американские разведчики и учатся, как работать.
Но иногда приносили и немецкие газеты. В одной из них я прочел маленькую заметку о советском солдате, который бежал на Запад и потом лежал в американском госпитале в ожидании, пока его выдадут советским властям.
«Вряд ли этот солдат попал в госпиталь от расстройства желудка, — подумал я. — Вероятно, тоже пытался покончить с собой, когда узнал, что его выдают назад».
Дальше в заметке сообщалось, что, когда в госпитале появилась группа американцев в сопровождении советских офицеров, обречённый солдат вырвал у кого-то автомат, перестрелял вокруг себя восемь или девять человек, а потом сам застрелился.
Я аккуратно вырвал эту заметку и засунул её в карман.
Через несколько дней меня разбудили среди ночи, отвели в душ и сказали побриться. Потом меня посадили в джип в сопровождении двух военных полицейских. У одного из них был пакет с моими бумагами.
На рассвете мы выехали на автостраду, и я прочёл дорожный знак: «До Лейпцига столько-то километров». Итак, мы едем к советской границе. Осталось ещё четыре часа.
Один солдат сидел за рулём, второй рядом с ним, а меня посадили сзади. Это были простые американские парни с выбритыми розовыми затылками.
Чтобы показать свою демократию, они даже предлагали мне жевательную резинку. Потом второй из них заснул, а его крупнокалиберный кольт болтался сзади и соблазнительно постукивал меня по колену.
«Взять этот кольт, — подумал я, — прострелить эти пустые розовые затылки и бежать. Кругом лес и кустарники. Но куда бежать? На Восток мне путь закрыт. А если я убью этих солдат, то мне будет закрыт путь и на Запад».
Джип бойко катился по направлению к советской границе, а я старался в уме предусмотреть все возможности передачи — и как заполучить в руки оружие. Я вспомнил заметку, лежавшую у меня в кармане. Тому солдату повезло, что ему попался в руки автомат. В автомате 72 патрона, а в этом паршивом кольте только 8, и из кольта такого фейерверка не устроишь.
Самое главное — вырвать оружие. Хорошо хоть, что меня не связали, как того искателя свободы, который матершился, когда его тащили ночью по коридорам «Камп-Кинга».
Мне даже не особенно хотелось стрелять советчиков. За что? Ведь это могут быть такие же люди, как я сам — рабы системы. А вот перестрелять побольше американцев — это да… Что я вам — жить мешал? Почему вы отдаёте меня на убой?
Конечно, эти американские солдаты, что везут меня, не виноваты. А в чём я виноват? Ведь я просто затравленное животное. Эх, вот если бы перестрелять тех лейтенантов, майоров и полковников, которые остались в «Камп-Кинге»…
А потом бросить автомат, поднять руки и пойти к своим — на расстрел. Но перед расстрелом я попрошу только одну милость: сказать речь перед советскими солдатами и офицерами. Ведь когда-то, школьником, я был первым оратором. А потом, когда вырос, молчал. Совесть мешала. Но теперь я закачу такую речугу, такую речугу, от души, от чистого сердца:
— Товарищи, братцы, бейте американских гадов до последнего патрона! Я сам бы первым пошёл, да вот, видите, не получается… Не верьте ни одному американскому слову. Все они воры и лжецы. Я сам это испытал. А ихняя хвалёная свобода — вот она, смотрите на меня! Видите!?
Я так разошелся, что перед расстрелом был даже готов вступить в компартию. Так и скажу:
— Товарищи, братцы, теперь мне терять нечего. Так я вам уж всю правду-матку скажу. Да, я увиливал от вступления в компартию, так как считал всех коммунистов идиотами или сволочами. Но теперь я убедился, что американцы ещё большие идиоты и сволочи. А раз нет правды на свете, так уж записывайте меня в компартию. Хочу умереть коммунистом!
Да, закачу я им такую пропаганду, какой ни один политрук не выдумает. И все это от чистого сердца. И как это они потом будут расстреливать человека, из которого американцы сделали пламенного коммуниста?
А про себя я думал: «И будет меньше одним идиотом, который поверил в свободу… Эх, крылья холопа…»
Нечто подобное происходило с советскими солдатами, которые в начале войны сдавались в немецкий плен. Пройдя немецкие лагеря смерти, если эти солдаты снова попадали в Красную Армию, то тогда уж они действительно дрались до последнего патрона.
Тем временем джип подкатил к пограничной станции железной дороги Бебра-Вест. Та самая станция, где полгода тому назад я избрал «свободу», чтобы провести эти полгода в американской тюрьме.
Один из конвоиров взял пакет с моими документами и пошел к американскому военному коменданту. Я сидел и ожидал, что сейчас начнется это…
Вместе с американским комендантом выйдет советская стража с автоматами и… Только бы вырвать автомат… Оттянуть скобу, спустить предохранитель и, не спуская палец с курка, бить по американцам…
Через некоторое время конвоир вышел один и сделал мне знак рукой — вылезай. Значит, они решили взять меня там. Я вылез из машины, чтобы идти в комендантуру.
Но конвоир сел за руль и завел мотор, как будто собираясь уезжать. Мне не оставалось ничего другого, как спросить:
— А куда ж мне идти?
— Куда хотите, — ответил солдат, жуя резинку. — Хотите, идите туда, — он махнул рукой в направлении советской стороны. — А не хотите, идите куда хотите…
Солдат лихо развернул джип и дал газ так, что на меня посыпались камушки из-под колес. В точности, как в гангстерских фильмах. И я остался один.
Я оглянулся кругом — не следят ли за мной? Ярко светило солнце, кругом ходили немцы — и никто не обращал на меня никакого внимания. Итак, кажется, я опять свободен. Я сел на камень у входа в вокзал и вытер со лба пот. Внутренне я подготовил себя ко всем возможностям — кроме этой.
Я уже так распрощался с жизнью, что теперь возврат к жизни выбил меня из колеи. Вместо радости или облегчения, я не чувствовал ничего, кроме холодного бешенства. Опять какие-то подлые штучки! Что это за игра в кошки-мышки?
Пограничная станция. Кругом прохаживаются немецкие полицейские и проверяют документы. Тут же снуют и американские «МП». Полгода тому назад меня арестовали здесь при проверке документов.
Теперь же, чтобы научить меня благодарности и хорошим манерам, джентльмены из «Камп-Кинга» отобрали у меня даже ту кеннкарту, за которую они взяли у меня 20 000 марок.
И теперь у меня не было вообще никаких документов. Если сейчас ко мне подойдет полицейский и спросит документы, то меня опять отправят для выяснения личности в «Камп-Кинг», откуда я только что приехал.
Ближайший поезд на Штутгарт отходил только на следующее утро. Поскольку ночевать на вокзале было опасно, то свою первую ночь на свободе я провел по-фронтовому: просто зашёл в разрушенный бомбами дом подальше от вокзала, улегся на кучу кирпичей, положил кулак под голову и заснул, разглядывая звёздное небо над головой.
Приехав в Штутгарт, я отправился в полицейский участок, где я до этого получал мою кеннкарту, и заявил, что её у меня украли. Конечно, наученный печальным опытом с американским консулом, на этот раз я уже благоразумно промолчал, что воры, укравшие мою кеннкарту — это Штаб-квартира американской разведки в Европе. Так герр Вернер получил дубликат кеннкарты и начал новую жизнь.
Тогда, в 1947 году, полуразрушенная Западная Германия была переполнена миллионами иностранцев-ДП изо всех стран Восточной Европы и миллионами немецких беженцев, выселенных из тех же стран Восточной Европы.
Работать по специальности не было никакой возможности. Прочёл я как-то в газете, что американцы ищут электрика, чтобы следить за электрическими печами для жарки кукурузы в Пи-Эксе.
Подал я заявление, где честно сказал, что до этого я был ведущим инженером в Советской Военной Администрации и руководил десятками крупнейших электрозаводов, работавших на репарации, а посему я надеюсь, что справлюсь и с несколькими электропечками для жарки куклёной кукурузы. Но мне отказали. И даже честно сказали, почему: как политически неблагонадёжному.
«Чёрт бы вас подрал, — думал я. — Я сбежал из Советского Союза, поскольку там меня считали политически неблагонадёжным. И тут я тоже политически неблагонадёжный!»
Чтобы как-то убить время, я написал несколько очерков из жизни в берлинском Кремле, то есть в Главной Квартире СВА, и послал их в редакцию «Посева». Прочитав мои очерки, там решили, что я профессиональный газетный работник, и долго уговаривали меня признаться, где я писал раньше — в «Правде» или в «Известиях» — и под каким именем.
Жил я тогда в чердачной комнатушке в дешёвеньком отельчике «Белый Олень» на окраине Штутгарта. На одной кровати спал я, а на другой одноглазый немец-коробейник, который зарабатывал себе на жизнь тем, что ходил с коробом на шее по окрестным деревням и торговал шнурками, ваксой, нитками и булавками. Пока он ходил, я сидел у маленького чердачного окошка и писал о берлинском Кремле. Осенью я переселился в маленькую каморку у одной русской вдовы. Когда вдова убедилась, что я предпочитаю не русскую старуху, а молоденьких немок, начались патриотические осложнения.
Я сидел и писал свои очерки, а обиженная старуха сидела и писала повсюду доносы, что я советский шпион. Потом зять этой старушки выпрыгнул в окно с 5-го этажа и убился. Представляете себе, что это была за старушка?
Зимой моя каморка не отапливалась, и внутри было так же холодно, как на дворе. Единственным отоплением были сигареты из черного крестьянского табака-самосада, более крепкого и вонючего, чем махорка. Папиросная бумага была слишком большой роскошью для моего бюджета, и я крутил сигареты из «Посева», в котором печатался, и который мне посылали в качестве авторских экземпляров. Так за неделю я выкуривал весь «Посев».
Весь день я сидел и писал — в пальто, в перчатках и со шляпой на голове. Правда, иногда приходилось делать перерывы — когда замерзали чернила в чернильнице.
Единственным источником дохода были гонорары от «Посева». Тогда в Германии было довольно туго с продовольствием, и иногда я целую неделю питался одной селёдкой с водой и хлебом. Другую неделю — одним искусственным медом, тоже с водой и хлебом.
Пробовал эмигрировать во Францию — отказали. Пробовал в Австралию — отказали. Как политически неблагонадёжному. При этом в третий раз таинственно исчезли все мои документы, включая и дубликат злосчастной кеннкарты.
Опытные ДП уверяли меня, что все американские чиновники УНРРА и ИРО, которые заведовали эмиграцией — это международная шантрапа, коммунистические попутчики, советские агенты или просто воры, которые продадут на чёрном рынке даже свою родную мать, и которые, без сомнения, продали все мои документы и анкеты, где от меня требовали всю правду, в советскую разведку.
Пришла вторая зима, а я все сидел в своей каморке и писал. Зато на Рождество я получил трогательный подарок. Один из читателей «Посева», зарабатывавший себе на жизнь воровством (честным воровством), стащил где-то пишущую машинку и притащил её мне в подарок:
— Пишешь ты так, — объяснил он, — что в слезу кидает. А ведь это самое главное, когда за сердце берёт. Ведь все мы этот путь прошли. Ну, вот и решил я помочь общему делу…
Уходя, он по-солдатски щелкнул каблуками и отдал под козырёк фетровой шляпы: — Товарищ бывший командир, ты тут, вижу, голодный и холодный. Так даже мы, воры, не живем. Так ты того, не стесняйся… Если что нужно — только скажи… Мы поможем…
Да, кстати говоря, о воришках. У меня из чемодана пропали фотографии Китти, одной из моих берлинских знакомых. Эти фото я недавно получил по почте. Потеряться они не могли. Но кому они нужны? Только какой-то разведке. Но советская разведка, если нужно, возьмет не фото, а живую Китти. Итак, по теории вероятностей, остается только одно — американская разведка, те же самые джентльмены из «Камп-Кинга».
Забавно. Пока русские воришки предлагают мне свою помощь, американская разведка шарит у меня по чемоданам. И в это же самое время я уже второй год каждую неделю печатаюсь в «Посеве», который служит одним из главных источников информации для американских экспертов по советским делам.
Этот эпизод вспомнился мне позже, после очередного провала и публичной порки американской разведки CIA, когда по Вашингтону продавали значки с надписями: «Наша работа такая секретная, что даже мы сами не знаем, что мы делаем».
Говорят, что Америка — страна чудес. Поэтому настоящие русские бестселлеры пишутся в Америке писателями-призраками. А если кто написал свою книгу сам, то это явление ненормальное.
Нормально русские книги пишутся в Америке так. Вот появилась книга «Тайный мир» Петра Дерябина, бывшего подполковника советской разведки. На обложке честно указано, что она написана со слов Дерябина кем-то другим.
Затем появляется следующий боевик — «Записки Пеньковского», которого расстреляли в СССР за шпионаж. И на обложке сообщается, что вместо Пеньковского эту книжку оформил Дерябин. Тот самый Дерябин, который даже свою собственную книгу написать не мог, теперь бойко пишет вместо трупа Пеньковского. Чудеса!
А я, как идиот, сидел два года и писал свою книгу сам. Да ещё в таких условиях, что когда я закончил свою работу, то был твёрдо уверен, что заработал туберкулёз.
Будучи сыном доктора-гинеколога, я с юношеских лет любил лазить по медицинским книгам отца. Может быть потому, что это были книги по женским болезням со всякими интересными картинками, столь откровенными, что таких сейчас в Америке даже в порнографических журналах не найдёшь.
Потом, насмотревшись этих картинок, я считал себя специалистом и, когда у меня что-нибудь болело, любил ставить себе диагноз.
Так и теперь, пойдя на медицинский осмотр, я авторитетно заявил, что у меня должен быть туберкулёз. Но доктор покачал головой и сказал, что я здоров как бык. Сначала я очень удивился. Потом я с благодарностью вспомнил своего отца: видно, он недаром был доктором-гинекологом, сделал меня по всем правилам науки и техники.
В 1950 году маятник американской политики качнулся в другую сторону. Из одной крайности в другую. На смену эре Рузвельта пришла эра Мак-Карти. В Америке один за другим шли процессы атомных шпионов. Из Госдепартамента сотнями гнали педерастов.
Из правительственных учреждений убирали коммунистических попутчиков. Американская пресса кричала об охоте на ведьм. А в немецких газетах писали, что американский консул в Штутгарте, мой приятель, ото всего этого так разволновался, что умер от разрыва сердца.
Одновременно на советском фронте американцы начали то, что называется психологической войной. В Мюнхене появился Гарвардский проект, занимавшийся всякими психологическими исследованиями, потом радио «Голос Америки», радио «Свобода» и некий Американский Комитет, который так часто менял свое название, что я даже и не знаю, как он сейчас называется.
Все воробушки на крышах Мюнхена чирикали, что за всем этим стоит американская разведка CIA. Потом это довольно ясно подтвердила и сама американская пресса. Американский персонал этого комплекса псих-войны, как ни странно, состоял в основном из чиновников, которых почему-то повыгоняли из Госдепартамента, и которых почему-то подобрало под свои крылышки CIA.
Тогда же в Мюнхене было создано Центральное Объединение Послевоенных Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), которое объединяло всех «новейших», и я стал его председателем. Для психологической войны были нужны «новейшие». Но, благодаря деятельности «Камп-Кинга», поток «новейших» почти совершенно прекратился. Чтобы понять, почему это получилось, я и описал так подробно мои собственные похождения в этом «Камп-Кинге».
Однажды у меня на квартире появился полный щеголеватый джентльмен в светлом тропическом костюме и в пёстрых ботиночках, как у итальянского жиголо. Джентльмен представился, что он тот самый протестантский пастор, которого когда-то чуть не съели людоеды, и который имел удовольствие познакомиться со мною в «Камп-Кинге».
Глядя на замаскированного пастора, я подумал: «А в какой разведке ты, дядя, сейчас работаешь?» Заметив мою кислую физиономию, пастор поспешно уведомил меня, что по поводу «Камп-Кинга» было назначено специальное правительственное следствие, но когда приехала следственная комиссия, то все документы о деятельности этого лагеря оказались предусмотрительно сожжены.
Теперь эта комиссия пытается косвенным путем восстановить то, что там происходило. А поскольку я являюсь председателем организации, представляющей всех советских граждан, бежавших на Запад после войны и, следовательно, прошедших демократическое перевоспитание в «Камп-Кинге», то затем пастор ко мне и пришел.
Ну вот, например, маленькая иллюстрация. Один советский педераст громко жаловался, что когда он бежал, то спрятал себе в задницу несколько бриллиантов, но джентльмены из «Камп-Кинга» их даже там нашли и украли. Потом этот Остап Бендер № 2 работал радио-полковником на радио «Свобода». И по сей день работает — вот уже 20 лет.
Добавлю ещё несколько деталей из моего собственного опыта. Помимо советских документов и немецких марок, о которых я уже упоминал, джентльмены из «Камп-Кинга» украли у меня следующие мелочи:
1. При демобилизации из армии я получил за выслугу лет 5000 рублей. А обменять их на марки у меня уже не было времени. Американцы прикарманили и эти 5000 рублей. Новенькие, хрустящие, прямо из Госбанка. Зачем они понадобились американским разведчикам? Как сувениры? Или для шпионажа?
2. Будучи ведущим инженером, я имел право ходить и в военной форме, и в гражданском костюме. Ну и купил я себе золотую с жемчужиной булавку для галстука. Американцы и эту булавку украли. Видимо, чтобы отучить меня от буржуазных замашек.
3. Купил я у немцев на чёрном рынке американскую самопишущую ручку «Паркер». В «Камп-Кинге» у меня её стащили американцы.
4. Ну и был у меня ещё дешёвый портсигар из желтого металла и черной эмали. Американцы, видимо, приняли его за золотой и тоже прикарманили.
Мне-то на все эти мелочи наплевать. Но если уж рассказывают анекдоты, как русские воровали у немцев часы, то почему не рассказать, как американцы воровали у русских. А некоторым, как, например, Остапу Бендеру № 2, даже в зад заглядывали.
Всё это происходило под развевающимся по ветру флагом Соединенных Штатов. И, чтобы люди не ошибались, где они находятся, по громкоговорителям играли американский национальный гимн.
Теперь же «Голос Америки» и радио «Свобода» выбрасывали на воздух миллионы долларов, пытаясь побудить советских солдат и офицеров, стационированных в Восточной Германии, избирать американскую свободу. Разведке требовались языки, но перебежчиков не было.
Советская пропаганда полностью использовала деятельность «Камп-Кинга». В советских войсках постоянно зачитывали приказы о расстреле советских солдат и офицеров, которые бежали к американцам — и были выданы назад. Конечно, это отбивало охоту избирать свободу в таких условиях.
Но американцы — народ практичный. Чтобы повысить приток перебежчиков, американская разведка в порядке психологической войны создала в Берлине специальный батальон из проституток, чтобы переманивать на Запад советских офицеров.
Дело поставили на широкую ногу и проституткам платили по твёрдому прейскуранту: за лейтенанта 20 000 марок, за капитана — 25 000, а за майора и все 30 000 марок. Причем не оккупационных и инфляционных, а новых и твёрдых марок.
Я сел и быстренько подвёл баланс. Когда-то бравые американские разведчики обокрали меня на сумму что-то около 100 долларов. И в результате этого теперь за такого человека проституткам платят 7500 долларов!? Так американские налогоплательщики расплачиваются теперь за мелких воришек из «Камп-Кинга».
Затем в порядке психологической войны на помощь проституткам женского пола добавили ещё батальон проституток мужского пола, то есть из немецких педерастов, которые вынюхивали себе подобных среди советских солдат и офицеров — и переманивали их на Запад.
Конечно, все эти спецпроекты психологической войны были настолько засекречены, что о них не знал даже я, председатель ЦОПЭ. Но так как потом эти люди попадали ко мне, то я видел результаты. Всё это можно понять, только оглядываясь назад.
А результаты были таковы. Шутки с любовью кончались плохо. Люди, которых переманивали на Запад при помощи проституток, женщин или мужчин, вскоре догадывались, что их обманули, чувствовали себя как рыба, выброшенная на песок, спивались, опускались на социальное дно и, в конечном результате, как последняя форма бессильного протеста, уходили назад в СССР — на верный расстрел.
Когда они приходили, о них до небес кричали «Голос Америки» и радио «Свобода», что они «избрали свободу». Когда они уходили назад — гробовое молчание. Как в хорошем похоронном бюро. Или, чтобы замести следы, распустят грязный слушок. Свобода обернулась для них крыльями холопа, который взлетает на искусственных крыльях — и падаёт.
Итак, если раньше американская разведка обворовывала советских перебежчиков и отправляла их назад — на расстрел, то теперь они уходили на расстрел сами. Уходя, они открыто говорили:
— Американцы? Да они же все проститутки. Пусть нас лучше свои расстреляют!
Тем временем мой «Берлинский Кремль» вышел в переводе на немецкий язык. Однажды я получил от одного из читателей письмо на 12-ти страницах. Это был немецкий полковник, кавалер рыцарского железного креста, высшей награды немецкой армии.
Полковник потерял ногу на русском фронте и провел 7 лет в советском плену. Теперь, вернувшись в Германию и прочитав мой «Кремль», он хотел пожать мне руку за эту книгу — как офицер офицеру.
Немецкий полковник привез с собой из русского плена самодельную деревянную ложку, которую ему подарили его русские друзья по концлагерю, и простую русскую икону, которую ему подарила советская колхозница. Теперь этот человек понимал проблемы коммунизма и русского народа гораздо лучше, чем большинство западных экспертов по советским делам.
Как-то я получил письмо такого содержания:
«Дорогой герр Климов!
В дни победы и поражения Вы, победитель, нашли в Вашем „Берлинском Кремле“ слова сочувствия и добра для нас, женщин и детей побеждённой Германии. В благодарность посылаю Вам этот медальон, который освящён, и пусть он хранит Вас.
Эдит Нейгебауер».
К письму был приложен католический медальон с изображением Мадонны и с цепочкой, чтобы носить его на шее.
Через несколько месяцев я поехал на машине в длинную служебную командировку. По пути произошла авария. Шофёр был убит на месте. А я, хотя и сидел рядом с шофёром, на месте смертников, но остался жив.
Когда я очнулся в госпитале, то увидел, что на груди у меня висит этот медальон. Никогда, ни до, ни после, я этого медальона не надевал. А в эту поездку почему-то надел. Хотя я человек и не суеверный, но…
Вообще, с немцами у меня всё шло очень гладко. Я даже без особого труда прошел процедуру денацификации, которую проходили все жители Германии, чтобы выловить всех бывших нацистов, гестаповцев, эсэсовцев и так далее. В анкете я просто написал, что в то время я служил в Красной Армии и получил официальное удостоверение о денацификации. Со всеми штемпелями, подписями и печатями.
Однако, несмотря на удостоверение о денацификации, мне опять отказали в эмиграции в Америку. И даже, несмотря на то, что я был начальником ЦОПЭ, о котором все воробушки на крышах Мюнхена чирикали, что это спецпроект американской разведки Си-Ай-Эй.
«Видимо, воришки из Камп-Кинга дали обо мне плохую рекомендацию, — думал я. — А у Си-Ай-Эй работа такая секретная, что они сами не знают, что они делают».
Постепенно психологическая война вступила в 3-ю фазу. Эта 3-я фаза базировалась в основном на так называемом Гарвардском проекте, который производился в Мюнхене в 1949–50 годах, и где я тоже немножко работал. Этот Гарвардский проект базировался в основном на таинственном «комплексе Ленина», то есть, как объясняли позже специалисты, на комплексе латентной гомосексуальности Ленина.
Что это такое? Объяснить это довольно трудно. Но в принципе, с клинической точки зрения, это вырождение или дегенерация, которая складывается из психических болезней и половых извращений.
Это трупный яд рода человеческого, который погубил античную Грецию, древний Рим, и который очень способствовал революции в России. Так что лекарство это довольно сильное. А с точки зрения религии это то самое, что в Библии называется дьяволом и князем мира сего.
Ведь русские эмигранты давно твердят: «Против большевиков — хоть с дьяволом!». Ну вот, практичные американцы и взяли себе в союзники этого самого дьявола.
Конечно, столь необычный союз был так тщательно засекречен, что об этом не знал даже председатель ЦОПЭ. Всё это можно понять, только оглядываясь назад.
Хотя тогда я ещё не знал всех секретиков Гарвардского проекта, но зато об этом с самого начала прекрасно знала советская разведка. И принимала свои меры. Так что, нет никаких оснований молчать об этом. Зачем ложный стыд?
Вполне естественно, что для столь специфической задачи, как союз с дьяволом, нужен соответствующий персонал. Ну вот, например, был у меня в ЦОПЭ очень милый комиссар из Си-Ай-Эй, настоящий чародей. Но потом выяснилось, что вместо своей жены этот комиссар предпочитает своего секретаря.
Знаете, некоторые используют свою секретаршу, а некоторые предпочитают секретаря. Говорят, что от этого-то секрета и произошло слово секретарь. А с точки зрения Гарвардского проекта это одна из разновидностей «комплекса Ленина».
Или вот ещё пример. Ухаживал я за одной очаровательной барышней из «Голоса Америки». Но потом оказалось, что эта милая барышня ухаживает за своими подругами, что она, извините за выражение, лесбиянка. Да, кроме того, ещё и садистка, какие в своё время работали в Чека, и которых в доброе старое время просто жгли на кострах, называя их ведьмами. А с точки зрения гарвардских профессоров — это комплекс жены Ленина.
Конечно, я не могу сказать, что все работники Американского Комитета, радио «Свобода», «Голоса Америки» и прочих смежных органов псих-войны были вооружены этим комплексом Ленина. Но я могу гарантировать, что почти все, кого я там знал, имели этот орден Ленина. А знал я там многих.
Гарвардский проект был своего рода инсценировкой «Бесов» Достоевского в постановке американской разведки. Таким образом, я работал в окружении дегенератов и выродков, половина которых по статистике душевнобольные.
Потому во время Великой Чистки 30-х годов Сталин уничтожал подобных ленинцев, называя их бешеными собаками, Гитлер гнал их в газовые камеры и концлагеря, а в доброе старое время их жгли на кострах, называя их ведьмами и колдунами. Чтобы никому не было обидно, можно добавить, что Сталин и Гитлер сами были точно такими же дегенератами.
В общем, в таком окружении работа у меня была весёленькая и скучать мне не приходилось.
Некоторые называли Американский Комитет «Комитетом спасения России от большевиков — при помощи троцкистов и меньшевиков»! Почему?
Да очень просто. Ведь первый постулат марксизма — это единство и борьба противоположностей. Вот хитроумные американцы и решили сделать большевикам прививку против бешенства, составленную из ядовитой слюны троцкистов, меньшевиков и эсеров.
Но штука эта чрезвычайно запутанная. Например, для этого нужно знать философию чёртоискателя Бердяева, который проповедовал союз сатаны и антихриста и в результате царство князя мира сего. А если я объясню это, то поднимется такой вой, словно наступили на хвост и сатане и антихристу.
Что же представляют из себя «бесы» Гарвардского проекта на практике? С точки зрения социологии это «орден Ленина». С точки зрения психологии — это фрейдистский «ротовой эротизм». А с точки зрения русского языка это не люди, а непечатные ругательства.
Эти «орденоносцы» делают буквально то, что говорится в, казалось бы, бессмысленных непечатных ругательствах. Эта тайна создаёт из них своего рода тайную партию, имя которой легион, что в Библии называется князем мира сего. А за всем этим притаились «бесы», то есть душевные болезни.
Задачей этих бесов было мутить по радио или через печать таких же бесов в Советском Союзе — или переманивать их на Запад. Сначала это делали при помощи немецких проституток обоего пола. А потом пустили в ход радио-проституток.
Поскольку эти «избравшие свободу» потом попадали ко мне в ЦОПЭ, то я видел результаты всего этого. Если раньше американская разведка обворовывала советских перебежчиков и отправляла их назад на расстрел, то теперь они уходили на расстрел сами.
Другие кончали жизнь самоубийством. Третьи попадали в психиатрические клиники или в изоляторы для алкоголиков. А ещё несколько человек, молоденькие советские солдаты, потрясённые всем этим, ушли в монастырь.
И для этих людей свобода обернулась крыльями холопа, который пытается взлететь на искусственных крыльях — и падает.
Постепенно психологическая война всё больше превращалась в войну психов. И на месте председателя ЦОПЭ должен был бы сидеть врач-психиатр. Но поскольку я не был ни психом, ни психиатром, и поскольку комплекса Ленина у меня не было, то в 1955 году я просто умыл руки и уехал в Америку.
Поскольку я был председателем ЦОПЭ, лицом, так сказать, выборным, то по демократическим правилам мне полагается отчитаться перед моими избирателями. Ну, вот я и отчитываюсь.
Оглядываясь назад, победные реляции радио «Голос Америки» и «Свобода», где сообщалось о «избравших свободу», теперь выглядят как реклама похоронного бюро. Откровенно говоря, если советский комитет «За возвращение на родину» называли комитетом-ловушкой, то не меньшей ловушкой является и Американский Комитет со своим радио «Свобода».
Это свобода не простая, а специальная, построенная по рецептам чёртоискателя Бердяева, где, как в 69, переплелись доброе зло и злое добро, и где ничто ничтожит. Потому некоторые специалисты и говорят, что это 69 способов быть несчастным.
Некоторым торговцам человеческими душами это может не понравиться. Но я скажу одно: мне душа здоровая ближе, чем душа больная. И мне душа живая дороже, чем душа мёртвая. А вы торгуете душами больными или мёртвыми.
Таковы результаты американской псих-войны на русском фронте с 1945 по 1955 годы. В связи с этим уместно напомнить о прекрасной книге Ариадны Делианич «Вольфсберг-373»[31], где описывается, как после капитуляции Германии английская разведка фильтровала русских антикоммунистов. Здесь напрашивается много параллелей. И там, и там результаты довольно печальные.
Кстати, 3-я фаза псих-войны, которую я описал выше, продолжается и по сей день. Американцы всеми методами псих-войны, через радио и печать, подбивают советских психов с «орденом Ленина» на бунт.
А советское КГБ, прекрасно зная все тайны и тайнишки Гарвардского проекта, преспокойно сажает этих «ленинцев» в психбольницы, которые сами психи довольно остроумно окрестили «дурдомами».
На профессиональном жаргоне КГБ, в полном соответствии с Гарвардским проектом, этих психов классифицируют по Фрейду так: типа ХС, типа ПЛ, типа ВРЕ, типа ГЕ и так далее.
Эти новые советские сокращения — просто сокращённые непечатные ругательства. Сидят эти жертвы американской псих-войны в «дурдомах» и распевают армянские частушки:
Эх, политика-малытика… Гдэ же ты мой болная голава?!А западные дегенераты, тоже типа ХС, ПЛ или ВРЕ, имя которым легион, прекрасно знают, что в «дурдома» сажают их собратьев — и визжат об этом до самых небес. Вот вам и квинтэссенция псих-войны за последние двадцать лет.
Потому философы и говорят, что дьявол опасен только тогда, когда вы его не видите. А когда вы его увидите, он становится смешным и жалким. И ещё философы говорят, что дьявол — плохой союзник.
Кормит этих психов американская разведка, а доит их советская разведка. А когда нужно, их прихлопнут, как синих мух Тарсиса. Синие мухи — трупные мухи. И они разносят трупный яд.
Кстати, пока начальник американской разведки Аллен Даллес сидел и командовал псих-войной, его сын в это время сидел в сумасшедшем доме.
В Главной Квартире Центральной разведки США около Вашингтона на фасаде стоит библейское изречение:
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
(Иоанн. 8:32)
В Библии этим подразумевается вовсе не американская свобода, а свобода от греха. Хорошо, вот я и скажу вам одну из таких безгрешных истин:
Откровенно говоря, если бы Император Николай ІІ в свое время делал то, что сегодня делает КГБ, то есть сажал бы Лениных, Керенских, Троцких и им подобных в «дурдома», то не было бы в России ни революции, ни советской власти. Тогда и Америке было бы спокойнее. Но тогда Америка делала то же самое, что она делает теперь.
Говоря о пациентах советских «дурдомов», в большинстве случаев вы увидите то самое, что философ-чёртоискатель Бердяев окрестил союзом сатаны и антихриста, который обещает царство князя мира сего. Надо признать, что старый чёртоискатель Бердяев был вовсе не дурак.
И гарвардские профессора со своим «комплексом Ленина» тоже не дураки. И советская тайная полиция со своими «дурдомами» тоже не дура. В дураках остаются только те люди, которые не знают всего этого. Но попробуйте сказать это…
Говорят, что голая правда иногда нелицеприятна. Как, например, голые бесы псих-войны. Но ещё говорят, что не в силе Бог, а в правде.
Нью-Йорк.
20 декабря 1971 г.
Примечания
1
Coup de grâce (франц.) — «Удар милости» — смертельный удар, наносимый поверженному противнику, чтобы избавить его от мучений.
(обратно)2
Gutta cavat lapidem (лат.) — Капля долбит камень.
(обратно)3
Здесь речь идёт о двух различных провинциях — Федеральной Земле Саксония с центром в Дрездене и Провинция Саксония с центром в Галле. — Авт.
(обратно)4
Веддинг — прославленные трущобы Берлина, бедный северный район. — Авт.
(обратно)5
«Ну, господин инженер, что у вас есть?» (нем).
(обратно)6
«Хорошо! Что у вас есть?» (нем).
(обратно)7
«Ну что ж! Я не сомневаюсь». (нем).
(обратно)8
«Что у вас есть?» (нем).
(обратно)9
«Государственные предприятия». (нем).
(обратно)10
Мастерский удар в бильярде. — Авт.
(обратно)11
Санитарная обработка (жаргон). — Авт.
(обратно)12
«Вот как германия заканчивается». (нем).
(обратно)13
«Приказ есть приказ». (нем).
(обратно)14
Типы советских истребителей. — Авт.
(обратно)15
Внимание! Стекло! (нем).
(обратно)16
«Стойка» — одна из пыток, применяемых МВД. Подследственного ставят лицом к стенке и оставляют в таком положении, пока он не согласится подписать протокол вымышленного обвинения. Если подследственный прислоняется к стене или садится, его безжалостно избивают. После «стойки» подследственный готов подписать любой протокол, даже означающий смертный приговор. Поэтому люди, знакомые со стойкой, предпочитают умышленно вызвать на себя побои и, таким образом, избежать «стойки». Рекорд «стойки» побил бывший член японской секции Коминтерна, арестованный в период «чисток» 1935–1937 г.г. Японец простоял по «стойке» 26 суток, после чего умер в госпитале от паралича сердца. — Авт.
(обратно)17
СТОН — Сибирская Тюрьма Особого Назначения. Место изоляции особо важных политических врагов СССР, приговорённых к пожизненному заключению. Алексеевский равелин сталинской эпохи. — Авт.
(обратно)18
«Пусть все надежды уйдут». (нем).
(обратно)19
Rote Front (нем.)— красный фронт. Интернациональное приветствие: поднятая в полусгибе рука с повёрнутым от себя сжатым кулаком. Жест символизировал единство пролетариата всех стран в борорьбе за победу коммунистической идеи.
(обратно)20
Свету (обществу). (англ.)
(обратно)21
Боже мой! (нем.)
(обратно)22
Таинство Спасителя! (нем.)
(обратно)23
Свинья. (нем.)
(обратно)24
Что это? (нем.)
(обратно)25
К черту! (нем.)
(обратно)26
Очень мучительный метод лечения, имевший место в 19 веке. Применяется в настоящее время в Советской Армии. — Авт.
(обратно)27
Государственные предприятия. (нем.)
(обратно)28
Подполковник Орлов известен тем, что в 1948 году он росчерком пера отменил приговор советского Военного Трибунала по делу пяти берлинских юношей. Эти юноши были приговорены Военным Трибуналом к 25 годам каторжных работ каждый за срыв советского флага на Бранденбургских Воротах во время политической демонстрации. Приговор и его последующая отмена характерны для советской юстиции — сначала дать устрашающий приговор, а затем отменить его, использовав все в пропагандных целях. — Авт.
(обратно)29
Автомобиль здесь! (нем.)
(обратно)30
Да (понятно). (нем.)
(обратно)31
Эту книгу можно выписать из редакций газет «Русская жизнь» и «Россия» или у книготорговцев. — Авт.
(обратно)


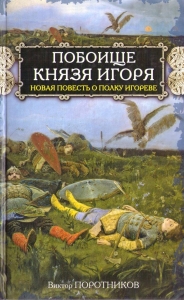



Комментарии к книге «Песнь победителя», Григорий Петрович Климов
Всего 0 комментариев