Всеволод Соловьев Царь-девица
Библиотека проекта Бориса Акунина «История Российского государства» издается с 2014 года
© B. Akunin, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Часть первая
I
Лета тысяча шестьсот восемьдесят второго, Великим постом, в доме суздальского дворянина Перхулова случилось очень странное происшествие, поднявшее на ноги не только перхуловскую дворню, но и всех городских обывателей: сбежала и неведомо куда скрылась семнадцатилетняя девушка, Люба Кадашева, жившая у Перхулова уже три года.
Эта Люба и сама была из дворянского рода, только сирота круглая, и жила она у Перхулова по записи.
Приехал три года тому назад в Суздаль старый перхуловский знакомец, Кузьма Кашников, и стал спрашивать Перхулова, не возьмет-ли он к себе на дом его свояченицу девочку: «у самих-де с женою Марьицей достатки небольшие, своих малолетних детей четверо, так тяжело содержать в доме лишнего человека».
Перхулов согласился, и тут же была составлена такая запись: «Я, Кузьма Кашников, и жена моя отдали: я свою свояченицу, а она свою сестру, – девицу Любу, Ивану Онуфриевичу Перхулову, жить во дворе его до возраста, а как она будет на возрасте и ему дать ей приданого по силе и выдать замуж за вольного человека, или за кого она похочет, а живя, ей слушать и почитать и всякую работу работать домашнюю, вести себя хорошо, а ему ее кормить, одевать и обувать».
Покончив это дело, Кантиков уехал в свою небольшую вотчину, тут же неподалеку, а через неделю вернулся со свояченицей.
Любе тогда было лет около четырнадцати. Перхуловым она понравилась. Только заметили они в ней что-то странное: в ее взгляде не было робости, свойственной ее полу и положению. Глядела она всем прямо в глаза, а при прощании с зятем выказала большую холодность: не плакала и не причитала, не посылала поклонов сестрице своей Марьице, как должна была делать, если и не по чувству, то хотя бы из приличия.
– Плохо, видно, вы с женой ее учили! – заметил Иван Онуфриевич Кашникову и, не получив от него никакого ответа, приказал отвести Любу на женскую половину к своим дочерям, да сейчас же и позабыл о ней думать…
Иван Онуфриевич Перхулов в прежнее время жил в Москве, служил и даже пошел было в гору при дворе великого государя царя Алексея Михайловича. Но нашлись у него враги посильнее его, теснить стали, наговаривать – и нежданно-негаданно пришла царская немилость: велено Перхулову с семейством выехать из Москвы в город Суздаль.
Долго не мог примириться Иван Онуфриевич со своей судьбой, пробовал и то, и другое, и третье, писал челобитные, старался так или иначе зацепить своих лиходеев, да ничего не помогло: в Москве о нем забыли – невелика птица! Поневоле пришлось успокоиться и, оставшись не у дел, заняться домашним обиходом. Да и, наконец, не так уж и велика была царская немилость! Могли ведь всего именьишка лишить, как есть голяком оставить, даже сослать куда-нибудь в глушь, но ничего этого не сделали, все имение оставили при Иване Онуфриевиче, не лишили его ни одной вотчины.
И стал Перхулов строиться в Суздале.
Прошло несколько лет; живет он себе со своей Афимьей Лукьяновной и двумя дочерьми подростками (сыновей у них не было), живет, как дай Бог всякому. Дом и все строения – каких ни у кого нет в Суздале, холопей и дворовых многое множество, соседи, подсуседники, захребетники. Разного продовольствия из ближних и дальних вотчин привозится в изобилии. От суздальских людей всякого чина и звания Ивану Онуфриевичу большое почтение. Да и стоит он этого почтения: держит себя и дом свой в благолепии и строгости, никаким худым делом не занимается, радеет о церкви, никогда-то не поленится – ни одной службы не пропустит, всячески ласкает духовенство и любит беседы с отцами духовными, а отцы духовные на его мудрость книжную не нахвалятся.
Да, справедливый человек Иван Онуфриевич, к тому же и добрый хозяин в своем доме – ведет его по Домострою. С женой живет дружно. Афимья Лукьяновна тоже хозяйка добрая, умеет ценить и почитать мужа, а провинится в чем против его воли, так разве что ненароком, и тотчас же сама придет, поклонится ему в ноги: «Так, мол, и так, государь мой, батюшка Иван Онуфриевич, согрешила я перед тобою, поучи меня за это».
И тут же плетку подаст ему.
Иван Онуфриевич плетку возьмет, стегнет разок-другой ради порядку, да потом и облобызает троекратно Афимью Лукьяновну. «Так-то вот, жена, вперед смотри – не оплошай, не то и впрямь поучу хорошенько; на сей раз, Бог с тобой, прощаю!»
Хозяйство Афимья Лукьяновна вела рачительно; многочисленную свою прислугу женскую держала в повиновении, не утруждала мужа напрасными жалобами и доводила до его сведения о беспорядках только тогда, когда случалось что-нибудь уж очень неладное.
И все в доме было тихо да гладко. За семь лет жизни Перхуловых в Суздале не произошло у них ничего дурного. Раз только стряслась было беда. Один из холопей больно что-то провинился перед Иваном Онуфриевичем, и тот, не сдержав своего сердца, чересчур поучил его: вопреки Домострою поучил и в ухо, и в видение, и в голову, и куда попало.
Холоп, несмотря на страшные побои, весь в крови выбежал за ворота и начал кричать таким отчаянным голосом, что сбежалось немало народу. А он все кричал, всем показывал свой вытекший глаз и разбитую голову, все что-то грозился и поносил своего господина, пока, наконец, кровь не хлынула у него из горла и он не упал.
Люди Ивана Онуфриевича подобрали его и сволокли назад в избу. Говорили в городе, что на другой день этот холоп помер, но, конечно, никому в голову не могло прийти очень осуждать Ивана Онуфриевича и изменять о нем доброе мнение. Правда, не след было человека живота лишить, да ведь сотворилось все это ненароком, и такое дело со всяким может случиться…
II
Доля девочки-сиротки, Любы Кадашевой, попавшей в дом Перхулова, с детства была незавидная. Почти первым ее детским впечатлением был ужас.
Ей не минуло еще и десяти лет, как над семейством Кадашевых стряслось страшное несчастье. Жили они в своей вотчине, никому не мешали. Отец был человек смирный, безобидный; не поладил он только с приказчиком соседнего большого имения, принадлежавшего боярину Окуневу.
Приказчик то и дело чинил Кадашеву всякие обиды, в раззор разорял его. Кадашев терпел, терпел да и послал, наконец, жалобу боярину Онуневу.
Жалоба до боярина не дошла – приказчик как-то о ней проведал, захватил кадашевского посланца и освирепел. Собрал он людей немало, чуть не целую сотню, да пьяный и нагрянул к Кадашеву. В усадьбе поднялся вопль: женщины бегали, кричали, как полоумные, а пьяный приказчик со своими людьми разогнал всю мужскую прислугу, разбил дом, поломал все, что попадалось под руку, забрал ценные пожитки.
Не стерпел Кадашев – кинулся с десятком верных холопей на своего душегубца.
Поднялась драка. Окуневские люди были вооружены разным дреколием и топорами, да и пьяны к тому же: рассекли они Кадашеву голову, так что тот упал замертво, да заодно уж и жену его уложили.
Старая нянька спряталась с маленькой Любой в подвале в пустой бочке – тем только и спаслись.
Потом, как разбойники, вконец разорив усадьбу и оставив в ней несколько трупов, убрались восвояси, нянька доставила Любу к замужней сестре ее, Марьице Кашниковой.
Марьица поплакала, погоревала, сестренку оставила у себя, а муж ее, обсудив дело, решил, что с честью нужно похоронить родителей, а дело с окуневским приказчиком и заводить нечего – не им, Кашниковым, его осилить: боярин приказчика не выдаст. Не впервой ведь такое дело делается. Дай Бог только вотчину получить кадашевскую.
Кашников со всякою опаскою похоронил убитых и радовался, что не встретилось никакого затруднения в получении разоренного имения. Он был небогат, и новый доход был ему на руку. О свояченице, конечно, он не подумал, да и Марьица не много внимания на сестру обращала.
Сначала Кашниковы ждали, что умрет девочка – так она была напутана, с полгода дрожью дрожала, припадки с ней были странные, но здоровая натура взяла свое: Люба поправилась, только не на веселое житье, не на радость. Старая любимая нянька, единственное существо к ней ласковое, скоро отдала Богу душу.
Сестра Марьица заботилась только о своих детях, да и Любу заставляла их няньчить и строго взыскивала за нерадение.
Одно только путное, что вынесла девочка из кашниковского дома, это знание грамоты; Кузьма Кашников в свободное время, от нечего делать и видя необыкновенную понятливость свояченицы, обучал ее чтению, хотя Марьица и восстала на эту прихоть мужа: сама она, как и все почти женщины того времени, была безграмотна…
Люба вышла девочка смышленая, но какая-то дикая; она рано привыкла уходить в себя, беседовать с собою. Ее память удерживала все, все разговоры, которые она слышала. Ее природная любознательность не проходила равнодушно мимо явлений, вокруг нее совершавшихся.
После трудного, часто обидного для нее дня, в тихий вечерний час, когда ей, наконец, возможно было улечься на холодной и неряшливо устроенной постели, она долго не засыпала, все думала да передумывала, разбирала своим детским разумом то одно, то другое.
Кашников удивлялся ее понятливости, но он и вообразить себе не мог, как много она уже знала, несмотря на свой возраст.
Она отлично понимала, что отец и мать ее невинно убиты и что их убийцы остались безнаказанными. Она знала, что их родовое имение перешло в собственность Кашникова и ее сестры, а она, Люба, ничего из него не видит и, конечно, у нее ничего нету, так как сестра и зять не раз уже попрекали ее тем, что ее даром поят и кормят, не раз уже толковали между собою о том, что нужно бы от нее избавиться, отдать ее в чужие люди.
– Как же это так? – рассуждала сама с собою сиротка. – Как же это? Ведь Марьица сестра мне, я была такая же, как и она, дочь у отца с матерью, все, что у них было, – ее и мое, а у меня, выходит, ничего нет – что же это значит?
Но не одни подобные вопросы занимали ее; многое, многое казалось ей непонятным и странным. Почему Кашников все может, сестрица Марьица может гораздо меньше, а она, Люба, ничего не может? Почему, когда приезжают к хозяину гости, Марьица и все женщины сейчас же убегают и запираются в своих покоях? Почему им зазорно попадаться на глаза мужчин?
Чем больше вырастала и развивалась Люба, тем эти вопросы становились все навязчивее и навязчивее. Она даже попробовала было расспросить кое о чем Марьицу, но та, как услышала, выкатила на нее глаза, долго не понимала, что это она такое спрашивает, а когда поняла, только всего и ответила, что назвала ее дурой.
У Кашникова же Люба ничего и не спрашивала. Она знала, что вместо всякого ответа получит колотушку – зять ее был тяжел на руку и никому не давал спуску, особенно бабам. Марьица частенько ходила с «фонарями» то под одним, то под другим глазом.
К Перхуловым Люба переселилась, не решив ни одного из своих вопросов и только окончательно убедившись, что во всем Божьем мире нет у нее близкого человека, нет даже сродников, потому что Кашников да Марьица – что это за сродники, если ее, свою близкую и родную, как щенка негодного, из дома вышвырнули? Положим, прощаясь с нею, Марьица плакала и причитала, повисла у нее на шее и ныла: «На кого ты нас покидаешь, золотая сестрица Любушка!» Но ведь не далее как накануне Люба своими ушами слышала, как Кашников с женою толковали и радовались своему избавлению от лишнего рта в доме.
Любина жизнь у Перхуловых, конечно, не могла весело настроить ее мысли: здесь ей было еще хуже, чем у сестры. Здесь она уже окончательно превратилась в холопку. Здесь еще более разных новых, мучительных и неразрешимых вопросов приходило ей в голову. То, что видела она в маленькой усадьбе зятя, то еще ярче било в глаза в большом богатом перхуловском доме. Замкнутость и уединенность женской жизни продолжали смущать Любу.
Сгорая желанием узнать все, что делается на свете, так или иначе решать всякие вопросы, Люба нередко подсматривала и подслушивала на мужской половине. Бывало у Перхулова соберутся гости, пойдет угощение да бражничанье. Люба заберется в темный уголок, где трудно отыскать ее и откуда она может все слышать. И жадно, чутко она слушает, очень многого не понимает, но все же слушает. Часто говорят что-то чудное, поминают Москву, царя.
Тут перед Любой является длинная вереница всевозможных картин, представлений. Иногда из какой-нибудь одной фразы для Любы нарисуется нечто большое, цельное и фантастическое.
Часто прислушиваясь к беседам на мужской половине, Люба кончила тем, что представила себе, совершенно по-своему, но в то же время определенно и ясно, волшебную жизнь, которая идет там, в Москве, в царских палатах. И она полюбила эту жизнь, она о ней грезила.
Пробовала она иногда заговорить про свои грезы с боярынями Лизаветой и Домной, но те не находили во всем этом ничего интересного.
Они с утра до вечера заботились только о том, как бы побольше поспать, плотнее поесть, получше разрядиться и расписать свое лицо.
Домна Ивановна была худа от природы, и мать нередко говаривала ей, что если она не поправится, не потолстеет, так будущий муж любить ее не будет. От таких слов Домна Ивановна часто по целым часам плакала и наконец решилась потолстеть во что бы то ни стало. Для этого, конечно, было одно только средство – побольше есть и побольше спать. И семнадцатилетняя девушка только и делала, что валялась на пуховой постели да ела пироги и всякую всячину.
Идеал женской красоты того времени заключался в том, чтобы не походить на себя, чтобы не оставить в лице своем ничего природного и естественного. В песне, в старой русской песне, пелось про красную девицу, что у нее было:
Белое лицо, как бы белой снег, Ягодицы (на щеках), как бы маков цвет, Черные брови, как соболи, Будто колесом брови проведены, Ясные очи, как бы у сокола… Она ростом-то высокая, У ней кровь-то в лице, словно белого зайца, А и ручки беленьки, пальчики тоненьки… Ходит она, словно лебедушка, Глазом глянет, словно ясный день…И вот каждая женщина желала быть такою, какова героиня песни. Для этого на все лицо накладывали белила, середину щеки красили в яркую краску, брови колесом выводили сажею, а в глаза, для пущего блеска, впускали тоже особенную краску. Красили в черный цвет и зубы, для того чтоб ярче выделялась белизна лица. И все это делалось без малейшего искусства, так что женщина выходила после своей косметической работы совсем не живым существом, а какою-то плохо размалеванной куклой; зато издали, в полусвете, всякая дурнушка казалась красавицей: черты лица сливались, неправильности их исчезали, оставалась только яркость сочетания черной, белой и красной красок да фосфорический странный блеск глаз.
Дочери Перхулова, Лизавета Ивановна да Домна Ивановна, обе почти сверстницы Любы, взяли ее к себе и делали большое различие между нею и своими холопками: не давали ей черной работы.
Вся ее обязанность заключалась в том, чтобы быть их подружкою, убирать им головы, белить их да румянить, сурьмить брови, петь вместе песни разные, забавлять их чем умеет.
Конечно, на долю Любы доставались иной раз щипки и колотушки, на которые она должна была отвечать только почтительным молчанием. Но ведь как же иначе и могло быть? Все же она не боярышня, а человек подначальный.
Первые годы и жила себе Люба – не жаловалась, исполняла все, что приказывали: разрисовывала своих молодых госпож, как только умела; пела, пока в горле не пересыхало; на щипки и колотушки отмалчивалась; только иногда в темном своему углу позволяла себе поплакать. Но к концу второго года что-то странное сотворилось с Любой, будто бес засел в нее – больно много стала она давать себе воли.
Перхуловские боярышни, почитай, каждый день, приходили на нее жаловаться матери: то не исполнит их приказу, то грубо ответит, на брань сама бранится, на щипки отщипывается. И не совладать с ней боярышням – в два года переросла она их чуть не головою. Высокая, статная да крепкая; лицо – кровь с молоком; брови черные, глаза с поволокою; ни белил, ни румян, ни сурьмы не нужно. А сила в полных белых руках такая, что хоть с мужчиной побороться.
Афимья Лукьяновна сначала мало обращала внимания на дочерние жалобы, но наконец и сама убедилась, что Любашка ведет себя ни с чем несообразно. Раз, другой покричала на нее, ногой потопала, выговорила ей как следовало: «Что ты, мол, такая-сякая, нос свой выше головы задираешь, – помни, матушка, кто ты и кто мы! Ты сирота нищая – не возьми мы тебя, осталась бы совсем без пристанища. Поим, мол, кормим, да и ешь-то ты за двоих – так ты все это должна помнить и ценить и всякое послушание своим госпожам оказывать».
Люба слушала молча, только глаза свои заплаканные длинным рукавом утирала.
Афимья Лукьяновна подумала, что вразумила девку и теперь она за ум возьмется. Но не тут-то было!
Не прошло и недели, как новые жалобны на Любу.
Афимья Лукьяновна взяла свою хозяйскую плетку и собиралась изрядно постегать неразумную девку. Да как взглянула в лицо Любы, так и отшатнулась – страшна она вдруг ей показалась.
Люба не плакала, а стояла вся бледная, куда и румянец девался, стояла с дрожащими губами; глаза ее черные, что уголья, горели. Вот-вот она сейчас кинется в ноги Афимье Лукьяновне, начнет целовать ее руки, подол ее платья, умолять, чтобы та смилостивилась, не казнила. Только нет – Люба не кинулась в ноги, а тихо выговорила: «Бить меня хочешь… не бей… не бей – хуже будет!»
И ничего она не прибавила, но и в этих немногих словах ее Афимье Лукьяновне послышалось что-то такое страшное, такое особенное, в чем она не могла себе дать даже отчета, что она, ни слова не сказав Любе и не тронув ее пальцем, ушла и повесила плетку на гвоздик, на обычное место.
С этого самого дня почти полгода Люба была тише воды, ниже травы, все исполняла, что ей приказывали: опять убирала и рядила молодых госпож своих, опять пела им песни, на брань и щипки молчала – только уж никто в доме не слыхал ее смеха, не видал ее улыбки: каменная какая-то сделалась, скучная, так что и на других даже тоску наводила.
Лизавета и Домна Ивановны окончательно ее возненавидели – она их всячески потешать должна, а от нее и слова не добьешься, иной раз просто жутко с нею; стали они от нее отстраняться, приблизили к себе других девушек дворовых, а на Любу навалили работы всякой: шитья и вязанья.
III
Единственная радость, оставшаяся Любе, была опять-таки подслушивание разговоров на мужской половине, разговоров о том волшебном, чудном мире, который назывался Москвою и двором царским и который она так давно полюбила.
Теперь уже многое, прежде непонятное для нее в этих разговорах, становилось понятным – она уже не смущалась перед многими словами, а разговоры в последнее время действительно становились интересными.
Сначала весь дом, даже женскую половину, облетела весть, что скончался царь Алексей Михайлович. Затем стали много говорить о всяких новых порядках, об уничтожении местничества, и старики качали толовами, не одобряли новшеств, находили, что все вверх дном начинает перевертываться в земле Русской, что не к добру это – видно, скоро светопреставление, видно, антихрист нарождается.
Но в особенности один разговор необычайно поразил Любу и поднял в ней целую бурю новых ощущений. Говорилось про одну из царевен, про Софью Алексеевну. Очень недружелюбно относились к ней перхуловские гости. Толковали они о том, что покойный царь совсем распустил семью свою, дочерей-царевен, видно, не держал в страхе Божием, и вот теперь худые дела оказываются. Вишь, царевна Софья, забыв стыд девичий, показывается перед всеми мужчинами, вступает с ними в разговоры, одним словом, ведет себя не как особа женского пола, а как мужчина.
И нельзя было никак сомневаться в этих известиях, так как передавал их думный дьяк, приехавший из Москвы и постоянно во дворец вхожий. Немало представил он примеров «стыдных поступков» царевны Софьи. С ним самим она не раз вступала в беседу и толковала о разных предметах, даже о делах государственных.
– Великого ума царевна! – закончил дьяк. – Об этом и толковать нечего, только зачем ей ум? Не женское это дело. Женский ум в скромности да в послушании…
Люба из своего темного уголка напрягала весь слух, чтобы не проронить ни одного слова.
Вся она дрожала, грудь высоко поднималась, на щеках загорался горячий румянец.
Всю эту ночь прометалась она на своей постели: все ей грезилась чудная царевна, осмелившаяся выйти из женского терема, осмелившаяся толковать с боярами и думными дьяками. И всем своим молодым, горячим сердцем полюбила заочно эту царевну Люба. Она почуяла в ней родство с собою, она поняла, что не одна она на свете такая чудная, такой выродок, как ее называли; что там, в волшебном мире, живет родная ей душа, которую тоже называют выродком.
Ее, бедную Любу, часто попрекают и бранят бесстыдницей; вот не далее как вчера надсмотрщица за работами ворчала на нее. «Глаза твои бесстыжие, – говорила она, – и где ты такая уродилася? Тебе рыскать простоволосой к мужикам да калякать с ними все равно, что воды выпить. Тьфу ты, окаянная!»
И сказала злая баба при этом такое слово, которое и в мыслях-то повторить совестно.
Несколько дней словно лихорадка била Любу, и все росла и росла в ней любовь к далекой царевне.
«Царь-девица! Царь-девица!» – шептала она, вспоминая чудную сказку, когда-то давно слышанную ею от покойной няньки. И рвалось ее сердце к той Царь-девице, рвалось неудержимо.
А в то же время действительная ее жизнь становилась все хуже и хуже. Попала она в руки злой бабы – надсмотрщице, что за шитьем и вязаньем в перхуловском доме глядела. Злая баба поедом есть ее стала. Утром задаст урок, с которым никак нельзя справиться, к вечеру придет, видит, что не все готово, – и начнется брань, попреки. И такой гадкий язык у бабы – как змеиное жало. Иное обидное слово до самой души прохватывает, а пожаловаться на надсмотрщицу нечего и думать. Она у Афимьи Лукьяновны в большой милости – слуга старая, верная, а на Любу и хозяйка, и дочери хозяйские косятся; так кто же ее обиду рассудит?
И терпела Люба, работала день-деньской не разгибаясь. А надсмотрщица все недовольна.
– Что же это, наконец, такое? – не вытерпев, как-то сказала Люба после брани злой бабы. – Я ли, кажется, не работаю, так не грех бы тебе, Ненила Сидоровна, разок добрым словом обмолвиться.
– Да, стоишь ты доброго слова!.. Колотушки ты стоишь – вот что! – ворчала старуха.
Кровь бросилась в голову Любе. Сама себя не помня, поднялась она во весь рост перед старухой. Глаза ее сверкали.
– Ну нет, холопка, не тебе бить меня!
– Ах, светы мои батюшки! – в свою очередь багровея и трясясь от злости, накинулась на нее надсмотрщица. – Это я тебе холопка? Это я-то бить не смею? А вот увидишь!
Люба не успела отшатнуться, как получила сильный удар прямо в щеку.
Не говоря ни слова, кинулась она на старуху и, как щепку какую-нибудь, отшвырнула ее от себя в противоположный угол горницы.
Злая баба взвизгнула, бросилась вон, прямо к Афимье Лукьяновне и дорогой рвала на себе волосы и царапала лицо, чтоб появиться в более жалостном виде. Упала она госпоже в ноги: «Так и так», – рассказала все доподлинно о продерзостях Любашки и требовала себе защиты.
Афимья Лукьяновна приказала немедленно призвать к еебе Любу, но та не явилась.
Тогда она сама к ней отправилась.
Люба стояла, как бесом одержимая, с поленом в руках, очевидно, никого и ничего перед собою не видела и диким голосом кричала:
– Никто не подступайся, не то убью!
Афимья Лукьяновна побежала прямо к мужу.
Тот, узнавши в чем дело, взял с собою двух ражих людей; Любу, несмотря на ее безумное сопротивление, схватили и отстегали так, что она дня два не могла подняться с постели.
После этого прошла неделя – и вдруг в перхуловском доме объявилось, что Люба исчезла.
Все поднялись на ноги, стали искать ее, но нигде не находили. Порешили, было, что случилась такая беда: девка, видно, с дури да с сердцов утонилась в проруби.
Одно только казалось странным: все Любино белье, платье были налицо. Считали и пересчитывали – как есть все цело! И выходило так, что Люба скрылась из дому не только без шубки, но и без самой необходимой одежи. Может, надела чужое… Всех переспросили, все переглядели: все как есть цело – ничего не оказалось в пропаже.
Чудное дело: выбежала девка в зимнюю морозную ночь топиться, выбежала в чем мать родила на свет Божий, и никто не видал, как она бежала!.. Нет, тут что-то неладно! Уж не сам ли дьявол ее сцапал?
Это предположение оказалось самым подходящим, и на нем остановились…
IV
У опушки густого, на десятки верст раскинувшегося бора, недалеко от дороги московской, верстах в двадцати пяти от Суздаля приютилась избенка. Чернеется она, будто гриб какой, среди яркого снега, озолоченного солнцем. Кругом тихо. Неподвижно, как каменные изваяния, стоят вековые сосны. Молчит лесная птица. Не подает голосу домашняя скотина под навесом. Только легкий дымок струится над избою, поднимается к ясному, розовато-голубому небу и незаметно исчезает в безветренной высоте.
Но вот скрипнула дверца избушки, на пороге показались старик и молодой парень.
Парень в толстом зипуне, теплых валенках, в меховой шапке, за спиною у него котомка небольшая из толстой холстины.
Старик что-то толкует парню, показывает руками на дорогу.
– Спасибо, дедушка, спасибо, понял, – отвечает тот звонким голосом. – Бог даст, не заплутаюсь.
– Помни: село Медведково, спроси там Лукьяна – его всякий знает, – он тебя на ночь впустит.
– Спасибо, дедушка, спасибо за ласку! Не впустил бы ты меня, так в лесу ночевал бы!
– Зачем в лесу? И незнаемого человека в лесу не оставлю, а коли ты моего племяша Федюшки приятель, так тем паче. Только, эх ты, парень, парень, подивился я на тебя – полно, так ли, что ты мне насказал, с посылом ли ты на Москву от господина?
– Вестимо, с посылом, – бойко ответил парень.
– Ну, да ладно, – слабо усмехнувшись, заметил старик, – я тебе не судья, и не доносчик. В бегах ли ты или что – не мое дело, ты мне зла не сделал – с Богом!
Юноша еще раз сказал старику спасибо и быстро направился к московской дороге.
Старик постоял, поглядел ему вслед, покачал головою и вернулся в избушку.
Утро задалось чудесное.
Несмотря на морозец, в воздухе уже слышалось приближение весны, уж носился какой-то особенный, свежий, сладкий запах. От лучей солнечных кое-где капал заледеневший снег с древесных веток.
Парень шел быстрым, скорым шагом, как будто его что-то подталкивало.
Вот он оставил лес за собою, выбрался на большую дорогу, огляделся во все стороны, прислушался к тишине окрестной: ничего и нигде не видно, не слышно. Во все стороны блестящая поляна, только полоса дороги, протоптанная обозами, потемнела. Старик сказывал – тут уж недалеко до первого селенья…
Юноша еще быстрее пошел дальше.
Солнце поднялось выше, заглядывает прямо в глаза, так что щуриться приходится путнику. И он весело щурится, весело смотрит на разноцветно горящие снежинки под ногами. Ему петь и плясать хочется. Да как же и не петь, не плясать и не радоваться? Молодость и здоровье так и сверкают на лице его. Он высок и строен, но почти ребенок. Над алыми губами его незаметно даже еще и пуху, и невольно, глядя на него, думается: откуда это взялся такой красавец-мальчик? Да и мальчик ли это, полно?
И впрямь – то не мальчик, а красная девица – перхуловская Люба Кадашева, которую сцапал дьявол.
Старик из лесной избушки заподозрил своего ночного постояльца в том, что он сбежал от господина. Этот же старик с изумлением разглядывал юношу, дивился женской красоте лица его, его нежному голосу, видел и чуял что-то странное, необычное в этом юноше. Между тем мысль о том, что перед ним девушка, не могла прийти ему в голову. Если б ему сказали, что это сам бес в образе красавца-мальчика, что это оборотень или какое ни на есть диво, он поверил бы, но чтоб это была девушка – никто не мог бы его уверить. Неслыханное, невероятное дело! В мужской одежде… на большой дороге…
А уж если и впрямь это так, если это девушка, значит, точно сидит в ней дьявол, и не сама это она идет, а он, враг, несет ее.
Но Люба ни о чем таком не думает, не дивится на свою неслыханную смелость, не раскаивается. Она думает только о том, как бы ей добраться до Москвы, не погибнуть в дороге. Вот вчера вечером ух как жутко было: и людей боялась, и зверей боялась еще пуще того…
Так как же все это могло случиться? А случилось оно очень просто. Почувствовав в себе силу подняться после жестоких побоев, бедная девушка вдруг приняла неожиданное для самой себя решение: бежать, бежать из этого ужасного дома, бежать к Царь-девице! И как до сих пор не пришло это ей в голову?!
Но бежать… Ей, которая и на мужскую-то половину не могла выйти без того, чтобы ее не обозвали бесстыдницей… Бежать, не зная дороги, не зная, что там и как там, и что с ней будет, ожидая, что и люди лихие, и звери лютые сто раз могут ее погубить, прежде чем она доберется до Москвы!
Всё это, конечно, мелькало в голове Любы, но не смутило ее, не испугало – не такова она была, чтоб чего-нибудь испугаться. То блаженство, тот рай, которые ожидали ее в тереме Царь-девицы, были так чудны, так прекрасны, ее цель являлась такой заманчивой, что, раз почуяв возможность ее достижения, Люба не могла думать о препятствиях и бояться их.
Только как же это сделать? Как выбраться из дома? Как избежать погони?
Целую ночь все обдумывала и придумывала Люба и наконец остановилась на единственно возможном плане.
Одна, без чужой помощи, не выйдешь, в своем женском платье не убежишь, не избегнешь погони: нужно нарядиться мальчиком – но откуда добыть одежду?..
Как ни охранялись ходы и выходы женской половины дома, но, конечно, между молодыми девушками и парнями не обходилось без переглядываний и перемигиваний. Один из молодых слуг Перхулова, по имени Федор, или, как все его называли, Федюшка, не раз попадался на глаза Любе. Это был парень лет двадцати, не больше, красивый и бойкий, хотя и довольно глуповатый. Он был давно уже поражен красотою Любы и посылал ей нежные взгляды, а при случае и сладкие словечки. Но Люба не обращала на него до сих пор никакого внимания, ее сердце молчало, да и должно было оно забиться не для какого-нибудь глуповатого Федюшки.
Была суббота. Почти все в доме Перхуловых отправились ко всенощной. Люба осталась и как опальная, и как больная, остался и Федюшка по счастливому случаю.
Тишина в доме, темь кромешная.
Люба изловчилась, огляделась и пробралась на мужскую половину, а там, словно ее поджидает, стоит Федюшка.
Он это, он – хоть и темно, а она его разглядела.
– Ай! – вскрикнула Люба и не успела опомниться, как очутилась в крепких объятиях и почувствовала на щеке своей горячий поцелуй.
В первую минуту она было возмутилась и обиделась, хотела оттолкнуть его от себя и убежать обратно в свою каморку, но сейчас же и одумалась.
Она только слабо отстранила его и зарыдала.
– Что ты, ласточка моя? О чем ты плачешь? – тихо и нежно прошептал Федюшка.
– Как же мне не плакать! – сквозь рыдания ответила ему Люба. – Или не знаешь, какова моя жизнь? Или не знаешь, что на мне места живого не осталось – вся как есть избита!
– Ох, знаю, знаю, моя красавица, и, видит Бог, как узнал, так ажно меня до слез прошибло…
– Что ж так? – сказала Люба, останавливая свои слезы. – Чего тебе обо мне плакать – я тебе не своя, а чужая.
– То-то и есть, что не чужая, давно уж я по тебе сохну, Любушка!
– Любишь меня, что ли? – уже твердым и несколько лукавым голосом спросила Люба.
– Больше жизни люблю, за тебя готов в огонь и в воду. То есть пущай все тело мое рвут на части, лишь бы тебя не трогали.
– Пустое – не верю!
Но времени терять было нечего: того и жди их застанут и быть новой беде. Нужно ковать железо, пока горячо… За смелостью у Любы дело не стало.
– А коли впрямь любишь, так докажи, – сказала она. – Выручи из беды, помоги убежать, тогда я тебя в жизнь не забуду.
– Убежать? Бог с тобой, а я-то как же?
Но у Любы на все были придуманы ответы, и справиться с глупым Федюшей ей было нетрудно. Она наговорила ему турусы на колесах, наврала невесть чего: уверила, что у нее есть богатые, знатные родные, что если он поможет ей убежать от Перхуловых, то и весна еще не успеет стать, как они свидятся и с тем, чтоб уж больше не разлучаться. Он тоже хоть и связан с Перхуловыми, да может развязаться – человек не безвольный, а живет по уговору.
Красно и доказательно говорила Люба. Федюшка всему поверил и успокоился, а за поцелуй, которым наградила его Люба, окончательно оказался готовым для нее на что угодно.
Пока все были у всенощной, и сделалось дело. Тайно, так что никто не заметил, принес он ей свое старое платье. Она переоделась у себя в каморке и, получив от Федюшки указание, как ей добраться до старого дяди, жившего близ московской дороги, шмыгнула за ворота перхуловского дома и через полчаса была уже в снежном поле, за Суздалем, среди ночной тишины, под звездным небом.
Ее сердце стучало шибко. Со всех сторон на нее наступали страхи и ужасы, но она смело шла вперед и только шептала слова молитвы, и только думала о волшебном тереме, где ее ожидает сказочная Царь-девица.
V
Весь день почти без отдыха шла Люба.
Иногда ее обгоняли обозы, тянувшиеся к Москве из вотчин со всяким продовольствием. Она заговаривала с возчиками, расспрашивала, далеко ли до Москвы, и получала в ответ, что еще далеконько. Спрашивала, не знают ли село Медведково, отвечали: «Как не знать, село большущее, знатное. Оно недалече, а все же, коли будет парень пеший идти, до вечера не доберется».
Люба попросила подвезти ее. Возчики согласились.
Еще не успело смеркнуться, как она заметила на горизонте чернеющие строения, церковные главы.
«Это вот и есть Медведково, тут сейчас и поворот к нему, и большая дорога».
Люба поблагодарила возчиков, проворно спрыгнула с воза и бегом пустилась по направлению к селу. Но бежать было трудно – снег глубокий да рыхлый, вязнут в нем ноги, к тому же и сильная усталость начала сказываться.
– Ну, ничего, ничего, – ободряла себя Люба, – там, авось Бог даст, отдохну у Лукьяна, а то ночью в поле жутко.
Она припустилась еще шибче. Вот уже Медведково как на ладони: село, точно, знатное, большущее, его и за город принять можно.
На розовом горизонте меркнувшего неба, в значительном расстоянии друг от друга, рисуются две церкви. Избы, расположенные правильными рядами, образуют улицы.
Еще пройти один косогор – и Люба в Медведкове.
Но что это? Что за звуки? Гул, как от многих сотен человеческих голосов. Чем ближе, тем слышнее; что тут такое? Не беда ли какая? Не пожар ли?
Через несколько минут при входе в селение Люба очутилась среди густой толпы народа: тут были и мужики, и бабы, и даже дети. Крик, гвалт, ничего разобрать невозможно.
Люба спросила у первого попавшегося мужика про Лукьяна. Тот взглянул на нее, ничего не ответил и заорал свое, размахивая руками и, очевидно, не обращая внимания на то, слушает ли кто, что он орет.
Спросила она у другого. «Какой там еще Лукьян? Чего лезешь? Откедова?» – ответили ей.
Она замолчала. Расспрашивать теперь, не оглядевшись и не узнав, в чем дело, ей показалось опасным.
Но как тут узнаешь, о чем орут и что у них такое?!
– Антихрист, антихрист, вестимо, антихрист народился, – раздавалось в толпе. – Уж видели – в Москве засел!.. Никон-то, вишь, предтеча его…
– Вестимо, вестимо! Эх, окаянные! Не оставим святыню в руках слуг антихристовых.
– В церковь, братцы, на попов!
Толпа хлынула к церкви. Люба – за народом. Что такое? – Она ничего не понимала. Слыхала она про Никона патриарха, слыхала, что в чести был великой он, а потом в чем-то провинился и словно бы в заточении где-то, знала и про антихриста, врага рода человеческого, слыхала, что он должен народиться, но что он уж и народился – об этом в перхуловском доме еще не говорилось.
Что-то они будут делать в церкви? От кого ее защищать? Что попы дурного сотворили?
Страх начинал пробирать Любу, но любопытство превозмогало и страх, и она спешила вслед за толпой, несмотря на свою усталость, спешила быть из первых на месте, чтоб ничего не пропустить, чтобы наконец понять в чем дело.
Толпа добежала до церкви. Тут у церковной ограды поповские строения. Десятка три мужчин начали выламывать ворота, ворвались во двор, и через несколько мгновений оттуда послышались страшные крики и вопли. Вот волокут кого-то…
Люба протиснулась ближе, видит – священник. Он кричит отчаянным голосом, выбиваясь из рук своих мучителей, но никто за него не заступается. Ражий детина схватил его за длинные волосы и повалил на землю. Удар, другой, третий – несчастный священник застонал. Толпа ревет, заглушая его стоны; все спуталось.
Люба, дрожа и затыкая себе уши, с исказившимся от страха лицом бросилась к церкви.
Вся паперть полна народу; выламывают тяжелые двери.
– Да на крышу, на крышу-то полезайте! – кричат несколько голосов. – На главы церковные!
– Воды, воды давайте, обмывайте кресты водою, ведь опоганили, все опоганили антихристы!
Тащат откуда-то лестницу и взбираются на крышу с ушатом воды.
Прошло несколько минут; церковные двери выломаны, толпа ввалилась в церковь, и в то же мгновение раздался пронзительный звон во все колокола.
Люба, чуть не сбитая с ног толпой, сама не заметила, как очутилась в церкви.
Между тем вечер надвигался больше и больше, и в церкви было уже совсем темно.
Но вот кто-то зажег лампаду, вот загорелась другая, и внутренность храма осветилась.
Люба стояла, прислонясь к стене, едва держась на ногах от усталости и ужаса, который увеличивался еще тем, что она не могла взять в толк того, куда она попала. Что это такое? И что с нею будет? Она ясно только видела одно: что теперь невозможно ни с кем разговаривать, ни у кото ничего спрашивать; нужно только притаиться, чтобы как-нибудь ее не заметили, – в этом только и спасение.
Люди, наполнявшие церковь, продолжали голосить и браниться.
В церкви были женщины, и мужики, и люди в монашеском платье.
Прежде всего они начали расплескивать всюду воду, потом схватили мочалки, принялись обмывать церковь.
А это что такое? Какой-то монах выбивает прикрепленную к стене икону, несколько человек подбегают к нему на помощь, икона выбита, брошена на пол, ее топчут ногами.
Люба смотрит, не веря глазам своим – никогда она не видала в жизни своей такого богомерзкого дела, даже никогда не думала, что оно возможно: святую икону топтать ногами!
И будто в ответ на ее мысли раздаются дикие возгласы:
– Топчи, плюй на поганую доску! То не икона, то дьявольское писание! Мойте, мойте скорей святые иконы старого писания!
Люба ничего не понимает. А толпа продолжает бесчинствовать.
– Плюйте на пол!
Но тут новые крики и визг на другой стороне церкви обращают на себя внимание Любы.
Две какие-то женщины положительно беснуются: падают на пол, потом поднимаются, сбили с себя головные уборы, растрепали волосы, вырывают их прядями, царапают себе лица и визжат не своим голосом. Им очищают место и смотрят на них с благоговением.
– Дух, дух в них вселился! – шепчут некоторые. – Вот сейчас заговорит их устами…
Женщины мало-помалу утихают и начинают что-то говорить, но сначала разобрать ничего невозможно. Слова их отрывисты и перемежаются дикими взвизгиваниями.
– Вон попов антихристовых! – наконец уже явственно кричит одна из женщин. – Вон их всех к дьяволу, чтоб не смели переступать святой порог! Божьи люди, не отдавайте врагам церковь, не выходите! Пусть Василий Мыло священнодействует!
– Василий Мыло! Василий Мыло! – раздается по церкви десятками голосов, и толпа вытискивает из себя маленького взъерошенного старика, в одежде дьячка, с ощипанной седой бородкой.
– Мыло, тебе священнодействовать! Ты наш учитель! – кричат и мужчины, и женщины.
– И буду, и буду! – визгливым голосом в ответ на эти крики повторяет Василий Мыло. – А попов нечистых никонианских к дьяволу в когти! Замыкай двери. Не выходи никто – здесь ночевать будем, не покинем святой церкви!
– Вестимо, не покинем, – отвечают многие.
И слышно, как замыкают двери.
Люба вздрогнула всем телом. Уйти теперь отсюда невозможно. Еще мгновение – и она почувствовала, как голова у нее кружится, все предметы сливаются, находит какое-то забытье странное. Беззвучно скользнула она на пол в темном уголке церковного придела и потеряла сознание.
VI
Прошло немало времени, а Люба все лежит, не шелохнется, будто мертвая. Люди, наполняющие церковь, заняты своим делом и в фантастическом возбуждении ничего не видят, ничего не слышат.
Мужики и бабы суетятся, толкаясь и снуя по церкви; не раз натыкались на Любу, но никому и в голову не пришло рассмотреть, кто это такой лежит без движения: живой человек или мертвый и откуда он взялся.
Наконец от чьего-то сильного толчка и чьей-то в темноте наступившей на нее ноги очнулась Люба.
В первое мгновение она ничего не понимала, не могла сообразить, где она и что с нею. Ей казалось, что она грезит, что перед нею не явь, а сон безобразный, тревожный, но мало-помалу стали проясняться ее мысли. Она все вспомнила и приподнялась с полу. Ее болезненная слабость прошла…
В церкви тишина. Народ угомонился, засветили все до одной лампады; Василий Мыло начал службу.
Раздалось разноголосое, нестройное пение под церковными сводами.
Люба тихонько пробралась к дверям, думая, что, может быть, они не на запор заперты и ей удастся как-нибудь проскользнуть на паперть.
Она была уже у самых дверей, когда снаружи раздался сильный стук.
– Кто там? Кто стучит? – спросило несколько голосов из церкви.
– Это мы, с колокольни, впустите святую службу прослушать!
Голос, видно, оказался знакомым, потому что два человека стали отпирать двери.
Люба подвинулась ближе. Вот половину дверей приотворили, вошло несколько человек, сейчас опять запрут, и уж тогда до утра невозможно будет вырваться отсюда.
«Господи, благослови!» – сказала про себя Люба и, сама не помня как, проскользнула в готовую захлопнуться дверь, очутилась на паперти и кинулась бежать от церкви.
Но, пробежав минут пять, она остановилась.
Ночь темная, хоть и видимо-невидимо звезд на небе высыпало. Что делать? Первою мыслью Любы было бежать скорей из Медведкова, опять на большую московскую дорогу, подальше от этого страшного, непонятного места, где такие неслыханные чудеса творятся.
Но как же ей бежать? Положим, у нее в котомке большой кусок хлеба, данный ей еще в Суздале Федюшкою; снегу всюду много, можно утолить жажду, но дело не в питье и пище, а в усталости и страхе. Идти всю ночь – сил нет, да и смелости не хватит, а лечь где-нибудь в поле на снег и постараться заснуть – такая ночевка еще страшней.
– Кто стоит? Что за человек? – вдруг раздалось почти у самого уха Любы.
Она задрожала всем телом, разглядев в темноте две рослые мужские фигуры. Бежать – словят и погубят; молчать – то же самое. Но что же говорить? Что им ответить?
– Что за человек? Язык проглотил, что ли? – опять раздался страшный голос, и сильная рука схватывает Любу за ворот.
– Да я к Лукьяну, – почти теряя сознание проговорила Люба. – Только пройти вот как – не знаю.
– Откуда ж ты, мальчёнко? Из Васильевских, что ли?
– Да, я пришел с Василием Мылом, – сама не веря своей смелости, ответила Люба. – Вот меня к Лукьяну послали из церкви, да дороги к избе его не знаю.
– Михай, проводи парня-то – тебе по пути, а то и впрямь он тут в темноте плутать будет, – сказал один из мужиков, тот самый, который держал Любу за ворот.
– Ладно, – ответил другой голос. – Иди, что ли!
Люба последовала за своим неизвестным вожаком и скоро очутилась на одной из улиц Медведкова.
Тут было совершенно тихо. Люди заперлись в избы, бродили только собаки, по временам заливаясь оглушительным лаем.
Наконец мужик остановился около одной просторной избы.
– Вот тебе и Лукьяново жилье, – сказал он. – Постучись, он, чай, не спит. Где теперь спать – не до спанья.
– Спасибо, родимый, – прошептала Люба и стала стучать в ворота.
На дворе залаяли собаки, и через несколько мгновений послышался скрип шагов по снегу. Ворота растворились.
– Кто стучит?
– К Лукьяну надоть, – стараясь придать как можно более грубости своему голосу, ответила Люба, а сама крестилась и мысленно повторяла слова первой пришедшей в голову молитвы.
– Чего тебе? – спросил довольно приятный старческий голос.
– Лукьяна, говорю, Лукьяна! – уже почти со слезами и, чувствуя, что снова у нее подкашиваются ноги, прошептала Люба. – Ты ли Лукьян?
– Да я, а то кто же?
– Лукьян, батюшка, милостивец, спаси меня, защити!
Люба упала на колени перед отворившим ей ворота человеком и хватала его за платье.
– Да стой! Что ты? Откуда? Поди сюда, ничего не разберу – темень-то вишь какая. Девка ты, что ли?
– Нет, не девка. Парень. Спаси меня, Лукьянушка, не то пропала моя голова… Куда я теперь денусь?
– Иди в избу. Что там такое? Невдомек мне, – проговорил Лукьян, запирая за собою ворота.
Не помня себя, Люба вошла в избу и невольно зажмурилась от яркого света горевшей лучины.
Когда она немного успокоилась, то увидела, что находится в просторной и чистой клети, а перед нею стоит старик с длинной седой бородой, с большим красноватым, но добрым, сразу располагающим лицом.
С изумлением глядел этот старик на Любу, очевидно, дивясь, откуда это забрался к нему такой красавец-мальчик.
Люба молчала, чувствовала, что говорить нужно, но не могла произнести ни слова. Вся ее необыкновенная смелость исчезла. Она чувствовала себя теперь совсем беспомощным, вконец замученным и запуганным ребенком. Ей необходимо было спрятаться под чье-нибудь сильное крыло, прижаться к человеку, который мог бы защитить ее.
Она уже не в силах была играть свою смелую мужскую роль. Неудержимо, громко зарыдала она и только сквозь рыдания повторяла:
– Спаси меня, спаси!
Лукьян, стараясь ее успокоить, посадил на лавку. Он понял, что в таком состоянии этот, очевидно, чем-то сильно перепутанный паренек ничего не может теперь объяснить ему.
Скоро ласковый и ободряющий голос старика подействовал на Любу, и она наконец в силах была заговорить.
Она передала вымышленную свою историю: сказала, что послана к нему в Медведково старым Еремеем, что живет у Мурьина леса, рассказала, как попала в сумятицу и что ничего не понимает.
Лукьян внимательно ее слушал и пристально глядел на нее, стараясь сообразить, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Но какой подвох может быть от этого мальчика? – Люба говорила так искренно.
– Ишь ты! – наконец вымолвил Лукьян и снова улыбнулся. – Чего же это ты так перепугался, трусишка?
– Да как же не перепугаться, дедушка? Ничего не понимаю, скажи, Христа ради, что все это значит? Что тут у вас делается?
– Сказать… ну калякать-то с тобой мне некогда. Там вон мои бабы не спят еще, так накормят тебя; ведь ты, должно, отощал больно, – ну и толкуй там с ними. А мне и спать пора – замаялся!..
Он подошел к маленькой дверце, ведшей в соседнее помещение, и крикнул:
– Мавра, Федосья! Вот накормите прохожего парнишку… Ступай сюда, здесь теплее, – обратился он к Любе, почти втолкнул ее в дверцу, а сам остался в клети.
VII
Баб, с которыми очутилась Люба, было две. Одна из них уже старуха, хозяйка Лукьянова – Мавра, а другая – Федосья, молодая, красивая бабенка, сноха его.
Они сидели в углу на лавке; у обеих лица были встревожены. Несмотря на позднее время, для спанья не было никаких приготовлений.
Женщины с изумлением взглянули на Любу и тотчас приступили с расспросами. – Кто? Откуда? Куда?
Люба, уже оправившаяся от страха своего и волнения, отвечала им обстоятельно. Она сняла с себя шапку; ее голова оказалась обвязанной таким образом, что невозможно было разглядеть длинных волос ее. Коса была пропущена под кафтан. Убегая из перхуловского дома она не успела обрезать себе волосы, да если б и было время, так вряд ли обрезала бы – и жалко, и чересчур уж зазорно.
Она решилась до самой Москвы, до тех пор, пока не предстанет пред ясные очи Царь-девицы, не развязывать головы и при случае ссылаться на сильную головную боль или отмороженные уши.
Так она и теперь сделала, и ее ответ не показался странным, так как, конечно, ни Мавре, ни Федосье не могло прийти в мысль, что перед ними переодетая девушка.
Отвечая на вопросы своих собеседниц, выдумывая им про себя разные истории, Люба едва сдерживала свое нетерпение. Она не в силах была больше находиться в неизвестности, должна же была, наконец, узнать, что такое творится в Медведкове и в какую это кутерьму она попала.
Наконец Лукьяновы бабы решились удовлетворить ее любопытство и стали ей говорить, перебивая друг друга.
Долго ничего она не могла понять из их рассказов, но все же в конце концов кое-как добилась смысла.
Она узнала, что на Медведково навалились раскольщики, что их многое множество в земле русской и что стоят они за старую веру, которую исказили никониаицы.
В вопросах религиозных Мавра и Федосья оказались очень несмышлеными – не могли объяснить Любе, в чем, собственно, дело, в чем разница между старой верой и новой, которую приняли и царь, и бояре, и большая часть народа русского.
– Кто их знает, может, и верно они толкуют, раскольщики, – говорила Мавра. – Точно ведь, как подумаешь – все была вот одна вера православная, – и прежде нас жили люди, да не были же погаными нехристями, умели чтить Бога, и коли бы старая-то вера была неправая, то как все великие святители могли спастись ею?.. А и то рассуждать нужно, – продолжала Мавра, помолчав, – что не будь изъяну какого в старых книгах, с чего бы их отринули и царь, и бояре с патриархом? Темно тут, парень, не распознаешься – не нашего глупого бабьего ума это дело. Вот и Лукьян мой, даром, что землю пашет, а человек бывалый и обучен от Писания, в Москве по годам живал, так он говорит, что раскольщики не путно толкуют. По его так выходит, будто истинная, настоящая-то старая вера и есть теперешняя, новая, а их, раскольщиков-то, совсем не старая, а одно затемнение от дьявола исходящее…
Люба внимательно прислушивалась к словам этим, но не могла ничего в толк взять: «Как это такое: старая вера – новая, а новая – старая?» Эх, вот Лукьяна-то нет, он бы рассказал потолковее!
Необыкновенно заинтересовал Любу вопрос о старой и новой вере, так заинтересовал, что она даже, раздумывая об этом, позабыла про свое тяжелое положение, про все страхи.
А Мавра продолжала говорить.
Она горько жаловалась на раскольщиков. Правы ли они там или виноваты в своей вере, а все же до них жилось в Медведкове благополучно – тишь да гладь, да Божья благодать, – а как стали они показываться – и пошла беда за бедою. Сначала, с год тому будет времени, приходил какой-то старик, остановился в избе у одного медведковского крестьянина, начал собирать вокруг себя народ, толковать о вере, в раскол подговаривать. Кто не послушался его, а кто и послушался: и таких в Медведкове, что стали раскольщиками, собралось немало. За стариком и другие разные люди стали в Медведково наведываться. Придут, поживут, намутят, да каждый раз то тех, то других из медведковских с собою в лес сманят – раскол-то больше все по лесам живет. Про все как есть, что там в лесах деется, Лукьяну рассказывал при Мавре один медведковец, Данило, что ушел с раскольщиками да и опять вернулся восвояси – рассказывал, что верст с пятьдесят от Медведкова есть река, а за рекой лес дикий, большущий. Кругом болота да дряби: на лошадях в том лесу проехать невозможно. В лесу, за рекою, настроено келий десятка с два, и живет в них начальник раскольнический, чернец из Соловецкой обители, Митрофан прозывается. В сборе у того чернеца раскольщиков из разных городов и мест мужского пола, женок, девок и стариц человек с два ста будет. Кельи стоят врознь на большом расстоянии, а на реке, против тех келий, построена мельница; настроены также малые хороминки на столбах, и в них хлеб держат; а пашут раскольщики без лошадей и землю размягчают железными кокотами. Много чудного рассказывал Лукьяну Данило про житье раскольщиков, а всего чуднее то, что к чернецу Митрофану приходят на исповедь, и он всех исповедует и причащает: возьмет ягоду бруснику и муки ржаной или пшеничной, смешает все вместе, тем и причащает. Только прежде хоть и постоянно приходили в Медведково раскольщики, но все больше или в одиночку, или человека три, четыре, а теперь неведомо откуда целая орава навалила, и вот уж с неделю здесь бесчинствуют. Попов похватали и замучили; церковью завладели. Больше половины медведковцев их сторону держат, да и остальные, в том числе и Лукьян, не смеют возвысить голоса, не пристают к ним да и не противятся, потому: что ты с ними поделаешь? Одна на них хитрость осталась; и вот отправил Лукьян своего сына, мужа Федосьи, на Москву сказать, что так, мол, и так, чтоб не дали Медведкова в обиду. Теперь ждут не дождутся возвращения Димитрия – это сын-то Лукьяна; Москва не ахти как далеко, а он на коне погнал – коли с ним в пути недоброе что случилось али словам его не поверили, то неведомо, чем у них в Медведкове и кончится. Раскольщики да и многие медведковцы совсем голову потеряли: ровно звери сделались, того и жди пойдет поножовщина…
Остановив на этом свой рассказ, Мавра уронила голову на руки и заплакала:
– Время, время вернуться Митрию, ан все нет его, соколика! Чует мое сердце – недоброе с ним!
Мавра начала все громче и громче всхлипывать. Глядя на нее, заревела и Федосья…
Несколько успокоившись, бабы объявили, что, может, и всю ночь так просидят не раздеваясь – не до сна им, а Любе предложили переночевать в каморке.
Она с радостью согласилась на это и, повалившись на кучу сена, скоро заснула крепким сном. Проспала бы она, может быть, и бог весть сколько, но утром разбудила ее Федосья.
– Вставай, вставай. Ишь заспался! – говорила бабенка. – Слышь, Митрий вернулся с царскими стрельцами: теперь пойдет суд и расправа. Ахти нам, святители, что-то будет?
Люба вскочила и поспешила выбраться из каморки. Она теперь чувствовала себя бодрой и крепкой; каждая жилка в ней играла.
И не думая ни о каких опасностях, бросилась она из избы Лукьяновой во двор, а оттуда за ворота посмотреть на стрельцов царских, что из Москвы прибыли.
Народ валил по улицам к церкви, вокруг которой расположилось войско.
Утро было солнечное, ясное. Начиналась сильная оттепель.
Издали увидела Люба стрельцов, вооружение которых блестело на солнце.
– Что ж теперь будет? – невольно спросила она у бежавшего рядом с нею мужика.
– А кто их знает! Раскольщики-то, вишь: и пришлые, и наши, с Василием Мылом церковь-то оставили да заперлись в крайних избах. Десять дворов ими занято – вон, вишь, вишь, стрельцы-то дворы окружают!
Действительно, скоро все дворы, занятые раскольщиками, были со всех сторон окружены войском. Люба бежала все шибче и шибче.
– Куда ты? Назад! – наконец остановил ее один стрелец.
Она послушалась и стала оглядываться.
В двух шагах от нее молодой, статный воин. Он говорит что-то другим, видно, распоряжается. Лицо его, озаренное солнцем, показалось Любе красоты неописанной.
– Вишь ты, молодой какой парень, а им всем он голова, значит! – услышала она позади себя.
Слова эти, конечно, относились к красивому воину. Люба так и впилась в него глазами.
– Незачем кровь проливать человеческую, – говорил воин. – Нужно их живьем перехватать. Ломайте, что ли, ворота!
Несколько стрельцов кинулись к воротам, но в ту же минуту со двора послышался выстрел.
– О, да они с пищалями! – проговорил стрелецкий начальник и подошел к самой избе.
– Отворяйте ворота! – закричал он звучным голосом. – Палить нечего – у нас у самих пищалей много, с нами не справитесь, а за кровь каждого царского стрельца большой ответ с вас будет. Добром отворяйте!
Прошло несколько мгновений – никто не отвечал ему. Но вот из избы послышались дикие крики.
– Не отворим! Не отворим антихристу и его воям! Вы кто? Нечто христиане?
Вслед за этими словами раздались из избы всякие бранные речи, хула на церковь и четвероконечный крест…
– Нет, видно, с ними ничего не поделаешь! – печальным голосом, отходя от избы, сказал стрелецкий начальник. – Ломай избы! Ломись во все дворы, где они засели! – обратился он к окружавшим его стрельцам.
Те передали его приказание товарищам, и скоро начался дружный натиск. Во многих избах раздалось несколько выстрелов, потом все как бы стихло. Мгновение… и вдруг дикий крик ужаса пронесся над собравшейся толпой крестьян медведковских и повторился стрельцами.
Из одной избы, в которой сидели раскольщики, повалил дым. Дым все гуще и гуще – вот показался и огонь. Вот загорается и другая изба; всеобщее смятение, гул стоит… Стрельцы ломятся в ворота, но навстречу им раздаются выстрелы, навстречу им мчатся клубы удушливого дыма и пламени.
Деревянное строение, крытое соломой, горит быстро. Скоро ничего не видно, не слышно – все слилось в общем шуме и дыме. Толпа отхлынула от изб, за нею и стрельцы, видя бесполезность своих усилий. Но не показывался ни один из засевших в избах: поборники старой веры все до единого решились погибнуть в пламени, спасти свои души самосожжением.
VIII
Прежде чем перепуганные жители Медведкова и стрельцы очнулись и решились принять какие-нибудь меры против пожара, все подожженные избы горели, как свечи. Оставалось только спасать соседние строения. По всему селу гул стоял от стонов и воплей.
Только что медведковцы начали мало-помалу успокаиваться, убедившись, что пожар не будет больше распространяться, оказалось, новая беда: от незваных гостей раскольщиков избавились, так другие, званые, гости что-то не совсем ладно начали вести себя.
Стрельцы разбрелись по избам и стали в них хозяйничать. Сейчас же потребовали себе вина, перепились, начали буянить, а в иных избах произвели даже грабеж. Народ вздумал было жаловаться на них сотникам и пятидесятникам, но те только смеялись на эти жалобы, сами же подзадоривали своих подчиненных, конечно, чуя себе львиную долю в награбленном.
Один только подполковник стрелецкий, Николай Степанович Малыгин, тот самый, красота которого так поразила Любу, внимательно выслушивал жалобы, отдавал стрельцам приказания вести себя как следует: не брать ничего чужого и готовиться в поход обратно.
Но он мог приказывать, кричать сколько ему угодно – его плохо слушались. Под конец он даже услышал от некоторых опьяненных стрельцов такую брань себе, что должен был отойти в сторону и притвориться глухим, чтобы не уронить своего достоинства.
Дисциплины между стрельцами в то время не было почти никакой. Стрелецкое войско, учрежденное Иваном IV, к концу царствования Алексея Михайловича пользовалось очень дурной репутацией.
Вследствие бедности казны стрельцы получали мало жалованья, а потому промышляли себе все необходимое самыми непозволительными способами: грабежом и вымогательством.
Полковники стрелецкие тоже не могли внушать к себе в подчиненных уважения; помышляя только о наживе, они заставляли своих стрельцов на себя работать. Долгое время стрельцы сносили терпеливо несправедливости начальства, но в последнее время в них стал пробуждаться с каждым годом все сильнее и сильнее новый дух: они делались смелее и самовольнее и наконец начали нередко подавать даже жалобы на полковников.
Подполковника Малыгина подчиненные ему стрельцы довольно жаловали – он всегда был с ними добр, не позволял себе никаких несправедливостей, но теперь он должен был видеть, на каких слабых основаниях держится власть его. Стоит ему приказать что-либо неугодное расходившимся стрельцам – и они, пожалуй, не задумаются даже перед насилием.
Благоразумие взяло верх над остальными соображениями, и Малыгин, видя свое бессилие, видя полную невозможность остановить грабеж и буйство, производимые стрельцами, только старался как можно скорее выбраться из Медведкова и пуститься обратно в Москву. Наконец через несколько часов ему удалось собрать полк.
Между тем Люба, убежав от страшного зрелища пожара в избу Лукьяна и отдохнув там, простилась со своими хозяевами, сказав, что ей пора в дорогу и что она постарается примкнуть к стрельцам.
Действительно, она отыскала подполковника Малыгина, подошла к нему и поклонилась ему почти в ноги.
– Чего тебе? – спросил Николай Степанович, и в то же время взгляд его с изумлением остановился на лице ее.
«Что за мальчик такой! – подумал он. – Красота какая!»
Люба объяснила ему, что идет в Москву, да вот попала в Медведково, в самую передрягу, так что целый день потеряла.
– Уж очень путь далек да труден, – говорила она, – так не будет ли твоей милости, господин полковник, не позволишь ли мне с вами доехать? Боюсь, измаюсь очень и ко времени в Москву не поспею.
Стрельцы понаехали с большими обозами, и, конечно, для Любы было место.
Малыгин согласился взять ее с собою. К тому же он сразу почувствовал что-то странное, какое-то необъяснимое влечение к этому красавцу мальчику, да и Люба, со своей стороны, глядела на него такими умильными глазами, а, говоря с ним, краснела, как маков цвет.
Меньше чем через час стрелецкий обоз выезжал из Медведкова.
Люба поместилась на одном из возов, довольно смело переговаривалась с обращавшимися к ней стрельцами, но нельзя сказать, чтоб на душе у нее было легко и весело.
Совсем не такою вышла она из Суздаля. Впечатления этих трех дней ее странствия были неожиданны и тяжелы для нее. Теперь она начинала бояться многого, что прежде и в голову ей не входило.
Отвечая стрельцам на их вопросы и шуточки, она в то же время тихомолком и пугливо озиралась во все стороны и искала глазами Малыгина, инстинктивно чуя в нем своего защитника.
Однако ничего особенно неприятного с ней не случилось; стрельцы скоро ее оставили в покое.
Когда смерклось, стали поговаривать о ночлеге и решили остановиться переночевать в одном селении, до которого оставалось не более десятка верст.
Малыгин с радостью бы постарался избегнуть этой ночевки, предвидя новые бесчинства стрельцов, но делать было нечего – царское войско исполнило свою обязанность, усмирило раскольщиков в Медведкове и теперь имело право требовать себе льготы.
Малыгин ограничился тем, что красноречиво стал внушать сотникам и пятидесятникам о необходимости вести себя смирно, как подобает царскому войску.
Да уж ладно, ладно, – отвечали ему. – Не бойся, батько, – ничего худого не будет!
Большинство стрельцов уже успело окончательно вытрезвиться дорогой, и все они находились теперь в мирном и спокойном настроении.
Прибывши в назначенное для ночлега селение, стрельцы довольно тихо разошлись по избам. Хозяева не без страха, но беспрекословно начали отводить им помещение.
– А ты, парень, где же ночевать будешь? Пойдем-ка со мною! – раздался во тьме над Любой уже знакомый ей голос, от которого она невольно вздрогнула.
Она молча последовала за Малыгиным.
Подполковнику отвели чистую клеть в самой просторной избе.
Он велел поярче засветить лучину и подать чего-нибудь съестного.
– Придвинься и ты, – сказал он Любе, тихо сидевшей в уголку на лавке, – чай, проголодался!
Люба подошла.
– Да что это у тебя голова-то обвязана? – спросил Малыгин, опять невольно засматриваясь на лицо неведомого мальчика.
Люба начала робким голосом повторять свою историю об отмороженных ушах и головной боли, но теперь почему-то, всегда так смело и ловко выходившая из всяких напастей, она чувствовала в себе необычайное смущение. Она видела, то этот красавец воин глядит на нее не отрываясь и что в его добрых и светлых глазах теперь видна какая-то недоверчивость, какое-то подозрение.
И она невольно терялась под его пытливым взором, и опускала свои длинные ресницы, и краснела, и заминалась в разговоре.
– Нет, ты, мальчишка, что-то путаешь! – наконец, качая головою, заметил Малыгин. – Тут что-то неладно – уж не из беглых ли ты, а, пожалуй, и еще того хуже? Лучше говори все прямо, повинись…
– Да, право же, я не лгу, все так и есть, как сказываю, – прошептала Люба дрожащим голосом и, чувствуя, что совершенно теряется, что все пропало, что вот-вот сейчас она зарыдает.
«Признаться ему, – думала она. – Но, Боже, разве это возможно? Что с ней будет, если она признается? Да, он кажется, добрым, хорошим; таким показался ей и с первой минуты – но нет, все же невозможно признаться – этим признанием она себя погубит».
А он продолжал глядеть на нее пытливо, и качать головою, и усмехаться, а то вдруг сморщит брови, строго так поведет глазами, пугает…
В клети тихо; они одни. Только трещит и вспыхивает неровно мерцающим светом лучина.
– Это вот и голова-то у тебя подвязана, – опять заговорил Малыгин, – уж полно – нет ли на ней знаков каких?
Он сказал слова эти просто, шутки ради, но Люба так вздрогнула и так испуганно взглянула на него, что он замолчал и сразу понял, что, очевидно напал на что-то. Недаром этот хорошенький мальчик произвел на него какое-то странное впечатление и во всю дорогу от Медведкова не выходил из головы его. Есть что-то непонятное в мальчике… А вот теперь как испугался!
– Сними-ка повязку, – сказал Малыгин. – Хоть и отмороженные уши, да авось не отвалятся.
Люба слабо вскрикнула и инстинктивно схватилась за голову.
«Что ж у не то на голове такое?» – подумал Малыгин и, прежде чем Люба опомнилась, он твердой, сильной рукою отстранил ее дрожащие и похолодевшие руки, сдернул повязку, пристально вгляделся, отступил от нее на шаг и несколько мгновений простоял перед ней неподвижно, с широко раскрытыми глазами, будучи не в силах прийти в себя от изумления.
Наконец рука его снова протянулась к голове Любы. Еще одно мгновение – и он высвободил из-под кафтана длинную девическую косу.
Люба упала головой на стол и судорожно зарыдала.
Долго еще стоял стрелецкий подполковник перед чудным мальчиком, превратившимся в красивую девушку, и не знал, что ему теперь делать.
– Да перестань же, перестань, чего плакать! – наконец выговорил он, силясь приподнять ее голову.
Но она не унималась.
– Не губи меня – я никому зла не сделала, – расслышал он тихий ее шепот.
– Да Бог с тобой, красная девица – не знаю, как величать тебя, – никакого зла я тебе не желаю. За что мне губить тебя? Только чудно все это больно, в себя прийти не могу, очам своим не верю. Откуда ты взялась, красавица? Поведай мне, как это мальчиком на московской дороге очутилась? Какого рода-племени? Отродясь я таких дел не слыхивал!
Люба мало-помалу приподняла свою голову и взглянула на него заплаканными глазами.
Ничего дурного не прочла она на красивом лице его, – одно смущение.
– Не погубишь? Не выдашь? – проговорила она.
– Вот-те Христос, не выдам!
И она поверила.
Спешно спрятала Люба опять за кафтан свою косу, спешно закутала голову платком и начала рассказывать Малыгину. Уже не таясь от него и не скрываясь, рассказала всю свою подноготную, а он слушал, едва приходя в себя от изумления, дивясь на неслыханную, непонятную смелость этой девушки, но ни на минуту не заподозрил теперь ее искренности.
Он был молод и сразу оказался под обаянием красоты ее, и даже в голову ему не пришло винить Любу за ее поступок, столь несвойственный ее полу. Он только жалел ее, слушая рассказ о несправедливостях и обидах, которым она подвергалась в перхуловском доме.
Но вот Люба замолчала, говорить ей больше нечего.
– Чудная ты, красавица, – проговорил Малыгин. – И как это ты такая родилась? Видно, и впрямь перст Божий указал тебе путь твой, видно, так и нужно было, чтоб сошлись мы с тобою на большой дороге. Не встреться ты с нами – как бы еще добралась до Москвы, да и там куда бы девалась? Смела ты, правда, смелее иного молодца, да про всякую смелость-то ведь и беда ходит неминучая. А и то сказать, попадись ты не мне, а кому другому, то вволю наплакалась бы. Но Христом Ботом клянусь тебе, я тебя не выдам, стану беречь, как сестру родную, и доставлю тебя к твоей Царь-девице.
– А ты знаешь ее, царевну? Видал? – дрожа всем телом и сверкая глазами, спросила Люба.
– Видал, знаю.
– Что ж она? Какая?
– Да вот такая же, как ты, – ответил он, улыбаясь. – И красотою и смелостью вы с ней поспорите. Вся Москва дивится на царевну Софью: много хвалят ее, а корят еще больше, потому – живет она по-своему, не стыдится того, что других девушек в краску вводит. Недаром ты, сударыня Любушка, ее, царевну, во сне видывала – свое к своему поневоле влечется. Так вот что я скажу тебе, порадую: есть у меня прямой к царевне доступ – постельница ее мне знакома, а та постельница близкий к ней человек. Через нее и ты доберешься до царевны, а пока будь уж мальчиком, в целости на Москву тебя доставим.
– Как мне и благодарить тебя – не знаю, государь ты мой, Николай Степанович! – с чувством выговорила Люба, вставая с лавки и земно кланяясь подполковнику. – Поверила я тебе, как Господу Царю Небесному, и знаю, что ты точно меня не выдашь. Денно и нощно буду за тебя молиться. И правду ты молвил, видно, Господь сжалился надо мною, что привел меня к тебе, а не к другому. Что ж, обидеть меня недолго. Смела, ты говоришь, я, пускай так, да что в нашей смелости, когда она до поры до времени, а придет тяжкая минута, и словно как не бывало этой смелости: дрожь возьмет, слезы сами брызнут – и всякий тебя обидит…
И подполковник, и Люба в своей горячей, неожиданной беседе не замечали, как идет время, а время шло быстро. Глубокая ночь над землею, спать пора. Завтра рано выступать в поход нужно, но им спать не хочется. Новое волнение охватило Любу, и не знает она, что с ней такое – явь ли то или сон волшебный, каких немало ей грезилось и прежде, в тишине и темноте ее маленькой суздальской каморки.
Слишком много всяких впечатлений и волнений пробежало в эти дни над головой и сердцем семнадцатилетней Любы, трудно с ними справиться, а тут еще новое что-то закралось в нее, что-то жуткое и сладкое, что растет с каждой минутой, что сказывается тайным, доселе неведомым трепетом при каждом взгляде Николая Степановича, при каждом звуке ею голоса.
А сам он, молодой стрелецкий подполковник, тоже готов просидеть всю ночь напролет и, не отрываясь, глядеть на эту непонятную красавицу, которая сразу заворожила, заколдовала его, вынула его сердце.
Только под самое уж утро заснул он, прикорнув на лавке, заснул только тогда, когда они досыта наговорились и когда из уголка клетки, где прилегла Люба, раздалось ее мерное, сонное дыхание.
Недолго пришлось им поспать, часа с три каких-нибудь, но в это малое время много всяких грез и сновидений пронеслось над их молодыми головами.
Любе грезились все дива дивные, грезился терем Царь-девицы – это были старые, знакомые ей сны, но к ним теперь примешивалось что-то новое. Рядом с чудным образом Царь-девицы мелькал пред Любой новый образ нежданного ее друга, молодца красавца, стрелецкого подполковника.
А Николаю Степановичу не снились ни терема, ни царевны, не снилось ничего неведомого и волшебного. Видно, никакой силы не было у его воображения, потому что снилось ему только то, что и наяву было в двух шагах от него, – снилось заплаканное лицо Любы.
IX
Малыгин исполнил свое обещание, данное Любе: во всю остальную дорогу он хранил ее как зеницу ока, хотя и старался не показывать виду окружавшим, что обращает особенное внимание на «парнишку». Но где бы он ни был – далеко ли от того воза, на котором сидела Люба, или возле, – она чувствовала, что его зоркий глаз следит за нею и что при малейшей опасности ей будет защитник. И ей отрадно было это сознание, эта уверенность в его помощи.
Она держала себя непринужденно: сама не навязывалась, конечно, стрельцам с разговорами, но если с ней заговаривали, отвечала охотно и весело. Только с приближением к Москве в ней начинало сказываться все большее и большее волнение. Ее щеки то вспыхивали, то бледнели. Она начала задумываться, иной раз невпопад отвечала на обращенные к ней фразы, но только стрельцы ничего этого не заметили – какое им было дело до «парнишки».
Вот и Москва.
Сердце Любы тревожно забилось, она приподнялась на возу и вперила блестящий, зоркий взгляд перед собою. Утреннее солнце заливало светом окрестность. На голубом небе все яснее и яснее вырезались городские строения. У Любы дух захватило от чудной, невиданной картины, которая ей представилась: они тогда въехали на пригорок, и сразу вся Москва открылась перед ними.
Громадный, бесконечный город чернелся десятками тысяч домов, среди которых по всем направлениям высились каменные церкви и сверкали на солнце своими золочеными куполами. А посреди города восставало что-то дивное, таинственное.
– Это что такое? – с дрожью в голосе спросила Люба.
– Кремль, – ответили ей.
И она не могла оторваться от белой каменной твердыни, которая часто давно уж являлась ей в грезах. Но ее грезы оказались бледными перед действительностью: башни, церкви и, наконец, громадная белая колокольня Ивана Великого, купол которой казался Любе огромным золотым шаром, казался вторым, взошедшим на небе солнцем…
Чудное жилище, достойное Царь-девицы! Любе захотелось скорее сейчас туда. Но это было невозможно – стрельцы не въехали даже в черту города и остановились в одной из слобод, где были дома их.
Малыгин проводил Любу к себе в дом, а сам отправился отдавать отчет начальству в возложенном на него поручении.
Не без сердечного замирания стала дожидаться Люба своего нового друга и рада была радешенька, что он человек одинокий, что некому ее теперь расспрашивать. Ей хотелось остаться одной, сообразить в тишине и на свободе все, что ей предстояло…
Она одна. Она замкнулась в светлой, чисто прибранной горнице, которую указал ей Малыгин. Никто ее не тревожит, а между тем не может собраться она с мыслями – какая-то одурь нашла на нее: вместо мыслей в голове что-то странное, спутанное, что мечется перед нею. Хочет Люба схватить на лету одну мысль, а она не дается, заменяется другою, но и та тоже спешит вслед первой. А время идет не видно и не слышно, и не знает Люба, сколько прошло его, скоро ли вернется Малыгин и с какими вестями.
Малыгин вернулся нескоро, часов через пять, уже под вечер. Подошел к двери, окликнул Любу – та не отзывается, стал стучаться – не слышит.
«Ахти! Уж не случилось ли чего с нею? Упаси Господи!» – испуганно подумал молодой подполковник и побледнел даже. Рванул дверь, и, от усилия его крепкой руки чуть не соскочив с петель, дверь распахнулась.
Малыгин вошел в горницу, видит – Люба лежит, как была, в своем кафтане, с закутанной платком головою, лежит не шевелится.
С почти остановившимся от страха сердцем подошел к ней хозяин.
«А вдруг отдала Богу душу, что тогда?»
Наклонился над ней, нет – жива, жива! Так мирно, сладко дышит, на щеках яркий румянец. Спит красавица и во сне улыбается.
«Слава тебе, Господи!» Отошло от сердца. Малыгин тихонько склонился над Любой и не решался разбудить ее, долго любовался ее красотою. Вот он нагнулся еще ближе, прислушался, огляделся во все стороны, будто боясь, что кто-нибудь за ним подсматривает, и быстро коснулся щеки Любы своими горячими губами.
Ее мерное дыхание прервалось на мгновение, она шевельнула рукою.
– Вставай, государыня Любушка, вставай! – громко, счастливо заговорил Малыгин, беря ее за руку.
Она очнулась, улыбнулась ему со сна ласковой и нежной улыбкой и поднялась на ноги.
– Ах! Прости ты меня, Николай Степанович, – сказала она. – Вот как уснула: ничего не слыхала, видно, устала дорогою.
– Это хорошо – с дороги поспать всегда нужно, – говорил каким-то растерянным голосом хозяин. – Ты-то вот прости меня – оставил я тебя одну, чай, ты проголодалась? Да видит Бог, спешил я, только раньше никак не мог вернуться. По твоему делу был: все устроил.
– Как? Что? Что устроил? – встрепенулась Люба. – Говори, Христа ради, не томи ты меня, Николай Степанович.
– А то устроил, что был во дворце царском, виделся с постельницей царевны, Федорой, Родимицей она прозывается. Баба шустрая, разумная, вашего поля ягода, я ее не первый год знаю, – ну так вот, рассказал я ей про тебя. Она с радостью взялась за твое дело и обещалась нынче побывать, повидаться с тобой. Да, чай, теперь скоро и будет.
Люба так обрадовалась этой вести, что даже не чувствовала голода, хоть с утра ничего не ела. Как ни угощал ее добрый хозяин разными яствами – от всего она отказывалась, только нетерпеливо ходила из угла в угол да спрашивала, скоро ли придет та постельница.
– Скоро, скоро, – с улыбкою отвечал Малыгин, не спуская глаз со своей нежданной гостьи.
День этот задался для Любы счастливый – не успела она вдоволь намучиться ожиданием, как раздался стук в наружную дверь домика Малыгина, и через несколько мгновений перед смущенной и взволнованной Любой явилась таинственная, так страстно ожидаемая Родимица.
Родимица была молодая вдова, лет двадцати трех, не больше, красивая и стройная, с продолговатыми черными глазами и смуглым лицом, черты и выражение которого сразу указывали на ее южное происхождение: она была украинской казачкой.
Громко смеясь и показывая два ряда белых, крепких зубов, Родимица подошла к Любе, поклонилась ей, потом поцеловала ее в обе щеки.
– Ах ты, мое дитятко, – смеясь, говорила она. – Дай-ка посмотреть на тебя. Ишь ты, и впрямь красавица, не обманул Никола; я, признаюсь, ему не поверила было – думала, спьяна болтает. И как это тебя, гарная дивчина, на такое дело диковинное стало, расскажи-ка мне сама, все по ряду, а то Николай-то болтал много, да, може, и от себя выдумал… Хочу тебя слышать, чтоб так, с твоих слов, и передать все государыне-царевне…
Люба принялась рассказывать всю историю. И говорила она на этот раз с радостью и восторгом, а Родимица ее внимательно слушала, сверкая своими черными глазами и только иногда перебивая Любу.
– Ах, бис их дядька, какие злющие! – повторяла она, слушая о притеснениях, испытанных Любою.
– Добре! Добре, Любушка! Вот так, люблю, хорошо ты отделала злющую бабу, жаль, мало волос у ней выдрала! Ишь ты, холопка, бить тебя вздумала, право, жаль, мало ты ее отделала. Уж я бы на твоем месте себя не пожалела, а расписала бы ей образину на память. Ну, да что тут толковать – Богу благодарение, все теперь кончилось! Пускай они хоть какую погоню за тобой посылают, мы тебя не выдадим, а если что, так им достанется – этим Перхуловым. До царя дойдем, ему принесем челобитную, так твои злодеи будут в большом ответе – царь наш батюшка, Федор Алексеевич, милостив да жалостлив, зла такого не стерпит.
– А Бог с ними. Бог с ними, – тихо ответила Люба. – Я им ничего дурного не желаю: не жаловаться пошла за них, пусть себе живут, как хотят, только бы мне к ним не вернуться, только бы мне теперь увидеть ясные очи царевны.
– Увидишь, увидишь! – ответила Родимица. – Вот и сейчас бы взяла тебя с собою, да только нет – нынче нельзя это сделать, нынче весь вечер у нас комедийное действо, и царевна моя там. А вернется поздно в свой терем и прямо в постель. Взяла бы тебя переночевать я к себе в горницу, да и то неладно – начнутся расспросы: что такое? Зачем? Откуда? Пойдут языки чесать, а я этого страх не люблю, да и доложат как-нибудь не так царевне, дело-то нам и попортят. Уж лучше ты, моя ясочка, останься здесь у Николы, он парень добрый, смирный, авось тебя не забидит, да и голову свою пожалеть должен тоже. А я завтра утром, как проснется царевна, сейчас же обо всем доложу ей, и коли что она прикажет, так и прибегу за тобою.
На том они и порешили.
Прощаясь, Люба крепко обнимала Родимицу, благодарила ее как только умела, и они расстались, очевидно, очень понравившись друг другу.
Люба, не смущаясь, помышляла о том, что должна остаться до завтра в доме Малыгина. Хотя она ничуть не меньше прежнего рвалась к Царь-девице, но все же ей жалко было подумать о том, что придется расстаться с Николаем Степановичем, не видеть его, не слышать его голоса! А что неприлично ей, девице, проводить ночь в доме одинокого и молодого мужчины, она не думала. Она хорошо понимала, что если теперь ей думать о том, что пристало ей и что не пристало, о том, что позволено и что зазорно девушке ее лет, так давно она всеми своими поступками, своим бегством, переодеванием, путешествием в стрелецком обозе заслужила себе позор и такой срам, за который прокляла бы ее мать, если б в живых была.
Но вот ведь ей не душно и не тошно от этого позора, не стыдно в глаза смотреть добрым людям, а напротив, всем в глаза смотреть хочется, хочется всем броситься на шею и рассказать про то, как она счастлива, как широко, привольно, жутко и сладко на душе у нее, как будто она только теперь, только сейчас вышла на свет Божий из душного, смрадного подземелья. Так пусть же ее Господь Бог судит за этот срам и позор! Авось он не осудит, а помилует!
Николай Степанович крепко-накрепко запер свой домик, не впускал в него не раз стучавшихся посетителей и до позднего вечера толковал со своей гостьей, отвечал охотно и радостно на все ее вопросы. А вопросов у нее было много – обо всем-то она знать хотела: как здесь живут и что делают.
На ночь он предоставил ей свою спальню, в которой она могла замкнуться, а сам ушел в дальний маленький покойчик.
X
На следующее утро едва Люба успела умыться и Богу помолиться, едва разговелась она с Николаем Степановичем чем Бог послал и выкушала горячего сбитню, как явилась бойкая Родимица, и явилась-то она еще радостнее, еще веселее, чем вчера.
– Собирайся, Любушка, собирайся! – с первого слова заговорила она. – Выгорело твое дело: царевна ждет тебя не дождется. Я еще вчера вечером, как вернулась она с комедийного действа, рассказала ей твою историю, так уж бранила она меня, бранила за то, что не взяла я тебя с собою. Хотела даже обратно посылать меня… Едва я отговорилась, что больно поздно и караульные не пропустят. А теперь проснулась она, матушка, – и сейчас же за тобою!
Люба вся вспыхнула от радости:
– Что ж, я сейчас! Я готова! – Она заторопилась и вдруг примолкла. – Да как же я пойду так? В этом кафтане?
– Эх, и я-то тоже хороша! – крикнула, всплеснув руками Родимица. – Не догадалась, не захватила с собою тебе одёжи! Ну да ничего, парнем пошла ты до царевны, парнем и приходи к ней, и так проведу! Так-то, почитай, что и лучше – царевна по рассказу моему и представляет себе тебя хлопчиком, а вдруг увидела бы девушку… Нет, так лучше! Идем. Простись вот с Николой-то.
Николай Степанович стоял тут же, опустив руки, и лицо у него показалось Любе такое скучное. У нее у самой при последних словах Родимицы упало сердце.
Она, робко и вся вспыхнув, подошла к Малыгину, низко поклонилась ему.
– Прости, Николай Степанович, – сказала она дрогнувшим голосом. – Прости, Бог даст, скоро свидимся, а я до гроба буду молиться за тебя, не забуду вовек твоей доброты и ласки.
И она опять поклонилась. Ей хотелось бы еще многое сказать ему, ей хотелось бы сказать, что он первый человек, который и говорил с ней, и смотрел на нее, и относился к ней по-человечески, и что она первого его полюбила всем сердцем своим. Ей хотелось бы без слов передать ему то новое и отрадное чувство, которое родилось в ней с первой минуты их встречи и которое она сама еще не могла уяснить себе.
Но в присутствии Родимицы ей невозможно было произнести ни одного слова больше, потому что все, что она хотела сказать ему, все, что она хотела дать понять ему, было так высоко и свято, что высказать это только можно было без свидетелей, перед одним лишь Богом.
– Прощай, – тихо выговорил ей в ответ Малыгин. – Благодарить тебе меня не за что. Кто ж бы я был, если б тебя обидел? А что переночевать-то тебе дал у себя, так ведь вот и Лукьян медведковский, и старик Еремей тоже сделали, не объела ты меня, не обездолила. Об одном буду просить я тебя, государыня Любушка: уж позволь ты мне хоть изредка видеть очи твои ясные, не прогони ты меня, коль зайду осведомиться о твоем здравии.
– Да ну, ладно, ладно, – вместо Любы ответила Родимица. – Не расписывай, Никола, знаем, теперь ты зачастишь к нам, ну так что ж, мы тебе рады. Ведь так, Люба, не будем гнать его?
Люба только опустила длинные ресницы и ничего не промолвила – у нее вдруг во рту пересохло, язык не слушался, а сердце так и стучало.
Родимица лукаво взглянула на Малыгина, потом на Любу, сделала им какой-то неуловимый знак, от которого они оба зарделись, и стала надевать свою шубку.
– С Богом! Мигом докатим. Царевна для меня саночки запрячь приказала.
Еще раз, сама не замечая того, долгим и ласковым взглядом глянула Люба на Николая Степановича и последовала за Родимицей.
Расписные, красивые пошевни дожидались их у ворот. Они уселись в них, ямщик гаркнул, и пара бойких лошадей понесла их по ухабам улиц.
На дворе стояла весенняя оттепель, снег почернел совсем, быстро таял, кое-где образовались глубокие лужи. Санки то и дело подбрасывало, Родимицу и Любу обдавало грязной водой, но Люба ничего не замечала, ничего не видела. Она боялась даже подумать о том, что ее ожидает – от этого ожидания у нее голова кружилась.
Сани все мчались. Стрелецкая слобода осталась далеко позади. Въехали в одну из самых людных частей города. Ямщик постоянно заворачивает то направо, то налево, по переулкам и закоулкам; то приходится взбираться на горку, то спускаться в ложбинку. По обеим сторонам улицы старые, почерневшие строения идут вперемежку с боярскими хоромами, красующимися затейливой резьбой. Вокруг хором сады; чуть не на каждом перекрестке церкви и деревянные, и каменные; народу на улицах видимо-невидимо; давка, гам и гвалт, как на базаре. Вот слышится перекрестная брань, вот драка; под самых лошадей подкатываются дерущиеся, ничего не видя, нанося друг другу удары. Ямщик хлещет направо и налево пешеходов; они провожают его бранью.
Эти крики, шум, пестрая толпа пробуждают Любу из ее оцепенения; она с изумлением всматривается и вслушивается.
«Что это такое? Какая бестолочь, какой беспорядок! Ну как тут, – думается ей, – быть одной женщине? Невредимой и необиженной до дому не добраться!»
Совсем не такой представлялась ей московская жизнь в былых грезах.
Проехали еще несколько улиц – и перед Любой кремлевские ворота. В Кремле народу меньше и замечается больше порядка.
Люба глядит с изумлением на чудные постройки, на величественные храмы.
– Что, хорош наш Кремль? – спрашивает ее Родимица.
– Ах, уж так хорош, так хорош, что и слов нет! – отвечает Люба. – Что ж, далеко еще до царевны?
– А вот погоди, мы сейчас остановимся – из санок-то надо вылезть да пешком идти, чтоб нас не очень заметили. Пока еще что так, втихомолку-то лучше. Остановись-ка, Саввушка! – обратилась Родимица к ямщику.
Тот осадил лошадей, и Родимица с Любой вышли из санок.
– Погоди, постой, Любушка, ишь ведь ростепель, грязь-то какая стала! Думала, нам кругом пройти, да нет – по колено увязнешь, придется через царский двор. Ну что ж, не беда, и там проскользнем, – говорила Родимица, глядя себе под ноги и выбирая где снег покрепче, где лучше пройти можно.
Люба шла за ней следом. Скоро они вошли в калитку больших каменных ворот и очутились перед дворцом. Люба стала было оглядывать здание, но Родимица шепнула ей:
– Ты не больно глазей-то. Успеешь наглядеться. А вот пробирайся сторонкой у стены, чтоб тебя не заметили, не то как раз каша заварится: кому еще на глаза попадешься!
И они стали пробираться по стенке.
Чем ближе к дворцовому крыльцу, тем народу становилось больше и больше. Царский двор при Федоре Алексеевиче представлял такую же картину, как и сто лет до того: здесь вечно толпилось до двух тысяч разного люда, из которого большинство так и называлось «площадными», т. е. имевшими право пребывать на царском дворе. Были тут и жильцы, дворянские, дьячьи и подьяческие дети – все те, кто не имел право входить в переднюю, или кто шел в нее, да останавливался по дороге покалякать.
С изумлением заметила Люба, что здесь, на царском дворе, опять нет тишины и порядка, точь-в-точь как на улицах: крик и гам страшные, никто, очевидно, не стесняется.
Вот сошлись два пожилых человека, взглянули друг на друга, и оба остановились. Их до того времени спокойные и степенные лица мгновенно исказились злобным чувством. Еще мгновение – и один из них показал другому кулак.
– А! Так ты на меня ябеду! – проговорил он, или, вернее, прошипел. – Что же, хорошо! Пущай. Только смотри ты, Егорка, как бы та ябеда тебе же в шею не вцепилась. Тяжбу-то заварить не труд какой, а вот как ты ее расхлебаешь? Ты думаешь – на тебя уж ни суда, ни расправы нету? Ан я и сам-то зубаст, еще не дамся!..
– Да чего ты, чего ты ко мне придираешься? – отвечал таким же шипящим голосом соперник. – Чего мне кулак-то свой поганый кажешь?! У меня, брат, у самого два кулака, оба на тебя годятся.
При этом поднимаются два кулака чуть не к самому лицу противника. Тот не может этого вытерпеть.
– А! Так ты драться!
– Я-то не дерусь, это ты задираешь!
– А! Так ты драться!
И между соперниками завязывается драка. Они исправно колотят друг друга, колотят до тех пор, пока находят это приятным. И никто их не разнимает. Напротив, десятка два таких же почтенных и солидных с виду особ, как и они, окружают их, смотрят с очевидным удовольствием и даже подзадоривают дерущихся своими замечаниями.
– Вот так! Вот так, под микитки! Вот так, брат, ладно! Ну да! Смотри, брат Иван Петрович, как бы об одном глазу с царского двора не выйти!
А в нескольких шагах от этой сцены происходит другая встреча противников. Там сразу даже и невозможно понять, в чем заключается причина ссоры и обоюдной ненависти. Просто один, может, без всякого умысла, сказал нелюбезное слово, другой обиделся, ответил словцом более крепким. Языки расходились, и нет сил уж удержать их. Начинается обвинение друг друга во всевозможных мерзостях: и в воровстве, и в грабительстве, и даже в убийстве. Но и этого мало. Когда все преступления перебраны, добираются до отцов своих, матерей, братьев, сестер и прочих родственников. Оказываются целые семейства мошенников и разбойников, клятвенно утверждается, что весь род, и дед, и прадед таковы уж.
– Да ведь известно! – кричит один. – Твой отец как в Никольском-то приходе старостой церковным был, так вся Москва про то ведает, что из лампад масло воровал, от святых икон свечки прятал, перетапливал воск да продавал! В церкви-то темень стояла даже по большим праздникам, тьфу ты мерзость! И весь род-то такой поганый!
Но тот, отец которого воровал церковное масло и свечи, не мог вынести этих последних слов и кинулся на своего обидчика.
Обидчик, человек на язык острый и смелый, как дошло дело до кулачной потасовки, оказался не из храбрых и пустился наутёк. Тот за ним, пошла гоньба по двору. Обвинитель изворачивался и вправо и влево; обвиняемый был тучен, не мог поймать своего врага и вот с досады поднял валявшийся в снегу большой осколок кирпича, наметился и хватил им в убегавшего, попал ему в голову, тот заорал благим матом, кровь показалась… Только увидя, что дело приняло серьезный оборот и что рана может быть и опасной, присутствовавшие решились выйти из бездействия.
Но Люба уже не видела окончания этой сцены. Родимица толкнула ее в какую-то маленькую калитку, и они очутились в длинной деревянной галерейке.
«Что ж это такое? – думала Люба. – Вот какие дела на свете творятся! И в Кремле, во дворце царском, почитай, то же самое, что в Медведкове. И что мне за напасть такая попадать на всякие ужасы!»
– Неужели у вас часто такое бывает? – спросила она Родимицу.
– Это ты про что? Про брань и драку-то? Да чуть не каждый день грызутся, такая уж у них повадка. Это все старики здешние; говорят, прежде еще и не то бывало. Нет, молодые-то не в пример лучше, степеннее… Но вот сейчас и царевнин терем – докончила Родимица, – чай, ждет она нас не дождется. Меня бранить станет, что долго – уж она всегда так, огонь, да и только…
Люба с Родимицей поднялись по лесенке, вошли в сени. Еще одна лесенка, еще одна крытая галерейка, и вот светлый и теплый нарядный покойчик. Тут взад и вперед шмыгает немало разных женщин, видны хозяйские хлопоты.
– Федорушка, ты откудова? Что за парнишка с тобою? – спрашивали Родимицу молодые девушки, заглядывая в лицо Любе.
Попадавшиеся старухи тоже спрашивали, но уже другим тоном:
– Эй, Федора, с кем ты тут шляешься? Кого еще притащила? Ох, срама-то с вами, срама!
«Ну, и тут то же самое, что у нас в Суздале!» – подумала Люба. Но вдруг она остановилась в недоумении, широко раскрыла глаза – к ней навстречу по полу катилось что-то необычайно странное, живая человеческая фигура в аршин с небольшим величиною. Люба вгляделась и невольно вскрикнула. У катившейся фигуры было страшное лицо, всклокоченные волосы, огромный рот с толстыми красными губами. Осклабляясь, она показывала белые зубы.
– С нами крестная сила, – шепнула Люба. – Матушка Федорушка, что это такое? Что это за страсти у вас такие?
– Ах ты глупенькая, Любушка! – засмеялась Родимица. – Из-за тридевяти земель в мужском платье по большой дороге прибежала к нам – не испугалась, а вот карлицы нашей, арапки, испугалась! Небось не съест, да и где тебя съесть – вишь, ты большая какая, а она едва от земли видна; да и не зла она вовсе; иной раз презабавная бывает.
– Что ж, это порода такая? – продолжала шепотом спрашивать Люба, косясь на карлицу. – Господи, неужто народ такой есть?
– Да, народ такой, и много их, говорят, – ответила Родимица. – И живет он в черной Арапии. Да это что! У ней, у нашей арапки-то, всё же голова одна, а то вон есть, мне верный человек сказывал, люди о двух головах да с хвостами, так и те тоже божия творения, а не бесы.
«Ах, сколько на свете разных див и ужасов, – подумала Люба, – и ничего-то я не знала, ничего не ведала! Да и слава те, Господи! – тут же решила она. – Кабы знала про все, так, пожалуй, из Суздаля убежать не решилась бы, а и побежала бы, так в первую же ночь на дороге со страху померла бы».
XI
Наконец Родимица ввела Любу в укромный покойчик, где никого не было, и заперла за собою дверь.
– Подожди здесь минуту, – сказала она, – я пойду доложу царевне, она в этот час всегда одна бывает у себя, вот тут, за этой дверью…
Родимица исчезла, а Люба стояла ни жива ни мертва, не смея вздохнуть.
Прошли минуты две-три, показавшиеся ей долгим часом. Всё было тихо, только она слышала, как стучит ее сердце.
Наконец маленькая дверь, в которую скрылась Родимица, приотворилась, и кто-то сказал тихим голосом:
– Войди.
Люба машинально ступила несколько шагов и очутилась в друтом покое, более просторном, чем первый.
Покой этот был рабочей комнатой царевны Софьи. Отделка его отличалась большой роскошью. Потолок был писан хитрым разноцветным узором; на полу ковры богатые; из чужих стран выписанная мебель; на стенах зеркала венецианские; в переднем углу под образами высокое, покойное кресло, а рядом стол с книгами, бумагами, перьями и чернильницей в виде глобуса. Но Люба не видела ничего этого – вступив в комнату, она очутилась прямо лицом к лицу с прекрасной молодой женщиной, одетой в бархатную душегрейку, отороченную соболем.
Густые, белокурые волосы этой женщины были перевиты крупным жемчугом; глубокие темно-синие глаза с любопытством и участием остановились на лице Любы; немного резко очерченные полные губы ей ласково улыбнулись.
Люба сразу поняла, кто перед нею, сразу нахлынуло на нее все прежнее, все ее юные, даже еще детские мечты; с новою силою вспыхнула в ней страсть к Царь-девице и с неудержимым, сладостным рыданием упала она в ноги стоявшей перед нею и улыбавшейся ей красавице.
– Что с тобой, милая? О чем ты плачешь? Встань! – звучным голосом проговорила царевна. – Тебе нечего плакать. А и то, поплачь, пожалуй! – прибавила она с новой улыбкой. – Этими последними слезами все твое старое горе и выльется. Знаю я, слышала, много ты натерпелась. Как тебя звать-то? Люба, Любушка?.. Хорошо ты сделала, Люба, что пришла ко мне – я тебя врагам твоим не выдам, о тебе позабочусь, я буду любить тебя, Люба! Я уж и люблю тебя, потому что слышала, что ты заочно меня полюбила. Встань же, поднимись, дай посмотреть на тебя…
Очарованная этими милыми, ласковыми словами, исполненная радости и счастья, поднялась Люба и с немым обожанием взглянула на царевну.
– Ах, да какая же ты красавица! – сказала Софья. – И впрямь – Люба… Только, боже мой, ты все это в своем кафтанишке, в котором бежала! Ах, какой старый да грязный, чай, тебе в нем холодно было дорогою?
И царевна, все улыбаясь и лаская Любу своим глубоким взглядом, рассматривала ее кафтан, всю ее одежду.
– Федорушка! – крикнула она наконец.
Родимица явилась.
– Скорее, скорее выбери из моей одёжи, поди переодень ее, причеши и тогда придите опять ко мне. А уж серьги и другие украшения я сама выберу.
Родимица взяла Любу за руку и вывела ее из царевниной комнаты. Оставшись одна, Софья еще несколько раз, улыбаясь, качнула головою.
«Славная девка! – подумала она. – И красивая, и смелая, из нее прок будет, а мне нужно набирать таких. Будь у меня их побольше, я бы из них полк амазонок сделала и с этим полком весь мир завоевала бы».
Царевна прошлась по комнате, подошла к столу, придвинула кресло и стала разбирать книги. Царевнина библиотека состояла из цвета тогдашней русской литературы, и содержание этих книг указывало на большую любознательность и замечательную, по тогдашнему времени, образованность Софьи. Здесь была и книга, переведенная монахом Епифанием Славинецким «Уставы граждано-правительственные из первой книги Фукидидовой истории и из конца панегирика Траяну, Плиния-младшего», две части географии: Европа и Азия, «Книга врачевской анатомии Андрея Весселия Букселенска», «Об убиении краля ангельского» (английского короля Карла Первого), «Гражданство и обучение нравов детских», перевод ученого монаха Арсения Сатановского «О граде царском» и «Поучение некоего учителя именем Мефрета». Были здесь и книги, сочиненные и изданные учителем царевны, знаменитым Симеоном Полоцким.
Софья развернула одну из них, посвященную ей учителем и с обращенным к ней стихотворным предисловием. Она прочла:
О, благороднейшая царевна Софья, Ищеши премудрости выну небесные. По имени твоему (Софья – мудрость) жизнь Твою ведеши: Мудрая глаголиши, мудрая дееши… Ты церковные книги обыкла читати И в отеческих свитцех мудрости искати…«Вот как расписал меня учитель! – усмехнулась про себя царевна. – „Ищеши премудрости выну небесные… по имени твоему разнообразны”. Чудное, золотое время! Где оно теперь? – думала Софья. – Всё не до небес теперь! Бывало, при батюшке не о чем было житейском и думать, тогда точно мысль высоко летала в сферах премудрости Божией. Чудное, золотое время! Где оно теперь? Всё изменилось. Вот сколько времени ни одной книги и в руки не брала, чай, уж многое позабыла, что знала прежде, да где уж тут! – неотложных забот много… Вон брату Федору день ото дня хуже становится! Того и жди умрет, и если я не сумею устроить нашего дела, тогда мы все погибли. Лютая злодейка моя, царица Наталья, на мне первой выместит свою злобу, а будет подрастать Петр, так чего мне ждать от него? Его уж и теперь приучили ненавидеть меня и всех нас. Скоро, скоро тогда добьются они нашей казни… Всех нас изведут Нарышкины… Нет, не время читать книги, не время учиться, нужно весь разум напрягать к тому, чтобы спасти живот свой и своих близких. Да что, если и живых оставят, если не изведут тем или другим способом, если даже и в монастырь какой далекий не заточат, так при Нарышкиных разве будет мне какая-нибудь воля, разве буду я иметь хоть малейшее значение? Мне придется запереться в этом тереме, распроститься со всякой живой жизнью: есть, спать, молиться, молебны служить да панихиды, слушать сказки и присказки дур да карлиц, жить так, как живали наши бабки, как живут тетки Михайловны и мои сестрицы… Ну что ж, если им любо, если для них достаточно такой жизни, пусть живут себе, да мне-то этого мало, по мне-то это не жизнь, а смерть… хуже смерти! Я задохнусь в стенах этого тесного терема… Нет, мне нужно простору, власти! Но что ж делать? Вот ведь думаешь и передумываешь, кажется, все идет ладно, а смотришь – и опять что-нибудь зацепилось… Совсем было взяла в руки я нашу новую царицу, Марфу, во всем она со мной советовалась, на все моими очами глядела… Ан подвернулся какой-то недобрый человек – и уж она брата Федора за Матвеева просит… Нет, нельзя допустить этого – явится Матвеев и много бед наделает. Все глупые Нарышкины вместе взятые не так страшны, как один старик Матвеев – это исконный враг наш. Не на кого положиться. В ком искать себе помощи? Одна, все одна, тут никакого разума не хватит. Ежели и прав учитель, премудрой меня называя, все же дела такие великие одной головой не делаются… Дядя Милославский?.. Да, он человек золотой, нужный, но с ним тоже как раз в беду попадешься – выдержки у него нету… Эх, есть золотая головка, что на каждый час, на каждое время пригодилась бы, – милый друг мой Васенька, да в кои-то веки его увидишь, побеседуешь с ним – все он в походах да в походах, то сюда, то туда его посылают. Видно, пронюхали старые вороны его силу орлиную, так опасаются, удаляют… Вот маленьких людей набирать нужно – иной раз маленькие-то люди нужнее больших оказываются. Дурно, что ли, моя Родимица Федорушка дела обделывает? Обещает, что в скором времени все стрельцы на нашу сторону станут. И не похвальба-то пустая – сама я в этом с каждым днем больше и больше уверяюсь. Да, Федорушка, служи, служи свою службу, а будет на нашей улице праздник, так тебя я не забуду… Побольше бы мне таких Родимиц!.. Вот кто знает, может, и новая слуга верная у меня будет! – Улыбнулась царевна, вспомнив смешную и милую фигуру Любы в старом кафтане, с обвязанной головою. – Нужно хорошенько оглядеть эту девку, сразу она пришлась мне по нраву».
А Люба уже стояла перед царевной, снаряженная и наряженная Родимицей. На ней была голубая шелковая сорочка, стянутая алым поясом, и распашная телогрея, перед которой был весь унизан золотыми пуговками и нашивками. Густые ее волосы были спрятаны в волосник – сетку, сплетенную из пряденого золота.
В этом наряде Люба не могла показаться смешною; от сочетания ярких цветов шелка и золота ее красота выступила в полной силе.
Царевна несколько мгновений молчала, любуясь ею.
– Федорушка, – наконец обратилась она к тут же стоявшей Родимице, – поди, принеси мой ларчик.
Родимица поспешно исполнила это приказание. Царевна вынула из кармана ключ, отперла им принесенный ларец резной слоновой кости и стала вынимать одно за другим различные украшения.
Люба с невольным восторгом следила за этой работой. Она еще никогда не видела таких прекрасных и роскошных вещей, таких серег, монистов, перстней, цепочек, обручей, запястий и зарукавий. Луч солнца ударил из окна прямо на ларец, и самоцветные камни и жемчуга так и блестели, так и переливались всеми цветами.
Царевна выбрала красивое ожерелье из крупных гранатов вперемешку с жемчугом, яхонтовые сережки с длинными подвесками и, милостиво глядя на Любу, сказала:
– Поди ко мне, наклонись, я сама тебе вдену серьги и повяжу ожерелье. Это я дарю тебе в знак моей милости и надеюсь, что ты окажешься ее достойной.
Люба склонилась пред царевной и со слезами на глазах прошептала ей свою благодарность.
Софья ласково протянула ей руку, и Люба крепко прижалась губами к руке этой. Не обманули ее грезы, не приходится ей раскаиваться в своей решимости, в своем побеге – привела ее судьба, по Божьей милости, в чудный терем Царь-девицы, и этот терем оказался таким же волшебным, каким она его себе представляла, а Царь-девица еще краше, еще милее, еще волшебнее.
«Боже мой, что же все это такое? Уж не сон ли опять? Не ночные ли грезы? Разве наяву может быть такое счастье?»
Она в первый раз решилась пристально взглянуть на царевну, и Софья показалась ей какой-то неземной красавицей.
«Не человек это, а ангел Божий!» – с сердечным трепетом подумала Люба. И этот ангел ласково глядит на нее, грешную, земную Любу, и улыбается ей, и осыпает ее милостями. Чем же она заслужила все это? Чем же заслужить? Да, отныне вся жизнь ее принадлежит царевне! За нее пойдет она в огонь и воду, по первому ее знаку умрет и будет счастлива, что умрет за нее.
Софья зорко следила за выражением лица Любы и, по-видимому, читала ее мысли.
Она не могла не заметить, какое сильное впечатление произвела на девушку, и нарочно усугубляла свои ласки и улыбки для того, чтоб окончательно заворожить ее, приобрести ее в полное свое владение.
Когда наряд новой теремной жилицы был вполне окончен, царевна приказала ей сесть на низкую парчёвую скамейку рядом с собою и стала ее обо всем расспрашивать.
Люба, сначала запинавшаяся от восторга и смущения, наконец под обаятельным и ласковым взглядом Софьи успокоилась и всю свою душу высказала перед Царь-девицей.
Софья слушала ее с видимым удовольствием. Ей становилось ясно, что она не обманулась в своих надеждах, возлагаемых на эту смелую, так неожиданно и странно явившуюся к ней девушку.
«Большой прок будет из этой Любы! – думала она. – Кто знает, может, я в ней нажила себе незаменимого человека. Не обидел ее Господь разумом, хоть она и совсем еще ребенок».
Точно так же понравилось царевне и то, что Люба грамотна. Она сейчас же развернула одну из книг, лежавших на столе, и протянула ее Любе.
– Ну-ка, вот, прочти мне, посмотрю, как ты читаешь.
Люба взяла дрожащими руками книгу, щеки ее зарделись румянцем.
«А вдруг не сумею? – с ужасом подумала она. – Ведь давно в руках книг не было, пожалуй, разучилась. Господи, помоги мне!»
Взглянув на развернутую перед ней страницу знаменитого сборника «О граде царском», она с отчаянием увидела, что многие буквы как-то странно выставлены и она их не знает. Но тут решается для нее вопрос очень важный и ясно, что царевне будет приятно, если она сумеет прочесть хорошо. И она, напрягая все свое внимание, стараясь успокоиться, решилась и прочла:
Обретаютжеся еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевание на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь гор, различные семена, злаки травные, притчи и иная многая собранная и в едино место совокупленная. А сложено то все разумом и прикладом в Троице. Единому, ко ангелам, к человеку и его добродетелям, и злобам, такожде и к коварству демонов и к похвалению святых Божьих, к хулению же еретиков удивительным прировнянием и свидетельствам Ветхаго и Новаго Завета писанные и с толкованием учителей церковных приводятся…
– Э, да ты славно читаешь! – похвалила ее царевна. – В этом превзошла даже мою Федорушку, та вот до сих пор сложит аз да буки – да и запнется. Я тебе ее под начало отдам.
– Нет уж, уволь, царевна, – заметила, улыбаясь, Родимица. – Поздно мне учиться грамоте, да авось и без книг проживу. А коли придется цидулку какую прочесть нужную, так на это меня хватит.
Однако нужно было подумать о том, чтоб определить положение Любы в тереме царевны. Все должности были, конечно, уже разобраны.
– А вот что, Федорушка, – подумавши, сказала Софья. – Пусть будет Люба твоей помощницей, авось вы не погрызетесь, как станете стлать мне постель. К тому же тогда я часто буду видеть ее, а мне хочется с ней ознакомиться. Недаром же она столько верст прошла, чтоб до меня добраться…
Родимица ничего не имела против этого распоряжения царевны: она была вовсе не зла и не завистлива, только много бранилась и ссорилась с остальными царевниными женщинами, особенно со старухами, и ей приятно было иметь в Любе новую союзницу.
XII
Люба очень скоро свыклась со своим положением. Только первые дни ходила она, как в тумане, и каждый вечер ложилась в постель необыкновенно уставшею. Да и как было не утомиться ей в царском тереме, рядом с которым перхуловский дом представляется таким крохотным и тихим.
Московский терем вмещал в себе несметное число женщин всех возрастов; с утра и до вечера по его покоям, переходам, коридорам и галерейкам взад и вперед то и дело сновали всякие теремные жилицы, начиная с прислуги и кончая боярынями, приближенными к царице и царевнам. И весь этот люд заинтересовался новой жилицей, Любой. Все спешили с ней перезнакомиться, узнать кто она, откуда, что за птица. Несколько десятков раз приходилось ей рассказывать про себя одно и то же, выслушивать одни и те же замечания.
Старухи накидывались на нее, порицали ее поступок, ее неслыханную смелость и прямо в лицо объявляли ей, что пути из нее не будет. Молодые завидовали ее счастью, тому, что она без всяких заслуг с своей стороны, неведомо откуда пришедшая, сразу оказалась в любимицах у царевны Софьи.
Люба должна была держать ухо востро, обдумывать каждый свой шаг, каждое слово, чтоб не нажить себе лишних и опасных врагов и чтоб, напротив, приобрести кое-каких приятельниц.
Впрочем, она скоро оказалась разумной и рассудительной; смущение и робость первых дней прошли. Царский терем и даже сама Царь-девица уже не казались ей сновидением; она поняла, что живет и что нужно уразуметь смысл той жизни, которая ее окружает.
В перхуловском доме, приниженная и обязанная сносить безропотно все оскорбления, она, конечно, не могла быть сама собою. Здесь же ее положение оказалось совсем иное, здесь нельзя было безнаказанно обижать ее, да и самое недоброжелательство к ней должно было скрываться. Она почуяла себя в большом просторе и выказала все свои способности. На ее лицо вернулось давно позабытая детская улыбка, с полнотою и довольством жизни вылетело все мрачное из мыслей. Ей хотелось петь, ликовать, и она глядела на всех светлыми глазами, для всех у ней готово было ласковое слово. И многие из тех, кто с первого раза отнесся к ней недружелюбно, в короткое время примирились с ее положением царевниной любимицы, старались сблизиться с нею, и многие даже заискивали в ней, надеясь через ее посредство и ходатайство перед царевной кое-чего добиться. Но Любу провести было трудно. Она бессознательно, инстинктивно чувствовала, кто с нею искренен и кто только прячется под ласковую личину. Иной раз ей даже трудно было удержаться, хотелось выразить свое негодование какой-нибудь лживой женщине, уверявшей ее в дружбе и готовой сейчас же взвести на нее какую угодно сплетню. Но она удерживалась и не выказывала своего чувства.
«Да бог с ними! – думала она. – Пускай себе лгут и притворяются, мне-то какое дело? Лишь бы не потерять милости царевны, лишь бы Федорушка от меня не отвернулась».
Федорушка сделалась ее искренним другом и с ее-то помощью, из ее рассказов вся подноготная терема скоро стала ясна для Любы.
По своему обыкновению, думая и раздумывая о том, что вокруг нее творится, Люба не могла не вспоминать Суздаля. Две различные величины, малая и большая – перхуловский дом и царский терем, несмотря на видимое различие, в сущности, походили друг на друга: как там, так и здесь женская жизнь являла одни и те же черты, ту же замкнутость и однообразие. Разница была только в том, что против этой замкнутости и однообразия в перхуловском доме бессильно восставала одна Люба, – здесь же возмущение началось, очевидно, не со вчерашнего дня, велось под знаменем царевны Софьи и некоторых из ее сестер.
К этому возмущению примкнули все более или менее молодые обитательницы терема; старухи, стоявшие за стародавние обычаи, оказывались в меньшинстве, но все же они не признавали себя побежденными; весьма многие внешние формы жизни велись по-старому.
Царский московский терем, в то время как попала в него Люба, был весьма обширен – его перестроили в конце царствования Алексея Михайловича. Да и нельзя было иначе – у каждой царевны был свой большой штат, а царевен в ту пору было немало. Три царевны – тетки Михайловны: Ирина, Анна и Татьяна, да шесть царских сестер Алексеевен: Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Марья и Феодосья. Кроме того, две царицы: Наталья Кирилловна с детьми, Петром и Натальей, да вторая супруга царя Федора, только что с ним обвенчанная, пятнадцатилетняя Марфа Матвеевна из рода Апраксиных.
Если бы пришлось быть одной хозяйке над всем этим многолюдным теремом, то ей нужно было бы вести жизнь каторжную, потому что нечеловеческих усилий требовалось для ведения такого хозяйства. Кто бы мог соблюсти мир, дружбу и спокойствие между всеми этими родственницами?!
Рассказывали, что покойная царица, первая супруга Алексея Михайловича, Марья Ильинишна, не дожившая до старости, много намучилась и сократила свою жизнь именно потому, что хозяйничанье в тереме пришлось ей больно солоно.
Вторая супруга Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, спаслась от хозяйских мук только великою к ней любовью царя, неустанно заботившегося о том, чтоб отстранить от нее все неприятности и даже для этой цели отдельно ее поселившего.
Теперь, собственно говоря, хозяйки не было в тереме. Наталья Кирилловна с детьми продолжала жить особо, да ее никто и не считал хозяйкой. В тереме ее ненавидели и только помышляли о том, как бы сделать ей побольше неприятностей. Новая же молодая царица едва успела ознакомиться с теремом и по своим летам, конечно, не могла быть хозяйкой.
Старшие царевны, Михайловны, пользовались уважением от младших, но очень хорошо понимали, что стоит им только заявить право старшинства, как это уважение превратится в недоброжелательство, во вражду, успешно вести которую у них сил не хватит. Поэтому они старались держать себя очень тихо и скромно и возвышать свой голос только тогда, когда этого непременно требовали от них. К тому же царевны Михайловны еще имели одну причину замыкаться в своих покоях и принимать мало участия в общей теремной жизни: они сильно были недовольны новыми нравами и обычаями, забравшимися в терем.
Старшая царевна Михайловна, уже шестидесятилетняя старушка, в беседе с духовником своим постоянно твердила ему, что грех великий живет ныне и в царском доме, что содрогаются кости покойного батюшки царя Михаила Федоровича от того срама и ужаса, которые творятся в его семействе.
– Да, не тем будет помянут покойный братец, великий государь Алексей Михайлович, человек он был добрый и набожный и до нас ласковый – за это великое ему спасибо, и мы о душе его ежечасно молимся, – но все же и он взял великий грех себе на душу, попал-таки в когти дьяволу, допустил много зла своею слабостью. И от его слабости выросло в тереме древо нечестия, а уж теперь, по его смерти, к племянницам нам зазорно и заглянуть – такое у них творится. Бывало, как мы были молоды, у нас в тереме тишь да гладь, да Божья благодать – ни один мужчина заглянуть не смеет, близких родных и тех не видали, только отец духовный и вхож был к нам с матушкой. Теперь же племянницы целую ораву мужчин в терем нагнали: все Милославские ходят, да и невесть кто. А уж про племянницу Софью и говорить нечего – та совсем как басурманка какая живет, прости господи!..
Как же было и не жаловаться старой царевне на новые порядки теремной жизни. Она выросла в строгих нравах. В ее время царевны почти никогда не выходили из своих покоев, проводя круглый день в обществе приближенных женщин и девушек из лучших родов боярских. Все занятия и развлечения их состояли в вышивании да нарядах, и некому было полюбоваться на красоту их – не попадались они на глаза ни одному мужчине, даже государя редко видывали, никогда не обедали за одним столом с ним. Самые приближенные к государю лица, посещавшие царский дворец ежедневно в течение многих лет, зачастую ни разу не видали царицы и царевен. Даже и врач никогда не мог их видеть. Если случится с царицей или царевной болезнь какая и оказывается необходимым присутствие доктора, то сначала всю комнату больной, все окна занавесят черными занавесками, чтоб было темно, как ночью, и тогда только впустят врача. Нужно ему пощупать пульс у больной, так ее руку окутают тонким покровом, чтобы врач не мог коснуться ее тела.
Случится нужда выехать царице и царевнам на богомолье, так едут они в карете или санях, со всех сторон плотно закрытых. В церковь выходят по особой крытой галерее, и отведено им такое место, что никто из стоящих в храме их не видит.
Никто из народа не смеет даже мельком взглянуть на них и при встрече должен падать ниц и закрывать себе лицо. Если случайно кто-нибудь осмелится взглянуть на царицу или царевну, то ждать ему беды неминучей. Сейчас начнется розыск и допрос, не было ли у него злого умысла.
Старая царевна, конечно, могла с благоговением вспоминать свою старину, хвалить чистоту прежних нравов и осуждать свободу и распущенность нового терема – она уже дожила до старости, уже все земное вышло из ее помыслов и единственное утешение оставалось ей в молитве. Но если бы хорошенько вспомнила она свою молодость, все, что когда-то было ею пережито и перечувствовано, то вряд ли бы стала так нападать она на племянниц и так расхваливать свое время.
Тяжела была в прежние годы жизнь русской царевны. Всякая девушка, родившаяся не в царском семействе, хоть и подвергалась тоже немалым строгостям и должна была вести жизнь уединенную, все же от нее не отняты были права на семейное счастье. Достигнув известного возраста, она выходила замуж, положим, не видав до свадьбы своего жениха и не зная, кто будет ее господином, но все же у нее оставалась надежда, что этот неведомый господин окажется по сердцу, будет добрым мужем. Да и, наконец, отлично понимая, что от своей судьбы не уйдешь и не найдешь себе другую, русская женщина привязывалась даже и к плохому мужу. Потом у нее являлись дети, а с ними и новая радость, новая прелесть жизни.
Русская же царевна не имела перед собой никакой надежды на семейное счастье. Со дня рождения, по одному своему положению, она была обречена на вечное девство. Выдать ее замуж оказывалось невозможным – брак с иноземным принцем не допускался по религиозным причинам, а брак с человеком русским, со своим подданным, хотя бы из высокого боярского или княжеского рода, считался зазорным для царевны. Таким образом, девица-царевна волей-неволей должна была готовиться в монастырки, постницы, монахини. Радость и счастье наполняли ее жизнь только в детстве, когда эти радость и счастье бессознательны и зарождаются сами собою, без всякой видимой причины. Но едва царевна вступала в сознательный возраст, едва начинала развиваться телесно и умственно, едва являлась в ней законная, естественная потребность в радости и счастье, в некоторой полноте жизни, как становилась перед нею мысль о том, что она навсегда должна гнать от себя все светлые грезы, что не для нее то, о чем мечтают, чего дожидаются и что получают другие девушки, начиная от боярышни и кончая каждой простой поселянкой.
Большинство русских царевен кончали жизнь в монастырях и все без исключения, которые оставались жить в миру, не выходили замуж.
Конечно, некоторые из них неспособны были безропотно подчиняться своей горькой доле. Горячая кровь заявляла свои законные требования, и несчастная царевна начинала борьбу за право жизни. Но как же могла она бороться против укоренившегося и признанного священным и неизменным обычая? Она могла бороться тайно, под видом скромницы и постницы жить никому не ведомою, от всех глаз скрываемою, тайною жизнью сердца.
Молодость требовала любви, и предметом этой любви являлся первый мужчина, с которым могла встретиться царевна.
Под тихими сводами терема происходило немало всяких драм и комедий, далеко не идеального содержания. Героем романа несчастной затворницы часто являлся какой-нибудь простой красивый слуга – почти единственное мужское лицо, которое можно было увидеть в тереме.
Иногда случался и другого рода грех: царевна увлекалась своим духовником, и духовник не имел силы противиться искушению.
Эта тайная соблазнительная история иной раз оканчивалась очень трагично. Как ни хитро устраивали свои дела затворницы, все же не могли они скрываться друг от друга, поневоле должны были искать в своих сожительницах помощниц себе и укрывательниц их греха. Случалось так, что женщины поссорятся между собою, и вот вчерашний друг и наперсница идет с доносом. Дело доходит до государя, и тут уж никому нет спасения: срам и позор царского рода смывается кровью и лютыми муками виновных и невинных. При самом лучшем исходе согрешившую царевну ожидают далекая монастырская келья, суровое одиночное заключение, тюрьма страшная с голодом и холодом.
Другой раз пройдет незаметно, никому не ведомо тайная теремная история; все концы схоронят в воду; терем торжествует. Но можно себе представить, как весь он, от мала до велика, занят этими похождениями одной из своих сожительниц. Какие идут разговоры, пересуды, сплетни, как от дурного, соблазнительного примера извращается воображение теремных обитательниц!..
XIII
Царевна Софья чуть ли не первая возмутилась против такой жизни. Она с детства возненавидела терем и его нравы и обычаи, а любовь к ней доброго и разумного отца дала ей возможность приготовить себя к другой жизни. Она училась вместе с братьями у Симеона Полоцкого и превосходила всех их прилежанием и способностями. Любознательность ее не останавливалась на заданных уроках, ей хотелось поскорей знать все, и Симеону Полоцкому иной раз нелегко было исполнять ее требования – на иные вопросы он и сам сразу не мог отвечать, должен был к следующему уроку подготовить свои ответы, должен был сам доучиваться для царевны.
Но сначала, кроме этого учения, на которое головою покачивала царица Марья Ильинишна, Софья все же была в послушании у терема – поневоле должна была исполнять его обряды, только после смерти матери она стала давать себе большую волю, «совсем от рук отбилась», как говорили царевны-тетки.
Она неудержимо выбегала из женских покоев к отцу, присутствовала на всех комедийных действах, иногда даже на обедах царских; видела послов чужеземных и, к окончательному соблазну всех своих родственниц, вела с ними разговоры без стыда и смущения.
Скоро ей стали ясны такие вопросы, такие предметы, о которых до сих пор не помышляла ни одна русская женщина. Она узнала многие подробности управления государством, стала интересоваться всеми новостями, получаемыми из различных концов России, проникла в тайны дипломатических сношений русского двора с иностранными; много думала о том, чего теперь должна добиваться ее родина – чего нужно желать, чего бояться.
Ее взгляды и суждения невольно поражали государственных людей того времени: они должны были краснеть, видя, что молодая девушка во многих случаях оказывается смышленее их и несравненно проницательнее.
Смерть царя Алексея была для всех полною неожиданностью – он был далеко еще не стар и казался крепким человеком. После него государство осталось в затруднительном положении. Много было начато важных дел и не кончено, много было запутанных, нерешенных вопросов и внутри, и извне государства, а твердой руки, которая взялась бы за управление огромной и хитрой машиною, не было.
Федор Алексеевич, по старшинству провозглашенный царем, в глазах всех являлся государем на час, потому что трудно было ожидать его долголетия – он был крепко болен, болен с детства и таял, как свечка.
Второй брат, Иван, телом казался покрепче, но зато со дня рождения был «скорбен главою».
Оставался третий сын от царицы Натальи Кирилловны, маленький мальчик, Петр Алексеевич. Этот был не похож на братьев, этот рос не по дням, а по часам, поражал всех своим крепким сложением, своей не по летам развивавшейся понятливостью, зачатками страстной, богато одаренной природы.
Царь Алексей, обожавший младшего сына, видел в нем своею преемника, но этому преемнику все же нужно было расти долго. Да к тому же одна только мысль о том, что он сядет на трон отцовский, была ужасна всем его сводным сестрам, их родственникам и приверженцам. Допустить Нарышкиных к трону – значило подписать смертный приговор Милославским: ведь уж и так, с тех пор как Наталья Кирилловна сделалась царицей, плохо пришлось прежним царским родственникам. Страшно боялись они, что всесильный при царе Алексее Михайловиче боярин Матвеев, прежний благодетель и друг царицы Натальи, воспользуется слабостью Федора, провозгласит царем ребенка Петра – да он едва этого и не сделал. Он утаил, как сказывали, смерть царя, подкупил стрельцов, чтоб они стояли за младшего царевича, и только ночью известил бояр о кончине государя. Когда те стали собираться, он посадил Петра на престол и уговаривал бояр, чтобы они поклонились ему на царство, потому что царевич Федор весь опух, лежит больной, и нет надежды, что будет жив.
Бояре чуть было не сдались на речи Матвеева, да узнали от патриарха, бывшего при смерти царя, что отец благословил Федора на царство, а князя Юрия Долгорукого назначил опекуном. Тогда стали поджидать Долгорукого. Вот он приехал во дворец, вошел к боярам, «как вол ревет с жалости по царю» и прямо к патриарху.
– Кого отец благословил на царство? – спрашивает.
– Федора, – ответил патриарх.
Тогда Долгорукий с боярами, не слушая уговариваний Матвеева, бросился в покои Федора, а двери в те покои заперты.
Долгорукий приказал выломать двери. Бояре взяли на руки Федора, который не мог идти, так как у него действительно все ноги опухли. Принесли они царевича, посадили на престол и сейчас же стали подходить к руке его, поздравлять на царстве.
Вот какой рассказ составился во дворце и тереме и обошел всю Москву.
Дорого поплатился Матвеев за свой дерзкий поступок – если только этот рассказ и все это не было выдумано. Царь Федор по увещанию родни своей, а главным образом сестры Софьи, дяди Ивана Михайловича Милославского, да верховой боярыни Анны Петровны Хитрой, пользовавшейся большим уважением в семье царской, начал свое царствование с немилости к Матвееву.
Знаменитого «Артамона» обвинили в покушении на жизнь царскую, в чернокнижии и сослали в Пустоозерский острог.
С удалением Матвеева царица Наталья Кирилловна с малолетними двумя детьми – сыном и дочерью, осталась беспомощной вдовицей, теснимой всем теремом и Милославскими. Она замкнулась в своих покоях и проводила печальные дни, горюя и жалуясь, молясь и плача. На этих горьких жалобах, на этих слезах и обидах материнских вырастал царевич Петр Алексеевич.
Милославские торжествовали. Терем вздохнул свободно, избавившись от ненавистной мачехи – но надолго ли?.. Вот больной царь умрет, будет предстоять новый выбор между двумя оставшимися братьями – Иваном и Петром.
Иван ненадежен и скорбен главою, а Петр вырастает в богатыря и умника. К тому же и сам царь Федор, хоть и согласившийся на ссылку Матвеева и друживший со своей родней, все же, несмотря на свою телесную слабость, далеко не вполне поддается наущениям людей близких. Вот уж всем известно, что он говорил одному из друзей своих, Ивану Максимовичу Языкову:
«Брат мой Петр здрав и оделен от Бога всеми достоинствами и достоин наследия державного престола Российского. Родитель мой еще имел намерение наречь его преемником, но ради юных его лет назначил меня, по воле его сделаю и я».
Нет, тут нельзя дремать и наслаждаться спокойствием безоблачных дней настоящего, тут нужно ковать железо, пока горячо, нужно все силы употребить для того, чтоб подготовить себе на будущее время твердую опору, предвидеть возможность всяких случайностей, предотвратить всякие беды.
Никто всего этого так не понимал и так не тревожился настоящим положением, как царевна Софья.
Родимица то и дело отправлялась из терема в стрелецкие слободы, раздавала там подарки от имени царевны, готовила приверженцев царевниной партии.
Сама же Софья при всякой возможности отправлялась к больному брату-царю и беседовала с ним.
Она и прежде была дружна с братом; они вместе учились, и Федор Алексеевич, будучи сам разумным и любознательным юношей, очень ценил способности, познания и ясный ум сестры; не умела сойтись Софья только с женой брата, Агафьей Семеновной. Но царица Агафья несколько месяцев перед этим разрешилась от бремени сыном да и умерла в родах, умер и ребенок.
Федор не хотел жениться вторично; он хорошо сознавал, что не ему думать о браке, не ему мечтать о потомстве – силы оставляют с каждым днем, смерть в глаза заглядывает. Но царевна Софья и другие сестры настояли-таки: заставили согласиться на второй брак и нашли ему невесту, Марфу Матвеевну Апраксину, девочку пятнадцати лет и красоты замечательной, выросшую у них в тереме.
Эта новая маленькая царица, которую Федор ласкал как прелестного ребенка, забывая при звуках ее милого голоса свои тяжкие страдания, должна была служить целям царевны Софьи – и сначала она стала было служить этим целям, но вдруг произошла в ней крутая и неожиданная перемена.
Софья ушам своим не поверила – Марфуша вышла из повиновения!.. Марфуша действует вопреки ее воле! Вот и вчера царь принимал какого-то ее родственника, Апраксина, до сих пор никому не ведомого. А сегодня Родимица принесла ужасную весть, что молодая царица провела часа три в покоях старой царицы Кирилловны и пошла оттуда прямо к царю с раскрасневшимся лицом и заплаканными глазами.
«Что ж это за напасть такая?! – всполошились все в тереме. – Какой это злодей нашелся, который так неожиданно, мгновенно забрал в руки этого до сих пор послушного ребенка?!»
Но злодея такого не было, просто ребенок понял что-то и сообразил. Молодая царица оказалась далеко не глупенькой и всей душой привязалась к страдальцу царю – мужу ей только по имени. Это он послал ее к царице Наталье, проведать младшего брата, а царица Наталья женщина разумная, сумела ее разжалобить. Много ей наговорила, много перед ней поплакала и раскрыла многое такое, чего до сих пор не видела и не понимала Марфуша.
И вот пришла жена-ребенок к царю Федору и передала ему разговор с царицей, а он сильно призадумался. Следствием этой думы была его внезапная холодность к Ивану Милославскому и даже к сестре Софье.
Царица Марфа с этого дня частенько стала посещать Наталью Кирилловну, вошла в ее интересы и скоро выпросила у царя облегчение участи Матвеева, которого приказано было перевезти в город Луг Костромской губернии. При этом ему дали небольшую вотчину в виде вознаграждения за долгую опалу.
Несмотря на весь ум и все старания Софьи, терем очутился опять в тяжелом положении. Ненависть Натальи Кирилловны и Нарышкиных за это последнее время обид и притеснений должна была только увеличиться, и если прежде царевна и Милославские в случае торжества нарышкинской партии ожидали себе бед и несчастий, то теперь уж им грозила окончательная погибель.
Софья не унывала. Она то и дело посылала письма к своему другу князю Василию Васильевичу Голицыну, находившемуся в это время на украинской границе, умоляла его под каким-нибудь предлогом вырваться и приехать в Москву.
Она приблизила к себе старшего князя Ивана Андреевича Хованского, бывшего воеводу царя Алексея. Этот князь, прозванный в народе Тараруем, был человек беспокойный, заносящийся, неприятный и даже совсем нерассудительный, но отличался смелостью и энергией, мог очень пригодиться в трудную минуту, когда нужно было действовать решительно и без оглядки.
На его привязанность царевна могла рассчитывать – он недоволен был новыми нравами и порядками, любил старину во всех ее проявлениях, ненавидел Нарышкиных и Матвеева, был в свою очередь ненавидим ими и потому, конечно, ни при каких обстоятельствах не мог оказаться в числе приверженцев партии младшего царевича.
Софья пошла дальше; с помощью Родимицы и богатых подарков и обещаний она закупила некоторых стрелецких начальников, имевших влияние на солдат: подполковника Циклера, да Озерова, да выборных стрелецких: Борисова, Одинцова, Офросимова, Петрова, Кузьму Черного. Все эти люди по первому знаку ее готовы были на что угодно.
Вскоре к числу ее приверженцев из стрельцов присоединился и Николай Степанович Малыгин – да и как могло быть иначе? Молодой подполковник не забыл красавца мальчика, приставшего к стрельцам в Медведкове. Мало того, что не забыл, а думал о нем постоянно и частенько заглядывал с черного крыльца в терем. Там он сумел найти союзниц в лице двух молодых служанок, приставленных к Родимице и Любе Кадашевой.
Эти служанки, получая от него богатые подарки, всегда радовались его приходу и провожали его внутрь терема так ловко и потаенно, что никто о том не ведал.
Родимица на все эти проделки только усмехалась, а Люба, смущенная и красневшая, как маков цвет, не была в силах негодовать, когда встречала Николая Степановича в теремном коридорчике или даже в своем помещении. Напротив, она искренне и откровенно радовалась возможности его видеть, не скрывала своего чувства. Что ж бы и была она такое, если бы оказалась неласковой к человеку, которому стольким обязана…
Не раз также случалось, что Родимица, отправляясь с поручением царевны в Стрелецкую слободу, брала с собою Любу, и та появлялась желанной, дорогой гостьей в домике Малыгина.
До сих пор между ними не было еще сказано ни одного слова любовного, но оба они хорошо понимали, что любят друг друга, и были бесконечно счастливы, и другого счастья им было пока не нужно. Они не думали о завтрашнем дне, наслаждались сегодняшним.
Царевна Софья, ежедневно видя Любу, начала замечать в ней большую перемену. То казалась она ей рассеянной, смущенной, то вдруг такой веселой и радостной. Царевна заинтересовалась этим, стала ее спрашивать.
Люба запиралась было во всем, переконфузилась, да вдруг не выдержала и сама призналась царевне в своем чувстве к Малыгину: разве она могла скрыть что-нибудь от Царь-девицы!
Царевна задумалась на мгновение, а потом стала подробно расспрашивать Любу о Николае Степановиче, о том, в каком он полку, любят ли его солдаты, с кем из товарищей ведет он дружбу?
Люба отвечала как умела, а чего не знала, о том при первом же свидании расспросила Малыгина и передала царевне.
Софья сделалась к ней еще ласковее, и в один из вечеров, когда Люба была у нее на дежурстве и раздевала ее перед отходом ко сну, она сказала ей, что спать не хочет, и просила ее посидеть у ее постели.
Люба с восторгом приняла такую милость. Сама уложила красавицу царевну, поцеловала ее белые руки, не знала чем и выразить ей свою любовь и благодарность. Но царевна была бледна и печальна, частенько вздыхала.
Люба не могла не заметить этого и осмелилась, спросила о причине царевниной грусти.
– Ах, Любушка, Любушка, как же не грустить мне, – тихим голосом ответила Софья, – это ты вот можешь петь и веселиться. Ты счастлива, ты молода, то горе, которое было у тебя, прошло бесследно, вон у тебя любимый человек есть, с которым никто не разлучит тебя. Ах, Люба, спеши ты со своим милым, сыграйте скорей свадьбу, я благословлю тебя – чем могу, пожалую. Спешите, а то придет время лютое, погубят меня злые люди, да и тебе, пожалуй, достанется за то, что меня любишь, за то, что со мною… Погубят и твое счастье… Спешите!..
– Царевна моя золотая, – прошептала Люба, со страхом и недоумением раскрывая свои глаза, из которых закапали слезы, – что ты говоришь такое? Откуда тебя напасть ждет?
И царевна поведала своей второй постельнице все, что было нужно.
Люба плакала, слушая ее жалобы; всем горячим сердцем своим ненавидела она врагов царевны; клялась, что если стрясется беда какая-нибудь, то и она, Люба, погибнет, ни на шаг не отстанет от царевны, всю кровь свою по капле за нее выльет, душу свою положит. Она еще говорит, чтобы Люба спешила свадьбою. Нет, бог с ним, с Николаем Степановичем! И от него она откажется, и его забудет ради царевны!..
– Зачем тебе от него отказываться? – тихо прошептала Софья. – Нет, будьте счастливы, ловите счастье, пока оно возможно! Я постараюсь всячески помочь тебе. Да ведь и ты в свою очередь со своим суженым можете помочь мне…
– Как же мы можем помочь тебе, царевна? Как? Говори! Приказывай! – радостно вскричала Люба.
Царевна начала объяснять ей. Объяснить было нетрудно – Люба на лету схватывала мысли Софьи и через две-три какие-нибудь минуты уже отлично знала, что ей делать и как действовать.
На другое утро отправилась она к Малыгину. Яркими красками описала она опасность, которой подвергается Софья, и потребовала от него, чтобы он употребил все свои усилия помочь ей, настраивал в ее пользу и товарищей своих, и стрельцов.
До этой поры Малыгин был далек от Софьи и даже не раз сильно отмалчивался на хитрые речи Родимицы, которая уговаривала его мутить стрельцов против младшего царевича и Нарышкиных.
Но теперь он не в силах был устоять перед красноречием Любы. Все возражения, какие мог он ей представить, замерли невыговоренными на устах его – он только слушал красавицу Любу, любовался ее оживленным лицом, ее блестевшими глазами, – и через полчаса каких-нибудь она его оставила горячим приверженцем Софьи. Он обещал ей сделать все, что от него зависело, и, действительно, в скором времени исполнил это обещание: весь его полк оказался на стороне царевича Ивана и царевны и только ждал событий, которые должны были указать на способ действий.
XIV
Весна была уже в полном разгаре. Таяло. Снег весь потоками слился с холмов московских. Зазеленели бесконечные сады в Белокаменной.
В городе по-прежнему велась жизнь оживленная, но еще больше жизни, еще больше оживления было в Кремле. Туда, проведав о плохом здоровье царя, о возможности близких, великих событий, съезжались со всех концов земли русской бояре и всякие люди, не желавшие пропустить удобного времени, в которое можно было бы наловить рыбы в мутной воде: легко поживиться чем-нибудь, легко чего-нибудь добиться.
Здоровье царя день ото дня становилось хуже. Еще 16 апреля в Светлое воскресенье он совершил торжественный выход к заутрене в Успенский собор, но к концу Святой слег и не в силах был подняться с постели.
Царевна Софья опять все дни стала проводить с братом. Она читала ему, старалась развлечь его разумной беседой, отогнать от него печальные мысли и в то же время добиться своей цели, заставить его назначить своим преемником брата Ивана. Но об этом деле до сих пор никак не удавалось ей поговорить с ним – все мешали то Языков, то кто-нибудь из Апраксиных, то царица Марфа.
Царевна, приходя к брату, чувствовала себя здесь окруженной врагами. У постели больного у нее был один только друг – царская мамка, боярыня Хитрая. Но при посторонних, при людях другой партии, Хитрая не выказывала своего расположения к царевне и прикидывалась всецело поглощенной обязанностями сиделки.
Сам царь Федор был всегда рад присутствию сестры, рад был отдохнуть душою в разговорах с умной, образованной Софьей; никто так красно и так интересно не умел говорить с ним, как она. Но только стоило ей, улучив удобную минуту, заговорить о чем-нибудь близком, касавшемся до его распоряжений на будущее, – и он ее останавливал, ласково, любовно, но все же останавливал.
Она едва владела собою, едва скрывала свое отчаяние и негодование, и когда должна была удалиться к себе, то ломала руки или, схватив себя за голову, как безумная, по целым часам ходила из угла в угол и глухим голосом повторяла:
– Боже мой! Что ж с нами будет?
Остальные царевны, ее сестры, тоже призамолкли и пригорюнились: не слышно было их смеха, их песен. Хотя они были гораздо беспечнее ее и даже не понимали многих ее опасений, но все же им ясно было, что пришло тяжелое время.
Они с охотою выслушивали жалобы сестры Софьи, во всем соглашались с нею, одобряли ее планы, только предоставляли ей одной действовать и бороться. Им было не до борьбы, у каждой из них были свои маленькие заботы и дела, своя интимная жизнь, не имевшая ничего общего с кипучей с жизнью и деятельностью Софьи…
Двадцать седьмого апреля после вечерни Люба Кадашева вышла во дворцовый сад и, бродя по дорожкам, дошла почти до самого дворца. Здесь было одно из крылец, ведших в покои царя.
Время от времени на крыльце появлялся кто-нибудь из постоянных обитателей дворца и проходил в маленькую калитку, выходившую на большой двор. Этот выход через сад очень сокращал дорогу, и в летнее время им обыкновенно пользовались.
Все было тихо, только птицы щебетали в зеленых, недавно распустившихся древесных ветках, да с черемухи осыпался белый цвет.
Люба присела на скамеечку, поставленную под раскидистым деревом, и просидела так несколько минут, вдыхая в себя весенний душистый воздух и разбираясь в различных тревожных мыслях: время было смутное – неведомо что завтрашний день готовил.
Вдруг в нескольких шагах от нее, перед дворцовым крыльцом, услыхала она громкий, тревожный голос.
– Скорей, скорей, – говорил кто-то. – Что за народ такой! Некогда тут мешкать, когда царь кончается!
Эти слова наполнили Любу ужасом. Она быстро вскочила со скамейки и побежала в терем, прямо к царевне Софье.
– Государыня, матушка царевна, была я в саду и сейчас слышала… во дворце говорят, будто царю государю плохо… Будто кончается!
Софья побледнела, быстро накинула на себя летник и, задыхаясь от волнения, побежала во дворец, в покои брата.
Федору действительно было очень плохо, пришел смертный час его. Он только что перед этим исповедывался и приобщался Святых Тайн.
Царица Марфа сидела у изголовья его кровати, горько плакала и громко всхлипывала.
Боярыня Хитрая находилась тут же; больше никого не было. Царь приказал всем выйти и оставить его только с женою и с мамкой.
Царевна Софья, войдя в покой, на мгновение остановилась и выразительно взглянула на Хитрую.
Та поняла ее взгляд, в свою очередь ответила ей многозначительным подмигиванием.
Боярыня Хитрая в это время была уже семидесятилетняя старуха, хотя необыкновенно бодрая. Она всю жизнь провела во дворце, знала все тайны царской семьи, очень часто была центром всех теремных интриг, пользовалась всеобщим уважением и большим влиянием. Ее называли постницей, и она действительно на людях представлялась самой ревностной христианкой: не только что соблюдала все посты, но даже иногда по нескольку дней морила себя голодом. Поговаривали одно время, что она носит вериги, только никто этих вериг не видал, и скоро толки о них прекратились.
Боярыня Хитрая носила кличку по шерсти; она понимала, что под видом постницы и смиренницы ей несравненно легче вести свои интриги и обделывать всевозможные дела, не рискуя своей репутацией и ничего не теряя в уважении ближних.
Ее страстью было сеять всюду раздоры, поднимать всякие дрязги, раздувать мелкие недоразумения в крупные обиды, ссоры, неприятности. Только сама она постоянно из всего выходила с чистыми руками, как будто дело вовсе не ее касалось: заварит кашу – а другие расхлебывай, сама же Хитрая в стороне, глаза опустит, четки перебирает, губы шепчут молитву, и толкует она мерным голосом встречному и поперечному о христианском смирении, о любви к ближнему.
В последние годы своим хитрым, злым языком она как могла только раздувала ненависть царевен к Наталье Кирилловне и ее детям. Раздувала ненависть к мачехе и в царе Федоре, но в то же время наведывалась и ко вдовствующей царице и представлялась ее другом. В душе она ее ненавидела и теперь, в предсмертный час царя Федора, конечно, пуще всего боялась ее торжества. Только видела она, что чересчур трудно заставить умирающего назначить себе преемником царевича Ивана; ей нужно было так действовать, чтобы при всяких обстоятельствах, при торжестве той или другой партии, самой ничего не потерять и остаться на высоте своего положения.
Любимая и почитаемая Федором, она хитро и осторожно в эти последние дни не раз намекала ему о царевиче Иване, но, видя, что он не поддается, замолкала.
«Пускай теперь Софья с ним потолкует, может, чего и добьется, – подумала Хитрая, – а мне как-нибудь бы удалить Марфу, чтобы не мешала».
– Ах, матушка моя, голубушка, – проговорила Хитрая, подходя к молодой царице. – Что это так ты убиваешься, погляди – на тебе лица нет, совсем изведешь себя. Ну, Бог милостив, государю полегчает, поправится. Да перестань же, успокойся!
Но царица Марфа залилась еще пуще слезами и упала головою на подушку, сжимая в своих горячих полных руках сухую, бледную и слабо вздрагивавшую руку Федора.
– Да, Петровна правду сказала, – прошептал царь, с трудом открывая глаза и стараясь улыбнуться. – Не плачь, Марфуша, мне гораздо лучше… Вот уж совсем не больно! Успокойся, поди отдохни. Засни немного – ведь ты всю ночь глаз не сомкнула – может, и мне соснуть удастся. Поди отдохни.
Хитрая опять бросила в сторону Софьи значительный взгляд и сказала:
– И впрямь, государыня, дай-ка я провожу тебя. Приляжешь тут же, рядом в покое, так тебе все и слышно будет, коли государь позовет тебя. Пойдем, пойдем… А то ты его только мучаешь своими слезами, а что толку-то? – шепнула она на ухо царице. – Успокойся, нельзя ведь так, неравно ему от этих твоих слез и мучений, на тебя глядя, еще тяжелее сделается…
Бедная царица при последних словах Хитрой оставила руку Федора и, поддерживаемая старухой, покорно вышла из царской опочивальни.
На ее место к постели брата приблизилась Софья.
– Что, Федя? Али худо? – прошептала она, склоняясь над ним.
– Ох, худо, сестрица! Марфушу-то вот успокаивал, а чего уж тут, совсем смерть пришла! Умираю, вряд ли доживу до ночи, сам чувствую, да и дохтур надежды не имеет. Приходил он сюда с час тому времени, так я заставил его сказать мне правду. – Федор остановился, перевел дыхание и затем начал снова тихим голосом: – Что ж, сестрица… Я не боюсь смерти, давно приготовился. Вас всех только жалко. Да что… Суждено, видно, ничего не поделаешь. Ох, страшно подумать, времена какие! Дел сколько… И то нужно… И другое… И одно не в порядке, и другое перестройки требует. Сама знаешь, великое государство… Да что тут у вас без меня будет – подумать страшно.
Софья хотела говорить, но он начал шептать снова, и она слушала.
– Ах, зачем это вы уговорили меня опять жениться?.. Вот послушался вас, загубил век девичий. Не женись я, Марфуша нашла бы себе мужа здорового, прожила бы счастливо, детей народила бы, выняньчила, воспитала… А теперь что?.. Как она останется?
– Братец, да мы ли виноваты, – проговорила Софья, – все надеялись, что поправишься ты да подаришь нам наследника по себе. Сам знаешь… Ведь и тебе и нам дорога Россия, так о будущем ее тоже думали.
– Ах, сестра! – с печальной, слабой улыбкой опять заговорил Федор. – Да что ж, хоть бы и в живых остался сын мой или другой родился бы, так что ж, еще хуже того было бы теперь, еще больше смут и раздоров. Есть по мне наследник…
Он не договорил и с глухим стоном схватился за грудь.
– Что? Что с тобой? – испуганно спросила Софья.
Но он уж успокоился.
– Нет, ничего! – ответил он.
– Ты говоришь, братец, есть по тебе наследник, – сказала царевна. – Да конечно – брат Иванушко…
– Нет, не Иванушко… – тихим, но твердым голосом перебил ее царь. – Не Иванушко… Что себя и других морочить: он-то еще плоше моего… Сама знаешь… Грешно и стыдно мне оставлять ему государство!.. Грешно и стыдно и тебе, сестра, твердить мне об этом… Другой брат есть у нас… тот растет здоровый и разумный… о нем и отец думал, да и я должен ему оставить государство. Вырастет он и – чует сердце мое – будет царем добрым и славным, не таким, как я, по глупому моему разуму, по слабости моей телесной и по грехам моим великим, был для земли Русской. Только вот что будет, пока вырастет? Эта мысль отравляет мои последние минуты, и ничем я не могу отогнать ее… Ох, сестра, тут как ни думай – страшно!
У Софьи сердце так билось, что делалось больно. Глаза ее то загорались ярким пламенем, то меркли. Она чувствовала, как холодеют от волнения ее руки, чувствовала, как сохнет во рту – пришла трудная минута, страшная минута! Она видит, что брату плохо, того и жди умрет. Нет, нельзя допустить, чтобы он назначил преемником себе Петра… Нельзя, нужно уговорить, нужно уговорить его… И она упала на пол перед кроватью Федора и простерла к нему дрожащие руки.
– Брат! Именем Бога заклинаю тебя, выслушай меня и обрати внимание на слова мои. Ты сам знаешь, что всем сердцем моим люблю я нашу родину и желаю ей чести и славы. Не из-за какой-нибудь злобы, не по ненависти и коварству говорю я тебе, не бери греха на душу, не назначай себе преемником ребенка, не отдавай Россию Нарышкиным!.. Уж не о том забочусь, не о том думаю, что погубят они всех нас, родных твоих. Что о нас тут толковать, пускай мы пропадем, да ведь с нами пропадет и Россия! Или ты не знаешь этих Нарышкиных? Людишки они темные да грязные, растащут, разнесут по клочкам твое наследие. Пускай Петр разумный ребенок, да пока-то еще вырастет. Брат, смилуйся над нами, смилуйся над Россией – оставь престол Иванушке. Мы все, рук не покладая, работать будем, твои дела продолжать станем… Брат, вспомни, ведь немало мы с тобой толковали о делах государства, о будущем, о том, к чему нужно стремиться, что нужно делать. Брат, вспомни, что ты сам хвалил мои мысли, ты сам видел, что и твои я понимаю! Клянусь тебе Богом, клянусь тебе памятью родителей всю душу мою положить в одно дело. Брат, сжалься над нами!
Крупные слезы катились из светлых глаз Софьи. В своем волнении, в порыве какого-то вдохновения, охватившего ее, она была неотразимо прекрасна. Федор глядел на нее долгим, грустным и ласковым взглядом; он с трудом поднял свою руку и опустил ее на плечо сестры.
– Ах, Софья, Софья! – проговорил он. – Тяжко мне слышать слова твои – знаю, что во многом ты права, знаю, какие беды всем вам готовятся, – но что же мне делать?.. Не смею согрешить перед Богом, не смею отступиться от своей клятвы. Слышишь ли? Я связан клятвою, данною мною покойному родителю… Софья, сердце мое разрывается, на тебя глядя и о вас всех думая. Ох… тяжко, тяжко; любя вас, страдая о вас, должен наложить я на вас руку. Не смею завещать Россию Иванушке, ибо весь мир знает, каков он, знает, что не может он царствовать. Что ж, кого же по себе назначить преемником? Тебя, что ли? Ты бы и управилась, пожалуй, великим разумом Господь наделил тебя, но, Софья, ведь это же невозможно! Ведь тому не бывало никогда примеров. Сделай я это – и все только насмеются над моим завещанием, не станут целовать крест тебе, соблазн один выйдет, и ничего больше. Нет, Софья, нет, напрасно ты и себя и меня мучаешь – я ничего не могу… Ничего!..
В волнении Федор приподнялся было с подушек, но вдруг лицо его исказилось, слабый крик вырвался из груди его, и он упал.
Он хотел говорить что-то, но язык не слушался, руками он делал какие-то знаки, но Софья его не понимала.
Прошло несколько страшных мгновений; вот опять стоны, опять усилия сказать что-то… и ни звука!
Софья кинулась к нему, обвила его руками… Он оставался без движения. Вдруг ей показалось, что он уже умер, и она, отшатнувшись и дико взвизгнув, навзничь упала на пол.
На пороге опочивальни с отчаянным воплем показалась царица Марфа, а за нею боярыня Хитрая.
Но царь еще не умер, он еще дышал. Он открыл глаза, нашел в себе силы поманить жену, взял ее руку и держал, и не выпускал, и глядел на нее потухавшим взором.
Хитрая долго не могла привести в чувство царевну Софью.
XV
Между тем весть о близкой кончине царя быстро разнеслась по всему Кремлю. Вот она перелетела за Кремлевскую стену, разлилась вдоль улиц Белокаменной, перебралась за городской вал и побежала из одной слободки в другую.
Москва встрепенулась, всколыхнулась и зажужжала десятками тысяч голосов человеческих. Все, от мала до велика, с одной и той же бесконечно повторяемой фразой «царь отходит» суетились, метались, и не прошло двух часов, как громадные толпы народа спешили к Кремлю, перегоняя друг друга.
Но все Кремлевские ворота стояли на запоре. Всюду была расставлена крепкая стража: пропускали весьма немногих.
Внутри Кремля было великое смятение: мужчины и женщины, подначальные люди и бояре – все смешалось и перепуталось. Сановитые старцы позабыли свои лета и положение, бегали, как юноши, переговаривались и перешептывались друг с другом, протискивались поближе к дворцу – кто мог в царскую переднюю, а то так и дальше ее, ближе к царской опочивальне.
Скорбное ложе Федора было окружено теперь со всех сторон. Патриарх читал над царем отходную; царица Марфа безумно рыдала у изголовья постели; тетки и сестры царские стояли неподвижно с бледными, перепуганными лицами.
Но всех бледнее из них, всех испуганнее была царевна Софья. Она видела теперь, что все ее старания оказались тщетными: царь был в забытьи, вряд ли придет в себя, вряд ли будет в состоянии сделать какое-нибудь распоряжение. Да если бы и пришел в себя, разве было бы теперь возможно уговорить его, разве теперь допустят?
Было мгновение, когда царевна дошла до полной безнадежности, готова была отказаться от борьбы, но это было только одно мгновение… Снова яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках, глаза разгорелись. Она незаметно, неслышно пробралась в другую сторону опочивальни, подошла к своему дяде, Милославскому, и шепнула ему:
– Что ж… ведь видишь, что все кончено! Нужно сделать еще одну попытку… Нужно, чтобы народ требовал Ивана… Распоряжайся… скорее! Где Максим Сумбулов?
– Я его видел во дворе, – тоже шепотом ответил Милославский.
– Ну, так выйди, – тихонько продолжала Софья. – Теперь никто не заметит… Патриарх еще долго будет читать. Боже мой, ведь не сейчас еще кончится. Скажи Сумбулову, чтобы скорее, как можно, набирал людей, чтоб были они наготове. Обещай ему, что хочешь… Обещай боярство, деньги… Ради Бога… Иначе мы все пропали!
И через мгновение с опущенными глазами, на которых блестели слезы, она была уже снова у постели брата, а Милославский вышел из опочивальни и пробирался в переднюю.
Между присутствовавшими недоставало царицы Натальи Кирилловны и царевича Петра. Однако и им уж было обо всем дано знать, и они спешили во дворец, но с царем они все же не успели проститься…
Среди тишины опочивальни, прерываемой глухими рыданиями да мерным голосом патриарха, под никому не ведомые, светлые грезы и видения лучшего мира отошел в вечность царь Федор Алексеевич…
Присутствовавшие едва могли уловить его предсмертную агонию, и долго бы все ждали, если бы отчаянный крик царицы Марфы, почувствовавшей, как рука Федора отяжелела и стала застывать в трепетавших руках ее, не дала знать о том, что все уже кончено…
Словно электрическая искра пробежала по всему дворцу и Кремлю… Толпы народа хлынули в растворенные теперь настежь ворота.
Приближенные царские почти на руках вынесли из опочивальни безумно рыдавших царицу и царевен. Одна Софья не рыдала и не причитала. Как каменное изваяние, с безжизненным, застывшим лицом стояла она у братнего трупа и сама была похожа на мертвеца. Пришла ее страшная минута, и она лучше, чем кто-либо знала, до какой степени страшна эта минута. Она знала, что торжество ее возможно было только при существовании царского завещания, потому что у Милославских партия невелика, потому что все уж видели в Петре преемника.
И, действительно, в дворцовых покоях бояре и сановники горячо толковали между собой, и всюду слышалось одно имя, имя это было – Петр.
Царевна решилась было обратиться к патриарху, убедить его стать на их сторону, но патриарх ничего не ответил ей утешительного, сказал на вопрос о том, кого выбирать будут, что избрание зависит от народа, так как государь скончался, не выразив своей воли.
На мгновение слабая надежда мелькнула Софье; Милославский подошел к ней и шепнул, что дело идет на лад, что Сумбулов поспеет привести с собою немало народу, и что, кроме того, в среде бояр будет большая разногласица. Милославские не дремали в эту решительную минуту. Все они по всем покоям дворца царского нашептывали сладкие речи то тому, то другому боярину, заманивали не друживших с Нарышкиными всевозможными обещаниями почестей и богатства.
Прошел еще час тревожного ожидания – и их усилия начали увенчиваться успехом. То здесь, то там, то в одном углу, то в другом рядом с именем Петра стало слышаться и имя царевича Ивана.
Если б явился теперь этот старший царевич, если б мог он бодро пройтись по этим покоям и понять роль свою, дело Милославских было бы решенным. Но царевич Иван, больной и убогий, спал на своей мягкой перине. Его было разбудили, сообщили ему о смерти брата, пробовали заставить его подняться и идти в царскую опочивальню, но он не мог подняться, казалось, даже ничего не понял из того, что ему говорили, перевернулся на другой бок и снова забылся.
Милославские поняли, что в таком печальном и болезненном виде лучше ему уж не показываться – посмотрят на него и только хуже выйдет.
Но ведь необходимо было царевичу проститься с братом. Его одели, как малого, несмышленого ребенка, и под руки повели в приемные царские покои. Собравшиеся бояре только смущенно переглядывались при виде несчастного царевича.
Милославские на всякий случай, возвращаясь в царские покои, захватили с собою оружие. С другой стороны, и приверженцы Петра – дядька его, князь Борис Алексеевич Голицын, с братом своим Иваном и четверо Долгоруких, отправляясь во дворец на царское избрание, тоже поддели себе под платье панцири – все теперь так полагали, что дело дойдет до ножей непременно. Но на этот раз обошлось мирно и без смуты.
Тело царя Федора было уже обмыто, облечено в царские одежды.
Скоро от самого крыльца до опочивальни образовалась длинная цепь по два человека в ряд – это шли проститься с покойным царем.
В одном из самых обширных покоев дворца, недалеко от опочивальни, происходила другая церемония – целование рук царских братьев.
Царевич Иван и Петр сидели рядом. Старшего окружали сестры и Милославские; рядом с Петром поместилась его мать, царица Наталья, ее брат Иван Нарышкин, Долгорукие и Голицыны.
Бледное, бессмысленное лицо Ивана было опущено вниз, глаза полузакрыты; он, по-видимому, дремал, не обращая ни малейшего внимания на окружавшее. Его рука, которую почтительно целовали подходившие, лежала на бархатной перекладине кресла.
Младший царевич – красивый мальчик с русыми кудрями и огненным взглядом темных глаз, теперь заплаканных, зорко, но смущенно посматривал по сторонам, постоянно шевелился, будто ему трудно было усидеть на месте.
Иногда он оборачивался в ту сторону, где стояли царевны и Милославские, подмечал какой-нибудь недружелюбный взгляд и жался к матери, схватывал ее руку и не выпускал из своей.
Царица Наталья Кирилловна с серьезным и строгим лицом поражала своей величавой фигурой, полной достоинства и грусти.
Она склонялась над сыном и иногда шептала ему, чтобы он сидел смирно и не обращался к ней с ненужными вопросами. Но мальчик не мог сидеть смирно, не мог не передавать на ухо матери своих впечатлений.
Между тем патриарх, увидев, что народ московский в большом количестве собрался уже на площади перед церковью Спаса, вышел в переднюю, окруженный архиереями и многими вельможами.
При его входе все затихли и ожидали, что он скажет.
– Бояре, – тихим голосом произнес патриарх, – кто из двух царевичей царем будет?
– Как же нам решить, – послышалось в ответ несколько голосов. – Пусть решают всех чинов люди Московского государства!
Тогда патриарх, архиереи и все бывшие в передней вышли на крыльцо. Вся площадь чернела головами, носился тихий неопределенный говор в душистой тишине весеннего вечера.
– Люди Московского государства! – провозгласил патриарх. – Вам уже ведомо, что великий государь царь Федор Алексеевич преставился, чистая душа его вознеслась к престолу Всевышнего! Вам предстоит теперь решить, кому из царевичей, Иоанну Алексеевичу или Петру Алексеевичу, быть на царстве?
– Петру Алексеевичу! – загудела толпа, и только слабо, в нескольких местах, раздалось имя Ивана.
Патриарх, духовенство и бояре стояли молча и слушали.
– Петру Алексеевичу!.. – раздался вторичный рокот.
– Ивану Алексеевичу! – опять перебило несколько голосов, и в том числе громкий отчаянный голос дворянина Сумбулова.
Но что значил этот отчаянный, слабый и нерешительно повторенный крик перед громким решением московских жителей?
Патриарх поклонился народу и вернулся в царские покои. Торжественно, среди сонмища всего боярства и чинов придворных, войдя в палату, где находились царевичи, он объявил, что народ московский порешил быть на царстве Петру Алексеевичу, и, подойдя к смущенному и взволнованному ребенку, благословил его своей дрожавшей старческой рукою на царство.
Иван, по-прежнему сидевший неподвижно, остался совсем безучастным к торжеству брата.
Царевны и Милославские, с сердечным замиранием ожидавшие роковой минуты, не могли прийти в себя от ужаса. Поникнув головами, едва имея силы исполнить свою обязанность перед избранным царем, подняли они Ивана с кресел, взяли его под руки и вышли из Палаты…
Шатаясь, с исказившимся лицом и судорожно вздрагивавшими губами, страшная, на себя не похожая, вошла царевна Софья в свои покои. Не говоря никому ни слова, не отвечая на обращенные к ней вопросы, она только махнула рукою и заперлась в своей опочивальне.
Она не заметила даже, что заперлась не одна, что в это время ее постель приготовляла Люба Кадашева.
Люба подошла теперь к царевне, взглянула в лицо ее и не могла удержать невольно вырвавшегося из груди крика:
– Государыня, что с тобою?! Ты больна? Да вымолви хоть слово!
Софья не отвечала. Она, казалось, не слышала, не видела Любы, ничего не видела и не слышала.
– Государыня, я позову кого-нибудь, – продолжала перепуганная Люба, – за дохтуром нужно послать… Господи, Царица небесная! Что это такое?
Царевна очнулась.
– Чего тебе? – страшным, охрипшим голосом прошептала она, дико взглянув на Любу. – Чего тебе? Уйди, оставь меня… Мне никого и ничего не нужно!
Но Люба не могла уйти, у нее ноги подкашивались, она как будто приросла к месту.
Между тем Софья мало-помалу начала приходить в себя. Целый рой мыслей закружился в голове ее. Она обернулась к Любе.
– Это ты? Ты здесь? Ну, так слушай! Сейчас… Скорее… Беги, зови ко мне боярина Ивана Михайловича Милославского. Он должен быть еще где-нибудь здесь. Зови сестер… Зови скорее!..
Люба кинулась из опочивальни исполнять приказание царевны.
Софья упала в кресло, опустила голову на грудь, несколько мгновений сидела неподвижно. Потом вдруг она поднялась снова и остановилась посреди комнаты, высоко подняв свою гордую голову, сверкая прекрасными глазами.
– Нет! – страшным голосом громко проговорила она. – Так не может кончиться! Я не хочу умирать! Я не хочу гибнуть… Я жить хочу… Я должна жить. Я буду жить! Я еще могу бороться!
Она подошла к окошку, распахнула его и жадно, всей грудью вдыхала свежий, вечерний воздух.
Кругом дворца стихало… Толпы народа расходились. Над Москвою со всех концов раздавался печальный гул колоколов, разносивший весть о кончине царя Федора.
Часть вторая
I
Радостное весеннее солнце заливало весь Кремль горячим светом; от могучих лучей его новая жизнь зарождалась повсюду; быстро распускались почки сирени в садах дворцовых, разливая вокруг себя благоухание. Но не могли эти животворные лучи оживить царя Федора. Он лежал в богатом парчёвом гробу. На его молодом, теперь бледно-желтом, будто восковом лице не было и следа перенесенных страданий. Спокойна и тиха была улыбка неподвижных уст, которых еще не решалось коснуться тление.
Вокруг гроба кипели расходившиеся людские страсти.
Начинало уже исполняться то, чего бедный царь так боялся в свои последние, скорбные дни: во дворце готовился целый ряд ужасных смут, конца которым не предвиделось; только одно присутствие царского гроба мешало этим смутам разразиться.
С нетерпением дожидались Милославские минуты, когда царь будет похоронен. Вот и пришла эта минута.
Под темными сводами собора в ряду царских могил открыт новый склеп, где должны навеки успокоиться кости Федора.
Всё готово для пышной церемонии. С раннего утра царедворцы, бояре и духовенство собрались в Кремль. Народ сплошной толпой поместился по обеим сторонам дороги между соборами, дожидаясь конца отпевания. Но отпевание тянулось долго; говорили, что новоизбранному царю Петру Алексеевичу сделалось даже дурно: не вынес ребенок усталости и страшной духоты в соборе. Действительно, все видели, как далеко еще до окончания службы царица Наталья Кирилловна вышла из собора с сыном и отправилась во дворец. Некоторые вельможи, в том числе Голицыны и Нарышкины, сопровождали царицу.
Наконец внутри собора, ближе к выходу, раздалось глухое церковное пение. «Несут, несут!» – пробежало в толпе.
Все стихли и сняли шапки. И вот показалась торжественная, печальная процессия: патриарх со всем духовенством, бояре… Царевен не было – по обычаю они не могли участвовать в подобных церемониях.
Но что это? Народ в недоумении вглядывался, не веря глазам своим – у самого гроба идет она, в толпе мужчин, царевна Софья.
Как ни уговаривали ее, она твердо объявила, что проводит брата на вечное жилище и не видит в этом ничего для себя постыдного. Она идет за гробом и горько, громко плачет, и с каждым мгновением мучительнее ее слезы.
Процессия скрылась за папертью соборной. Народ остался дожидаться выхода патриарха по окончании погребения. В особенности всем хотелось еще раз взглянуть на царевну.
Долго длилось это ожидание. Далеко за полдень. Наконец царь предан земле, и процессия в прежнем порядке потянулась из собора.
Взоры всех обращаются на Софью. Она плачет еще горче, чем тогда, когда шла за гробом брата; вот рыдания ее превращаются в вопли. Народ теснится ближе к ней. В толпе проносятся тихие замечания:
– Ишь, царевна-то бедная как плачет, убивается!
Софья, несмотря на свое горе, слышит эти замечания. С заплаканными глазами она обращается к народу.
– Видите!.. – с горечью, прерываемой рыданиями, говорит она. – Видите, как брат наш Федор неожиданно отошел с сего света! Его враги отравили зложелательные!..
При этих словах глухой ропот проносится в толпе. В этом ропоте слышатся жалость, ужас. Царевну поняли… Она чует это и, снова рыдая, продолжает:
– Умилосердуйтесь над нами, сиротами! Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата старшего. Брат наш Иван не выбран на царство. А если мы перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живыми в чужие земли, к королям христианским!
Гул в народе становится громче – слова царевны, ее вид, ее горькие слезы производят сильное впечатление. Но народ в недоумении, не знает, что подумать.
«Если царевна говорит, что царь отравлен, значит, так оно и есть, значит, правда! Но кто же отравил? И что делать?..» Что может безоружная толпа народа?!
Совсем обессиленная вернулась Софья в терем, где ее с нетерпением дожидались сестры и тетки. Тетки попеняли ей за ее поступок.
– Уж что тут! – махнула она рукой. – Нашли время толковать о том, что прилично, что неприлично, – дни-то какие! Или не понимаете еще, что приходит наша погибель и нужно спасать себя? Я, по крайней мере, дала знать народу о том, что мы окружены врагами, которые ищут извести нас, как извели брата Федора. Да и что ж, наконец! Уйти мне было, что ли, не простясь с братом? Так вон хвалите Наталью Кирилловну – она с сыном своим как угорелая выбежала из церкви. Вот стыд так стыд! Рады, что от царя избавились. Умер, не встанет, так и прощаться им не нужно… Торжествуют… Веселы! А тут, на похоронах, им печальное лицо делать приходится. Да к чему? Не нужно – они гроб-то братний оплевать готовы!
– Ах, уж это точно! – заговорили царевны. – Такого скаредного дела отродясь мы не видали. Удружила Наталья! Что ж она думала, никто этого не заметит? Как же, мы уж послали к ней монахинь, пускай она не больно-то зазнается – мы постарше ее, так молчать нам в таком деле не приходится. Не съест она нас, не казнит же! А мы все же свое сделали. Так и наказали монахиням сказать ей, что хорош, дескать, брат, не мог дождаться конца погребения…
– Напрасно посылали, тетушки, – отвечала Софья. – Она только посмеется над вами. Теперь ее сила, ее время…
Между тем монахини, посланные к царице, вернулись и входили в покои царевен.
– Ну что? Ну что она? Как ответила? – обратились к ним все в один голос.
– Да что! – махнув рукой, произнесла старшая из монахинь, почтенная, седая старушка. – Царица ничего худого не видит в том, что не достояли отпевания, говорит: «Петр Алексеевич еще мал, ребенок, не мог выстоять такой долгой службы не евши». А брат-то царицын, Иван Кириллович, тут же был, так он как вскочит да закричит на наши слова: «Кто умер, тот пусть и лежит, а царское величество не умирал, жив!..» Вот дела-то какие, государыни царевны!..
И старушка монахиня, очевидно, весьма довольная тем, что рассказом своим произвела сильное впечатление, уселась в уголок, зевнула от избытка чувств и стала часто крестить рот сморщенной, маленькой рукою.
Между царевнами поднялись пересуды; сильно досталось всем Нарышкиным.
Одна только Софья ничего не сказала. Побледнев еще пуще прежнего и сжав свои руки так, что пальцы захрустели, она вышла из покоев и отправилась в свою опочивальню. Ей было не до брани, не до бессильных, ни к чему не ведущих разговоров и сплетен – дело теперь нужно делать, а не браниться!..
II
Царевна Софья в первую же ночь после смерти брата отправила письмо князю Василию Васильевичу Голицыну, которого Христом Богом заклинала под каким бы то ни было предлогом спешить, не откладывая ни минуты, в Москву. Она имела также тайное продолжительное совещание с князем Хованским. Приходили к ней, проведенные Родимицей, стрелецкие полковники, и в том числе Малыгин. Ни одной минуты не проходило даром.
Царевна хорошо понимала, что теперь, сейчас, нечего и думать о каком-нибудь решительном поступке, нужно сначала подготовить народ и войско. На народ, как мы видели, она уже успела произвести впечатление; в войске сильно работают; в самый день смерти царя, во время присяги Петру, стрельцы одного из полков отказались целовать крест новому царю. К ним отправлен был окольничий князь Щербатый, думный дворянин Змеев и думный дьяк Украинцев, которые успели, наконец, уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру.
Первая попытка не удалась, но подкупленные стрелецкие начальники, Циклер и Озеров, уверяли царевну, что впредь неудачи не будет, только не надо жалеть денег. Софья и не жалела; она готова была отдать все, что у нее есть, – лишь бы достигнуть сильного вражения в войске.
Не успела царевна отдохнуть после утомительного утра и собраться со свежими мыслями, как в ее опочивальню постучалась Родимица.
Она принесла радостную весть. Большая толпа стрельцов явилась во дворец и от имени шестнадцати стрелецких полков и одного солдатского, Бутырского, требовала, чтобы девять полковников были схвачены, чтоб их заставили выплатить деньги, забранные у стрельцов, и деньги за работы, к которым они принуждали своих подчиненных.
Толпа голосила и объявила, что в случае, если ее требования не будут выполнены, то стрельцы сами о себе помыслят, перебьют полковников и разграбят их дома и животы.
– Достанется и другим изменникам! – кричали стрельцы. – Довольно нам терпеть мучений от полковников и смотреть, как изменники обманывают царское величество.
Родимица передала царевне, как все перепугались во дворце:
– Царица-то Наталья, сказывали, плачет, ломает себе руки, просит братьев своих выйти к стрельцам уговорить, а те трусят, прячутся… Чем-то там у них кончится?
– Ступай, Федорушка, ступай, разузнай обо всем подробно. Сама бы я туда побежала! – говорила царевна страстным, взволнованным голосом, торопя Родимицу. – Сама бы побежала. Нет, нынче не годится… Всё равно, если дело идет там хорошо, и без меня обойдется, только все как есть доподлинно разведай и доложи мне.
Родимица убежала.
Во дворце переполох был страшный. Стрельцы не унимались, продолжали кричать и буянить.
Наконец Наталья Кирилловна уговорила брата своего Ивана выйти к ним.
Он повиновался, робким голосом объявил стрельцам, что их челобитная будет рассмотрена, что полковников, на которых они жалуются, посадят под караул в рейтерском приказе, и если они точно виноваты, то им не спустят.
Стрельцы, однако, этим не удовольствовались и стали требовать, чтоб полковники были выданы им головами.
Нарышкин поспешно скрылся во дворце и начал упрашивать царицу и вельмож, бывших налицо, поспешить с исполнением этого требования.
– Бог с тобой, Иван Кириллович, да как же это возможно? Этак они скоро и наши головы потребуют, так что ж, и нам прикажешь отдаться им в руки? Нет, нельзя им выдать полковников!
– Да что же делать? Что же делать? – настаивал Нарышкин. – Теперь прежде всего нужно спокойствие, теперь нам невозможно раздражать стрельцов, нужно ублажать их, ведь новое волнение в войске на руку Милославским. Поневоле не только девять полковников, а и всех, сколько там ни на есть их, придется выдать…
Против таких непреложных доказательств вельможи не нашли что им возразить, а царица Наталья опустила голову и горько зарыдала.
– Пошлите за патриархом, – проговорила она. – Может, он как-нибудь уладит дело.
Послали за патриархом. Тот явился немедленно и, узнав обо всем, стал говорить, что невозможно исполнить требование стрельцов.
– Хорошо понимаю, – говорил он, – все беды, могущие возникнуть от беспорядка в войске. Конечно, тишина теперь и спокойствие – первое дело, но уступив стрельцам, и хуже еще во сто крат выйдет – тогда их требованиям и конца не будет, они поймут, как сильны они, как их боятся. Именем Бога заклинаю не уступать! Пустите меня, я выйду поговорить с ними.
Он вышел к стрельцам и начал усовещивать их кротким голосом.
Стрельцы слушали патриарха почтительно и наконец решились разойтись и успокоиться, удовольствоваться данным им обещанием, что дело их будет разобрано по справедливости.
Но во дворце хорошо понимали, что они успокоились ненадолго и что стоит не исполнить данного обещания – и дело может очень плохо разыграться. Поспешили тогда судом над полковниками, схватили их и заставили заплатить все требуемые стрельцами деньги. С некоторых пришлось взыскать до двух тысяч рублей; тех же, которые не в силах были заплатить, держали по нескольку часов на правеже. Особенно сильно обвиняемых даже били батогами, а два полковника, Карандеев и Грибоедов, приговорены были к кнуту и перед казнью им всенародно читались сказки, то есть объявления вины их.
В этих сказках были высчитаны все возводимые на них обвинения подробно. И народ слушал, какие беззаконные и лихие дела творит начальство стрелецкое, слушал, что «Карандеев и Грибоедов чинили стрельцам всякие налоги, обиды и тесноты, да взятки от работ, били их жестокими боями, батогами, ругательством, взявшим в руки батога по два, по три и по четыре. На стрелецких землях устраивали огороды и всякие овощные семена на эти огороды приказывали стрельцам покупать на собранные деньги; посылали на огороды стрельцов и детей их; неволею заставляли себе шить цветное платье, бархатные шапки и желтые сапоги. Из государского жалованья вычитали у стрельцов деньги и хлеб» – и многое другое, всего и не высчитать.
Стрельцы торжествовали, и хотя полковники и не были им выданы головами, но они отлично поняли, что правительство их боится, что они теперь вольны делать что вздумают.
Собравшись густой толпой, они с наслаждением распоряжались при казнях; крикнут «довольно» – и правеж прекращается; закричат «еще! мало били!» – и полковников бьют сильнее.
Агенты царевны Софьи и Милославских действовали энергично и еще больше подзадоривали стрельцов; одним обещали всевозможные благополучия и награды в случае свержения Нарышкиных и провозглашения царем Ивана Алексеевича, других и заранее задаривали, третьим насказывали всякие ужасы о Нарышкиных, действовали на воображение, иногда на доброе чувство – на преданность к царскому дому. Красноречиво уверяли, что Нарышкины действительно отравили царя и теперь замышляют извести всех царевен и Ивана Алексеевича. Каждый день Софья получала новые известия о том, что дело идет на лад, что скоро поднимется все войско и наступит желанная минута отмщения.
Вся Москва уже толковала о том, что в слободах стрелецких творится что-то непонятное; московские жители начинали сильно трусить.
Стрельцы собирались толпами у своих съезжих изб; главных своих начальников, князей Долгоруких, бранили всякими позорными словами, издевались над ними, грозились… на прочих же начальников не обращали ровно никакого внимания, отгоняли их от съезжих изб, кидали в них камнями, палками.
Некоторые полковники попробовали было строгостью восстановить спокойствие, но поплатились за это жизнью. Стрельцы схватили их, втащили на каланчи и сбросили оттуда при зверских криках: «Любо! Любо!»
Прошло еще несколько дней, и стрельцы сделались бичом всего города. Из своих слобод они пробирались целыми шайками в ближние улицы, вламывались в дома обывателей, требовали себе угощения, напивались пьяными, говорили стыдные речи и часто кончали жестоким избиением хозяев.
Искра, заброшенная в стрелецкие слободы царевной Софьей и ее приверженцами, быстро разрасталась в страшный пожар; люди, предназначенные для обороны Московского государства, обратились в диких зверей, готовых растерзать это государство. Многие из них совсем не понимали, чего они хотят достигнуть. Многим не было никакого дела до того, кто царствует: Петр или Иван, не было дело ни до Милославских, ни до Нарышкиных. Они просто почуяли себе волю, почуяли возможность безначалия, захлебнулись от первого успеха и действовали под наплывом дикой природы своей, жаждой разгула и разрушений. Им было любо ломаться над своим начальством, любо было страх нагонять на мирных жителей.
Но все же многие из стрельцов, те, которые были посмышленнее и не совсем еще захмелели на этом безумном пиршестве, начали понимать, что торжество их не может же без конца продолжаться, что торжество это вызвано слабостью начальства, слабостью правительства. Но начальство переменится, правительство окрепнет – и тогда им припомнятся все их вины, и дорого придется поплатиться за все эти дни торжества и свободы. Поэтому можно себе представить, с каким восторгом такие стрельцы вслушивались в речи агентов царевны Софьи. Из этих речей явствовало, что теперешнее правительство незаконное, что ему нечего повиноваться, нечего уважать его, что восставать против него – вовсе не бунт, не вина, а даже заслуга перед родиной.
Но все же пока такие речи слышались от людей малосильных, от людей несановных, от некоторых полковников, да какой-нибудь Родимицы – стрельцы еще смущались и сомневались. Но вот в стрелецкие слободы стал наезжать князь Хованский… Это уж не кто-нибудь, это известный воевода царя Алексея, и хоть народ и дал ему не совсем-таки лестное прозвище Тараруя, все же он человек знатный, большой человек.
А он говорит то же самое, что и другие, собирает вокруг себя стрельцов и толкует им: «Сами видите, в каком вы тяжком ярме у бояр… Теперь вот выбрали бог знает какого царя – подождите, увидите, что не токмо денег вам и корму не дадут, ну и работы тяжкие будете работать, как прежде работали, и дети ваши вечными рабами у них будут… И того еще хуже будет: отдадут и вас и нас в неволю какому-нибудь чужеземному государю; Москву разграбят и веру православную искоренят…»
Стрельцы жадно слушали Тараруя и каждый раз после слов его принимались за новые бесчинства.
В стрелецких слободах, по рассказам окрестных жителей, был словно ад кромешный.
В то же время Толстой, Циклер и Озеров вместе со стрелецкими выборными Одинцовым, Петровым и Черным пробирались по ночам к Ивану Михайловичу Милославскому, который не выходил из своего дома и сказывался все время больным.
Наконец Софья получила радостную весть: все полки стрелецкие, за исключением только одного – Сухарева полка, готовы к бунту; стрельцы собираются в круги, становятся под ружье без приказа, бьют в набат; в торговых банях бранят правительство и кричат: «Не хотим, чтоб нами управляли Нарышкины, мы им всем шею свернем!»
Вести о том, что происходит в слободах и городе, передавались, однако, не одной Софье. Знали о них подробно и Нарышкины с царицей Натальей.
В тереме торжествовали; во дворце, куда совсем перебралась теперь из своего Преображенского Наталья Кирилловна, были все в смятении и ужасе: не знали, что делать, что начать. Одна была надежда, одно спасение – Матвеев. Ему дано знать, чтобы он спешил в Москву. Он уже выехал из Луг – места своей ссылки, он уже близко от Москвы, приедет… и тогда, Бог даст, все поправится, все усмирится. С его появлением у всех прибавится силы, он крепко возьмет в свои искусные руки правление, уймет мятежных стрельцов, уймет и козни терема.
И не одни Нарышкины, не одна Наталья Кирилловна ждали приезда Матвеева; с большим нетерпением ждала этого приезда и царевна Софья. Она решила, что пока нет страшного старика, нет и опасности, приедет он – явится с ним и опасность, и вот тогда-то нужно будет дать знак мятежным стрельцам. Они начнут с Матвеева… Его старая, многодумная голова ляжет первая на плаху.
III
Между тем Артамон Сергеевич Матвеев с сыном своим и бывшими при нем людьми находился уже недалеко от Москвы.
Получив известие о кончине царя и повеление ехать в столицу, он не стал мешкать и тотчас же пустился в путь с облегченным сердцем, но искренно оплакав так несправедливого к нему Федора. Навстречу опальному боярину был послан сначала думный дворянин Лопухин, который должен был от имени молодого царя объявить ему прежнюю честь боярскую.
В селе Братовщине, под Москвою, Артамона Сергеевича дожидался брат царицы, Афанасий Кириллович, и встретил его со здоровьем от царя и сестры своей.
Путь Матвеева превращался в настоящее торжественное шествие.
Боярин издавна был любим народом, и народ спешил теперь встречать его повсюду с хлебом-солью; городские власти и монастырские настоятели тоже выходили к нему, задавали ему пиры и всякие угощения.
Такие неожиданные почести после тяжкой невзгоды сильно подействовали на семидесятилетнего старика. Он умилился духом, не раз даже всплакнул счастливыми слезами и позабыл, что его на Москве ждут не дождутся, что нельзя терять дорогого времени – принимал угощения, подвигался медленно. К тому же и здоровье его было не прежнее.
Годины душевного горя, всякие недостатки в удобствах жизни подействовали разрушительно на его организм; он возвращался в Москву сильно одряхлевшим.
В Братовщине боярин остановился переночевать. Просторную избу, которую отвели ему, сейчас же разукрасили чем только можно: на пол, на лавки настлали ковры дорогие, состряпали обильный ужин. Все село собралось вокруг избы этой и выражало громкими кликами свое сочувствие старому боярину.
Артамон Сергеевич, отужинав, объявил окружавшим его, что устал изрядно и пойдет соснуть, чтоб завтра пораньше, с восходом солнечным, выехать.
Счастливый и довольный, протянул он свои старые, уставшие члены на мягкой перине, но глаза его не смыкались. Сон не являлся; в избе было душно, да и мысли неотвязные приходили одна за другою.
О многом нужно было подумать Артамону Сергеевичу. Вот завтра, раньше полудня, в Москву он въедет, свидится с царицей, с царем-ребенком, со всеми прежними друзьями, увидит дом свой, когда-то веселый и роскошный, в котором так часто принимал он своего друга царя Алексея, но теперь запустелый и заколоченный.
Ясно, во всех подробностях представилось Матвееву это старое любимое жилище, в котором прошли его лучшие годы. И невольно пронеслось перед ним былое: вся жизнь вспомнилась.
Артамон Сергеевич не мог похвастаться знатностью: род его был темен.
Не было у него сильных родичей и свойственников, с помощью которых мог бы он возвыситься, приходилось самому работать, самому устраивать жизнь свою. Пожалуй, и не особенно трудно это стало, когда он попал во дворец: ему стоило только примазаться к царским любимцам, начать разные хитрые происки, пойти по торной дороге многих темных людей, достигнувших почестей, но на это он не был способен. Выше всего ставил он исполнение долга. Будучи военным человеком, в небольших чинах, он не выпрашивал себе наград и повышений; аккуратно и неуклонно являлся на службу; в походах храбро бился за царя и родину. С подчиненными был ласков, строг и справедлив, и в войске его скоро полюбили.
Счастливая звезда нежданно-негаданно засветилась над головой Артамона Сергеевича: царь его заметил. Царь умел замечать нужных и способных людей. Он угадал в Матвееве богатые способности и честную душу.
После смерти известного Ордын-Нащокина Алексей призвал Артамона Сергеевича и поручил ему ведать приказ посольский, и с этого дня быстро возрастала к нему царская милость.
Часто Алексей Михайлович призывал его к себе, подолгу с ним беседовал и немало наслаждения находил в этой беседе.
Скоро разумные речи Матвеева сделались для царя потребностью: между государем и подданным завязалась горячая дружба – оба они сразу так хорошо поняли друг друга. Матвеев на лету схватывал каждую царскую мысль, умел развить ее и привести в исполнение.
И не один царь любил его: вся Москва его почитала, совсем даже позабыли о его незнатном происхождении.
Но окруженный почетом, получив огромное влияние на важнейшие дела государства, Артамон Сергеевич не зазнался, по-прежнему оставался он простым человеком, доступным для каждого, и жил по-прежнему просто, в ветхом деревянном домишке. И так был ветх и непригляден этот домишко, что царь, наконец, начал его уговаривать построить себе новые палаты, сообразные с его званием и положением.
Узнали в Москве, что Артамон Сергеевич будет строиться – и вот повалил к нему народ со стрельцами: все предлагали свои услуги, а под конец объявили, что коли в Москве будет недостаток в строительном материале, то они для доброго боярина с радостью разберут могилы своих предков.
Но до разборки могил дело не дошло, и без того нашлись в Москве камни, и выросли быстро, как по щучьему велению, новые матвеевские хоромы.
Царь присутствовал на освящении хором этих и потом, в каждую свободную минуту, заезжал к Матвееву, разделял с ним его хлеб-соль, беседовал. Он любил простоту матвеевского обычая, любил и то, что за трапезу выходило все семейство боярина.
Во время одной из таких трапез царь, как известно, увидел воспитанницу Артамона Сергеевича, красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину, кончил тем, что горячо к ней привязался и скоро нарек ее царицей.
С этого времени еще теснее стала связь между друзьями, и уже ничто не могло разорвать ее, никакие вражеские наветы. А врагов у Матвеева оказалось теперь много: все родственники и свойственники покойной царицы, Милославские, теперь оттесненные новой царской родней.
Немало разных сплетен о происках Милославских доводилось до слуха Артамона Сергеевича, но он мало обращал на них внимания, не злобствовал, не заботился о причинении вреда врагам своим. Он делал свое дело, работал на благо России, а свободное время посвящал изучению наук полезных да беседам с разными приезжими иностранцами, от которых чем-нибудь можно было позаимствоваться.
Человек нрава веселого, он заботился и о царских удовольствиях: образовал из своих людей дворовых оркестр и большую труппу актеров, первый ввел в ход комедийные действа.
Счастливая звезда не закатывалась, деятельная, полезная и счастливая жизнь текла мирно и безмятежно, без бурь и волнений.
Незаметно проходили годы; густые кудри боярина и борода его уже серебрились сединою. Немало морщин избороздило живое, веселое и разумное лицо его, но он на это не сетовал – по-прежнему свежа и годна для работы оставалась голова его, по-прежнему много силы было в крепком теле. Впереди рисовалась счастливая старость, полная довольства, почета, заслуженной славы, уважения от всех людей русских.
Но судьба решила иначе. Нежданно-негаданно закатилась звезда Артамона Сергеевича: скончался царь. Сила перешла в руки Милославских, и они сейчас же поспешили отделаться от Матвеева.
На него посыпались одно за другим всевозможные обвинения. Во дворце начали говорить, что невозможно такого подозрительного человека, как Артамон, оставить правителем царской аптеки в то время, как государь болен, того и жди – отравит! И отняли у Матвеева аптеку.
Потом новое обвинение: датский резидент Монс Гей, выезжая из Москвы, подал жалобу, что Матвеев недоплатил ему пятисот рублей за рейнское вино, поставленное им ко двору, и что на требование его прислали ему из Посольского приказа фальшивый контракт на эту поставку. Немедленно же пятьсот рублей выплатили Гею, а Матвеева лишили заведования посольскими делами и решили выслать его из Москвы.
Артамон Сергеевич ушам своим не верил, услыша о таком решении. Он любил Федора с самого его детства, заботился о нем, как о родном сыне, и вот этот Федор, вступив на престол, сразу выдает его головою Милославским. Сразу начинает великою ему обидою и не дает даже способа оправдаться.
Поехал Артамон Сергеевич во дворец: может быть, царь выслушает и дело разъяснится. Но до царя его не допустили. Вышел боярин Стрешнев и вынес указ из царских комнат в Переднюю и объявил боярину:
«Указал великий государь быть тебе на службе в Верхотурье воеводою». Так, не простясь с царем, Матвеев должен был ехать в свою почетную ссылку. Собрал он сына, племянников, людей необходимых: монаха, священника да учителя, дворню большую да две пушки для безопасности. Поехали… Но едва успели доехать до Лаптева, как Матвеева остановили. Явился полуголова московских стрельцов, Лужин, и потребовал книгу-лечебник, в которой многие статьи писаны цифирью, потребовал вместе с книгою и двух людей: Ивана еврея и карлу Захара.
Книги лечебника, писанной цифирью, у Артамона Сергеевича не оказалось, людей же он выдал. Пока остановились в Лаптеве, прожили здесь с месяц. Только вдруг как-то ночью разбудили Артамона Сергеевича: приехали из Москвы думный дворянин Соковнин да думный дьяк Семенов.
Что им еще нужно?
Вышел Матвеев; они ему и чести, как надобно, не отдали, даже не встали при его входе, а тотчас же с разными грубостями стали требовать, чтоб он выдал им жену Ивана еврея да все письма, какие у него есть, все имущество, на осмотр, да племянников, да монаха, да священника, да всех людей, какие с ним были.
Матвеев не стал перечить, выдал все и всех.
Тогда Соковнин и Семенов отправились на съезжий двор и прислали оттуда сказать Матвееву, чтобы и он сейчас же явился.
Пришлось Артамону Сергеевичу идти пешим.
На съезжем дворе и его, и всех, кто был с ним, допрашивали все о том же лечебнике, допытывались, каким образом составлялось и подносилось лекарство больному царю Федору.
Матвеев рассказал обо всем подробно.
Соковнин и Семенов, взяв с него письменное объяснение, уехали, а ему приказано было отправиться в Казань.
В Казани воевода Иван Богданович Милославский приставил к нему караул. Отняли у Артамона Сергеевича почти всех людей. Он опять не стал спорить, с достоинством отвечал посланным и не унывал духом.
Но скоро его терпению и его спокойствию конец пришел. Очевидно, врагам его, Милославским, еще мало было: хотелось им вконец обидеть боярина, вдоволь над ним насмеяться – повели его с сыном в съезжую избу пешком на позор людям и громко прочли вины его. Его обвиняли в том, что он подавал царю лекарство, не попробовав предварительно. Кроме того, лекарь Давыд Берло доносил, что лечил он у Матвеева карлу Захара, а тот говорил ему, что болен от побоев господских.
Как-то, вишь, заснул он за печью в палате, в которой Матвеев с дохтуром Стефаном читали черную книгу. Во время этого чтения пришло к ним множество злых духов. Духи объявили, что есть у них в избе третий человек. Тогда Матвеев вскочил и, найдя его за печью, поднял, ударил о землю, топтал и выкинул из палаты замертво.
При этом Берло прибавлял, что он сам видел, как Матвеев с дохтуром Стефаном и с переводчиком греком Спафарием, запершись, читали черную книгу. Спафарий учил по этой книге Матвеева и сына его Андрея.
Эти обвинения были так нелепы и возмутительны, что вся кровь ударила в голову Артамона Сергеевича. Он хотел оправдываться, объясняться, но дьяк, читавший вины, закричал: «Слушай! Молчи! Не говори!»
Матвеев замолчал. Он понял, что оправдания ни к чему не поведут, да и что стыдно ему оправдываться перед дьяком, когда царь не хотел выслушать его оправданий.
После этого отняли у Артамона Сергеевича боярство, все имение, оставили ему только тысячу рублей и сослали с сыном в Пустозерск.
IV
Страшные воспоминания! Пот холодный от этих воспоминаний выступил на высоком челе Артамона Сергеевича, и уж не до спанья ему было.
«И кто руку-то на меня поднял… он, Федор!.. Федюша! Тот самый Федюша, которого я на руках нянчил, которого учил грамоте, которому всякие забавы придумывал!..»
«Как умирал государь Алексей Михайлович, я великой клятвою поклялся работать на его сына… всю душу свою положил бы в него, все силы старые!.. А он… он не постыдился поверить этим глупым наговорам, счел меня за чернокнижника… Но что ж это? – поднялся с подушки Артамон Сергеевич и перекрестился. – Что это, я злом поминаю покойника!.. Прости меня, Господи!»
И он стал горячо молиться за упокой души царя Федора.
«Нет, не Федюша виноват. Он был добр, справедлив и душа у него была чистая, – думал далее Артамон Сергеевич. – Только слабость одолела, болесть лютая, так уж где же ему было разбирать правду и кривду… А тут сестры обступили… Милославские: народ все хитрый! Чай, он и не знал совсем о том, что со мной делали, – не дошло до него ни одно письмо мое».
И стал изумляться Артамон Сергеевич, как это он тогда не сообразил, что писать царю и жаловаться – бесполезно, что его письма не выйдут из рук Милославских, будут для них предметом злорадного зубоскальства.
Действительно, матвеевские письма со смехом читались и перечитывались в тереме да у Милославских. Царю их не показывали – знали, что если покажут, так Артамон будет оправдан; уж больно красно он расписывает, да и хитрости в его оправданиях немало. Вишь, как оправил себя по Захаркиному делу.
«Перед твоими боярами, – писал Матвеев, – Захарка спрашиван и пытан и сказал, что в то время, как я с дохтуром Стефаном и Спафарием читал книгу, он, Захарка, за печью уснул и захрапел, и будто я, услышав его храпение, схватил его за волосы и толкнул через порог; но он ничего не сказал с пытки о приходе злых духов: ясно, что вор Давыдка это выдумал. А хотя бы Захарка и сказал, что видел злых духов, то верить нечему: надлежало бы допросить его, как он нечистых духов мог видеть. Каков их образ? И почему он знает образ духов нечистых, а вор Давыдка почему не сказал, что мы читали в черной книге и какие дела и какие слова слышал он в чтении? А чему меня и сынишку моего Спафарий учил? У карлы Захарки два ребра переломаны, но переломал их ему Иван Соловцов, с которым он играл, и не от моих побоев он был болен. Злые духи сказали, что „есть у вас в комнате третий человек“, то есть Захарка; но сам Захарка показал, что трое нас читали черную книгу: я, доктор Стефан и Спафарий, и я не знаю, кто очелся – духи ли проклятые, низверженные, или вор Давыдка и карло; четырех человек считают за три. Захарка сказал, что спал за печью, а у меня в палатишке за печью спать нельзя – две стороны у печи свободны, третья печью приделана к самой палатишке и промежутка нет, а четвертая стена – у той печное устье. Захарка же сказал, что он спал и храпел. Как спящему человеку возможно слышать, кто что говорит? Или человеку храпение свое слышать? Спафарий меня не учил не только что богопротивному чему-нибудь, но и ничему: не до ученья было в ваших государских делах, а сынишку моего учил по гречески и по латыни, литерам малые части…»
«Хитер черт Артамошка!» – порешили Милославские и припрятали эту челобитную подальше от глаз царских.
«Но чего ж теперь думать обо всем этом? Все печали прошли бесследно… Артамон Сергеевич снова окружен почетом; его ждет в столице во дворце царском первое место. Теперь он вдоволь в свою очередь может насмеяться над врагами своими, может сторицею заплатить всем Милославским. Но не о мести думает Матвеев. Конечно, отнимет силу у врагов своих – это необходимо для государства, для царя Петра Алексеевича, ибо теперь враги Матвеева в то же самое время и враги царские. Но не станет он издеваться над ними, как они над ним издевались, – не подобает это христианину…»
На этих мыслях совсем было успокоился Артамон Сергеевич, даже засыпать стал. Но в полусне представился ему бледный образ покойного Федора, и снова старый боярин раскрыл глаза и начал шевелиться и кряхтеть на мягкой перине.
Горькое чувство опять запало ему в душу – так и умер царь, не примирясь с ним, считая его врагом своим… его врагом!
И опять вспоминались старые походы, когда не щадил он жизни своей на службе царской.
Вот помнится ему, как ратные люди пошли из-под Львова и пришла тогда самая нужда: отец с сыном, брат брата мечут. И пришел голод и холод. Солдаты, стрельцы, дворяне побросали в степи пушки, припасы все ратные и разбежались; боярин Бутурлин пошел скорым походом. Один только Артамон Сергеевич остался в степи с побросанными пушками и запасами да с людьми немногими. Впряглись они все сами тогда под пушки и все пятьдесят девять пушек и с запасами на своих спинах доставили до Белой Церкви и до Москвы.
А вот под Конотопом великий упадок учинился государским людям, и отступили воеводы к Путивлю, так кто, как не он, Матвеев, строил тогда путь и обоз и в целости доставил в Путивль!.. Но разве это одно? И не упомнит Артамон Сергеевич всех служб своих – и в походах, и в Посольском приказе. Все, на что стоит теперь посмотреть в Москве, все, чем можно похвастаться перед иноземцами, – все это его рук дело… А его обвиняют в разных делах непотребных; обвинили даже в грабеже и мздоимстве, когда он может, не краснея, дать отчет в каждой нажитой им копейке…
«Но Бог с ними, Бог с ними! – шептал старик. – И в обидах был, в тесноте и голоде, так не роптать старался, а теперь-то что же? Теперь нужно благодарить Бога».
Он стал шептать слова молитвы и незаметно уснул сном глубоким.
Только рано утром выехать в Москву не удалось: восстав от сна, Артамон Сергеевич плохо себя почувствовал, может, с отвычки, с плохой пищи, какая была у него в заключении, покушал чего-нибудь лишнего; пришлось отложить отъезд до вечера.
Но Матвеев скоро начал раскаиваться в своем решении. Пришли к нему из Москвы несколько человек стрельцов и рассказали, что у них там деется; рассказали, что бунт совсем готов и не сегодня-завтра вспыхнет.
Матвеев вскочил в ужасе и негодовании.
– Что ж это я, ведь еще не умер! Небось я так доехал бы. Нечего больше медлить!.. Запрягать лошадей… скорее едем!.. Уничтожу бунт или положу жизнь за государя, чтоб глаза мои на старости лет большей беды не увидали!..
Сейчас же начали собираться и скоро вьгехали. Но день задался знойный, очень быстро ехать было трудно и до Москвы добрались только к вечеру.
С невольным трепетом подъезжал Артамон Сергеевич к своим хоромам. Видит, ворота стоят настежь… большой двор травой зарос – выполоть ее не успели, а на дворе люду всякого видимо-невидимо. Колымаги, верховые кони с множеством стремянных, вершников, слуг… Видно, много сюда важных гостей понаехало.
Вошел Артамон Сергеевич в хоромы, и со всех сторон окружила его толпа бояр, окольничих, сановников, всех чинов воинских начальников. Все наперерыв друг перед другом спешили приветствовать вернувшегося боярина, о котором еще несколько дней тому назад никто и не думал.
Все поздравляли его с благополучным приездом, безбожно льстили ему и лгали, клянясь, что ежечасно помышляли о нем, молились за него Богу, ждали не дождались его возвращения. В числе присутствовавших было немало и приверженцев Милославских, они явились для того, чтобы все выведать, выслушать, что будет говорить Матвеев, и подробно донести о словах его в терем. Не было только в палатах Артамона Сергеевича боярина Ивана Милославского – тот продолжал больным сказываться.
Нерадостно становилось на душе у Матвеева.
Расспросив обо всем, что в Москве творится, догадавшись и сам о многом, он убеждался с каждой минутой все яснее и яснее, что приехал на трудное, тяжкое дело.
Рвалось его сердце поскорей к царице Наталье, но теперь было поздно, пришлось отложить посещение дворца до следующего утра.
Ранним рано поднялся Артамон Сергеевич и поехал в Кремль. Там его встретили с восторгом неописанным.
Царица бросилась ему на шею, обнимала его, целовала, заливалась слезами, спешила обо всем рассказать, передать все свои опасения, узнать от него, что он думает о том, о другом! Как он намерен поступить? Что нужно делать?
Никто и не хотел скрываться, что на него одного у них вся надежда, что он теперь здесь хозяин и все будут его слушаться, беспрекословно исполнять его приказания.
Выбежал к Артамону Сергеевичу и царь Петр, не дождался, чтобы старик поцеловал его руку и поздравил его на царстве, крепко обнял своими детскими, но уже сильными ручонками шею боярина и называл его дедушкой, и целовал, и смеялся.
– Ах, дедушка, – говорил Петр, – слава Богу, что ты наконец приехал, а то без тебя так было страшно! Матушка все плачет, убивается; дядья все головы повесили; стрельцы приходят на двор, буянят. Вон вчера матушка укладывала меня спать, так плачет, говорит слова такие страшные, что будто бы хотят убить меня, да, вишь ты, не даст она меня никому в обиду! Только где же ей, дедушка, защитить меня – я скорей защищу ее, а вон ты теперь приехал, так точно защитник. Вон смотри, вишь, матушка уж и улыбается! Авось теперь плакать перестанет. А то, глядя на нее, и мне самому все плакать хотелось. Нет, теперь мы больше не будем плакать, теперь мы с тобою, дедушка, дело начнем делать, стрельцов усмирять будем, ведь да, ведь правда? Ведь мы усмирим их?
– Усмирим, государь, усмирим, мое золотое дитятко! – повторял Артамон Сергеевич, наклоняясь своим грузным старческим телом перед маленьким царем, целуя его руки и глядя на него с любовью. – Вырос-то как, вырос! – говорил он, обращаясь к царице Наталье Кирилловне, и на глазах его блестели радостные слезы. – Молодец какой! Красота какая! О, государыня, помяни слова мои – старость-то ведь вещунья – помяни: великий государь будет сын твой Петр Алексеевич!
Но очень-то поддаваться радости свидания Артамону Сергеевичу было некогда. Он спешил проститься пока с царицею и отправился к патриарху Иоакиму.
Тот принял его во внутренней келье и долго тайно с ним беседовал.
С нахмуренным лицом вышел от патриарха Матвеев и поехал к старому своему приятелю, князю Юрию Алексеевичу Долгорукому.
Главный начальник стрелецкий, Долгорукий, лежал теперь больной, и было ему плохо. Но, несмотря на свою болезнь, он знал обо всем, что творится в городе, а главное, в слободах стрелецких.
С тяжелым, мучительным чувством выслушал его рассказ Артамон Сергеевич и долго потом сидел молча, опустив на грудь свою седую голову.
– Что ж это такое, князь? – наконец сказал он. – Не пустая это сплетня – все толкуют одно и то же… Вон и патриарх, и Нарышкины, и другие бояре. Большую кашу заварили Милославские, нужно действовать немедленно – но как тут станешь действовать? Запустили вы больно дело-то, видно, не со вчерашнего дня началось все, заранее подготовлялось, и только вы поздненько разглядели.
– Прав ты, прав, Артамон Сергеевич! – со стоном ответил Долгорукий. – Ни на что мы не гожи. Я вот как пласт лежу… На тебя одного вся надежда!
– Плохая надежда, – печально усмехнулся Матвеев, – сам я, друже, совсем расшатался, уж не то, что был прежде. Вот слушаю вас всех и ума не приложу, как быть тут, – в голове мысли путаются… Думаю так, что все же обождать надо, дождаться какого-нибудь бесчинства со стороны стрельцов и тогда с ними начать расправу. А то попробовать разве мне собрать их да потолковать с ними, добром потолковать?
– Вот этак бы лучше! – произнес Долгорукий.
– Ну, значит, и ладно, на том и порешим, – тряхнул головою Матвеев. – В старину толковать да уговаривать я горазд был, авось они меня послушают. А не послушают, так пускай разорвут на части. Не могу я видеть этакой смуты, вся душа моя от нее разгорается!
Артамон Сергеевич смахнул невольно набежавшие на глаза слезы и простился с Долгоруким.
Он отправился к себе домой и немало был обрадован, когда узнал, что его уже с час времени дожидаются выборные стрельцы из всех полков с хлебом и солью.
Он немедленно к ним вышел.
– Здравствуйте, детки! – ласковым голосом произнес он.
Стрельцы поклонились ему в пояс и подали хлеб-соль.
– Спасибо, большое вам спасибо, детки! – сказал им Матвеев. – Радуется сердце мое, что вы меня не забыли.
– Как же нам забыть тебя, нашего батюшку? – отвечали стрельцы. – Помним мы все твои милости, всю твою ласку. Радость большая у нас, что ты подобру-поздорову в Москву к нам вернулся. Вот и пришли мы к тебе взглянуть на твои светлые очи да в ножки тебе поклониться. Не оставь нас, батюшка Артамон Сергеевич, твоею милостью, заступись за нас!
И все стрельцы действительно поклонились в ноги Матвееву.
Он начал поднимать их.
– Кто вы, детки? Что вы? Зачем кланяться мне в ноги? Царю так кланяйтесь. В чем же ваша просьба? Говорите…
– Да теснят нас больно, – отвечали стрельцы, – начальство у нас ныне плохое, справедливости к себе никакой не видим… Так уж будь ты нашим заступником! Ведь тебе больше, чем другим боярам, заслуги наши известны… На тебя вся наша надежда!
«Что ж это такое? – подумал Матвеев. – Ничего не разберу, что тут деется… Вот что значит время-то: и не так давно, кажется, Москву покинул, а теперь все перепуталось, все другое; сразу никак не разберешься. Нет, тут нужно хорошенько осмотреться – может, вовсе не бунт затевается, может, и впрямь стрельцы не так уж виноваты, а разумные наши бояре чуточную искорку в пожар раздули. Этак, не рассмотревши, да дело начать, так того и жди, сам своими руками себе яму выкопаешь. Нет, нужно осмотреться…»
Артамон Сергеевич ласковыми словами успокоил стрельцов, обещал им всякую защиту от несправедливостей и в заключение выразил им надежду, что сами они будут вести себя, как следует добрым слугам царя и отечества, никаких беспорядков и буйства заводить не станут.
– А тебе уж на нас нажаловались; видно, и невесть чего насказали! – раздалось между стрельцами. – Мы не бунтовщики, мы, вишь ты, справедливости только хотим, а с такими полковниками, что нас, как липок обдирают, жить не станем!..
И стрельцы, почесываясь и переминаясь, вышли от Матвеева.
Почти было успокоенный первым впечатлением этого свидания, он снова глубоко задумался над тоном последних слов выборных стрелецких. В этом тоне ему послышалось что-то мрачное, непонятное, тяжелое, и сжалось его сердце мучительным предчувствием.
V
– Где он? Где? Васенька, голубчик! Друг мой сердечный, тебя ли вижу! Слава Богу, что приехал, думала, уж и не дождусь тебя!..
Так говорила царевна Софья, выбегая из своей опочивальни в рабочую комнату, где стоял проведенный Родимицей князь Василий Васильевич Голицын.
Друг царевны был уже далеко не первой молодости; в густых темных волосах его кое-где даже пробивались серебряные нити, но вся красивая, стройная фигура его дышала силой и мужеством. Приятная улыбка, веселый блеск карих глаз сразу к нему располагали. Теперь же лицо его было еще привлекательнее – оно все светилось радостью свидания с горячо любимой Софьей. Да и та тоже как будто расцвела вся при взгляде на друга.
Измученная тревожными мыслями, бессонными ночами, всем тяжким для нее временем, она даже похудела и сильно побледнела за последние дни, но теперь прежний румянец снова горел на щеках ее; в глазах, так часто сумрачных и порою злобных, светилось счастье.
Она усадила Голицына в свое любимое кресло под образами, сама придвинула к себе маленькую табуретку и несколько минут молчала, внимательно разглядывая своего гостя, стараясь высмотреть – совсем ли он здоров, не было ли у него какой-нибудь неприятности в то время, как они не виделись, хорошо ли на душе у него и рад ли он свиданию с нею, как прежде. Теперь Софья не была царевной, далеко ушедшей в книжной мудрости, не была честолюбивой заводчицей смуты – она была нежная, любящая женщина. Глядя на нее в эти минуты, легко можно было понять то горячее, страстное чувство, которое внушила она к себе Голицыну, то чувство, из-за которого он забывал все на свете, забывал жену свою, семейство, а иной раз и обязанности службы, когда по первому ее зову готов был бросить все и спешить к ней.
Но времена были не такие, чтоб долго предаваться радости. Софья очнулась, и вмиг преобразилось все лицо ее: глаза опять блестели, сверкали, но уже не любовью, а злобным, тревожным чувством…
– Васенька, – заговорила она, – каковы дела-то у нас? Петр на престоле! Мачеха правительницей! Мы все со дня на день ожидаем заточения, а то так даже и смерти!
– Ах, какие страшные слова ты говоришь, золотая моя царевна! – тихим, ласкающим голосом проговорил Голицын. – Бог милостив – до смерти еще далеко, да и до заточения тоже… Право, ты о мачехе хуже думаешь, чем она есть на самом деле, да хоть бы и была она извергом рода человеческого, все же таки, я думаю, совсем им не на руку уж очень-то теснить вас. Это вы так сгоряча переполошились.
Софья дико взглянула на Голицына. Судорожно дрогнули ее губы.
– Ты ли? Ты ли это говоришь мне?! – почти закричала она, вставая в волнении и начиная быстро ходить по комнате. – Я ждала тебя, как света небесного! Думала, будешь ты нашим помощником, за наши обиды вступишься, а ты, кажется, даже радуешься, что враги наши торжествуют. Тебе любо наше унижение, наш позор! Василий, ты ли это? Или я ослышалась – не так поняла тебя? Так повтори, скажи – я ничего не понимаю!
Голицын слабо усмехнулся.
– Не ослышалась ты, царевна, а что не поняла слов моих – так это правда. Разве можешь ты сомневаться в том, что всякая обида, тебе нанесенная, всякое зло, тебе причиненное, для меня больнее своей кровной обиды? Разве можешь ты сомневаться в том, что я почел бы себя самым счастливым человеком, если б увидел тебя на верху земных почестей, если б увидел судьбу твою подобною судьбе дочери византийского императора Аркадия, мудрой Пульхерии Августы, со славою управлявшей государством столь долгие годы. Если б от меня зависело, конечно, я, вследствие юности царевичей, провозгласил бы тебя правительницей Российского государства. Но ведь дело сделано и все свершилось так, как мы должны были давно уже ожидать. Царевич Иван – и мы хорошо это знаем, да и весь народ знает тоже, – слабоумен: быть царем не может. И батюшка твой, Алексей Михайлович, и брат твой, новопреставленный царь Федор, всегда помышляли о том, что престол российский перейдет к младшему царевичу. По законам нашим, по укоренившимся правам и обычаям русским тебе нельзя надеть Мономахову шапку – так что ж делать?.. Ты винишь как будто во всем царицу Наталью, но я покуда вины ее не вижу. Вот, другое дело, если б рассказала ты мне про какую-нибудь обиду, нанесенную тебе ею, про какую-нибудь несправедливость, тогда бы заговорил я другими словами…
– Так заговори скорей, Василий! – в нетерпении перебила его царевна. – Заговори другими словами, а этаких слов я не понимаю и слушать не хочу! Что ты толкуешь, как духовник на исповеди! Ты мне не поп, а я тебе не дочь духовная! Да к тому же, вижу я, тебе мало показалось всех тех мучений, которые я испытала и испытываю, тебе захотелось еще больше помучить меня, потому ты и говоришь так. Ну, что ж, коли хочешь, мучай, толкуй всем, что все у нас ладно да справедливо: Иван-де скудоумен, а Петр – царь настоящий, Софье же и в монастырь пора; может, этого только тебе и хочется!
Голицын пожал плечами и с грустью взглянул на царевну. Он увидел теперь ясно, что она не способна внимать благоразумию, что она вся под влиянием могучего и злобного чувства, утешить которое ему не удается никакими словами и доводами. Он давно знал ее честолюбивые замыслы, но они до сих пор казались ему совершенно неисполнимыми. Он горячо любил ее и не раз доказывал ей это, и именно вследствие своей серьезной привязанности он не хотел бы видеть ее замешанной в большую смуту, которая может очень плохо кончиться и быть причиной ее погибели.
Но теперь, видно, дело зашло слишком далеко; он замечал в ней большую перемену, понял, сколько она должна была выстрадать за это последнее время, и вдруг ему сделалось бесконечно ее жалко, и он сам позабыл все свое благоразумие, все мысли, с которыми ехал в Москву, все осторожные удобоисполнимые планы, которые было построил.
– Прости меня, царевна, – сказал он, вставая и нежно заглядывая в лицо ей, – я хотел говорить с тобой как человек посторонний, хотел, чтоб ты услышала спокойно рассуждающий голос, но, видно, ты не можешь этого, да и я не могу говорить так. Ведь ты знаешь: если тебе больно – мне больно, и я не в силах думать о причинах этой боли, я только ее чувствую. Ты звала меня – говори же, что тебе нужно. И я, как всегда, готов отдать жизнь свою, лишь бы сделать тебе угодное.
Софья положила свои руки ему на плечи и озарилась вся знакомой ему нежной улыбкой.
– Вот так-то лучше, Васенька! Вот теперь опять узнаю тебя!
Она стала с жаром рассказывать ему обо всех событиях последних дней.
Она говорила увлекательно, и он, незаметно для самого себя, начинал все больше поддаваться обаянию ее речи, начинал смотреть на все ее глазами.
– Ну, что ж, – выслушав ее, проговорил он. – Дело-то выходит не так уж дурно. Ты говоришь, царевна, стрельцы готовы, можно теперь легко убедить их, чтоб они, собравшись все до единого, явились во дворец и били челом, прося не обижать царевича Ивана. Конечно, все это должно быть мирно и тихо – один вид войска и настоятельное требование перепугают Нарышкиных. Не пролив ни одной капли крови, не совершив никаких несправедливостей, можно будет уладить дело: Иван будет объявлен царем вместе с Петром; мы укажем на пример из византийской истории, укажем на Василия и Константина, Гонория и Аркадия. А когда Иван будет на престоле, то вам уж нечего бояться Нарышкиных.
– Твоими бы устами да мед пить, Васенька! – как-то загадочно произнесла царевна. – Хорошо было бы, если б все обошлось мирно и тихо, как говоришь ты!
И долго еще беседовали царевна и Голицын. Но странное дело – Софья многого не договаривала. Утаила она от друга Васеньки про посылки Родимицы в стрелецкие слободы, про то, что еще не далее как вчера она просматривала с дядей Милославским лист, где были написаны имена всех бояр и вельмож, которые должны пасть жертвами задуманного возмущения. Она решила, что Васеньке нечего знать об этом – он многого не понимает: вон ведь младенец какой – считает возможным все устроить без капли крови! Не видит… не чувствует того, что нельзя оставить в живых Матвеева с Нарышкиными!.. Ничего, и без Васеньки теперь обойтись можно. Дело на лад пошло, а когда она добьется своей цели, когда она сделается второю Пульхерией, тогда-то вот Васенька сослужит великую службу и ей, и государству. Теперь же пусть будет подальше – он белоручка, не для него черная работа, да и хорошо, что так, и слава Богу!
Сердце царевны, отуманенное честолюбием, ненавистью и жаждой мести, все же не было лишено добра и света: ей казалось, она была уверена, что нельзя обойтись без крови, и она смело утвердила список жертв, присланный ей Милославским, но ей было приятно думать, что любимый друг ее выйдет чист, без малейшего пятнышка из этого необходимого, но страшного дела.
Голицын едва успел покинуть покои царевны, как на его место явился Иван Милославский.
– Ну что? – тревожно обратилась Софья к боярину. – Что? Все готово? Ведь теперь медлить нечего – Матвеев здесь.
– Да, Матвеев здесь, и медлить нечего! – повторил за нею Милославский. – Вот видишь, и я выздоровел: полно болеть. Целую неделю пролежал, стонал на весь дом, горячими отрубями да кирпичами жег себя, чтоб все видели и знали, как жестоко я болен… А теперь полегчало. Завтра все должно решиться, не то старик предупредит нас, заберет в руки все правление. Больно хитер он – каков был таков и вернулся, ничего не растерял дорогой. Лисица проклятая! Многих уж успел обойти. Приезжали ко мне из бояр некоторые, так только и разговору что про Артамона; лаской его не нахвалятся, которые и с нами были, так теперь готовы лизать полы его кафтана. Нет, где уж тут мешкать!.. Еще одно – я всем толковал про Нарышкиных, что как это Ивана-то Нарышкина на двадцать третьем году пожаловали в бояре, – так что же бы ты думала? – и Артамон-то всем на это жалуется, говорит: Нарышкина не по достоинству награждают. Все и уши развесили, радуются: приехало красное солнышко Артамон Сергеевич! Прощай пока, царевна, завтра свидимся.
Софья пошла проводить его до дверей своих покоев.
Он уже взялся за дверную ручку, уже приотворил дверь, ведущую в галерейку, но царевна его остановила:
– Так как же будет? Так, как мы порешили?
– Да. Чем свет пошлю Александра да Петра Толстого в стрелецкие слободы…
– Ну да, да! – тревожно сжимая своей быстро холодеющей рукой руку Милославского, говорила Софья. – Да… пусть пораньше едут… пусть кричат по всему городу, что царевича Ивана задушили Нарышкины…
– Ладно! Будет исполнено! – ответил Милославский, направляясь далее по галерейке.
Царевна затворила за ним дверь и вернулась к себе. Она не заметила, что в темном углу галерейки, у самой двери, стоит какая-то женская фигура.
Когда двери за царевной затворились и затихли шаги Милославского, эта фигура вступила вперед, подошла к окошку и бессильно оперлась на него, будто боясь упасть.
При бледном свете майского вечера можно было распознать прекрасное молодое лицо, на котором теперь было глубокое нравственное страдание. Большие черные глаза были широко раскрыты ужасом, высокая девичья грудь порывисто дышала.
Это была Люба Кадашева. Проходя галерейкой и невольно остановясь, чтобы не столкнуться с тучным Милославским, она слышала последние слова Софьи…
VI
Минуты шли за минутами, а Люба все стояла у окна в каком-то оцепенении. Много нежданных, мучительных мыслей пронеслось в голове ее.
Что такое она слышала? Она не могла обмануться в значении слов царевны, хорошо теперь его понимала. Так вот какое дело готовят! Вот какому делу и она помогала! И кто же готовит – царевна! Ее Царь-девица, ее небесный ангел! Царевна, краше которой, добрее которой и чище, она думала, никого нет на свете… Эта царевна берет на себя страшную ложь, обман всенародный, следствием которого, может быть, будут потоки крови… Люба все понимала. Не далее как два дня тому назад, по царевниному же поручению, была она в слободе стрелецкой у Малыгина и плакала перед ним, описывая скорбь царевны, тяжкие обиды, которым подвергается Царь-девица. Сама Софья натолковала ей об обидах этих, и ей ли было не поверить царевне!
До сей минуты она видела в ней безвинную страдалицу, а тут что же?.. Она затевает смуту, хочет поднять народ обманом… Или это правда? Действительно задушили Нарышкины царевича?..
Но в ответ на эту мысль Люба горько усмехнулась и зарыдала.
«Разве бы все было так тихо во дворце и в тереме, если б случилось такое несчастье? Царевна незадолго перед этим была у брата и вернулась оттуда спокойною, да и теперь с Милославским говорила совсем не так, как говорила бы, если бы задушили Ивана… Но ведь этого же быть не может – царевна не способна на такой поступок! Нет, надо узнать, в чем дело!»
Люба почувствовала, что если она останется в этой мучительной неизвестности, то всю ночь не сомкнет глаз ни на минуту. Она чувствовала, что не вынесет того непонятного томления, которое закралось теперь в ее сердце.
Вдруг какая-то решимость блеснула в глазах Любы. Она сделала несколько шагов от окна назад, к царевниной двери, и смело вошла в покои.
Царевна сидела в своей рабочей комнате перед столом; в руках у нее была книга, но она, очевидно, ее не читала. Склонив голову на руки, она глядела, не мигая, в одну точку. Мысли ее были далеко. Но, всё же, услышав как отворяется дверь, она подняла голову и увидела входящую Любу.
– Чего тебе? – рассеянно спросила она.
Люба тихо приблизилась и молча остановилась перед нею.
Царевна взглянула на лицо ее более пристально.
– Что с тобою? Какое лицо у тебя странное, ты на себя не похожа. Что случилось?
Люба упала в ноги Софье и зарыдала.
– Да говори же, говори! – уже испуганно попросила царевна.
«Боже мой! Что там? Не несчастье ли какое? Не помеха ли нашему делу?» – подумала она.
– Государыня… – начала, едва останавливая свои рыдания, Люба. – Я шла по галерейке, как из твоей двери выходил боярин Милославский… Я не хотела подслушивать, видит Бог, не хотела и остановилась только, чтоб не толкнуть боярина… Я слышала то, что ты ему сказывала…
Царевна ничего не понимала.
– Ну так что ж? – произнесла она. – Я верю, что ты без вины подслушала и прощаю тебе, только, конечно, ты держи язык за зубами, да, чай, и сама понимаешь… нечего учить мне тебя.
– Государыня! Царевна!.. Так это правда? – в ужасе с отчаянием проговорила Люба.
– Что «правда»?
– Да что царевича задушили…
Софья нетерпеливо пожала плечами.
– А ведь я считала тебя умнее, – сказала она. – Нет, ты, видно, еще дитя неразумное! Царевич жив… Но ведь нужно же как-нибудь поднять стрельцов, нужно же нам как-нибудь спасти себя. Ведь вот до сих пор буянят они там в слободах, а никакой для нас пользы еще не вышло. Так авось весть о том, что царевича задушили, наконец их поднимет – поняла теперь, глупая, что ли?
Люба уже давно понимала. Стоя на коленях на полу перед царевной, она склонила голову и горько плакала.
– Встань! – повелительным и строгим тоном сказала Софья.
Люба машинально повиновалась.
– Или ты больна сегодня, горячка у тебя, что ли? – продолжала Софья. – Чего ты ревешь? Нет, ты полоумная… Уйди, оставь меня, мне не до тебя теперь!
Люба глядела во все глаза на Софью. Слезы ее мгновенно остановились, да и было с чего. Неописанное изумление остановило эти слезы: диво дивное свершилось перед Любой. Чудная, светлая красавица в одно мгновение лишилась всей красоты своей, превратилась в злую, холодную женщину.
Что ж это такое? Или бес морочит Любу, или перед ней не царевна Софья, а кто-нибудь другой, взявший на себя ее облик.
Не проронив больше звука, вышла Люба из этой комнаты, пробралась к себе, накинула на плечи летник, лицо покрыла фатою, тихо вышла из терема и пустилась бежать вдоль Кремля, за ворота, по московским улицам, в стрелецкую слободу, к Николаю Степановичу.
Несмотря на поздний вечерний час, на улицах не было обычной тишины. То здесь, то там встречались Любе выходившие из своих дворов жители. Они подходили друг к другу, тихо и таинственно о чем-то толковали, оглядывались, прислушивались. Что-то странное творилось в городе: никто ничего не знал, но все предчувствовали близкую бурю и не могли успокоиться.
Чем ближе к городскому валу, чем ближе к слободе, тем народу попадалось больше, а за валом и совсем будто днем жизнь кипела. Стрельцы собирались в кучи, громко кричали, спорили. Из кабаков выходили пьяные ватаги с гамом и песнями. Вот завязалась драка, кого-то сильно избили, кто-то стонет… Полное безначалие, никто не останавливает беспорядков, будто и нет совсем у стрельцов полковников. Одни из них во всем потакают стрельцам, сами же, закупленные агентами царевны, подбивают на всякие бесчинства. Другие не смеют показаться, боясь испытать участь товарищей, сброшенных с каланчей.
Опасно быть одинокой молодой девушке среди этого расходившегося, дикого люда. Но Люба не думает об опасности. Как стрела мчится она вдоль улицы. Вот и дом Николая Степановича. Слава Богу, калитка не на запоре! Можно прошмыгнуть в нее, не обратив на себя ничьего внимания. Люба пробежала небольшой дворик и постучалась у крыльца. Прошло несколько невыносимо мучительных мгновений – никто не отзывался.
«Боже мой, – думала Люба. – Его нет дома, он там где-нибудь! Он вооружает теперь свой полк, готовит его к бунту, исполняет то, о чем я сама, несчастная, просила его именем царевны… И он думает, что делает доброе дело… Что же будет, если нет его дома?.. Я должна его видеть!»
Она принялась стучать еще громче. Слава Богу, вот слышны чьи-то шаги в домике, кто-то подошел к двери.
– Отворите! – глухим голосом крикнула Люба.
Дверь отворилась, перед ней Малыгин. Слабый свет бледнеющего заката озаряет лицо Любы. Малыгин глядит на лицо это в страхе: так оно бледно, такое на нем мучительное и испуганное выражение.
– Государыня Любушка, ты ли это? Не ждал я тебя в такую пору, что случилось?
– Ах! Много случилось, Николай Степанович! – ответила Люба таким страшным голосом, что у него душа ушла в пятки. – Впусти, все расскажу, что случилось.
Он впустил, запер дверь. Она упала на первую попавшуюся лавку и несколько минут не могла прийти в себя. Говорить хотела, но сердце стучало громко, язык не слушался. Наконец, кое-как успокоившись, она передала Малыгину о том, что подслушала при прощании Милославского с царевной, и о том, что и как говорила ей Софья.
Малыгин сидел перед Любой, глядел на нее во все глаза и долго никак не мог взять в толк, что это такое она говорит и что такого страшного в словах ее.
– Чего же ты убиваешься, отчего на тебе лица нет? – наконец выговорил он, когда она кончила. – Ведь царевич-то жив, так что ж?
Теперь и Люба в свою очередь его не понимала.
– Как так что же? – растерянно прошептала она. – Царевич жив, и никто ему никакого зла не делает, а она всех обмануть хочет!.. Завтра чуть свет, слышь ты, наедут к вам Милославские для того, чтоб обманом вести вас в Кремль.
Она пристально, с мучением глядела на Малыгина, ждала, что он говорить будет. Но ему говорить было нечего; он совсем запутался. Он не знал, чего она от него хочет. Ведь сама же заставляла его работать в пользу царевны, всячески его уговаривала. Прежде, до этих уговоров, ему никакого дела не было до того, кто после царя Федора будет назначен ему преемником: Иван или Петр. Он думал только об одном: как бы рачительнее исполнять свой долг, свою службу. Он возмущался, видя несправедливости, которые себе позволяли его сотоварищи – стрелецкие начальники с подчиненными, и сам относился к своим стрельцам ласково, держал себя так, что они ни в чем не могли обвинить его, и за это стрельцы выказывали ему полное доверие даже в последние дни, во дни великого своего буйства. Все, что он говорил, выслушивали внимательно и во всем с ним соглашались. А он говорил теперь много, он решился сослужить службу своей государыне Любушке, помочь делу ее Царь-девицы. Вот и подготовлено дело, остается только предлог найти, чтоб двинуть полки в Кремль – и предлог найден. Разумная и хитрая царевна самую подходящую вещь придумала; теперь нет сомнения, что, услыхав о мнимой смерти царевича Ивана, все войско, как один человек, кинется расправляться с Нарышкиными, и царевна восторжествует. Некому уж будет обижать ее, нечего будет Любе плакаться на горькую долю своей благодетельницы… Так чего же Люба? Она недовольна этим, она чем-то перепугана до полусмерти! Чудная, непонятная девушка!
– Николай Степанович, да не молчи ты, не гляди на меня так! Не то я чувствую, что у меня разум совсем помутится! Не томи меня, Николай Степанович! – отчаянно шептала Люба.
– Ума я не приложу, золотая моя боярышня, – отвечал Малытин, – чем ты недовольна! Ты добрую весть принесла мне, и вижу я теперь, что завтра же на вашей улице будет праздник. Мы только и дожидаемся от вас какой-либо весточки…
– Как? Ты ли это говоришь, Николай Степанович, тебя ли слышу? И ты тоже?! Все!
Люба схватила себя за голову и горько зарыдала. Малыгин бросился к ней, стараясь всячески ее успокоить, но она не успокаивалась.
– Пойми же, наконец, – заговорила она, останавливая свои рыдания, – пойми, что мы наделали! Дура я, деревенщина, хуже малого ребенка! Кругом меня обманули… Только теперь… только сейчас прозрела! Беги, Николай Степанович, если Бог в тебе есть, беги скорей по своему полку… Говори, что вы обмануты, что солгут завтра Милославские, чтобы не верили ни слову… Говори, что жив царевич, что никто его не обижает, никто не обижает и царевну Софью, а это она всех хочет обидеть… Она хочет неповинной крови! Беги, говори, что она изверг, злодейка, что вас не жалеет, а ведет на погибель только. Да погоди, постой, я сама побегу с тобою, я все расскажу им… Я расскажу, как я любила ее, как я верила, что она светлая, чистая, прекрасная, и как она меня обманула! Да и не сейчас, не сегодня я все узнала. Уж не первый день начала догадываться, только себе не верила. А она-то ведь плакала предо мною, так жалобно описывала всякие обиды… Нет, пойдем, Николай Степанович, скорее!
Люба быстро встала и направилась к двери. Малыгин едва удержал ее.
– Что ты. Бог с тобой, как тебе идти можно? Пойдешь себе на погибель! Разве они послушают, разве с ними говорить теперь возможно? Разве не знаешь, что вся наша слобода теперь ровно ад кромешный, что стрельцы не люди теперь, а звери лютые… Что ж, пойдем, будем говорить. Много они нас послушают. Много нам поверят… В куски нас с тобой разорвут, вот что!
Безумный крик вырвался из груди Любы:
– И я этому помогала! Господи!
Она остановилась, бессильно опустила руки и ничего не могла сообразить.
Николай Степанович тоже стоял возле нее в задумчивости. Теперь он все уже понял, теперь Люба не казалась ему больше чудною. Он взглянул на бледное, измученное лицо ее, и то страстное, горячее чувство теперь превратилось в благоговение. «Чистая душа! – мелькнуло в голове его. – Дитя Божье! И я-то хорош, я-то хорош! Не разглядел ее, думал, что она одного поля ягода с Родимицей… Да где же были глаза мои? Что же, ведь и по годам она совсем еще ребенок. Много ли жила-то, ничего не видала, а тут в этакую кутерьму попала! Бунтовщица… Хороша бунтовщица!»
Между тем Люба вдруг вышла из своего оцепенения. Страшные картины одна за другой рисовались перед нею. Она вспомнила весь тот ужас, который был детским впечатлением ее детства. Вспомнила, как охмелевшие и безумно кричавшие люди окуневского приказчика убивали ее отца и мать… Припомнилась ей и недавняя ночь, проведенная ею в Медведкове… Все эти воспоминания ясно ей показывали, как легко убиваются люди, до каких зверств доходит толпа, кем-нибудь возмущенная. И теперь будет то же самое! Страшны стрельцы. Завтра кровь будет литься рекою!..
– Пусти, Николай Степанович! – решительно проговорила Люба, вырываясь из комнаты. – Ты идти со мной не хочешь, ты боишься, так я пойду одна, пусть меня разорвут на части, пусть, и поделом! – Я виновата!
С необычайной силой отстранив Малыгина, который пробовал загородить перед нею дверь, она выбежала из домика и пустилась по улице.
Николай Степанович бросился за нею.
VII
Между тем на улице пустело. Те из стрельцов, которые были трезвы, уже разошлись по домам; оставались одни пьяные ватаги у дверей кабаков. Малыгин в ужасе спешил за Любой, окликая ее и умоляя остановиться, но она ничего не слышала, ничего не видела. Она не понимала полной безрассудности и бесполезности своего поступка.
Увидев значительную толпу стрельцов, она побежала к ней и начала было, задыхаясь, просить, чтобы ее выслушали, что она имеет сообщить нечто очень важное. Но пьяные стрельцы не дали ей докончить и с первых же слов обступили ее со всех сторон. Один грубым движением сорвал с лица ее фату, другой силился обнять ее.
– Красавица, пташечка залетная, откедова? Милости просим! – раздавались пьяные голоса. – Ишь ты какая! Видно, бой-баба, сама к стрельцам лезет, нам таких и нужно! Пойдем, девка, выпьем да споем песенку!
Двое стрельцов схватили ее за руки и стали тащить к кабаку. Она разом очнулась и поняла свое положение.
В эту минуту Малыгин добежал до нее, вырвал ее у стрельцов. Но стрельцы, хоть и узнали его, не намерены были, по-видимому, отступиться от такой находки.
– Эй, Миколай Степанович, отвяжись! – закричали они. – Тебе-то что?! Ведь она сама к нам прибежала. Мы не украли ее…
– Пустите!.. – отчаянным голосом проговорил Малыгин. – Пустите!.. Первый, кто подступится, того уложу на месте.
Он выхватил из-за пояса нож и начал махать им во все стороны.
– Да чего ты грозишься-то! Не больно мы тебя боимся! – заголосили стрельцы.
Люба поняла, что еще мгновение – и начнется свалка.
– Пустите меня! – крикнула она изо всей силы и рванула свою руку из руки стрельца, ее схватившего. – Пустите, я шла к вам спросить, где мне найти Николая Степановича, а вот и он сам. За что же вы меня обижаете?
Стрельцы отступили.
– Ну, коли так – другое дело! – проговорило несколько голосов. – Давно бы и сказала, что малыгинская. Бери, Миколай Степанович, мы твоего не желаем, а ты уж и нож сейчас вытащил – больно прыток!
Малыгин схватил Любу за руку, крепко держал ее и пустился бежать с нею назад к своему дому.
А вослед им раздавались непристойные шутки на их счет, только ни Малыгин, ни Люба не обращали на это внимания, да и вряд ли что-нибудь слышали.
– Ну что ты наделала? – проговорил наконец Николай Степанович, когда они были у дома. – Ведь говорил, – не беги… Разве могут они теперь понять что-нибудь? Ведь если бы Господь не надоумил тебя сказать им, что ты меня ищешь, так что бы вышло? Они бы не задумались, уложили бы меня на месте перед твоими глазами… Не боюсь я смерти и, защищая тебя, всякую минуту умереть готов, а все же умирать-то не хочется, на тебя досыта не наглядевшись…
Люба взглянула на него растерянным и молящим взглядом.
– Прости, Николай Степанович, вижу, что следовало тебя послушаться. Только, боже мой, что же мне делать? Говорю тебе, ум мутится у меня – ведь нельзя же так сложить руки и быть спокойной, когда готово совершиться такое дело! Пойдем, Николай Степанович, потолкуем, чем бы пособить… Но вот я, глупая, ничего сообразить не могу, так ты-то научи меня уму-разуму, подумай хорошенько…
– И без того думаю, – отвечал Малыгин, входя следом за Любой в свой домик и крепко запирая дверь. – Теперь ничего не поделаешь, – продолжал он, – нужно ждать утра.
– Николай Степанович, – вдруг тихим, но каким-то особенным голосом, который заставил вздрогнуть молодого подполковника, произнесла Люба, остановившись перед ним и пристально, не отрываясь, глядя в его глаза, будто думая прочесть в них всю его душу. – Николай Степанович, поклянись мне, что ты сделаешь все, чтобы разуверить завтра твоих стрельцов, чтобы удержать их… Поклянись, что ты не допустишь кровопролития. Теперь вон они пьяны, утром авось будут другие… Поклянись мне!
– Клянусь, – тихим и торжественным голосом сказал Малыгин.
Несколько мгновений они молчали.
Николай Степанович сидел, опустив голову и порывисто дыша. С ним происходило что-то необычайное.
Вдруг он тряхнул своими кудрями, взял Любу за руку и склонился перед нею.
Она взглянула на него и увидела на глазах его слезы.
– Что ты? Ты плачешь?
– Да, да, плачу, – прошептал он. – Чудо великое ты сотворила со мною… Вот ты говорила, что была слепа и сегодня прозрела, я, видно, тоже был слеп, и ты раскрыла мне очи. Видела ты, что я долго не мог понять тебя, когда ты мне с таким ужасом да со слезами рассказывала про выдумки царевны. Да, я не понимал, но теперь понял, понял, что тебя мучит и почему ты считаешь себя виноватой… И вот я поклялся тебе и исполню свою клятву. Пусть убьют меня, пусть на копья подымут стрельцы безумные, а я сделаю свое дело; выведу правду наружу… То, что ты находишь злом, то и есть зло; как ты поступать прикажешь, так поступать и надо – Бог говорит твоими устами, и я счастлив, как никогда еще в жизни не бывал счастлив, что мог понять тебя; не отвертывайся же от меня. Многим я грешен Богу, но все же не вконец позабыл еще Его. Учи меня правде!
Люба с восторгом вслушивалась в эти неожиданные и беспорядочные, прерывистые его речи. Каждый звук их она ловила, и каждый звук новым блаженством ложился на ее сердце.
– Николай Степанович, дорогой, голубчик! – проговорила она, и вдруг слезы брызнули из глаз ее.
Она потянулась вперед, охватила своими дрожавшими руками голову Малыгину и прижала ее к груди своей.
– Так ты меня любишь? Любишь? – шептал он.
– Люблю! – отвечала она бессознательно, не зная, как само собою сказалось это слово, как оно вылилось в такую тревожную минуту.
В мгновение они всё позабыли… только глядели друг на друга.
Люба склонилась на плечо Малыгина и тихо плакала. Новая жизнь началась для нее, и она не могла отталкивать от себя этой жизни, с блаженством встречала ее. И чем больше зла и обмана было в ее прошлом, чем сильнее болела последняя рана, нанесенная ей Царь-девицей, существом, к которому беззаветно она так привязалась и которое так ее обмануло, тем с большею страстью, с большим блаженством прильнула она теперь к единственному человеку, который откликнулся на призыв ее сердца.
А время шло. Вот уже и ночь над землею, но Люба не прощается с Малыгиным, не думает уходить от него – куда ей идти? У нее теперь нет дома. Ей страшно и подумать вернуться в Кремлевский терем. Он представляется ей таким страшным, таким заколдованным. Да, страшен он – его хозяйка злая колдунья. Слава Богу, что Люба узнала ее – хоть поздно, но все же узнала, – теперь она уж не обморочит, эта злая колдунья, не прикинется Царь-девицей.
VIII
Рано поднялась пятнадцатого мая царевна Софья и сейчас же кликнула к себе Родимицу. А та только и дожидалась этого зова. Она вошла и подала царевне записку.
– Вот, боярин Иван Михайлович прислал, – сказала она.
Софья быстро схватила записку и прочла: «Все благополучно, мы с Хованским готовы; Александр и Толстой погнали в слободы. Распорядись, чтоб кто-нибудь из твоих забрался на колокольню и в набат ударил – это-то будет лучше, на стрельцов подействует».
– Ну, это твое дело, Федорушка, – произнесла царевна, перечтя громко Родимице записку. – Сможешь, что ли?
Та только усмехнулась.
– Будет исполнено.
– А ко мне позови Любу, – прибавила царевна. – Что она, здорова? Вчера, как полоумная какая, вбежала ко мне, вопит, а о чем – и разобрать невозможно.
– Я ее не видела сегодня, – ответила Родимица. – Сейчас позову.
Но через несколько минут она вернулась с вестью о том, что Люба пропала. Никто ее не видел, постель не смята, видно, не ночевала в тереме.
Царевна пожала плечами.
– Ну, да бог с ней – не до нее теперь! – сказала она. – Ступай на колокольню.
– Сейчас бегу.
Родимица скрылась.
Царевна поспешно оделась без посторонней помощи и стала тревожно ходить по своим покоям.
«Что-то там теперь? Скоро ли будут? Все ли благополучно?» – думала она. И вот к этой мысли невольно примешалась и мысль о Любе.
Вчера, действительно, полная своих тревог, она не обратила внимания на Любу и не поняла ее странного посещения, но теперь ей ясно стало многое.
«Ах, она глупая девчонка! Ведь это она от меня отчета требовала, судьею моим являлась… Это ей не понравилось, что я живого брата за убитого хочу выдать… Вот где мне судья отыскался!»
Неприятная, злая усмешка скользнула по губам царевны.
«Но куда ж она делась, эта девчонка? Не ночевала… Уж не туда ли, не к своему ли Малыгину отправилась? Да, конечно, так и есть, там мутит, пожалуй… Только что ж она может сделать? Ей ли, холопке, со мной бороться!.. А я-то еще положилась на нее, думала, что она будет мне полезна. Глупая, глупая девка! Но ведь она смела, она на все готова решиться, если ей дурь какая придет в голову… Чего доброго, пожалуй, испортит еще что-нибудь… Что, если так? – Тревога начала закрадываться в сердце царевны. Впрочем, она сейчас же себя и успокоила: – Нет, теперь поздно! Теперь ничто и никто нам не помешает – дело сделано! Не Любашке со мной тягаться!»
Прошло еще несколько минут, и вдруг раздался набатный гул колокола Ивана Великого.
Весь дворец, терем, весь Кремль поднялся на ноги, всполошился: «Что такое? Что это значит?»
Кинулись на колокольню. Кто звонит? Никого нет.
Родимица искусно притаилась в крошечном чуланчике под лестницей, и когда толпа людей, взбиравшихся на колокольню, была уже выше ее, она вышла из своего убежища и, стоя на лестнице, начала кричать:
– Бейте в колокола, бейте! Сзывайте народ! Разве не слышали – к Кремлю идет войско, все полки… Нас всех перережут!
– Кто это кричит? Кто?
Родимицу окружили, стали расспрашивать: с чего она взяла-то говорить такие речи?
– Сама видела, своими глазами, – отвечала она. – Посылайте скорей в город, так узнаете.
Несколько человек кинулись за кремлевские ворота и скоро вернулись с бледными, перепуганными лицами и объявили, что со всех сторон к Кремлю подвигаются полки стрелецкие.
Смятение началось страшное.
В это время Матвеев, приехавший к царице, вышел на дворцовое крыльцо, чтобы узнать причину набата: он предполагал, что загорелось какое-нибудь из зданий кремлевских. Но на лестнице ему встретился князь Урусов и дрожавшим голосом объявил ему, что стрельцы и солдаты бунтуют, вошли в Земляной город и уже близко от ворот кремлевских.
Матвеев воротился и сообщил царице страшную новость.
Она всплеснула руками.
– Что ж нам делать? Что еще хотят они?
– Заранее не тревожься, государыня, – ответил Матвеев. – Я сейчас отдам приказ подполковнику стремянного полка запереть все ворота; силою в Кремль войти не так-то легко… Может, все благополучно кончится.
Но не успел еще Артамон Сергеевич распорядиться позвать подполковника, как прибежали несколько человек с криками, что стрельцы уже входят в кремлевские ворота.
У Матвеева опустились руки.
Между тем дворец наполнялся со всех сторон приехавшими людьми.
Прежде всего к царице Наталье явились царевны из терема, а потом все Нарышкины и многие бояре из города, которые, заслышав о бунте стрельцов и их приближении, и не без основания боясь всяких насилий, бросились в Кремль, во дворец, чтобы там найти себе убежище.
Скоро к этому перепуганному, теснившемуся собранию присоединился и престарелый патриарх Иоаким. Он вошел своей обычною спокойною поступью, но лицо его было особенно бледно и грустно.
– Тяжкие дни переживаем! – со вздохом произнес он, обращаясь к подошедшему Матвееву.
На Матвеева и взглянуть было страшно: он казался теперь столетним, расслабленным старцем.
– Страшные дни! – ответил он патриарху. – И боюсь я, что на меня ляжет ответственность за то, что происходит ныне. Я должен был это предвидеть, должен был понимать, что враги наши давно уж все подготовили… А я медлил, высматривал, не знал, на что решиться, три дня пропустил… Но мог ли я ждать всего этого – в мое время такие дела были невозможны… И все же я виноват – я приехал помочь царице, она на меня понадеялась, а я вот дряхл и бессилен, ослеп, ничего не разглядел. Виноват, пусть судит меня Бог… Мне остается теперь, если нужно, без трепета положить свою жизнь за царя и царицу. Но боюсь, что и этим я не помогу им…
Его седая голова бессильно упала на грудь, из глаз на морщинистые щеки закапали невольные слезы.
Несколько успокоившись, он оглядел всех присутствовавших, его взор остановился на царевне Софье.
«Вот первый враг наш! Вот чьих рук это дело!» – подумал он.
Софья что-то толковала царице Наталье. Она казалась встревоженной, испуганной. Но вот она начинает успокаивать царицу.
– Заранее нечего тревожиться, – говорила она. – Бог даст, всё обойдется благополучно. Конечно, в последнее время стрельцы дают себе много воли, но кто ж виноват в этом? С самого начала не следовало им потакать, а как начали им потакать, так они и зазнались.
– Но что ж было делать, как не потакать? – мучительно произнесла Наталья Кирилловна. – Ведь уж всем видно, что мы в их власти: что хотят, то с нами и делают. Ох, чует сердце мое – не обойдется без крови. Боже мой, как быть нам?
Она заломила в отчаянии руки и заплакала, прижимая к себе сына.
– Успокойся, матушка, – тихим, мелодичным голосом сказала Софья (давно она не называла этим именем царицу Наталью). – Успокойся, матушка, ведь мы еще не знаем, что им нужно. Вот сейчас всё объяснится, может, ничего страшного и нету…
И говоря эти слова, царевна пристально и, по-видимому, ласково глядела на Наталью Кирилловну. А в то же время какое-то мучительное, но сладкое чувство сосало ей сердце. Она наслаждалась этим всеобщим смятением, этими слезами царицы.
«Плачь! – думалось ей. – Плачь, еще не так будешь плакать! Ты пришла к нам незваная, непрошенная. Ты, бедная воспитанница худородного Матвеева, восхотела быть выше нас, прирожденных царевен… Ты отняла у нас отца, теперь ты, со своим сынишкой, у нас все отнимаешь! Нет, видно, мало ты меня знаешь, я еще тебе не дамся! Горькие слезы будешь проливать ты…»
Она отошла от царицы ближе к выходным дверям и спрашивала: что ж стрельцы – близко ли? И чего требуют?
Но никто не мог ей ответить, так все были растеряны, так перепуганы.
В это время дверь во внутренние покои отворилась и вошел царевич Иван. Медленно, волоча за собою ноги, он подошел к царице Наталье.
– Что тут у вас такое? – спросил он. – Меня сюда позвали, что-то толковали, да я, признаться, не понял хорошенько. Война, что ли? Враги на нас идут? Какие это? Турки?
– Стрельцы опять бунтуют, братец, – ответил ему маленький Петр. – А чего хотят – не знаю. Выйдем-ка мы с тобою к ним, спросим их, нам они должны ответить, кому же и отвечать, как не нам? Вот и посмотрим, что нужно тут делать; право, пойдем, братец!..
Наталья Кирилловна схватила за руку сына.
– Что ты? Куда, Бог с тобою, дитятко! Ради Создателя, не отходи от меня.
– Эх! – вздохнул Петр, но не смел ослушаться матери, не смел выдернуть из ее руки свою руку. Он сел рядом с нею и задумался. Густые брови его сдвинулись, темные глаза горели.
Царевич Иван так же тихо, с трудом передвигаясь, подошел к сестрам.
В эту минуту из окон послышался быстро приближавшийся бой барабанов: все вздрогнули и стали еще теснее жаться друг к другу.
Только Матвеев да патриарх поспешили выйти из палаты на крыльцо, навстречу стрельцам.
Между тем на дворе уже раздавались отчаянные крики и вопли. Стрельцы обступили густыми толпами весь дворец, перебили нескольких людей боярских, не успевших вовремя скрыться.
В толпах стрельцов развевались знамена; на самый двор вкатили пушку. Дикий крик раздался по рядам стрелецким: «Кто задушил царевича Ивана? Подавай Нарышкиных! Подавай изменников и душегубцев!»
– А-а, вот они чем их подняли! – прошептал Матвеев, расслышав эти крики.
Он вернулся к царице.
– Мятежников обманули, – сказал он, – они думают, что кто-то задушил царевича Ивана. Нужно показать его им – только в этом теперь и спасенье! Пойдемте все на крыльцо, и ты иди, государыня царица, не бойся, теперь не время трусить. Ничего они не посмеют сделать!
Многим трудно было решиться выйти к стрельцам, но все поняли, что это необходимо, все поняли, что в крайнем случае нужно будет защищать царское семейство.
Тесня друг друг друга, бояре двинулись к выходу.
Царица Наталья взяла за руки сына и пасынка и, тихо читая молитву, бледная как полотно, но твердыми шагами вступила на Красное крыльцо и остановилась у самой решетки.
В первое мгновение ее оглушил страшный крик стрельцов, которые, как бесноватые, обступили крыльцо со всех сторон и лезли вверх…
Вот они увидели обоих сыновей царя Алексея, и вся площадь мгновенно стихла.
– Что ж это? Значит, нас обманули? Значит, это правду говорили сегодня утром, что царевич жив – вот он!.. Вот!
Многие начали снимать шапки.
Однако приверженцы Софьи и Милославских не дремали. Князь Хованский неизвестно откуда появился внизу на площади, пробрался между стрельцами, которые давали ему дорогу, и шепнул что-то на ухо полковнику Циклеру.
– Да полно, царевич ли это?! – вдруг крикнул Циклер.
– Да! Не обман ли уж? – повторило несколько голосов. – Это нас морочат – другого одели в платье царевича…
– Ан, нет же, он!.. Он! Не в первый раз мы его видим! – ответили другие.
– Да что тут! Полезай вверх, чтоб без обмана было!..
Они подставили лестницу, и десятка два стрельцов стали взбираться на Красное крыльцо, поддерживаемые товарищами. Вот верхние добрались до решетки.
Царица Наталья невольно попятилась и заслонила рукою Петра. Но царь высвободился из-под руки матери, стал на свое прежнее место и смело, горделиво поглядывал на стрельцов.
Царевич Иван тоже не выказал ни малейшего страха. Он глядел вокруг себя, как и всегда, совершенно безучастно; ничего нельзя было прочесть на бледном, одутловатом лице его.
Между тем стрельцы внимательно его разглядывали.
– Он! Он! – кричали они. – Его лик! Да полно уж, не бесовское наваждение?!
И они перекрестились. Нет, царевич Иван перед ними – не пропадает, не рассыпается прахом!
– Ты ли это, царевич Иван Алексеевич? – спрашивают его стрельцы, ощупывая его платье.
– Я! А то кто же?
– Так, стало, жив ты?
– А то и помер, что ли? Видите, жив.
– Кто же это тебя изводит? Кто враги твои? Кто бояре изменники?
Никто не предвидел возможности подобных вопросов. Никто не предупредил царевича. Теперь страх немалый взял бояр. А вдруг он ответит что-нибудь неладное? Все затаили дыхание.
Царевич слабо и странно усмехнулся.
– В толк не возьму, о чем меня спрашиваете, – наконец сказал он своим глухим голосом. – Нет у меня врагов… Никто меня не изводит. Жить мне хорошо, ни на кого не жалуюсь…
У всех отлегло от сердца.
Стрельцы еще несколько мгновений поглядели на царевича, переглянулись между собою и стали слезать вниз.
– Он, взаправду он, и говорит, что никто его не изводит! Стало, нас обманули…
Толпа не шевелилась в недоумении. Многие переминались с ноги на ногу, почесывали себе затылки. Раздалось несколько голосов:
– Что ж это? Дело-то неладно – чего ж нас подняли? Изменники-то, видно, те, кто обманул нас!..
Некому теперь было глядеть на царевну Софью, а взглянуть на нее стоило.
В то время как все лица мало-помалу прояснялись, как у всех явилась надежда, что дело примет счастливый оборот, она стояла, как приговоренная к смерти, со страшно искаженным лицом, сама на себя не похожая. Сердце ее то замирало, то начинало неудержимо, больно биться, в виски стучало, голова кружилась.
«Господи, что ж это такое? Неужто все пропало?.. И как это я не предупредила этого: нельзя было пускать брата. Как-нибудь, а необходимо было удержать его. Что ж… Теперь молчат стрельцы… да и нечего сказать им!»
«Вот сейчас они уйдут, пристыженные, обратно к себе в слободы, и чем их в другой раз оттуда выманишь?!.. А старый волк Матвеев теперь уже не оплошает, примет решительные меры. И ведь ничего сделать теперь нельзя… я не могу и пошевельнуться. Но неужели? Быть не может! Все так давно приготовлялось, все так хорошо шло!»
Ноги царевны подкашивались, она едва не упала. Она видела, как сквозь туман какой-нибудь, вокруг себя движение. Все идут обратно; Красное крыльцо пусто; на площади тишина… и ей ведь нечего здесь оставаться.
Шатаясь, едва сдерживая отчаянный вопль, готовый вырваться из груди ее, она тоже направилась с крыльца во внутренние дворцовые покои.
Но внезапно новая мысль пришла ей в голову. «Прикажу выкатить им бочки вина и пива – перепьются… тогда их легко опять будет натравить!»
Она поспешила отыскать Милославского.
IX
Между тем после нескольких минут тишины на площади началось снова волнение. Стрельцам как-то совестно было сознаться в своей глупости, что вот, по нелепому слуху, заставили их всех поголовно подняться. Им совестно было теперь, пристыженным и опозоренным, воротиться к себе; да и страх, очевидно, внушаемый ими боярам и семейству царскому, действовал на них подзадоривающим образом. А тут еще и выкаченные им бочки вина и пива, на которые они тотчас же набросились, и возмутители, кричащие: «Ну что ж, что царевич жив! Хоть он и жив, все же пускай выдадут нам его недоброхотов – Матвеева и Нарышкиных!..»
– Да, да, пускай выдадут! – подхватывает несколько десятков голосов.
– Да и разве не знаете, братцы! – на всю площадь кричит Озеров. – Разве не знаете, что Иван Нарышкин примеривал на себя корону и разные царские украшения?! Он сам нашим царем хочет быть! Уйдем теперь… Оставим их на свободе, так все равно они изведут и царевича, да и царя Петра, даром что он им сродственник!
– Слышь ты, Нарышкин на себя корону примерял! – раздается уже на другом конце площади. – Нет, не уйдем так!.. Подавай нам Нарышкиных и Матвеева!
Пристыженные и сконфуженные стрельцы нашли выход из своего неловкого положения. Снова неистовые крики наполнили площадь, снова густые толпы, вооруженные бердышами и мушкетами, полезли к Красному крыльцу и к окнам Грановитой палаты.
Те из окружавших царицу, кто был посмелее, решились выйти к стрельцам. Скоро на Красном крыльце показались Черкасский, Шереметев Большой и князь Василий Васильевич Голицын. Четвертым между ними был Тараруй-Хованский. Сам всячески возмущавший стрельцов и за четверть часа перед тем незаметно нашептывавший им на площади, теперь он объявил, что идет их уговаривать. С крыльца ему удобнее было подавать тайные знаки, одобрять своим присутствием.
– Чего вам еще нужно? – смело выступая вперед, громким и спокойным голосом начал князь Голицын. – Вы видели царевича, он сам объявил вам, что никто на него не злоумышляет. Если вы пришли сюда для того, чтобы защитить царское семейство, то спасибо вам за это. Но вы видите, что обмануты, что защищать некого; будьте достойными слугами государевыми – разойдитесь спокойно по домам!
– Нет, чего тут расходиться! – кричали ему в ответ стрельцы. – Не можем уйти! Подавайте нам Матвеева, подавайте Нарышкиных, подавайте бояр-изменников!
Имена этих бояр-изменников, заключавшиеся в списке, разосланном Милославским по стрелецким полкам, стали повторяться сотнями голосов. Имена эти были: князь Юрий Долгорукий с сыном – стрелецкие начальники, князь Ромодановский, все Нарышкины, начиная с отца царицы, Артамон Сергеевич Матвеев, Языков, Лихачев и несколько думных дьяков.
– Чего тут толковать, подавай всех этих изменников, всех до единого, тогда и уйдем, а пока нам их не выдадут, не тронемся из Кремля! А то так и сами сыщем!
– Да нет во дворце у государя этих людей: выдавать-то вам некого! – закричал Черкасский. – Уходите, не буяньте!
Стрельцы, услыхав слова эти, полезли на ступени крыльца и чуть было до смерти не избили Черкасского: весь кафтан на нем разодрали, едва успел он скрыться.
Растерзанный, с всклоченными волосами, вбежал он в Грановитую палату, куда теперь удалилась царица с семейством и бояре.
– Бунтуют! Видите, что со мной сделали. Теперь к ним не подступайся! – проговорил, тяжело дыша, Черкасский.
– Постойте, я еще поговорю с ними, – сказал, поднимаясь с места, Артамон Сергеевч и вышел к стрельцам.
Он смело распахнул решетку, твердой поступью сошел с лестницы и остановился, со всех сторон окруженный мятежниками.
Яркое майское солнце озарило его седую, непокрытую голову, его благообразное, почтенное лицо, так давно знакомое стрельцам и прежде так ими любимое.
– Чего вам нужно? Одумайтесь, дети! – заговорпл он дрогнувшим голосом. – Ноет мое сердце, глядя на вас. Глазам своим верить не хочется – вы ли это? Вот несколько лет вдали от вас я прожил… Не раз вспоминались вы мне, верные царские воины, с которыми мы вместе походы делали. Я призывал на вас благословение Божие за ваши службы государю, за вашу твердость в исполнении долга. Если б кто сказал мне, что вы бунтовать способны, что вы врываетесь в Кремль, в палаты царские, что вы самовольствуете, я бы такого человека почел клеветником и лжецом. После долгих испытаний, после тяжкой жизни в тесноте и обидах, вернулся я снова к вам велением моего государя – и что ж я вижу?! Одумайтесь, дети – не вы ли помогали мне не раз укрощать бунты и мятежи, не вы ли готовы были пролить до капли всю кровь свою за царя и отечество? Зачем же хотите теперь сами быть мятежниками и уничтожить этим память обо всех ваших прежних подвигах? Зачем забываете святость присяги? Да и не вы ли сами выборных ко мне присылали три дня тому назад?
Артамон Сергеевич глубоко вздохнул и с большею, чем прежде, страстностью продолжал:
– Я плакал от радости, что вы своего старого воеводу не забыли, поспешили встретить его ласкою, хлебом-солью… А теперь вам голова моя понадобилась?! Что ж, вот я перед вами, я безоружен… Я один, а вас целая площадь. Только Бога-то вспомните – от него не скроетесь!
Эти тихие спокойные слова, произнесенные мучительно-грустным голосом, почтенная седина старого боярина подействовали на стрельцов, и они уже не слушали внушений мятежников. Они уже не глядели на Тараруя, который стоял за Матвеевым и делал им знаки, чтобы они скорее хватали Артамона Сергеевича.
У многих из стрельцов опустились головы, и на глазах навернулись слезы.
Матвеев зорким взглядом оглядел площадь, заметил благоприятное действие слов своих и продолжал:
– Смиритесь, дети! Докажите, что вы все те же верные слуги государевы. Царь милостив, он не попомнит этой вины вашей!
– Заступись за нас, боярин, перед царем.
– Да, заступись! Мы что ж, мы ничего… Мы как перед Богом; присягу помним, царя почитаем, за него, за нашего батюшку, животы покласть готовы!..
– Говорю, царь милостив – ничего худого вам не будет, только расходитесь!
– Ладно, боярин! – закричали в толпе.
Матвеев с облегченною душою спешил возвратиться к царице и объявить радостную весть о том, что стрельцы утихли и сейчас будут расходиться. Но не успел он дойти своим тихим старческим шагом до Грановитой палаты, как новые крики раздались на площади.
Теперь уже не Милославские, не Хованский подожгли стрельцов, бунт снова вспыхнул благодаря безрассудству стрелецкого начальника, князя Михаила Юрьевича Долгорукого, того самого, которого стрельцы издавна ненавидели, над которым так часто в последние дни смеялись. До сих пор о нем не было ни слуху ни духу, он ни во что не вступался, стрельцам на глаза не показывался. Ни одного усилия не сделал он для их усмирения, а вот теперь, увидя, что Матвееву наконец удалось их успокоить, что они сейчас будут расходиться, он вдруг вышел на площадь и пожелал напомпить им, что он их начальник.
Некому было удержать его, потому что на Красном крыльце оставался один Хованский, который, конечно, был рад случаю как-нибудь поправить дело. Он отлично предвидел, что безумное появление Долгорукого может только способствовать возмущению.
– Да ты их хорошенько, хорошенько! Что они, в самом деле, о себе думают, – злорадным голосом сказал он Долгорукому. – Покажи им, что ты их начальник.
И несчастный Долгорукий с какой-то безумной радостью поспешил на свою погибель.
– Эй! Живо! – кричит он. – По домам расходитесь, чтоб вашим духом здесь не пахло! Бунтовать вздумали? Вот постойте! Ужо разберу, так достанется вам на орехи. Царя тревожить, бунтовщики проклятые!
– А! Так это ты кричишь на нас? Это ты лаешься? – раздалось кругом Долгорукого.
Что-то страшное послышалось ему в словах этих.
Он поспешил назад на крыльцо, но несколько стрельцов кинулись за ним. Не успел он шевельнуться, не успел крикнуть, как его схватили крепкие руки и со всего размаха сбросили вниз на площадь. И в то же время внизу приподнялись копья; несчастный Долгорукий с диким, нечеловеческим криком упал прямо на эти подставленные копья. Вся площадь заголосила «Любо!» и окровавленного, полумертвого князя мгновенно разрубили на куски бердышами.
Тараруй стоял на крыльце; глаза его горели.
– Так, детки, так! – кричал он. – С одним покончили, за других принимайтесь!
Но теперь нечего уже было учить стрельцов – от крика несчастной жертвы, от вида первой крови, пролитой ими, они осатанели. Уставив перед собою копья и крича зверским голосом, они выломали решетку Красного крыльца и ворвались в дворцовые покои.
Между тем, слыша с площади отчаянные крики и предчувствуя, что беда пришла неминуемая, защитники царицы, собравшиеся вокруг нее, и все Нарышкины поспешили скрыться кто куда мог.
Наталья Кирилловна осталась одна с сыном, Матвеевым и Черкасским. Теперь она уже не плакала. Лицо ее было неподвижно, глаза горели, сердце готово было из груди выскочить. Крепкими, материнскими руками прижала она к себе Петра да так и застыла на месте.
Матвеев сидел на скамье в полном изнеможении. У него все кружилось перед глазами, он не мог собрать мыслей.
Вдруг со страшным шумом распахнулись тяжелые двери и на пороге показались стрельцы.
– Подавай нам Матвеева! – раздалось над самым ухом царицы.
Она, забыв и себя и своего сына, кинулась к Артамону Сергеевичу, Черкасский за нею.
Но стрельцы не смутились. Один из них, дюжий, громадного роста парень, уже схватил Матвеева.
Маленький Петр крикнул ему: «Иди, не трогай!» Взял Артамона Сергеевича за руку. Стрелец, не задумываясь ни на мгновение, отбросил царя.
Матвеев взглянул на Наталью Кирилловну, на Петра. Его бледные, дрожавшие губы тихо прошептали: «Прости, государь, прости, государыня!»
Стрельцы схватили его, подняли с лавки и повлекли из палаты.
Наталья Кирилловна всплеснула руками, вскрикнула, хотела было броситься за ними, но, не добежав до дверей, со всего размаха упала на пол и потеряла сознание.
Матвеев, совершенно обессиленный, не выказывал никаких признаков жизни.
Стрельцы протащили его несколько шагов, вывихнули ему руку, потом взвалили себе на плечи и бегом пустились к Красному крыльцу. Слабый стон вырвался из груди Артамона Сергеевича. Он на мгновение открыл глаза и закрыл их снова.
Крупные слезы катились из светлых глаз.
– Выпустите руку, дайте хоть перекреститься, – едва слышно прошептал он, но стрельцы не обратили никакого внимания на его просьбу.
Он сделал последнее усилие и сам высвободил свою руку.
«Смерть это, смерть! – пронеслось в его мыслях. – Что ж так долго?»
Он начал молиться и в этой горячей предсмертной молитве не заметил, что стрельцы уже на крыльце, что кругом раздаются крики, бряцанье оружия.
– Что это вы? Бога не боитесь!.. Стой! – вдруг раздался громкий отчаянный голос.
Матвеев снова открыл глаза. В двух шагах от него молодой, красивый человек в одежде стрелецкого подполковника.
– Остановитесь! Отпустите боярина! – кричал он. – Мало вам одного!.. Одумайтесь – кого вы погубить хотите?!.. Разве кто-нибудь из вас видел зло от него? А добра-то много видели… Вся Русь видела… Очнитесь!
Но стрельцы, несшие Матвеева, не в состоянии были рассуждать теперь.
Тогда молодой подполковник с нечеловеческой силой начал вырывать Матвеева из рук убийц. Но их было несколько, он – один.
– Отвяжись! – гаркнули стрельцы.
Однако нежданный защитник Матвеева делал свое дело. Он и сам, очевидно, не мог рассуждать, находился в каком-то опьянении. Он ударил одного из стрельцов так, что тот покатился вниз по ступеням.
– Эй, братцы, да помогите же кто-нибудь мне! – крикнул он к толпе. – Обознались, видно, не того схватили, невинную кровь проливают!
В его голосе была такая сила и такое отчаяние, что несколько человек бессознательно кинулись к нему на помощь.
Вдруг из толпы выбежал Озеров и загородил им дорогу.
– Куда? Кого послушались? Малыгина? Так он сам изменник! Смерть Матвееву!
В то же мгновение один из стрельцов выхватил бердыш, со всего размаха ударил им в голову Николая Степановича.
Тот слабо крикнул, пошатнулся и упал на ступени лестницы; Матвеева защищать было некому. Стрельцы высоко его подняли на руках, раскачали и бросили на площадь. Густая толпа со всех сторон кинулась к нему и в остервенении начала рубить его на мелкие части. В эту минуту на крыльце показался патриарх.
– Бога побойтесь! – закричал он, пробираясь между стрельцами и спускаясь с лестницы.
– Уйди, владыка, назад! – кричали ему. – Уходи, нечего нам тебя слушать, не нужно нам ничьих советов! Сами теперь знаем, кто нам люб, а кто не годен… Уходи подобру-поздорову!
Старый патриарх прислонился к перилам лестницы, крупные слезы полились из глаз его. Он не мог пошевелиться и долго стоял так. Точно сквозь туман видел он, как мимо него, один за другим, со сверкающими копьями бегут стрельцы во дворец.
– Теперь за других изменников пора приниматься!.. – кричат они.
Много их пробежало; крыльцо опять пусто, только смятый, потоптанный, на одной из ступеней лестницы неподвижно лежит молодой подполковник Малыгин. На затылке у него большая рана, из которой бьет кровь, орошая ступени Красного крыльца и блестя на солнце алым цветом.
Проходит еще несколько мгновений. Патриарх все так же неподвижен, и грезится ему, будто на широкие каменные ступени, шатаясь, и путаясь в длинном платье, взбирается какая-то женщина. Безучастный взор патриарха невольно останавливается на ней, и не знает он, что это такое перед ним – видение или действительность.
Вот женщина наклонилась над телом убитого подполковника. Ее молодое, прекрасное лицо страшно исказилось, отчаянный крик вырвался из груди ее, такой крик, что заставил совсем очнуться патриарха. Теперь уж не в забытьи, а наяву видит он, как эта молодая женщина припала на грудь убитого со страшным воплем, целует его и вдруг, с неестественной силой подняв тело себе на плечи, спускается с ним вниз по ступеням. Никто ее не останавливает. Стрельцы в смятении кричат, издеваются над кровавыми останками Матвеева, а она пробирается между них со своею тяжелой ношей.
X
Долго шла Люба, неся на плечах Николая Степановича и не замечая усталости. Она не плакала. Только все лицо ее так изменилось, что его и узнать было невозможно. Люба уже не казалась теперь семнадцатилетней девочкой. Как будто десяток лет, страшных и мучительных, в нескольких часов пронесся над нею.
«Боже, неужели он умрет? – шептали ее пересохшие губы. – Нет, нет… быть не может! Господи! Не попусти! Ведь вот сердце не бьется, а кровь так и хлещет из раны…»
И Люба не знает, как надо унять кровь, не знает, что необходимо перевязать рану. Иногда ей кажется, что есть еще признаки жизни в теле ее друга, иногда вдруг послышится ей слабое биение его сердца, но она не знает, его ли это сердце бьется или она только слышит стук своего собственного, которое разрывается в груди ее. Он еще не холодеет. Она не раз прощалась с покойниками, она помнит этот особенный, страшный ледяной холод – так нужно бежать скорее, скорее подальше… Скрыть его куда-нибудь, чтоб не отняли!
– Это бывает! Бог даст, очнется, – говорит черный арап и мочит водою голову Николая Степановича. – Ну, успокойся, успокойся, красавица, – обращается он к Любе. – Кто это – брат твой али милый? Видно, крепко ты его любишь, да и силы в тебе немало. Кто это его так? За что? Откуда несешь его?
– Да из Кремля, чай, слышал… – отвечает Люба. – А погубили его за то, что своих стрельцов останавливал, как те убивать начали боярина Матвеева.
Произнося эти последние слова, Люба вскрикнула и невольно отшатнулась – что-то страшное сотворилось с черным человеком. Его глаза вдруг расширились, показывая огромные белки, все лицо исказилось, мучительный стон вырвался из груди его. Он схватил себя за голову.
– Кого? Как ты сказала? Какого боярина?
– Матвеева… – прошептала Люба.
– Матвеева! – повторил он отчаянным голосом. – Где он? Где… Жив?
– Нет, его убили… в куски искрошили.
Черный человек упал на землю, продолжая стискивать себе руками голову, и горько, горько заплакал, как малый ребенок.
Люба, смотревшая на него сначала с недоумением, вдруг почувствовала к нему большую жалость.
– Что ты, голубчик? О чем плачешь? – спросила она. Он очнулся и растерянно взглянул на нее.
– Плачу… нет, мне не плакать надо – мне умирать теперь надо! – проговорил он. – Артамон-то Сергеевич – ведь это господин мой, мой благодетель! Неотлучно пятнадцать лет я был при нем: и в радости и в горе ему сопутствовал… Еще ребенком был я, как он купил меня. До него я был у злого человека, тот бил и терзал меня ежечасно… А он-то, мой добрый боярин, ни разу и руки на меня не поднял. Ни разу и дурного слова не слыхал я от него. Он сам, сам учил меня уму-разуму, сам дал уразуметь мне величие Божие, познать Христа Спасителя, окрестил меня в веру православную, был моим восприемником, награждал меня, раба недостойного, всячески, как был он в счастье. А попал в немилость, выслан из Москвы был, так я не отстал от него. Знаю все обиды, все тесноты, голод и холод, которые терпел он. Бывало тяжело ему: и сердце-то болит, и тело-то болит – мы в Пустозерске были, а ни разу он, голубчик, не возропщет, ни разу-то не сорвал сердце на рабе своем. Призовет меня, бывало, к себе, скажет: «Ну что, Иванушко, плохо нам жить с тобою, да, видно, уж доля моя такая, а ты-то за что терпишь? Оставь меня, Иванушко. У самого меня теперь мало денег, а все же тебе на дорогу хватит, возвращайся в Москву, там тебя мои благоприятели не обидят, примут». Брошусь я ему в ноги, целую его ручки, говорю: хоть на самое дно адово пойдешь ты, так и я за тобой, ты в огне будешь гореть, и я в огне буду гореть. А он-то меня, раба черного, поднимает, целует, а сам плачет…
Тут новые рыдания прервали речь негра. Он опять кинулся на землю и рвал на себе волосы, и стонал, и метался…
Люба не знала, что делать; наконец он приподнял свою голову и продолжал мучительным шепотом:
– Вот приехали мы в Москву, он радуется, и я радуюсь. Только чуяло нынче мое сердце беду страшную; как выехал боярин из дому, так я места себе не мог найти, а теперь вот взял да и пошел в Кремль – слышал, что там стрельцы буянят… Но такого, ох, такого и в мыслях не было!.. Убили окаянные, на части растерзали боярина, что же я теперь буду делать? Так пойду хоть в последний раз взгляну на него, хоть слезами оболью его мертвую голову…
– Нет, не ходи, голубчик, – сказала ему растроганная Люба, – всё равно тебя не впустят, только убьют задаром. Уж и сама не знаю, как я-то оттуда выбралась; у всех ворот караулы наставлены… Убьют, говорю.
Негр сидел неподвижно.
– Ладно, – сказал он. – И то правда, нельзя мне умирать теперь, пока я не отдал последнего долга боярину. Буду караулить, доколе можно будет незаметно пробраться. Да и тебя теперь нельзя оставить… Где вы живете? Куда его нести нужно?
Люба сказала.
– Эх-ма! Даль-то какая! Ну, да подожди здесь, может, это улажу.
Он вытер свои слезы, встал и пошел в глубь сада, туда, где сквозь древесные ветви виднелось какое-то строение.
Это был маленький домик. Негр подошел к нему и постучался.
Долго никто не откликался на стук его, между тем он слышал, как в доме бегают; до него доносились неясные голоса. Наконец из окошка выглянула голова молодого парня.
– Э, да это Иван! Бабушка Арина, не пужайся! Иван это матвеевский.
Скоро дверь отворилась, и на дороге ее показалась маленькая, сморщенная старуха.
– Иванушко, ты ли это? – спросила она.
– Я, Арина Панкратьевна, я.
– Так входи, что ты? А я было испужалась – думала, стрельцы, они ведь нынче все рыщут. В Кремле-то, бают, и невесть что деется: бояр режут, царское семейство режут… Сколько зим не виделись мы, Иванушка! – говорила старуха. – Ну, что боярин?
Негр не мог уже больше сдерживаться, снова завопил он отчаянно, так что старуха от него попятилась.
– Нет боярина! Убили боярина! – наконец сквозь рыдания произнес он.
Старуха так и всплеснула руками и долго охала, собрала всех домашних и приступила к негру с расспросами. Но он ничего не мог ответить.
Наконец он вспомнил, зачем пришел сюда. Рассказал старухе, как встретился с девушкой, которая несла раненого человека, и что этот человек в себя не приходит, а до дому им далеко – так нельзя ли запрячь тележку, довезти, не то что ж, у вас в саду и помрет, пожалуй.
Эти последние слова сразу подействовали.
Ариина Панкратьевна немедленно же велела одному из своих многочисленных внуков запрягать лошадь.
Негр вернулся к Любе и сказал, что он все устроил и что теперь они скоро будут дома.
– Спасибо, – прошептала Люба сквозь слезы. – Только вот посмотри, теперь мечется он, а меня все же не узнает.
Малыгин лежал с открытыми, но мутными глазами и тихо стонал.
Негр переменил повязку, осмотрел рану.
– Ну что? Скажи, ради Христа, неужто умрет он?
– Ничего сказать не могу – рана глубокая. Молись, может Господь и помилует.
Люба прижала к себе руку Николая Степановича, склонила голову и неудержимо, горько плакала.
Через несколько минут телега была готова, и закоулками да задворками Малыгина кое-как довезли до его дома.
XI
Со времен самозванщины не было в Москве такого смятения, такого ужаса, таких кровавых сцен, как в этот несчастный день 15 мая.
Солнце склонялось к западу, в воздухе начинала носиться вечерняя прохлада, но стрельцы еще не угомонились и продолжали бесчинствовать. Опьяненные вином и кровью, они хозяйничали во дворце, в теремах, в церквах и молельнях, ища Нарышкиных и других бояр, значившихся в списке Милославского. Они шарили по всем углам, тыкали окровавленными копьями своими под святые престолы и жертвенники; забирались в спальни царевен, заглядывали под кровати, перетряхивали перины, рылись в чуланах.
Царица Наталья Кирилловна с Петром заперлась в Грановитой палате; теперь уж вокруг нее никого не было. Все ее защитники и родственники разбежались. Кто спешил как-нибудь ускользнуть из Кремля и спастись в городе, кто попрятался по чуланам, под лестницами. Царевны и царевич Иван собрались в молельне теток Михайловен. Многочисленная прислуга женская со страшными криками бегала от стрельцов, но бунтовщики не обращали внимания на женщин – пока им нужны были только изменники. В одном из дворцовых переходов настигли они убегавшего стольника Федора Петровича Салтыкова, приняли его за брата царицы, Афанасия Нарышкина, и убили, а увидя свою ошибку, ожесточились еще пуще, кинулись в комнату царицы Натальи. Там все было пусто, ни души. Стрельцы под кровать – кто-то копошится.
– Коли! – закричали отчаянные голоса. – Наверное, это кто-нибудь из Нарышкиных!
– Пощадите! – раздался писк из-под кровати. – Не убивайте меня! Это я… я…
И быстро, с искаженным от страха лицом к стрельцам выполз безобразный карло, известный во дворце под именем Хомяка.
– Тьфу ты! Чуть было оружие свое об этакую пакость не замарали! – отплюнулись стрельцы.
Но карле было не до обиды теперь – он весь дрожал, как лист, и пищал:
– Пощадите, отцы родные, не губите!
– Ты чей же? Ведь ты нарышкинский?
– Да, да, Афанасия Кирилловича…
– А, Афанасия! Где же он? Подавай нам его! Куда он скрылся? Наверное, знаешь, говори сейчас, не то прощайся с жизнью…
– Да я-то почем знаю, милостивцы? – в ужасе выкатив на них свои косые глаза, произнес карло.
«Эх! проговорился! – отчаянно подумал он. – Дернула нелегкая!»
– А! Не знаешь? Так тебе сейчас и карачун. Давайте-ка веревку, братцы, повесим его на гвоздик. Пускай-ка здесь покачается, его ветром обдует!..
Карло встал на колени.
– Милостивцы, пощадите! Всё скажу… Знаю, знаю, где Афанасий Кириллыч, он неподалеку… в сенной церкви Воскресения… под престол хотел забраться, так, верно, там схоронился.
Стрельцы дико и радостно вскрикнули и бросились по указанию Хомяка.
Карло залез снова под кровать и слушал.
Прошло несколько минут; вот он слышит вблизи в переходе страшный крик стрельцов, ругательства, потом другой отчаянный, знакомый ему голос. Этот голос только раз один крикнул: «Помогите!» – и даже не докончив это слово, замер.
«Порешили боярина. Царствие тебе небесное, Афанасий Кириллович», – подумал карло и перекрестился.
И не вспомнилось ему, как он, заморенный голодом и холодом, был взят Афанасием Кирилловичем, обогрет и накормлен, как с тех пор только жирел день ото дня на даровых хлебах боярских.
А в то же время другие полки стрелецкие, видя, что в Кремле теперь немного наживы, что изменники, вероятно, успели скрыться в городе, кинулись по улицам, наводнили всю Москву, врывались во все дома, искали всюду намеченных жертв своих. Кинулись они и в дом одного из Нарышкиных, Ивана Фомича; его имя не значилось у них в списке – человек он был невидный, не занимал никакой важной должности, но он носил ненавистное имя и должен был погибнуть. Вслед за этим Нарышкиным убили и знаменитого старого воеводу князя Ромодановского, боярина Языкова, бывшего любимца царя Федора, которого тоже предал им в руки один из его холопов.
И с каждым часом свирепели стрельцы больше и больше, под конец даже не стали руководиться своим списком, убивали всякого, кто им почему-нибудь не показался.
Каждое убийство возбуждало в стрельцах дикий восторг; они тащили труп несчастного по улицам к Кремлю и обращались к безоружному народу московскому с криками: «Любо ли?»
А народ должен был кричать «любо!» и махать шапками, потому что в противном случае – смерть.
Втащив кого-либо из убитых в Спасские или Никольские ворота, стрельцы выстраивались в ряд перед телом, как будто для почета, и кричали:
– Вот боярин Ромодановский едет! Вот боярин Языков… Вот думный едет! Дайте дорогу!
И это продолжалось вплоть до Красной площади, где тела складывались в кучу.
Но и стрельцы наконец утомились и решили отложить преследование Нарышкиных до следующего дня.
Мало-помалу они стали расходиться по слободам своим, дорогою иногда забираясь в боярские или купеческие хоромы и требуя себе угощения.
Вот одна из ватаг стрелецких идет мимо дома Долгоруких.
– А ведь это нашего старого сыча хоромы! – говорят между собою стрельцы. – Пожалуй, еще не знает старый, что мы его сынишку-то угомонили. Разнемогся он, болен, с постели не сходит, зайти разве, понаведаться?
– Зачем не зайти – зайдем, да заодно уже и прощения у него попросим, что Михайлу-то убили… ведь он все же наш начальник.
Они стали стучаться в ворота. Никто не отворил им, так они ворота выломали и всей ватагой нахлынули к князю Юрию. Восьмидесятилетний старик действительно еще не знал о смерти своего сына. Он лежал на кровати, совсем больной и измученный отчаянием и своим бессилием. Он знал, что страшные дела творятся в городе, знал, что его место там, во дворце, близ царя, которого он защищать должен, а вот он не может шевельнуться…
– Здорово, князь-батюшка! – в пояс поклонились ему вошедшие стрельцы.
Кровь кинулась в голову старику. Он хотел было подняться, но бессильно упал опять на подушки, только кулаки его судорожно сжимались да глаза сверкали.
– Что вы? Зачем? Убивать меня, что ли, так убивайте. Видите, не могу и пошевелиться.
– Зачем убивать? – отвечали стрельцы. – Ты наш начальник. Мы к тебе с поклоном.
Они поклонились ему в ноги.
– Чего вам от меня нужно?
– А вот, князь-батюшка, прости ты нас – трех попутал. Вишь ты, дело-то какое случилось: не воздержались мы и в запальчивости ненароком покончили князя Михаилу Юрьича!
– Что?! – простонал старик, снова силясь подняться с кровати и снова на нее падая. – Сына убили, изверги! Сына!
– Так, так, батюшка. Да ведь говорим, грех попутал, ненароком, так уж ты прости нас, забудь про это!
Несколько мгновений князь Юрий в упор смотрел на этих пришедших глумиться над ним извергов. Высоко поднималась грудь его, страшно было лицо его, но губы не шевелились. Наконец какой-то новый огонь блеснул в потухших взорах князя. Страшная усмешка искривила его губы.
– А! Ненароком?.. Ну что ж, Бог простит вам, коли ненароком… Ступайте, скажите моим холопям, чтоб угостили они вас вином да медом, а на меня уж не взыщите – не могу я сам обнести вас чаркою, видите – лежу!
Стрельцы опять поклонились.
– Спасибо, князь-батюшка, уж где тебе самому, лежи! А мы ничего… Мы выпьем!
Они вышли, и князь слышал, как они бражничают в его доме… Слышал и лежал неподвижно. Две слезинки тихо скатились по лицу его. Он перекрестился, прочел молитву, помянул усопшего сына и снова замер… Лежал, как труп безжизненный.
Дверь его опочивальни тихо отворилась, и, заливаясь слезами и неудержимо рыдая, вошла невестка, жена убитого князя Михаила.
Она бросилась к постели старика.
– Батюшка, что ж это, убили моего ясного сокола, закатилось мое красное солнышко!.. Батюшка! И эти убийцы его, эти звери, у нас в доме пьянствуют… что ж это? Где же мой князь? Куда они его дели? Хоть на мертвого мне бы взглянуть на него… с ним проститься…
Она захлебнулась слезами и упала перед постелью. Князь Юрий слабыми, дрожащими руками притянул ее к себе.
– Не плачь, Марья, не плачь, голубка, – сказал он громким, страшным голосом, от которого даже она очнулась и во все глаза взглянула на него. – Не плачь – щуку-то они съели, да зубы остались. Недолго побунтуют, скоро будут висеть на зубцах по стенам Белого и Земляного города. Не плачь, Марья, зубы остались!
В это время стрельцы успели уже напиться и с криками и песнями выходили за ворота княжеского дома.
У самой двери опочивальни стоял один из холопов, недавно провинившийся и наказанный по приказанию князя Юрия. Он вздумал теперь выместить на старике свою обиду и побежал за стрельцами.
– Эй вы, царское воинство, стойте-ка, что я скажу вам! – закричал он им.
Они остановились.
– Князь-то наш грозится, говорит, щуку вы съели, да зубы остались. Говорит, скоро вы висеть будете на стенах кремлевских…
– А! Так вот он как! – завопили стрельцы.
– Ну, это еще посмотрим!
Они побежали назад в дом, ворвались в опочивальню, стащили несчастного старика с кровати на двор, рассекли на части и выбросили за ворота в навозную кучу.
– Вот тебе зубы! Вот тебе щука! – дико кричали они, хохоча над обезображенным трупом. – Вот тебе!.. Эй вы, княжеская дворня, несите-ка соленую рыбу!
Тот же холоп, который донес на князя, притащил им рыбу. Они положили ее на труп и удалились, повторяя: «Вот тебе щука! Вот тебе зубы!.. Поешь-ка соленой рыбки!»
Другая стрелецкая ватага также порешила отправиться с извинением к боярину Салтыкову, сына которого тоже ненароком убили вместо Нарышкина.
Но старый Салтыков не стал грозиться, он так перетрусил, что мог ответить: «Божья воля!» И сам поднес им вина и пива.
XII
Когда совсем начало темнеть и стрельцы покинули Кремль, оставив у ворот сильные караулы, некоторые спрятавшиеся царедворцы решились выйти из своих убежищ и собрались около царицы.
На Наталью Кирилловну взглянуть было страшно. Она вся дрожала и глядела на окружающих помутившимися глазами. Некоторые попробовали ее успокаивать, но чем тут можно было успокоить?!
– Все пропало! – твердила она. – Убили Артамона Сергеевича!.. Господи, зачем я только его вызвала? Жив был бы теперь, мой голубчик… Не утешайте меня, давайте молиться… давайте молиться перед смертью. Что ж, что они ушли – ведь вернутся, некому остановить их! Смерть нам всем завтра будет!
Она, заливаясь слезами, опускалась на колени перед иконами, горячо молилась, потом вдруг кидалась к сыну, целовала его, прижимала к груди своей, глядела на него с отчаянием. Ее мысли путались… Иногда ей казалось, что она совсем с ума сходит.
Маленький царь Петр все время сидел молча, опустив голову. Румяное лицо его теперь было бледно, глаза устремлены вниз, и только по временам разгорались они. Тогда он вскакивал с места, будто хотел куда-то кинуться, будто ему было душно и тесно… Но сейчас же опять садился и оставался неподвижным.
Некому было теперь его разглядывать, некому было заметить, как изменилось в один день детское лицо его. Еще утром, проснувшись, он глядел на мир Божий весело, он был детски счастлив и думал о детских забавах, был совсем ребенок. Теперь же, в несколько часов, все детство скрылось далеко куда-то, новые страшные мысли в голове поселились и не уйдут они. Никогда не забудет он этого дня, этого рокового дня… Припомнит он его стрельцам, когда вырастет…
Из всего царского семейства одна только Софья не упала духом, ни на мгновение не смутилась. Она знала, что ей нечего бояться. Она несколько раз встречалась со стрельцами, и эти стрельцы, эти охмелевшие, окровавленные звери при виде ее прекращали свои ругательства, свои богомерзкие речи, скидали шапки и расступались перед нею с почтением. Да, ей нечего было бояться, она достигла своей цели. Дело, заранее ею обдуманное, приведено в исполнение; враги поражены. Матвеев, разрубленный на части, лежит на площади, не сегодня, так завтра рядом с ним полягут и все Нарышкины, все, кто стоял ей поперек дороги.
Правда, она думала, что зараз все будет кончено. Нарышкины ловко попрятались, но ведь найти их всегда можно. Милославские и другие друзья не спят, они не допустят, чтобы так хорошо начатое дело осталось неоконченным. Ужасов много, крови много… Но ведь что ж делать, коли нельзя избегнуть этого. Она поставлена в иные условия, чем простые мелкие люди, ей многое разрешается ввиду тех великих целей, которые перед нею.
Ей уж начинало казаться, что весь этот ужас, все это кровопролитие придумано и совершено не ради ее возвышения, не ради ее будущего счастья и величия, а ради счастья и величия только одной России.
«Одна я могу править государством, – высоко подняв свою гордую голову, решила Софья. – Не удалось бы мне это дело, не были бы казнены враги мои – и все наследие отцовское пошло бы прахом. Нет греха на мне – самые добродетельные государи, в известных обстоятельствах, должны вести войну со своими врагами; целые войска дерутся в поле, не десятки людей убиваются, а сотни, тысячи, и кто же поставит в вину государю эту войну, предпринятую для блага своей родины? Я тоже вышла на врагов своих, и кровь, пролитая теперь за мое дело, не должна пасть на мою голову…»
Так успокаивала себя Софья и не сознавала, не хотела сознавать, что эти слова громкие – ложь страшная, и что сама она – в былые тихие дни, когда молчали ее кипучие страсти, когда склонялась она в тишине своей рабочей комнаты над книгой и много думала, много размышляла, – сама бы с негодованием восстала на такие суждения и назвала их ложью.
Но ведь ей нужно же было чем-нибудь себя успокоить! Нужно было как-нибудь заглушить в себе какое-то странное, неведомое доныне и мучительное ощущение, которое весь этот день она испытывала, которое начинало возрастать с каждым часом.
Ей нужно было забыться, и силою воли она достигла этого.
Оставшись, наконец, одна и чувствуя, что, несмотря на страшную усталость, страшную деятельность этого дня, она все же заснуть не может, она заставила себя забыть все недавние ужасные впечатления, она глядела на далекое будущее, думала об этом светлом будущем. В ее воображении восставали картины мирного и счастливого жития, славного правления государством, всеобщего поклонения, всемирной известности, громкой славы.
Ей чудилось, что она в златотканной порфире восседает на престоле отца своего; что со всех сторон земных стекаются к этому престолу посланники, именитые люди с грамотами от своих государей. И в этих грамотах иноземные короли шлют ей привет свой, свою тонкую лесть, заискивают ее дружбы, величают ее императрицей, северной Пульхерией Августой.
Под эти роскошные грезы наконец заснула утомленная царевна.
Тихая ночь спустилась на землю; над Кремлем зажглись мириады звезд небесных; дуновением теплого ветра со всех сторон из густо разросшихся садов неслось благоухание. В слабом мерцании майской ночи темнела какая-то груда бесформенная посреди Красной площади.
Кругом ни звука; кремлевские обитатели или заснули обессиленные и измученные за этот страшный день, или притаились, запершись в своих покоях, и не подают голоса. Только от ворот, где стоят стрелецкие караулы, изредка доносятся звяканье оружия да оклики часовых. И среди этого всеобщего молчания между соборами на Красную площадь крадется какая-то черная фигура, и распознать нельзя: человек это или зверь. То ползком ползет он, то поднимается на ноги; разглядеть поближе его, так страх возьмет – лицо черное, только глаза блестят да зубы белеются.
Крадется-то Иван, верный негр Матвеева. Сумел он своего добиться: весь день вокруг Кремля караулил, улучил удобную минуту, проскользнул в ворота, дождался ночи и выполз теперь на Красную площадь искать своего боярина.
Вот подполз он, чутко озираясь во все стороны, к чернеющей куче. Дрожь берет его, он тихо вздыхает, крестится – видит он растерзанные трупы вокруг, на далекое расстояние вся земля окровавлена, здесь голова, здесь туловище, здесь рука, там нога, и над каждым безобразным куском уже зловонного человеческого мяса склоняется негр и разглядывает, в каждое лицо, искаженное страшными предсмертными страданиями, всматривается. И долго он ищет в потемках, и вздыхает все, и крестится.
А кругом ночь так тиха и благоуханна, и так же невозмутима и прекрасно сияют небесные звезды.
Вдруг страшный вопль раздается на площади: не мог удержаться черный невольник – нашел он голову Артамона Сергеевича и зарыдал, и заплакал над нею, покрывая ее поцелуями. Как сокровище бесценное взял он эту голову и опять ищет. Мало-помалу собрал он и туловище, и руки, и ноги – ему ли не узнать Артамона Сергеевича!
Сложил изрубленное тело в принесенный с собою мешок, взвалил его на плечи и стал опять красться по площади к Кремлевским воротам.
Неудержимые слезы застилали глаза его, сердце разрывалось, вспоминал он всю жизнь свою.
– Отец ты мне был, Артамон Сергеевич! – шептал раб, сгибаясь под своей кровавой ношей. – И отныне святыней будет мне твоя могила. Снесу тебя к Николе на Столбах, в ту самую церковь, где познал я Бога и где был ты моим восприемником от купели. Там, в ограде, предам тебя земле и насажу цветочков над твоей могилкой; и днем, и ночью, и в горячий полдень буду приходить туда и молиться…
Полупьяные часовые дремали. Негр улучил удобную минуту, неслышно прошмыгнул мимо них и скрылся в глухом переулке.
XIII
В укромном домике Малыгина, едва видневшимся из-за густых, душистых ветвей сирени и старых лип, светился огонек лампады. Молодой подполковник то в бреду, то в мучительном забытьи метался по постели. Возле него с распухшими от слез глазами сидела Люба. Время от времени в комнату входил старый стрелец, слуга Малыгина.
– Душно, душно! Воздуху! – говорил Николай Степанович, открывая глаза, но не узнавая Любу.
Она вздрогнула, очнулась от своих мыслей, подошла к окошку и отворила его. На нее пахнуло ночной свежестью, и вместе с этой свежестью доносились пьяные крики расходившихся по домам стрельцов.
Люба вернулась к постели умиравшего, смочила свежей водой полотенце, переменила на голове ему повязку.
– Воды! Пить! – простонал Малыгин.
Дрожащими руками налила она кружку и поднесла к губам его. Он жадно глотал воду, потом опять открыл глаза, приподнялся немного.
– Любушка! Это ты? – прошептали его губы.
Она невольно вскрикнула от радости. Он в первый раз узнал ее, назвал по имени. Но ее радость была непродолжительна, он снова забылся.
– Николай Степанович, голубчик! – проговорила она, глотая слезы.
Он ее не слышал.
Опять одна за другой начали проходить мучительные минуты. Люба пробовала молиться, но теперь ей не шла на ум молитва. Иногда она вставала, на ее лице выражалось страшное отчаяние, она ломала руки, захлебываясь слезами.
– Я, я во всем виновата! Я его на смерть послала! – шептала она.
Она была права. Не она ли взяла с него клятву все силы употребить для того, чтобы отвращать подчиненных ему стрельцов от жестокостей и убийств?!
После бессонной и счастливой ночи, которую провели они в этом домике, рано утром отправился Николай Степанович в свой полк, а Люба осталась его дожидаться. Он обещал во что бы то ни стало дать ей знать обо всем, что случится. Она ждала его долго, она слышала, как бьют в барабаны. Вот он наконец явился. И явился бледный, очевидно, измученный.
Он рассказал ей, что Александр Милославский с Толстым уже объявили стрельцам о мнимой смерти царевича, что стрельцы все до единого взбунтовались и идут в Кремль.
– Уж как я их ни упрашивал, как ни уверял – ничего не помогло, меня же на чем свет стоит бранили, чуть не избили.
– Так иди с ними, – сказала ему Люба. – Иди! Если они не совсем еще потеряли голову, то там, в Кремле, должны будут убедиться в том, что их обманули. Друг мой сердечный, такие дни пришли, такое дело совершается, что о себе нельзя думать, и если смерть впереди – мужайся! Прими эту смерть… А я, я тоже пойду за тобою. Не бойся, я проберусь осторожно… Я знаю в Кремле все выходы. В сторонке буду я глядеть на тебя, и коли что случится с тобой, так знай, что я буду тут же, мы погибнем вместе. Мне не нужно жить без тебя. Без тебя мне нечего делать на свете!
Малыгин еще раз поклялся ей, что будет ее достоин, что останется верен присяге, которую он принес царю.
Один из первых был он в Кремле со своим полком. Люба тоже недолго оставалась в слободе. Она пробралась в Кремль и притаилась в укромном уголку, в тени у собора, откуда ей была видна вся площадь.
Малыгин много способствовал укрощению стрельцов после того, как им показали царевича Ивана.
Но он был один, окруженный врагами, и ему не было никакой возможности пересилить этих врагов. Он скоро понял, что ничего не сделает, но, вдохновленный словами Любы, страстными фанатическими словами, он решился исполнить клятву: умереть за правое дело. Нам известно, что он не отступил в решительную минуту и пал одной из первых жертв своих сотоварищей и подчиненных.
Люба всё видела. Она видела, как ему наносился удар, как он упал на ступенях крыльца. В первую минуту даже какое-то торжество изобразилось на лице ее. Но эта минута прошла, туман рассеялся, то, что она считала подвигом, то, что ей казалось в этот последний роковой для нее день великим и прекрасным, теперь представилось совсем в другом свете. Еще не отдавая себе отчета в своих мыслях, она уже знала, что принесла ненужную бесполезную жертву. В ней заговорило страшное, горькое отчаяние, любовь. Она едва дождалась, когда крыльцо опустело, и бросилась к своему другу.
И вот он умирает, он, ни в чем неповинный! Но нет, это невозможно!
Он снова очнулся, он снова произнес ее имя, он будет жив!
– Ох! Как болит голова! – сказал Малыгин Любе. – Давно это было? Как я здесь очутился? Расскажи мне…
Она стала ему рассказывать, и он мало-помалу все припомнил. Но от этих усилий мысли боль в голове еще увеличилась. Страшная слабость была во всем его теле.
– Люба, я умираю, – прошептал он.
– Ах, зачем ты это говоришь! Нет-нет, ты не умрешь, ты останешься жив…
– Умру, Люба, чувствую, что не могу жить… В голове, как свинец растопленный… прощай, Люба!..
– Милый, голубчик, – задыхаясь, говорила она. – Так ведь это я, одна я причиной твоей смерти. Боже, какое страшное наказание за мою глупость! За что я и тебя, и себя погубила?..
– Не вини себя! – перебил он ее. Но с таким трудом ворочался язык его, что она едва его понимала. – Не вини себя… Ты помогла мне исполнить долг мой… Я умираю как честный солдат…
– Ну, так умрем вместе!
– Нет, нет, Люба, ты должна жить… жить. На свою жизнь ты не имеешь право… Аль не боишься греха, аль забыла Бога?! Ты должна жить, живи, живи долго, счастливо, забудь обо мне… Видно, не судьба была… Только мелькнуло – и все кончено… Прощай, Люба…
Он хотел сказать еще что-то, но мысли его внезапно спутались. Он впал в прежнее забытье и лежал неподвижно, только грудь его высоко поднималась.
Люба крикнула не своим голосом. Вошел старый стрелец, наклонился над Малыгиным.
– Отходит! – крестясь, прошептал он. – И попа теперь достать негде, помрет без покаяния…
Но Люба еще не верила, она еще ждала, что вот-вот он снова откроет глаза и она услышит его голос. Прошло несколько долгих минут, показавшихся ей вечностью.
Дыхание Николая Степановича стало ослабевать, потом еще один тяжелый вздох – и всё замолкло.
– Умер, умер! – застонала Люба.
Она наклонилась к груди его – невозможно было сомневаться в страшной истине. Люба будто потеряла рассудок; что-то говорила, но ни сама она, ни старый стрелец не понимали слов ее. Наконец она выбежала в соседний покой, схватила со стены, на которой висело оружие, кинжал и уже готова была вонзить его себе в грудь, когда сильная рука стрельца ее остановила.
– Полоумная! Бога побойся, что ты делаешь? Али ты басурманка? Очнись. Войди вот лучше, помолись-ка над покойником, поплачь, так отойдет от сердца.
Стрелец вырвал из руки ее кинжал, почти силою втолкнул ее в спальню и запер дверь.
Она хотела подойти к Николаю Степановичу, но, не дойдя до кровати, упала на пол. Это был не обморок, просто ее оставили последние силы. Ее глаза были открыты. Она все видела вокруг себя, видела бледное лицо покойника с обвязанной головой, слышала, как уходит и приходит стрелец, что-то приготовляет, слышала, как из открытого окошка доносятся крики и песни. И рядом со всем этим, рядом с действительностью перед нею проходили ярко, страшно ярко другие картины.
Ей чудилась Красная площадь, толпы стрельцов, величественная фигура несчастного Матвеева…
Она видела Николая Степановича – не того, который лежит теперь неподвижен и мертв, – а другого, живого… У нее в ушах звучал его голос, его нежные речи, речи прошедшей ночи. Что-то огромное, холодное, тяжелое, как пудовый камень, давило грудь ее, но ни одна слезинка теперь не выкатилась из глаз ее, и всю ночь напролет провела она в этом страшном состоянии. Только к утру очнулась.
Покойник лежал уже на столе обмытый и одетый старым стрельцом в парадное платье. Шатаясь, подошла к нему Люба и опустилась на колени.
– Прости, милый! – громко сказала она, как будто он мог ее слышать. – Сладко было бы мне умереть с тобою. Одна минута – и нет муки, и тишина, и спокойствие. Но ты теперь там, у Бога, в обители райской, куда меня, грешную, не впустят. Нет, я буду жить, как ни страшна жизнь моя… И этой жизнью я искуплю мою вину пред тобою. Я до дна выпью чашу… я буду молиться за тебя и за всех невинно погибших, за всех несчастных… Буду молиться до тех пор, пока Господь не простит меня и не возьмет с этой страшной земли, где одна только мука, один ужас, одно заблуждение… И тогда, когда грешные молитвы мои будут услышаны, тогда я свижусь с тобою! Прости, мой милый!
Слезы хлынули из глаз ее на холодную, уже окоченевшую руку Малыгина. Эти слезы ее облегчили. Теперь она все видела, все понимала. Она знала, что будет делать.
XIV
Рано утром шестнадцатого мая царица Наталья Кирилловна собрала бояр и родственников своих, которые скрывались в Кремле. Старый патриарх Иоаким тоже явился на это совещание. Для всех было ясно, что ужасами вчерашнего дня еще далеко не закончились бедствия, что стрельцы, торжествующие и безнаказанные, вернутся снова и кончат, пожалуй, тем, что перебьют всех без исключения.
– Что же делать?
Конечно, один только остается выход: бежать из Кремля, из Москвы, скрыться куда-нибудь подальше, в монастырь уединенный и ждать, пока в войске улягутся страсти. Но как бежать, когда Кремль со всех сторон окружен сильными караулами и когда часовые следят зорко?
Послала было Наталья Кирилловна разведать, нет ли хоть какой-нибудь лазейки, но посланные вернулись с безнадежным ответом. Очевидно, руководители стрельцов приняли все меры для того, чтобы заградить спасение изменникам.
Приходилось ждать страшной участи. Полное отчаяние изображалось на всех лицах. Призрак смерти стоял перед всеми и в особенности перед Нарышкиными – ведь прежде всех их ищут; они обречены на погибель. Бежать нельзя, нужно опять скрываться, но куда? Вчера ватаги стрельцов рыскали по всем покоям, сегодня будет то же самое.
Не успели еще решить вопросы, куда и как скрыться, как раздался бой барабанов, набат и крики. Вооруженные стрельцы опять стояли перед дворцом, требовали выдачи Ивана Кирилловича Нарышкина, а если им его не выдадут, то грозились перебить всех бояр.
– Ну, так будем готовиться к смерти! – сказала царица каким-то вдохновенным голосом. – Я брата им не выдам… Пойдемте все в Грановитую палату, запремся там. Пускай кто-нибудь выйдет к этим извергам, пусть им скажут, что нет Ивана Кирилловича, чтоб они лучше и не требовали его выдачи!
Бояре стояли, переминаясь с ноги на ногу. После угроз стрелецких никому не было охоты выходить к ним.
– Так я пойду, государыня, – сказал Тараруй, на которого мало обращали внимания среди страха, всех объявшего.
Ни царица, ни ее приближенные и не замечали, что один Хованский вне опасности, что он свободно расхаживает всюду, не ищет себе убежища, не боится стрельцов. Ему и выход из Кремля доступен, он и не ночевал во дворце: пробрался сюда рано утром.
Он вышел на площадь, стрельцы его окружили.
– Что ж, это верно говорит князь! – толковали некоторые. – Ведь нельзя нам уходить без него – сам ты говорил, что он первый царский душегубец, что он примерял уж и царскую корону.
– Не будет вам Нарышкина, – сказал им Хованский. – Царица объявила, что ни за что не выдаст брата.
– Так что ж это она, – завопили стрельцы, – брат, брат, да ведь и изменник же он, ее же сына-царя изменник, так как же она его не выдаст?!
– Видно, хоть и изменник, а все же ей дорог, – усмехнулся Хованский. – А коли так, братцы, коли так поступает Наталья Кирилловна – не выгнать ли и ее из дворца? – заключил он.
– Любо! Любо! – в один голос отвечали стрельцы.
– Только теперь обождите. Пожалуй, еще постойте, может, они и образумятся, а то так уходите да и опять завтра возвращайтесь.
– Не уйдем мы без Ивана Нарышкина. Что ж такое – вот Матвеева убили, Долгоруких с Салтыковым тоже, а главный изменник жив. Никак нельзя нам уйти, Иван Андреевич!
– Так я и говорю вам, завтра возвращайтесь, а караулы у ворот держите – ведь он здесь, никуда не убежит. А за день-то и за ночь они все притомятся… Ну, вот, может быть, и будут сговорчивее. Добром-то лучше без лишней крови.
Стрельцы подумали, подумали.
– Что ж, это верно говорит князь! – толковали некоторые. – Зачем кровь проливать даром, так-то лучше донять их томлением!
– Но все же ты, князь батюшка, – обратились стрельцы к Хованскому, – поди да скажи царице, что коли не выдаст она нам брата, так мы и до нее доберемся. Так, может, мы его и сегодня получим…
Хованский возвратился в Грановитую палату.
– Плохо дело, – сказал он, – придется, государыня, выдать Ивана Кирилловича, а то вот они уж и тебе грозятся.
– Я готова к гибели, – тихо, едва шевеля губами, произнесла Наталья Кирилловна, – пусть ломятся, не могу же я им выдать брата!
Хованский замолчал и не пошел больше к стрельцам.
Так продолжалось вплоть до часу пополудни. Стрельцы не позволяли себе вчерашних бесчинств, во дворец не врывались, но на площади кричали и ругались громко. Наконец, видя, что Нарышкина им все же не выдадут, они решились последовать совету Хованского и вышли из Кремля, расставив по воротам новые, крепкие караулы. Царица и бояре вздохнули свободнее – может быть, миновала опасность, может быть, одумались разбойники.
А в то время, как слабая надежда загорелась на лицах приближенных Натальи Кирилловны, в тереме, в покоях царевны Софьи шло совещание между нею, Милославским и Тараруем, который уже успел незаметно сюда пробраться.
– Так ты говоришь, князь, что они завтра непременно вернутся? – спрашивала Софья Хованского.
– В этом будь покойна, государыня, – отвечал он, – не уйдут без Нарышкина. Разве они теперь успокоятся до тех пор, пока не увидят, что могут делать что им угодно?! Ведь они теперь говорят между собою, что если царевич Иван и жив, то все равно при Нарышкиных недолго жить ему – это у них засело крепко. Конечно, с такими олухами можно бы и справиться, что-нибудь придумать для их успокоения, но кто же станет придумывать, не мы же с Иваном Михайловичем?!
– Еще бы, – прошептал Милославский. – Я не жив, пока не кончили с Нарышкиными. На полпути нечего останавливаться.
– В этом я с вами согласна, – тихо проговорила царевна, – я только боюсь новых ненужных убийств. Да и, наконец, вы сами вчера видели, на что они способны: ведь настоящими зверьми делаются. Дойдут они до такого остервенения – и мы все в опасности!
В эту минуту вошел Василий Васильевич Голицын. Он был бледен, лицо его показывало глубокое душевное волнение. Мрачно взглянул он на Хованского с Милославским.
– Пора остановиться, бояре, – проговорил он. – Уймите стрельцов – это в вашей власти. Зачем нам еще кровь Нарышкиных? Теперь все равно враги в наших руках, Матвеева нет…
И, не смущаясь пытливым, злобным взглядом Хованского, Голицын громко вздохнул и перекрестился.
– Матвеева нет, – продолжал он. – И нам некого бояться. Нарышкины бессильны, да и разослать их можно по дальним городам.
– Нет, князь, нет-нет, воля твоя, ты не так толкуешь, и уж с Иваном-то Кирилловичем во всяком случае нужно покончить.
– Не понимаю, чего это вы так на него напираете, отчего вам кажется страшен этот мальчишка? Он задорен – и только. В народе его не любят, на хитрость он не способен – его Господь разумом обидел, напрасно только вы запачкаетесь в крови его, да запачкаете и царевну. Подумайте-ка хорошенько да и потолкуйте со стрельцами.
Софья не говорила ни слова. Она сидела, задумавшись, и только изредка взглядывала на своего друга.
Она умела читать в лице его и теперь видела, как что-то мучительное и тяжелое ложится между ним и ею. Вот ведь его глаза останавливаются на ней безучастно и холодно, немой упрек в его взгляде… К тому же он прав.
– Уговорите стрельцов, – сказала она своим советникам. – Князь Василий правду сказал, можно обойтись без нарышкинской крови, пускай стрельцы требуют их заточения по монастырям, удаления навсегда из Москвы, но не казни. А то так просто дайте им возможность убежать отсюда. Вам легко под каким-нибудь предлогом отвлечь внимание одного из караулов… Пусть они бегут.
– Нет, это неладно! – решительно заговорил Милославский. – Дело делать, так делать до конца и робеть нечего. Одною лишней головой можно поступиться… Я бы пальцем не шевельнул для Нарышкиных.
– Сам бы я пошел к ним, – раздумчиво сказал Голицын, – да толку из того не выйдет, меня и не послушают, пропаду только даром.
– Господь тебя сохрани, еще что надумал! – испуганно вскрикнула царевна. – Нет, ты в это дело не вмешивайся: как сначала был в стороне, так и оставайся!
Она снова стала уговаривать Хованского последовать совету Голицына.
Тот даже обещал ей потолковать со стрельцами, но в то же время подмигнул Милославскому, давая ему знать, что ровно ничего не сделает.
Когда царевна их отпустила от себя, удержав Василия Васильевича, они порешили не допускать никаких послаблений.
– Вот еще нещечко навязался, – ворчал Хованский. – И зачем это он сюда явился? Сидел бы на Украине. Сам палец о палец не ударил, а, чай, заранее уже наметил себе первое место. И еще человеколюбцем прикидывается, вишь ты, крови не нужно! Ну, да это еще посмотрим, как он займет первое место, по времени и с ним можно будет справиться…
XV
Прошел весь день, прошла ночь, прошел даже и роковой час утра, в который уж два раза собирались мятежники на Красной площади, а в Кремле покуда все еще тихо.
Но вот к царице бежит старый князь Одоевский с ужасною вестью: стрельцы опять идут.
Все Нарышкины и сын Матвеева Андрей Артамонович переполошились и кинулись прятаться. Сначала замкнулись в комнате маленькой дочери царицы, царевны Натальи Алексеевны, но тут было опасно. Куда деваться?
– Ко мне идите, ко мне! – запыхавшись говорила, выбегая им навстречу из своих покоев, вдова-царица Марфа Матвеевна. – Моя постельница вас спрячет.
Нарышкины кинулись в покои царицы. Постельница провела их в темный чулан, завалила перинами и подушками, а дверь чулана нарочно оставила отворенною.
Тараруй был опять на площади и, вместо того, чтоб уговаривать стрельцов, твердил им:
– Теперь уже не уходите, добивайтесь Нарышкина, а не выдадут, так прямо и хватайте царицу – и впрямь, видно, она заодно с изменниками!
Стрельцов нечего было разжигать – они и без того ломились во дворец и неистово кричали:
– Подавайте нам Нарышкина, без него не уйдем! Коли главный изменник жив останется, где же наша служба царскому дому?
На этот раз даже царевна Софья испугалась.
Милославский сказал ей, что он с Хованским уговаривали стрельцов, что Хованский и теперь на площади, но что ничего нельзя сделать – теперь никто не может сговорить с ними. Остается одно – скорей исполнить их требование.
Царевна отправилась к Наталье Кирилловне.
– Что ж это, матушка, – сказала она резким голосом, – долго ли нам мучиться, долго ли ежеминутно себе смерти ждать? Ведь уж не отбыть твоему брату от стрельцов, так выдай его – не погибать же нам всем за него!
Наталья Кирилловна ничего ей не ответила, только сверкнула на нее глазами.
Но Софья говорила громко. Ее слова слышали все бояре, бывшие с царицей.
– Царевна правду молвила. – стали толковать они. – лучше одному погибать, чем всем.
Некоторые из бояр подошли к царице, поклонились ей до земли и со слезами стали просить ее выдать брата.
– Государыня, – говорили они, – перемоги сердце свое ради своего же спасения, ради спасения всего рода царского, ради всех нас, верных и преданных слуг твоих!
– Чего вы от меня просите! – в отчаянии, ломая руки, говорила царица. – Сами посудите, могу ли я выдать брата? Боже мой! Одного уже отняли, убили безвинно Афанасия. Так довольно и этой муки… На всю жизнь хватит. Чего просите! Ведь еще жива я, еще бьется мое сердце, так как же хотите, чтоб я отказалась от своего единокровного и единоутробного брата?
Но бояре продолжали настаивать. Каждому из них была дорога своя жизнь, и никто не мог найти иного средства к спасению, кроме выдачи Нарышкина.
Стрельцы все больше и больше неистовствовали, все громче кричали. Медлить было невозможно.
– Матушка, – снова возвысила голос царевна, – не будь причиною гибели многих ни в чем неповинных. Или не видишь, как стрельцы освирепели – они сделают, как говорят… Никто из нас не избежит смерти. Решайся же… перейди с братом в церковь Спаса… Помолимся все, да и пусть выйдет он к ним, а в руки ему дай образ Богородицы, быть может, это спасет его, быть может, мятежники и устыдятся перед святынею!
В этих последних словах царевны для Натальи Кирилловны прозвучала слабая надежда. Но не могла же она произнести своим собственным языком отречение от брата.
– Оставьте меня! Оставьте! Делайте, что хотите, – задыхаясь, прошептала она и упала на колени перед образами, инстинктивно закрывая глаза, затыкая себе уши руками, чтоб ничего не видеть и не слышать.
Бояре почти на руках снесли ее в церковь Спаса за Золотой решеткой, отправились в тот чулан, где скрывались Нарышкины, и объявили Ивану Кирилловичу всеобщее решение.
Несколько мгновений он не подавал голоса, но вот наконец вышел к боярам, шатаясь, с искаженным лицом.
– Божья воля! – сказал он. – Ведите меня на казнь! Я не противлюсь.
Иван Кириллович был еще совсем молодой человек. Рослый, здоровый, красивый, веселого нрава, до сих пор он помышлял только об удовольствиях. Вся жизнь представлялась ему в праздничном виде, никогда его мысли не останавливались на чем-нибудь серьезном, никогда он ни над чем не работал. Да и зачем было ему работать – все так легко ему давалось. Любимый брат царицы, он едва достиг двадцати трех лет и уже был сделан боярином; денег у него куры не клевали, веселых друзей-товарищей – целая орава. На конюшне коней и не сосчитаешь; всякого драгоценного оружия, серебра да золота – видимо-невидимо – над чем тут задумываться?
Его обвинили перед стрельцами в том, что он царское семейство извести хочет, хочет сделаться сам царем и уж надевал на себя корону. Это была клевета – никогда Иван Кириллович и не помышлял ни о чем подобном. Правда, он от души радовался и торжествовал, когда избрали на царство его племянника, Петра Алексеевича; правда, что, шутя и играя с мальчиком, он однажды возложил на него корону, нарядил его в полное, торжественное облачение царей русских.
Маленький Петр был очень забавен в этом одеянии; вся детская курчавая головка его ушла в корону, так что из нее выглядывал только кончик носа. Иван Кириллович начал смеяться, шутить.
– Какой, – говорит, – ты царь, Петруша, как увидят тебя, так и начнут пальцем показывать, мол, то обезьянка заморская, а не царь, такого еще у нас не бывало! А вот постой, погоди, дай-кось я тоже царем наряжусь!
И, чтоб позабавиться и подразнить ребенка, он надел на себя корону, взял скипетр и стал перед племянником в горделивую позу.
– Ну, смотри, вот я царь так царь! Вот меня увидит народ, так в ноги мне поклонится – так-то!
Он смеялся, смеялся Петр Алексеевич, цепляясь за молодого дядюшку и отнимая у него свою корону.
Эту сцену подглядели недруги, и из невинной игры выросла клевета, которая теперь погубила Ивана Кирилловича. Ему нужно расстаться с молодой, привольной жизнью, идти на казнь смертную, на лютые мучения… А жить так безумно хочется – жизнь так прекрасна, так все улыбалось до сих пор, и впереди были одни только радости. Умирать нужно, да и как умирать-то: не мгновенною неожиданною смертью, которую не заметишь и не почувствуешь, пожалуй, а идти на смерть, знать, что впереди, близко, сейчас ждет что-то страшное, безобразное, отвратительное.
Подкосились ноги у Ивана Кирилловича, зашатался он, чуть не упал, но бояре его поддержали.
– Что ж делать-то боярин? – расслышал он. – Что ж делать-то, не гибнуть же нам за тебя за одного. Они-то, вишь, грозятся всех перебить, коли тебя не выдадим.
Иван Кириллович поднял побледневшее лицо свое, взглянул на всех помутившимися глазами, и каждый прочел в этом взоре себе укоризну, и у каждого невольно опустились веки.
– Ведь я иду, иду на смерть, так чего ж вам еще? Молчите – мне нечего вас слушать! Дайте только проститься с сестрою.
Нарышкина повели в церковь Спаса, где уже находилась царица, царевна и многие вельможи. Наталья Кирилловна, лежа на полу церковном, горячо молилась и рыдала. Она не в силах была поднять глаз на брата, обвиняя себя в малодушии, считая себя его убийцей и в то же время зная, что борьба для нее теперь невозможна.
Нарышкина наскоро исповедали, приобщили, отсоборовали. Он был тверд, ни звуком не выказал своих мучений и отчаяния. Когда бояре шепнули ему, что все теперь кончено и медлить нечего, он подошел к сестре. Наталья Кирилловна продолжала молиться и ничего не слышала. Но вот над самым ее ухом раздался страшный голос:
– Прощай, государыня-сестрица! Иду на смерть без страха и желаю только, чтоб кровь моя была последнею, пролитой ныне!
Она обернулась, безумно вскрикнула, поднялась на ноги, бросилась на шею Ивану Кирилловичу да так и замерла, не имея силы выговорить слова и только покрывая его лицо горячими поцелуями.
– Ванюша, родной мой! – наконец заговорила она. – Ванюша, не я выдаю тебя, все того требуют!.. Но ведь же… Нет, я не могу с ним расстаться!
И она опять его целовала и не выпускала из своих объятий.
Эта раздирающая сердце сцена продолжалась слишком долго, а стрельцы не унимались, неистовствовали.
Князь Одоевский подошел к царице и сказал испуганно:
– Сколько вам, государыня, ни жалеть, а все уж отдать придется, а тебе, Иван, отсюда идти надобно, а то нам всем придется погибнуть из-за тебя.
Иван Кириллович вырвался из объятий сестры и, махнув рукою, шатаясь, как пьяный, направился к двери, держа перед собою образ Богородицы.
Наталья Кирилловна кинулась было за ним, но ее силою удержали бояре. В ту же минуту слетели с петель церковные двери, и толпа стрельцов ворвалась на паперть. Только завидели мятежники Нарышкина, так с диким, нечеловеческим воплем на него кинулись и вырвали из рук его образ.
Он перекрестился – он ждал, что вот, вот сейчас… Но стрельцы его не убили, а повлекли сначала в Константиновский застенок и стали пытать. Ему читали вины его: измену, посягательство на жизнь царевича, желание самому быть царем и многое другое. Страшным пыткам подвергли его и ждали, вот он не стерпит, во всем признается и его признание всех их оправдает, оправдает мятеж, потоки крови…
Но Нарышкин не произнес ни слова. Изнеженный, разгульный юноша, теперь он превратился в героя. От страшной боли искажалось все лицо его, холодный пот градом катился по лбу, волосы вставали дыбом, но из груди его не вырвалось ни звука, только страшно скрипели его стиснутые зубы.
И долго тянулась пытка, но наконец палачи убедились, что ничего не добьются. Тогда почти бесчувственного, окровавленного Ивана Кирилловича вытащили на Красную площадь и изрубили.
XVI
Страшное убийство Ивана Нарышкина было еще не последним; вслед за ним стрельцы схватили иностранца, медика Данилу Гадена, обвиненного ими в чернокнижии и отравлении царя Федора.
Этот несчастный Гаден еще пятнадцатого мая, при самом начале возмущения, оделся нищим и убежал из Немецкой слободы в Марьину рощу. Двое суток скитался он без пищи, но голод принудил его возвратиться в слободу. Стрельцы его узнали, схватили и притащили во дворец. Напрасно царевны и царица Марфа Матвеевна умоляли их отпустить доктора, уверяли, что он неповинен в смерти царя, что он на глазах их каждый раз пробовал лекарство – ничего не помогло! Стрельцы кричали, что Гаден чернокнижник и что у него дома нашли сушеных змей.
Его повели в тот же Константиновский застенок, где пытали Нарышкина. На орудиях пытки еще не засохла кровь несчастного Ивана Кирилловича.
«Авось хоть этот повинется!» – думали стрельцы, и на этот раз ожидания их оправдались. Немецкий доктор не обладал мужеством Нарышкина. С первой же пытки он начал на себя наговаривать, признаваясь во всевозможных нелепостях, и наконец стал кричать, чтоб дали ему три дня сроку и он укажет всех, кто виноват еще больше его.
Но стрельцам некогда было ждать, они и так были довольны его признанием, вытащили его на Красную площадь и умертвили.
Данило Гаден был последней жертвой; стрельцы угомонились. Их руководители были довольны – страшное дело удалось вполне. Теперь оставалось довершить его достойным образом: приготовить себе полнейшее торжество. Но для этого уж не требовалось оружия, не требовалось крови…
Хованский и Милославский весь вечер семнадцатого мая провели в стрелецких слободах, а на следующий день войско в четвертый раз появилось перед дворцом, но уже без оружия.
С тихим и смиренным видом стрелецкие выборные просили позволения бить челом государю и царевнам.
Конечно, им это разрешили, и вот они стали просить, чтобы государь указал постричь своего деда, Кирилла Полуектовича Нарышкина.
Эта почтительная просьба властителей-стрельцов была немедленно исполнена. Царица Наталья Кирилловна уже не имела никаких сил для борьбы – она была одна… Самые близкие, дорогие убиты, на руках малолетний сын, жизнь которого при малейшем неосторожном шаге ее могла подвергаться опасности; кругом со всех сторон страшные лютые враги: Милославские да царевны – она могла только плакать, молиться и безропотно покоряться стрелецкой воле.
Стрельцы признавали царем Петра; ему приносили челобитные, он царь, следовательно, мать его, при его малолетстве, правительница – но теперь это было только на словах. В действительности не было царя и царицы, был один только торжествующий, распоряжающийся терем, во главе которого стояла Софья. Теперь она принимала стрельцов, выслушивала их и полагала решения на их просьбы.
Ежедневно у нее происходили совещания с Хованским, Милославским и главнейшими из начальников стрелецких. На этих совещаниях решалось, о чем должны просить стрельцы на следующий день, и стрельцы являлись к царевне с этими просьбами, ею же им продиктованными.
Вслед за пострижением Кирилла Полуектовича стрельцы потребовали ссылки Лихачевых, Языковых, всех Нарышкиных без исключения, Андрея Матвеева и многих других – одним словом, тех людей, которые имели несчастье возбудить в себе нерасположение царевны.
Но были у стрельцов и такие челобитные, которых им не диктовала Софья; так, например, они просили о том, чтоб им выданы были заслуженные ими деньги с 1646 года. Сумма выходила большая, до двухсот тысяч рублей, да кроме того, нужно было пожаловать им по десяти рублей на человека.
Софья сильно рассердилась, узнав об этом непредвиденном и несоразмерном требовании, но поняла, что отказать стрельцам нет возможности. Между тем денег в казне столько не было. Их нужно было собрать со всего государства; пришлось и серебряную посуду перелить на деньги.
Вслед за этим требованием денег стрельцы просили царевну, чтоб им дано было название «надворной пехоты». И эта просьба была немедленно исполнена.
В стрелецких слободах были довольны щедростью царевны; там шло великое ликование, там в награбленной и золотой посуде распивались награбленные иностранные вина: на стрелецких женах, дочерях и сестрах красовались привозные дорогие ткани, каменья самоцветные, жемчуга из заветных хранилищ царских теремов и разметанных домов погибших бояр.
Привольно было стрельцам, ни в чем нет запрета – и они ликовали и продолжали хозяйничать в городе. Разбили и приказы: Холопий да Судный, разорвали и сожгли крепостные записи, тяжебные дела, освободили всех колодников и объявили волю холопам. Только странное дело – громадное большинство слуг боярских не пожелали воспользоваться дарованной им стрельцами волею и нередко старались образумить и укротить мятежников.
Стрелецкие руководители несколько дней молчали, дали стрельцам попировать и нагуляться, а потом повели их снова на Кремль.
Тараруй торжественно, в присутствии многих бояр, окольничих и думных людей, доложил царевне, что стрельцы и весь народ Московского государства желают, чтобы по справедливости царствовали оба брата, Иоанн и Петр Алексеевичи. «В противном случае, – прибавлял он, – они грозятся новою смутой и новым кровопролитием».
Царевна обратилась к окружавшим и начала спрашивать их мнение.
Все было заранее подготовлено. Друзья царевны на этот раз отличились необыкновенным красноречием. Все они твердо знали заданный урок и рассыпали непреложные доказательства полезности этого двоевластия, приводили исторические примеры, говорили о Фараоне и об Иосифе. Даже Василий Васильевич Голицын, возбуждаемый горячими и нежными взглядами царевны, напомнил про Аркадия и Ганория, про Василия и Константина…
Стрельцам недолго пришлось ждать ответа на их челобитную. И часу не прошло, как вышел к ним тот же Тараруй и объявил решение бояр: «Быть обоим братьям на престоле…»
Раздались на всю Москву громкие удары большого колокола. Духовенство отправилось в Успенский собор петь молебны и возгласило многолетие благочестивейшим царям, Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу…
Торжествующая, отуманенная исполнением своих заветных замыслов, возвращалась царевна Софья в терем. Ее встречали улыбки, льстивые поздравления ближних боярынь и многочисленных теремных жилищ, и она ласково и милостиво, в свою очередь всем улыбалась. Она знала, что сегодняшнее торжество еще не кончено, что ему предстоит на этих же днях и уже полное завершение. Она знала, что еще раз стрельцы и народ московский явятся ко дворцу и будут просить ее, ввиду малолетства братьев, принять на себя управление государством.
Пульхерия Августа, про которую говорил «милый друг Васенька» и которая давно уж грезилась царевне, возрождается на земле русской! Пришло-таки это блаженное время; все старое горе, все старые опасения, тяжелая, страшная борьба окончены и следа от них не осталось…
Счастье и слава! О, как привольно дышится, как весело теперь смотрят эти низенькие, причудливо изукрашенные покойчики, по которым идет царевна в тихий приют своей рабочей комнаты.
Мягкие, горячие краски наступающего вечера на все кладут какой-то таинственный отпечаток, сглаживают и изменяют формы предметов. И не узнает царевна с детства знакомой обстановки. Ей кажется, что раздвигаются перед нею стены, что шествует она, гордо неся свою прекрасную голову, по какому-то чудному, сотканному из золота и самоцветных камней пути, а перед нею храм славы, где высится престол, ею воздвигнутый.
Среди этих грез, вся объятая сознанием своего величия и счастья, вошла она к себе и затворила за собою двери. И вдруг лицом к лицу восстала перед нею какая-то неведомая ей высокая женская фигура. Разлетелись грезы царевны.
– Кто это? – спросила она, невольно отшатнувшись.
Лицо неведомой женщины было покрыто фатой. Изодранная, местами запачканная кровью одежда была на ней. Вот бледная рука страшной гостьи сорвала с лица фату: перед царевной Люба Кадашева.
Но боже, как она изменилась: сразу и узнать ее невозможно! Куда девалась нежная юность и свежесть ее лица прелестного? Куда девался знойный румянец, блеск черных глаз с поволокою? Тусклы и страшны теперь глаза эти; смертельная бледность покрывает щеки; многими годами состарилась Люба, и ничего не осталось от прежнего ее оживления: будто мертвец перед царевной.
– А, это ты! – помимо своей воли теряясь, проговорила Софья. – Но в каком ты виде, как ты ужасно изменилась! Откуда ты? Что было с тобою?.. Поди переоденься… На тебе кровь, лохмотья… Как смела ты явиться ко мне в такой одежде?
– Мне некуда идти переодеваться, – отвечала Люба глухим голосом, – я пришла навсегда проститься с тобою, царевна…
– Что это значит? Что за выдумки? Как ты говоришь со мною и о чем говоришь ты?
«Она сошла с ума, – подумала Софья. – Но что было с нею? Надо узнать!»
А Люба стояла и странно усмехалась…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – наконец заговорила она. – Ты думаешь, что я безумная. Нет, ошибаешься, царевна, – я была безумной, всю жизнь была безумной. Но теперь-то просветлел мой разум, ты меня вылечила. И вот я пришла проститься с тобою… сказать тебе одно слово…
Царевна молчала. Ее тянуло к себе с неотразимою силою это страшное, непонятное лицо Любы, и она глядела на него не отрываясь. И в то же время ей становилось как-то жутко, так, что даже холод пробегал по ее членам.
– Немного прошло с того времени, – продолжала Люба, – как я, глупая, безумная, позабыв все на свете, бежала к тебе. Ты приняла меня, задарила, заласкала… и кабы знала ты, кабы ведала, как дорога ты была мне! Страшно подумать; заместо Бога я тебя почитала!.. На тебя я молилась, ты казалась мне небесной жительницей, за тебя я готова была идти на лютые мучения! Сколько слез по ночам пролила я о твоем горе-несчастье, про которое ты мне говорила. Но вот, царевна, ты теперь и счастлива, – но знаешь ли ты, как и откуда к тебе пришло это счастье? Да знаешь, что оно добыто кровью людей невинных! Ты глядишь на меня и видишь на мне лохмотья, кровь. А я на тебе вижу больше крови – ты вся в крови! Все лицо у тебя в крови! Кровь из губ сочится… Ты упилась ею, ты ею захлебываешься! Много… много на тебе крови, и ничем ты ее не смоешь!.. Царевна, без числа всяких ужасов навидалась я… Но ничего страшнее тебя не видела. Так не думай же, что ты счастлива, что все твои пожелания исполнены. Ничего не исполнено – отныне лютая жизнь твоя начнется, и конца ей не будет. Где бы ни была ты, везде – и на царском престоле – за тобою будут стоять мертвецы кровавые. Никуда не убежишь ты от них… Смотри, вот они… здесь, кругом тебя… Мне тяжко, мне страшно глядеть на них, а на тебя глядеть еще страшнее!.. Я бы никогда и не пришла к тебе, если бы не вспомнила того первого дня, когда тебя увидела, того дня, когда на тебе еще не было крови и когда ты казалась мне ангелом… Я пришла тебе сказать, царевна: одно только есть для тебя спасение – брось все, беги! Беги к Богу… Молиться! Молись дни, молись ночи, Бог милостив; может, видя твое великое покаяние, отведет он от тебя страшных покойников… Молись, молись о них, невинно убиенных тобою!
Царевна стояла неподвижная и бледная. Она хотела говорить – ее язык не слушался. В голове у нее мутилось, вот она уж ничего не понимает, не слышит слов Любы, да Люба и кончила и тихо вышла из покоя царевны.
Прошло несколько мгновений, Софья опомнилась, кинулась к двери, бежит по теремным переходам…
– Ловите безумную, ловите! Не выпускайте из терема! – кричала она.
Со всех сторон сбежались женщины.
– Кого ловить? Кого, царевна? Про кого говоришь ты?
– Кадашева, Кадашева здесь была… Куда она скрылась? Ищите, ловите ее, приведите ко мне!
Но никто не видел Любы. Она успела незаметно скрыться из терема.
Царевна опять вернулась к себе и силилась отрешиться от страшного впечатления, произведенного на нее этой неожиданной, непонятной сценой, силилась забыть и Любу, и ее слова безумные.
– Мало ли что она говорит, сумасшедшая девка! – успокаивала себя царевна, и начинала она думать о торжестве своем, о счастье, которое ей улыбается. Старалась воротить прежние светлые мысли, с которыми за несколько минут входила в свои покои. Но прежние светлые мысли не возвращались.
Мучительный страх охватил царевну. Она невольно оглядывалась в вечерних сумерках, и все ей казалось, что она окружена какими-то призраками. Вот эти призраки начинают воплощаться, яснее и яснее вырастают они перед нею, она узнает их, узнает каждого. Вот перед самым лицом ее из полумрака выделяется седая голова с длинной и белой, как шелк, бородою, открываются тихие разумные очи Артамона Сергеевича Матвеева…
Бежит царевна в угол, под образа, хочет молиться, но нет для нее молитвы. Ей чудится, что кровь наполняет комнату…
И эта кровь поднимается выше и выше, хлещет на царевну теплой, страшной, красной волной…
– Что ж это, я схожу с ума?! – отчаянно вскрикивает она. – Нет, видно, здесь очень душно, воздуху мало!
Она спешит к окошку, отворяет его, дышит полной грудью. Вечер теплый и ясный. Кругом тишина. Молодая луна поднимается из-за стены кремлевской. Внизу, под окнами терема, душистые кусты.
Но царевна с диким криком захлопывает окошко и от него отбегает. Вдруг среди благоухания тихой летней ночи на нее пахнуло смрадом, и она поняла, откуда этот запах. Он с Красной площади, где еще не успели прибрать хорошенько куски гниющего человеческого мяса, где еще все камни обрызганы кровью и мозгом…
Часть третья
I
Истали проходить годы. Русская Пульхерия Августа самовластно управляла государством. Тяжела и велика была задача, которую она взяла на себя, но велики были и ее силы.
Достигнув власти, уничтожив врагов своих, Софья не сложила руки, не позволила себе отуманиться исполнением честолюбивых своих планов. Она начала работать без устали, показывала всем пример кипучей, изумительной деятельности. Страшными средствами добившись власти, она решила, что должна быть достойной этой власти.
Дела было много. Отец и брат оставили государство в тяжелое для него время – и внутри и извне приходилось многое улаживать.
Россия усилиями передовых людей последних лет уже двинулась на новый путь: выходила из Азии и приближалась к Европе. Русское общество делилось на две части: на людей новых, стремившихся вперед, и людей старого закала, с ужасом глядевших на это стремление и тянувших назад.
Это разногласие, эта борьба сказывались решительно во всем, между прочим, и в религиозном вопросе: раскол множился. То здесь, то там, и по далеким округам, и в сердце России, в самой Москве учители и поборники старой веры начинали смущать народ: привлекли к себе не только черный люд, но и многих, стоявших в близких отношениях к правительству. Все войско, и по преимуществу полки стрелецкие, были привержены старой вере и находили поддержку в своем новом начальнике, князе Хованском.
Первое трудное дело, предстоявшее Софье, была именно победа над раскольниками.
Едва окончилась московская смута, едва царевна приняла бразды правления, как всемогущие стрельцы вздумали требовать возвращения старой веры.
Набрав раскольников-монахов, поддерживаемые народом, стрельцы начали опять являться в Кремль, принудили согласиться на торжественный спор о вере между патриархом и духовенством, с одной стороны, и расколоучителями – с другой. И это был не мирный спор, а такое собрание, которое грозило окончиться новым бунтом и новой резнёй.
Софья не смутилась, допустила расколоучителей в Грановитую палату, сама присутствовала при религиозном состязании и выказала в продолжение его все богатства своего разума, всю свою силу. Раскольничьи ораторы должны были удалиться, ничего не добившись; новый замысел стрельцов и Хованского рушился – дело обошлось без кровопролития.
Царевна снова торжествовала, но она теперь убедилась самым наглядным образом, что не может рассчитывать на завтрашний день до тех пор, пока стрельцы не будут приведены в повиновение. Она убедилась, что один из людей, которого она считала вполне ей преданным и который действительно принес ей много пользы, Тараруй-Хованский, превратился в самого опасного для нее человека. Не довольствуясь видным положением, предоставленным ему царевной, он начал заноситься слишком высоко. Его легкомыслие, тщеславие, легкость, с которой он принимал самые смелые решения и пользовался самыми позорными средствами для достижения своих целей, заставляли опасаться его не на шутку. К тому же он окончательно вооружил против себя царевну тем, что начал враждовать с Василием Васильевичем Голицыным, силился при всяком случае подставить ему ногу. Наконец, его обращение с самою Софьею становилось неприличным – он позволял себе такие вольности, что царевна вся вспыхивала от уязвленной гордости и самолюбия.
Зазнавшийся царедворец должен был испытать на себе ее гнев и опалу, но дело в том, что Хованский был теперь не простым царедворцем; у него в руках находилась страшная сила – стрельцы, вполне ему преданные. Подступиться к нему надо было осторожно, чтобы не рисковать ничем.
Он уж хорошо видел, что им недовольны и что многие против него зло умышляют, но пока войско было за него, ему нечего было бояться, и он самодовольно всюду твердил: «Нелегко меня уничтожить, а коли меня не станет, то в Москве будут по колена ходить в крови».
Конечно, его смущала решительность Софьи, к тому же он по опыту знал, как легко способны стрельцы подчиняться всевозможным внушениям: сегодня они находятся под его влиянием, завтра найдется ловкий человек – и это влияние уничтожится. И он употреблял все усилия, чтобы разорвать всякую связь между стрельцами и остальными русскими людьми, чтоб возбудить в них ненависть к боярам, чтоб они знали только одного его и одного его слушались. Он достигал этого: стрелецкие возмущения долго не прекращались.
После страшных майских дней стрельцы чувствовали себя очень неловко. Они всего добились: они распорядились судьбою государства, получили почетное название дворцовой пехоты, засыпаны и милостями, и деньгами. В Кремле по их настоянию был воздвигнут столб, на котором написаны имена всех казненных ими бояр и вины их как доказательство правды стрелецкой. Теперь они распоряжаются как хотят, все им послушны, все их боятся, но они знают, до какой степени их и ненавидят, знают, что при первом удобном случае эта всеобщая к ним ненависть всплывет и начнется им отмщение. Поэтому они и были беспокойны, раздражены, волновались от всякой малости. При каждом темном слухе им казалось, что уж начинается их наказание, что близится их погибель.
Так явились они большою толпою двенадцатого июля 1682 года в Кремль и требовали, чтоб им выдали всех бояр без исключения. Когда их стали спрашивать: «За что? Что им сделали бояре?» они отвечали, что крещеный татарский царевич Матвей слышал во дворце, будто бояре хотят всех стрельцов перевести, поморить разными смертями.
Царевича схватили, пытали; он сознался, что ничего подобного не слыхал, а затеял дело единственно оттого, что ему корму мало и честь невелика, так думал, что если случится от его слов смута, то честь он получит большую.
Его четвертовали, но стрельцы не успокоились.
Вслед за татарским царевичем явился посадский из Ярославля, по фамилии Бизяев, и стал толковать в слободах то же самое, что и татарин.
Бизяеву отсекли голову, но после него выискался холоп дворянина Вишнякова и объявил, что его господин со своим сыном, бывшим стрелецким полковником, сбирают на стрельцов войско, боярских людей нанимают, по двадцати человек на каждого стрельца. Стрельцы схватили Вишнякова с сыном, пытали их так, что старый Вишняков и умер на пытке.
Так продолжалось до осени.
Шестнадцатого августа Хованский принес царевне челобитную стрельцов, в которой они просили, чтоб для них брать с волостей подможные деньги, по двадцати пяти рублей на человека.
Требование было чересчур незаконно, и царевна с боярами не могли решиться удовлетворить его. Тогда Хованский вышел к стрельцам и сказал им:
– Дети, знайте, что бояре уже грозят и мне за то, что я хочу вам добра, так стало быть делать мне нечего, уж вы сами как хотите, так и промышляйте.
Об этих словах донесли царевне. Она ужаснулась. «Так вот чем кончается! Тараруй уже прямо взывает к бунту!» Но еще пуще царевны встревожился Милославский. Он начал уверять Софью, что положение их становится крайне опасным, что Хованский замышляет их гибель для того, чтобы овладеть престолом, что он выставляет свое царственное происхождение от Гедемина и хочет женить своего сына на царевне Екатерине Алексеевне.
Трудно решить, действительно ли Тараруй питал в себе подобные замыслы или все это только пригрезилось Милославскому. Но как бы то ни было, царевна решила, что нужно скорее покончить с этим новым соперником. А Милославский, опасаясь участи Матвеева, тайно уехал из Москвы, переезжал из одной слободы в другую, скрывался, «как подземный крот», и посылал одного гонца за другим к Софье, убеждая ее не медлить и скорей как можно предпринять что-нибудь решительное.
Двадцатого августа разнеслась весть по Москве, что все царское семейство уехало в Коломенское. Стрельцы испугались: «Уехали цари и приведут на нас дворянское войско!»
Через три дня послали они в Коломенское выборных с оправданиями и уверениями, что никаких смут они не затевают, и с просьбою, чтобы цари вернулись в Москву.
Им отвечали, что о них вовсе и не думают, что великие государи переехали в Коломенское по своему собственному желанию, как и прежде это часто водилось.
Выборные постояли, помялись, почесали себе затылки и вернулись ни с чем.
Стрельцы, видя, что дворянское войско не идет на них, несколько успокоились. Но Хованскому захотелось напугать царевну, показать ей, как она нуждается в стрельцах, а следовательно, и в нем. Он поехал в Коломенское и стал всем рассказывать: «Приходили ко мне новгородские дворяне и говорили, что хотят идти в Москву бить челом о заслуженном жалованье и на Москве всех сечь без выбора и без остатка».
Царевна, не теряя хладнокровия, отвечала, что в таком случае нужно разобрать это дело, в Москве об этом объявить всенародно, а в Новгород послать царскую грамоту.
Хованский, не ожидавший такой смелости, смутился и начал упрашивать не делать этого, не вводить его в беду.
Через несколько дней Софья отправила к Хованскому указ, чтобы он прислал в Коломенское Стремянной полк.
Но Тараруй боялся этого – Стремянной полк был ближе всех к государям и более других находился под влиянием правительницы. Отправит он этот полк и этим даст возможность Софье удержать его при себе и действовать посредством его на другие полки. Он ослушался указа и долго не высылал полк.
Между тем время шло, наступало и первое сентября, празднование Нового года по тогдашнему исчислению. Цари неизбежно всегда присутствовали при этом торжестве, но вот они остались в Коломенском; при церемонии никого не было. Народ московский не мог этого не заметить и заволновался. Все в ужасе начали передавать друг другу, что, значит, будет новый стрелецкий бунт, что цари уже не смеют и показываться, боясь, что их убьют.
Странное зрелище представляла Москва: горожане трепетали перед стрельцами, стрельцы трепетали перед горожанами, так как и между ними ходил слух, что на днях им будет месть от боярских людей, которые нападут на них, перебьют их самих, и жен их, и детей.
Начиная со второго сентября, царское семейство стало переезжать из одного села в другое. Наконец четырнадцатого числа остановилось в селе Воздвиженском. Цари приказали прибыть в Воздвиженское из Москвы всем боярам, окольничим, думным людям, стряпчим, дворянам московским и жильцам.
Семнадцатого сентября, в день именин царевны-правительницы, село Воздвиженское было переполнено знатью. Софья задала большой пир, из своих рук угощала гостей водкою, а после трапезы объявила всем присутствовавшим, что нужно потолковать о важном деле.
Думный дьяк начал подробное чтение о винах князя Хованского и сына его Андрея.
Выслушав дьяка, государи и правительница приговорили Хованского к смертной казни. Тотчас же был послан князь Лыков с большим отрядом схватить приговоренных.
Тараруй не ожидал себе гибели. Он находился в селе Пушкине, там его и схватили. Сына его Андрея нашли в одной из подмосковных деревень. Прочли Хованским все тяжкие вины; они оба оправдывались, плакали, умоляли, чтоб им дана была возможность иметь очные ставки. Но их не слушали, торопились исполнением приговора. Не нашли палача, так стрелец из Стремянного полка заступил его место. Обоих Хованских «повершили» на площади у большой Московской дороги.
Но кроме казненного Андрея у Тараруя был еще другой сын, Иван.
Он убежал из Воздвиженского, явился ночью к стрельцам и объявил, что отца его и брата казнили без указа великих государей, что бояре хотят всех стрельцов перерубить, по дороге наставлены всякие чиновные люди с оружием, придут на Москву и подожгут дворы стрелецкие.
Стрельцы вооружились, заняли Кремль и приготовились к защите. Но в них уже не было прежней смелости, все они были страшно перепуганы.
Между тем князь Василий Васильевич Голицын собрал из всех ближних городов служилых людей и вместе с царским семейством переехал в Троицкий монастырь, который был приведен в осадное положение.
Стрельцы прислали чудовского архимандрита Андриана просить государей вернуться в Москву и уверяли, что у них нет дурного умысла.
Царевна отвечала, чтоб стрельцы служили верно, никаких бесчинств в Москве не делали и ни во что не вмешивались, что казнь Хованских до них не касается, так как Хованские казнены за измену. Если будут они служить верно, то с ними дурного ничего не будет.
Между тем к Троице с каждым днем собиралось более и более вооруженных служилых людей.
Ободренная сознанием своей силы, Софья грозно приняла стрелецких выборных и стала требовать от стрельцов полного покаяния. Они обещались исполнить все, чего от них требуют. Патриарх приводил их в Успенском соборе к крестному целованию, и они обещали желать государям добра и не щадить для них голов своих; Ивана Хованского выдали. Его привезли в Троицкий монастырь, прочли ему смертный приговор, положили на плаху, но помиловали и ограничились одной ссылкой.
В начале ноября все было тихо. Царское семейство вернулось в Москву, и когда оно въезжало в Кремль, то уже на Красной площади не было знаменитого столба, поставленного стрельцами, – его сломали.
Царевна торжествовала еще раз. Стрельцы снова превращались в скромных и послушных воинов. На место Тараруя их начальником был сделан бывший думный дьяк Шакловитый, вполне преданный правительнице.
II
Успокоившись относительно стрельцов, водворив в Москве возможные тишину и порядок, царевна обратила свое внимание на дела внешние. Она употребила все меры для поддержания добрых и дружественных отношений с разными дворами Западной Европы.
В этой мирной работе у нее явился неоценимый помощник в лице ее друга Василия Васильевича Голицына. В дни бунта и кровопролития он оставался в тени и бездействовал, но когда понадобились труды разумного образованного человека, тогда он стал на первое место.
Голицын нисколько не похож был на остальных бояр и сановников, окружавших Софью. Принадлежа к старой России только по имени, он был совершенно новым человеком. Лишившись еще в детстве отца, он остался на руках матери, которая, вопреки обычаю и взглядам того времени, употребила все старания, чтобы серьезно воспитать и образовать его.
Он много учился, прекрасно знал греческий, латинский и немецкий языки, историю и географию. Любознательный, способный, все на лету схватывающий, он пристрастился к наукам и в течение всей своей жизни, во всех обстоятельствах каждую свободную минуту посвящал чтению.
Явившись при дворе, он не мог не обратить на себя внимания и пошел быстро в гору. Царь Федор пожаловал его в бояре и потом послал воевать на украинскую границу против Дорошенки. Здесь Василий Васильевич выказал сразу свои блестящие способности. Видя, что невозможно взять Дорошенку силою, он пустил в ход дипломатический прием: успел убедить мятежного гетмана сдаться и был за это пожалован царем Федором гетманской булавою.
По возвращении в Москву Голицын оказался героем дня. Царь встретил его необыкновенно милостиво. Царедворцы наперерыв друг перед другом рассыпались в льстивых фразах, задавали ему пиры, всячески чествовали. Но кроме всех этих почестей Василия Васильевича ожидало и другое счастье: царевна Софья обратила на него свое внимание. Живая и горячая, естественно, искавшая равного себе человека, она не могла не плениться Голицыным. Он был головою выше всего, что его окружало. Его разумные речи каждый раз западали ей в сердце. Она недолго боролась с собою. Голицын скоро узнал о ее чувстве и, конечно, не отказывался от такого счастья.
Он знал царевну еще почти ребенком; на его глазах вырастало и развивалось это прекрасное и во всех отношениях так богато одаренное природою создание. До сих пор он издали восхищался ею, теперь же, когда пропасть, их разделявшая, оказалась не существующей, он навсегда и беззаветно отдал ей свое сердце. У него было семейство, была жена, но нарушенный долг, вина перед этой женою не смущали его совесть. Ему легко было оправдаться – не он выбрал себе подругу. Еще в первой молодости его мать сосватала ему невесту, которую он разглядел только тогда, когда она стала его женою.
Выбор старой княгини оказался неудачным. Жена Василия Васильевича была заурядной русской боярышней, выросшей в тереме среди полного мрака невежества, да и от природы она не отличалась ни разумом, ни богатством сердца.
С первого же дня супружеской жизни двадцатилетний юноша почувствовал себя очень несчастным. Между ним и женою не было ровно ничего общего – они никогда не могли понять друг друга. Но делать было нечего, и Василий Васильевич углубился в свои занятия и, отдавая себя общественной деятельности, старался как можно реже посещать свой терем.
Однако и в этой неудачной женитьбе ему была удача: его молодая княгиня, крайне апатичная, не умевшая оценить его, неспособная на горячую привязанность, была к нему равнодушна. Ему не пришлось испить горькую чашу упреков, ревности и всего того яду, изливать который способна праздная женщина, считающая себя обиженной. Княгиня не навязывалась, ни разу не упрекнула его за его постоянные отлучки из дому. В сущности, она даже рада была этим отлучкам, потому что в его присутствии ей всегда бывало как-то тяжело. Она инстинктивно понимала, что они люди совершенно различных миров; она только стояла на том, чтобы внешность была соблюдена, чтоб люди не указывали на нее пальцами. И это требование Василий Васильевич, искренне благодарный ей за то, что она оставляет его в покое и не мучает, исполнял беспрекословно. В редких своих сношениях с нею он являлся внимательным, добрым мужем, не позволял себе никаких резких выходок, никогда не бранился и не дрался, как обыкновенно делали в то время и такие мужья, которые были очень довольны своей супружеской жизнью.
Так шли годы; у Голицына вырастали дети, жена его старилась. Она не стояла ему поперек дороги, так как ни разу не забилось его сердце сильным чувством.
Теперь, когда он полюбил Софью, совершенно новая жизнь началась для него, началось такое счастье, о котором он никогда и не помышлял, не верил даже, что оно и существует на свете, – так где же тут было думать о грехе, о нарушенном долге!
Но, отдаваясь этому новому счастью, он продолжал свою прежнюю деятельную жизнь, по-прежнему работал и даже еще усиленнее: он хотел быть достойным любви царевны.
Во время своей службы на украинской границе он близко познакомился с состоянием русской армии, ясно видел все недостатки ее устройства и необходимость коренных преобразований. Он решился говорить об этом царю, и разумный Федор, согласившись с его взглядами и одобрив его планы, поручил ему сделать преобразования в составе и управлении войска.
Работая над этим, вдумываясь в причины слабой дисциплины, плохого управления, а поэтому и плохих успехах русской армии, Голицын невольно должен был дойти до вопроса о местничестве.
Он понял, что необходимо издать немедленно закон, по которому бы всякие должности были доступны не одним только членам знатных родов, а и каждому разумному и талантливому человеку.
Царь Федор, которому давно уже было противно местничество, с радостью одобрил мысль Голицына. Был собран собор, на котором положено сжечь разрядные книги. Это дело, одно из великих дел в нашей истории, совершенное по мысли Голицына и при его ближайшем участии, вооружило против него огромное большинство тогдашних бояр, всецело проникнутых старым духом. Теперь же, во время правления Софьи, эта ненависть дошла до высших пределов. Но пока враги были бессильны – уничтожить Голицына значило уничтожить Софью, а Софья держалась крепко.
Однако первое время сознания своего торжества и счастья уже прошло для нее, и хотя она не теряла энергии, но с грустью видела, как тяжело, как опасно то высокое, доселе неслыханное на Руси положение, которое она себе приготовила.
Она не могла не сознавать себя одинокою, она знала, что пройдет еще несколько времени, вырастет и окрепнет младший из царей, Петр Алексеевич – и дело рук ее рухнет. На его стороне все враги Голицына, то есть почти все бояре, у нее же совсем нет союзников; Милославские не одарены никакими особенными качествами. Самый ловкий из них, сыгравший такую видную роль при ее возвышении, Иван Михайлович, уже умер.
Страшные мысли приходят иногда царевне, но она их гонит, гонит неустанной работой, и они исчезают – эти страшные мысли. Нечего думать о завтрашнем дне – сегодняшний прекрасен. Уже видны многие благие последствия разумных начинаний. Работа не пропадет даром – благодатная работа об руку с «милым другом Васенькой». Появляется он – и радуется сердце царевны, и она уже не одна. Забыты их общие враги, все дурное и тревожное забыто! Сладко после деятельных дней отдаться светлым грезам, наплывают со всех сторон эти грезы.
Но вот нужно расстаться царевне и с милым другом – благо родины требует от него новой ратной службы. Царевна видит себя принужденною объявить поход на Крым – земля русская не в силах сносить долее татарских обид и унижений: крымцы ни откуда не выводят такого количества пленных, как из России; христиан продают, как скот, ругаются над верой православною. Царство русское платит им, бусурманам, ежегодную дань и терпит за это стыд и укоризну от соседних государей, а границ своих этой данью все же не охраняет, потому что хан берет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские города; от турецкого султана управы на него нет никакой.
Тяжело Голицыну расстаться с Москвою и с царевною. Он знает, что оставить ее среди многих тайных недоброжелателей опасно, но некому поручить поход. Победить татар, завоевать Крым – такое дело принесет России громадные выгоды и пользу, покроет громкою славою и его, и Софью, но как знать, удастся ли поход или нет? Пожалуй, лучше остаться в Москве у кормила правления.
И долго размышляя, стараясь из двух зол выбрать меньшее, Голицын уже толкует царевне о том, чтобы в поход против татар назначить кого-нибудь другого. Но бояре настаивают на том, чтобы он принял начальство над войском.
Они хорошо знают, какие препятствия он должен встретить, хорошо знают, как он будет унижен неудачею.
Делать нечего, хоть и против воли, а нужно согласиться. День за днем откладывает Софья отъезд своего друга: не наговорится с ним, не наглядится на него. Но наконец надо расставаться. Ратные люди хоть с большим трудом, но собраны; всего войска более ста тысяч.
С тяжестью в сердце, употребляя все усилия воли, чтобы не выказать тревоги и тоски перед посторонними, царевна провожает Голицына и остается одна. И вот теперь-то ей делается страшно, и вот теперь-то приходят и уже не уходят черные мысли.
А враги Голицына поднимают голову, стараются придумать ему всевозможные неприятности и только ждут первой вести о неудаче похода, чтобы начать действовать решительно.
Между тем долго нет никаких известий. Царевна в страшной тревоге, письмо за письмом посылает Голицыну.
Теперь у нее один только разумный собеседник – Шакловитый. На него она может положиться, и он всячески ее успокаивает, старается рассеять ее мрачные мысли. Но не удается ему ее успокоить. Часто, оставаясь одна и все поджидая вести о своем друге, царевна горько, горько плачет и молится, а то старается развлечься литературными занятиями: переводит на русский язык иностранные книги, но часто, не дописав фразы, она бросает перо и задумывается.
Иногда она вдруг в ужасе поднимается с кресла, оглядывается дикими глазами. Что же это с нею? Ей страшно, так страшно, что она бежит из своего уединенного покоя к сестрам, но и это не помогает. И там какая-то тоска наваливается ей на сердце, томит какое-то предчувствие. Иной раз у самого уха слышатся неясные, но страшные голоса, перед глазами мерещится что-то. Что ж это? Или вернулись давно позабытые кровавые призраки, или исполняется предсказание безумной Любы Кадашевой о том, что она никогда и никуда не уйдет от этих призраков?! Отчего до сих пор они не являлись? Да и зачем им теперь являться? Нет, это так! Это пройдет – мертвецы бессильны. К этим мертвецам царевна причисляет и Любу Кадашеву, которая, исчезнув после стрелецкого мятежа из терема, никогда в него уже не возвращалась: никто не знал, где она и что с нею…
Мрачное предчувствие Софьи оправдалось: поход князя Голицына был неудачен. Ему даже не пришлось и видеть врагов-татар – оказались друтие враги. Гетман Самойлович с пятьюдесятью тысячами казаков присоединился к войску Голицына, и не успели они достигнуть урочища Большого Луга, как вместо татар из степи на них помчался огонь: вся степь горела, и Голицын, несмотря на невероятные усилия, должен был вернуться, ничего не добившись. Потом оказалось, что степь зажгли не татары, а казаки же, по приказанию Самойловича, которому было невыгодно, чтобы русские покорили Крым.
Царевна радовалась возвращению своего друга, но сознавала в то же время, что этот неудачный поход есть для всех них огромное несчастье.
Дело, от которого столько ожидали, которое могло сильно способствовать большой популярности князя Голицына и Софьи, вполне не удалось. Враги торжествуют, а тут еще со всех сторон одна за другою приходят дурные вести: внутри России много всяких бесчинств заводят и раскольники, и дворяне-помещики, которые превращаются в разбойников, грабят, собирают шайки, избивают духовенство.
Голицын работает без устали, но все понимают, что дело как-то не ладится, что недолго просуществует правительство Софьи.
Три долгих года проходят в постоянных тревогах. Наконец Голицын и Софья видят необходимость второго Крымского похода. Авось на этот раз удастся достигнуть цели: исправить прежние неудачи.
В феврале 1689 года собрался Голицын на татар. Для Василия Васильевича теперь решался вопрос жизни. Он должен вернуться победителем – иначе все погибло.
Положение его в Москве становилось опасным. Уже было покушение на жизнь его, убийца бросился к нему в сани, и едва его удержали слуги князя.
За несколько дней перед отправлением в поход у ворот дома Голицына нашли гроб с запискою, в которой говорилось, что если этот поход будет так же неудачен, как и первый, то главного воеводу ожидает гроб. Всякими способами хотели извести Василия Васильевича. Некто Иван Дьяков был схвачен и пытан за то, что «вынимал у князя след».
С тяжелым чувством выступил Голицын из Москвы в сопровождении стодвенадцатитысячного войска.
III
Началась в Москве весенняя оттепель, пост кончается, близко Светлое Воскресенье. Но нерадостно ходит по своим покоям правительница Софья. Она читает и перечитывает официальное донесение князя Голицына царям о том, что «походу чинится замедление за великою стужей и за снегами, да и денежная казна по сие время в полк не прислана, и ратным людям: рейтарам и солдатам – нечего дать».
Это первое известие от войска, и вот оно каково! Неужели и в этот раз будет неудача?
Но не одно донесение смущает и мучит Софью. Перед нею неотступно стоит прекрасное молодое лицо с быстрыми, огненными глазами. Эти глаза обращены на нее с негодованием, в ее ушах звенит фраза: «Опять послали неудачника! Только срам государству устраиваете». Слова эти сказал молодой царь Петр Алексеевич по прочтению донесения Голицына, сказал громко по всеуслышание, таким грозным и в то же время насмешливым тоном, что Софья едва сдержала себя.
До сих пор он никогда не говорил так, а если заговорил, так значит начинает чувствовать свою силу. Да, много времени прошло – маленький мальчик превратился в крепкого юношу. До сих пор он почти на глаза не попадался – все больше жил с матерью в селе Преображенском, заводил глупые игры, набирал себе сорванцов мальчишек. Но вот и он вырос, выросли и его потешные мальчишки. Шакловитый уже не раз доносил Софье о том, что эти потешные отлично вымуштрованы. Отлично вооружены, и в случае чего могут быть очень опасны, и нет никакой возможности разогнать их, да если б и можно было теперь к чему-нибудь придраться, так он не позволит.
«Все, все за него! – в ужасе подумала Софья. – Если Бог не поможет Васеньке, все на меня поднимутся!»
Она подошла к столу и приготовилась писать письмо Голицыну, но перо остановилось, невольные слезы падали на бумагу – жалко было взглянуть теперь на Софью.
Она сидела перед тем же столом, за которым когда-то так прилежно училась. Ее окружали ее неизменные, любимые книги. Все в ее рабочей комнате было как прежде, она одна изменилась. Быстро прошла ее молодость. Ей только что исполнилось тридцать лет, но на вид она казалась старее. Уже начала меркнуть чудная красота ее; вокруг глубоких синих глаз образовались морщинки, отцвели нежные румяные щеки. Если б она могла увидеть перемену, так быстро в ней произошедшую, то ужаснулась бы. Но давно уже не обращала она никакого внимания на свою внешность, поглощенная делами и заботами.
Осторожный стук раздался у двери. Софья вздрогнула.
– Кто там? – тревожно спросила она.
– Это я. Царевна приказала звать меня.
Софья узнала голос, подошла к двери, замкнутой на ключ, и отворила ее.
Вошел человек еще молодой и красивый с быстрыми, но какими-то чересчур пытливыми, неприятными глазами. Одет он был в дорогой кафтан, расшитый на груди позументами. Красивая, разукрашенная тонкой резьбой и мелкими каменьями сабля была пристегнута к его поясу. Это был стрелецкий начальник, Шакловитый, неизменный и почти единственный теперь приверженец Софьи.
Она опять заперла за ним на ключ дверь и сказала ему, чтоб он садился.
– Ну что? – тревожным голосом спросила Софья.
– Покамест ничего хорошего, – тихо отвечал Шакловитый. – Так одними намеками дела мы никогда не сделаем, нужно идти начистоту; время плохое приходит, больно уж в городе идет ропот на Василия Васильевича. Еще ничего не знают, а уже толкуют, что из похода добра не будет. Кричат: «Поморит-де опять Голицын все войско и с пустыми руками вернется!» Конечно, не сами собою выдумывают, все вороги твои действуют; так нам уж сидеть сложа руки не приходится.
– Знаю, что не приходится, – отвечала Софья. – Да что ж делать? Твои стрельцы бабами стали.
Шакловитый задумался.
Он действительно знал, что подбить стрельцов на что-нибудь решительное теперь почти невозможно. Он не раз уж пробовал заводить в войске смуту, но ничего не удавалось.
Еще два года тому назад, видя что дела царевны идут плохо, он прямо и решительно говорил ей:
– Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу извести.
Софья ему на это ничего не ответила тогда, но он видел, что этим молчанием она дает ему разрешение действовать как ему заблагорассудится.
Собрал он тогда всех начальников стрелецких и начал говорить им, что следует написать челобитную, чтоб Софья венчалась на царство.
– Не умеем мы писать челобитной, – отвечали ему стрельцы.
– Об этом не заботьтесь, челобитная будет написана…
Однако стрельцы не поддавались.
– Пускай будет написано, да кому мы ее подадим – царям ведь? Ну, старший царевич ничего не скажет, да послушает ли нас царь Петр Алексеевич?
– А коли не послушает, – говорит Шакловитый, – идите на Верх, задержите боярина Льва Кирилловича Нарышкина да царского кравчего князя Бориса Голицына, тогда и примет царь челобитную вашу.
– А патриарх и бояре?
– А что патриарх – патриарха можно переменить. О боярах же и совсем не след думать – бояре те что отпадшее зяблое дерево. Разве постоит до поры до времени один князь Василий Васильевич Голицын.
Стрельцы подумали, подумали, ну так-таки ничего решительного и не ответили Шакловитому. Уйдя же от него, стали толковать о том, что не след им вступаться в такое дело. Они хорошо помнили майские дни 82 года.
– Как же это, – говорили они, – опять идти нам в Кремль бунтом, сменять патриарха, хватать самых близких людей царских и зачем? Разве виданое дело, чтоб царевны венчались на царство? Нет, нечего нам впутываться.
Шакловитый не отставал. Он раздал всем этим начальным людям по пяти рублей и наказал им, чтоб они хорошенько потолковали с товарищами в полках. Если сделают дело, то обещал им богатые милости от Софьи.
Они было и попробовали заговорить, но стрельцы их и слушать не стали – так эта попытка ничем и кончилась.
Потом, по совету Шакловитого, царевна призвала к себе как-то ночью несколько стрельцов и начала со слезами уверять их, что царица Наталья со своими братьями, Борисом Голицыным и патриархом против нее, царевны, бунт поднимают.
Бывший тут же Шакловитый начал как будто успокаивать Софью.
– Отчего бы, – говорил он, – князя Бориса и Льва Нарышкина не принять, да и царицу можно бы принять. Известно тебе, каков ее род и как она в Смоленске в лаптях ходила…
– Жаль мне их – и без того их Бог убил, – скромно отвечала Софья и ждала, что стрельцы скажут.
Но стрельцы, очевидно, не очень растрогались. Они пробормотали: «Воля твоя, государыня, что изволишь, то и делай!» – ушли, и опять ничего не вышло.
Потом ходили по полкам посланцы Шакловитого и толковали товарищам, что нужно защитить правительницу, которую хотят уходить враги, и что мало побить бояр, нужно до корня добраться – уходить старую царицу-медведицу.
– А царь-то, – отвечали стрельцы, – так он и будет смотреть, так и не заступится за мать свою!
– Так чего и ему спускать – за чем дело стало? Вон у царя Ивана Алексеевича дверь-то дровами завалили и поленьями и царский венец изломали… Известно, чьих рук это дело!
На это стрельцы упорно молчали. Они помнили, как их обманули известием о том, что Ивана Алексеевича задушили…
– Еще одно средство испробовать нужно, государыня, – сказал после долгого размышления Шакловитый. – Вот что я сделаю: попрошу-ка Шошина – сама ведаешь, что за тебя он и в огонь и в воду, – так попрошу-ка я его собрать десятка с три людишек, вооружить их, подъехать ночью к стрелецкому караулу нашему, схватить десятника и избить его. А как будут бить десятника, пусть кто-нибудь и крикнет Шошину: дескать, Лев Кириллович, за что его бить-то до смерти – душа ведь христианская! В темноте Шошина не узнают, примут за Нарышкина, авось это подействует.
– Попробуй, – тихим и печальным голосом проговорила Софья, – только вряд ли удастся.
– А не удастся – придумаю что-нибудь другое. – Шакловитый даже вскочил со своего места от волнения. – Говорю, царевна, мешкать нам нечего! Или думаешь ты, что они-то не приготовляются? Еще как! Вон ведь Петр-то Алексеевич поехал в Преображенское вчера, а сегодня туда за ним целая орава новых потешников потянулась – это все Меншиков Алексашка вербует. Встретился я с ними, идут молодец к молодцу, кулачищи у всех пудовые, идут – песни поют, многие-то, видно, уж и пьяны. Что вы, спрашиваю, за люди? Откуда? Куда? Они видят кафтан-то мой да, чай, и в лицо меня знают, а шапок не ломают. «Мы, – говорят, – вольные люди, а идем к государю батюшке царю Петру Алексеевичу службу ему служить – у него житье, мол, вольное, сам он простой да ласковый, вино рекой льется!» А Алексашка-то Меншиков перед ними на коне, подбоченился да ухмыляется. Подъехал ко мне, снял шапку, говорит: «Вот каких молодцов подобрал я царю-государю, взглянь, ваша милость, поважнее твоих стрельцов будут. А как обучим мы их с Петром Алексеевичем, так стрельцы-то твои как завидят нас, сейчас же и пятки покажут». А сам все шапку в руке держит, все кланяется мне, а рожа у него, прости господи, как у аспида какого! Так все сердце во мне всколыхнулось, взял бы да и разорвал его на части, только что вот один-то был, да и то вспомнил, что придавить его, холопа посконного, нетрудно, да ведь за него Петр Алексеевич пуще чем за брата родного встанет. Говорят, они с Алексашкой и лягут вместе, едят с одной ложки, пьют из одной чарки.
Каждое слово Шакловитого поднимало и тоску, и бешенство в груди Софьи.
– Нет, не могу я стерпеть этого! – заговорила она наконец в волнении. – Я ни о каком зле не помышляла, в первые годы позабыла все зло, какое испытала от мачехи: никто не может сказать, чтоб она от меня терпела. Всего было у нее вдосталь, делала, что хотела, – ну и оставила бы меня в покое, ан нет, с первого же дня начали свои козни. Что ж, мы молчали, пока можно было, а теперь молчать не приходится. Ты прав, Шакловитый, делай, что хочешь, придумывай, что хочешь, всякие хитрости – сослужи службу, подними стрельцов, спаси меня! Ведь меня спасая, ты спасаешь свою голову, ведь со мной что-нибудь – так и ты погиб! Заступиться за тебя некому – нет у тебя ни роду, ни племени.
– Знаю, – отвечал Шакловитый. – Надейся на меня, государыня, все сделаю, а коли стрельцов не подниму, так есть и другие способы; не пожалеть денег – найдутся добрые люди, непременно подсыпят кое-чего твоим ворогам.
Софья вздрогнула, но промолчала, будто и не слышала последних слов Шакловитого.
– Да и что ж такое, – продолжал он, все больше и больше волнуясь, – нас всячески извести хотят, а мы будем стоять себе, пальцем не шевельнем! Вон ведь нанимали же убийц на князя Василия Васильевича, вынимали же след его, – что ж, сами, значит, и научают нас, как нам действовать. Так разрешаешь, что ли, государыня?
Какой-то страх, какой-то ужас мелькнули в лице царевны.
Несколько мгновений она не могла ответить ждавшему ее слова Шакловитому. Ее бледные, дрожащие руки бессильно рвали начатое ею письмо.
Семь лет тому назад она поклялась перед Богом, поклялась перед мощами преподобного Сергия всею жизнью своею загладить прежний грех свой. Она клялась, что даже кровь лютейших врагов ее не будет пролита ею. Только эта клятва и успокоила ее, только после этой клятвы и стали исчезать страшные призраки, не дававшие ей покоя, а теперь Шакловитый требует ее прямого разрешения на убийство, на отраву! Но что ж ей делать, когда нет другого средства? Что ж ей делать, когда над ее головою, еще страшнее – над головою ее бесценного друга, которого она любит теперь даже более, чем когда-либо, висит неминуемая гибель?!
– Делай, как знаешь! – прошептала она, махнув рукою. Шакловитый поклонился и вышел.
IV
Отпустив Шакловитого, царевна принялась было снова за письмо сердечному другу Васеньке, но тотчас и оставила – она не могла писать ему в таком состоянии духа. Ей уж и так казалось, что он из-за тысячи верст глядит ей прямо в душу своим пытливым и укоризненным взором. В самые трудные минуты их общей жизни он постоянно и твердо настаивал на том, чтобы царевна не брала никакого греха на душу, чтобы она и относительно врагов своих поступала открыто и благородно.
Много усилий хитрого разума, много усилий действительной горячей любви потребовалось от Софьи, чтоб окончательно уничтожить в Василии Васильевиче страшное, тяжелое впечатление, произведенное на него участием ее в мятеже стрелецком. Она знала теперь, что если дойдет до него о новых ее замыслах, о разрешении, данном ею Шакловитому, – сердечный друг Васенька вырвет ее из своего сердца и навсегда отойдет от нее. Сильно он ее любит, а все же уйдет и никогда к ней не вернется. Так как же теперь писать ему? Как же его обманывать? Нет, рука не поднимается; надо успокоиться, надо отогнать от себя злые и страшные мысли.
После бурной жизни, вечных тревог и волнений, вечной борьбы, для которой требовались такие ужасные средства, в озлобленном и измученном сердце Софьи осталась только одна святыня – это святыня была ее любовь к Голицыну, его образ, который являлся перед нею неизменно прекрасным, чистым, ни разу еще не запятнанным участием в кознях, которые она вела постоянно, которые неизбежно должна была вести, как ей казалось.
И вот, чтобы успокоиться, чтобы вернуться к этому письму с душою, полною любви и одной мыслью о любимом человеке, она вышла из своих покоев и направилась к сестрам.
Отдавая почти все свое время делам правления, живя своей деятельной мужской жизнью, царевна редко посещала терем. Со своими сестрами она была дружна, особенно с младшими, которые выросли и воспитались под ее влиянием, но все же ни одна из них не была ее помощницей.
Все они с радостью приняли новую свободу, дарованную терему Царь-девицей, все они, конечно, одобряли каждое ее распоряжение, но серьезно относиться к какому-либо вопросу, выходившему из сферы их повседневной жизни, они не любили да и не имели на то способностей; они просто жили в полное свое удовольствие.
В первые годы правительствования Софьи царевны сделали себе большие пристройки к терему, возвели трехэтажные каменные палаты, украсили их великолепной живописью.
По плану Софьи в нижнем этаже этих палат был устроен особый, сравнительно обширный покой, где царевны должны были сидеть с боярами «слушать всяких дел». Но царевны как-то не полюбили эту комнату, так что с боярами обыкновенно сидела одна Софья. Им гораздо более по нраву был другой, менее величественный, но зато более удобный теремный покойчик и их собственные приемные комнаты, украшенные кроме старой живописи и лепной работы разными фряжскими листами, то есть заграничными гравюрами и парсунами (портретами царевен).
Во многом изменилась жизнь терема за эти последние годы. Теперь уж не было запрета посещать царевен всем боярам и другим людям, которых они удостаивали своим приглашением. Часто по целым дням и вечерам шло веселье да пированье у царевен. Из окон терема далеко разносились звуки музыки и песен.
Старые царевны Михайловны окончательно замкнулись у себя, шептались друг с другом да со своими верными седыми боярынями и монашенками о бесчинствах и грехах племянниц; только младшие царевны никакого внимания не обращали на неудовольствие теток. Они чувствовали себя на полной свободе – над ними не было угрожающей и водворяющей дисциплину хозяйской руки, жилось хорошо и счастливо – чего же больше? Неужели обращать внимание на старух, из ума выживающих?
Но кроме этой свободы, или, вернее, разнузданности, прежний чин теремной жизни оставался нетронутым. В бесчисленных палатах, покоях, покойчиках, клетях и подклетях нового терема метался, суетился, хохотал, плакал, сплетничал и интриговал все тот же бесчисленный муравейник царевнина штата.
Рядом с новыми посетителями и разными учеными и неучеными представителями тогдашней книжности постоянное общество царевен составляли арапки, калмычки, карлицы, дуры, сказочницы и гусельницы.
Подходя к дверям одной из самых обширных палат терема, в которой обыкновенно по вечерам собирались царевны для забавы, Софья услышала громкий смех, хлопанье в ладоши и невольно остановилась.
«Вот ведь счастливые, – подумала она, – тут над головой гроза собирается, может быть, час погибели приходит, а им весело! Они ни о чем не думают…»
И даже зависть к сестрам, на которых всегда она глядела с некоторым невольным пренебрежением, мелькнула в душе Софьи. Резким движением отворила она двери.
Вся палата была озарена множеством восковых свечей, вставленных в вычурные, из-за границы выписанные канделябры, расставленные по углам. Пол комнаты был покрыт мягким, толстым ковром; низкие восточные диваны, покрытые венецианским бархатом и атласом, заменяли прежние парчовые скамейки. На стенах рядом с фряжскими листами духовного и мирского содержания развешаны были и другие листы в золотых рамках. Эти листы были вирши, то есть поздравительные и хвалебные оды, где витиевато описывались доброта, красота и всякие неисчислимые прелести и дарования царевен. Авторами этих виршей были Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев и многие другие мудрецы того времени, находившие выгодным словесно и письменно льстить царевнам.
Между диванами находились красивые тяжеловесные столики, заставленные разными сластями, медами и сладкими винами, а также большие клетки с попугаями.
На диванах в удобных и непринужденных позах полулежали царевны и ближние боярыни, а на ковре у ног их размещались дуры, карлицы, арапки и калмычки. Ближе к двери, у самой стенки, стояли в почтительных позах теремные прислужницы.
Посреди комнаты, по-турецки поджав под себя ноги, сидела какая-то старушонка. По ее выбившимся из-под головного убора прядям седых волос, по красным слезящимся глазам и сизому румянцу на дряблых щеках заметно было, что она уже подгуляла, изрядно накушалась всяких медов и наливок.
Дрожащими, скорченными от старости руками она перебирала гусли и разбитым, хриплым голосом подпевала какую-то песню. Очевидно, эта-то музыка и эта песня охмелевшей старухи и были причиною того веселого смеха и хлопанья в ладоши, которые слышала Софья.
При входе царевны всеобщее оживление мгновенно исчезло; все инстинктивно изменили свои непринужденные позы. Боярыни и боярышни и вся потешная челядь низко поклонились Софье; даже пьяная старушонка поднялась было на ноги, но тут же опять повалилась на ковер.
– Добро пожаловать, сестрица! Как это надумала зайти к нам? – сказала царевна Екатерина Алексеевна, подвигаясь и давая Софье место рядом с собою на широком бархатном диване.
– Да ведь вон как вы веселитесь, – отвечала правительница. – Тут дым у вас коромыслом, чай, и за Кремлевскими воротами слышно. Вот я и пришла посмотреть на ваши забавы, посмеяться; скучно больно сегодня.
– Милости просим, милости просим, сестрица! – заговорили младшие царевны. – А тут вон Панкратьевна поет нам. Ну-ка, ну-ка, потешь государыню!
Панкратьевна ударила в гусли и, напрягшись всей грудью, запела что-то до того дикое, что и разобрать было невозможно.
Боярыни делали важные лица и бросали косые взгляды на Софью; боярышни тоже не смели отдаться своему веселью и только перемигивались да в кулачки хихикали.
Бледная царевна Софья стала еще бледнее. Густые русые брови ее насупились – она видела, что является помехой этому веселью, – да и чем веселятся, чем забавляются? Напоили пьяную старую дуру и рады!
Но дело в том, что всем им весело, все чувствуют себя счастливыми, а у нее от тоски сердце готово разорваться на части. Она обводит глазами окружающих молоденьких боярышень, цветущих красотою и здоровьем.
Старые боярыни разжирели, раздобрели, и на их сытых, довольных лицах нет ни одной черты, которая говорила бы о тайных мучительных думах, о пережитых страданиях. А сестры, царевны? Ведь вот уже старшим, Евдокие и Марфе, кончается третий десяток, а как они еще свежи, румяны; о младших и говорить нечего. Сестрица Федосьюшка совсем как была в семнадцать лет, так и осталась, только пополнела.
Софья невольно взглянула на венецианское зеркало, в котором отражалось лицо ее. Она испугалась своей бледности, она показалась себе совсем старою, и снова чувство зависти к этим счастливым, беспечным сестрам заговорило в ней. Хмельная старуха продолжала петь, и это безобразное пение раздражало Софью.
– Да что вы ее не прогоните? – резко заметила она. – Неужто получше забавы не найдется, призвали бы хоть настоящих музыкантов!
– И то дело! – откликнулись царевны и послали за музыкантами.
Но пока они придут, нужно же чем-нибудь наполнить время, и вот прислужницы стали подносить царевнам, боярыням и боярышням всякие сласти, фрукты, варенья и сушенья, пастилы, леденчики. Не забыты были и сладкие наливки, которые действовали самым лучшим образом.
Скоро все присутствовавшие позабыли про царевну Софью, не видели ее лица хмурого, всецело отдавшись своим забавам.
– Что ж это музыканты-то не идут! Эй, Манка, Фекла, Соболька, потравите-ка Офушку!
Между всей безобразной ватагой, сидевшей на ковре у ног царевен, произошло движение.
На середину палаты выбежала черная арапка и замяукала кошкой, потом стала фыркать во все стороны.
Эта Офушка, которую должны были травить две карлицы и хромоногая безрукая идиотка Манка, почему-то была одета в фантастическое полумужское платье: в широчайшие восточные шальвары, короткий камзол, а на голове у нее была меховая шапочка.
Безобразные карлицы, подобрав и подвязав подолы и выказав короткие, толстые ноги в желтых и красных сапогах с загнутыми носками, кинулись на Офушку.
Та, продолжая мяукать и фыркать, стала от них отбиваться, бетать по всей палате, кувыркаться по ковру, стоять на голове.
Она действительно выказала большую легкость и ловкость, вспрыгивала на диваны, носилась над головами царевен, никого и ничего не задевая, как эластический мячик, спрыгивала опять на ковер, катилась кубарем, подкатывалась под ноги ловившим ее карлицам и Манке, сбивала их, трепала своими черными блестящими руками по щекам. Они тоже не оставались в долгу, и скоро Офушка, покрытая потом, со сбившейся шапочкой, повалилась на ковер вся исщипанная, исколоченная.
Она неимоверно высунула свой красный, длинный язык, закатывала белки глаз и жалобно пищала, подражая всевозможным животным и птицам.
Все присутствовавшие, без исключения, хохотали, били в ладоши.
– Смотрите, смотрите, – кричали боярышни, показывая на Офушку и надрываясь от смеху, – это она издыхает!
Офушка дрыгала нотами, коверкая себе лицо самым страшным образом, и довольно искусно изображала предсмертную агонию. Вот ее писк и стоны становятся слабее, страшная судорога сводит все ее члены, глаза совсем закатились, на губах показывается пена. Еще мгновение, последняя судорога – и она лежит неподвижно…
Кругом нее пляшут победительницы, таскают ее по ковру, щиплют, щелкают… Офушка неподвижна. Она уже закоченела, руки и ноги ее не сгибаются.
Все в восторге.
Но вот, совершенно неожиданно, она кричит петухом, вскакивает и бросается на карлиц.
Боярышни не знают, куда деваться от безумного смеха. Они схватились за бока, они просто задыхаются, одну даже пришлось вывести из палаты.
Старые боярыни и царевны тоже, очевидно, совершенно довольны представлением, только Софья по-прежнему лежит на турецком диване, бледная, с неподвижным, в одну точку устремленным взглядом.
В это время появляются две сенные девушки и объявляют, что пришли музыканты. Их вводят. Это три немца. У одного в руках цимбалы, у другого небольшой орган, у третьего гакебрет – старый немецкий инструмент, нечто среднее между маленьким фортепьяно и русскими гуслями.
Все, мало-помалу приходя в себя после хохота, рассаживаются снова по местам, приготовляются слушать. Немцы начинают играть, раздаются звуки органчика, который выводит старую немецкую мелодию. Тихи и грустны эти звуки, и вслед за ними ноет и замирает сердце царевны Софьи.
В этой печальной музыке ей слышится длинный, мучительно длинный рассказ о ее собственной тоске, рассказ о далеком походе ее бесценного друга, о тех бедах, которые идут к нему навстречу. Страшные картины встают под заунывные звуки. Чудится царевне лютая сеча; татары со всех сторон наступают на русское войско. Вот русские поражены, бегут, татарские наездники ловят их арканами, хватают в плен. И чудится ей, что на аркане по песчаной степи волочится тело вождя русского…
– Оставьте… К чему такая музыка? Что это за игра, словно над покойником?! – кричит Софья, вскакивая с бархатных подушек дивана.
Все с изумлением на нее смотрят. Немец удаляется, а его товарищи громко ударяют в свои инструменты, начиная веселую, шумную пьесу.
V
В это время дверь в палату отворилась, и к царевнам вошли новые гости: царь Иван Алексеевич со своей молодой супругой, царицей Прасковьей.
В эти последние годы царь Иван очень изменился. Теперь он уже не казался юношей; он имел вид старика. На лице его резко обозначались преждевременные морщины, в руках у него был толстый посох, на который он опирался, потому что ноги его плохо слушались. Рядом с ним царица Прасковья особенно поражала своею молодостью, свежестью и здоровьем. Это была прелестная молоденькая женщина с большими черными глазами, смело и пристально всматривавшимися во все и во всех. Ее полные румяные губы были постоянно полуоткрыты, выказывая два ряда крепких и белых зубов. Во всех движениях ее видны были порывистость и страстность. Про молодую царицу рассказывали, что она, конечно, не пыталась отказаться от счастья вступить в царское семейство – все равно в этом отношении для нее борьба была немыслима, но что сделавшись царицей, она сумела устроить свою жизнь так, как ей хотелось. На больного, несчастного мужа она очень мало обращала внимания, во всяком случае, гораздо меньше, чем на красивых сыновей боярских, которые вхожи были во дворец и в терем.
Старые царевны не раз даже пробовали ей выговаривать, усовещивать ее. Она смиренно все выслушивала, горько плакала, уверяла, что все это клевета, что ни о чем худом она не помышляет и что разве это грех, если она любит повеселиться. Ведь веселятся все другие царевны, отчего и ей не быть вместе с ними?!
Старушкам нечего было возражать ей; они только вздыхали, под конец совсем махнули на нее рукою, и она продолжала веселиться, нисколько не стесняясь. И ей это было очень легко, так как единственный человек, который мог бы на нее жаловаться, не жаловался.
Царь Иван был постоянно весьма нежен со своей супругой и даже иногда ради нее выходил из своей всегдашней апатии. Если она смеялась – и он смеялся. На все, что она ни говорила, он кивал головою в знак одобрения. Часто при посторонних подзывал ее к себе, гладил по голове, называл разными нежными именами.
С появлением царицы Прасковьи все снова оживились. Когда музыканты исполнили все, что от них требовалось, и удалились из палаты, молодая царица стала придумывать всякие игры, которые опять закончились травлею Офушки.
Царевна Софья, думавшая было развлечься у сестер, не только что не развлеклась, но глядела еще сумрачнее, еще тоскливее.
Наконец она подозвала царя Ивана, царевну Марфу Алексеевну, которая была бойчее других сестер, сказала им, что нужно поговорить, и вышла из палаты. За ними поднялась и скоро нагнала их худенькая сморщенная старушка, которая до сих пор смирно сидела в углу и делала вид, что царевнины потехи нисколько ее не развлекают. По одним ее зорким глазам, выглядывавшим из-под седых нависших бровей, можно было заметить, что она следит за всем, ничего не пропускает, каждое выговоренное слово, каждое движение не только царевен, но и боярынь, боярышень и даже дур и карлиц складывает в запас своей памяти.
Эта старушка была уже известная нам великая постница боярыня Хитрая.
Царевна Софья прошла несколько комнат и остановилась в укромном покойчике, где никого не было.
– Может, меня и не нужно? – проговорила Хитрая. – Так я уйду, государыня.
– Нет, Анна Петровна, нет, останься, очень хорошо, что ты вышла с нами; запри только дверь.
Хитрая исполнила это приказание, а потом села на лавочку, стоящую у окошка, и начала, крестясь, перебирать четки, с которыми никогда не расставалась.
Софья заговорила. Она жаловалась сестре и брату на то, что Петр с мачехой теперь уже решительно задумали извести их и что нужно принять немедленно же какие-нибудь меры. Она передала о своем разговоре с Шакловитым, о его встрече с Петровыми потешными.
Она говорила страстно и красноречиво, стараясь всячески растрогать или испугать брата Ивана, чтобы он вышел из своей апатии. Но он продолжал глядеть безучастно и только по временам вздыхал.
Одна царевна Марфа поддакивала Софье и во всем с ней соглашалась.
– Анна Петровна, – наконец обратилась правительница к Хитрой, – ты-то что же всё молчишь? Ведь, чай, недавно видела мачеху, чай, кое-что там слышала, так поведай.
– Затем и пришла, – отвечала Хитрая, – только и дожидалась, чтобы ты меня спросила. Да, была я у великой государыни царицы Натальи Кирилловны, – продолжала она, закатывая глаза, – многого навидалась там, многого наслушалась. Больно гневен стал государь Петр Алексеевич. При мне кричал, что коли воевода князь Голицын опять со стыдом вернется из похода, то он его заставит ответ держать и не сдобровать князю.
Софья вздрогнула и побледнела.
– И ты сама это слышала?
– Сама, сама, – отвечала Хитрая, – говорю, Петр Алексеевич при всех кричит, не таится.
– Так вот уж до чего дошло, – в волнении прошептала Софья. – Если он осмеливается судить о том, чего и понимать-то еще не в силах, если он воображает себя судьею над Васильем Васильевичем, так, значит, он уверен в том, что может распоряжаться. Значит, его успели в этом уверить, значит, правду говорю я, что нам мешкать нечего! Иванушка, брат, да очнись, подумай, ведь тут ты не сторона, твое это дело, над тобой же издеваются!
– Кто это издевается? – сказал царь Иван.
– Да ведь тебе же, пойми, тебе грозит опасность!
– Нет, сестрица, вишь ты, Анна Петровна сказывает, что государь-братец грозится Василию Васильевичу, так я-то тут при чем же?
Софья только рукой махнула. Но Иван уже пробудился от своей постоянной дремоты, он уже заговорил и теперь не хотел молчать:
– Право, не знаю, что это ты за непоседа такая, сестрица. Право, всем нам хорошо, я никакой злобы не питаю на братца, он как встретится со мною, так всегда почтителен, никогда-то не побранился. А коли он говорит про Василия Васильевича, так что же тут худого? Если Василий Васильевич побежит, а войско наше будет побито, так ведь так и должно быть, чтобы судить воеводу. Стало, братец-то и прав.
Царевна Софья побагровела.
– Да что ты, что ты, рехнулся, что ли?! – закричала она. – Нет, видно, говорить с тобою – все равно что об стену горох! Никакого толку от тебя не добиться. Тут на нас враги наши лютые злоумышляют, может, завтра же всех перережут, пытать станут, а ты вот какие речи товоришь!
И она в порыве бешенства подошла к Ивану и взглянула на него так страшно, что он задрожал и от нее отшатнулся. Его мысли снова спутались, и уж ничего не понимал он, весь отдался чувству страха.
– Да что же я… Я-то что же… Я ничего, – бормотал он. – Коли досадил чем, прости, сестрица, не буду больше. Что же, ведь я сам знаю, что Господь меня разумом обидел, так и немудрено, если спроста и скажу что неладно. Не взыщи, сестрица, делай, как ведаешь, тебе знать лучше. Я из твоей воли, сама знаешь, не выйду. Только не сердись на меня, я, право, ничего. Пусти, я пойду к Параше…
– Ну и уходи, и Бог с тобой, – сказала, несколько успокоившись, Софья, видя, что сердиться на него невозможно.
Он, покачиваясь и крепко опираясь на палку, вышел из комнаты.
– Вот так царь, вот так братец! – развела руками Софья. – Изволь-ка от него толку добиться! Право, в простоте своей когда-нибудь еще всех нас головами выдаст.
– Так ведь ты, чай, не ноне только его узнала, – заметила Хитрая. – Нечего было его впутывать.
– Так, так, – говорила Софья, в волнении ходя из угла в угол по комнате. – Да тут у меня с этакой мукой просто мысли путаются… сообразить ничего не могу. Ну, говори, что ли, Анна Петровна, все, что знаешь.
Анна Петровна подробно начала докладывать царевнам обо всем, что успела подслушать и подсмотреть у старой царицы. Многое она и от себя прибавляла, внутренне наслаждаясь муками Софьи. Единственная цель жизни великой постницы была раздувать вражду в царском семействе, сплетничать, клеветать, поднимать всех друг на друга. Она часто наведывалась к Наталье Кирилловне, которую издавна глубоко ненавидела. Она рассыпалась перед нею мелким бесом, передавала ей все, что говорилось у царевен; особенно в последнее время зачастила она к царице. Она видела, что скоро конец будет Софьиной власти, и, конечно, нужно было ей выйти чистой перед Натальей Кирилловной, заранее снискать ее расположение, не попасть при новом дворе в немилость. С детства считая Анну Петровну лучшим другом своего семейства, царевна Софья, постоянно осмотрительная и даже мнительная, никогда не могла заподозрить ее в измене и не скрывалась перед нею. Так и теперь, окончательно измученная рассказами великой постницы, она не удержалась и громко объявила, что если начались такие злоумышления со стороны Нарышкиных, то и она в долгу у них не останется. Не подействует одно, так подействует другое.
– Видно, зажилась на свете мачеха, пора ей и в землю! – не помня себя и не сознавая слов своих, задыхаясь и в волнении закричала Софья.
Хитрая от восторга даже подпрыгнула на своем месте.
– Да-да, это точно, – прошептала она, перебирая четки и привычно часто и скоро крестя свою грудь. – Это точно, что коли бы Господь взял к себе благоверную государыню царицу Наталью Кирилловну, так вам бы, моим голубкам, вольготнее было бы, да ведь здорова она, умирать не хочет.
– Найдется про нее лекарство у Шакловитого.
Софья сама испугалась слов своих, но они уже выговорились. Ну, да что же, тут нет посторонних, не выдаст Хитрая. К тому же Хитрая делала вид, что даже и не слышала последних слов Софьи и вся ушла в молитву. Глаза ее были совсем закрыты, благочестивое смирение выражалось на лице ее, губы шептали имя Христа и Богородицы. Она заранее наслаждалась той сценой, которая ожидает ее у царицы Натальи Кирилловны, когда она сообщит ей об этих словах Софьи.
Было уже поздно, пора расходиться. Вот уж все царевны разбрелись по своим опочивальням.
Софья ушла к себе, но еще долго, не раздеваясь, сидела перед рабочим столом, проглядывала большой ворох всяких деловых бумаг: донесений воевод из дальних городов, челобитных. Она готовилась к завтрашнему сиденью с боярами. Сначала она долго не могла вдуматься в то, что было перед нею, но скоро эта работа поглотила все ее внимание и помогла ей забыться от тревожных и печальных мыслей. Скоро терем погрузился в тишину, не было видно больше свету в его маленьких, неправильно расположенных оконцах, только кой-где мерцал слабый огонек лампад. Но вот скрипнула едва слышно маленькая дверца: из терема выпустили кого-то и потом на замок заперли дверцу. Какая-то тень в длинной, темной одежде начала красться вдоль стены и скоро скрылась в саду между черными, еще не опушившимися зеленью деревьями. Человек, выбравшийся из терема, очевидно, хорошо знал все ходы и выходы. Не прошло и четверти часа, как он благополучно, никем не встреченный, уж был за воротами Кремлевскими. Теперь он уже не крался, а шел смелой поступью. Это был костромской поп Григорий Елисеев, большой друг царевны Екатерины Алексеевны.
Вот уже несколько лет, как без его советов она не могла решиться ни на какое, даже самое незначительное дело. И часто через свою постельницу, Марью Протопопову, бывшую в родстве с Елисеевым, посылала к нему в Кострому письма и гостинцы. Гостинцы Елисеев принимал с удовольствием, на письма отвечал аккуратно и по первому зову царевны являлся и сам в Москву, а Марья Протопопова тихомолком провожала его в покои царевны. Тихомолком же выпроваживала и из терема, чтобы не было лишних разговоров.
И опять все тихо в тереме; только работает над делами правительница, не замечая, как идет время, как давно уже пробило полночь.
Только в другом противоположном уголку терема, в пышной опочивальне вдовы царицы, Марфы Матвеевны, слышится тихое рыдание. Лежит молодая, бледная красавица под атласным, хитро расшитым одеялом, на белоснежных подушках пуховых, и не спится ей, и слезы неудержимо льются из светлых, рано меркнувших очей ее. Тяжела жизнь Марфы Матвеевны. Пятнадцати лет осталась она вдовой после царя Федора, и с того страшного дня, как бы окончилась вся жизнь ее, остались одни муки. Ее окружают почет и роскошь, но страшною тюрьмою кажутся ей ее богатые покои. Кто был ей дорог, к кому она привязалась всей своей чистой детской душою, тот безвременно покинул ее. А кругом ни одного близкого, милого человека. Есть родные, да они далеко, их не любят в тереме. Правительница помнит какие-то старые обиды и никого из Апраксиных не пускает. Одно было бы великое счастье для царицы Марфы Матвеевны – был бы у нее ребенок. Всю жизнь бы она в него положила, не нагляделась бы на него, не надышалась. Но нет у нее ребенка. Крепко уж был болен царь Федор, как ее с ним повенчали, никогда не был он ей мужем, но она ни разу даже и в мыслях своих не изменила его памяти. Семь долгих, мучительных лет прошло после его смерти, а она все о нем помышляет, все за него молится. Она уже сжилась со своей тяжелой долей, ничего не просит; единственная ее отрада – за него молиться. И горячо она молится. Часто ходит на богомолье, кормит чуть ли не каждый день нищих, оделяет бедных. И спокойствие мало-помалу водворяется в душе ее, и, осушая чужие слезы, она осушает и свои собственные, но все же иной раз задаются дни тяжелые, мучительные ночи; неведомо откуда приходят в душу тоска и волнение. Слова молитвы на устах замирают. Сон бежит от глаз, и всю ночь мечется на постели бедная царица и горько плачет, горько рыдает, и от этих ночей бессонных, от тоски лютой все быстрей и быстрей вянут ее даром загубленные, никому не нужные красота и молодость.
VI
Прошло несколько недель, но в Москве все по-прежнему было спокойно. Хитрые выдумки Шакловитого не помогали, на стрельцов решительно ничего не действовало.
Софья была в отчаянии: оставалось пустить в ход отраву. Но в решительную минуту Софья дрогнула перед таким средством, к тому же царица Наталья Кирилловна, извещенная Хитрой, принимала все меры для ограждения от опасности себя и сына. Она появлялась в Москве на короткое время и, никого не извещая, снова поднималась в путь, переезжала из одной подмосковной в другую.
Юный царь Петр пока еще не видел никакой опасности и подшучивал над боязнью матери. Несмотря на горячие мольбы, он покидал ее и свою молодую супругу, Евдокию Федоровну, с которою его только несколько месяцев тому назад повенчали.
У него было много дела: он устраивал свои потешные полки, учился у иностранцев, по целым неделям не показывался домой, а возвращался запыленный, усталый. Даже приближенные к нему бояре находили его поступки не совсем приличными для государя. Им не нравилась его компания, состоявшая из каких-то немцев, но они не смели ему перечить – его решительный характер успел уже выказаться.
Софья с нескрываемым злорадством слушала сплетни о том, как он дурачится. «Скоро совсем споят мальчишку, – говорила она, – совсем пропадет он!» Но сама она не верила словам своим. Она хорошо понимала, что этого мальчишку споить трудно и что пропасть он не может…
В мае было получено известие от князя Голицына о том, что он разбил крымского хана и уже подступает к Перекопу.
«Пребываю в надежде, – писал Голицын, – с помощью Божьей одолеть врата и не в долгое время вернуться с победою. Помолись, государыня, о благополучном моем возвращении».
Софья просто обезумела от радости. Мигом забыла она все свои тревоги и плакала, и смеялась.
Она спешила известить людей московских о торжестве Василия Васильевича, а сама, в избытке радости, тотчас же села писать ему ответное письмо.
«Свет мой, братец Васенька! – писала Софья. – Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй, Божьей и Пресвятой Богородицы милостью и твоим разумом и счастьем победив Агаряне! Подай тебе Господи и впредь врагов побеждать! А мне, свет мой, не верится, что ты к нам возвратишься; тогда поверю, как увижу хотя же в объятьях своих тебя, света моего. Что же, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась: будто я, верно, грешна перед Богом и недостойна; однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на Его блатоутробие. Ей! Всегда прошу, чтобы света моего в радости видеть. По сем здравствуй, свет мой, на веки неисчетные».
Но царевна напрасно торжествовала и радовалась. Голицын слишком поспешил похвалиться. Ему действительно удалось без боя подойти к Перекопу, укрепленному замку, защищавшему ров, который прорезывал перешеек. Оставалось взять Перекоп – и русское войско в Крыму. А между тем войско стоит у Перекопа; стоит день, другой – и не двигается с места. Слишком поздно видит воевода свою ошибку. Ему прежде следовало хорошенько разузнать, что такое Крым, но он не знал этого. Перекоп казался ему концом всех лишений, испытанных воинами, а между тем настоящие лишения только теперь начинаются. Со всех сторон море; как была степь до замка, так и за замком степь неоглядная – и ни одного колодца пресной воды. Люди измучены страшной жаждою, кони падают. Пройдет еще несколько дней и даже отступить будет невозможно, не на чем будет везти орудия, обоз – кони все передохнут, люди умирать начнут десятками, сотнями, тысячами, придется живьем с целым войском отдаться в руки хана.
Голицын спешит завести с ханом мирные переговоры. Он надеется, что тот, ввиду огромной русской армии, испугается и поспешит подписать выгодное условие. Но хан отлично понимает, в чем дело, и тянет переговоры. Кругом воеводы поднимается ропот. Медлить невозможно, не умирать же здесь в степи, под палящими лучами солнца!
Скорей, скорей назад, и то вряд ли удается благополучно вернуться. Татары, завидя отступление, погонятся.
Измученный и окончательно упавший духом, Голицын начал отступление. Муж совета и разума, искусный дипломат и администратор, князь Василий Васильевич был плохим воеводою, он взялся не за свое дело.
Он был в своей сфере, создавая и вырабатывая благодетельные планы, поражая иностранных посланников своим глубоким и всесторонним образованием. Он был в своей сфере, когда заглядывал в будущее Русского государства, и мечтал о том, как населить пустыни, обогатить нищих, дикарей сделать людьми, пастушеские шалаши превратить в каменные палаты. Сам он лично был человеком неустрашимым и храбрым, но вести войско к победам он не мог – в вторично должен был испить горькую чашу унижения.
Сердце его разрывалось на части, когда он извещал царевну о своем возвращении, стараясь всячески не перед нею, а перед Москвою прикрыть неудачу своего похода.
Софья в это время исполняла его просьбу – горячо за него молилась. Она забыла про своего брата, про всех врагов своих и пешком ходила на богомолье. Сходила к Сергию, а оттуда по другим монастырям, раздавала всюду богатые милостыни.
Получив известие об окончании похода и возвращении Голицына, она нежными горячими словами выражала в письме к нему свои чувства. Она писала:
«Не хуже израильских людей вас Бог извел из земли египетской: тогда через Моисея, угодника своего, а ныне через тебя, душа моя! Слава Богу нашему, помиловавшему нас через тебя! Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды неисчетные? Радость моя, свет очей моих! Мне не верится, сердце мое, чтоб тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собою».
В другом состоянии духа она, конечно, поняла бы, что свет Васенька возвращается не победителем, но теперь видела только избавление его от страшных опасностей.
Она приготовляла ему торжественную встречу, послала ему официальную грамоту от имени царей, в которой говорилось:
«Мы, великие государи, тебя, ближнего нашего боярина и оберегателя, за твою нам многую и радетельную службу, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою не нечаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны, и что объявились они сами своим жилищам разорителями: отложа свою обычную свирепую дерзость, пришед в отчаяние и в ужас, в Перекопе посады и селы и деревни все пожгли, и из Перекопа своими поганскими ордами тебе не показались и возвращающися вам не явились, и что ты со всеми ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем мире победами возвратился в целости – милостиво и премилостиво похваляем».
Но Софья тщетно прославляла победы Голицына; все бояре роптали – им хорошо была понятна неудача и второго похода.
Голицын возвращался в Москву с триумфом.
Софья, встречая его, не могла даже при посторонних удержать своей радости: вся душа ее ликовала. Среди тревог и дурных предчувствий, которые на нее наплывали, единственным спасением, единственной отрадой казался ей Голицын.
Сам же он не разделял радости царевны.
Бояре, ненавидевшие его, но пока еще не смевшие выказывать чувств своих и поспешившие явиться к нему на поклон, никогда еще не видали его в таком удрученном и мрачном настроении духа.
Он хорошо видел, что звезда его счастья закатилась. Кругом враги – и несть им числа. Разразится гроза – кто за него заступится? Любовь Софьи не спасет его – правительница первая погибнет. Народ не скажет за него ни слова – народ не знает заслуг его, не может оценить его, не знает, что всю жизнь свою он работал для этого народа, для его будущего. Ведь эта невидимая и славная работа творится невидимо, и роскошные, вечно цветущие плоды ее созревают медленно, и не знает народ, кого благодарить за них. Для того чтоб заслужить любовь и защиту этого народа, нужно быть героем-победителем на ратном поле, а Голицын не победитель. Он мечтал, он надеялся славным походом завоевать себе большую силу, которую должен был бы прикрыть и спасти Софью, и вот теперь ему нечем спасти ее – и она и он скоро погибнут.
VII
Теплым летним вечером среди высоко поднявшихся желтеющих хлебных полей по дороге из Преображенского в Москву медленно подвигалась запряженная четверкой коней тяжелая колымага. В колымаге сидели два человека. Один из них – рослый стройный красавец – юноша с едва еще пробивающимся над румяными губами темным пушком. Другой – человек уже не первой молодости, полный, белокурый, с веселым, сразу внушающим к себе доверием гладко выбритым лицом.
Юноша был одет в платье из тонкого сукна, расшитое позументами. Его спутник был в довольно коротком камзоле, стянутом кожаным поясом, и в маленькой пуховой шляпе. Он, очевидно, принадлежал к жителям слободы немецкой.
Солнце только что зашло, и в воздухе еще было много зною. Из высокой ржи, пестревшей васильками, путников то и дело обдавало душистым теплом. Кони поднимали целый столб пыли, которая заставляла старшего путника даже чихать, но юноша не обращал на нее никакого внимания. Он вытянул свои длинные большие ноги, обутые в высокие оборчатые сапоги, откинулся на мягкую подушку колымаги и, казалось, дремал.
– Заснул, что ли, государь? – обратился к нему на дурном русском языке его спутник, видимо, соскучившись долгим молчанием, длившимся почти с самого Преображенского.
– Нет, не заснул, а больно замаялся нынче, язык не ворочается.
– Ну, этому-то мы сейчас поможем – тут у меня есть, захватил с собою, пречудесная фляжечка. Глотни-ка, государь, усталость как рукой снимет.
– Давай, господин Лефорт, давай!
Лефорт вынул фляжку и, весело помаргивая своими бледно-серыми глазами, опушенными почти белыми ресницами, передал ее государю.
Петр Алексеевич с видимым удовольствием раз-другой приложился к фляжке.
– Славно! – сказал он, утирая губы. – Ну как тут не любить этот самый напиток? Вон матушка то и дело твердит, что в нем и грех, и блуд, и всякие ужасы, только нет… Ну чтоб я делал без этого напитка? На работе-то да в усталости вот выпил глоток – и совсем другим человеком стал, теперь хоть опять работай!
– Ничего, ничего нет дурного в вине, – повторил Лефорт, в свою очередь прикладываясь к фляжке. – Только меру нужно знать, – так ведь мы с тобой, государь, меру-то знаем: нас еще никто в непригожем виде не заставал.
– Да уж, конечно! – весело отвечал Петр, похлопывая по плечу Лефорта. Его усталости и дремоты как не бывало. Он поджал ноги, придвинулся на самый краешек сиденья и весело посматривал по сторонам дороги. – Дни-то какие, дни какие славные! – говорил он. – Нынче встал я до восхода солнечного, пошел на работы, смотреть, как подвигается мой кораблик, так просто чудо: прохлада, благоухание. Работа вдвое скорее идет – хоть бы побольше таких деньков постояло! Одна досада – отрываться от дела приходится, а теперь мне необходимо каждый день бывать на работах. Ну, да завтра, после крестного хода, как уж они там себе хотят, а я уеду. А ведь надо быть, матушка и теперь меня попреками встретит – обещался быть утром, а еду на ночь глядя. Что ж, пускай побранится – мне ведь ее брань все равно что ласка. Бранится, бранится, а сама глядит так-то ласково, не выдержит, целовать станет – вот страху-то и нет никакого. Я уж не раз ей говорил, что она совсем не умеет браниться. С детства меня набаловала, так пускай теперь на себя и пеняет!
– Добрая государыня, до всех ласковая, – проговорил Лефорт, – вот меня только не больно жалует. Так иной раз взглянет сурово, что не знаешь, куда деваться.
– Ничего, господин Лефорт, ты этого не принимай к сердцу, не обижайся. Сам знаешь – у нас до сих пор не очень-то иностранцев любят, да ничего, стерпится – слюбится.
– Я и не обижаюсь. Ну, а вот что ты мне скажи, государь, как ты доволен своими молодцами-потешниками? Посмотрел я нынче на них, скоро они всю солдатскую науку вытвердили, быстро обучаются. Теперь не в долгом времени нужно будет приступать к примерным сражениям.
– Об это я уже и сам подумываю, – сказал Петр, и глаза его заблестели. – Непременно нужно будет. Пора, наконец, нам иметь доброе войско, а то покудова только срам один, позор… Идут, ничего не зная, ступить не умеют. Встретился неприятель, да какой же – кочевники! Тоже люди неумелые, а наши сейчас же спину покажут да и драло! Позор, позор!.. Вот теперь этот поход крымский… Сердце кровью обливается – чай, у вас на западе как над нами смеются! Нет, нужно мне как следует обучить свое войско. Будет смеяться над матушкой Русью! Пора показать, что и мы тоже кое-что можем. Эх, время-то идет больно скоро, да силы мало в руках человеческих: когда-то удастся все сделать, что надобно. А сколько-то надобно! Куда ни взглянешь, за что ни возьмешься, все сызнова начинать нужно, все не годится старое. Иной раз после работы-то завалишься на боковую, заснуть хочется, а тут и то, и другое, и третье придет в голову. И то вот так бы устроить, другое беспременно начать надобно, ну и думаешь, и думаешь, ворочаешься с боку на бок. А как тут сделаешь, когда, почитай, что одному делать приходится? Спасибо вот тебе, Лефортушко, что учишь уму-разуму да помогаешь – на наших-то плохая надежда… Вот хоть бы князь Борис Голицын – человек большого разума – сам много учился, так мог бы видеть, где польза, а станешь говорить с ним – «Да к чему это? – отвечает. – Да ведь до сих пор же никогда этого у нас не бывало!» Просто тошно мне глядеть на него, как заслышу такие речи.
– Да… – протянул Лефорт, – трудненько тебе, государь, особливо коли государыня-правительница руки связывает.
– Не говори! – крикнул он. – Не говори! Терплю я, терплю, да недолго моего терпения хватит… Довольно! Я уж не ребенок. Скоро я покажу ей, что недаром венчали меня на царство. Много она намутила. А теперь этот поход голицынский – всю кровь во мне поднимает! Не хочу дольше терпеть поношения государству. Попировала сестрица, погрешила – довольно! Будет! Пора ей образумиться. Что там ни делай, а ведь не станет девка мужчиной! Не время теперь для бабьего царства – работы больно много, не ей справиться с этой работой!
– Вот это речи так речи! – сказал Лефорт. – Давно пора, государь, говорить так.
– Знаю, что пора.
– Что ж ты, государь, намерен делать?
– А там видно будет, заранее ничего сказать невозможно. Одно только знаю: покажу скоро сестре, что вышел я уже из пеленок… Да, вот что я хотел спросить у тебя: написал ли ты своему немцу о присылке мне новых инструментов? – вдруг заговорил Петр, очевидно, не желая продолжать прежний разговор.
– Как же, написал, государь, – отвечал Лефорт.
И долго они беседовали о разных предметах. Лефорт рассказывал, что и как делается в Западной Европе, какие корабли там строятся, как они плавают. Петр жадно его слушал, требовал подробностей, допытывался о таких вещах, которые ставили Лефорта в тупик. Он далеко не был всесторонне образован, но не хотел выказывать своего незнания перед молодым государем и поэтому иногда отвечал наобум, невпопад, а сам в то же время подумывал, что придется ему снова засесть за ученье, так как обманывать государя Петра Алексеевича день ото дня становится труднее.
Скоро ученик будет знать больше учителя, и тогда плохо дело! Конец обаянию, конец тому счастью, которое начинает ему так улыбаться в России.
«Да вот бы еще, – думал Лефорт, – заставить бы его решительно действовать с сестрою, а то ведь там не дремлют… Того и жди, какое ни на есть несчастье с ним случится – и тогда все пошло прахом!»
Он снова попробовал было заговорить о правительнице, но Петр решительно остановил его.
– Не говори, – сказал он, – мне и думать-то о ней теперь не хочется.
Лефорт замолчал, с грустью помышляя, что юноша только похорохорился, что он не готов к серьезной борьбе, что в решительную минуту он испугается, отступит, забудет свои благие намерения. Но Лефорт ошибался.
На следующий же день Петр доказал твердость своего решения и открыто бросил сестре перчатку.
По случаю праздника Казанской Божьей Матери в Кремле была торжественная служба и крестный ход.
По окончании обедни Петр подошел к правительнице, которая брала икону, чтобы принять участие в крестном ходе.
– Сестра, ты, кажется, хочешь идти? – сказал он.
Она вздрогнула от его голоса, который ей показался каким-то новым и странным.
– Да, конечно.
– Нет, не ходи, тебе не след идти – это вовсе не женское дело.
Она невольно попятилась.
Петр стоял во всем величии свой красоты и богатырского роста. Стоял с гордо откинутой головою, прямо и смело глядя на нее своими орлиными глазами.
До сих пор он ей представлялся ребенком, шалуном, мальчишкой, который только и думает, что о забавах, которого спаивают потешники да немцы, но теперь перед нею вовсе не мальчишка, теперь перед нею человек, уже сознающий свою силу, перед ней венчанный царь земли Русской… Ребенок вырос. И вот этот венчанный ребенок хочет и может доказать, что ему время приспело самодержавно царствовать: нянька не нужна больше.
Страшная злоба, смешанная с отчаянием, забушевала в груди Софьи. «Он ей запрещает… ей, которая до сих пор не ведала над собою ничьей власти… Неужели она поддастся? Неужели она дойдет до такого унижения, что станет исполнять его приказания?.. Нет… это еще посмотрим!.. Не слишком ли рано ты поднял голову!.. Обожди еще немного».
– Пропусти меня, – в свою очередь гордо и смело смотря на брата, сказала Софья. – Сама я знаю, что делаю и что мне нужно делать!
Она взяла икону и пошла с крестным ходом.
Петр, не говоря ни слова, вышел из собора и сейчас же уехал в Преображенское.
Многие видели сцену между братом и сестрою, и все без исключения, конечно, заметили, что молодой царь не принял участия в крестном ходе, что он скрылся.
Пошел говор, перешептывания, волнение.
– Орленок расправляет крылья!.. – донесся до слуха Софьи чей-то голос; на многих лицах она подметила радость.
Едва владея собою, едва держась на ногах, бледная как смерть, сопутствовала она крестному ходу.
VIII
Мрачный и взволнованный одиноко бродил по своим палатам князь Василий Васильевич Голицын. Его ожидание, его предчувствие начало сбываться. Теперь он знал, что пришел час его страшный, что еще несколько дней, может быть, и конец всему – погибнет и он, погибнет и царевна.
Сначала он опасался вражды бояр, он немного думал о Петре Алексеевиче; к тому же он надеялся, что у Петра есть ему надежный защитник – двоюродный брат, князь Борис Голицын. Но надежда эта оказалась тщетною.
Петр каждый день то тем, то другим давал знать о себе. Когда ему принесли подписать список наград Голицыну и его товарищам за последний Крымский поход, юный царь решительно объявил, что ни за что не подпишет этого списка, что не награждать стоит воеводу, а напротив, судить за его неразумные действия во время похода, за позор и стыд, учиненные этими действиями государству.
Положим, эта опасность миновала; Петра таки уговорили добрые люди: он подписал назначение наград. Но вот сегодня, когда Голицын со всеми генералами поехал к нему с благодарностью, он их не принял и даже так прямо велел сказать, что видеть их не хочет.
Князь Василий Васильевич едва доехал до дому и теперь не может в себя прийти от этой обиды, о которой, конечно, уже трубят по всей Москве.
И тем мучительнее отзывается поступок государя в сердце Голицына, что он сознает себя виноватым и униженным, сознает, что Петр прав, что поделом неразумному воеводе царская немилость. Будь у него сознание своей правоты, он бы не упал духом, но теперь тошно ему глядеть на свет Божий, и мечется он, как зверь в клетке, по этим самым палатам, где широко и привольно текла жизнь его, где зрели его лучшие планы, где свили себе гнездо счастье его любви, его слава.
Как он любил прежде эти палаты, с какой заботливостью украшал он их, помышляя о тех редких блаженных минутах, когда сюда неслышною стопою являлась красавица царевна! Противной, невыносимой, раздражающей кажется теперь Василию Васильевичу эта роскошь, которая его окружает. А роскошь великая… Один из иностранных посланников писал о доме Голицына как чуть ли не о самом великолепнейшем в Европе, что он думал, будто находится при дворе какого-нибудь итальянского государя.
Особенно хороша приемная палата, где обыкновенно Василий Васильевич беседовал с приезжавшими к нему боярами и иностранцами, которых он всегда поражал своею обходительностью, своими глубокими знаниями, где он разговаривал с ними на языке латинском обо всем, что происходило тогда важного в Европе. Палата эта обширна, какой, пожалуй, и нету во дворце кремлевском. Подволока в ней накатная, прикрытая холстами. В середине подволоки солнце с лучами, вызолоченное сусальным золотом. Вокруг солнца боги небесные с зодиями и с планетами, писанные живописью. От солнца на железных трех прутах паникадило белое костяное о пяти поясах, в поясе по восьми подсвечников, и цена тому паникадилу сто рублей.
По другую сторону солнца месяц в лучах посеребренных. Вокруг подволоки в двадцати клеймах резных, позолоченных, расписаны лики пророков и пророчиц. В четырех рамах резных листы немецкие; цена каждому листу по пяти рублей.
По всем стенам, кроме того, портреты великого князя Владимира Святого, царей Ивана Грозного, Федора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора, Ивана и Петра Алексеевичей, четыре портрета королей иностранных. Между портретами пять зеркал, одно в черепаховой раме.
Окон в той палате сорок шесть со стеклянными оконцами, и в них стекла расписаны хитрым узором и разными человеческими фигурами.
Хороша тоже и спальня Василия Васильевича: в ней развешаны в вызолоченных рамах разные карты и чертежи, вывезенные из-за границы, четыре зеркала, две большие статуи, изображающие арапов; дорогая кровать немецкая, из резного сквозного ореха вырезана, на ней личины человеческие, и птицы, и травы; девять стульев, обитых золотыми кожами, кресло с подножием, обитое бархатом.
По всем палатам множество часов боевых и столовых в черепаховых футлярах, оклеенных китовым усом да кожею красною. Особенно хороши одни часы бронзовые, тонкой художественной работы, изображающие немчина на коне, а в лошади циферблат со стрелками. Много всяких чудных шкатулок с бесчисленными выдвижными ящичками, чернильница янтарная, три немецкие фигуры ореховые; у них внутри трубки стеклянные, с медными мишенями; на мишенях вырезаны слова немецкие, а под трубками в стеклянных чашечках ртуть.
Но не одними этими хитрыми безделушками забавлял себя Василий Васильевич. Дорогою ценою приобретал он книги разные и составлял себе библиотеку. Были в этой библиотеке такие книги: книга писанная – вручение правила на Академию; книга писанная о гражданском житии, или о правлении всех дел, яже надлежат обще народу. Книга Тостамент или завет Василия, царя греческого, сыну его Льву Философу; книга, како царица Олунда близнят породи и како их свекровь и ее мать цесаревна хотя погубити. Книга письменная перевод от Вселенского патриарха Мелетия диакона; книга, глаголимая алкоран Махметов, переведенная с польского письма; книга рукописного права, или устав воинский Голландской земли, – и много всяких других, как русских, так немецких и латинских, трактующих о всевозможных, самых разнообразных предметах.
В часы досуга любил Василий Васильевич углубляться в эти книги, и, бывало, за чтением не видит, как идет время. Иногда он вместе с царевною читал и объяснял ей то, чего она не понимала, и дивился, что мало объяснять приходилось, дивился ее великим знаниям, ее необычайной понятливости и любознательности.
Куда теперь девалось это счастливое время? Разразится гроза, возрадуются недруги и друзья лицемерные, разнесут и растащат все эти с такой любовью собранные сокровища. Но Бог с ними, не в них дело – отнимут враги единственное сокровище, которому придает Василий Васильевич неисчислимую цену, без которого жизнь не в жизнь ему кажется, отнимут враги ту, которая красила своею любовью многотрудную жизнь его, и что они с ней сделают? Теперь не будет ей пощады!
И он стал думать о правительнице. Он вспоминал далекие годы, вспоминал ее еще почти ребенком, потом чудной, пышно расцветшей красавицей, вспоминал то волшебное мгновение, когда она отдала ему свое сердце. Господи, как это все далеко, как будто сон! Что воды утекло с тех пор! Тогда он еще был полон сил и смело глядел в будущее, а теперь расшатались его силы, вся побелела, заиндевела густая борода его, многие морщины глубокие на высоком челе вырезались… Изменилась и она, прекрасная царевна. Он только в эти последние дни хорошенько разглядел, как она измучилась, как она постарела. Но для него она так же прекрасна, как и в лучшие дни цветущей молодости. Так же горячо, так же страстно он ее любит – для любви этой бесследно оказалось время.
– Софья! Софья! – в отчаянии воскликнул Василий Васильевич, ломая себе руки. – Неужели нам предстоит вечная разлука? Неужели нет спасения?
В эту минуту дверь палаты тихо отворилась, и на пороге показалась правительница. Но теперь при ее появлении не загорелось солнце посреди подволоки, не засеребрились лучи месяца, не забегали, переливаясь веселыми красками, боги небесные с зодиями, как бывало в те минуты, когда она тихо, с веселой улыбкой входила в эту палату и еще издали протягивала Голицыну свои нежные, белые руки. Все мрачно теперь было в палате, еще мрачнее, чем до ее появления; тускло глядело солнце сусального золота, в какие-то грозные фигуры превратились зодии – и сама царевна не улыбалась, спеша навстречу сердечному другу Васеньке. Глаза ее были безжизненны, губы бледны, руки дрожали.
IX
– Радость моя! Свет мой! – с восторгом и мучением выговорил Голицын, кидаясь к Софье. – Не чаял я тебя ныне у себя видеть!..
Она подала ему руку, которую он нежно прижал к губам.
– Васенька, что ж это такое? Тебе новая обида! Как услышала, не знаю, что со мною сделалось, в голове помутилось. Сейчас к тебе я кинулась. Что же это, ведь это последние дни приходят!
– Да, видно, последние дни, – проговорил Голицын.
– Но боже мой! – сказала Софья, бессильно опускаясь в кресло. – Как подумаешь, кто осмеливался поднимать на тебя руку! Мальчишка, который ногтя-то твоего не стоит. Он… вместо того, чтобы оценить все труды твои… Нет, этого вынести невозможно!
– Зачем ты так говоришь, моя дорогая, – вдруг перебил ее Голицын. – Дело не во мне, а в тебе – за тебя мне страшно – сердце разрывается, как подумаю, что разлучат нас с тобою, – а сам-то я что ж… Ведь я заслужил царскую немилость. Нам с тобой нечего скрываться: стыд и позор на мою толову! Не сумел вернуться после славного похода – не за свое дело взялся – так моему государю и впрямь меня нечего жаловать!
– Молчи! Молчи! – как безумная закричала Софья. – В своем ли ты уме? Как смеешь ты клепать на себя?!.. Мы все у тебя в долгу… Вся Россия… Да и, наконец, сам знаешь, что дело не в том… Это он и не тебя совсем обидеть хочет, это он меня обижает… Они ищут моей погибели и хорошо знают, что каждая обида тебе – мне острый нож в сердце. Но довольно… Я все ждала, все надеялась, что как-нибудь образумятся… Нет, видно, они хотят нашей смерти и нам нужно спасаться!
– Спасаться… легко сказать, но что же делать? – безнадежно прошептал Василий Васильевич. – Затевать опять бунт, мятеж… Довольно и так было крови…
– Василий! – каким-то глухим и страшным голосом произнесла Софья. – Василий, ни слова больше – не время теперь проповедовать христианские добродетели! Как семь лет тому назад нельзя было обойтись без решительных мер, против которых ты и тогда восставал, так и теперь нужно забыть о человеколюбии. Нас не жалеют, нас измучили… нам грозит смерть, так тем же оружием и мы должны действовать против врагов наших… Последний раз я зову тебя с собою… мы уж не дети, ведь уж старость приближается – слава Богу, немало пожили на свете, – так не нам обольщаться грезами о милосердии и всепрощении!.. Нас не прощали, нас не прощают… нас не помилуют, если мы попадемся им в руки… так и нам нечего их миловать! Василий, не будь малодушен, я пришла требовать твоей помощи в последнем и страшном деле…
Он с изумлением глядел на нее. Он едва мог ее узнать, такое у нее было страшное лицо.
– На что ж ты решаешься? Чего ты хочешь? – спросил он.
– Чего я хочу?.. Конечно, одной только погибели врагов моих – погибели мачехи и брата. Еще раз Шакловитый все сделает, чтоб склонить стрельцов в мою пользу, но если и это не поможет, тогда останется одно… одно – отравить их…
– Что ты сказала?.. – в ужасе, хватая ее за руки и задыхаясь, говорил Голицын.
– Оставь меня, не безумствуй! – всё тем же глухим голосом перебила его Софья. – Да, сказала и повторяю… остается отравить их! А!.. Если б было только можно, они бы уже двадцать раз нас с тобой отравили!.. Так тут нечего задумываться – тут мы или они! А я жить хочу… Я хочу, чтоб и ты жил – мы еще не всю жизнь изжили, у нас есть еще впереди кое-что… Умирать не время! Слушай… У меня мало теперь друзей, мало помощников… Один Шакловитый не может изменить мне… Да ты. Ты должен помочь мне…
– Что?! – закричал Голицын. – Что?! Помочь тебе в таком деле! И ты решилась, и у тебя язык повернулся предлагать мне это! Мне страшно, мне стыдно за тебя… Боже мой! Но что ж это, ты больна, может быть? Ты сама не знаешь, что говоришь…
– Нет, я знаю, что говорю, я твердо решилась и не отступлю теперь…
Вся кровь бросилась в лицо Голицыну. Ему казалось, что какой-то громадный камень навалился на грудь его и давит, дохнуть не дает. Его мысли путались, он ничего сразу сообразить не мог. Софья ли это перед ним, она ли говорит это или у него горячка и он бредит?!
Он сидел, опустив голову, не говоря ни слова.
– Что ж ты молчишь?
– Постой, постой, дай собраться с мыслями, – наконец заговорил он. – Если для нашего спокойствия, для продолжения нашей счастливой жизни нужно преступление, значит, мы достойны нашей горькой участи. Да, мы ее достойны…
– Сумасшедший! – вскрикнула Софья и истерически захохотала.
Но он не слышал ее смеха, он ее не видел.
– Твое дело кончено, – продолжал он. – Ты управляла государством именем твоих братьев за их малолетством. Старший слабоумен, так и остался – за него ты управлять можешь, но младший вырос, созрел и требует от тебя законных прав своих… и ты должна ему уступить правление и дать отчет во всех своих действиях. Меня же, ближнего твоего помощника, государь тоже судить должен, и я дам ему отчет во всех делах моих – во всем, достигнутом мною, и в моих ошибках. Софья, судьба справедлива… Если поступки наши будут поставлены в вину нам, нам останется одно – смириться и найти утешение в молитве.
Софья с искаженным лицом остановилась перед Голицыным. Вот на губах ее мелькнула мучительная и в то же время злая и насмешливая улыбка.
– Трус, – проговорила она. – Трус негодный, вот ты кто!
– Может быть, и трус, – спокойно ответил Голицын. – Я не знаю! Сам себя никогда не считал трусом, другие тоже меня таковым не считали… Может быть, и трус, но на преступление, на тайное убийство я не годен.
– Так ты отказываешься спасти меня? В последний раз спрашиваю – отказываешься?
– Такими средствами? Отказываюсь.
– Боже мой! – заломила в отчаянии руки царевна. – Все до единого… никого не осталось!
И вдруг она упала на колени перед Голицыным, хватала его руки, целовала их, обливала слезами.
– Васенька! Нет, этого быть не может: ты меня не покинешь, ты меня не оставишь! Вспомни, голубчик, вспомни – ведь я всю жизнь одного тебя любила! Ты мне был дороже света небесного, жизни дороже! Как нет тебя со мной – сколько слез горьких я выплакала, сколько ночей бессонных промучилась! Да вот и теперь, в это последнее время, как в поход ты ушел – боже мой! – минуты не проходило, чтобы я о тебе не думала. Посмотри на меня, ведь у меня седина появилась от этих страшных мыслей, ведь глаза потухли от слез. Васенька! Сам ты говоришь, что нас хотят разлучить… Я жить без тебя не могу, свет мой! Голубчик, сжалься надо мною!
Его сердце разрывалось от жалости, он безумно любил Софью, но эта женщина, умоляющая его сделаться убийцей, была для него совсем чужою; он не знал ее, он не понимал ее.
– Откажись от своих страшных мыслей, молись Богу, чтоб Он простил тебе их. Забудем все, что ты говорила, забудем – не то я не вынесу…
С диким криком вскочила она с колен и отступила от него.
– Договаривай… Чего ты не выдержишь – донесешь на меня? Так, что ли? Так, или, холоп презренный, доноси и знай, что я тебя проклинаю! Что на одре смерти я не прощу тебя… Слышишь, проклинаю! Проклинаю!
И она, не помня себя, быстро ушла из палаты. Голицын даже не встал, чтоб догнать ее, – он не был в силах пошевелиться.
X
Выйдя из дома Голицына, Софья была как безумная, даже мысль о самоубийстве пришла ей в голову, но она оставалась недолго. Чувство самосохранения и страшная ненависть к мачехе и Петру снова всецело поглотили ее.
Возвратившись в Кремль и прийдя несколько в себя, она приказала немедленно призвать к себе Шакловитого и долго с ним совещалась. Она решилась добиться своего во что бы то ни стало.
Он посоветовал ей еще раз самой поговорить со стрельцами, и было решено действовать в тот же день, не откладывая.
Шакловитый приказал собраться сотникам и пятидесятникам – провожать правительницу ко всенощной, к празднику, в Новодевичий монастырь.
По окончании службы, выйдя из церкви, Софья обратилась к своим провожатым и начала им жаловаться, что Наталья Кирилловна всячески извести ее хочет, а Петр будто бы уже приказал своим потешным собираться и поведет их в Кремль умертвить ее, царевну, и царя Ивана.
– Если мы вам годны, – сказала в заключение Софья, – так стойте за нас и помогите нам, а не годны – то мы должны покинуть государство, должны бежать, спасать живот свой…
Она говорила убедительно. Слезы так и лились из глаз ее.
Некоторые из стрельцов были растроганы и ответили ей, что готовы исполнить ее волю.
– Спасибо вам, – заливаясь слезами, сказала Софья. – На вас только одна и надежда. Вы всегда были верными слугами и сами знаете, забывала ли я вашу службу, а впредь дожидайте от меня еще больших милостей: я в долгу не останусь. Теперь ждите повестки, извещу я вас через Шакловитого, тогда и начинайте. А теперь пойдите, расскажите все стрельцам своим, пусть они знают, пусть готовятся…
Сотники и пятидесятники вернулись в слободы, собрали полки и слово в слово передали стрельцам все, что говорила им царевна.
Несколько голосов закричало, что точно, царевну нужно выручить, но большинство объявили:
– Не станем начинать дело по набату. Коли и впрямь грозит беда кому-либо из семьи царской, так пусть дело идет по закону, пусть дьяк думный скажет указ царский, то мы и пойдем, а без указа делать нам не годится, и мы не станем! Пускай хоть три дня бьют в набат – не тронемся, а коли все это доподлинно так, то надобно идти в Кремль и бить челом о розыске.
Тогда один из приверженцев Шакловитого, Стрижов, начал уговаривать, толковал, что ничего не выйдет из розыска.
– Чего вы еще медлить будете? Злодеи-то царевны ведь известны, так и принять их, а то не защитите царевну, схватят ее, всякое зло над ней сделают, тогда вам же хуже будет, без царевны не проживете – только ею мы и держимся. Царь-то Петр не больно нас, стрельцов, жалует. Напустит он на нас свое войско потешное да бояр с их людьми, так все мы помрем лютой смертью – об этом подумайте!
Но стрельцы не поддавались и на эти речи. Они стояли на своем, и поздно ночью Шакловитый явился к Софье с известием о полной неудаче.
Этого мало, в числе стрельцов нашлись люди, решившиеся немедленно отправиться в Преображенское и донести царю Петру обо всем, что творится. Петр сейчас же послал к Шакловитому с требованием отправить в Преображенское Стрижова.
Шакловитый смутился. Он понял, что между стрельцами есть доносчики, но Стрижова решился не выдавать. Тогда Петр приказал арестовать самого Шакловитого. Его окружили в Измайлове, куда он поехал, и привели к царю.
Софья, узнав об этом происшествии, пришла в неописанный ужас. Она написала брату чрезвычайно ловкое и красноречивое письмо, в котором спрашивала, за что схвачен Шакловитый, и просила его выпустить.
Шакловитого выпустили.
Царица Наталья Кирилловна, все еще имевшая большое влияние на сына, не решалась действовать энергически. Ей до сих пор памятен был роковой восемьдесят второй год, она до сих пор дрожала при виде каждого стрельца. Ей представлялась возможность нового стрелецкого возмущения, новых ужасов и убийств очень легкой.
Так прошло еще несколько дней. Между тем и в Кремле, и в Преображенском начали находить подметные письма.
Боярыня Хитрая как-то, уже ночью, разбудила Софью, показала ей лист бумаги.
– Прочти, прочти, царевна, что тут такое, – говорила она испуганно.
Софья принялась читать. В письме извещали царевну, что на следующую ночь придут потешные конюхи из Преображенского и побьют царя Ивана Алексеевича и всех его сестер.
– Откуда же ты это достала, Анна Петровна? – спросила Софья.
– А вот, государыня, стояла я у себя на молитве, вдруг слышу, как будто дверь скрипит. А дверь-то у меня на ту пору не заперта была, ну, я думаю, показалось мне это, и молюсь себе – ан слышу, нет – скрипит дверь, отворилась тихонько, да бумажка-то и просунулась. Я вскочила, схватила бумажку, отперла дверь: кто тут? – говорю, никто не откликается, а в переходе темно, страшно – зги не видно. Ну, зажгла я лампадочку, вышла – никого и нету! Прочла цидулу-то да так и ахнула… Вот к тебе прибежала.
Конечно, царевна не могла уже заснуть и рано наутро послала за Шакловитым. Ей и в голову не приходило, что весь рассказ Хитрой – чистая выдумка, что и письмо-то это подметное, безымянное писала сама старая боярыня, чтоб напустить на всех страху, чтоб всех помучить, а самой полюбоваться на людские мучения.
Шакловитый, узнав в чем дело, тотчас же стал распоряжаться.
К вечеру он велел собраться в Кремле четыремстам стрельцам с заряженными ружьями, а тремстам другим велел стать на Лубянке. Трех своих денщиков послал в Преображенское выведывать, куда отправится царь и что станет делать.
Но вот приходит вечер: стрельцы в Кремль не являются; на Лубянке тоже тихо – тщетно сторонники Софьи, Гладкий и Чермный, уговаривают стрельцов. Только уже к самой ночи у Кремля показывается несколько отрядов, но стрельцы имеют самый унылый вид. Они никак в толк не могут взять, чего от них требуют.
– Защищать, что ли, мы будем али нападать должны? – толкуют они. – Коли защищать – выйдет усобица, драка, кровь… Нападать – опять то же, так нам не след в такое дело впутываться. Пождем маленько, постоим здесь да и по домам.
В это время в Кремлевские ворота въезжает всадник. Стрельцы останавливают его, спрашивают, кто такой. Оказывается, спальник царя Петра, Плещеев, из Преображенского. Царь послал узнать, что такое в Москве деется: «Пришли-де в Преображенское из Москвы люди неведомые, говорят, стрельцы собираются».
– Ну вот, вишь ты, какое дело! – перешептываются друг с другом стрельцы. – Того и жди тут в бунтовщики нас запишут да и головы нам порубят. Идем-ка, братцы, по домам, так-то ладнее будет.
Но Гладкий, который еще утром объявил Шакловитому, что не успокоится, покуда не заварит настоящую кашу, в это время бросается на Плещеева, стаскивает его с лошади, срывает с него саблю, бьет его.
– Что ты? Что ты, опомнись, что ты делаешь?! – кричат стрельцы, вырывая Плещеева из рук расходившегося Гладкого.
Но тот кричит на них:
– Не вступайтесь не в свое дело – видно, знаю, что делаю! Должен я вести его сейчас же наверх к Шакловитому да к царевне: пусть они решат, ладно ли я делаю али нет. Коли нет, так перед ними и буду в ответе, а вы не мешайте, а вот лучше помогите мне вести его!
Стрельцы в недоумении. Двое из них с нерешительным видом исполняют приказание Гладкого. Плещеев, избитый, ошеломленный, ничего не понимающий, видит, что борьба невозможна, и позволяет вести себя.
Между тем один из стрельцов, Мельнов, видевший безобразную сцену с Плещеевым, выбежал из Кремля и спешил на Лубянку, где стояли стрельцы, по большей части преданные Петру.
– Вот на что нас подмывает Шакловитый, – говорил Мельнов. – Сами видите, кто бунтовщик и за кого нам стоять нужно.
– Да, да, дело ясное, – подхватили Елизарьев, Ладогин, Ульфов, Турка, Троицкий и Капранов, которые особенно уговаривали в последние дни стрельцов не поддаваться на увещания царевны и Шакловитого и тянуться к молодому государю.
Все эти стрельцы были люди молодые, еще не находившиеся в войске во время бунта восемьдесят второго года; у них не было, следовательно, страшных преданий, связывавших их с правительством Софьи. Напротив, люди отважные и смелые, не чуждые также и честолюбивых планов, они давно уже с завистью посматривали на потешное Петрово войско. Они завидовали жизни потешников, любви к ним молодого государя. Им давно бы уж хотелось из стрельцов обратиться в потешных, но царь далек от стрельцов, не любит их. А вот тут является возможность сослужить этому царю большую службу, которой он, конечно, не забудет, за которую он наградит щедро.
– Да, дело-то уж не шутка, – заговорил опять Елизарьев, – избили царского стольника, до самого царя добираются. Ведомо ли вам, что Шакловитый послал в Преображенское лазутчиков, да и знаю я одного человека, которого он подговаривал извести государя. Мешкать-то нечего, нужно сейчас же кому-нибудь из нас гнать в Преображенское известить царя, что на него да на царицу умышляется смертное убийство.
– Да уж коли на то пошло, вестимо, нужно в Преображенское! – заговорили между стрельцами.
Мельнов и Ладогин вызвались ехать, сейчас же вскочили на коней и помчались в Преображенское.
XI
Все было тихо в Преображенском. В небольшом, далеко не роскошном доме, который именовался дворцом и где так часто и подолгу живал теперь Петр Алексеевич с матерью и молодой женою, все спали. Богатырский храп раздавался и кругом дворца из деревянных, на скорую руку построенных бараков, вмещавших в себя потешное воинство.
Только незначительные патрули обходили время от времени царское жилище. Но не замечали эти патрули, что у перелеска, в частых кустах, доходящих до самого села и откуда как на ладони виден был дворец, засели какие-то люди. Люди эти были лазутчики Шакловитого. Им поручено было неустанно следить за каждым шагом царя, а наутро один из них должен был пробраться во дворец, переговорить с кумом своим. Этот кум принадлежал к царской дворне, и с помощью царевниных денег его можно было уговорить привести в исполнение страшный замысел – погубить царя и царицу тем или другим способом.
Лазутчики не спят, зорко поглядывают, хотя и плохо видно – ночь уже не июньская, на дворе август. Луны не видно, а звезды в глубине небесной без конца высыпали и горят, переливаются. Но не нарушают они своим трепетным и далеким светом мглы и темноты, в которые закутаны и лес, и село, и царские строения. Горят и переливаются звезды, и вдруг которая-нибудь из них сорвется с тверди небесной и, мелькнув серебряной нитью по небу, вмиг рассыплется и неведомо где исчезнет.
Только одно и развлечение лазутчикам – эти падающие звезды. Ночи впереди еще много, да и ночь-то холодновата, с ближнего болота туман стелется, сырость проникает, а согреться нечем: впопыхах забыли водку.
Но что это? По безмолвной и темной дороге от Москвы слышится конский топот. Лазутчики встрепенулись. Кто бы это мог быть?! Топот ближе и ближе. Почти мимо самых кустов к селу промчались два всадника. Вот они уже у ворот дворца, переговариваются с патрулем… Их впустили. Опять все тихо.
Крепко спит с молодой женою Евдокией Федоровной царь Петр Алексеевич. Душно в его опочивальне. Сбросил он с себя штофное одеяло, разметались по белым подушкам его кудри шелковые, глубоко дышит грудь молоденькая. Истомился, день-деньской работаючи, Петр Алексеевич; поздно домой возвратился, едва перекусил, выпил маленькую чарочку, подошел под благословение царицы-матушки да и завалился спать в опочивальне. И так уж спать хотелось, что почти не слышал он, не видел свою молодую царицу, Евдокию Федоровну. А Евдокия Федоровна говорила ему речи нежные, а потом осердилась не на шутку, что он на эти речи внимания не обращает, начала жалобы: «Вот, мол, жизнь моя несчастная, целый-то Божий день тебя не видно, а и вернешься на ночь глядя, так слова ласкового не скажешь, спать завалишься… Горькая я несчастная!»
И заплакала царица, думая хоть слезами разжалобить молодого мужа. Но Петр Алексеевич уже спал крепко – не проняли его женины слезы.
Медленно, минута за минутой, крадется ночное время. Только вдруг тишина ночи нарушена каким-то движением. Вот слышно: ворота отпираются, слышны голоса людские, и все громче и громче эти голоса. Уже вблизи опочивальни раздаются шаги, отпираются двери, стучат, ходят, переговариваются.
Проснулась, приподнялась с подушек молодая царица. Глядит в темноту ночную, со страхом слушает.
– Что бы такое, господи, значило?
Будит мужа. Но крепок сон царский. Вот стучат в двери, слышно: «Отоприте!» Боже мой!.. Наконец Петр проснулся, вскочил с кровати, отпер двери, а перед ним царица-мать, за нею князь Борис Голицын со свечою в руках, а там и другие домочадцы и близкие люди. У всех испуганные лица, все кое-как накинули на плечи платье – видно, сейчас с постелей повскакали, стоя, тут же у царской опочивальни, одеваются.
– Что такое, что?
И слышится Петру: «Два стрельца приехали с Москвы, спасаться нужно… На тебя, государя, да на царицу смертное убийство умышляется!»
Петр вздрогнул. Но еще после сна крепкого прийти в себя не может, не знает, послышались ли ему слова эти страшные или взаправду кто сказал их. А между тем вот уже явственно раздается голос Голицына:
– Шакловитый, известно по чьему наущению, в эту же ночь Преображенское поджечь задумал, а в переполохе и хотят учинить злодейство…
Петр очнулся.
– Бежать, бежать не медля! Нет, не дамся! – Он схватился за голову. – Ведь вот тут в дом уже, может, забрались убийцы, может, поджидают… Теперь умереть! Матушка, жена! – крикнул он. – Одевайтесь все скорее! Войско… Пушки… Все к Троице, а я вперед! Я должен спастись… Иначе все погибло! За мною все!
И он, себя не помня, как был в одной рубашке, выбежал из опочивальни, пробежал все дворцовые покои, на двор, на конюшню. Схватил первого неоседланного коня, вскочил на него и помчался из Преображенского.
Ночь начинала белеть. Сквозь мглу уже обозначились предметы. Лазутчики еще издали завидели человека на коне, в белой рубашке.
– Это кто же? Что за чудеса такие? Наверно, кого-нибудь схватили, вырвался кто-нибудь… Удирает! А ведь гляди-ка, гляди-ка, братцы, ей-богу, как есть раздет совсем, в одной рубашке, что за притча такая?
Вот всадник ближе, мчится что есть духу.
– Царь! Он, как есть он! – шепчут лазутчики. – Вся стать его!
Всадник в двух шагах от них. Они его окончательно узнали, сомнения быть не может.
– Ну так что же, чего же лучше… Взводи курок! Пали!
Один из лазутчиков уже приготовился, было, выставил ружье, но другой сильно схватил его за руку.
– Стой! На царя-то?! Да и кто это тебе приказывал, чтобы стрелять?!
Но все равно злодейство вряд ли могло совершиться – всадник был далеко. Лазутчики снова притаились и ждали. Через несколько минут показались еще несколько всадников. Они спешат за первым – к лесу.
– Вестимо, в лес, – говорит один из них, – куда же иначе? В одной-то рубахе! Сейчас завернем в просеку и окликнем… Ночь холодная, одеть его нужно скорей!
Прошло с четверть часа – и все Преображенское в движении.
Мимо кустов катится карета с царицами, за каретой всякие экипажи, верховые люди, пушки, целые колонны потешных, которые обгоняют друт друга, спешат, забыв регулярный марш свой. Скоро совсем опустело Преображенское.
«Иди теперь – жги его!»
Лазутчики обождали немного и бегом пустились в Москву донести Шакловитому о таких чудных действах.
XII
Часам к шести утра, совершенно изнемогая от усталости и волнения, прискакал Петр в Троицкую лавру в сопровождении постельничего Головкина, Мельнова и своего карлы.
Едва войдя в монастырское помещение, где постоянно останавливался, он бросился на постель и вдруг зарыдал.
Прибежавший к нему архимандрит лавры, Викентий, долго не мог добиться от него ни слова. Наконец рыдания царя стихли, он заговорил, но речь его прерывалась неудержимыми слезами.
– Меня и всех моих извести сестра хочет, – говорил Петр, – нигде нет от нее защиты. Велела своим разбойникам-стрельцам поджечь Преображенское, едва выскочил… Укрой меня, отче, спаси!
Архимандрит стал его успокаивать:
– Укроем, государь, здесь никто до тебя не доберется. Добрую мысль Господь вложил в тебя – поспешить в нашу святую обитель. Под покровом Сергия Преподобного, великого чудотворца и молитвенника за землю Русскую, тебе нечего бояться… Не раз притекавшие сюда находили оплот твердый у Божьего угодника. Сам, государь, не хуже моего ведаешь, как обитель сия Русскую землю спасала, как враг приходил разорять ее и стоял у стен сих в неисчислимом, аки песок морской, множестве… и все же ни силою человеческою, ни силою дьявольскую не мог в нее внити, не мог предать храмы святые на разорение, мощи честные на поругание! И ныне, как и древле, встанет на защиту твою святой угодник Божий, и не одолеют тебя под его защитою враги твои! Будь же спокоен, государь, уйми свои слезы, да потолкуем лучше, как и что делать.
Спокойная речь архимандрита, исполненная глубокой веры, славное прошлое Троицкой лавры, этой неприступной твердыни великого защитника земли Русской, Сергия, успокоили Петра. Его слезы остановились, временная слабость и сознание своей беззащитности исчезли. Он даже устыдился этой слабости, в глазах его снова блеснула смелая воля, и он уже не как испуганный ребенок, а как твердый, разумный муж начал толковать с архимандритом.
Он решил дождаться своих и немедленно послать к Софье требование, чтобы она выдала ему головою Шакловитого. Если она откажется – кликнуть клич по земле Русской, сзывать людей ратных и силою взять незаконно отнимаемое у него родительское наследие – Русскую землю, о которой он ежечасно помышляет, которой отдает всю жизнь свою, от которой не отступится ни за что в мире.
Через несколько часов в лавру уже въезжали царица Наталья Кирилловна с дочерью и невесткой, все приближенные Петра – потешные, а затем и из Москвы многие бояре, преданные царю, и стрельцы Сухарева полка.
Петру то и дело докладывали о прибывавших, и он все больше и больше оживлялся. Знать, не покинули его русские люди!
После вечерень у молодого царя собрался совет, в котором главное участие принимал князь Борис Голицын. Призвали также Мельнова и Ладогина, которые подробно объявили обо всех поступках Шакловитого. Они сказали также, что между стрельцами большинство на стороне царя и в числе его приверженцев также полковник Циклер.
– Циклер! – изумленно воскликнул Петр. – Я никогда не забывал этого имени… Я всегда считал его врагом своим. Я помню, хорошо помню его тогда, на Красной площади! – Он невольно вздрогнул при этом воспоминании. – Но если он одумался, если он остался мне верен теперь, то, конечно, я все забуду…
Мельнов объяснил, что Циклер человек, действительно пользующийся большим влиянием между стрельцами, к тому же он все знает про замыслы Шакловитого и много нужного царю открыть может.
– А коли так, призову его сюда, пусть он мне служит, – сказал Петр.
На совещании решено было послать в Москву гонца и покуда требовать только разъяснения, по какому поводу был в Кремле и на Лубянке сбор стрельцов, а также присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами.
Вот уж и вечер. Бояре разошлись, князь Голицын отправился приготовлять на всякий случай монастырь к обороне.
Царица Наталья Кирилловна с молодою царевной Евдокией Федоровной вернулись от всенощной. На них лица нету, кажется, все слезы выплакали.
Старая царица уже не та, какою была в прежние годы. Нестарая по счету лет своей жизни, от вечных мучений, тревог и страшных воспоминаний, постоянно ее преследовавших, она глядит дряхлой старухой. Куда девалась вся чудная красота ее, которою, бывало, так любовался, от которой глаз не мог отвести покойный царь Алексей Михайлович. Совсем побелели ее густые русые волосы, все лицо в морщинах, под глазами крути темные, веки красны от слез: эти слезы всю жизнь не высыхали… Теперь уж нечего ждать от нее энергии – она вся надломлена, она может только плакать и молиться. И вот то и дело уговаривает она невестку не убиваться, успокоиться, подумать о младенце, которого она носит во чреве своем, но тут же сама и зальется слезами, и, глядя на нее, плачет, рыдает и Евдокия Федоровна.
Не знает царица Наталья Кирилловна, как и пережила она страшную ночь эту. Уж и то последние дни минуты спокойной не было – то тот придет, то другой придет, ужасы рассказывают, пугают; одна боярыня Хитрая чего ни насказала – страсть! Письма подметные стали находить в Преображенском… А тут только что, после долгой молитвы, заснула она, вдруг ломятся в двери, кричат: «Спасайтесь, спасайте государя!»
Не помня себя, вскочила царица – едва постельница на нее душегрею накинула, – бежит к сыну, а у самой ноги подкашиваются, думает: «Жив ли уж? Не убили ли?» Нет, жив, слава Богу! Да вот как выбежал он раздетый да ускакал от них, так совсем света не взвидела царица, мысли спутались. Говорят ей, она слышит, но не понимает, сама бормочет неведомо что. Да и тут, в святой обители, тут, конечно, меньше опасности, только враги-то лютые хитры, того и гляди заберутся… Не отошла бы вот от сына, так бы ежеминутно и прикрывала его своей материнской грудью. Да что с ним поделаешь? Заперся он с князем Борисом Голицыным, ни матери, ни жены к себе не пускает.
И точно, на ключ замкнул двери Петр Алексеевич, совещается с Голицыным.
– Нет, теперь довольно! Будет трусить. Как попомню о своей трусости, – говорит царь, – так стыдно глядеть на свет Божий! Пора – я не ребенок… Хотели от меня отделаться, так заранее бы изводили, а теперь даром не дамся! Не отпустит Шакловитого – сам на Москву пойду со своими потешными, посмотрю, как народ встретит царя своего… Красно умеет говорить Софья народу, авось и я в карман за словом не полезу – а дело мое правое!.. Если завтра к полудню не будет Шакловитого, сейчас же в Москву иду!
– Не торопись, государь, – стал его уговаривать Голицын, – обождать нужно. У нас теперь еще мало силы, мало войска, пожди, подойдут. Да вот еще брата Василия следовало бы сюда выписать.
– Василия! Ее пособника, ее друга!.. Опомнись, князь! – воскликнул Петр, и глаза его вспыхнули гневом. – Василия мне не надо, обойдусь и без него.
– Нет, он тебе нужен, очень нужен, – тихо и спокойно ответил Голицын, – не потому говорю, что он мне брат двоюродный, да и тебе, государь, не след на него сердце иметь, что ж, что он ее пособник…
– А Крымский поход? – перебил Петр. – Я этого позора Голицыну никогда не забуду.
– Да, большая ошибка… – в раздумье продолжал князь Борис, – большая ошибка… Но ведь брат и сам очень хорошо ее понимает. Намедни говорил со мною, побледнел весь, на глазах слезы… Что ж, государь, кому в жизни не приводилось ошибаться? Очень-то строго не суди. А брата Василия непременно нам нужно. Врагом тебе он никогда не был, ни в каких против тебя замыслах не участвовал, а человек он разума великого.
Петр, привыкший глядеть с уважением на князя Бориса, замолчал, начал его внимательно слушать. Кончилось тем, что он уполномочил его звать Василия Васильевича к Троице, обещал, что примет его отлично и зла на него никакого держать не будет.
Князь Борис тотчас же распорядился, написал длинное послание брату и отправил к нему с этим посланием ловкого подьячего.
Но прошел день: Шакловитого не выдают, Василий Васильевич не едет.
XIII
Москва в волнении. По всему городу молва разносится, что началась великая усобица между братом и сестрою. Опять, как и семь лет тому назад, собирается народ московский, толкуют… Но мало голосов слышится в пользу Софьи: народ стоит за справедливость, за законность.
Правила царевна государством, пока царь не вырос, теперь он вон какой, головой выше всех бояр стал, так ему и быть настоящим царем, а царевнино дело кончено.
В Кремле, на Верху, полное уныние. Царевна приказала запереть наглухо все кремлевские ворота и пропускать только самых близких к ней лиц. Сначала она старалась казаться спокойной. Узнав от Шакловитого об отъезде царя к Троице, она вышла к стрельцам и объявила им, что если б они не остерегались, то всех бы их передавили потешные конюхи. Шакловитый тоже бахвалился и кричал: «Вольно же ему взбесяся бегать!» Но это было при народе, а у себя в покоях царевна с Шакловитым не скрывались друг перед другом: оба они хорошо видели, что дело принимает очень опасный для них оборот.
Вот прибыли от Троицы Петровы посланцы с запросом царю Ивану и Софье: за каким делом были стрельцы собраны ночью?
Царевна велела сказать брату, что она собралась в монастырь на богомолье и стрельцы должны были провожать ее. Относительно присылки Циклера с пятьюдесятью стрельцами долго она не могла решиться, но Шакловитый присоветовал ей согласиться на это требование. Хоть ему и доносили уже о том, что Циклер не его сторону держит, но он еще не верил этим доносам да и решил, что пятьдесят стрельцов не бог весть какая сила, послать их можно.
Циклеру разрешено было отправиться, и он поехал к Троице. Ему сопутствовали Елизарьев и Турка с товарищами.
Появляется требование о выдаче Шакловитого, и тон этого требования ясно показывает Софье, что теперь с братом легко не справиться, что он начал борьбу не на шутку.
О выдаче единственного безгранично преданного ей человека и речи быть не может – но что же делать? От всех этих тревог разум мутится; нужно посоветоваться с Василием Васильевичем… И забыв свою ссору, забыв проклятия, в безумную минуту призванные ею на голову любимого человека, она шлет за Голицыным. Голицын не появляется. Целый день проходит – его нету.
Узнав обо всем происшедшем, Василий Васильевич написал брату Борису письмо, в котором просил его не допускать дело до кровопролития, просил примирить обе стороны.
В ответ на письмо он получил уже известное нам предложение брата ехать к государю в Троицкую лавру. Подьячий, присланный князем Борисом, пустил в ход все свое красноречие, уверяя, что со стороны Петра его ожидают всякие милости.
Голицын слабо и печально усмехнулся на слова эти. Все эти последние дни, после ужасного свидания с царевной, Василий Васильевич не выходил из дому. Много он думал и передумывал, постарел весь и сгорбился от бессонных ночей и никому не ведомых тайных страданий. Он мог примириться с кознями врагов своих, мог примириться с печальной участью, его ожидавшей в случае падения Софьи, но с тем ударом, который нанесла она ему, он не был в силах справиться. Однако измученный и оскорбленный ею, хоронящий свою любовь и счастье, он ни на минуту не допустил возможности идти к врагам Софьи.
– Не пойду я к Троице, – ответил он подьячему, – так скажи и брату и государю. Не пойду – я никаких не жду милостей, а на суд позовут – явлюсь, и пусть меня судят.
Так подьячий ничего и не добился.
Князь Василий Васильевич в тот же день вечером выехал в одну из своих подмосковных.
Он не мог идти в Кремль, не мог видеть Софью. Он решил, что никогда больше не увидится с нею – она умерла для него.
Царевна ушам своим не поверила, когда ей доложили, что Голицын уехал из Москвы.
Она заперлась от всех в своей опочивальне, кинулась на постель и неудержимо рыдала. Она поняла, что такое сделала, она хорошо знала характер своего друга. Теперь он не вернется; он не пойдет к врагам, но не придет и к ней.
И она хотела бежать к нему, найти его где бы то ни было, на коленях умолять его простить ее, забыть слова ее безумные.
Но ей невозможно было теперь из Москвы выехать – она должна была бороться с братом. Шакловитый понуждал ее к решительным действиям, и она с ним соглашалась. Она исполняла его требования, но как-то машинально. В ней не было уже прежней энергии, она с каждым днем ослабевала.
Она решила отправить к Петру боярина князя Троекурова. Он возвратился и привез Софье ответ царя, что тот с нею ни в какие переговоры и вступать не хочет. В то же время она узнала, что Петр прислал в солдатские и стрелецкие полки грамоту, в которой требовал, чтобы начальные люди и по десяти человек рядовых из каждого полка немедленно отправились к Троице.
Софья призвала к себе этих начальных людей и вышла к ним такою грозною, какой они никогда еще ее не видели.
– Вы сбираетесь к Троице?! – сказала она. – Забудьте и думать об этом! Оставайтесь здесь все до единого!
– Да как же, государыня, – ведь царь нас требует. Можем ли мы противиться его воле? – возразили начальные люди.
– Давно ли вы брата больше меня слушаете? Я правительница, и я вам приказываю оставаться. Слышите?! Злые люди ссорят меня с братом, но не ваше дело вмешиваться в нашу ссору.
Стрельцы стояли в недоумении и опять повторяли о том, что царского приказу как же им ослушаться.
– Так знайте, – крикнула Софья, – если кто-нибудь из вас пойдет к Троице, немедленно же будет пойман и казнен! Коли голов своих жалеете – оставайтесь, а я от слов своих не отступлюсь.
Она величественно вышла, но тут же упала в первое попавшееся кресло и, закрыв лицо руками, горько зарыдала.
Шакловитый успокоил стрельцов, что к царю будет послано с объяснениями.
И действительно, туда тотчас же отправился дядька царя Ивана, князь Прозоровский вместе с духовником Петра. Им приказано было извиниться перед царем, что никак нельзя было исполнить его требование и прислать к нему войско.
Кроме этого, Прозоровский и духовник должны были всячески постараться примирить сестру с братом. Между стрельцами Шакловитый распускал слух, что царская грамота была прислана без ведома Петра Алексеевича князем Борисом Голицыным.
Прошло два дня; Прозоровский и духовник вернулись, ничего не добившись. Царь стоит на своем, слышать о сестре не хочет и только требует, чтобы его приказание было исполнено.
Оставалось последнее средство: упросили патриарха ехать к Троице.
Престарелый Иоаким не стал отговариваться. Он был рад вырваться от врагов своих и, ничего не сделав для примирения враждовавших, остался у Троицы.
Прошло опять несколько дней. Все было тихо, молодой царь, очевидно, еще слишком робко пробовал свои силы, еще боролся сам с собою. Но вот 27 августа появилась новая царская грамота от Троицы: опять требование по всем полкам, чтобы немедленно явились к царю, а не то пусть ожидают смертной казни.
Стрельцы не хотели больше ничего слушать и целыми толпами двинулись в лавру.
Царь в сопровождении матери своей и патриарха вышел к ним навстречу и сейчас же объявил им об умысле Шакловитого на жизнь его и Натальи Кирилловны.
Дьяк стал читать выписку из речей расспросных и изветов стрелецких. Патриарх увещевал стрельцов, чтоб они объявили всю правду, а в случае если утаят что, то грозил лишить их своего пастырского благословения.
Стрельцы смешались и завопили:
– Мы великим государям служим и работаем, как служили и работали их предкам, всегда и неизменно готовы исполнять государскую волю, готовы ловить воров и изменников! А что говоришь нам, великий государь, про Федьку Шакловитого, то того Федькина злого умысла и измены мы не знаем!
Однако некоторые из стрельцов кое-что знали и подробно рассказали обо всем государю.
– Теперь вы сами видите, – обратился Петр к Голицыну, к патриарху и всем окружавшим его. – Сами видите, можно ли мне покончить это дело, можно ли мне примириться с сестрою? Не останавливайте же меня, я не успокоюсь, пока жив Шакловитый.
Все заметили перемену, внезапно происшедшую с Петром. Глаза его загорелись таким гневом, на который он, казалось, до сих пор не был способен. Грозная нота прозвучала в его голосе…
Положение Софьи было безнадежно. Она решилась сама ехать к Троице, но на дороге встретил ее стольник Бутурлин и объявил ей от имени Петра, чтоб она в монастырь не ходила.
– Это что значит? Отчего не идти мне в монастырь? Пойду непременно! – гордо ответила Софья.
Но вслед за Бутурлиным является Троекуров и объявляет, что если она пойдет в монастырь, то «с нею будет поступлено нечестно».
Она вернулась и тотчас же велела позвать к себе стрельцов, старых стрельцов еще восемьдесят второго года, которые одни оставались ей верными.
Она вышла к ним вся в слезах, с измученным, жалким видом. Она собрала весь остаток сил своих, решилась испробовать последнее средство и, если оно не поможет, отдаться своей участи.
Последняя страшная обида, отчаяние, ненависть, тоска, которые давили ее, все это придавало особенное выражение, особенную страстность ее голосу.
Она говорила увлекательно; стрельцы ее слушали, видимо, растроганные.
– Дети, – говорила Софья, – пошла я к Троице, и вот в Воздвиженском меня чуть не застрелили: едва я ушла оттуда. Страшные дела у нас творятся. Нарышкины с Лопухиными хотят извести царя Ивана, до меня добираются. Скажите же мне – могу ли я на вас положиться? Надобны ли мы вам? Отвечайте немедля, отвечайте сущую правду: коли мы не надобны, то пойдем с братом Иваном где-нибудь себе кельи искать. Думала я – образумится брат младший, окончит эту распрю со мною, да нет – Борис Голицын и Лев Нарышкин его совсем с ума споили, на меня натравляют. А старшего царя ни во что не ставят, комнату его дровами завалили. Меня называют девкою, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича! Хотят голову рубить князю Василию Васильевичу, а сами знаете – много он добра сделал: с Польшею вечный мир заключил; с Дону прежде беглых не выдавали, а теперь выдают его промыслом… Заступитесь, дети!.. Я обо всем радела… Вас не забывала, а теперь все из моих рук тащат. Без меня-то, пожалуй, и вам худо будет. Не ходите к Троице… А то, пожалуй, и вы побежите от меня… Целуйте крест!
Она приказала принести крест и привела стрельцов к присяге. Те присягнули, но Софья все же ничего не выиграла.
XIV
В то время как новые грозные события собирались над Москвою, в то время как приходили последние дни владычества Софьи, по тихой проселочной дороге, у опушки непроходимого бора, тянувшегося с небольшими перерывами чуть не до самой Украины, медленно катилось несколько запыленных подвод, а впереди подвод какой-то громоздкий безобразный экипаж вроде тарантаса, запряженный шестериком лошадей. На каждой телеге, загроможденной пожитками, двое или трое слуг и молодцы все на подбор, крупные, внушительного вида, к тому же и вооружены изрядно.
В самом тарантасе из-за пуховых подушек можно было разглядеть две фигуры: мужчину и женщину. Мужчина с усами длинными, с окладистою бородою, беспокойным взором и решительным лицом; женщина красивая, с огненными глазами, но уже не первой молодости.
Со стороны глядя, всякий принял бы этот поезд за помещичий, всякий сказал бы, что это переезжает какой-нибудь дворянин из одной вотчины в другую. Но то был не помещичий поезд, то ехал из Москвы на Украину со своими пожитками и наемными слугами бывший стрелецкий полковник Озеров, немало служб сослуживший царевне Софье. А с ним его жена, бывшая любимая наперсница Федора Родимица.
Софья после торжества своего не забыла любимую постельницу, которая служила ей такие верные службы, наградила она ее приданым немалым и выдала замуж за Озерова.
Многие думали, что царевнина любимица пойдет очень далеко, сумеет, пожалуй, добиться при дворе высокого положения, многие весьма удивлялись, видя, что Родимица даже совершенно исчезла из терема и стушевалась… за что такая немилость?
Но немилости никакой не было, и царевна и Федора были очень довольны друг другом; связь их была неразрывна. Бывшая постельница отлично устроилась в слободе стрелецкой, на славу обзавелась домиком и хозяйством, получила мужа себе по мыслям, сговорчивого, тихого нрава, всегда находящегося у нее в послушании. Царевна никогда не забывала ее своими милостями: дарила то то, то другое из вещей да и казну ее пополняла щедрой рукой.
Родимица, заведя по Москве большие знакомства, прислушивалась направо и налево, все высматривала, все выспрашивала и обо всем доносила царевне. Так продолжалось несколько лет до самого последнего времени, а в последнее время нерадостные вести приносила Родимица тихомолком, по вечерам пробираясь в теремные покои.
Опасные дни настали, такие опасные, что однажды, идя к царевне, Родимица не на шутку задумалась: «Несдобровать теперь Софье, несдобровать и всем ее сторонникам, за все про все отвечать придется, пожалуй, и самой ей, Родимице. Даром, что притулилась она в своей слободе и удовольствовалась невидным, но выгодным положением, все же врагов много, и знают эти враги об ее сношениях с царевной, и еще лучше знают про ее участие в прежнем мятеже стрелецком. Да и службы Озерова всем тоже известны: приходится, стало быть, о своих головах подумать».
Совсем на себя не похожая, как-то даже приниженная, встретила царевна Родимицу. Молча и уныло выслушала ее вести, а вести были вот какие:
– Нет надежды теперь на стрельцов, ничето с ними теперь не поделаешь. Все вразброд пошло, никакой силы, ловкости и решимости не хватит – вконец испорчено дело.
– Сама знаю, что так, – едва слышно проговорила Софья и замолчала.
Родимица стала рассказывать ей про свои опасения за себя и за мужа. Софья взглянула на нее и слабо и грустно улыбнулась.
– Верою и правдою служила ты мне, Федора, – наконец проговорила она. – Многим я тебе обязана, стало, должна подумать и о твоем будущем. Правду ты говоришь, что тебе и мужу твоему теперь опасно. Мне вы уже ничем не поможете, и вам нужно теперь спасаться. Собирайтесь-ка да уезжайте подалее от Москвы, уезжайте себе тихомолком, а я вот соберу тебе кое-что на память… Живите себе да меня не поминайте лихом.
Федора смутилась на мгновение. Как же это в горе-несчастье покинуть царевну!
Но смущение ее прошло скоро. Родимица уже не была прежнею, на смерть готовой за царевну женщиной; в эти последние годы ее начинало неудержимо тянуть на родину, в Украину. Она спала и видела туда вернуться, и кончила она тем, что бросилась на колени перед царевной, поцеловала ее руки, попричитала обычно да и простилась с нею навеки…
Софья исполнила свое обещание – прислала ей богатые подарки, прислала и денег немало.
Озеров нанял людей подходящих, которые бы сопровождали в дороге его пожитки и могли бы справиться с придорожными ворами да разбойниками, все устроил. Глухою ночью собрал и выслал из города подводы, скинул с себя мундир стрелецкий и выехал тайно из Москвы с женою. И вот они на дороге в Украину.
Едут немало времени, проехали многие города, местечки, села. Немало навидались да наслушались… Тяжело на сердце у Родимицы, все нет-нет да и вздумается про царевну.
Что-то теперь она, матушка? Что-то с ней будет? Авось, Бог даст, в живых-то ее оставят… Что от власти отойдет она, так это и лучше – измаялась вся, а что с того проку вышло!
Вспомнились Родимице иные горячие слова Софьи о благе родины, вспомнились ей речи о том, что при ее мудром правлении отдохнет родная земля от прежних смут и неурядиц.
Радовалась Софья, получая добрые вести из городов разных, но видит теперь Федора, как заблуждалась правительница, видит, что многие добрые вести были лживы, что нет тишины и счастья на земле Русской. Разумная баба Федора, понимает, что кругом творится, и никогда не забыть ей, чего навидалась она этой долгой дорогой.
Да, плохо русскому люду: законные и незаконные поборы сильно его угнетают, вопят мирские люди, совсем должны они разоряться – заедает их кормление воевод и подьячих; да и как тут справиться – сидит себе воевода и зовет земского старосту: «Неси ты мне, говорит, пирог в пять алтын, налимов на двадцать шесть алтын, подьячему – пирог в четыре алтына и две деньги, другому подьячему – пирог в три алтына и три деньги, третьему – в три алтына и две деньги». Три дня проходят, и опять воевода требует. Зовет старосту к себе обедать. Староста отказаться не смеет и должен заплатить за эту честь. Несет он, кряхтя, воеводе четыре алтына, боярыне его три алтына две деньги, сыну его восемь денег, боярским боярыням восемь денег, жильцам верховым шесть денег. И тянутся эти приношения круглый год раза по два иной раз в неделю, и ради всякого случая: сегодня воевода именинник, завтра его день рождения, сегодня у него обед, завтра похмелье! – И плачут мирские алтыны да деньги, плачет люд русский и с горя бежит на кружечный двор пропивать последнее достояние, а пропившись, собирается человек по двадцати и больше, и идет эта голая и пьяная орава в соседние села разбоем, мучит крестьян, жжет огнем и вымучивает рублей по сто.
Крестьяне, заложив свои животишки и деревушки, от разбойников откупаются и бредут врозь куда глаза глядят. Целые села пустеют. Полнятся только степные притоны, где лихие, бесшабашные атаманы набирают себе товарищей, полнятся раскольничьи скиты, куда скрываются эти несчастливцы.
Вечереет осенний день ненастный. Наплывают одна за другою свинцовые тучи. Ветер все сильнее и сильнее налегает на деревья, и гнутся их верхушки, осыпая дорогу желтыми листьями. Вот и дождь, то крупный и тяжелый, то вдруг мелкий да острый, словно тонкие ледяные иглы. Вот и темь… Из лесной чащи так и глядят на путника мрак и ужас, так и чудятся всякие дива.
Видно, и вооруженным молодцам на задних подводах стало тяжко и жутко, завели они песню. Но унылые звуки еще большую тоску нагоняют, да того и жди наведут на обоз недоброго человека – разбойника или лесного зверя. И смолкла песня.
Федора сидит, вся уйдя в мягкие подушки, думает свои невеселые думы, глядит, не мигая, на темноту лесную. Муж ее спит крепким сном – нет у него в голове дум мрачных. Рад он радешенек, что из Москвы подобру-поздорову выбрался. Теперь далеко – не словят, а до того, что делается на Руси-матушке, ему дела нет: хоть пропадом пропади все, лишь бы ему с женой да пожитками благополучно до места добраться.
А вечер все темнее, погода все ненастнее… Вот небо совсем обложилось, как деготь черное, и стал хлестать дождик, размесилась грязь по дороге, почитай, что нет и проезду.
– Стой! – кричат в задних подводах.
– Что такое? – встрепенувшись, сказала Федора, высовываясь из тарантаса.
К ней подошел один из молодцов.
– Да вот, государыня боярыня, лошади больно замучились, да и грязь, сама видишь, переночевать бы остановиться.
– Да где же остановиться-то? Здесь, в лесу, что ли? – спросила Федора.
– Зачем же в лесу – тут, видишь ты, направо сейчас и лесу конец, селение, усадьба. Не дозволишь ли понаведаться, кто живет – может, добрый человек, боярин али там кто. Может, и лошадок накормят да и нас без ужина не оставят.
– Что ж, ступай, только вернись скорее, – разрешила Федора.
Обоз остановился, молодец отпряг из одной телеги лошадку, вскочил на нее верхом и потрусил куда-то. Прошло добрых полчаса. Озеров храпел, да и Федора вздремнула.
Но вот молодец возвратился, говорит: «Большое тут селение, вотчина дворянина Перхулова, да и сам-то он, Перхулов, с семьею живет в своей усадьбе и просит проезжих бояр к себе ночевать».
– Усадьба, вишь ты, богатая, – закончил свое донесение молодец, – дворовых много, люди ласковые, и ужин, и ночлег будет.
Федора разбудила мужа, и через несколько минут весь обоз поворотил к усадьбе дворянина Перхулова.
XV
Радушный хозяин, предложивший проезжим ночлег в своей усадьбе, был тот самый суздальский Перхулов, у которого когда-то жила и из дома которого бежала теперь позабытая всеми без вести пропавшая Люба Кадашева.
Вот уже три года, как Перхулов жил в этой своей далекой южной вотчине. В Суздале был пожар: сгорела чуть ли не половина города, а в том числе и перхуловские хоромы. Снова строиться Иван Онуфриевич не захотел и, будучи в хороших отношениях с местными властями, получил разрешение выехать из Суздаля. Собрал он кое-какие уцелевшие пожитки и уехал с женою. Обе дочери его были в это время уже выданы замуж. Отец им выделил изрядное приданое и успокоился насчет их участи. Известия о дочерях доходили к нему редко, да он и не тужил об этом – известно, дочь замужняя – отрезанный ломоть. Сокрушался Перхулов только о том, что нет у него сына, но этому горю помочь уже было трудно: совсем стариком стал Иван Онуфриевич, да и жена его верная, Афимья Лукьяновна, тоже сильно состарилась. Все горевала она в разлуке с дочерьми и никак не могла утешиться. И молили Господа Бога ее прислужницы и жилички, чтобы она утешилась: от ее горя и тоски им житья не было. Вспомнит дочек, встревожится и начнет ко всему придираться – и то не хорошо, и то не ладно. Снимет с гвоздика свой кнутик, а кнутик больно бьется. Но тут уж ничего не поделаешь – уж где найдешь суд на свою боярыню? Из всех подведомственных ей женщин Афимья Лукьяновна милостива была только к одной девочке, сиротке, которая сумела подслужиться ей лучше Любы Кадашевой, в глаза ей смотрела, каждое желание ее угадывала. Одним словом, такая вышла умница-разумница, что ни разу не испробовала на своей спине хозяйской плетки, а выросла – так Афимья Лукьяновна наградила ее приданым, выдала замуж за Федюшку, того самого Федюшку, который когда-то способствовал побегу Любы. Он теперь давно уже забыл и хитрость этой красавицы, и ее самое и жил себе припеваючи у Перхуловых – сделался ближним и доверенным человеком Ивана Онуфриевича.
Иван Онуфриевич и его хозяйка ласково и с поклонами встретили своих гостей. Спросили, откуда они, и, услышав, что из Москвы, начали расспрашивать, что там делается. Озеров и Федора об одном рассказывали, о другом умалчивали и очень были довольны, когда хозяева повели их в теплую, светлую горницу, где на длинном столе, окруженном дубовыми резными лавками, стоял довольно обильный ужин. К ужину, кроме хозяев, явились еще несколько человек, в том числе прежний Федюша с молодой женою да два какие-то не то попа, не то монаха. Старик Перхулов к этим монахам относился с большим почтением. Бывшая постельница царевны Софьи, слушая разговор своего мужа с хозяином, слушая, как Перхулов громит, пересыпая свою речь текстами из Священного Писания, все новшества, весь обряд новой московской жизни, вдруг задумалась и что-то припомнила. «Да, да, так и есть, – мысленно решила она, – это тот самый Перхулов!»
И она обратилась к хозяину, спросила его, не жил ли он прежде в Суздале.
Перхулов неодобрительно взглянул на Федору. Ему очень не понравилось, что женщина вмешивалась в его речи, да и вообще не нравилась ему эта московская гостья. Больно уж шустра бабенка, никакой в ней скромности, глаза не опущены, а бегают во все стороны, словно все зараз высмотреть хотят.
– Да, жили мы в Суздале, – медленно ответил он. – Али ты допрежь про нас слышала?
– Как не слыхать, слыхала! – бойко сказала Федора. – Жила у тебя, батюшка-хозяин, сиротка Люба Кадашева?
– А, эта Любушка-то, – встрепенулся Перхулов. – Али ты ее знаешь? Где она? Неужто жива? Пропала она у меня тогда из дому, и думали мы, что она утопилась в проруби, а то, вернее, враг рода человеческого унес ее в тартарары.
Перхулов и жена его перекрестились.
– Ну, нет, – сказала Родимица, – может, она и была в когтях у дьявола, да, видно, из когтей его сумела вырваться. Потом на Москве объявилась, была в услужении у государыни царевны Софьи Алексеевны.
И рассказала Федора Перхуловым все, что ей было удобно рассказать про Любу.
– Да где же она теперь? – с любопытством спросили они.
– А вот где теперь – я и не знаю. Вот уже почти восемь лет, как она пропала. Искали ее по приказу царевны и нигде не нашли.
– Так что же я и говорю, – заметил Перхулов, – дьявол ее сцапал, да и всё тут! И не она то была у царевны, а оборотень.
– Похоже на то! – презрительно и насмешливо выговорила Федора и замолчала.
Хозяин глянул на нее гневным взором, но не сказал ничего. А она с изумлением всматривалась в сидевшего насупротив нее молодого человека. Она видела, как он побледнел и смутился, когда заговорили про Любу. Видела, что смущение его не проходит, а увеличивается все больше и больше. Этот молодой человек был Федюша. Многое ему вспомнилось; он не ел и не пил, какое-то тоскливое выражение лежало на побледневшем лице его. Вот его глаза остановились на молодой жене, и никогда она еще не казалась ему такой невзрачною, такой чужою. Перед ним как живой встал образ чудной красавицы, о которой, бывало, он мечтал напролет целые ночи, поцелуй которой, вдруг через столько лет, снова загорелся на щеке его.
Но ужин кончился, приезжим отвели помещение. Вся перхуловская усадьба вскоре заснула, только в горнице самого хозяина теплилась лампада. Он не спал, а беседовал с двумя монахами о вражеских кознях, воздвигнутых на старую, истинную веру, о том, что в Москве народился антихрист.
Рано утром Озеров и жена его, простясь с ласковыми хозяевами, пустились в дальнейший путь и благополучно прибыли на родину Федоры, где она скоро устроила себе и мужу самое беспечальное житье, продолжавшееся многие годы.
XVI
Пришло 1 сентября, праздник Нового года. Но какое тут торжество – патриарха нет, царь Иван лежит больной, царевна не выходит из своих покоев. Праздник отменили; народ московский в унынии и тревоге ожидает великих бед, стрельцы тоже, повесив головы, по Кремлю бродят. Вынесли им водки, угостили, но и царская чарка теперь не радует.
Шакловитый на Верху, у царевны, пишет сказку ко всем чинам Московского государства, излагает все дело, оправдывает Софью. Пишет о том, как царевна приняла правительство по челобитью всего народа, с благословения патриарха, а вот теперь Нарышкины ее и брата ее, царя Ивана Алексеевича, всячески бесчестят, к руке не ходят, навели конюхов потешных, а те всем чинят обиды и насилия. Пожалуются на это царю Петру – так нет ответа. Комнату царя Ивана поленьями завалили, венец его изломали.
Красно писал Шакловитый, но никому не привелось читать его сказку – судьба его решилась.
Первого же сентября от Троицы приехал полковник Нечаев со стрельцами и привез царю Ивану и Софье грамоту. В этой грамоте Петр извещал их о заговоре и настоятельно требовал немедленной присылки Федьки Шакловитого с сообщниками для розыска.
Все снова заволновалось. И во дворце, и в городе раздался как бы всеобщий крик ужаса. Потом все смолкли, наступило затишье перед бурей. Все ждали, чем это кончится.
Царевна в бешенстве бросила грамоту на пол, истоптала ее ногами и приказала привести к ней немедленно Нечаева.
– Как ты смел привезти эту грамоту?! – закричала она на него.
А когда он отвечал, что не смел ослушаться царского повеления, «немедленно же отрубить ему голову!» – приказала Софья. Но через час одумалась, спросила: «Что Нечаев?» Ей ответили, что еще жив, так как до сих пор не могут найти палача.
– Не надо! Я отменяю свое приказание, не казните, только приведите всех стрельцов, которые с ним приехали.
Стрельцы явились к Красному крыльцу. Царевна сошла к ним.
– Для чего вы приехали? С каким указом? – заговорила она. – Зачем же вы верите тому, что вам насказали у Троицы? Все те воры выдумали, и вы оставайтесь здесь и без моего указа к Троице не выезжайте. Знаете ли вы, что брат мой Петр Алексеевич меня к себе не пустил в монастырь?.. А за которыми людьми вы присланы, то я их не отдам, потому что если отдам вам девять человек, так они захотят еще девятьсот, так можно ли им верить? А вот нужно тех, кто их оговаривает, прислать сюда для розыску. Ведомо, к чему все клонится: меня хотят извести… Злые люди мутят, а вы верите… В зависти к верной службе и преданности Шакловитого называют его заводчиком злого умысла. Так вот, чтоб разведать обо всем этом, я сама пошла к Троице, а брат велел меня остановить по наущению злых советников, и с великим срамом вернулась я обратно. Всем нам ведомо, как я в эти семь лет правительствовала, ведомо тоже, в какое время приняла правительство. Время было смутное… Я учинила славный вечный мир с соседним государем, а враги Креста Христова от оружия моего в ужасе прибывают. Вы за ваши службы пожалованы нашим великим жалованьем и милость нашу к себе всегда видели. Ужели после того вы нам учинитесь неверны, поверивши вымыслу злых людей? Вы всему государству добра не желаете и смуту заводите. Знайте, знайте, не голову Федора Шакловитого ищут, ищут моей головы и брата моего, царя Ивана Алексеевича.
Софья говорила в волнении, не замечая усталости. Все внимательно ее слушали. На Красную площадь набиралось все больше и больше народу всякого и всех пропускали. Народ толпился между стрельцами вокруг царевны.
Она заметила это, подозвала к себе торговых и посадских людей.
– Народ православный! – говорила она. – Враги мои великую смуту затеяли, всяческую клевету взводят на меня и на близких мне людей. Будьте моими судьями – вы меня знаете, я ни от кого не скрывалась. Я семь лет ночей не досыпала, о себе забывала, помышляла только о всеобщем благоденствии, о том, как бы честно перед Господом Богом исполнить долг свой. Не покиньте меня в трудную минуту, не выдайте меня головою врагам моим.
Долго, мучительно и страстно говорила Софья, так говорила, что у многих слезы на глаза выступили. Но все же эта прекрасная речь, вид измученной царевны, ее волнение, ее слезы, которых она не в силах была удерживать, – все это не могло уже помочь ей. Народ жалел ее и в то же время чувствовал, что не на ее стороне правда, и не хотел идти против правды. И она сама с безнадежностью понимала и чувствовала все это – и все же говорила. Но вот последние силы ее оставляют, в горле пересохло, ноги подкашиваются. Она подозвала к себе одного из немногих бояр, бывших с нею, крепко оперлась ему на руку и, едва не падая, вернулась во дворец. Это была последняя вспышка. С этой минуты Софья решила, что борьба ее кончена, что она побеждена и ей остается только ожидать своей участи.
Царь еще раз прислал требовать Шакловитого. Между стрельцами поднялся ропот, что дело затягивается. Часть стрельцов здесь, другая часть у Троицы. У тех, кто у Троицы, в Москве остались жены, дети, дела разные; нужно решать все скорее – больше ждать невозможно.
Софья приказала повестить всем, что она сама вместе с царем Иваном отправляется к Троице, но осталась.
Ропот усиливался. Между тем по городу прошла весть, что и вся Немецкая слобода, все как есть немцы тоже двинулись к царю Петру Алексеевичу. Это известие произвело сильное впечатление. В городе начали говорить: «Чего ж тут думать? Конечно, надобно царя Петра слушаться, а не царевны, – вон ведь к нему уже и немцы двинулись!»
XVII
Припомнился царевне Софье день 17 мая 82 года. Припомнилось ей, как она уговаривала царицу Наталью Кирилловну выдать разъяренным стрельцам Ивана Нарышкина. Припомнилась ей ужасная сцена прощания сестры с братом, вопли и отчаяние несчастной царицы, отдававшей близкого человека на верную погибель… Теперь ей самой приходилось выдать единственного преданного помощника, Шакловитого. Как она уговаривала царицу, так теперь ее уговаривают все оставшиеся до сих пор в Москве бояре, уговаривают даже и сестры. Но царевна еще не может решиться – Шакловитый ей не брат, не кровный, но выдать его – значит и себе подписать приговор смертный. А делать нечего, «сколько не жалеть, а отдать нужно будет», – как говорил семь лет тому назад князь Одоевский Наталье Кирилловне.
Упавшая духом, совсем обессиленная и измученная Софья спешит к брату Ивану. Невелика на него надежда, но авось хоть он пригодится в этих ужасных обстоятельствах.
Иван Алексеевич лежит больной. Софья начинает умолять его заступиться за Шакловитого, написать Петру письмо, объявить, что Шакловитый не виновен, что на него наговаривают и он, царь Иван, не разрешает суда над ним и его осуждение.
– Пойми, брат, – заливаясь слезами, говорит царевна. – Пойми, ведь теперь Шакловитый наш единственный защитник, его выдадим – себя выдадим. Так если меня не жалеешь, себя да жену свою пожалей – ведь это до наших с тобою голов добираются.
Иван Алексеевич приподнял свою больную голову с подушек и пристально поглядел на сестру.
Все говорили, что он скудоумен, «скорбен головою», да и сам он был о себе такого же мнения, но это было не совсем верно. Страшная болезнь, постигшая его с детства и не определенная тогдашними врачами, действительно сильно замедляла его умственное развитие: он никогда не был способен учиться, все перезабывал, не мог долго остановиться на одном и том же предмете. Но в последние годы болезнь его приняла новое направление. Она медленно разрушала весь организм его, но голова его заметно просветлела, оставались только сонливость и какая-то тяжесть мыслей. Если он старался не думать и не размышлять, то только потому, что эта работа была для него физически мучительна, страшно его утомляла, но когда нужно было ему на чем-нибудь остановиться, что-нибудь решить, он иногда поражал окружавших ясностью своих суждений. Так и теперь, только глубокое волнение Софьи помешало ей заметить полную осмысленность его устремленного на нее взгляда.
– Ты бы лучше, сестрица, выдала брату Шакловитого, – произнес после некоторого молчания Иван Алексеевич. – Коли брат требует – значит, так надо, а даже коли и не надо, то все равно ты ничего не поделаешь – сила-то на стороне брата. Ведь я знаю, все к нему побежали, и письма я ему писать не стану – перечить брату не хочу, лучше и не уговаривай.
– А! Так ты вот как! – в бессильном бешенстве произнесла Софья глухим голосом. – Ты меня выдаешь… Это за все, что я для тебя делала!.. Ведь через кого же, как не через меня, ты и царем стал?!
– Эх, сестрица! – слабо улыбнулся Иван Алексеевич. – Попрекай, если хочешь… А что ты царем-то меня сделала, так ведь я не просил тебя – разве мне это нужно? Господи, да забудьте вы все обо мне! Мне бы вот полежать спокойно, шума бы никакого не слышать, больно трудно становится, вряд ли проживу долго – так какой я царь! Мне вот стыдно бывает, что царем меня величают, ведь понимаю я тоже…
Он замолчал, закрыл глаза и, казалось, погрузился в глубокую дремоту.
Софья постояла, поглядела на него и, махнув рукою, вышла из его опочивальни.
А ее уже дожидались, ей говорили со всех сторон, перебивая друг друга, что медлить невозможно, что стрельцы требуют немедленной выдачи Шакловитого, а иначе все как есть пойдут к Троице, а то сами разыщут «Федьку» и потащат его к царю Петру Алексеевичу.
– Да берите его, берите! – страшным, хриплым голосом проговорила Софья. – Тащите на виселицу, да уж и меня заодно с ним… Теперь же, сейчас и меня тащите – всё равно ведь выдадите, я вам не нужна больше!
Красными, опухшими от слез глазами, в которых теперь выражались и отчаяние, и тоска, и глубокая ненависть, она взглянула на всех и ушла к себе, сказав, чтобы ее оставили в покое, что она никого не хочет видеть.
Шакловитого повезли к Троице. Вместе с ним отправились и все бояре, до сих пор еще не покидавшие царевны; терем остался без защитников. Петр не скрывал своей радости, когда ему доложили о прибытии Шакловитого.
– А!.. Таки выдала! – сказал он. – Ну, теперь с Божьей помощью всё покончим. Допросите хорошенько Федьку, пытайте его, разбойника, нечего жалеть-то!
Шакловитого действительно не пожалели…
С первой пытки он повинился во всем, не повинился только в своем умысле на жизнь царскую. Но против него были явные улики, его ожидала казнь лютая. Сам же Петр, в то время как пытали Шакловитого, сидел и писал письмо своему брату, царю Ивану.
Милостию Божьею, – писал он, – вручен нам, двум особам, скипетр правления, также и братьям нашим, окрестным государям, о государствовании нашем известно; а о третьей особе, чтоб быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим учала владеть своею волею, и в том владении, что явилась особам нашим противное, и народу тягости и наши терпение, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши, Федька Шакловитый с товарищи, не удоволяся милостию нашею преступя обещание свое, умышляли с иными ворами об убивстве над нашим и матери нашей здоровьем, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем; на то б и твоя, государя моего брата, воля склонилася, потому что учала она в дела вступать и в титла писаться собою без нашего изволения; к тому же еще и царским венцом, для конечной нашей обиды, хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, тому зазорному лицу государством владеть мимо нас! Тебе же, государю брату, объявляю и прошу: позволь, государь, мне отеческим своим изволением, для лучшей пользы нашей и для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государю, учинить по приказам правдивых судей, а не приличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. А как, государь братец, случимся вместе, и тогда поставим все на меру; а я тебя, государя брата, яко отца, почитать готов.
Отослав письмо это, царь сам пошел взглянуть на Шакловитого. Он увидел его растерзанным, с всклокоченными волосами, с искаженным от страха и боли лицом, в крови… а кругом стояли мастера заплечные, кругом валялись орудия пытки. Но не смутился семнадцатилетний царь от этого страшного зрелища.
Князь Борис Голицын, следовавший за ним, взглянул на него и невольно вздрогнул; никогда еще он не видал у царя в лице такого выражения. Это прекрасное лицо, на котором еще лежал отпечаток нежной юности, теперь все дышало мщением. Глаза глядели остро, блестели невыносимо, как у орла, завидевшего добычу, тонкие ноздри нервно вздрагивали и раздувались; грудь Петра глубоко дышала.
Тяжелое и тоскливое чувство закралось в душу князя Бориса. Он почти силою увел царя.
– Государь! – говорил он. – Здесь не твое место, не для тебя такие зрелища. Виновный должен получить кару, но ты прежде всего должен быть христианином…
– Да, князь, ты прав! – ответил Петр твердым голосом, в котором послышалась Голицыну новая страшная нота. – Ты прав, отвращая меня от жестокости, и ты знаешь – был ли я когда жесток?! Но теперь страшное что-то творится со мною, и чувствую я, что не сдержать мне себя. И ты, и никто меня не сдержит… Да, любо мне видеть кровь врагов моих – и не пожалею я этой крови!
Голицын слушал с ужасом. Он не узнавал своего воспитанника. То ли он постоянно старался внушать ему, да и сам Петр то ли постоянно говаривал? Такие ли склонности показывал?
– Или ты забыл, – продолжал Петр, все с возрастающим волнением, – или ты забыл, что такое стрельцы и что они для меня значат! Теперь вот они извести меня думали, убить, задушить, отравить… Да они и так меня давно отравили. Как себя помню, я с тех пор и отравлен ими. Всю жизнь мне страшные сны снятся… Помню я, хорошо помню – хоть и малый ребенок был тогда, – как они по дворцу рыскали с окровавленными копьями, как они на части разрубали наших защитников. Помню, очень хорошо помню, что они сделали с дядьями моими. Умирать стану, так не забыть мне покойного дядю Ивана Кирилловича! А матушка… Боже мой! Так мне она и представляется в то время… как жива-то осталась – не понимаю! Ведь с тех пор она на себя не похожа – старая да дряхлая, а велика ли ее старость. Вот уснет иной раз днем, так все мы слышим, как во сне страшные слова повторяет: все ей кровь да стрельцы проклятые грезятся!.. Милосердие, врагам прощение… Ох, знаю, князь, знаю! Да нет, не справлюсь с собою. Болит, болит мое сердце, так вот на части разрывается, кровь в нем кипит… Не могу успокоиться, пока не накажу врагов наших. Да нет, и нельзя мне быть с ними милостивым; кабы забыл я и свои кровные обиды, так за другие, пущие вины они должны поплатиться. Сколько лет заводили смуту, сколько лет хозяйничали: ведь весь мир, чай, над нами смеется! Какие мы цари… они… стрельцы царствуют… а с таким царством добра не будет! Али не ведаешь, что по всему государству всякие смуты, всякое безналичие, и не прекратится оно дотоле, пока не познает народ, что сильная рука правит государством, пока не узнает, что есть всякому делу суд правый!.. А такой сильной руки, суда правого, преуспеяния во всяком деле не будет, не может быть, пока всякие бесшабашные головы хозяйничают. Довольно бабьего царства, довольно позору!.. Пора сестре, нашей лютой злодейке, в монастырь: пускай там грехи свои замаливает. Пора бунтовщиков на плаху… И не останавливай меня, князь, – никого не послушаю! Я знаю, что творю… Я покажу, что есть царь в Русском государстве и что он не баба! Много работы, страшно много работы, так нужно прежде расчистить дорогу, чтоб не споткнуться. – И Петр с вдохновенным и грозным лицом ушел от князя Бориса.
Голицын долго стоял, опустив голову. Он понял, что теперь у Русского государства действительно есть царь. Теперь оставалось только одно: спасать невинных, а виновным не избежать страшной кары…
В ненастный осенний день к Новодевичьему монастырю подъехала тяжелая царская карета. Из кареты, поддерживаемая двумя младшими сестрами, вышла царевна Софья.
В худой, бледной, закутанной в черную одежду женщине трудно было узнать красавицу правительницу. Светлые глаза ее окончательно потухли; стан сгорбился; в лице и во всей фигуре уже не было того горделивого величия, которым она всегда поражала.
Под страшным неотвратимым ударом приникла и смирилась царевна. Теперь она знала, что уж никто и ничто на всем свете ей помочь не может.
Младший брат приказал ей покинуть Кремль, перебраться в Девичий монастырь, и она спешила исполнить это требование добровольно, чтоб не повезли ее силою с великим срамом. Ее участь была ясна; ее имя должно было присоединиться к длинному списку цариц и царевен русских, кончивших дни свои в монастырских кельях, в темной доле инокинь. Монахини, заранее предупрежденные и вышедшие встретить царевну, провели ее в назначенное для нее помещение и с глубокими поклонами удалились.
Софья огляделась: темно, тесно, непривычно…
Она сняла с себя шубку, села на низенькую, обитую черным сукном скамейку и горько задумалась.
Сестры стояли перед нею заплаканные и взволнованные, не знали, что сказать, что делать.
– Уезжайте, – проговорила Софья, – что уж тут! Бог даст, не совсем разлучат нас – позволят вам со мною видаться, а теперь уезжайте, не то еще как-нибудь и вас запутают. Я устала, лягу, заснуть постараюсь.
Царевны кинулись к сестре, заливаясь слезами, целовали ее руки. Ей было это тяжело, и она поспешила проститься с ними. Оставшись одна, Софья, не раздеваясь, легла в постель, ей приготовленную, но заснуть она не могла. Много еще пройдет времени, прежде чем она будет в состоянии отогнать от себя страшные мысли, которые ни на минуту не дают ей покоя.
Страшно царевне. Ей все мерещатся разные ужасы. Она знает о казни Шакловитого и многих других стрельцов, ей преданных. Она знает о том, что князь Василий Васильевич отправлен в далекое, тяжкое изгнание. Не пришел он к Троице, когда его звали, остался верен своему княжескому слову, явился только тогда, когда его на суд потребовали.
Суд над ним был строгий, и Шакловитый с пытки многое возводил на него, немало и других нашлось доносчиков. Обвинили князя и в том, что он сожалел, что царицу Наталью Кирилловну не убили в восемьдесят втором году, и в том, что водился с колдунами разными, и в том, что удалился от Перекопа, подкупленный ханом.
Князь Борис и многие из приближенных Петра всячески старались выгородить Василия Васильевича, но это было дело трудное – много у него врагов было. Царь лишил его всех званий и послал в далекую ссылку.
– Жизнь кончена! – страшным, глухим голосом шептала Софья. – Всех отняли – одна… одна в целом мире!
И вспомнились ей лучшие дни ее. Стоял и не отходил от нее Василий Васильевич, не такой, каким видела она его в последний раз, когда вырвалось из груди ее безумное слово проклятия, а таким, каким он был прежде, и вся былая любовь, все счастье молодости запросились и ворвались в сердце несчастной царевны. И она готова была сейчас лечь на плаху, чтоб только на одно мгновение увидеть милого друга, чтоб только шепнуть ему, что она неизменно всю жизнь только его одного и любила, чтоб попросить у него прощения в вольных и невольных перед ним обидах, чтоб последний раз поплакать на груди его… Но никакой ценою, даже ценою жизни не добиться этой минуты свидания.
Полная безнадежность охватила Софью.
– Зачем не убили? – ломая руки и заливаясь слезами, прошептала она. – Нет, он знал, что делает! Он знал, как наказать меня, как отомстить мне. Знал, что смерть теперь для меня награда, – и он оставил меня жить! Какова жизнь здесь будет… Ну, да она не много продлится – не вынесу! Что же делать? Куда деваться от этой тоски невыносимой? Молиться, молиться – одно осталось! – И царевна ищет глазами образ.
Из угла кельи, слабо озаренной лампадой, глядит на нее лик Богоматери. Она бросается на колени и начинает молиться. Но слова без значения срываются с уст ее, сердце этих слов не понимает… Межу нею и кротким ликом Богородицы вдруг встают старые, знакомые призраки…
В смятении поднимается она, выходит из кельи, идет в церковь. Монахини почтительно следуют за нею.
Под темными, высокими сводами храма раздается тихое пение: там началась всенощная. Царевне указывают отдельное, огороженное для нее место. Она всходит туда по ступенькам, покрытым ковром и парчею, оглядывается во все стороны: «Отсюда не видно, слава Богу!»
Но и здесь, в этих святых стенах, где все дышит миром и молитвою, где смолкают земные страсти под тихое, душу умиляющее пение, и здесь не находит покоя царевна, и здесь не может молиться. Она падает ниц перед образами и долго лежит вся в слезах в тяжелом полузабытьи. Тоска все страшнее. Что-то неясное, мучительное стоит над нею, и нет ему названия, и нет такой молитвы, нет такого заклинания, которые могли бы отогнать это что-то, хоть на мгновение дать вздохнуть свободнее.
Служба кончена; в том же забытьи, не замечая окружающего, идет Софья из церкви. Но вот почти у самого выхода, в полумраке, она лицом к лицу сталкивается с какой-то монахиней.
Мгновенная дрожь пробегает по членам Софьи, глаза ее широко раскрылись, на лице ужас… Слабый крик вылетает из груди, и она глядит не отрываясь в лицо монахини. Та тоже стоит перед нею пораженная, а в бледном, увядающем, но все еще прекрасном лице ее нет ни ужаса, ни мучения: спокойно лицо это. Большие черные глаза глядят бесстрашно и в то же время кротко.
Прошло первое мгновение, и монахиня, спокойно поклонясь царевне, хотела пройти мимо. Но Софья остановила ее за руку.
– Это ты? Ты, Люба Кадашева… Ты жива? Здесь?
– Я, государыня, я. В инокинях Вера.
– Можешь ты прийти ко мне? – проговорила Софья. – Если можешь, иди за мною.
Монахиня тихо последовала за царевной.
Войдя в свое помещение, Софья дрожащими руками зажгла свечи, подошла к инокине, долго и пристально смотрела на нее, не говоря ни слова, и вдруг какое-то новое выражение засветилось в лице ее. Она упала на колени перед прежней Любой и, громко рыдая, прошептала:
– Ты живешь… ты спокойна… ты умеешь молиться! Ты все простила: я вижу это по твоему лицу – в нем такое спокойствие…
– Да, Господь помог мне, в молитве я нашла успокоение. Молись и ты… авось Господь и тебя помилует!
– Научи меня молиться, Люба, спаси мою душу! – рыдая, говорила царевна.
Она чувствовала, что есть еще какая-то слабая надежда, что возможно еще примирение с Богом, что возможно забвение прошлого, возможна жизнь новая. В этой надежде ее утверждал вид Любы, все, что она прочла на лице ее.
Монахиня склонилась над царевной, и из прекрасных, черных глаз ее скатились тихие слезы.
– Будем молиться, Софья!
1878 год
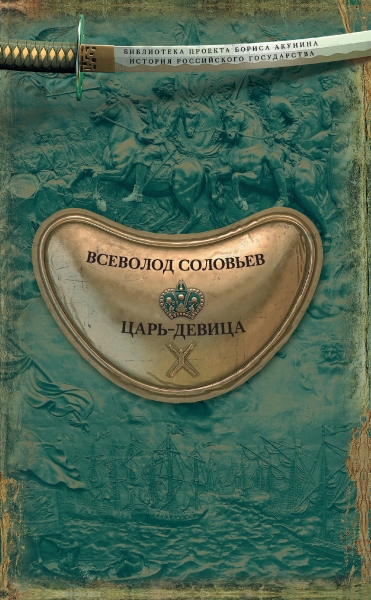


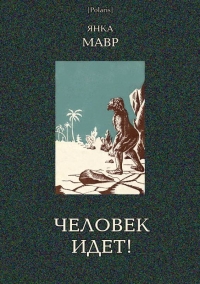

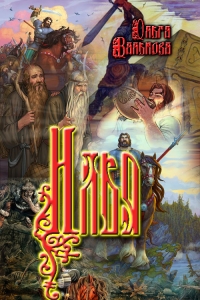
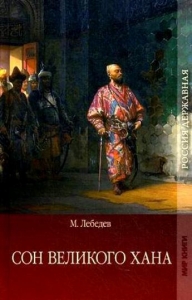

Комментарии к книге «Царь-девица», Всеволод Сергеевич Соловьев
Всего 0 комментариев