Гусаров Д. Я. Избранные сочинения. Том 1.
Жажда истины
В свои семнадцать лет он выбрал трудную дорогу. Выбрал не потому, что знал — дорога приведет его к будущим книгам. Выбрал, потому что воспитан был так, с чувством ответственности перед семьей, людьми, а значит — перед Родиной. По призыву ЦК ВЛКСМ в числе пятидесяти уральских комсомольцев он добровольцем ушел на Карельский фронт в конце лета 1942 года.
Что пришлось испытать в партизанском отряде «Боевые друзья» парнишке, еще недавно мечтавшему о флоте, собиравшемуся идти в мореходку? «Там, где он воевал, героизм и мужество нельзя было измерять количеством спущенных под откос эшелонов или взорванных мостов. Не было там ни обширных партизанских районов, ни многотысячных отрядов и бригад. В памяти — прежде всего далекие, неимоверно тяжкие походы, бесконечные леса, горы, болота»…
Я выписал цитату из книги Дмитрия Гусарова «Цена человеку». С полным правом отнести ее можно к писателю. Сначала рядовым, а затем командиром отделения разведки он участвовал в двенадцати походах партизан по тылам финской армии. Пережитое в дальних рейдах по оккупированной территории определяло и определяет всю дальнейшую жизнь писателя. Ночные вылазки, диверсии на коммуникациях, быстротечные, но каждый раз уносящие из жизни твоих товарищей, схватки с противником, и потом опять длинные версты тяжкого пути по пустой враждебной земле, где все вокруг чужое, нет ни укрытий, ни баз, и только преследующие тебя не один день опытные финские егеря, и, наконец, прорывы через фронт. Двенадцать походов, и цену каждому из них партизаны запоминали на всю жизнь. В одном из таких походов в марте 1944 года, во время разгрома финского гарнизона в заонежской деревне Конда Дмитрий Гусаров был тяжело ранен, доставлен в тыл и долгое время лечился в госпитале в городе Архангельске. С той поры надолго появился у молодого двадцатилетнего партизана спутник — палка, на которую приходилось опираться при ходьбе. Духом партизан не пал и даже писал заявление о приеме в Одесскую мореходку.
Запас наблюдений партизанской поры оказался для Дмитрия Гусарова той благодатной почвой, которая и взрастила в нем писателя. Если говорить о двух тенденциях в современной военной прозе, тенденции романтической и тенденции сурового реализма, то, несомненно, Гусаров является сторонником второй из них. Более того, и внутри нее он тяготеет к художественно–документальной форме. Говоря о прозе Гусарова, Сергей Залыгин очень верно заметил: «Есть, существует и такая художественность, пафос которой, эмоциональность, форма, содержание — все заключается прежде всего в ее достоверности».
Достоверность — кредо писателя еще во время написания первой повести «Плечом к плечу», опубликованной в четырех номерах журнала «На рубеже» за 1949 год. В ней заметны те принципы сурового реализма в изображении войны, которые через несколько лет так ярко обозначились в произведениях А. Ананьева, Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Быкова. Молодой писатель со всей литературной неопытностью взялся яростно и страстно доказывать читателю «как это было». Быть бы ему через скорое время среди зачинателей нашей славной военной прозы…
Партизаны говорят: разведчику первая ложка и первая пуля. Когда же будет ложка, а когда пуля, никто не скажет. Опередил писатель немного то время, которое вызвало целый поток талантливых и ярких произведений о Великой Отечественной войне. Первая повесть молодого автора оказалась под обстрелом литературной критики. Серьезные ошибки у автора искали и находили не в стилистике, не в малом писательском опыте построения композиции, а в содержании, в достоверности изображаемых событий, в безусловном знании проблем партизанского движения. Уже на излете пресловутая «теория бесконфликтности», столь много вреда принесшая советской литературе, успела ударить по молодому прозаику. Пришлось отложить «главную книгу» о войне на более позднее время. Идти долгим кружным путем к взлету романа «За чертой милосердия».
Досадно, что Дмитрий Гусаров на какой–то момент поверил критике. Поверил, что книге мешали трагические детали выноса раненых из болота, трудной эвакуации отступающей части. Поверил, что жизнь в ее трудной действительности не может быть интересной для читателя. Поверил потому, что и сам по неопытности хотел «…написать что–то необыкновенное, придуманное, сюжетно усложненное, как–то круче и острее завернуть коллизию. Тогда казалось, — говорил писатель в интервью карельской газете, — что сами реальные факты не могут быть интересными для читателя, который пережил войну».
Трудным оказался путь первой повести. Переделывая ее в начальную часть романа «Боевой призыв», Дмитрий Гусаров согласно требованиям критики «героизировал» ее, выпрямляя все овраги до гладкости бумаги. Затем в 1966 году, готовя роман к переизданию, он третий раз переписал эту часть романа согласно своим выстраданным убеждениям — как писать о войне.
Дмитрий Гусаров искал своих героев. Искал прежде всего в собственном фронтовом опыте, а потом уже переносил их на страницы романа и повестей, очерков и рассказов. Кто как относится к повторяемости типов героев в прозе Гусарова, я же радуюсь этому, радуюсь, ибо вижу, как зреет характер во всей сложной, социально–нравственной, философской его наполненности.
От Лопахина в «Боевом призыве» к Орлиеву в «Цене человеку» и уже во всей законченности к комиссару Аристову прослеживается, к примеру, характер неумолимого вершителя, человека–идеи. Подобные люди, даже не понимающие своих явно идеалистических позиций, давно забыли, что любая идея существует ради людей, а не наоборот, эти герои боятся живых носителей своей же идеи, видя в них неизбежные отклонения от раз и навсегда затвержденных императивов. Они боятся самой жизни, ибо жизнь всегда богаче любых представлений о ней.
…А жизнь — это и боевые действия столь любимых писателем разведчиков и взрывников. Герои прозы Гусарова — как правило, носители естественной народной морали, которая геройство во имя народа считает самым нормальным поступком в жизни человека, потому как иначе и быть не могло, это все равно, что дышать воздухом. К таким я отношу Павла Кочетыгова из романа «Цена человеку», Лешу Кочерыгина из рассказа «Раненый ангел», и, наконец, любимого героя автора Васю Чуткина из романа–хроники «За чертой милосердия». «Без Васи Чуткина для меня нет похода Бригады, — признается Гусаров. — Через этот образ я хотел выразить мое представление о скромности истинного мужества и героизма».
Характер выдуманного ли Васи Чуткина, подлинного ли Ивана Соболева уходит в историческую глубь народной жизни. В те трагические эпохи, когда без осознания себя лишь в народе, без могучей соборности духа не устоять бы России как таковой. Вспоминается случай с поморскими рыбаками, спасшими Архангельск от шведского флота в начале Северной войны. Петр Великий, царь–европеец, велел наградить оставшегося в живых рыбака, а непосредственный архангелогородский начальник прежде всего наказал его за самовольный выход в море. Архангельскому воеводе было непонятно поведение Петра I. Окажись в море не Иван Рябов, а кто–либо другой, он также постарался бы завести неприятельские суда на мель прямо под огонь береговой батареи. И сделал бы он это не задумываясь, узнают о случившемся товарищи или нет. Ничего другого представить нельзя было. Это не геройство, а естественное поведение.
Таковы герои Дмитрия Гусарова — люди высшего нравственного порядка. Враги постарались оклеветать Андрея Лукича (роман «Боевой призыв»), никто долгие годы не знал о героическом поведении в бою Павла Кочетыгова (роман «Цена человеку»), уже в наши дни узнает от финна герой рассказа «Раненый ангел» об обстоятельствах гибели помкомвзвода Леши Кочерыгина, гибнет в безвестности молодой партизан из рассказа «Банка консервов», принимая последний бой один, вдали от своих, и уже не ради людской памяти сохраняет он честь и достоинство партизана, а в силу нравственной невозможности поступить иначе. На миру и смерть красна, а ты попробуй встреть ее так, как Вася Чуткин или весь взвод Бузулуцкова из романа «За чертой милосердия», о гибели которого узнали лишь в 1970 году.
Пожалуй, никем из военных прозаиков так подробно не исследовался герой, совершающий подвиг в безвестности, иногда даже имеющий возможность уклониться от боя не ради собственной жизни, а ради того, чтобы добраться до своих и развеять подозрения у сверхбдительных Куглиных, который «…никогда никому не верит и делает вид, что знает о каждом больше, чем тот знает о себе», но не уклоняющийся, уходящий заведомо в неясную пустоту. Разве что в одной из повестей Василия Быкова встречаем мы подобную ситуацию. Почему? Да потому, что сама особенность партизанской войны, когда бои в одиночку скорее правило, чем исключение, привела к тому, что именно писатель из бывших партизан обратился к исследованию такого типа героя, дотоле неизвестного в советской военной прозе. Надо не забыть, что такой герой был выведен писателем в первом же его рассказе «Два случая одной жизни», написанном в 1945 году и тогда же принятом к опубликованию в альманахе «Уральский современник».
Писатель нашел свою точку приложения в военной теме. А может, тема сама нашла его и сделала писателем. Не случайно в рассказе «Раненый ангел» писатель вспоминает: «Я уже понимал, что происходит со мной, но ничего не мог с этим поделать. Вот уже тридцать лет каждое необычное переживание обязательно возвращает меня к годам войны. Достаточно малейшего толчка, и сознание непроизвольно ищет схожести и подобия в прошлом, память тут же оживляет их — и я живу уже как бы в двух временных пластах. Такова уж, видно, особенность моего поколения, взрослыми мы стали на войне».
«…Два временных пласта» — как знакомо это нашей литературе — «Берег» Ю. Бондарева, «Годы без войны» А. Ананьева, «Цена человеку» Д. Гусарова… Вроде бы не о войне этот второй по времени написания роман карельского прозаика. «Цена человеку — дела его» — эти горьковские слова, отнесенные к роману, становятся как бы ключом произведения, показывающего человека и его дела в мирное послевоенное время. А как много в романе связано с войной. «Цена человеку» разделена на четыре части, и в них вклиниваются четыре же рассказа о войне. Повествование о людях и делах карельского леспромхоза прерывается эпизодами партизанского прошлого этого края, партизанского прошлого его главных героев. Временные пласты единятся неразрывной связью поисков правды в человеке, о человеке. Поведением на войне поверяются его герои, поведение, сколь бы героическим оно ни было, не дает индульгенций на будущее, скорее дает чувство высшей ответственности за свои дела, готовность идти в бой не ради славы, ради жизни на земле. Писатель вышел на своего героя, на свою тему…
…Вдруг «Три повести из жизни Петра Анохина». Своеобразное повествование историко–революционного жанра о жизни и деятельности большевика–ленинца Петра Анохина. Что это? Может, мне показались и приверженность писателя к партизанской теме, и его стремление к истине, лишь увиденной, пережитой им самим. Говорю — художник силен прежде всего в художественно–документальной прозе о войне. А писатель тем временем пишет роман чисто художественный о карельских лесозаготовителях, затем повествование о революционере. Конечно, тем и интересен писатель, что его не уложишь в самую распрекрасную схему. И все же, все же…
Именно «Трех повестей из жизни Петра Анохина» недоставало Дмитрию Гусарову, чтобы прийти к своей вершине — роману «За чертой милосердия».
Ему необходимо было обрести умение не только свидетельствовать об увиденном, пережитом, наболевшем, но и отстраненно анализировать документы, видеть общую стратегическую картину событий, частную жизнь любого из участников этих событий. В работе над книгой об Анохине Дмитрий Гусаров учился максимально строгому отбору материала, учился «обобщению, основанному на документализме».
Не всегда правда времени соответствует правде героя, а писатель–историк обязан отчетливо это помнить, чтобы с высоты нынешних лет не приписать своему герою заведомо верные слова, которые в тот период данный герой никак сказать не мог, не оправдывать те или иные его действия нынешним пониманием истины. Писатель должен оставаться в описываемом времени и вместе со своим героем мучительно продираться к истине.
Конечно, романтически настроенного подростка из захолустного Петрозаводска легче было вовлечь в эсеровские вооруженные акции, чем в многотерпеливую пропагандистскую, кажущуюся «занудной» работу социал–демократов. Одним махом семерых побивахом. Вот и идет Петя Анохин, решая сразу все проблемы мировой справедливости, с ножом на полицейского провокатора. Прошли годы тюрем, каторги, ссылки, прежде чем из юношески наивного мстителя вырос зрелый, убежденный большевик. Человек, взявший на себя всю полноту ответственности за установление Советской власти в Карелии. Оборвалась жизнь Анохина внезапно, уже на Дальнем Востоке, где оп был одним из руководителей ДРВ. В случайной стычке с бандитами он был убит.
Своеобразно построение книги об Анохине. Дмитрий Гусаров выбрал три момента из жизни революционера. Три момента, объясняющие всю его жизнь. Первая повесть — миг рождения революционера. Покушение на сыщика и события, последовавшие за ним.
Вторая повесть — вершина всей жизни Анохина, его наивысший творческий подъем, когда на посту председателя Олонецкого губисполкома, оторванный от всякой связи с центром, не имея ни времени, ни возможности согласовать свои действия с Петроградом или Москвой, он сам политическим чутьем опытного революционера определял дальнейшие шаги революции здесь, на Севере.
В третьей повести самого Анохина уже нет, идет следствие по его гибели. Вместе с обстоятельствами смерти героя прорисовывается вся сложность работы на посту руководителя в этой буферной, временной республике.
Сотни прочитанных документов, многодневная кропотливая работа в архивах Читы и Петрозаводска помогли автору понять своего героя, увидеть его глазами современников, друзей и врагов. С ощущением полной достоверности Дмитрий Гусаров заполнял недостающие звенья в жизни Петра Анохина, которые невозможно проверить никакими документами. Самый дотошный историк, прочтя эту книгу, не упрекнет писателя, что так не могло быть. Это не значит, что так и было. Вымысел всегда остается вымыслом. Но исторически так могло произойти.
Работа над книгой о Петре Анохине окончательно утвердила представление Дмитрия Гусарова о военной прозе. О том, как ее надо писать. Он вобрал в себя все понятие того, что война — это такое важное событие в жизни народа, которое прежде всего требует от писателя реального факта. Даже, если герои вымышлены, даты изменены, реальная, достоверная основа событий, переживаний, чувств делает реальными и самих вымышленных героев. Писатель возвращается к «главной книге», задуманной еще в самом начале литературной деятельности. К роману о походе партизанской бригады Григорьева по финским тылам. Гусаров не был участником этого самого крупного на Севере партизанского рейда в годы войны. Когда он с пятьюдесятью уральскими комсомольцами приехал в Карелию, в партизанском отряде «Боевые друзья», куда его зачислили, после григорьевского рейда оставалось в живых лишь около двадцати партизан. Рассказанное ими настолько поразило Дмитрия Гусарова, что никакие походы, в которых уже участвовал сам, не заслонили от него величие и трагедию григорьевского. Предчувствуя свой роман «За чертой милосердия», он подбирается к событиям рейда в романах «Боевой призыв», «Цена человеку». С тем, чтобы, когда придет время, взяться за роман, характеры главных его героев, композиция сюжета были выношены в их окончательной зрелой форме. Писатель боялся себе признаться, что в ранних произведениях он как бы репетировал события, проходившие в том знаменитом рейде. И все же вначале был задуман роман о бригаде Григорьева художественный, со своим сюжетом, своими литературными героями. Нужен был опыт книги об Анохине, нужны были первые художественно–документальные книги о войне Д. Гранина, К. Симонова, чтобы окончательно понять — правда этого похода требуется читателю больше, чем самое хорошее правдоподобие. «Я чувствовал себя обязанным воздать должное не придуманным, а реальным бойцам и командирам. Мне хотелось, чтобы память об этих людях осталась где–то запечатленной. И я решил писать документальный роман», — вспоминает Дмитрий Гусаров.
Работа над ним началась в 1969 году. Затем семь долгих лет поисков живых участников похода, документов партизанского движения, свидетельств фронтовой печати. В романе «За чертой милосердия» писатель использует перехваченные радиограммы, боевые донесения и, что немаловажно, свидетельства о походе финской стороны. Значение финской документации оказалось даже больше, чем предполагал автор. О пользе похода немало спорили до самого последнего времени. Невыполнимость задач, поставленных перед комадованием бригады, гибель большей части его участников, трудности со снабжением партизан продовольствием заставили усомниться в пользе столь крупных рейдов по лесам Карелии уже сразу после окончания похода. Он был на Севере первым и единственным. Только сегодня мы узнаем, благодаря финским источникам, что Маннергейм лично следил за развитием операции по уничтожению партизанского соединения, ежедневно требовал докладов по этому вопросу, что общая численность соединений, брошенных на разгром бригады в шестьсот человек, составляла более трех тысяч опытных финских егерей. Значит, эти тысячи финнов не пошли под Ленинград, где в 1942 году было самое тяжелое положение. Финны подтвердили — поход не был напрасен.
Кроме документов и записей бесед с участниками похода, у Дмитрия Гусарова было личное право на описание григорьевского рейда. Право участника двенадцати походов в примерно схожих условиях, причем два из них было тоже длительных, летних. Немало ситуаций знакомо писателю по собственному опыту.
И самое главное — знание психологии людей в таких рейдах, знание того, во что они верили, о чем думали в те дни и месяцы, когда они уходили кто надолго, а кто навсегда «за черту милосердия».
Документальный роман — есть в этом жанре своя опасность.
Не так легко подчинить законам художественного развития сухую строчку документа, не отклоняясь от точности факта. На основе рассказов, описаний, радиограмм рождались образы командира бригады И. Григорьева, погибшего во время рейда, начальника штаба, бывшего пограничника Д. Колесника, комиссара бригады И. Аристова. За каждым из героев вставала его невыдуманная биография, но лишь выстроив общую нравственную концепцию романа, Гусаров сумел понять место каждого из героев в нем. Каждый день похода, начиная с выхода из поселка Сегежа бригады в количестве 650 человек и до возвращения через 57 суток ста двадцати истощенных партизан, проиллюстрирован документами. Вроде бы иные из рассказов свидетелей и участников боев не вписываются в основную линию романа, которая определяется все же главными интересами бригады, но образ соединения, коллективный портрет его становится достоверным именно тогда, когда он строится на основе реальных эпизодов, рассказанных Иваном Соболевым, Анной Балдиной… Каждый из эпизодов несет свой нравственный заряд, духовность, идущая от них, та же самая, что и духовность воинов поля Куликова, Бородинского поля или же Прохоровского поля, на котором состоялось крупнейшее за всю войну танковое сражение, завершившееся победой советских войск. Один побеждает в никому не известном эпизоде, другой на поле, ставшем историческим. Но кто из них более герой, кто больше внес в победу? И большие и малые победы в равной мере определяли и определяют победу народа.
…Первые удачные бои отряда, чувство растерянности перед надвигающимся голодом, борьба с финнами за каждый сброшенный с самолета мешок с продовольствием, бои в окружении и, наконец, прорыв через линию фронта — весь ряд событий показан убедительно, достоверно, с той значимостью, которая диктуется не масштабами боевых операций, а истинностью человеческих судеб. Не стали одномерными его невыдуманные герои. Читатель видит сложность во взаимоотношениях между командиром бригады и комиссаром, видит и единство их перед ответственными операциями. Он видит суровую правду войны в боях, прорывах, тяжелом отступлении, когда приходилось поступать безжалостно даже со своими ранеными. «Кто не мог бежать и падал со стоном в мокрый и холодный мох, тот уже ни на что не рассчитывал, перемогал первую острую боль и с безнадежной тоской гнал от себя сандружинницу: зачем погибать и ей… И каждый, ожидая рассвета, решал свою судьбу по–своему…»
Суров и неслучаен заголовок романа «За чертой милосердия». Кто определит границы нравственного поведения на войне, когда встает дилемма — как быть, что делать с десятками тяжелораненых, если нужно прорываться из окружения, чтобы не погибла вся бригада? Кто определит, где кончаются границы воздействия приказа и вступает в силу даже перед лицом смерти закон человеческой совести? Все человеческие принципы, все его мечты и идеалы проверяются в этих схватках на излом, на разрыв. Что, кроме совести патриота, определяет поведение партизан в окружении, когда временами дисциплины приказа нет, потому что некому его отдавать?
Поведение человека за чертой действия его же человеческих законов добра и зла встает крупным планом со страниц романа. Видно, что всегда и во всем человек подсуден не только законам юридическим, законам военного времени, но и тем же законам изначальной нравственности. Уже в соавторстве со всеми бойцами из бригады творит писатель правду, воздействующую на нас всех. Дмитрий Гусаров обращается к художественно–документальной прозе не ради смакования кричащих моментов.
Поток документов, изданных отдельно, не может справиться с сегодняшней тягой читателя к истине. Нужен субъективный художественный дар, выделяющий из этого потока наиболее значимые факты, нужна нравственная концепция автора, объединяющая факты самого разного ряда в цельное представление о борьбе народа. Простое перечисление ужасов войны, лишенное морально–этического мироощущения художника — такой «объективизм» подобен бабочке–однодневке, он не уживается в памяти народной. Дмитрий Гусаров, внося в документальный ряд свое личностное начало, делает книгу единым документом уже художественного ряда, ибо позиция автора — тоже документ. Константин Симонов в письме к Гусарову, опубликованному в десятом номере журнала «Дружба народов» за 1977 год, не случайно замечает: «Вы написали книгу суровую и точно соответствующую своему очень обязывающему названию «За чертой милосердия». И нравственная сила людей, о которых написана Ваша книга, именно потому и очевидна, что с достаточной очевидностью и подробностью рассказано о том, в каких жесточайших условиях проявляли эти люди мужество, терпение, стойкость, человеколюбие, и каких усилий им все это стоило — и физических и нравственных».
Документ в романе оказывается основой для разговора о человеке на войне, основой доверия читателя, истинности даже вымышленного героя. Василий Чуткин — единственный по–настоящему вымышленный герой романа — держит на себе все действие книги, на нем поверяются действия невыдуманных Григорьева и Аристова, Шивякова и Колчина. Он — тот высший нравственный судья, имя которому — народ. Чуткин — тот национальный нравственный идеал, который присутствовал по–разному в каждом из воинов бригады, к которому стремились или который отталкивали как чужой. Ибо для него не существовали законы данного момента, и в радостях своих, и в делах, в гибели своей он живет согласно высшему нравственному смыслу событий, и его истина остается истиной через десять, двадцать, сколько угодно лет, в то время, как истина Аристова оказывается исторически неоправданной уже в наших глазах.
Можно говорить о влиянии на формирование образа Чуткина героев Твардовского, Шолохова, Симонова. Все будет правдой. В то же время Чуткин — чисто гусаровский герой. Тот условный герой, который жил всю войну и выиграл всю войну, но которого не опишешь документально — ибо это сгусток русского человека и русского духа, который жил везде и во всех со всей своей совестливостью, поисками правды и в то же время готовностью погибнуть, не думая о себе, если это надо для жизни всех.
Такой герой как бы вдвойне подтверждает, достоверность каждого в романе, достоверность событий, истинность переживаний. К нему Дмитрий Гусаров шел давно, от первых рассказов, от повести «Плечом к плечу», романа «Боевой призыв». Он придал значимость достоверности документального романа, а значимость романа придала достоверность ему самому.
Достоверность и значимость — вот два знамени пути, по которому идет писатель Дмитрий Гусаров, волею судьбы ставший карельским писателем. Знали ли, думали ли в семье деревенского кузнеца Якова Гусарова из села Тулубьево, что под Великими Луками, в тот осенний день 4 октября 1924 года, что сын их, только что родившийся, окажется со временем достаточно далеко от псковских земель и будет живописать землю древней Калевалы, а не родные среднерусские места. Это типично для нашего бурного времени. У каждой семьи сегодня по нескольку малых родин: где родился, где вырос, где воевал и где осел на землю. Вот и ездят сегодня по всей России бывшие псковские, вологодские, рязанские. Вот и оспаривают право: чьим писателем считать того или иного известного мастера слова. Казалось бы, после Псковщины во временных окрестностях войны всего три года пробыл Дмитрий Гусаров на Урале: год до ухода в партизаны, когда семья переехала в эвакуацию в Ирбит, и два года после войны. Но за этот период в маленьком, достопамятном бывшей когда–то всероссийской ирбитской ярмаркой, а ко времени войны известном лишь двумя небольшими заводами — автоприцепов и мотоциклетным, Ирбите Дмитрий Гусаров закончил среднюю школу, начал трудовую жизнь. Отсюда же молодой электросварщик, не дожидаясь призывного возраста, по комсомольскому призыву ушел в партизаны. Здесь написал он свои первые произведения о карельских партизанах. Вот и считают его своим на Урале, числят ветераном уральского комсомола, ждут от него книги о партизанах–уральцах.
…Псков, Ирбит, Ленинград, где кончал университет, Петрозаводск — все вместе Россия, Родина. Которая воспитала такого парня, что не стал дожидаться своего череда и ушел добровольцем в семнадцать лет, писателя, никогда не уходящего от самых сложных социально–нравственных проблем нашего общества, руководителя одного из лучших региональных журналов «Север», не в малой степени определяющего литературную жизнь страны. За работу в журнале Дмитрию Гусарову присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. Самый взыскательный читатель помнит произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, Д. Гранина, В. Личутина, обретшие не без участия Гусарова жизнь на страницах «Севера». Дмитрий Гусаров постоянно учится у своих авторов. Чтобы позже учились у него более молодые собратья по перу, учились синтезу достоверности и значимости, художественности и документализма, столь талантливо обозначимому в романе «За чертой милосердия», впервые вышедшем в 1977 году и почти сразу же получившем Государственную премию Карельской АССР.
Потому и заговорили не только на русском, а и на чешском и финском языках герои Дмитрия Гусарова, что тема мужества и героизма карельских партизан, вроде бы такая локальная и малозначимая, стала темой действительной глубины человеческой жизни, которая — как летопись древних веков — в мнимой малости событий несет в себе большую правду жизни.
Владимир Бондаренко
Цена человеку
Вместо пролога
I
Свердловск, Пролетарская, 13, общежитие, ком. 10. Курганову В. А.
На ваш запрос отвечаем:
1. Возвращаться Вам в наше распоряжение не следует. Если Вы годны к дальнейшему прохождению службы, то призвать в действующую армию Вас может райвоенкомат по месту Вашего жительства.
2. Сандружинница Рантуева Ольга Петровна 17 апреля 1944 года отчислена из партизанского отряда «Народные мстители», и ее настоящее местонахождение нам неизвестно.
3. Почему никто из отряда не отвечает Вам на письма, Вы как бывший партизан должны легко догадаться, если следите по сводкам Совинформбюро за событиями на Карельском фронте.
Пом. начальника отдела кадров ШПД на Карельском фронте — Лейтенант административной службы
(Кармакулов)
7 августа 1944 года.
II
Министру социального обеспечения Карело–Финской ССР
Как бывший командир партизанского отряда «Народные мстители» ходатайствую о разрешении назначить в порядке исключения пенсию сыну партизанки Рантуевой Ольги Петровны за погибшего отца, командира отделения разведвзвода Кочетыгова Павла Васильевича.
Рантуева О. П. вступила в партизанский отряд с момента его организации и на протяжении почти трех лет безупречно и самоотверженно выполняла долг сандружинницы. Награждена орденом Красной Звезды. В апреле 1944 года в связи с беременностью была отчислена из отряда, и в октябре этого же года у нее родился сын.
Рантуева О. П. не состояла в законном браке, но все в отряде знали о ее долголетней дружбе с командиром отделения разведвзвода Кочетыговым П. В., который героически погиб в боях за Родину, был трижды представлен к правительственной награде и в последний раз посмертно к ордену Красного Знамени.
Понимаю, что согласно Указу от 8 июля 1944 года, Рантуева, своевременно не зарегистрировавшая свой брак, имеет право лишь на пособие как мать–одиночка. Однако, учитывая боевые заслуги как самой Рантуевой, так и ее небрачного мужа, ходатайствую о назначении пенсии ее сыну за погибшего отца, так как верю, что если бы жив был Кочетыгов П. В., то их брак с Рантуевой О. П. был бы позднее зарегистрирован. Считаю нужным сообщить, что о моем настоящем ходатайстве сама Рантуева О. П. не знает.
Председатель Тихогубского райисполкома, бывший командир партизанского отряда
Орлиев Т. 3.
Апрель 1945 года.
III
Председателю Тихогубского райисполкома тов. Т.3. Орлиеву
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Довожу до Вашего сведения, что назначенная по распоряжению Министерства соцобеспечения пенсия за погибшего отца сыну Рантуевой О.П. Рантуеву Р.О., проживающему в дер. Войттозеро, в размере 200 рублей матерью не получается. Невостребованные переводы вот уже несколько месяцев лежат на почте и возвращаются обратно, внося путаницу в ведение дел, а сама Рантуева на наше письмо ответила, что пенсию получать не будет.
Заведующий райсобесом Мякишев
Август 1945 года.
Часть первая
Глава первая
1
В гостинице свободными оказались лишь номера «люкс». Денег было в обрез, и Виктор отошел от окошка. Но, встретив выжидающий взгляд Лены, сидевшей в вестибюле на чемодане, снова направился к администратору.
Пожилая администраторша, позевывая в ладонь, предупредила:
— Только на два дня. Послезавтра республиканское совещание, «люксы» понадобятся… — Сверив паспорта, она спросила, указывая на паспорт Лены: — Это кто, жена?
— Жена.
— Предъявите брачное свидетельство.
— Зачем? — удивился Виктор. — Разве отметки в паспортах вас не устраивают?
— Предъявите брачное свидетельство, — повторила администраторша.
Ее беспрекословный тон задел Виктора.
— А если у нас нет этого ценнейшего документа? Забыли дома… Что тогда? — с издевкой улыбнулся он.
— Гражданин Курганов! Вашу иронию оставьте при себе! Мужчину и женщину я имею право прописать в один номер лишь при наличии у них брачного свидетельства. А тем более у вас разные фамилии. Вы человек с образованием и должны понимать, что к чему.
— Редкостное гостеприимство! Начинается прямо с подозрений!.. — Виктор повернулся к жене: — Лена, достань брачное свидетельство!
Настроение было испорчено. Если бы не жена, он сейчас поступил бы очень просто. Забрал бы документы и ушел в трест дожидаться начала рабочего дня. Но Лена… Еще в вагоне она мечтала о том, как они впервые проведут день или два в гостинице незнакомого города. Детская романтика, вычитанная из книг! В жизни все выглядит грубее, жестче.
Вскоре все формальности были закончены. Администраторша, протягивая ордер, примиряюще улыбнулась подошедшей к окошку Лене:
— Колкий у вас муж.
Как только за горничной захлопнулась дверь двухкомнатного, отделанного под карельскую березу «люкса», Лена принялась наводить порядок. По–своему застелила широкие, красного дерева кровати, переставила тумбочки, убрала с письменного стола стекло, которое, по ее убеждению, допустимо лишь в учреждениях.
Виктор, сидя в мягком кресле, молча наблюдал за ее тщетными стараниями превратить шикарный, но казенный до последней мелочи номер в уютный по–домашнему уголок и все тверже приходил к убеждению, что они должны уехать из Петрозаводска сегодня же. В любой район, в любое захолустье, но только туда, где он будет иметь интересную работу и свою, пусть самую скромную, квартиру! Конечно, Лене будет трудно в лесном поселке, она всю жизнь прожила в большом городе, но у нее такие ловкие старательные руки, такое доброе сердце, что ее все будут любить. Она сама в вагоне мечтала о жизни в глуши, среди лесов и медведей, хотя ни того, ни другого еще не видела. Конечно, это романтика! Она мечтает о чем угодно и обо всем с одинаковой восторженностью.
Когда–то и он был таким. Но его романтику развеяла война. Там некому было заботиться о постепенности возмужания, там не было для этого ни времени, ни условий. Там учила сама жизнь, суровые и опасные партизанские будни, где малейшая ошибка стоила слишком дорого.
А возможно, Лена лишь делает вид, что с радостью поедет в лесную глушь. Может, она лишь готовит себя заранее к наихудшему? Сам он часто поступает так. Если впереди выбор, то лучше укрепиться в мысли, что тебе выпадет самое плохое. Предвиденное плохое все–таки лучше неожиданного…
— Чем ты расстроен? — Лена присела на валик кресла. — Смотри, как чудесно стало у нас, особенно в гостиной.
— У нас?! — усмехнулся Виктор и быстро заговорил: — Знаешь, здесь, в Петрозаводске, живет бывший комиссар нашего отряда. Может, мне сходить к нему?
— Конечно, надо зайти, а как же?
— Нет, ты меня не поняла, — поморщился Виктор. — Он крупный партийный работник, чуть ли не завотделом ЦК.
— Так что ж из этого. Ему тоже приятно будет увидеть тебя. Ты тоже вырос: был мальчишка, девятиклассник, а теперь инженер! Это даже интересно, как он встретит тебя. Я очень хотела бы посмотреть!
В ее голосе было столько гордости за него, что Виктор обнял Лену и, гладя ее жесткие, звенящие под рукой волосы, вздохнул:
— Глупышка ты моя! Разве в интересе дело. Разве в том, чтобы посмотреть…
2
Они познакомились четыре с половиной года назад, когда Виктор учился на первом курсе лесотехнической академий.
23 февраля, в День Советской Армии, Виктор в числе других участников войны должен был выступать с воспоминаниями на традиционном студенческом вечере.
Полгода почти никто в академии не знал, что во время войны он был партизаном. Фронтовики–студенты часто рассказывали такие случаи из военной жизни, что девушки только ахали и восторженно смотрели на своих однокурсников. Нередко ему тоже хотелось рассказывать, но он молчал, с удовольствием слушая товарищей и чутьем отделяя правду от невинного домысла.
И вот накануне праздника новый секретарь комитета комсомола, встретив в коридоре Виктора, сказал:
— Курганов, ты завтра тоже выступаешь, как бывший партизан. Хватит уклоняться!
Фронтовики пришли на вечер «в полном параде». В выутюженных, но уже потершихся офицерских кителях, с орденами и медалями, они собрались на ярко освещенной сцене актового зала.
У Виктора не было кителя. В черном шевиотовом костюме, купленном им два года назад по ордеру завкома, он почувствовал себя на сцене как–то неловко и, скрывшись от глаз секретаря, уселся в зале.
Вечер долго не начинался. Волнение и беспокойство с каждой минутой все сильнее охватывали Виктора. Он далее не заметил, как рядом с ним села девушка в коричневом форменном платье школьницы. Когда он повернулся к ней, девушка привстала:
— Простите… Я, может быть, заняла ваше место?
Ее растерянность позабавила Виктора.
— На своем месте я сижу сам…
— Да?.. Спасибо.
Девушка, чувствуя на себе его взгляд, смущалась, то и дело отворачивалась в сторону. Ее вьющиеся золотистые волосы искрились под ярким светом люстр, а на тонкой по–детски нежной шее трепетно пульсировала чуть заметная под кожей жилочка.
«Школьница!» — подумал Виктор. Ему вдруг стало приятно, что рядом с ним сидит вот эта стеснительная девушка, и в то же время немного грустно, что эта девушка — школьница, что здесь, в академии, она, наверное, случайно, что он видит ее в первый и, вероятно, последний раз.
Прозвенел звонок, и вечер начался. Это был тщательно подготовленный и по–военному четко проведенный вечер.
После короткого доклада заведующего кафедрой один за другим к трибуне подходили бывшие летчики, танкисты, пехотинцы. Разные люди, разные судьбы, разные эпизоды… Всех с интересом слушали, но на третьем или четвертом выступлении Виктор неожиданно подумал, что все речи чем–то похожи одна на другую. Да–да, именно похожи, словно рассказывал все это один человек, послуживший и в пехоте, и в авиации, и на флоте.
Ответ пришел сразу же. Каждый выступавший читал заранее написанный текст, каждый, наверное, так же, как и Виктор, не спал ночь, писал свое выступление, потом сокращал, втискивая в регламент. И каждый начинал с общей части — о тридцатилетием пути Советской Армии, о ее выдающихся победах.
В кармане у Виктора вместе с орденом Красного Знамени и медалями лежали листки с текстом подготовленного им выступления. Оно, конечно, кое–чем отличалось от других: Виктору предстояло говорить о партизанах. Но и его выступление начиналось с истории создания Красной Армии, с Нарвы и Пскова.
«Не нужно этого! Это было в докладе! Надо другое — конкретное, яркое, запоминающееся… Может, меня и не вызовут? Хорошо, если бы не вызвали!» — подумал он, искоса посмотрев на свою соседку. Та чуть ли не ртом, слегка раскрытым и трогательно подрагивающим, ловила каждое слово выступающих, а в ее голубых, сощуренных глазах светилась такая неподдельная гордость за сидящих на сцене фронтовиков, что Виктор уже пожалел, что не сел в президиум.
Он достал орден и, нагнувшись, прикрепил его к лацкану пиджака.
— Слово предоставляется бывшему партизану, студенту первого курса Курганову!..
Выхватив из кармана листок с текстом, Виктор стал пробираться к сцене, на какое–то мгновение поймав удивленный взгляд соседки.
Виктор не привык выступать, а сейчас сотни глаз смотрели на него, ждали его первых слов. Он не различал людей, и взгляд его не мог на ком–либо задержаться. Виктор молчал. Хотелось сказать такое, что не было бы похожим на те торжественные, по–праздничному приподнятые, но слишком общие речи, которые еще звучали в ушах.
Но что он мог рассказать?
Там, где он воевал, героизм и мужество нельзя было измерять количеством спущенных под откос эшелонов или взорванных мостов. Не было там ни обширных партизанских районов, ни многотысячных отрядов и бригад. В памяти — прежде всего далекие, неимоверно тяжкие походы, бесконечные леса, горы, болота. Сотни верст пути, и один–два взорванных моста на редких в тех краях шоссейках, несколько уничтоженных машин врага.
— Начинай, Курганов! — услышал он встревоженный шепот секретаря комитета.
И вдруг он решился. Да–да, он расскажет о человеке, которому обязан своей жизнью, о Павле Кочетыгове, отважном разведчике из Войттозера. Почти два года жили они бок о бок, ели из одного котелка, их всегда и везде видели вместе. Их считали друзьями… Странная была дружба! Павел, в чем–то завидуя Виктору, часто подсмеивался, даже нередко унижал его. Так было до той мартовской ночи, когда они оба ценой жизни должны были спасти отряд.
Только тогда Виктор понял, что такое настоящая партизанская дружба.
Скомкав листок с речью, Виктор оперся локтями на кафедру и, с трудом подняв глаза на сидящих в зале, тихо произнес:
— Мне довелось воевать в Карелии. Я тоже хочу рассказать о мужестве, о героизме. Я расскажу о партизанах… О карельском парне — комсомольце Павле Кочетыгове…
Он сделал паузу. По напряженной тишине понял, что слушать будут, и это воодушевило его.
Он уже как бы перенесся в далекие карельские леса, в край озер и болот. Он говорил о крохотном селении Войттозеро, которое видел лишь один раз, и то ночью. Из этой деревни в партизанском отряде были трое: два комсомольца и командир отряда Тихон Захарович Орлиев. О школьных годах Павла Кочетыгова Виктор знал от Оли Рантуевой, но говорил об этом словно рос вместе с ним. Он ни разу не назвал Павла своим другом, но рассказывал о нем так, что всем было понятно, что так можно говорить об очень близком человеке. Это понравилось слушателям.
Лишь в самом конце Виктор растерялся. Он начал рассказывать о последних минутах жизни Павла. Ночь, лес, минные поля на побережье. Отряд, наткнувшись на засаду, отходит вдоль берега. Близится утро. Если не вырваться, не уйти за озеро, отряд днем погибнет. Виктор делает проход в минном поле. Дорога каждая минута. Проход уже готов. Осталось последнее. На середине озера — остров. Есть ли там огневые точки врага? Если есть, то разведчикам надо вызвать их огонь на себя, чтобы отряд смог уйти стороной.
Виктор умолкает, упирается взглядом в кафедру. Он сам никогда никому не рассказывал, что произошло у них с Павлом в эти последние минуты. Может быть, рассказать сейчас? Его поймут, ведь он не виноват ни в чем…
И вновь, как и много раз прежде, слова застревают в горле. Потом, потом… Обо всем случившемся он расскажет Орлиеву, или Дорохову, или любому другому партизану их отряда, кто знал историю их странной дружбы с Павлом.
— В общем… Павел вызвал на себя огонь финских дзотов. Он погиб… — с трудом произнес Виктор и замолчал.
Люди ждали от него еще чего–то. Он это понял, посмотрев в зал. Совсем тихо, как бы доверяя свои мысли лишь президиуму и первым рядам, Виктор добавил:
— В том бою меня тоже ранили. Сразу же, в начале боя. После госпиталя я уже не вернулся в отряд. Война в Карелии шла к концу… Память о Павле Кочетыгове будет вечно жить у каждого, знавшего его. А для меня она определила мою судьбу… На его родине лес — главное богатство. Он кормит людей… Наверное, поэтому я решил стать инженером–лесозаготовителем.
Резко повернувшись, Виктор сошел в зал. Несколько мгновений стояла тишина, а потом раздались такие дружные аплодисменты, что Виктор даже вздрогнул. Они продолжались до тех пор, пока он не уселся на место.
Соседка, глядя на него восторженными глазами, хлопала дольше всех.
— Вы замечательно выступили! Просто замечательно!
Виктор, покраснев, пробормотал что–то в ответ и стал пристально смотреть на сцену, где секретарь произносил заключительное слово.
Через минуту соседка тихо тронула его за рукав:
— Мой папа тоже был партизаном… Погиб где–то под Лугой. Как вы думаете, можно найти его могилу?
Виктор знал, что партизанскую могилу найти почти невозможно, но ему жаль было девушку.
— Трудно, но можно, пожалуй. Нужно отыскать кого–либо из его товарищей.
— А вы не скажете, куда лучше обратиться?
Виктор принялся объяснять. Девушка благодарно кивала головой и все время не сводила глаз с ордена Красного Знамени, выглядевшего особенно внушительно на лацкане черного костюма.
Так они познакомились.
Лена училась тогда в десятом классе и жила неподалеку от академии, где ее тетя работала библиотекарем. Осенью она поступила в университет, а через три года они поженились.
Вечер, посвященный годовщине Советской Армии, определил в жизни Виктора не только его семейные дела. Его выступление стало сказываться на его судьбе помимо его воли.
Для всех выпускников день распределения на работу — день волнений, тревог, беспокойства. Еще задолго до этого студенты бегают, суетятся, советуются, смотрят карты, справочники, улещивают секретаря в деканате в надежде выведать, куда ожидаются назначения. Виктору не пришлось испытывать этого. За месяц до распределения декан факультета, встретив его в коридоре, протянул руку и, хитровато усмехаясь, спросил:
— Ну, как, не надумали оставаться в аспирантуре?
— Нет. Поеду в лес.
Декан, и удивленный, и довольный, потряс ему еще раз руку:
— Ну, что ж. Это хорошо. Поедете на свою партизанскую родину, в Карелию. Есть несколько заявок оттуда. А через годик–другой будем рады видеть вас в аспирантуре.
— Спасибо.
…Характеристика и автобиография, хранящиеся в личном деле каждого выпускника, делали свое дело. Виктор был почти убежден, что и здесь, в тресте, прежде всего обратят внимание на то, что он партизанил в войттозерских лесах.
Так оно и случилось.
Глава вторая
1
Вечером, возвращаясь из лесосеки в поселок, начальник Войттозерского лесопункта Тихон Захарович Орлиев впервые ощутил приближение старости. Велик ли подъем на Кумчаваару — всего каких–нибудь двести метров. Раньше Тихон Захарович, не отдыхая, всходил на каменистую, поросшую мхом вершину с одинокой, кряжистой сосной у ската в сторону Войттозера. А сейчас — на полпути тяжестью налились ноги, и усталость щемящей болью отдалась в сердце. Пришлось остановиться, присесть на выщербленный ветрами и солнцем валун, ждать, пока вечерняя прохлада высушит на лице испарину.
Весь день Тихон Захарович провел на участке Рантуевой.
Решение заняться вплотную одним мастерским участком и тем самым доказать, что дневной план выполним, не пришло само собой.
Лесопункт давно уже отставал. Минувшей зимой дела как будто начали выправляться, а в марте и совсем все пошло хорошо — вместо десяти тысяч кубометров вывезли чуть ли не двенадцать тысяч. Но с весны все опять разладилось. Бездорожье, поломки машин, отпуска — одно к одному. План проваливали, задолженность росла. Две недели назад Войттозерский лесопункт слушали на бюро райкома партии, и в решении, среди многих «указать», «отметить» и «обязать», говорилось и о конкретности руководства.
Кто–кто, а Тихон Захарович лучше других знал, что о необходимости конкретного руководства бюро записывает в решении почти по каждому вопросу. Он сам семь лет был членом бюро райкома. Может быть, поэтому в отношении Войттозера этот пункт показался ему шаблонным, перекочевавшим из других решений. С раннего утра до поздней ночи Тихон Захарович только и занимается конкретными делами. По сути, других–то дел и нет у начальника лесопункта. Ему не надо проводить многочисленных заседаний с долгими словопрениями и обсуждениями. Хватает одной пятиминутной планерки по утрам. Расстановка рабочей силы, механизмы, дороги, снабжение — конкретных дел у него хоть отбавляй.
Все это Тихон Захарович полушутливо высказал секретарю райкома Гурышеву, когда они в перерыве курили у окна. Тот слушал, согласно кивал головой, потом задумался и, внезапно смяв недокуренную папиросу, подхватил Тихона Захаровича под локоть.
— И все же ты не совсем прав. Да–да, даже совсем не прав. Можно и землю пахать неконкретно. Да–да, не смейся, именно — неконкретно. Пахать, и все. Пахать, как вообще пашут, идти за плугом, забывая, что ты пашешь карельскую землю, где раз–другой наткнешься на камень и плуг сломаешь.
Секретарь был человеком молодым и новым в районе. Тихон Захарович не удержался, чтоб не подковырнуть его.
— Не знаю, может, в других местах умеют пахать и неконкретно. А лес рубить неконкретно трудно.
Гурышев не обиделся, опять покивал головой, а когда Тихон Захарович, затаив на губах усмешку, умолк, он неожиданно огорошил вопросом:
— Но ведь ты сам–то лес не рубишь?
— То есть как это?.. — растерялся Орлиев, не зная, в шутку ли принимать вопрос или всерьез… Этот, еще неопытный в делах секретарь, чего доброго, может ради конкретности предложить ему, Орлиеву, самому взяться за топор.
«Эх, парень… И зачем ты согласился на такой район, где и поумней тебя люди шеи ломали?» — подумал Тихон Захарович, глядя в бесхитростные глаза Гурышева.
Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, но секретаря позвали к телефону. Подхватив Орлиева под локоть, он потащил его к аппарату, торопливо втолковывая:
— Попробуй не вообще наводить порядок, а конкретно. Понятно? Возьми один мастерский участок и действуй! День, два, три! Вытяни его! Ты ведь такой, если возьмешься, то вытянешь. О тебе вон целые легенды ходят! Потом — за другой! Один вытянешь, на другом легче будет. Люди поверят, что план — это реальность, а не выдумки. Вот это и будет конкретность. Ну, прощай!
Две недели Тихон Захарович внутренне сопротивлялся не потому, что предложение секретаря показалось ему глупым. Орлиев и сам не раз подумывал, а не взяться ли за дело по–партизански. Навалиться на один мастерский участок, — и кровь из носу! — но вытянуть его, показать другим, как надо работать.
Орлиев верил в себя. И все же было боязно ломать привычный порядок, а вдруг дела пойдут еще хуже? Одну дыру заткнешь, а пять других шире разойдутся.
Тихон Захарович не знал и даже намеренно не поинтересовался, как поработали сегодня другие мастерские участки. Опять, наверное, поломки, простои.
Но не это так сильно огорчало Орлиева сейчас, когда он, усмиряя одышку, присел на камень, впервые не одолев подъема на Кумчаваару.
Горько и обидно было сознавать другое. Целый день сам он провел на одном участке, а по сути там ничего не изменилось. Те же поломки, аварии, простои.
Отдышавшись, Тихон Захарович решил не подниматься в гору, а обойти ее по склону. Хоть и дальше, но спокойней.
«Есть же на земле люди, которые всю жизнь живут тихо и спокойно, — подумал Тихон Захарович, глядя на клонившееся к закату августовское солнце. — Удят рыбу, ходят на охоту, возятся с детишками, потом с внучатами… Смолоду их критикуют за отрыв от общественной жизни, а они живут себе. К старости их даже уважать начинают… За долголетие… За мудрость… Таких считают добрыми… И никто их не осуждает в старости за то, что они в наше–то беспокойное время всю жизнь прожили ровно, как по широкому лугу в цветах прошлись…»
Начал свои размышления Тихон Захарович с завистью, а закончил с таким ожесточением к этим тихим людям, к их спокойной ровной жизни, что снова стало легонько покалывать в сердце.
— Да, видать, и я старею! — вслух произнес он и, хотя сам все еще не верил в это, тоскливо стало на душе: а вдруг и впрямь подошла старость?
Тихон Захарович никогда бы не пожаловался на судьбу. За свои пятьдесят два года он прожил такую жизнь, которой, если ее разделить поровну, могли бы гордиться в старости три, а то и четыре человека.
Семнадцатилетним пареньком он стоял рядом с отцом в тесной кучке войттозерских комбедчиков перед вооруженными, торжествующими победу кулацкими бандитами. Это случилось в ночь на 7 ноября 1918 года, когда почти вся деревня была на первом торжественном собрании в специально разукрашенной для этого избе Орлиевых. Уже шел незатейливый концерт — даже не концерт, а хоровое исполнение революционных песен, — когда во дворе раздался взрыв гранаты и в разбитое окно кто–то крикнул из темноты:
— Коммунисты, выходи!
Дом был окружен. На тесном крыльце каждого из мужиков обыскивали и отправляли одних — вправо, других — влево. Тихон сам, не дожидаясь приказа, отошел влево, туда, где стояли отец и трое его товарищей.
Бандиты не торопились. Они, словно не зная, как быть дальше, долго измывались над арестованными на глазах у притихшей толпы. Потом кто–то из них пожаловался на темноту, и другой тут же запалил дом, сунув под крыльцо охапку сена.
Толпа заволновалась.
— Что делаете? Ироды!
— Деревню спалить хотите!
— Молчать! — Один из бандитов, в офицерском полушубке и егерской шапке с длинным козырьком, выпалил из нагана вверх и приказал арестованным: — Раздевайсь!
Вдруг он заметил Тихона, угрюмо стоявшего чуть позади отца.
— А тебе чего здесь надо, сопляк! Тоже в коммунистический рай захотел?! Марш отсюда!
Отец, не оборачиваясь, торопливо заговорил:
— Иди–иди, Тиша! Беги в город!
Тихон отошел к толпе, потом незаметно юркнул в темноту и задворками выбрался на дорогу уже за околицей.
По небу гуляло зарево, в деревне мычали встревоженные пожаром коровы, лаяли собаки.
Быстро–быстро, во всю прыть молодых ног, со слезами на глазах бежал Тихон от родной деревни. Потом остановился. Подумал. До Тихой Губы сорок верст, уже стояли крепкие морозы, а на нем лишь отцовский пиджак, надетый ради праздника.
Бегом вернулся Тихон в деревню, вошел в первый дом. Пользуясь суматохой, нащупал чей–то рваный овчинный тулуп и снова вышел в путь.
Он уже был далеко, когда позади, словно всплески воды, прозвучало в морозном воздухе несколько выстрелов. Все стихло. И вдруг с каждым шагом все явственнее зазвенела в ушах последняя исполнявшаяся в концерте песня:
Слушай, товарищ, война началася, Бросай свое дело, в поход собирайся.Весь путь, всю ночь, пока Тихон добирался до села на тракте, эта песня ни на минуту не утихала в его душе. Во время передышек, когда усталость ненадолго смыкала глаза, ему чудилось, что продолжается первый в его жизни концерт и он вместе с другими поет:
Смело мы в бой пойдем За власть Советов, И как один умрем В борьбе за это!Даже сейчас, через тридцать пять лет, он слышит каждый звук этой любимой и последней песни отца.
Так началась самостоятельная жизнь. А что было потом — всего и не вспомнишь.
Почти три года в составе особого батальона мотался по туркестанским пескам в погоне за неуловимыми отрядами басмачей. Там и вступил в партию.
В родную деревню после ранения вернулся не беспечным юнцом, каким иной бывает в двадцать лет, а рослым, много повидавшим мужчиной с крутым характером и испытующе–непримиримым взглядом светло–серых глаз. Кем только не доводилось ему работать потом. Был и лесорубом, и сплавщиком, и председателем сельсовета, и начальником лесопункта, а за год до войны был избран председателем райисполкома.
В минуты откровенности люди жаловались ему, что работать с ним трудно. Да, Тихон Захарович не щадил людей, но пусть им будет утешением то, что он еще больше не щадил самого себя.
Другие имели ежегодные отпуска, выходные, нормированные рабочие дни. Тихон Захарович лишь дважды пользовался отпуском. Первый раз — после женитьбы, когда он с молодой женой ездил к ее родителям, на Кубань; второй раз — недавно, после сессии райсовета, где его освободили от должности председателя исполкома. За все остальное время трудно вспомнить день, когда его мысли не были заняты делами.
Дела, дела… Сколько их было за тридцать лет, а сколько еще ждет впереди! Если говорить начистоту, то они приносили неприятностей гораздо больше, чем радости и благодарности. Люди словно забыли, каким было Войттозеро тридцать лет назад. Нищета, лучина, полуголодное зимовье. А сейчас даже летом поселок переливается электрическими огнями. Издали, с Кумчаваары, кажется, что на берегу огромного озера раскинулся настоящий город. А люди к этому относятся так, будто все это делалось само собой.
Кто–кто, а уж Тихон Захарович лучше других знает, что не сами собой возникли клуб и школа, детсад и радиоузел, магазин и электростанция. Сама собой ни одна доска не легла в войттозерские тротуары.
И после этого находятся еще недовольные, которым и одно не по нраву, и другое. Заставить бы их начинать с того, с чего начал свою жизнь Тихон Орлиев.
2
Он вошел в поселок, когда в домах уже зажигались огни. Северные белые ночи кончились, и на темном небе уже проступали крупные августовские звезды.
«Домой или в контору?» — задал себе вопрос Тихон Захарович, останавливаясь у приземистого, барачного типа, общежития. Хорошо бы сейчас лечь в постель! Он имеет на это право — целый день провел в лесу, на ногах, и никто не посмел бы упрекнуть его за то, что он так рано лег спать. Конечно, люди удивились бы. Они привыкли видеть его в конторе до поздней ночи и обращаться к нему, не считаясь со временем суток.
Но чем больше Тихон Захарович оправдывал это необычное для себя желание, тем яснее осознавал, что поступит по–иному. За день в конторе накопилась уйма дел. Стол наверняка завален заявлениями, требованиями в леспромхоз и трест, сводками. В конторе, конечно, сидят в ожидании начальника люди.
От озера по тропке, плутавшей между крохотными огородами, Тихон Захарович вышел на главную улицу поселка. В стороне, у клуба, хрипло ревел динамик, и его десятиваттный голос грустно вспоминал под музыку:
…Шли мы дни и ночи, Трудно было очень…Динамик вдруг на полуфразе оборвал песню, и глубокая тишина охватила весь поселок. Лишь позже, пообвыкшись с внезапно наступившей тишиной, Тихон Захарович стал различать знакомые и привычные звуки вечерней жизни: усталое пыхтение локомобиля электростанции, далекое взвизгивание циркульной пилы, заготовляющей чурку для газогенераторов, хлопанье дверей в столовой, голоса людей, блеяние чьей–то заблудившейся козы и где–то совсем рядом чиханье никак не заводившегося мотоцикла.
«Сеанс начался», — про себя отметил он. Ему вдруг стало обидно, что вот другие, забыв все на свете, смотрят сейчас на экран, а он должен вновь влезать в кучу дел, которым и конца никогда не будет.
В трех комнатах конторы горел свет. Поднимаясь на крыльцо, Тихон Захарович различил звонкий голос мастера Панкрашова.
«Зубоскалит! Анекдоты рассказывает!» — недовольно подумал Орлиев о Панкрашове.
Как он и предполагал, в конторе сидело не меньше десятка людей: два мастера — Панкрашов и Вяхясало, директор семилетки, завстоловой и несколько рабочих.
Едва Тихон Захарович переступил порог, разговоры смолкли. Панкрашов, не докончив рассказа, поспешно начал рыться в планшете с мутно–желтым целлулоидом, а все другие молча смотрели на остановившегося в дверях начальника.
Лишь директор школы Анна Никитична Рябова — полная рыжеватая блондинка с бойким характером и слегка веснушчатым красивым лицом — тяжко вздохнула:
— Наконец–то! А мы уж, грешным делом, подумали — заблудился наш Тихон Захарович.
Никто не отозвался на ее шутку. Орлиев кивнул на дверь своего кабинета:
— Чего иллюминацию устроили? Там есть кто?
— Мошников там, — с готовностью ответил Панкрашов, вставая и оправляя затянутую офицерским ремнем новенькую суконную гимнастерку.
«Ишь, каким франтом сегодня… — подумал Тихон Захарович, обратив внимание на блестевшие глянцем хромовые сапоги Панкрашова. — Перед кем он форсит–то? Уж, конечно, ради Анны Никитичны вырядился».
— Ты никак, Панкрашов, сегодня план по вывозке выполнил? — спросил он, с усмешкой глядя на мастера.
— Смеетесь? — обиделся Панкрашов. — А что? Выполнил бы, да трелевка подвела… Тракторы у меня, сами знаете….
— Зато вид у тебя сегодня уж больно праздничный. Как будто бы годовую программу завершил.
Все посмотрели на Панкрашова. Тот смутился, поежился и привычно забормотал;
— Разве это тракторы… Дрянь, а не машины… Я вот и пришел… Обещали ведь нам три новых КТ. Где они?
— Подожди, — прервал его Орлиев. — Ну, а у тебя как, Олави Нестерович?
Вяхясало, пожилой краснолицый финн с голубыми глазами и горбатым поломанным носом, долго смотрел на начальника, недоумевая, почему тот спрашивает, а не посмотрит дневную рапортичку, уже давно положенную ему на стол. Потом вынул блокнот, надел очки, неторопливо и размеренно прочитал:
— Заготовка — сто пятнадцать. Трелевка — сто три. Вывозка — шестьдесят семь.
— Ясно. Опять дорогу ремонтировал?
— Без дорог нельзя.
— Ясно, — недовольно повторил Тихон Захарович. Он повернулся к директору школы, снял фуражку и присел на стул.
— Ну, слушаю тебя, Анна Никитична.
Пряча в своих бойких глазах хитроватую улыбку, Анна Никитична спросила:
— Может, туда пройдем? — Она кивнула на дверь кабинета.
— Нет–нет. Чего нам от народа таиться?
Тихон Захарович знал, о чем пойдет разговор — о дровах для школы, о завершении ремонта, и не это заставило его так неловко отказаться от разговора с Рябовой наедине.
Он боялся другого. В последний год, как только Тихон Захарович переселился в Войттозеро, Рябова стала относиться к нему странно. На людях — язвит, подсмеивается, старается уколоть, чем только может, а встретятся они один на один — ее чуть раскосые, желудевого цвета глаза смотрят на Орлиева так, словно ждут от него чего–то. Может, Тихону Захаровичу и казалось все это, но он стал чувствовать себя наедине с Рябовой неловко.
Сейчас, после его ответа, Анну Никитичну словно подменили в одну секунду.
— И верно, здесь, при свидетелях, удобней! — весело откликнулась она. — Пусть все видят, как в Войттозере к школе относятся. Дровами школу обеспечивать будем?
— Будем.
— Когда? Учебный год на носу…
Тихон Захарович знал Анну Никитичну вот уже пятнадцать лет. Он помнил ее молоденькой застенчивой учительницей, только что приехавшей в Войттозеро после окончания техникума. Жена Орлиева помогала ей делать первые шаги. Кто мог бы предположить тогда, что из Рябовой выйдет хитрый и напористый администратор, этакая бой–баба, которая, если надо, и на горло наступит. Когда Тихон Захарович работал председателем райисполкома, ему нравилась эта черта в Рябовой. Таким, казалось ему, и должен быть директор школы, а иначе порядка никогда не будет. В сутолоке дел сами хозяйственники о школе и не вспомнят. Надо требовать, добиваться… Теперь, когда он стал работать начальником лесопункта, напористость Рябовой нравилась ему все меньше. А сегодняшние ее претензии попросту разозлили Орлиева. Он сурово нахмурился, хотел одернуть Рябову, но вовремя вспомнил, что их слушают другие, и сдержался.
— Сто кубометров мы уже подвезли, — начал было Орлиев, но Анна Никитична его перебила:
— Осталось еще двести. Их надо распилить, разделать, чтоб просохли…
— Подвезем и остальные. — Тихон Захарович поднялся, взял со стола фуражку, давая понять, что разговор окончен.
— Когда? — поднялась и Рябова. В ее глазах уже не пряталась улыбка, они строго и осуждающе смотрели на начальника лесопункта.
— Освободятся машины, и подвезем.
— Хорошо. Поверим еще раз. — Рябова одернула свою ярко–зеленую, домашней вязки кофту и, ни на кого не глядя, направилась к выходу. У дверей неожиданно остановилась и предупредила: — Через неделю я еду в район, на учительское совещание. Если к тому времени школа не будет обеспечена дровами, то уж не взыщите!
— Угрожаешь? — загорячился Орлиев. — Ты же коммунистка! Лесопункт не выполняет план! Сама, как член партбюро, палец о палец не ударила, чтоб помочь, да еще угрожаешь?!
Люди с нескрываемым удивлением смотрели на начальника. В последнее время Орлиев, насколько это ему удавалось, старался сдерживать себя, голоса не повышать, быть твердым, но спокойным. А тут как вскипел, и главное — по пустякам! Панкрашов растерянно метался взглядом то на Орлиева, то на Рябову, словно не зная, чью сторону ему принять. Из двери кабинета выглянул испуганный Мошников.
Наступила долгая неловкая пауза.
— Чем же я вам, бедненьким, помочь должна? — певучим голосом спросила Анна Никитична, и вновь в ее глазах заиграла хитрая улыбочка. — Учеников, что ль, на делянку вывести?
— Хотя бы тем, что на нервах у нас перестаньте играть, — сдерживаясь, глухо сказал Орлиев.
— Только–то?! — удивилась Рябова. — Ну, это не трудно… Счастливо оставаться! Панкрашов, вы идете?
— Да, да, одну минуточку, — заторопился тот. — Тихон Захарович, я нужен вам?
«Кому ты нужен, ветрогон?!» — с острой обидой подумал Орлиев и раздраженно спросил:
— Ты что, на свидание в контору явился или по делу?
— По делу, конечно… Я насчет новых тракторов узнать… Да и насчет отпуска… Лето проходит, а я еще не был.
— Вернется Рантуева, пойдешь в отпуск, — смягчился, глядя на растерянного мастера, Орлиев. — А сейчас можешь идти… Завтра до выезда планерка!
— Слушаюсь, — обрадованно ответил Панкрашов и, подождав для приличия несколько секунд, направился к двери.
Полчаса Тихон Захарович выслушивал по очереди рабочих. Просьбы и заявления были привычные, похожие и повторяющиеся чуть ли не каждый день. Одному сельский Совет до сих пор не выделил покоса для коровы, другому нужен ремонт квартиры, у третьего прибавилось семейство, и ему нужна дополнительная жилплощадь.
Тихон Захарович одним сразу же писал на заявлениях резолюции, другим — обещал поговорить, выяснить, третьим пока отказывал, просил подождать месяц–другой, а из головы не выходил неприятный разговор с Рябовой. Чем больше он раздумывал над этим, тем острее ощущал неуловимую, но бесспорную свою вину.
Обидно сознавать, что ты, бывший председатель райисполкома, старый коммунист и партизанский командир, вот уже сколько месяцев не способен наладить дела на лесопункте, где до войны у тебя все шло хорошо.
Что же случилось теперь? Он стал другим? Нет, он нисколько не изменился. А если и изменился, то не может же быть, чтобы с возрастом стал хуже, чем был во время войны?! Почему сейчас уже не чувствуется за спиной того напряжения у людей, которое он всегда ощущал перед атакой?
В конторе остались трое — Орлиев, молча сидевший в углу Вяхясало да в кабинете, за дверью, Мошников.
Из–за стены, где жила уборщица, слышалось размеренное тикание ходиков.
Орлиев безотрывно смотрел на изредка помигивающую на столе лампочку и чего–то ждал. Он знал, что старый мастер первым не начнет разговора, но сейчас ему было приятно сидеть, молчать и чего–то ждать. Слегка подташнивало от голода, гудело в голове, хотелось поскорее лечь в постель, отдохнуть, выспаться, но разливающаяся по всему телу усталость сковывала движения.
Рабочий день закончился.
Завтра наступит новый. Тихон Захарович, как всегда, поднимется в шесть утра, зайдет в столовую выпить стакан крепкого чая с черным хлебом и в семь уже будет здесь, в конторе.
Как быть завтра? Отправляться ли снова на делянку? Если бы Мошников был настоящим техноруком — беды большой и не было бы, коль начальник на два–три дня занялся одним участком. Но на Мошникова полагаться нельзя — ни опыта, ни образования, да и характером робкий, нерешительный. Судьба у человека — всю жизнь на подхвате. Ни инициативы, ни самостоятельности — сплошная исполнительность. Что ж, не всем же руководить, надо кому–нибудь и исполнять распоряжения. Такие люди тоже нужны, но, конечно, не в должности технорука лесопункта. Настоящий технорук — это все равно что начальник штаба. А секретарь парторганизации — тот же комиссар. Но в Войттозере и комиссар и начальник штаба соединены в одном лице, и этим лицом, как на грех, является Мошников. Да–да, надо требовать настоящего технорука, с опытом, с образованием, хорошо бы даже с дипломом. Сейчас в лесу столько механизмов, что без четко налаженного технологического процесса о плане и думать нечего.
— Ну, Олави Нестерович, что скажешь? — оторвался от своих дум Орлиев.
Старик выждал, не добавит ли начальник еще чего–нибудь, и сказал, с трудом подбирая слова;
— Без дорог, Тихон, пропадем… Надо дорожную бригаду укрепить, дороги ладить.
— Опять ты за старое. Пока ладим, время уйдет, а когда план выполнять?
— План без дорог не дашь. Себя винить надо, весной не усмотрели. Машины гробили, силы гробили, вон сколько аварийного леса по обочинам валяется.
Орлиев всегда с уважением относился к старому мастеру. В молодости Тихон Захарович не один сезон работал бок о бок с Вяхясало. В 1925 году Олави Нестерович вместе с большой группой канадских финнов приехал в Карелию. За границей они на свои сбережения купили трактор и привезли его сюда.
Тогда стальной конь казался чудом техники. Но маломощный «фордзон» был совсем не приспособлен для работы в карельском лесу. Один сезон с горем пополам его еще использовали на санной вывозке, а потом передали в только что организованный совхоз под Петрозаводском.
В те времена и в канадских лесах нельзя было найти ни одного трактора, но финны были очень огорчены, что их подарок не нашел применения в советских лесах. Тогда–то, пожалуй, Тихон Захарович и услышал впервые от Вяхясало эту фразу:
— Дорогу строить надо!
Вспомнив это, Орлиев невольно улыбнулся и подумал: «Что было бы, если бы тогда решились строить для маломощного фордзона дорогу. Ухлопали бы уйму времени, денег и сил, а пользы ни на грош. Не так ли и теперь?»
— Не согласен я с тобой, Олави Нестерович, — сказал Орлиев. — Дороги, конечно, у нас никудышные. Но если мы сейчас, в середине августа, возьмемся их строить, то план полетит к черту.
— Август полетит, сентябрь выручит.
— На осенние месяцы рассчитывать нечего. Дожди, слякоть, вывозка совсем упадет.
— Значит, все лежневкой проходить надо! — упрямо повторил старик.
— Ты вот уж сколько дней ремонтируешь, а что толку? Поднялась у тебя вывозка? Нет. Так и все лето пройдет.
— Поднимется. Сил у меня мало. Надо отдельный дорожный участок создать.
— А я где людей возьму? Рожу, что ли? Да если я с основного производства людей сниму, меня съедят в леспромхозе. Да и не в дорогах, в конце концов, дело, а в халатности шоферов. Люди разболтались. В войну и не по таким дорогам мотаться приходилось, а ничего, выполняли задания. Знали, что не выполнить нельзя. Ночей не спали, вон как в этой песне поется: «Трудно было очень, шли мы дни и ночи». А сейчас отработал свои восемь, сделал не сделал–домой. Вот в чем беда наша!
Вяхясало терпеливо выслушал начальника, подождал, не скажет ли еще чего, потом неторопливо поднялся, надел финскую кепку с длинным козырьком, положил в карман трубку.
— Правду говоришь. Люди не стараются. Все правда. И про песню правда. А дороги, Тихон, строить надо. Сам спохватишься, поздно опять будет.
— Ну и упрям же ты, Олави Нестерович! Как эта самая Рябова! — рассмеялся Орлиев. — Уходишь? Добавочный лесовоз тебе нужен? Завтра два из ремонта должны выйти…
— Не надо пока. Дней через пять понадобятся.
— Что, заканчиваешь ремонт дороги? — спросил Орлиев, обрадованный тем, что лесовозы можно будет направить на участок Рантуевой.
— Заканчиваю.
— Ты ремонтировать ремонтируй, но о плане не забывай. А перерасход зарплаты на ремонт чем покрывать думаешь?
— Будут дороги — будет план. Будет план — будут и деньги, — ответил старик и, не поворачиваясь, пригласил от дверей: — Ужинать заходи, столовая–то уже закрыта.
— Спасибо, может, и зайду.
Все стихло.
Орлиев недовольно посмотрел на дверь кабинета, где все еще продолжал работать Мошников: «Тоже мне технорук! Сидит, как мышь в норе. И чем он только занят! Наверняка отчет какой–либо строчит или план составляет»,
3
Тихон Захарович не ошибся. Мошников, сидя на краешке стула и навалившись узкой грудью на письменный стол, что–то торопливо писал мелким бисерным почерком. Вид у него был жалкий, растерянный: волосы взъерошены, на лице капельки пота. Увидев Орлиева, Мошников вскочил и виновато улыбнулся, сверкнув зеленоватыми линзами огромных очков. Другой улыбки на лице своего технорука Тихон Захарович и не помнил. Мошников всегда был серьезен, озабочен, и если изредка улыбался, то улыбался так, словно просил извинить ему недозволенное. Он был невысокого роста, ходил мелкими, неуверенными шажками, втянув голову в плечи и глядя под ноги. Одет он был в темно–серый, перелицованный пиджак с карманчиком на правой стороне, из которого торчали бумажки, карандаши, расческа и потертый футляр из–под очков.
У Мошникова была большая семья — четверо детей. Жилось ему трудно — не было ни коровы, ни кур, а до нынешнего лета даже не имел и огорода.
Орлиев знал Мошникова давно, когда тот жил в райцентре и работал председателем рабочкома леспромхоза. И всегда Тихон Захарович, уважавший людей твердых и решительных, ловил себя на двойственном отношении к своему теперешнему техноруку. Неприязнь и даже презрение иногда сменялись жалостью и сочувствием к этому безропотному работяге, который тоже не щадит себя, хотя и без толку.
— Здравствуй, Петр Герасимович! Мы, кажись, сегодня и не виделись, — сказал Орлиев, протягивая Мошникову руку. — Что поздно так? Иль срочное что?
Мошников ладонью пригладил волосы, поправил очки и еще раз виновато улыбнулся:
— Отчет писал. Из райкома звонили — надо отчетно–выборное проводить… А на днях сюда инструктор собирается, показать доклад хочу.
В его сипловатом голосе было столько озабоченности, что Орлиев не мог не одобрить:
— Дело надумал… Показать никогда не мешает. Ну, а как детишки твои — здоровы?
О производственных делах Тихон Захарович старался говорить с Мошниковым поменьше. Все равно толку почти никакого — поддакивает, со всем соглашается, а если и не согласен, молчит или возражает так робко, что только злишься. Начнешь советоваться о чем–нибудь — только себя запутаешь. Так уж повелось: Орлиев приказывал, подробно объяснял, а Мошников слушал и выполнял.
— Детишки? — спросил Мошников, лихорадочно что–то припоминая, потом, вспомнив, улыбнулся; — Что им может статься, детишкам–то?! Живут себе.
Бегло просматривая лежавшую на столе стопку дневной почты, Тихон Захарович добродушно пожурил:
— Что ж ты так? Дети — они внимания требуют… Сводку за день отправил?
— Да, телефонограммой, — поспешно ответил Мошников.
Он подождал, пока Тихон Захарович закончит просмотр почты, потом, словно бы между делом, но едва скрывая волнение, тихо сказал:
— Из треста звонили. По кадровому вопросу.
— По какому? — встрепенулся Орлиев.
— По кадровому… Плохо слышно было.
— Кто звонил?
— Кажется, сам управляющий. — Мошников помолчал, поскоблил ногтем свой облупившийся от загара нос и вдруг спросил:
— Вы о замене меня ставили вопрос перед руководством?
Тихон Захарович поглядел прямо в глаза Мошникову, помедлил, твердо сказал:
— Ставил. А ты откуда знаешь об этом?
— Догадался, когда управляющий не стал со мной говорить. Поначалу он меня за вас принял, поздоровался: «Я, говорит, к тебе, Тихон Захарович, по кадровому вопросу…» А как узнал меня, сразу примолк и попросил вас позвонить ему ночью на квартиру.
Мошников говорил тихо и вроде бы безразлично, словно речь шла о судьбе какого–то другого, незнакомого ему человека. Однако Тихон Захарович, хорошо знавший технорука, почувствовал, как тяжело переживает тот только что услышанное. Глядя на свои лежавшие на столе тяжелые, огрубевшие ладони, Орлиев сказал:
— Ты сам, Петр Герасимович, знаешь, что технорук… это не по тебе работа. Не обижайся, ко это так. Тут, брат, и образование надо, и опыт, и характер. Возьми меня! Я еще до войны пять лет в начальниках лесопункта ходил, и то сейчас тяжко. Тебе другую работу найдем, по характеру. Может, заместителя по быту нам утвердят, вот тебе и работа. Поселок большой, дело тебе привычное, знакомое по профсоюзу…
— Понятно, Тихон Захарович, — прервал его Мошников, собирая со стола свои бумаги. И хотя голос его был по–прежнему спокоен и даже покорен, Орлиев уловил в нем глубокую, затаенную обиду.
Вообще–то было бы странно, если бы эта весть обрадовала Мошникова. Кто–кто, а Орлиев на себе испытал это, когда тебя под благовидным предлогом хотят заменить на должности.
Правда, гордость не позволила Тихону Захаровичу ждать подобного разговора. Нет, он сам попросился в отставку с поста председателя райисполкома. Он хорошо помнит, как начальство прятало от него свою радость, когда он завел разговор об этом. Ему предложили леспромхоз. Но он попросился на лесопункт и обязательно сюда, в Войттозеро…
Разговор с Мошниковым на этом и закончился.
Уходя, Тихон Захарович вспомнил, что в столе у него лежит пачка печенья. Иногда, задержавшись допоздна в конторе, он стучал в стенку, просил уборщицу тетю Пашу согреть самовар и с удовольствием пил крепкий чай с печеньем.
Столовая была уже закрыта. Решив попить чаю дома, Тихон Захарович вернулся, достал печенье. Мошников вновь раскладывал на столе бумаги с неоконченным докладом. Тихон Захарович постоял, подумал, глядя на ссутулившуюся над столом фигуру, и вдруг, подчиняясь нахлынувшему чувству жалости и теплоты, сунул Мошникову печенье:
— Детишкам передай от меня. Да иди ты домой, завтра будет день!
Мошников вздрогнул, удивленно посмотрел на начальника, принял печенье.
— Спасибо.
Уже стихли под окном шаги Орлиева, а он все еще растерянно вертел в руках пачку в нарядной праздничной обертке, потом вздохнул, бережно положил ее в карман пиджака и вновь принялся за работу,
Глава третья
1
В тресте все получилось так, как можно было предполагать.
С замирающим от волнения сердцем Виктор переступил порог кабинета, и тяжелая обитая дерматином дверь неслышно захлопнулась за ним.
Управляющий трестом Селезнев — пожилой, слегка располневший мужчина с копной сизых густых волос и с квадратиками седых усов — грузновато поднялся из–за стола и неторопливо, с достоинством подошел к остановившемуся у двери Виктору.
Молча пожали друг другу руки. Так же молча Селезнев провел Виктора к мягкому креслу у тяжелого письменного стола, а сам вернулся на свое место, раскрыл темно–синюю папку.
«Мое личное дело», — догадался Виктор, заметив свою путевку, которую он утром сдал в отдел кадров. Было как–то странно и в то же время приятно видеть, что в учреждении, где ты впервые появился всего несколько часов назад, уже заведено на тебя личное дело — прямое доказательство того, что уже зачислен в кадры.
Селезнев бегло перелистал бумаги. Их пока было немного — путевка, автобиография, листок по учету кадров и характеристика. А вот и копия диплома. Диплом с отличием! Документы — лучше для выпускника и не придумаешь! Фронтовик, партизан, отличник учебы, активный общественник… Интересно, как он отнесется к их предложению? Конечно, для парня с такими документами обидно идти на лесопункт. Ему наверняка хочется получить направление или в трест, или, на худой конец, в леспромхоз. Молодежь тщеславна. Она любит начинать с большого. Что ж, это не так уж и плохо. Пока молоды, надо дерзать, браться за дело покрупней, помасштабней. Но что поделаешь! Позавчера на бюро ЦК партии республики специальным пунктом записано в адрес треста: «укрепить основное производственное звено — лесопункты и мастерские участки профессионально подготовленными, технически грамотными кадрами». Надо же с кого–то начинать.
— Ну–с. Значит, прибыли к нам работать?
— Прибыл, — улыбнулся в ответ Виктор.
Этот ответ вызвал улыбку и у Селезнева. Кажется, с этим парнем они смогут столковаться!
— Ну, а где бы вы хотели работать, Виктор Алексеевич? — спросил Селезнев, заглянув в анкету.
Вопрос насторожил Виктора. Его небольшой житейский опыт учил, что если начальство обращается к тебе подчеркнуто вежливо да еще по имени–отчеству называет, значит, оно собирается тебя куда–то и на что–то уговаривать,
Белесовато–синие глаза Селезнева выжидательно смотрели на него. И вдруг Виктору стало весело. Что плохого может сделать ему этот человек? Направить на лесопункт рядовым мастером? Послать в глушь? Да ведь он готов к этому. И Лена готова. Они приехали сюда работать. Неужели Селезнев ждет, что он станет просить оставить его в Петрозаводске, если Виктор отказался от аспирантуры в Ленинграде?
И сразу стало так легко, что захотелось пошутить, поиграть с управляющим, заставить его первым открыть уже наверняка подготовленное назначение.
— А что бы вы могли мне предложить? — слегка нахмурив брови, спросил Виктор.
Селезнев словно ждал такого вопроса. Его лицо расплылось в широкой, добродушной улыбке.
— Это трудно сказать. Специалисты нам везде нужны… И в тресте, и в леспромхозах, и… особенно на лесопунктах. И даже в университете нужны. Вы знаете, у нас создан лесоинженерный факультет… Мы должны, Виктор Алексеевич, учесть ваше желание, — добавил он с нескрываемой хитринкой.
— Я буду работать там, куда меня сочтете нужным направить…
Управляющий даже крякнул от неожиданности. «Ишь ты! Молод или хитер? Может, просто молод, доверчив? Так легко отдает решать свою судьбу другим. А если хитер? Такие тоже встречаются. На словах хоть на край света!»
Селезнев знал свою слабость. Сам по натуре человек добрый, он был к людям очень доверчив, и это не один раз подводило его. Как узнать — кто перед тобой: честный специалист, который действительно готов поехать куда угодно, или хитрый ловкач? Хорошего, знающего инженера–технолога, окончившего академию, неплохо бы оставить и в тресте, направить в производственно–технический отдел. А вдруг ошибешься?
— Вам, значит, безразлично куда? — с оттенком неприязни спросил Селезнев.
— Нет, мне, конечно, не безразлично.
— Я не понимаю вас, — нахмурился управляющий.
— Мне, конечно, не безразлично, — слегка улыбаясь, повторил Виктор. — Но я думаю, вы уже решили, куда направить меня, и я заранее согласен с вашим решением.
— Ох, и хитры же вы! — вдруг рассмеялся Селезнев. — Молодой, а хитрый! Заранее! Конечно, мы решили заранее. И очень хорошо сделали. Хорошо решили! Для вас хорошо! Поедете вы, дорогой Виктор Алексеевич, на лесопункт, техноруком. В самое пекло. На годик–другой! Поднимете лесопункт, поднаберетесь практического опыта — в леспромхоз, а то и в трест выдвинем.
«На годик–другой!» — усмехнулся Виктор, вспомнив, что эти же самые утешительные слова говорил ему и декан факультета.
— С кадрами у нас неважно! В лес хлынула техника, а лесопунктами руководят в основном практики, люди без специального образования. Техника не используется на полную мощность, а план ежегодно увеличивают. Широкое поле деятельности! Роль технорука мы будем неуклонно поднимать. Технорук и мастер должны стать основными фигурами на производстве…
— Куда? — прервал Виктор речь управляющего, который так разошелся, словно перед ним сидело, по меньшей мере, десять техноруков лесопунктов.
Селезнев остановился, некоторое время недоуменно смотрел на Виктора.
— Куда? Подумаем, подумаем… Выберем такой лесопункт, чтоб было где приложить силы.
Он прошелся по кабинету, спросил:
— Вы где партизанили, в каком отряде? Я ведь тоже к партизанам некоторое отношение имею, в штабе, в Беломорске служил.
— В отряде «Народные мстители».
— У Орлиева?! — обрадованно спросил Селезнев.
— Вы знаете Тихона Захаровича? — удивился Виктор и тут же подумал: «Что это я? Это же не Ленинград. Здесь каждый, наверное, слышал об Орлиеве».
— Великолепно! — воскликнул управляющий, нажимая на кнопку звонка. Когда на пороге появилась секретарша, он приказал: — Месяц назад была докладная по кадровому вопросу из Войттозера. Срочно разыщите ее…
Пока разыскивали докладную, Селезнев усадил Виктора рядом с собой на диван, рассказал ему о Тихоне Захаровиче.
— Какой из Тихона штабник? — явно бравируя партизанским прошлым, и своим, и орлиевским, желая тем самым подчеркнуть свою близость к Виктору, говорил Селезнев. — Он самый, что ни есть, боевой командир! А райисполком — это все–таки штаб. И леспромхоз — штаб, и трест — штаб. А лесопункт — это уже передовая! Молодец Тихон! Ему леспромхоз предложили, а он — нет! Давай, говорит, на передовую…
Виктор уже догадался, что Селезнев намерен направить его к Орлиеву, и сам не знал — плохо это или хорошо. Если он сумеет завоевать расположение Орлиева — хорошо. Так хорошо, что лучше и не придумать. А если нет? Такие люди любят на всю жизнь и ненавидят тоже до гроба… И вместе с тем приятное волнение разливалось в груди при мысли, что он вернется к своему бывшему командиру, станет его правой рукой, первым помощником.
Селезнев заказал срочный телефонный разговор с Войттозером, но Орлиева в конторе не оказалось.
Принесли докладную. Селезнев прочитал, довольно покивал головой и спросил Виктора в упор;
— Согласен в Войттозеро?
— Согласен.
Селезнев быстро наложил на документах резолюцию.
— Сегодня я поговорю с Тихоном, — пообещал он. — То–то, наверное, обрадуется старый? Обрадуется, а?
— Не знаю, — смутился Виктор.
— Конечно, обрадуется… Да ты ведь и Дорохова должен знать? Комиссаром у вас был. Теперь он в ЦК республики работает. Не заходил к нему?
— Нет, не заходил.
— Зайди обязательно. Я ему тоже позвоню, скажу, что ты молодцом, в Карелию приехал, добровольно на лесопункт техноруком вызвался пойти.
— Вы уж, пожалуйста, не расхваливайте меня, — сказал Виктор, поняв, что Селезнев рад возможности позвонить Дорохову по такому поводу.
— Ничего, не перехвалим, не бойся…
2
Из приемной Виктор позвонил в гостиницу.
— Лена? Ну, можешь меня поздравить — получил назначение.
— Да? Я очень рада за тебя, Виктор! Поздравляю! — заторопилась Лена. — Это так здорово — первая самостоятельная работа! Ведь это здорово, правда, Виктор!
— Конечно, — согласился он, а сам подумал: «Даже не спросила — куда, на какую должность. Эх, Лена, Лена!» Виктор мысленно выговаривал жене и одновременно радовался, что она такая. Он ожидал от нее этого и был бы очень недоволен, если бы Лена по–иному отнеслась к его назначению.
— Что же ты замолк, Виктор?
Виктор заметил, что люди в приемной прислушиваются к их разговору. Возможно, многие из них и сами ждали каких–либо новых поворотов в своей судьбе.
Виктор огляделся и громче, чем вначале, сказал:
— Да, да, назначен техноруком в Войттозерский лесопункт к моему бывшему партизанскому командиру Тихону Захаровичу Орлиеву. Леночка, давай отметим это событие. Жди меня у гостиницы, хорошо?
Виктор спустился по деревянной лестнице на первый этаж и, наверное, таким же бодрым и окрыленным ушел бы из треста, если бы в дверях не столкнулся с двумя молодыми людьми.
Это были самые обыкновенные, интеллигентного вида парни в хороших костюмах, с кожаными папками в руках. Они торопливо, чуть ли не оба разом, протиснулись в дверь и шумно зашагали по коридору. Виктор, наверное, не обратил бы на них внимания, если бы не произнесенная одним из них фраза:
— …Его вариант комплексной механизации работ на нижней бирже в Ручьях практически малоэффективен.
Молодые люди свернули в боковой коридор, шаги их затихли за какой–то дверью, а Виктор все еще стоял у выхода и с каждой секундой мрачнел.
«Комплексная механизация работ на нижней бирже». Как много говорят эти слова его сердцу! Еще совсем недавно он жил этим дни и ночи. Это была тема его дипломного проекта. А теперь — кому нужны все те месяцы поисков, бессонные ночи, аккуратно переплетенный в атласную папку проект механизации работ на нижней бирже Кудеринского леспромхоза Вологодской области, который он с таким успехом защитил совсем недавно. Теперь он простой технорук лесопункта и, как видно, слабого, отсталого. Разве не мог бы и он, как эти молодые парни, разрабатывать варианты, ходить на обсуждения, спорить, полемизировать. Не глупо ли он поступил? Мог остаться в аспирантуре — не остался. Другие завидовали такой возможности, а он все рвался, сам не зная куда и зачем? И даже полчаса назад судьба могла сложиться по–иному. Может, вернуться к Селезневу, пока не поздно, попросить его? Он не откажет. Теперь не откажет. Или пойти к Дорохову?.. Нет, нет, он не сделает этого. Он никогда не сделает этого.
Быстро, словно убегая от искушения, Виктор вышел на улицу.
Лена ждала его у гостиницы. Он еще издали узнал ее по белоснежной шелковой блузке и длинной плиссированной юбке — наряду, который делал Лену высокой, стройной и который особенно нравился Виктору. Лена стояла на углу у самого края тротуара и посматривала по сторонам — она не знала, откуда он должен был прийти.
— Леночка! Пойдем в ресторан. Сегодня мы имеем право.
Она вопросительно посмотрела на него, и он все понял.
— Ничего, ничего, проживем. Мне выдадут подъемные. А потом укатим отсюда. В лес, к волкам и медведям… Там уже не пошикуешь.
Народу в ресторане было немного, и они заняли удобный столик в углу, у самой эстрады, на которой одиноко стоял огромный барабан с медными тарелками. После уличной жары большой полутемный зал казался прохладным.
Долго изучали меню. Выбирал Виктор. Он не умолкал ни на минуту, сам не понимая, что творится с ним. Лена делала вид, что внимательно слушает, даже изредка улыбалась ему, но думала совсем о другом. Подали закуску и вино. Виктор торжественным жестом поднял бокал и громко произнес:
— За наше таежное счастье!
Несколько капель темно–красного вина из бокала Виктора упали на белую скатерть. Он даже не заметил этого, поспешно выпил и поставил бокал. Лена смотрела, как густые, удивительно похожие на кровь, капли разрастаются в большие бурые пятна… Надо бы их засыпать солью, — кажется, так делала ее тетя там, в Ленинграде.
Лена поставила бокал и повернулась к мужу. Он замолчал. На его лице отразилось тревожное выжидание, и Лена не сразу решилась спросить:
— Витя, скажи. Ты ведь недоволен своим назначением, да?
Он усмехнулся, отвел взгляд.
— Я чувствовал, что ты это спросишь. Напрасно ты. Я даже рад, очень рад.
— Ты говоришь неправду, Виктор.
— Ну вот, сразу и неправду.
— Странный ты какой–то… Я еще в поезде заметила. Нервничаешь, хотя и пытаешься скрыть это. Зачем–то поссорился с администратором. Что с тобой, Виктор?
— Леночка, тебе это только кажется, уверяю тебя.
— Нет. — Она твердо поджала губы. — Ты сам знаешь, что нет. Неужели ты расстроен тем, что нас направили в лесопункт? Ты ведь сам говорил, что хочешь этого.
— Итак, назревает первый крупный семейный разговор, — пошутил Виктор.
Официант, низенький учтивый старичок в выутюженном черном костюме, подал обед, и разговор прервался. Старичок неторопливо расставлял тарелки, укладывал приборы, наливал солянку. Наконец он ушел. Они молча принялись за обед.
— Простите… Я не ошибся?
Виктор обернулся. За его спиной стоял высокий сухощавый парень в вельветовой куртке. Он улыбался краешком тонких, слегка подрагивающих губ. Трудно разобраться, чего было больше в этой улыбке — смущения оттого, что он непрошено вторгается в чужой разговор, или уверенности в своем праве на это. Эта улыбка была удивительно знакома Виктору, хотя в его памяти она была связана совсем с другим лицом — всегда измученным, обожженным холодом и зноем, закопченным у партизанских костров, вытянувшимся от усталости и долгого напряжения. Сомнений уже не было — перед ним стоял живой и невредимый Юрка Чадов. Однако впечатление было такое, как будто старую знакомую чадовскую улыбку зачем–то приклеили на это гладко выбритое, чуть загорелое и томное лицо.
— Здравствуй, старик! Неужели не узнаешь партизанских друзей? — сказал, протягивая руку, Чадов.
— Здравствуй, Юра! — прерывающимся от волнения голосом произнес Виктор.
Виктор не любил Чадова. Он и сам не мог понять, почему этот рослый парень с вечно блуждающей на губах улыбкой никогда не нравился ему. Воевал Чадов неплохо. Он не отлынивал от трудных заданий, когда нужно — готов был поделиться с товарищами последним сухарем, и все же многие не любили его. Виктор, помнится, не раз пытался настроиться на доброе отношение к Чадову, но как только видел на губах эту странную, чуть заметную улыбку, необъяснимая неприязнь вспыхивала с новой силой. Нет, они не ссорились. Чадов ни с кем в отряде не ссорился — он лишь молча улыбался в ответ на самые обидные выпады товарищей. Много позже, вспоминая партизанские годы и раздумывая над всем пережитым, Виктор нашел, как казалось ему, объяснение. Да, дело было в этой самой улыбке. Вернее, в том, что скрывалось за ней. Для них, молодых ребят из разведвзвода, в те годы не было иной жизни, чем война и отряд. Война была для них и целью, и смыслом жизни. О будущем они лишь мечтали, но не жили в нем. А для Чадова война была лишь средством для чего–то такого, что должно было осуществиться после. Чадов жил другим, и эта скрытая жизнь давала себя знать лишь в непонятной товарищам улыбке. Потому–то Чадов и казался старше, умнее своих ровесников. Потому–то и рождалось у других недоверие к нему. Они, мальчишки, не понимали тогда, что их настоящая жизнь начнется лишь после войны. А Чадов понимал, он улыбался их наивности.
И вот через девять лет Чадов стоит перед ним, жмет ему руку, и на его лице все та же чуть заметная улыбка.
— Знаешь, ты здорово изменился, — первым прервал затянувшееся молчание Чадов. — Я долго не мог узнать тебя. Смотрю, как будто ты, а вроде бы не ты…
— Девять лет срок не малый, — сдержанно ответил Виктор, бросив быстрый взгляд на молча наблюдавшую за ним Лену. На ее лице он успел уловить ожидание чего–то радостного и волнующего, что обязательно должно быть при таких встречах, но в следующую секунду после ответа Виктора это ее ожидание сменилось недоумением. Лена не понимала, почему так странно ведут себя старые партизанские друзья. И вдруг Виктору стало стыдно.
— Что мы стоим! Садись, пожалуйста. Познакомься — моя жена. Садись, садись, давай выпьем за встречу!
Чадов пожал Лене руку, присел к столу, поманил пальцем официанта. Как видно, в ресторане он был своим человеком. Официант, принимавший заказ у каких–то девушек, извинился перед ними и поспешно подбежал к Чадову. Юрка поздоровался с ним и, не заглядывая в меню, заказал вина, закуски и бифштекс с яйцом.
— Извините, я еще не обедал, — объяснил он Лене.
Выпили за встречу, и постепенно наладился дружеский разговор. Вспомнили товарищей по отряду. Юрка знал о судьбе почти всех, кто остался в Карелии. О бывших партизанах он говорил так тепло и сердечно, а о военных годах вспоминал с такой душевной грустью, что Виктор даже усомнился: Чадов ли перед ним? Лишь об одном человеке из отряда — самом близком ему, самом дорогом — не решился Виктор спросить. И Юрка, будто почувствовав, ни словом не обмолвился об этом. Сам Чадов вот уже пятый год работает в редакции республиканской газеты. Вступил в партию, учится заочно в Ленинградском университете, на отделении журналистики.
— Не помню, говорил ли я тебе, что смолоду я в историки готовился? — как бы между прочим спросил он Виктора.
— Нет, не говорил… А в отряде ты и верно на историка походил. Было в тебе что–то такое… очень уж умное…
— Да–а… — задумчиво прищурился Чадов, покручивая бокал за тонкую хрустальную ножку. — Серьезно готовился, с детства. А вернулся, год проучился на историческом и ушел… Теперь не жалею. Историю не изучать надо, а делать, — усмехнулся он и оживился: — Ну, а ты доволен своей профессией?
Если бы Виктор и был недоволен, он вряд ли признался бы в этом Чадову, особенно в присутствии Лены, которая всегда так следит за каждым его словом, будто он, Виктор, говорит только самое умнее и хорошее. Отвечать ему не пришлось. Юрка глянул ему в глаза и рассмеялся:
— Хотя, что я спрашиваю, как будто по тебе не видно. Счастливый ты, Витька! Ты всегда умеешь быть цельным. Полный ты какой–то.
— Какой, какой? — переспросила Лена, с удовольствием слушая Чадова.
— Полный… Ну, в смысле заполненный, полный… Целиком отдавшийся тому делу, за которое берешься… Футы! Вот ввернулось словечко, еле выпутался.
— Да, в таком значении я этого слова не встречала, — засмеялась Лена.
В конце обеда Чадов вдруг спросил:
— Что вы думаете сейчас делать?
Виктор переглянулся с Леной и честно признался:
— Не знаю. Может, в кино сходим…
— В кино можно и попозже. А сейчас… знаете что? Давайте побродим по городу, сходим к озеру, может, лодку возьмем, а? У меня сегодня свободный день, ночью дежурил в редакции. Пойдемте, а?
— Это замечательно! — обрадовалась Лена.
— Решено! — не ожидая согласия Виктора, легонько хлопнул ладонью по столу Чадов. Он подозвал официанта и, несмотря на протесты Курганова, расплатился за всех троих.
Виктор попытался незаметно сунуть пятидесятирублевую бумажку в карман его вельветовой куртки, но Юрка вернул деньги:
— Зачем ты обижаешь меня, старик? Может, будет время, когда и тебе захочется угостить меня так же...
3
Они вышли из гостиницы и направились по теневой стороне проспекта Ленина вниз к озеру. Лена с любопытством рассматривала этот, как ей казалось, удивительный город, где с многоэтажными зданиями соседствовали крохотные деревянные домики с геранями и столетниками на окнах. В ее представлении слово «город» никак не вязалось с палисадниками, двориками и картофельными грядками. Да еще не где–нибудь на окраине, а в самом центре, в двух шагах от гостиницы.
— Удивляетесь? — понимающе улыбнулся Чадов.
— Да нет, не то… — смутилась Лена. — Знаете, я подумала. В этом есть что–то трогательное. Два века рядом — вот они, их можно потрогать руками. Вот здесь, мне кажется, жил купец. Толстый такой. Дикой, а может, даже сама Кабаниха… где–то там, позади, наверное, светелка, где маялась Катерина… Ну, а если и не Катерина, то своя Настасья или Лизавета… Тихо было здесь, душно. По утрам их будил церковный колокол. А где же церковь? Где она стояла? — серьезно спросила Лена, оглядываясь.
Чадов с улыбкой пояснил, что церквей в Петрозаводске было не очень много, всего четыре или пять. А здесь неподалеку, на площади, где строится теперь театр, стоял кафедральный собор.
— Ну, значит, они ходили к заутрене в собор. Шли вот по этой мостовой. Впереди Кабаниха, за ней Тихон с Катериной или там Игнат с Лизаветой… На них с завистью и страхом смотрели обыватели вон из этих домиков… — Лена вдруг умолкла и повернулась к Чадову: — Скажите, театр там, на месте собора, скоро построят?
— Года через два, еще только начали.
— Как вы думаете, там будут ставить «Грозу»?
— Возможно, — улыбнулся Юрий. — Но почему обязательно «Грозу»?
Лена о чем–то задумалась и, когда они уже выходили на набережную, вдруг сказала:
— Если бы я была режиссером, я обязательно поставила в том новом театре «Грозу». А на декорациях изобразила бы вот этот дом, с резными украшениями. Ведь скоро всего этого не будет. А людям надо помнить страшное прошлое, чтобы ценить настоящее… Я, кажется, повторяю чужие слова, но мне простительно, — я полностью согласна с ними.
— Разве с тобой кто–нибудь спорит? — вдруг резко спросил Виктор.
Лена испуганно повернулась, посмотрела на его нахмуренное, чем–то недовольное лицо и ничего не сказала. Она как–то притихла, незаметно отстала от мужчин, которые свернули на набережную и пошли к пристани.
— Значит, едешь в Войттозеро? — спросил Чадов.
— Да, еду.
— Скажи, старик, ты сам добровольно вызвался ехать туда?
— А что? — насторожился Виктор. Он посмотрел на товарища, ожидая увидеть все ту же привычную и непонятную улыбку. Но лицо Чадова было лишь грустным и по–доброму внимательным. — Почему ты спрашиваешь?
— Ты чем–то расстроен… Вот мне и подумалось, что у тебя были другие планы.
— Что вы, как будто сговорились?! — возмущенно остановился Виктор. — Сначала Лена, теперь ты. Можете успокоиться, я еду туда добровольно. Сам попросился, ясно?
— А зачем же сердиться? — улыбнулся Чадов. — Выходит, надо радоваться,
— Я и радуюсь.
— Не похоже.
— Каждый радуется по–своему… Мальчишкой я всегда прыгал от радости, а потом как–то отвык.
— Ты знаешь, что у Орлиева дела идут неважно… Да, да… Я часто там бываю. Не узнаю старика. Впечатление такое, как будто нашему Тихону обрубили крылья… В общем–то, если разобраться, так это и получилось… В первые годы он круто взлетел вверх. Председатель райисполкома, депутат Верховного Совета республики.
— Так что же произошло?
— Внешне ничего особенного. Этого и следовало ожидать. Война и мирные дни — все–таки разные вещи. Одно дело командовать, когда каждое твое слово — беспрекословный закон для подчиненных, и совсем другое — руководить, да еще таким районом, как Тихая Губа…
— Ты говоришь так, как будто радуешься этому, — с неприязнью заметил Виктор.
Чадов пожал плечами, поднял лежавший на тропке камешек и, поиграв им, забросил далеко в озеро.
— Нет, зачем же. Радоваться тут нечему. Но диалектика жизни — великая вещь. Старика мне жаль, искренне жаль, хотя я никогда не был от него в восторге.
— Как тебе не стыдно! — возмутился Виктор. — Ведь Орлиев был настоящим командиром.
— Если под этим понимать личную отвагу и непомерную требовательность к подчиненным, то — да!
— Слушай, Чадов, я не люблю, когда бьют лежачих… Это же вероломство!
— Ого! Какие громкие слова! Неужели ты полагаешь, что наш Тихон лежачий? Не беспокойся, он не из таких. А что касается вероломства, то мое отношение к старику нисколько не изменилось со времен войны. Я и тогда уважал его за храбрость, ненавидел за жестокость!
— Ненавидел и с готовностью выполнял каждое его приказание?
— Война есть война! Надо не выдумывать жизнь, а понимать ее такой, какая она есть.
— А я не хочу так! Понимаешь, не хочу! Я хочу, чтоб жизнь была не такой, какая есть, а такой, как надо. Чтоб дружба была дружбой, любовь — любовью, постоянство — постоянством. Без этой твоей «диалектики». И кем бы ни стал Орлиев, я буду ценить его за то, что он сделал во время войны,
— Ты противоречишь сам себе, — улыбнулся Чадов.
— Пускай. Не в этом дело. Да, Орлиев строг! Может, каждому из нас в отдельности Орлиев сделал и немало плохого. Но всем нам вместе он делал только хорошее. А ведь мы для этого и таскали за плечами трехпудовые сидоры. Мы победили, черт возьми!
— Сдаюсь! — шутливо поднял руки Чадов. — В своей убежденности ты, как всегда, неотразим. Могу об заклад биться, что по историческому материализму у тебя пятерка в дипломе. А мой экзамен еще впереди… Шучу, шучу, не сердись. И вообще, довольно этих умных разговоров. Давай просто посидим и, как говорят, посозерцаем жизнь.
Они, не доходя до пристани, сели на скамейку под старыми тополями. Поверх сгрудившихся у причалов барж вдали виднелось озеро, где синева воды незаметно переходила в светлую голубизну неба. У небольших островков тянуло ветерком, — озеро там искрилось, вспыхивало мелкими отблесками.
Лена отстала от них. Она успела познакомиться с мальчишками, ловившими рыбу с заброшенного причала, и уже держала в руках удочку.
— Славная у тебя жена, — с завистью проговорил Чадов, наблюдая, как Лена неумело, но увлеченно пытается закинуть крючок подальше от берега. Он вынул пачку сигарет, закурил, угостив товарища.
Виктор машинально взял сигарету и, прикурив от миниатюрной чадовской зажигалки, спросил:
— Слушай, зачем ты завел этот разговор?
— Какой? О Лене?
— Да нет… Об Орлиеве… Ты же знал, что мне предстоит работать с ним. Зачем же тебе понадобилось говорить о нем так?.. — Виктор намеренно обострял разговор, но Чадов словно обрадовался этому. Он доверительно положил руку на плечо Виктору.
— Да, я знал это. Потому–то я высказал тебе все, что думаю о нашем Тихоне. Знаешь, когда мы шли сюда, мне подумалось, что мы с тобой можем стать настоящими друзьями. Конечно, не сейчас. Я знаю, что ты не любишь меня… В отряде меня не любили многие… Да и сейчас у меня не так уж много друзей, хотя я никому ничего худого не сделал.
Виктор не удержался, чтобы не уколоть Чадова:
— А вот у нашего Тихона наверняка друзей много.
— Нет, ты ошибаешься… — улыбнулся Чадов. — Мы оба с ним одиноки, хотя по–разному. Он растерял друзей, а я их не успел еще приобрести… И вот мне подумалось, что с тобой мы можем стать друзьями.
«Почему?» — хотелось спросить Виктору, но он удержался. Он ценил в людях откровенность и умел дорожить ею. Слова Чадова вызвали в нем теплое ответное чувство.
— О дружбе уговариваются только в детстве, — сказал Виктор, заметив, что Чадов с выжиданием смотрит на него. Видимо, назидательность этих слов была слишком заметной, и Юрка уловил ее.
— Да, я понимаю, что мы уже взрослые… И все же я сказал, что по–настоящему уважаю тебя. Еще с войны. Твою честность, прямоту.
— Какое отношение это имеет к Орлиеву? — напомнил Виктор, почувствовавший себя неловко.
— Не столько к Орлиеву, сколько к тебе. Тихон — человек своего времени. Я просто хотел предостеречь тебя от одностороннего взгляда на него.
— Это и все? Ну что ж, спасибо за предупреждение.
— Не стоит, — улыбнулся Чадов.
Этот разговор, наверное, продолжался бы и далее, но от причала донесся радостный голос Лены:
— Виктор, Юрий! Смотрите, какая чудесная рыбка! Это я поймала… Ну, пожалуйста, посмотрите!
Она им показывала что–то на ладони, но они ничего не видели. Пришлось подойти к рыбакам. Вечерний клев только еще начинался, полдесятка самодельных мальчишеских поплавков подрагивали на воде, распуская вокруг себя частые круги. Мелкая верховодная рыбешка попадалась редко, но клевала с таким азартом, что первым не выдержал Виктор. Он попросил у мальчика удочку. Тот с явной неохотой уступил. Обзавелся удочкой и Чадов. Сначала он помогал одному из мальчишек доставать и наживлять червя; потом — забрасывать леску подальше от причала, где клевали рыбешки покрупнее. Наконец мальчик, польщенный таким вниманием, сам предложил ему удочку.
Разошлись, когда солнце уже клонилось к закату.
Виктор и Лена направились в гостиницу, а Чадов решил зайти в редакцию. В завтрашнем номере газеты шла его большая статья о Пяльмском леспромхозе, и ему хотелось посмотреть ее в полосе.
Глава четвертая
1
В редакции было тихо, лишь снизу, где помещалась типография, глухо и монотонно доносилось погромыхивание работающих печатных машин.
Узким коридором, увешанным объявлениями, приказами и графиками, Чадов прошел в секретариат.
Дежурный помощник секретаря Востриков, посвистывая, разглядывал третью полосу, испещренную редакторскими пометками.
— Вот наделал «конвертов», а? — воскликнул он, увидев Чадова. На пухлом конопатом лице Вострикова светился непонятный восторг. — Вот дает жизни Телегину, а?
Чадов небрежно повернул к себе полосу. Так и есть — опять пострадали два материала, которые готовил к печати заведующий отделом лесной промышленности Телегин. Чадовская корреспонденция осталась почти нетронутой.
— Не понимаю, чему ты радуешься? — пожал плечами Чадов, усаживаясь на диван и закуривая.
— Скажи, как это тебе нравится, а? — сразу же переменил тон Востриков. — Через час полосу на матрицирование сдавать, а тут больше ста строк полетело! Нет, каково, а?
Теперь его круглое, упитанное личико с большими, широко открытыми глазами выражало такое отчаяние, что на человека, мало знающего Вострикова, оно наверняка произвело бы впечатление. Но Чадов третий год работал с Востриковым и потому спокойно предложил:
— Возьми из запаса и поставь в полосу.
— Из запаса?! — в негодовании Востриков едва не воздел руки к небу. — Какой запас? Где он? Это безобразие! Отпуска отпусками, но газета должна выходить каждый день! Ты много дал в запас? Как у кого более или менее сносный материал, все норовят поскорее в номер протолкнуть. О завтрашнем дне не думают… Так нельзя! Я буду ставить об этом вопрос серьезно.
Чадов слушал излияния Вострикова и улыбался. Этот паренек, два года назад окончивший университет, всегда веселил его своим неумеренным темпераментом.
Вострикова в редакции все любили за то, что он до безумия был предан газетной работе. Однако печатали его мало. Получилось как–то так, что его первые материалы оказались не в ладу с фактами, доставили редакции кучу неприятностей, и с тех пор за Востриковым твердо держится определение — «легковат». У него даже нет постоянного места в редакции — он путешествует из отдела в отдел, заменяя больных или ушедших в отпуск сотрудников.
Востриков угомонился так же быстро, как и вскипел. Сорвав со стены висевшие на гвоздях гранки, он начал лихорадочно перебирать их, хмыкая и отпуская едкие замечания по адресу авторов. Чадов знал те гранки. Многие из них висели здесь по неделе и больше. Некоторые уже побывали на редакторском столе и вновь вернулись на доработку. Другие безнадежно устарели, и только скупость ответственного секретаря не позволяла выбросить их в корзину.
— Придется «тассовский» ставить, — вздохнул Востриков и попросил: — Слушай, старик, одолжи сотню!
— Чего — денег или строк? — улыбнулся Чадов.
— Денег, конечно. Завтра, понимаешь, на день рождения зван, без подарка нельзя.
— А я думал — тебе сотня строк хорошего материала нужна.
На какое–то мгновение глаза Вострикова вспыхнули надеждой и сразу же потухли.
— Откуда у тебя… Ты же вчера дежурил…
Чадов неторопливо вынул деньги, положил их на стол перед Востриковым и полушутливо произнес:
— Эх ты… У хорошего газетчика в голове материала никогда не должно быть меньше чем на полосу. Вот так–то!
— У тебя, серьезно, есть? — Востриков даже забыл взять деньги.
— Конечно. Как раз на сотню строк!
— Так давай скорей, дьявол тебя побери! — Востриков бросился к телефону, потом раздумал, метнулся к двери.
— Ты куда? — остановил его Чадов.
— Доложить редактору.
— Ты что, с ума сошел? Нашего старика не знаешь, что ли? Разве он разрешит еще ненаписанный материал в полосу ставить? Машинистка на месте?
— Так у тебя он еще не написан? — приуныл Востриков.
— Ничего, ничего! Через двадцать минут в набор отправишь.
Они так шумно вбежали в машинописное бюро, что перепугали дежурную машинистку.
— Верочка! Новую закладку, два экземпляра! Скоренько!
Востриков нетерпеливо крутился у машинки. Видно было, что задуманное Чадовым и радует его, и страшит. В течение часа написать, набрать и поставить в полосу материал? Такое не часто случается в газетной практике… А вдруг ничего не выйдет, и он лишь напрасно упустит время?!
Уже пора диктовать. Машинистка ждет. Почему Чадов молчит?
— Ну! — полушепотом произносит Востриков.
Чадов кидает на него раздраженный взгляд, закуривает и принимается расхаживать по комнате. Потом резко и четко выпаливает:
— Заглавие: «Партизаны возвращаются в леса…» Многоточие. Абзац. Тире. «Землю, с которой ты вместе мерз… Абзац. Вовек разлюбить нельзя…» Не забудь сверить цитату! — бросает он Вострикову. — Абзац. Эти известные слова невольно вспомнились нам — запятая — когда мы на Онежской набережной беседовали с молодым инженером — запятая — выпускником Лесотехнической академии Виктором Кургановым. Курганов — бывший партизан. Он храбро сражался с оккупантами в войттозерских лесах под командованием прославленного командира, ныне начальника лесопункта Тихона Захаровича Орлиева… Абзац… Востриков, уйди, ты не даешь сосредоточиться! — грозно уставился Чадов на притихшего дежурного, который с почтительным восторгом ловил каждое слово статьи.
— Хорошо, хорошо! Только поскорее и никак не больше ста строк!
Как только Востриков ушел, Чадов присел рядом с машинисткой и продолжал диктовать. Статья для него решилась первыми абзацами, и завершить ее было, как говорится, делом техники.
Часа через полтора Востриков сам отнес редактору переверстанную полосу и вернулся в секретариат. Вид у него был такой, как будто там, за редакторским столом, решается его собственная судьба. Чадов был почти уверен, что статья редактору понравится. И дело не столько в том, что статья, на его взгляд, получилась вполне приличной, сколько в том, что он знал своего редактора. В годы войны тот сам писал очерки о партизанах, потом выпустил их отдельной книгой и, как видно, на всю жизнь сохранил особое отношение к этой теме. А тут такое удачное сочетание — война и сегодняшний день.
— Чего тебе не сидится? — спросил Чадов, хотя Востриков сидел неподвижно и чутко вслушивался — не прозвенит ли разгневанный редакторский звонок, вызывающий курьершу, чтобы вновь вернуть полосу на переверстку.
— Честно — волнуюсь! Для меня это вопрос принципа, понимаешь! В теории мне все понятно. Но на практике?! Газета — прежде всего оперативность, а мне постоянно талдычат — не торопись, не спеши! Разве в этом в конце концов дело!
— Дело, конечно, в качестве.
— Вот и я говорю. Кому какое дело, сколько я пишу статьи. А меня, как мальчишку, все учат и учат писать подолгу. Ты молодец, Юрка! Ты, черт побери, доказал им, тихоходам, как надо работать!
— Ну–ну, ты не распространяйся! — предупредил его Чадов. — Это случай, можно сказать, исключительный!
— Хорошо, хорошо. Мне важно для себя решить этот вопрос. Так сказать, в принципе.
Чадов, к величайшему изумлению Вострикова, не стал ждать, пока редактор прочтет полосу.
— Деньги прибери, а то потеряешь в бумагах, — с улыбкой напомнил он.
— Хорошо, спасибо, что выручил, С получки я обязательно верну.
2
Придя домой после разговора с Мошниковым, Тихон Захарович решил сразу же позвонить в Петрозаводск. Было уже поздно, и он попросил вызвать квартиру Селезнева, однако оказалось, что управляющий трестом еще на работе. Пришлось долго ждать, пока телефонистки сделают новый вызов. Наконец сквозь заунывное гудение и бульканье в трубке послышался недовольный приглушенный голос Селезнева. Орлиев назвал себя, поздоровался.
— A–а, Тихон Захарович! Привет, дорогой! — сразу переменил тон управляющий. — Что у тебя?
Орлиев напомнил, что его просили позвонить в трест по кадровому вопросу.
— Ах да, да! Извини, у нас тут партсобрание. Я сейчас перейду на другой телефон, в приемную.
Снова пришлось Орлиеву слушать пение проводов и какие–то неразборчиво булькающие в трубке голоса. Собрание в кабинете управляющего, видимо, было бурным, и, хотя слов нельзя было разобрать, Тихон Захарович слышал, как голоса, мужские и женские, далекие и близкие, то и дело перебивали друг друга. Потом все это разом пропало, и снова раздался мягкий баритон Селезнева.
— Захарыч, ты слушаешь? Сегодня я направил тебе нового технорука.
— Спасибо, Сергей Семенович.
— Нет, нет, ты слушай! Не просто технорука, а твоего хорошего знакомого. Да, да. Бывший твой партизан…
— Кто же это? — нерешительно спросил Орлиев, чувствуя, что Селезнев ждет от него проявлений радости. — Как его фамилия?
— Курганов.
«Курганов, Курганов…» — про себя повторял Орлиев, пытаясь припомнить, кто же такой Курганов. И вдруг вспомнил.
— Это минер, что ли? — вскричал он, как будто управляющий обязан был знать минеров его отряда. — Неужели он? Черный такой, красивый парень…
— А кто же? Конечно, он, — рассмеялся Селезнев, довольный тем, что сообщение обрадовало Орлиева. — Вот она, наша партизанская жилка! Она еще дает себя знать. Закончил Лесотехническую академию и сам вызвался на передний край…
— Послушай, Сергей Семенович! А опыт–то хоть есть у него какой–либо?
— Конечно, нет… — радостно начал было Селезнев, но вдруг, поняв смысл вопроса, осекся. Он помолчал и резко сказал: — У него есть знания, а наша с тобой задача, чтоб эти знания он смог с успехом применить на деле.
Несколько секунд оба ждали, кто первым продолжит разговор.
— Ты что, никак недоволен? Ну, брат, извини, коль не угодил и на этот раз.
— Да не о том речь…
— А о чем?
— Дела на лесопункте неважные. План не тянем, вывозка отстает, дороги…
— Ну, знаешь! — рассердился Селезнев. — Откуда у тебя такая манера взялась — плакаться в платочек. Ты что думаешь, я за тебя план выполнять буду! Кому–кому, а тебе стыдно плакаться. Техникой ты обеспечен, людей даем — работать надо! Я не хочу тебя учить, но если не выправишь дела, строго спросим, учти! Ну, извини, мне пора на собрание.
Тихон Захарович еще стоял у аппарата, не веря, что разговор закончен. Все получилось не так, как хотелось. Разве он имеет что–либо против Курганова? Он лишь хотел сказать, что лучше бы послать в Войттозеро человека, который смог бы по–настоящему оказать воздействие на работу лесопункта… А в результате вышла размолвка с Селезневым, с которым они знакомы двадцать лет. Глупо получилось. Ведь Селезнев последние два года подчеркнуто дружески относится к нему, ни в чем не отказывал и вообще вел себя так, как будто в переходе Орлиева из райисполкома на лесопункт не только нет ничего обидного, но это даже своего рода подвиг. Далеко не все вели себя так в отношении к Тихону Захаровичу. Селезнев даже в служебных делах держал себя с Тихоном Захаровичем, как с равным. Звал только по имени–отчеству, в Петрозаводске не раз приглашал в гости… И вот сейчас яснее, чем когда–нибудь, Орлиев почувствовал, что он рядовой начальник лесопункта. Такой же, как все! Как десятки других, которых он сам еще так недавно прорабатывал на бюро райкома, критиковал на собраниях и ругал при выездах на места.
…Подумав об этом, Тихон Захарович даже растерялся. Как будто разговор с Селезневым лишил его последних резервов, без которых ему трудно надеяться даже на себя. И вместе с тем это состояние было чем–то ему знакомо. Он когда–то не один раз уже переживал это. Видимо, во время войны. Там случалось всякое: и окружение, и долгая оторванность от баз, и засады противника, когда решение нужно было принимать мгновенно. Нередко он принимал их, не раздумывая, подчиняясь какому–то внутреннему порыву. Люди шли за ним, и все заканчивалось хорошо. Главное, чтобы никто никогда не заметил у командира и тени растерянности.
Воспоминание о войне всякий раз успокаивало, рождало веру, что все изменится, стоит лишь найти нужное решение.
Наверняка оно есть, оно где–то совсем рядом, нужно лишь нащупать его, ухватиться, и вся эта странная цепь неполадок сразу лопнет. Он вновь почувствует за спиной горячее дыхание вдохновленных им людей…
— Вы переговорили с Петрозаводском? — голос телефонистки заставил его вздрогнуть, удивленно посмотреть на трубку, которую он еще держал в руке.
— Да, — и Тихон Захарович дал отбой.
Он оглядел свое скромное жилье, освещенное желтоватым светом лампочки под потолком. Покрытая серым солдатским одеялом койка, клеенчатый диван, нарпитовский стол с тремя стульями, умывальник у входа — все выглядело сегодня как–то особенно пусто и неуютно. В деревне у Тихона Захаровича был собственный дом, но после войны он сдал его сельсовету. Когда он вернулся в Войттозеро, ему предложили на выбор — или занять квартиру бывшего начальника лесопункта, или освободить для него собственный дом. Но он поселился в этой скромной комнатке мужского общежития. В общем–то, здесь было неплохо — контора недалеко да и столовая рядом. Другого ему и не нужно. После войны у него ничего своего не было. Вот разве что ружье, висевшее на стене, да три костюма — военный, рабочий и выходной. Вся мебель принадлежала лесопункту. Так же он жил и в районном центре.
«Завтра надо будет подыскать комнату Курганову», — подумал Тихон Захарович.
Курганова он помнил хорошо. В общем–то Тихон Захарович ничего не имел против его назначения, но уж больно молод и несолиден будет новый технорук. Ему бы годика два–три в конторах посидеть, опыта поднакопить, а уж потом и на командную должность. Нет, что и говорить, Селезнев поспешно принял решение… «Чего я разбрюзжался? — оборвал себя Тихон Захарович. — Не так уж он и молод. Лет двадцать девять, не меньше. Я в его годы начальствовал вовсю. Партизан он неплохой был, минер ловкий. Да и академия за плечами… Старею я, что ли?»
Через полчаса спокойных раздумий назначение Курганова стало казаться Орлиеву тем единственно верным выходом, которого он долго не находил.
«Поставлю вторую койку вон в том углу, и пусть живет, — радостно решил он. — Не белоручка, не барин, а бывший партизан… Вдвоем веселей, а главное — удобнее! Всегда под рукой».
Навряд ли Тихон Захарович сознавал, что и это решение так обрадовало его лишь только потому, что в войну он и начальник штаба отряда жили бок о бок в одной партизанской землянке.
Орлиев принадлежал к тем людям, которые, приняв решение, уже не мучают себя сомнениями. Дальше они действуют, и все их мысли направлены к одному — как бы скорее осуществить задуманное. Эта внутренняя собранность и рождает у них ту завидную энергию, которая нередко подчиняет других, привыкших каждый свой шаг сопровождать мучительными раздумьями. Вот почему для таких людей, как Орлиев, главное — принять решение, найти ту цель, во имя которой они дальше готовы не щадить ни себя, ни других.
…Назавтра, выйдя рано утром из дома, Тихон Захарович чувствовал себя так, как будто эта цель наконец у него появилась.
«Скоро приедет Курганов… Может быть, даже завтра», — раздумывал он, шагая по поселку.
На крыльце, прислонившись головой к перилам, дремал сторож. Спавший на посту человек еще со времен войны вызывал у Орлиева неудержимую ярость. Он уже сделал решительный шаг к сторожу, но вдруг снова подумал, что завтра приедет Курганов, и это умерило его раздражение.
— Ты что, дед? Дня тебе мало, что ли? — крикнул он с середины улицы.
Старик испуганно дернулся и, разглядев Орлиева, забормотал:
— Виноват, Захарыч… И сам не знаю… На покосе вчера…
Орлиев, не слушая, направился к столовой, скорее, чем обычно, позавтракал и заторопился к конторе. Через полчаса должны были отправиться в лес машины с рабочими.
«Надо сказать коменданту общежития о второй койке», — подумал Орлиев, так еще и не решив, стоит ли ему теперь ехать в лес, как было намечено вчера, или лучше остаться в поселке.
Мастера уже поджидали его в конторе. Вяхясало в углу неторопливо дымил трубкой, невыспавшийся Панкрашов сладко потягивался и, вспоминая что–то, загадочно улыбался. В общем, впечатление было такое, как будто все еще продолжался вчерашний вечер. Даже Мошников, как и вчера, уже сидел за столом, шелестя своими бумагами.
«Поеду в лес», — решил Орлиев.
Он наскоро провел планерку. Распорядился одну из отремонтированных машин отдать Панкрашову, вторую направить на участок Рантуевой. Мастера, довольные хорошим настроением начальника, не стали ни жаловаться, ни докучать просьбами. Лишь Мошников выжидающе и вопросительно поглядывал на Орлиева. Он даже вышел проводить начальника.
Уже сидя в кабине грузовика, Тихон Захарович позвал технорука.
— Да, Петр Герасимович! Скажи коменданту, чтобы поставил в мою комнату вторую койку.
— Хорошо, Тихон Захарович!
Орлиев так и не понял, догадался ли Мошников, для кого предназначалась эта вторая койка.
Глава пятая
Маленький автобус резво бежал по шоссе, натужно взвывая на подъемах и крякая хриплым сигналом на бесконечных поворотах.
Иногда из окон автобуса открывался широкий вид на лесные дали. Леса уходили за горизонт. Горы чередовались с тихими ламбушками и мягкими, похожими на ворсистый ковер, болотами. Старые вырубки с сиротливо торчащими куртинами семенников сменялись еще не тронутой топором хвойной чащей.
Вот она, Карелия, о которой Виктор так много думал!
Казалось, можно ехать день, два, три и ничто не нарушит эту, на первый взгляд, однообразную, но с каждым километром все новую и новую картину карельских просторов. Неугомонная Лена вертелась, тормошила мужа:
— Смотри, какое чудесное озеро! Как зеркало! И островок посередине, и деревья на нем… Тебе бы там порыбачить.
— Лена, озер здесь слишком много, чтобы каждым восхищаться, — вполголоса ответил Виктор.
Но Лена вела себя так, словно они были в автобусе вдвоем.
— И скалы кругом! Вода и скалы! Это настоящий уголок «Калевалы», не правда ли?
Виктор смущенно поглядывал на попутчиков, но они не обращали на Лену никакого внимания. Утомленные долгим переездом, одни дремали, привалившись к стенке автобуса, другие тихо переговаривались, и лишь худенький, остроносый старичок, приткнувшийся на одиночном сиденье позади шофера, то и дело поглядывал назад, видимо, желая завязать с кем–нибудь разговор.
Такой случай скоро представился. На одной из горушек автобус остановил высокий парень в болотных сапогах и с берестяным коробом за спиной.
— Подвези до Тихой Губы, — попросил он шофера и, не дожидаясь ответа, взобрался в машину.
Его короб был плотно набит грибами. Заметив разноцветные, чуть прикрытые влажным мхом грибные шляпки, Лена даже руками всплеснула:
— Грибов сколько! Смотри, Виктор! Свежие, прямо из лесу. Давай купим и вечером жарить будем. Вот здорово! Вы продадите? — Она пробралась к новому пассажиру и принялась ощупывать грибы.
— Продам. Три рубля десяток на выбор, — весело отозвался парень, подмигнув Виктору,
Неожиданно вмешался старичок:
— Зачем покупать, милая! Ты не в городе! Покупать тут не к чему. Вышла в лес и бери сколь хочешь.
— Правда? Их так много?
— А как же? Эка невидаль — грибы! — довольно поглаживая подбородок, начал старик, но парень перебил его:
— Ты чего это, дед, покупателей у меня отваживаешь?! Таких она нигде не найдет. У меня места заветные…
Старик не поддержал его шутку:
— А ты. молодой человек, видать, горазд людскую простоту в корысть для себя обращать! Тут, милая, все места заветные. Что ни шаг — то гриб, что ни поляна — ягодник… Не здешняя, видать, будешь?
— Из Ленинграда мы, на работу едем, — охотно и даже с гордостью ответила Лена.
— То–то. Сразу видать. К нам теперь многие из других мест едут. А по какой, позвольте узнать, специальности?
— Муж инженер, а я в школу направлена.
— Так–так. Учительница, наверное? Предметница или в начальные классы? Не физичка, случаем?
— Литератор, — улыбнулась Лена.
— Физика у нас недостает, — покачал головой дед, — Третий год не дают. Математичка по совместительству мучается, сорок часов нагрузка.
— Вы, дедушка, тоже в школе?..
— А как же? Двадцатый год, с самого открытия.
— Кем вы работаете?
— Ты лучше, милая, спроси, кем я не работаю. Все, что прикажут, то и делаю. Ночью — сторож, днем — вроде коменданта и конюха, летом — и маляром, и столяром, и овощеводом на пришкольном участке. Сейчас как бы завхоза заменяю. Даже учительствовать доводилось, пока мой предмет не упразднили.
— Упразднили? — удивилась Лена. — Какой же это предмет?
— Предмет–то важный!.. — старик прищурился и хитровато посмотрел на Лену. — Ты, поди, и не знавала этого предмета. Трудом он раньше назывался.
— Не застала, — простодушно согласилась Лена.
«Зачем она ввязалась в этот глупый разговор? — подумал Виктор. — Старик подсмеивается над ней, а она и не замечает…»
Но вмешиваться было неудобно, и Виктор отвернулся. За окном проносились все те же леса, мелькали телефонные столбы, трепетно дрожали в предвечернем мареве тонкие, низко провисшие ниточки проводов.
Телефонные столбы с черными двухэтажными цифрами всегда напоминали Виктору детство.
Он вырос в деревне. Ему было семь лет, когда мужики вдруг стали рыть за обочиной тракта небольшие глубокие ямы. Потом подвезли бревна и ровной линией вкопали их. Больше месяца сиротливо стояли эти столбы. Они успели потемнеть, высохнуть, начали трескаться на солнце. Провожая по утрам с бабушкой корову на выгон, маленький Витя спрашивал:
— Что это, бабушка? Зачем это?
Бабушка недовольно ворчала:
— Антихристова изгородь. Всю землю огораживают, прости нас господи.
Потом приезжие из города люди укрепили на столбах стаканчики, стали натягивать проволоку. Витя издали со страхом наблюдал, как парни с блестящими когтями на ногах («вот они, антихристовы люди!») подолгу висели на столбах, перекликаясь друг с другом. Парни ушли к соседней деревне, а Витя все еще не решался близко подойти к страшным столбам.
Слово «телефон» Витя впервые услышал от своего дружка школьника Вовки. Тот, узнав про «антихристову изгородь», загоготал на всю деревню:
— Это телефон, дура. В городе говорят — в деревне слышно. Понятно?
— А город далеко?
— Целый день на коне ехать надо.
Витя долго молчал, потом робко возразил:
—– А как же тогда слышно, если далеко?
Для Вовки не существовало неразрешенных вопросов:
— А так вот и слышно, понятно тебе. По телефону все слышно. За тыщу верст слышно.
— А как же слышно, если далеко?
Вовка презрительно щелкнул его по лбу, повел к сельсовету и через низкое окно указал на прибитый к стене ящик с двумя блестящими звоночками. А когда Витя после долгого молчания задал свой вопрос в третий раз, Вовка рассердился:
— «Как», «как»?! Понимать надо. Сказано тебе, что в каждом столбе сидит по маленькому человечку, они друг другу все и передают. Послушай, как они воют.
Почти силком он потащил Витю к столбу, прижал его ухо к шершавой поверхности.
Это было страшно, но убедительно. Столбы выли, пели, гудели человеческими голосами.
— Говорят, слышишь, говорят, — таинственно шептал Вовка, тоже приникая к столбу. — Здесь, брат, про все говорят, как кому жить, куда ехать, что делать.
Витя и сам уже различал еле слышный шелестящий шепот.
— Вов, а обо мне тоже говорят? — замирая от волнения, спросил он.
— А как же?! Обо всех говорят. Сейчас только плохо слышно. А вот ночью — все до единого словечка.
И верно: потом, преодолевая страх, Витя не раз подкрадывался ночью, приникал ухом к столбу. Проходила секунда–другая, и сквозь шум, гудение начинал слышаться чей–то незнакомый голос, тихо сообщавший, что к Вите возвращаются неизвестно зачем уехавшие так далеко папа и мама; что везут ему такой же пистолет, как у Вовки; что бабушка теперь не будет ругать его за то, что он много ест хлеба.
Позже, в школе, Витя узнал, что никаких человечков в столбах нет, но на всю жизнь осталась необъяснимая вера, что если приникнуть ухом к телефонному столбу и долго–долго слушать, то человеку откроются самые сокровенные тайны его будущей судьбы.
…Наивная Вовкина выдумка теперь вдруг обернулась почти правдой. Вчера по этим самым телефонным проводам решалась судьба Виктора. Может быть, и сейчас трепетно дрожащие ниточки ведут таинственный разговор о нем…
Как–то его встретит Орлиев?
Два года провел Виктор в партизанском отряде. Он ежедневно видел Орлиева, но помнил его сейчас одним и тем же — решительным, хмурым, молчаливым и быстрым в движениях. Изменился ли он с годами? Виктор был убежден, что нет. Ведь Орлиев не юноша, он человек с уже сложившимся характером. И все же Виктору страстно хотелось, чтобы в Войттозере встретил его не замкнутый, суровый начальник, а мудрый и добрый товарищ, перед которым было бы так легко открыть все, что терзало душу все эти долгие годы..,
— Тихая Губа! — объявил шофер.
Парень в болотных сапогах, увлекшийся разговором с Леной и дедом, огляделся, потом быстро раскрыл короб, выбрал не меньше десятка самых лучших грибов и. сунул их Лене.
— Будете в Тихой Губе, заходите, сведу на заветные места!.. — спрыгивая на землю, крикнул он и, помахав рукой, зашагал по мосткам.
Лена, растерянно переводя взгляд то на деда, то на Виктора, так и продолжала сидеть с ворохом грибов на коленях.
— Бери, бери, не стесняйся! Грибы ничего, хорошие. Как раз на поджарку с молоденькой картошкой, — успокоил ее дед.
— Куда же я их положу? У нас вон вещей сколько!
— Давай сюда, в кошелку. Много ли им места надо, поди, не помнутся! — Старик услужливо подставил плетеную сумку и сложил в нее грибы. — А вечером я их вам и принесу. Вы где останавливаться будете? В комнате приезжих? А коль хотите, и ко мне можно… Потом и квартирку дадут. Все со временем устроится.
— Спасибо вам, дедушка!
За Тихой Губой для Виктора начались памятные места. Дважды ему приходилось бывать в этих бескрайних войттозерских лесах, и оба раза оставили в его сердце незаживающую рану. Здесь он пережил самые решительные минуты в своей жизни…
Глава шестая
Первый рассказ о войне
В июне 1942 года, после окончания партизанской школы минеров–подрывников, Виктор Курганов прибыл в отряд Орлиева, а через две недели партизанская бригада вышла в далекий рейд по тылам врага.
На пятый день с Виктором произошло несчастье.
Отряд Орлиева шел в авангарде. Неожиданно головной дозор дал сигнал остановиться. Впереди — минное поле. Попробовали обойти его слева — уперлись в узкое и длинное озеро, справа — в открытое болото.
— Делать проход! — распорядился командир, и все партизаны посмотрели на Курганова.
Гордый своей опасной, но такой почетной должностью, Виктор скинул с плеч вещмешок, положил его возле командира отделения Павла Кочетыгова и с двумя помощниками неторопливо пошел вперед.
Проход был готов, и Виктор уже возвращался по нему к отряду, когда в стороне раздался треск кустов. Прямо на минное поле выбежал вспугнутый лось. Раздался взрыв. С визгом пронеслись над головой Курганова осколки. Раненый зверь взревел и шарахнулся в сторону. Новый взрыв, новый истошный рев, новая попытка уйти из смертельного круга.
— Уходите! — крикнул Виктор помощникам.
Мины продолжали рваться. Лось все еще держался на ногах и, обезумев от боли и страха, несся вдоль минного поля.
«Глупый! Куда же ты? Назад беги, назад! Пропадешь!» — подумал Виктор, увидев, что лось мчится на него. Может, лось, заметив человека, искал у него спасения, а может, хотел перед смертью отомстить за эту коварную, безвыходную ловушку, но он несся прямо на Виктора.
Близко, совсем рядом, раздался новый взрыв. Виктор бросился на землю, но было уже поздно. Осколок глубоко, до кости, вошел в голень правой ноги.
Корчась от боли, Виктор вдруг совсем рядом увидел окровавленную голову лося. Отвисшая нижняя губа, огромные навыкате глаза, дрожащие розоватые ноздри. Молодой и сильный лось лежал на земле и все еще пытался ползти вперед, к проходу.
На помощь Виктору уже бежали партизаны.
— Назад! Не подходите! — закричал он, с ужасом наблюдая, что лось все еще продолжает тянуться к нему своей огромной косматой головой. Их разделяло два–три метра неразминированного пространства.
Это была первая смерть на войне, которую довелось видеть Виктору своими глазами!
Тщательно замаскировав следы, бригада поспешно двинулась дальше. Виктор идти не мог, его несли на носилках.
Поздно вечером остановились на привал. Бригадный врач не без труда достал осколок, прочистил рану, плотно набил ее стрептоцидом и наложил на ногу шину.
Когда боль понемногу успокоилась, Виктор вдруг понял, что напрасно он радовался там, среди минного поля, что самое страшное для него кончилось. Самое страшное — это ранение в ногу, когда ты в пятидесяти километрах за линией фронта, когда кругом враги, а бригаде нужно выполнять задание. Еще несколько часов назад он был таким необходимым в отряде человеком. А кому он нужен теперь?
Подошел командир отряда, внимательно осмотрел забинтованную ногу, спросил:
— Болит?
— Теперь уже легче, — поспешно ответил Виктор.
Орлиев легонько сдавил пальцами голеностопную косточку. Виктор еле сдержался, чтоб не закричать.
Командир нахмурился и молча пошел к штабному костру.
«Кому я теперь нужен?» — с болью думал Виктор.
Он не знал, что в эту самую минуту о его судьбе совещались в штабе командиры и комиссары всех шести отрядов.
Большинство склонялось к тому, чтобы раненого в сопровождении шести — восьми бойцов отправить обратно на базу.
Молчал лишь Орлиев. Когда комбриг спросил его мнение, Тихон Захарович поднялся и, глядя на костер, сказал:
— Это наш первый раненый. Кто станет утверждать, что это и последний? Если мы будем с каждым возвращать на базу по отделению бойцов, кто воевать будет?
— Что ты предлагаешь? — спросил его комбриг.
— Оставить Курганова под присмотром медсестры где–нибудь здесь, неподалеку…
— Как оставить?! Зачем? — встревоженно заговорили сразу несколько человек.
— Потом… Или вызвать для них гидросамолет, — невозмутимо продолжал Орлиев, — или мы на обратном пути заберем их.
Наступило долгое молчание.
В доводах Орлиева было много убедительного. Но как оставить двоих, по сути дела, беззащитных людей в глухом лесу, на территории врага? А если противник обнаружит их? Гидросамолету нелегко будет пройти незамеченным в глубокий вражеский тыл, а посадка на лесном озере демаскирует бригаду, наведет противника на ее след.
Тихон Захарович, выждав, сказал комбригу:
— Самолет я предлагаю вызвать на ночь, намеченную для штурма гарнизона.
Комбриг кивнул и продолжал вопросительно смотреть на Орлиева: «Это хорошо, ну а если противник обнаружит раненого? Тому ведь не уйти, не скрыться? Что тогда?»
Орлиев понял молчаливый вопрос и решительно проговорил:
— Партизаны живыми в плен не сдаются.
— Кого ты думаешь оставить с Кургановым?
— Олю Рантуеву.
— Почему именно ее?
— Она здешняя… Я хорошо знаю ее и верю, что она готова к самому неожиданному…
В ту же ночь было найдено глухое, пригодное для посадки гидросамолета озеро. В густом ельнике, в лощине между двух сопок наскоро соорудили крохотный полушалаш–полуземлянку, тщательно замаскировали ее, а на берегу в кустах подготовили сухой мох и хвою для опознавательных костров.
Виктор плохо понимал, что происходит вокруг. У него поднялась температура, шумело в ушах, хотелось пить, пить, пить… Запомнилось приятное ощущение прохлады, когда его из тесных носилок переложили на мягкую хвойную постель.
Позже пришел комиссар отряда Дорохов. Держа ладонь на лбу больного, он говорил, что надо потерпеть, что через неделю Виктор уже будет в госпитале, что рана его пустяковая, через два месяца он сможет плясать. Ладонь комиссара тоже была горячая, и от этого Виктору становилось лишь жарче, но он слушал, скрадывая дыхание и больше всего боясь, что комиссар вот сейчас встанет, уйдет…
— Скажите, я останусь один?
— Нет, нет… С тобой останется Оля.
Виктор приоткрыл глаза и, разглядев сидевшую у входа в шалаш девушку, улыбнулся.
Потом комиссар ушел. Они остались вдвоем.
В ушах глухо стучало. Этот равномерный назойливый стук вначале был похож на тикание огромных часов. С каждым разом он становился все слышнее. И когда казалось, что барабанные перепонки не выдержат следующего удара, стук разряжался долгим пронизывающим мозг шипением, и снова откуда–то издали начинало доноситься нарастающее тикание.
— Кто? — вдруг послышался настороженный голос Оли.
— Я, не бойся…
Виктор узнал по голосу командира отделения разведки Павла Кочетыгова.
— Зачем? Смотри, отстанешь? — спокойно и даже как–то привычно сказала Оля.
— Не отстану. Проститься пришел… — Павел, видимо, заглянул в шалаш, так как ветки, загораживавшие вход, зашуршали. — Спит? — спросил он.
— Наверное, нет. Температура у него большая.
После долгой паузы Павел вдруг сказал еще тише:
— Хлипкий он парень. Тяжело тебе с ним будет.
— Еще неизвестно, каким бы ты был на его месте?
— Сам виноват, — безжалостно сказал Павел. — Автомат был в руках? Был. Мог бы пристрелить лося или отпугнуть очередью, и ничего не было бы… Растерялся, видно…
«Врешь. Я не растерялся… Разве мог я выстрелить в него?..» — сквозь боль и шум в висках мысленно возразил Виктор и вновь до последней мелочи пережил тот момент, когда изодранный осколками, обезумевший лось из последних сил тянулся к нему.
— Хотел бы я быть на его месте, — вдруг громко, как показалось Виктору, очень громко сказал Павел.
— Это еще тебе зачем? — насмешливо спросила Оля.
— Лафа, а не житуха… Лежи себе… Везет другим!
— Нашел чему позавидовать!
Павел долго молчал, потом другим голосом — испытующе–стеснительным сказал:
— Целую неделю был бы с тобой…
Он, видимо, потянулся к Оле, так как снова зашуршали ветки, и Оля сердито сказала:
— Еще чего? Иди–ка, давай! Отстанешь от бригады!
Несколько минут прошли в молчании. Виктор уже решил, что Павел ушел, как тот вдруг тихо произнес:
— Ты, Оля, не расстраивайся. Я обязательно вернусь за тобой.
Оля ничего не ответила. Павел подождал, потом резко протиснулся в шалаш и по–иному, беззаботно и снисходительно, как это делал всегда, спросил:
— Курганов, ты спишь? Ты не горюй, если самолета и не будет. Я приду за вами, вот увидите!
— Чего ты расстраиваешь больного?! — набросилась на него Оля. — Сказано, будет самолет, значит, будет. Подумаешь, спаситель нашелся! И без тебя обойдемся…
— Ладно–ладно. Не сердись. Мне же лучше. Не надо горб носилками гнуть. Ну, прощайте, не кашляйте!
Снова они остались вдвоем, теперь уже надолго.
Первые дни они почти не разговаривали. Пока у Виктора держалась температура, Оля по четыре раза в день давала ему порошки сульфидина, протягивала кружку с водой и вновь усаживалась у входа в шалаш. Когда подходило время обеда, она также молча расстилала перед Виктором полотенце, выкладывала сухари, ставила котелок с едой. Виктор не знал, когда она успевала разводить костер и варить кашу. Ему казалось, что Оля целыми сутками не сходит со своего места у входа в шалаш.
— А ты почему не ешь? — спрашивал он.
— Успею.
Однажды утром Оля поставила перед Виктором закоптелый котелок с дымящейся ухой.
— Окуни? — удивился Виктор. — Откуда?
— Из озера.
— На удочку?
Оля кивнула в ответ.
— Я тоже лесу и крючки захватил, — почему–то сообщил Виктор и рассердился на себя: «Зачем хвастаюсь, дурак? Какой толк от удочки, когда подняться не могу».
— У нас у каждого партизана удочка при себе, — сказала Оля. — Ты ешь, а то остынет.
Вскоре жар начал спадать. Виктор почувствовал это, проснувшись ранним утром. В голове уже не шумело, даже рана в ноге ощущалась совсем не так, как раньше: боль, если пошевелить ногой, не отдавалась в висках, а затихала там же, где и начиналась.
Виктор, оберегая вдруг нахлынувшую радость, тихо лежал, глядя прямо вверх. Он словно впервые увидел свой низкий и тесный шалаш с косматым потолком из хвои, с двумя наскоро вбитыми в землю подпорками, с плащ–палаткой, укрывающей мягкую и душистую постель. Он, словно впервые, услышал настоящую лесную тишину, когда отчетливо улавливаешь даже бесконечную комариную песню. Вход был закрыт ветками, но там, в лесу, угадывалось безветренное, солнечное утро.
Виктор лежал, смотрел, слушал, думая о том, что через три дня прилетит самолет, что в госпитале ему быстро залечат рану. И он вернется в отряд. Вернется не новичком, каким пришел три недели назад, а опытным партизаном, успевшим заглянуть в глаза смерти.
Оля была на своем обычном месте. Привалившись плечом к стенке шалаша, она спала, неловко свесив на грудь голову. Рядом лежал автомат Виктора и две гранаты, вынутые из подсумка. Чуть поодаль — уложенные по–походному вещмешки.
Виктор никогда не думал, что смотреть на спящего человека так приятно. Раньше он ничем не выделял Олю среди сандружинниц отряда. Девушка, каких много. Высокая, худенькая, вся какая–то угловатая. Такую не назовешь красавицей! Даже больше: вначале Оля ему просто не понравилась. Стрижка под мальчика и вздернутый нос придавали ее лицу жесткое, неприятное выражение.
Сейчас в сером полусвете шалаша Оля показалась ему необыкновенно красивой. Все — и короткие, слегка вьющиеся волосы, и скуластенькое загорелое лицо, и маленький нос с еле заметной темной родинкой на переносице, и чуть вздрагивающие во сне пухлые доверчивые губы — все вдруг стало нравиться ему.
Неожиданно ему захотелось стать похожим на Павла Кочетыгова, никого никогда не бояться, носить даже летом белую кубанку, весело и язвительно вышучивать товарищей, влюбиться и приходить на свидания. Как это замечательно отправляться в разведку и знать, что о тебе — и только о тебе — думает и беспокоится девушка, вот такая же славная и красивая, как Оля.
В это утро все казалось возможным и легко выполнимым. Занемела рука, локтем которой Виктор упирался в постель, начало легонько покалывать в раненой ноге, а он, счастливый и возбужденный, продолжал рисовать в мыслях свою будущую жизнь на много лет вперед.
Вдруг он увидел, что Оля уже не спит и удивленно смотрит на него.
Словно уличенный в чем–то недопустимом, Виктор покраснел, откинулся на изголовье.
— Оля, у меня нет температуры, — сказал он.
— Совсем нет? — спросила она,
— Совсем.
— Ну, на худой конец, нормальная должна же быть? — впервые за эти дни пошутила Оля и, достав градусник, придвинулась к Виктору,
— Нет, нет, теперь я сам, — заторопился он, заметив, что она собирается засунуть ему градусник под мышку.
С этой минуты жизнь в шалаше стала для него и радостной и мучительной.
Во время обеда он вдруг ловил себя на том, что некрасиво ест, с шумом втягивая с ложки горячую уху. Он старался есть неслышно, и от этого получалось только хуже. Было жарко, но он надел гимнастерку и все время кутался в плащ–палатку, чтобы Оля случаем не увидела его голых ног. От этого он потел, и обеспокоенная Оля, начиная тоже испытывать непонятное смущение, по нескольку раз в день протягивала ему градусник.
Возможно, если бы Виктор вел себя по–иному, Оля продолжала бы относиться к нему так же, как относилась до этого к десяткам других больных. Ей бы и в голову не пришло, что под ее опекой лежит в шалаше не просто раненый, а молодой и красивый парень.
Оля стала все чаще уходить из шалаша и, устроившись в тени, подолгу сидела в лесу. Хотя многолетние, начавшиеся еще в восьмом классе ухаживания Павла она никогда не принимала всерьез, теперь почему–то она старалась думать о Павле, о его ухарски–разудалых замашках, которые в боях к добру не приведут. До сих пор пули избегали Павла. Он ни разу не был ранен, хотя участвовал во всех боях и разведках, предпринимаемых отрядом. О храбрости Кочетыгова рассказывали и были и небылицы.
«Может, Павел и не был бы таким, если бы я вела себя с ним по–другому?» — вдруг задала себе вопрос Оля, и ей захотелось, чтоб поскорей прилетел самолет. «Отправлю этого Курганова, и все кончится… Все пойдет по–старому», — думала она, хотя чувствовала, что все еще только начинается и к старому возврата уже не будет.
Наступила ночь, когда должен был прилететь самолет.
Виктор и Оля с вечера перебрались на берег озера и, расположившись в густых зарослях ольшаника, стали ждать.
Положив голову на вещмешок, Виктор сощуренными глазами наблюдал, как солнце медленно, слишком медленно, сближается с темной узорчатой каемкой леса на противоположном берегу.
Ему казалось, что стоит солнцу скрыться за горизонтом, сразу же прилетит самолет. Словно долгожданная жар–птица вынырнет он из–за леса и, прошумев над зеркальной гладью озера, причалит к самому берегу, вот здесь, у их ног.
— Пойду проверю костры, — услышал он голос Оли.
Солнце уже скрылось за лесом, а самолета все не было.
«Вот сейчас… сейчас», — думал Виктор. Но в ночной тишине слышались лишь редкие всплески рыбы да беспокойное кряканье уток у далеких уснувших камышей.
Сколько времени прошло, Виктор не знал, но когда на северо–востоке небо начало светлеть и золотиться, он вдруг подумал, что самолета может и не быть.
— Оля! — встревоженно позвал он.
— Что? — Оля, оказывается, была совсем рядом, за ближайшими кустами.
Виктору стало стыдно за свою несдержанность, и он после долгого молчания спокойно произнес:
— Уже светает.
Она ничего не ответила.
Взошло солнце. Легким туманом закурилось озеро.
«Самолета не будет. Ни сегодня, ни завтра, никогда… Мы одни. Это ясно. Разве там, на Большой земле, до нас сейчас, когда немцы на юге наступают, наши оставляют город за городом… Там гибнут тысячи, десятки тысяч. А нас всего лишь двое. Она может спастись, она выберется. А я?» Теперь Виктор уже не верил и второму обещанию, что отряд на обратном пути зайдет за ними. Самолет — это самое легкое, это какие–то три летных часа, сотня литров бензина.
Когда солнце поднялось высоко, Оля вышла из–за кустов и, глядя Виктору прямо в глаза, сказала:
— Пойдем назад. Вот дура я, ведь сегодня еще только шестая ночь. И как это я ошиблась?!
— Ладно. Нечего успокаивать, — проворчал Виктор, поднимаясь. — Не прилетел, и все! И не прилетит. Не до нас там.
— Завтра прилетит, вот увидишь… И как это я днем ошиблась, — поспешно возразила Оля, подавая ему самодельный костыль.
Весь день Виктор молча пролежал в шалаше. Не хотелось ни спать, ни есть. Побаливала побеспокоенная переходами нога.
А к вечеру он все чаще стал ловить себя на том, что ждет ночи. Он старался думать о самом худшем, о том, что через несколько дней они останутся без продуктов, что в один какой–нибудь день Оля уйдет и не вернется. Но где–то там, позади этих мыслей, неотступно стояла надежда, что сегодня ночью самолет обязательно будет. И от этого все самое плохое, что Виктор рисовал себе в будущем, не казалось таким страшным.
Вечером Оля вошла в землянку, вскинула на плечо автомат и предложила:
— Ты лежи, зачем ногу тревожить. Я одна схожу. Услышишь самолет — готовься, я прибегу.
— Нет, нет. Я тоже пойду, — возразил Виктор.
Она ничего не сказала, только посмотрела на него виновато и сочувственно.
Вторая ночь пролетела незаметно. Она была сырой и туманной. Виктор уже понимал, что самолета не будет и на этот раз, и все же ждал, досадуя на слишком короткую северную ночь, когда не успеет погаснуть закат, а уже загорается утренняя заря.
Отдыхая через каждый десяток шагов, они добрались до землянки. Уложив Виктора в постель, Оля как бы между прочим сказала:
— Самолет не мог сегодня прилететь…
— Почему?
— Ночь неподходящая. Видел, какой туман был над озером. Он не смог бы сделать посадку.
Это новое оправдание ошеломило Виктора. Да, ночь была туманной. Над озером висела плотная белая пелена, но разве там, за двести километров, могли знать об этом?
— Оля! Поди сюда.
Она послушно придвинулась, села на край его постели. Виктор нерешительно взял ее за руку.
— Скажи, Оля! Ты веришь в этот самолет?
Она не выдернула руки, даже не шевельнулась. Лишь в ее взволнованном ласковом взгляде на какой–то миг мелькнуло смятение.
— Скажи правду. Ты веришь? — он еще крепче сжал ей руку.
Виктор увидел, как на ее глаза медленно навертываются слезы. Потом Оля быстро смахнула их, улыбнулась:
— А как же, Виктор! Нам с тобой только верить и осталось!
В ее признании было мало утешительного. Но она сказала Виктору главное, и тогда это было ему дороже всего на свете.
Глава седьмая
1
Автобус приходил в Войттозеро около шести часов вечера и вскоре отправлялся обратно. Как и в других отдаленных селениях, задолго до его прихода около столовой собиралось немало народу.
Так уж повелось издавна, с тех пор, когда Войттозеро было еще обычной деревушкой, когда ее жители не знали еще автобусов, а путь до Петрозаводска на лошади занимал несколько суток. Тогда всякий приезд кого–либо из города был большим событием. С тех пор многое изменилось. Рядом с деревней вырос новый поселок лесопункта, приезжих людей в Войттозере стало больше, чем старожилов, а привычка выходить к автобусу держалась и далее незаметно перешла к новоселам.
…О живучести этого обычая и раздумывал Тихон Захарович, направляясь к автобусной остановке. Раньше он как–то не обращал на это внимания. Может, потому, что ему редко, очень редко приходилось кого–либо встречать или провожать — леспромхозовское и районное начальство приезжало в автомашинах, а сам он, отправляясь в район или в Петрозаводск, бывал так озабочен делами, что и не замечал ничего.
Был выходной день. Вот уже целую неделю стояла жаркая солнечная погода. Люди с утра ходили, кто на рыбалку, кто за ягодами и грибами, кто на покос, и теперь гуляли. По поселку разносились звуки радиол, баянов и шумные голоса. Вчера выдавали зарплату, а день получки у лесорубов — всегда праздник.
Так тоже заведено исстари — отмечать получку. Лесорубы всегда зарабатывали неплохо, и Тихон Захарович помнил времена, когда буйное пьяное веселье длилось по нескольку дней. Все это шло от сезонщины, с тех давних пор, когда заготовки леса велись только зимой. Люди приезжали сюда подзаработать, по три–четыре месяца без выходных работали от темна до темна и, получив расчет, пили за всю долгую и трудную зиму.
Тихон Захарович шел по поселку, вслушиваясь в праздничный шум, отвечая на приветствия, отказывался от приглашений зайти «на чашку чая», а сам с грустью думал: какая это цепкая сила — обычай.
Казалось бы, теперь все изменилось. Покончено с сезонностью. Почти все лесорубы живут с семьями в добротных домах, каждую неделю имеют выходной, два раза в месяц получают зарплату. Да и труд в лесу разве сравнишь с тем, что был двадцать лет назад, — электропилы, трактора, автодеррики, лесовозы… А вот поди ж ты — обычай живет!
Тихон Захарович шел по поселку, раздумывая, и все больше мрачнел. С начала года недодано шесть тысяч кубометров. Где их взять? Ведь всему лесопункту нужно трудиться двадцать дней, чтобы покрыть задолженность. А им хоть бы что — веселятся себе, горланят песни…
По случаю воскресенья народу у столовой было больше обычного. Одни, разбившись на кучки, вели тихие разговоры с отъезжающими. Другие сидели на просторном крыльце столовой и пили пиво. Третьи бесцельно бродили от группы к группе. В глубине двора, за небольшим вкопанным в землю столиком, «забивали козла». «Забойщиков» плотным кольцом окружали «болельщики», и Тихон Захарович лишь по голосу узнал среди игроков Панкрашова.
— С хорошим деньком, Тихон Захарович! — громко приветствовал Орлиева подвыпивший раскряжевщик Пажлаков. — Встречаешь кого иль провожать пришел?
— Встречаю.
— А я вот провожаю… Дочку в техникум провожаю. Праздник у меня, понимаешь… Первая, можно сказать, во всем пажлаковском роду с образованием будет.
— Папа, не надо! Люди смотрят! — смущенно попросила курносая и низенькая, вся в отца, девушка, стоявшая в окружении подруг и соседок.
— А что! — захорохорился Пажлаков. — Пусть смотрят… Нам стыдиться нечего… На свои кровные, можно сказать, и учимся, и гуляем… Правду говорю, а?
Никто ему не ответил. Пажлаков подождал, потом вдруг взмахнул рукой:
— А в общем, можно сказать, идем мы к светлому празднику трудящихся, царствию коммунизма. И по такому случаю давай, Тихон Захарович, хотя бы по кружке пивка… Я угощаю!
Приход Орлиева заметили все. Разговоры как–то поутихли, и Тихон Захарович ощутил на себе выжидающие взгляды.
Он вежливо отказался от угощения и, по пути здороваясь с людьми, прошел к играющим в домино. «Болельщики» потеснились, уступая ему лучшее место. Тихон Захарович тронул за плечо Панкрашова.
— Выйдем, дело есть.
Тот, потный, взъерошенный, долго смотрел на начальника каким–то ошалелым взглядом, потом, видимо, сообразил, о чем его просят, положил кости на стол.
Они отошли в сторону.
— Сегодня приезжает новый технорук, — сообщил Тихон Захарович.
— Понятно, — с готовностью отозвался Панкрашов, хотя по его лицу Орлиев видел, что он ничего еще не понимает.
— Надо встретить, как следует… Дома у меня кое–что приготовлено. Посидим, потолкуем. Позовем Вяхясало… Да, пожалуй, и хватит. Рантуева еще не приехала?
— Нет, кажись.
Панкрашов одернул гимнастерку, поправил ремень, приготовившись слушать главное. Но Тихон Захарович, помолчав, сказал:
— Встретим вдвоем… Вдвоем лучше. Пойдем, автобус уже скоро должен быть.
Панкрашов не без сожаления посмотрел в сторону шумного столика и направился с начальником к остановке.
2
Еще автобус, не сбавляя скорости, мягко пылил по улице поселка, а старик, успевший собрать свою поклажу и теперь прилипший к ветровому стеклу рядом с шофером, сказал:
— Ишь ты, народу сколь! И начальство! Видать, вас встречает..,
Виктор глядел на быстро приближающуюся толпу, искал глазами знакомую фигуру Орлиева и от волнения ничего не видел.
— Вон он, у крыльца, — пояснил старик. — Видишь, двое. Один, стало быть, Орлиев, а второй — Панкрашов…
Как только автобус остановился и шофер заглушил мотор, стало вдруг тихо и неловко. Виктор почувствовал себя сидящим как бы в витрине под десятками любопытных глаз. Двое стоявших у крыльца подошли к автобусу, и Виктор вдруг увидел, что стройный и высокий человек в военном это вовсе не Орлиев, что Орлиев — тот, который чуть пониже, и одет он в темно–серый гражданский костюм.
Орлиев сам поднялся в автобус.
— Здравствуй, Курганов! С приездом в наши края! — Его сдержанная улыбка тоже показалась Виктору совсем незнакомой.
— Здравствуйте, Тихон Захарович! — ответил он.
Орлиев помедлил и вдруг неловко обнял Виктора, прижал его одной рукой к груди. Потом, словно застыдившись, похлопал его по спине.
— Вырос ты, парень, возмужал… Твои вещи? Ну, пошли! Панкрашов, давай сюда, помоги! — крикнул Тихон Захарович.
Тот словно ждал команды. Проворно вскочив в автобус, он пожал Виктору руку, поздравил с приездом и первым обратил внимание на Лену:
— И вас с приездом… Извините, не знаю имени–отчества.
— Да, Тихон Захарович! — спохватился Виктор. — Познакомьтесь, это моя жена, Лена…
Орлиев ничего не сказал. Он поздоровался за руку с Леной, но Виктор почувствовал, как что–то переменилось. Лицо Орлиева на секунду сделалось сухим, требовательным и жестким, таким, каким оно было в прежние годы.
«Неужели он из–за Оли?» — внутренне холодея, подумал Виктор.
— Ну что ж, пошли! Милости прошу ко мне… — Орлиев обернулся к Лене и сказал: — Только уж извините. Живу я один, и все у меня попросту, по–походному…
— Ну что вы, что вы, пожалуйста!
— Панкрашов, бери чемоданы…
Мужчины забрали вещи, и все четверо направились вдоль главной улицы поселка: впереди — Панкрашов и Орлиев, за ними — Виктор и Лена.
Орлиев шагал широко. Его размеренная покачивающаяся походка напомнила Виктору военные годы, вновь вызвала полузабытое, приятное чувство юношеского восхищения и зависти к своему командиру. Даже штатский костюм, показавшийся в первую минуту таким нелепым на могучих плечах Орлиева, теперь уже не вызывал протеста. Портили впечатление лишь ботинки и брюки навыпуск. Не было в них той внушительности, которую придают человеку болотные сапоги и галифе.
— Витя, а он хороший! — шепотом сказала Лена, показывая глазами на Орлиева. — Он, наверное, очень–очень строгий и правильный, да?
Виктор в ответ лишь согласно улыбнулся. Они свернули к приземистому бараку, вошли в узкий длинный коридор с множеством дверей в обе стороны, и у первой направо Орлиев остановился.
— Сбегай к Вяхясало, — приказал он Панкрашову. — Пусть зайдет.
В коридоре было тихо и прохладно. Из дальних дверей слышались грустные звуки баяна, и хотя баянист играл современную песню из какого–то кинофильма, Виктора вдруг охватило чувство, как будто он вернулся в прошлое — нелегкое, даже печальное, но знакомое и потому приятное прошлое. Как будто позади — поход, необычный, мучительный, полный таких душевных волнений, когда забываются физические тяготы и хочется только одного — обрести наконец уверенность и спокойствие. И вот оно — спокойствие, тишина, прохлада, переборы баяна… А завтра — новая жизнь, может быть, опять поход, но он уже будет новым и потому иным…
— Тут я и живу, располагайтесь! — откуда–то издалека донесся голос Орлиева.
— Хорошо играют, — сказал Виктор и вошел в комнату.
— Это Котька, из второй бригады… День и ночь готов пилить. Соседи даже жалуются. — Орлиев снял пиджак и повесил на гвоздь.
Виктор тоже снял пропыленный пиджак, огляделся. Комната была прибрана к приходу гостей: пол тщательно вымыт, на окнах свежие, со складками от утюга, задергушки, стулья аккуратно расставлены вокруг стола, две кровати одинаково застелены по–гостиничному, «конвертом». Накрытый белой скатертью стол уставлен тарелками с закуской — колбаса, винегрет, холодные котлеты, жареная рыба. Тусклым зеленоватым светом поблескивали две бутылки водки.
— А вторая кровать чья? — спросила Лена.
— Так… На всякий случай… — неохотно ответил Орлиев.
Вернулся Панкрашов и сообщил, что Вяхясало еще на покосе, жена обещала передать ему приглашение.
Сели за стол. Панкрашов, стараясь сделать это незаметно, вынул из кармана галифе бутылку красного вина.
— Молодец, Костя! — похвалил его Орлиев и, задетый собственной непредусмотрительностью, добавил не без ехидства: — Если б ты и на делянке так разворачивался, а?
— А как же, Тихон Захарович, — смущенно сказал Панкрашов. Его смущение было отработанным, много раз проверенным. — Женщинам должен быть почет и уважение. Про них особая статья даже в конституции записана.
— Ну, ну. Все ясно. Бери–ка бразды правления да командуй. Это по твоей части.
Панкрашов ловко, одним привычным движением открыл бутылку и быстро разлил водку по стаканам. Потом аккуратно откупорил вино, не торопясь протер горлышко бутылки полотенцем и налил Лене. Он делал это настолько подчеркнуто, что Виктор подумал: «Кто он — дурак или комедиант?»
— Ну, дорогие товарищи. Предлагаю поднять тост за… — Панкрашов обвел всех радостным умиленным взглядом, — …за встречу старых партизанских друзей. Честное слово, для меня это большой праздник. Я, конечно, не партизан. Я воевал на Южном фронте. Но, честное слово, мне очень хотелось бы быть на вашем месте, встретить сейчас кого–либо из своих бывших подчиненных или посидеть за столом со своим любимым командиром танкового полка майором Лесничуковым…
— Короче, — перебил его Орлиев.
Панкрашов смутился, сел на место, но, увидев, что никто не пьет, добавил:
— С приездом вас, Виктор Алексеевич и Елена…
— Сергеевна, — подсказал Виктор, после реплики Орлиева почувствовавший себя как бы виноватым перед Панкрашовым.
— И вас, Елена Сергеевна. — Панкрашов первым чокнулся с Леной, потом с мужчинами и в три глотка осушил стакан.
Некоторое время за столом длилось молчание, но спиртное начало делать свое дело, и постепенно языки развязались. Выпили по второй. Теперь уже Панкрашов наливал в стаканы меньше половины.
— Витя, ты ешь, а то опьянеешь… — сказала Лена, ласково дотрагиваясь до руки мужа.
— Ничего, Леночка, ничего, дорогая. В партизанские годы было и не такое. — Виктор почувствовал, как добрая и приятная теплота расходится по всему телу, полуобнял жену за плечи и вдруг громко спросил: — Тихон Захарович, можно я буду звать вас на «ты», а?
— А как же еще, — поднял на Виктора тяжелый взгляд Орлиев.
— Так вот, дорогой Тихон Захарович, — по–пьяному четко отделяя слова, сказал Виктор. — Ты знаешь, какая у меня жена? Нет, ты не знаешь… Это золотой человек. Бесценный, понятно?! И ты, Костя, не знаешь…
— Витя, друг! Дай лапу! Вот так! — Панкрашов пожал Виктору руку и полез целоваться. — Знаю, я все знаю… и верю, честное слово, верю!
— Ну и что? — на Курганова из–под нахмуренных бровей требовательно глядели застывшие глаза Орлиева.
— А то, что вы не знаете, вот что…
— Виктор, зачем ты? — встревожилась Лена.
Тихон Захарович несколько секунд упорно смотрел в глаза Виктору, потом повернулся к Лене.
— Ты вот спрашивала, для кого здесь я поставил вторую койку… А ведь для него, — не глядя, ткнул он пальцем в сторону Виктора и задумался. — Начальник штаба… Вместе… вдвоем… А ведь все не так… Время идет…
— Мой папа тоже был партизаном, — сказала Лена, желая доставить Орлиеву приятное.
— Партизаном… Пар–ти–за–ном… — медленно, как бы вдумываясь в смысл каждого звука, повторил Орлиев, — И где он сейчас?
— Погиб, в сорок третьем, под Лугой.
— Погиб… Многие погибли…
— «Немногие вернулись с поля, богатыри — не мы»… — подхватил Панкрашов, и это прозвучало так не к месту, что лицо Орлиева стало вдруг сердитым и жестким.
— «Богатыри», «богатыри»… Много ты знаешь! Тебе, видать, и невдомек, что богатырями не рождаются, а делаются… Знаешь ты, что вот он сделал? — Орлиев снова ткнул пальцем в грудь Курганова. — Отряд спас. А ведь он тогда кто был? Мальчишка, безусый мальчишка.
— Да я ведь так просто, Тихон Захарович, — взмолился Панкрашов, вытирая платком лоб. — Я к слову.
— Так просто ничего не бывает, — веско сказал Орлиев.
Разговор затих. Виктор, поглядывая на склонившегося к столу командира, нехотя ковырял вилкой жареную рыбу. Два года жили они бок о бок, ходили в одной цепочке в походы, ночевали у соседних костров, но никогда Виктор не имел случая видеть командира так близко, как сейчас.
«Неужели этот поникший над столом человек и есть мой бывший командир?» — подумал Виктор и, вспомнив, с каким восторгом он ловил девять лет назад этот, теперь слегка усталый, но все еще очень твердый и даже тяжелый взгляд, радостно ответил себе: «Да, да, это он.., И теперь мы будем вместе работать — он и я».
— Что заскучали? — поднял голову Тихон Захарович. — Костя, сходи, приведи Котьку.
— Может, и водочки еще, а то мало осталось? — нерешительно спросил Панкрашов, но Орлиев отрицательно качнул головой.
Через несколько минут почти насильно в комнату был доставлен смущенный баянист.
— Иди сюда! — позвал его Орлиев и, налив в стакан водки, приказал: — Пей!
Котька — двадцатилетний, рослый парень с курчавыми светлыми волосами и с миловидным, по–детски чистым лицом — некоторое время в нерешительности постоял у порога, потом встряхнул головой, громко поздоровался и подошел к столу.
— Пей! — подвинул ему стакан Орлиев.
— Не–е, — отстранил Котька. — Вот красного… у меня танцы сегодня, от водки развезет в жару.
— Ну, пей красного! — Подождав, пока Котька выпьет, Тихон Захарович спросил: — Партизанскую знаешь?
— Какую, эту? — Котька с готовностью вскинул за плечо ремень баяна, нащупал аккорд, помедлил и запел:
…Нас было только семеро, И больше ни души. Мы пробирались плавнями, Шумели камыши… Партизаны, не забудем никогда…Пел Котька вполголоса, склонившись ухом к баяну и как бы выслушивая там нужные звуки. Лена и Виктор любили эту грустную раздумчивую песню и обрадованно посмотрели друг на друга, уже готовясь подхватить ее:
…Своих детей оставили — Когда увидим их? Руками неумелыми Баюкаем чужих…Вдруг Орлиев стукнул кулаком по столу:
— Стой! Не эту! Мы тогда пели другие…
Наступила тишина. В выкрике Орлиева было столько тоски, что все испуганно посмотрели на него.
— Не эту! — тише повторил Тихон Захарович. — Это теперь так про нас чирикают, а мы другие пели… Помнишь, Курганов?
В отряде пели много песен, и Виктор не понял, какую из них имеет в виду Тихон Захарович. В сознании Виктора каждая песня была прочно связана не только с определенным периодом войны, но и с конкретным походом, во время которого ее особенно часто певали партизаны.
Даже сейчас, полупьяным сознанием Виктор отчетливо видел и слышал, как, бывало, разрастался в партизанской землянке никем не созываемый хор, когда он брал в руки баян.
Он вдруг подумал, что никогда не видел среди поющих своего командира. Раньше он не думал об этом, но теперь, лихорадочно перебирая в памяти все два года партизанской жизни, он очень хотел вспомнить хотя бы один случай, когда Тихон Захарович сам запел песню или присоединился к поющим.
— Котька, — приказал Орлиев, — дай–ка баян Курганову. Бери, бери, Курганов… Сыграй нашу, партизанскую,
Тихон Захарович неестественно оживился, стал суетливым. Даже не дождавшись, когда Виктор подберет нужную тональность, он во весь голос затянул:
Шумят леса, карельские леса, Партизаны проходят лесами!Виктор давно уже не держал в руках баяна и не смог сразу освоиться с чужим инструментом. Он сбивался, кое–где фальшивил, переживал это, слыша, как вслед за ним фальшивит голос Орлиева. Панкрашов с восторгом смотрел то на Виктора, то на Тихона Захаровича. Котька довольно и чуть снисходительно улыбался, Лена молча страдала от каждого неверного звука.
К концу песня наладилась настолько, что начали подпевать все, и последний припев закончили дружно:
…И творят чудеса, Мы верим в чудеса, Которые делаем сами.— Вот какие песни пели мы! — тяжело дыша, проговорил Орлиев, обращаясь к Котьке. — А все остальные это так, выдумка…
Желая доставить командиру приятное, Виктор заиграл одну из самых любимых партизанских песен «Не пыли, дороженька степная…». Он с наслаждением медленно перебирал клавиши, ожидая, что вот–вот вновь вступит глухой и сильный голос Орлиева. Но командир молчал, опять склонившись над столом и глядя на гостей из–под низко нависших бровей.
«Неужели он не знает эту песню? Он должен знать, ведь в отряде так любили ее», — думал Виктор.
Они с Леной в два голоса пропели эту песню до конца. Панкрашов шумно зааплодировал, а Котька прошептал на ухо:
— Слова дадите списать?
Виктор передал баян его хозяину. Стало вдруг тягостно. Как будто не получилась не только песня, а что–то более значительное. Орлиев мог и не знать слов этой песни, хотя ее очень часто пели в отряде. Но почему он так равнодушно сидел, ни одним движением не отозвавшись на дорогие партизанской душе звуки?
«Я, конечно, пьян… Может, потому мне это так и кажется. Но ведь и он тоже захмелел… Он выпил столько же. Неужели ему не хочется плакать? Ведь это такая песня, такая песня…» — обиженно размышлял Виктор,
— Витя, мы обязательно купим баян! — дрожащим от волнения голосом сказала Лена.
— Хорошо, Леночка.
Все притихли, Котька еле слышно, одной правой рукой наигрывал на баяне мелодию «Дороженьки», Панкрашов хмельно и влюбленно улыбался прямо в лицо Виктору.
— Что ж, Вяхясало, видать, не придет, — посмотрев в окно, сказал Тихон Захарович. — Панкрашов, наливай остатки!
Без желания выпили по последней, закусили, но веселья не наступило. Панкрашов тихо запел какую–то протяжную украинскую песню, Котька несмело ему подыгрывал.
— Я Чадова встретил, — сказал вдруг Виктор, глядя в глаза Орлиеву.
— Ну и что? — сузившиеся зрачки Тихона Захаровича дрожали от напряжения.
— Ничего… Встретились, поговорили...
— Пустой человек…
В другое время Виктор, возможно, и не стал бы спорить с Орлиевым, по крайней мере расспросил бы, почему он так думает о Чадове, но сейчас такой короткий и категоричный ответ не понравился ему:
— Чадов не глупый парень, — возразил он.
— Это чем же он тебе так пришелся? Вроде в отряде не примечал я, чтобы ты с Чадовым дружил?
— Чем? — переспросил Виктор и на секунду растерялся. — Журналист хороший, много пишет… По–моему, он серьезный, думающий человек.
— А ты читал его статьи?
— Читал.
— Когда же ты успел?
— А вчера. Пошел в библиотеку при гостинице, взял подшивку и прочитал.
— Ты по библиотекам да по подшивкам его статьи знаешь, — возвысил голос Орлиев, — а я здесь, на делянках их читывал. И скажу, что его статьи никакой пользы нашему брату не дают… Не понимает он нашей жизни, да и понять не хочет… Об этом ты подумал?
— Этого я не знаю, но все его статьи написаны ярко, интересно и доказательно.
Орлиев внимательно посмотрел на него и, отодвинув широким жестом посуду на столе, вдруг поднялся.
— Пойдем–ка, проветримся на свежем воздухе, — взял он за плечо Виктора. — А вы, — он строго посмотрел на Панкрашова и на Котьку, — занимайте хозяйку, смотрите, чтоб не скучала.
— Можно и я с вами? — спросила Лена.
Орлиев, как бы не слыша, направился к двери.
— Леночка, мы скоро вернемся. — Виктор понял, что Тихону Захаровичу хочется поговорить с глазу на глаз.
Глава восьмая
1
Они пересекли шоссе и по узенькой тропе–межнице спустились к озеру. Орлиев подошел к самой воде и молча сел на большой плоский камень. Виктор опустился рядом. Был тот безветренный и прохладный час августовских закатов в Карелии, когда огромное, как бы разбухшее за день солнце уже коснулось вершин дальнего леса и багрово–красная полоса лежала на всей глади озера — от берега до берега. Лишь изредка кое–где всплеснет верховодка. Ровные расходящиеся круги подолгу держатся на зыбкой воде и медленно, незаметно для глаза, гаснут, чтобы возникнуть снова, в другом месте, всколыхнуть красную солнечную дорожку и снова раствориться в озерном покое.
Гремела музыка. Звуки отражались от воды, скрадывалось расстояние, и казалось, песню о лихом шофере и тяжкой фронтовой дороге поет не динамик у поселкового клуба, а все вокруг — озеро, небо, берег.
— Куришь?
— Курю.
— Угощайся. — Тихон Захарович протянул пачку «Беломора» и, помолчав, потребовал: — Ну, рассказывай!
— Что рассказывать, — быстро отозвался Виктор, подумав: «Неужели он знает? Неужели сейчас?.. Нет, нет, только не сейчас, потом, когда–нибудь — потом».
— О себе. Девять лет не виделись. Как жил–то после госпиталя?
…Что ж, после госпиталя Виктор жил неплохо. Три года работал на заводе, учился, окончил вечернюю школу рабочей молодежи, поступил в лесотехническую академию…
— Почему в лесотехническую? — остановил его Орлиев.
— Как почему? — не понял Виктор.
— Почему не в артисты пошел или там журналистом не заделался? Парень ты умный, лицом ничего, за словом в карман не лезешь, жил бы себе припеваючи.
— Шутите вы, — смутился Виктор, не зная, в шутку или всерьез принимать слова Орлиева.
— Какие тут шутки! Некоторые вон в дипломатическую школу пытались, и туда, и сюда тыркались… А теперь других через газету учат. А ты почему в лесотехническую?
Виктор понял, на кого намекает Орлиев. Но странное дело, теперь слова командира не вызывали в нем прежнего протеста. Он промолчал. Орлиев отвернулся, задумался.
— А знаете, Тихон Захарович, я и сам много думал — почему? Я не выбирал. И не потому, что в другие институты меня не приняли бы: школу я с медалью закончил. Но еще после госпиталя решил — пойду в лесотехническую.
Орлиев требовательно посмотрел на Виктора. И тот стал продолжать.
— Вышел я из госпиталя, дали мне увольнение по чистой, инвалидность на полгода, езжай, куда хочешь. А куда мне ехать? Родных никого. Из детдома я. Была на Смоленщине бабушка, да и та перед войной умерла.
— Ну и дальше?
— Так вот, вышел я из госпиталя, — словно обрадовавшись, заговорил Виктор. — Один. Никого, ничего… Ни родных мест, ни родственников… Заказал себе литер почему–то до Свердловска, хотя там никогда не был. Еду в вагоне. Другие, списанные по чистой, едут домой, радуются, а я сижу у окна и думаю — где ж моя родина? Куда я еду? И чем дальше, тем сильней чувство, что от родных мест уезжаю. В общем, понял тогда, что самое мое родное место на земле — Карелия! И сразу легче стало… Есть и у меня оно, родное место… Ну, а дальше я рассуждал просто. Что для Карелии главное? Лес. Так вот и убедил себя, что мое призвание быть инженером.
Виктор с радостью заметил, что его рассказ пришелся по душе Орлиеву.
— Складно у тебя вышло!.. Чего ж ты нам–то никому не написал… Нелегко было учиться на стипендию, помогли бы!
— Весной, пока я в госпитале был, перевели отряд в другое место. Так и потерял я всех… Я писал… Много раз писал. И в отряд, и в штаб партизанского движения…
— Да, как раз в марте нас в Заполярье перебросили… А в октябре в Петрозаводске партизанский парад был. Знай я твой адрес, обязательно вызвал бы…
Виктор подумал, что, не случись этой переброски отряда, вся его жизнь наверняка сложилась бы по–другому. Лучше или хуже — кто знает, но обязательно по–другому. Все могло выйти проще. Как у других. Сразу направили бы на работу, устроился бы и жил, как живут многие товарищи по отряду. Не было бы этих долгих девяти лет переживаний из–за той мартовской ночи! Если бы он знал тогда, что Тихон Захарович так хорошо относится к нему!
— Ты, Курганов, молодец! Ты идешь по жизни правильной прямой дорогой… Не то, что некоторые… В партию вступил?
— Нет…
— Почему?
— Да так как–то, — замялся Виктор.
— Зря, — отрубил Орлиев.
«Нет, сейчас я ничего не скажу, — решил Виктор. — Поработаю, сживемся поближе, и потом пусть судит…»
— В партию тебе обязательно надо вступить. Пора уже… Ты теперь людьми руководить должен. Рекомендация нужна — я всегда готов.
— Спасибо, Тихон Захарович. — Виктор, почувствовав, что его лоб покрывается испариной, отвернулся в сторону, незаметно вытер его платком.
— Ты вот о Чадове заговорил, — продолжал Орлиев. — Я так скажу — таких людей я не люблю… А не люблю потому, что не верю таким. Конечно, он умный, кто спорит… Но нет у него святого трепета перед великой целью, во имя которой мы живем… Случись беда — из таких предатели выходят.
— Но ведь воевал он неплохо, — напомнил Виктор.
— Ну и что ж… Против фашизма и бывшие преступники сражались. Фашизм — это явный враг… Против него сражались даже наши нынешние враги… Вот так! Чадов после войны хотел попасть в дипломатическую школу. Он ведь умный, хитрый, языки знает — специально изучал… Попросили у меня характеристику. Ну, я написал все, что думаю… С тех пор получил за эти восемь лет пять разносных статей в газете, и в общем, может быть, и правильно, но жалко, что пишут их такие люди, как Чадов.
«Вот откуда у вас такая крепкая «любовь», — про себя усмехнулся Виктор, подумав, что Чадов и сейчас дипломат хоть куда, а вот как газетчик — он ему не понравился. Ну, зачем он на целые два столбца расписал приезд Виктора, да еще в таких пышных фразах…
Орлиев начал рассказывать о делах. Лесопункт полностью механизирован… Два десятка тракторов КТ‑12, пять передвижных электростанций, четырнадцать лесовозов… Но план спущен с предельной нагрузкой на каждый механизм… Подводят трелевка и вывозка… Вывозить приходится за двадцать километров — нижняя биржа на берегу реки Войттозерки… Дороги плохие, машины то и дело выходят из строя.
Хотя за каждым словом Орлиева стояла привычная командирская непререкаемость, Виктор почувствовал, что Тихон Захарович пытается этим прикрыть свою растерянность.
«Пытается и не может… Все хорошо и все плохо, — подумал он, когда Орлиев замолчал. — Он ждет от меня чего–то… А что я могу? Я буду стараться… Я буду очень стараться…»
— Это не тот остров? Помните, в марте сорок четвертого? — спросил Виктор, указывая на еле проступавший сквозь вечернюю синеву маленький густо заросший островок.
— Который? Да, тот самый… Там и сейчас сохранились дзоты…
— Скажите… У Павла Кочетыгова в деревне оставалась мать… Она жива еще?
— Тетя Фрося? А как же… Шустрая еще старушка… Работает уборщицей в общежитии.
«Позавчера вот так же вдвоем мы сидели с Чадовым… — подумалось Виктору. — И вода, и даль, и остров… А ведь все куда проще, чем кажется, чем думает Чадов. Может, и я зря усложняю все?.. Надо быть самим собой и работать, работать… Все станет на свои места».
2
Они вернулись в комнату Орлиева, когда уже смеркалось и под потолком, мигая, горела лампочка. Лена, неизвестно откуда добывшая таз и горячую воду, заканчивала мытье посуды. Ей скорее мешал, чем помогал, Панкрашов. Котька давно уже ушел вместе с товарищами в клуб на танцы.
Орлиев вернулся довольный, веселый. Виктор, наоборот, тихий, задумчивый.
— Зачем вы? — принялся укорять Лену Тихон Захарович. — Все равно посуда из столовой, там и вымоют…
— Я просто доказала Константину Андреевичу, что и в общежитии можно держать посуду чистой, — улыбнулась Лена и спросила Панкрашова: — Ну, как, теперь верите?
Тот развел руками.
–— Елена Сергеевна! Вы настоящая домохозяйка!.
— Я не домохозяйка, а учительница.
— Извиняюсь, я хотел сказать другое…
— Хватит, — перебил его Орлиев. — Давайте решим, как вас лучше устроить. Квартиры сейчас свободной нет. Через пару месяцев сдаем два новых дома, там выделим для вас квартиру… Решение такое! Оставайтесь у меня, а я поживу у Панкрашова.
— Это неудобно, зачем же, — запротестовала Лена и разочарованно спросила: — Неужели нельзя снять комнату частным порядком?.. Только чтоб отдельную…
Орлиев улыбнулся, подумал и обрадованно повернулся к Панкрашову:
— Есть выход! У тети Фроси никто сейчас не живет?
— Кажется, нет.
— Ну вот, можно к ней. Это в деревне, недалеко. Тетя Фрося и по хозяйству поможет, и обед сготовит… Хотите?
— Хотим, — ответила Лена, посмотрев на Виктора.
— Тогда собирайтесь… Панкрашов, бери чемоданы…
И вот снова вчетвером они шагают по главной улице поселка. Редкие фонари бросают на гравийную, истертую колесами и мягкую, как пух, дорогу слабый мерцающий свет. По сторонам цепочка уходящих вдаль освещенных окон, из которых громче, чем днем, слышатся голоса, песни, шумные разговоры. То и дело попадаются навстречу подвыпившие компании.
Обнявшись по двое, по трое, мужчины бредут по середине улицы, тянут нестройными голосами песню, при встречах обнимаются, спорят, шумят. Завидев начальника с гостями, ненадолго притихают и провожают молчаливыми взглядами.
Орлиеву все это не нравится. Он хмурится, не отвечает на приветствия, делая вид, что не замечает их, и шагает все быстрее и быстрее. Панкрашов, наоборот, сам окликает гуляющих, иногда даже останавливается с ними и потом, с тяжелыми чемоданами в руках, рысью догоняет товарищей.
— Гуляют мужики! — как бы извиняясь, тихо поясняет он Лене. В его голосе — и снисходительное осуждение и зависть.
— А что, у вас праздник какой? — спрашивает Лена.
— У нас каждый месяц праздник. Даже два. Как получка — так и гуляют.
Слышавший этот разговор Орлиев бросает на Панкрашова сердитый взгляд, и тот притихает.
В конце поселка, где от шоссе уходит широкая тропа к деревне, виднеющейся несколькими слабо освещенными окнами, из низенького домика тягучий и сладкий, как патока, женский голос вдруг позвал:
— Кинстянтин. Можно тя на минуткю?
Лена даже и не догадалась, что этот голос обращается к кому–то из них четверых, но Панкрашов опустил на землю чемоданы и, помедлив, отозвался;
— Чего тебе?
— Седня придешь?
— А ну тебя! — Он махнул рукой и наклонился к чемодану.
— Придешь, спрашиваю? — возвысила голос женщина.
Панкрашов неожиданно метнулся к домику, привычно распахнул калитку и, приблизившись к окошку, недовольно забубнил:
— Чего пристаешь? Не видишь — занят?..
— Седни такого крепача сообразила — быка свалит. А чистый — прямо слеза божья, — торопливо зашептала женщина. — Искала–искала тя... У начальника, грят, в гостях..,
— Некогда мне,
— А то приходи, не закаешьси… Что это за дамочка с тобой? Вроде не поселковая. Смотри, Кинстянтин, не руши стару дружбу… Придешь седня?
— Говорю, некогда… Чего зря шумишь?
Панкрашов уже вышел на дорогу и стал догонять свернувших к озеру спутников, когда в темноте снова раздался беззастенчиво заманивающий голос:
— А то приходи, не закаешьси…
Орлиев, сделав вид, что поправляет ручку у чемодана, пропустил вперед Виктора и Лену, дождался Панкрашова.
— Ты что, опять путаешься?
— Что вы, Тихон Захарович? Вот честное слово…
— Тебе выговора мало? да? Достукаешься — из партии выгоним… Нашел с кем дружбу заводить — с самогонщицей.
— Да я ничего, ей–богу… Сама пристает. Даже стыдно.
— Завтра же из поселка выгоню. Не посмотрю, что работница хорошая… И с тобой то же будет. Герой нашелся. По нему стоющие бабы с ума сходят… Почему не женишься на Рябовой? Чем она тебе не пара?
— Да что вы, Тихон Захарович! Разве она пойдет за меня.
— Ну, вот что! Ты мне мозги не темни! Я все вижу. Одно учти — колобродить в поселке я тебе не разрешу… И Рябову нечего изводить. На эту тему я говорю с тобой первый и последний раз, ясно?
— Ясно, Тихон Захарович, — смиренно ответил Панкрашов, хотя и ясности никакой у него не было, и разговор этот был у них не первый.
Тетя Фрося уже спала, когда Орлиев поднялся на высокое крыльцо и энергично постучал. Лена с надеждой смотрела на высокие, словно игрушечные, окошки огромного, как крепость, дома. Больше всего она опасалась, что в доме никого не окажется и им вновь придется тащиться куда–то в поисках ночлега. Она уже начала жалеть, что не согласилась остаться в комнате Орлиева, когда за дверью послышался голос:
— Кто там? Не заперто! Сейчас свет зажгу!
— Это я, Орлиев.
— Тихон Захарович! — с каким–то непонятным испугом воскликнула старушка. — Сейчас, сейчас…
— Гостей к тебе привел. Это наш новый технорук. Бывший партизан. Друг твоего Павла. Это его жена. Пусть у тебя поживут! Месяца два. Люди они молодые, присмотреть за ними надо, обиходить в чем. Ну как, нет возражений?
— Ради бога! — обрадованно засуетилась хозяйка, вводя гостей в дом и зажигая лампу. — Пусть хоть сколько. Дом большой, места хватит. Проходите, я сейчас самоварчик подогрею. Вот уж не знаю, чем и угостить… Может, молочка хотите?
— Нет, нет. Ничего, пожалуйста, не надо! — остановила ее Лена. — Мы уже поужинали. Нам бы отдохнуть поскорей, если можно, а то, знаете, целый день в дороге…
— Ради бога! Вон кровать, устраивайтесь, не стесняйтесь. А завтра я вам отдельную комнату приготовлю, уберу ее честь по чести…
Орлиев и Панкрашов попрощались и ушли. Виктор вдруг спросил:
— Скажите, у вас есть сеновал?
— Сеновал? — переспросила тетя Фрося. — Сарай–то? Есть. А как же без сарая?
— Можно, мы там переночуем? Я давно мечтаю поспать на сеновале. Сено сейчас свежее, пахучее, и спишь, как без памяти!
— Отчего ж нельзя? Можно. Только сена–то у меня маловато. А так — ради бога, спите себе на сеновале. Возьмите вот одеяло ватное, чтоб не замерзнуть. Пойдемте, я вас провожу. Стало быть, вы Павлушку моего знавали, воевали вместе?
— Да, знал… Он был моим командиром отделения.
— Радость–то какая мне! А я уж думала, никто его и не помнит… Ну–ну, не буду надоедать. Отдыхайте, потом поговорим.
Часть вторая
Глава первая
1
Самые старые дома в деревне Войттозеро стоят на берегу и опечаленно смотрят маленькими, похожими на бойницы, окошками в озерную даль. Они, вероятно, выросли в те времена, когда не было здесь никаких дорог, когда густые леса подступали к самой воде и каждый клочок пригодной для застройки земли приходилось отвоевывать с немалыми усилиями. Возможно, потому эти дома — с хлевом под одной крышей, с полуразвалившимися баньками у самой воды, с причалами для лодок — жмутся друг к другу так тесно, что между ними нет места для огородов.
Дом Кочетыговых тоже расположен в этом ряду, но стоит он в отличку от своих ровесников. Все постройки глядят жилой половиной на озеро, а кочетыговская, как бы назло всем, повернулась туда слепым бревенчатым торцом большого и длинного хлева. Если б не печная труба да не высокое крыльцо, то с озера и не понять было бы — дом ли стоит или огромная ригача затесалась посреди жилья. Зато со стороны леса вся старая часть деревни оживлялась маленькими и частыми окошками кочетыговского дома. Особенно вечерами, когда лишь в его окнах вспыхивали и подолгу не угасали огненно–багровые отсветы поздних северных закатов. Окна других домов никогда не знали такой красоты.
Но, конечно, не ради красоты закатов кочетыговский дом был выстроен не так, как другие. Его хозяин, наверное, догадывался, что рано или поздно придет в Войттозеро дорога. Она протянется дальше, за каменистую сельгу, и не будет ей другого места, как обогнуть деревню с внешней стороны. А раз будет дорога, обязательно появятся и новые люди, которые захотят построиться вдоль нее.
Так оно и получилось. Дорога в Войттозеро пришла. По другую ее сторону вырос второй ряд построек, центр деревни переместился выше от озера, и уже теперь старые дома выглядели угрюмо отвернувшимися от своих односельчан. Из них лишь дом Кочетыговых оказался стоящим по всем правилам немудрой деревенской планировки — он глядел окнами туда же, куда и должен глядеть дом у хорошего хозяина — к дороге, связывающей деревню со всем миром.
Это было давно, очень давно. Никто в Войттозере и не помнит тех времен. И даже, может быть, по какой–либо иной причине кочетыговский дом первым выбился из угрюмого ряда своих ровесников, сонно уставившихся в озерную даль…
Но когда смотришь на старую деревню со стороны дороги, то прежде всего бросаются в глаза частые, весело поблескивающие кочетыговские окошки. И невольно задумываешься, почему этот дом, внешне так похожий на своих соседей, строившийся в одно с ними время, возможно, даже долгие годы терпевший осуждающие взгляды, в конце концов оказался правым?
2
Виктор ушел рано. Сквозь сон Лена слышала, как он поднялся, достал из пиджака портсигар с папиросами и закурил. Он имел скверную привычку курить по ночам, и Лена ничего не могла поделать с этим. Сейчас было так холодно и ей так хотелось спать, что она ни слова не сказала мужу.
Виктор, выкурив папиросу, вдруг принялся одеваться.
— Ты уже уходишь? — приподнялась Лена. — Сколько же времени?
— Спи, Леночка, спи, еще рано.
— Как же ты без завтрака?
— Ничего, позавтракаю где–нибудь, — довольный ее заботой, улыбнулся он. — Пойдешь сегодня в школу?
— Пойду.
— Может, отдохнешь денек, познакомишься с поселком. А вечером вместе к директору сходим.
— Зачем вместе? Одна пойду, не заблужусь, не бойся.
— Ну смотри. — Виктор поцеловал жену и направился к двери, ведущей с сеновала в жилую часть дома.
— Костюм переодень, — напомнила Лена.
Он остановился в дверях, приветливо помахал рукой и скрылся.
Лена поплотнее завернулась в тяжелое, сшитое из разноцветных лоскутков ватное одеяло, но заснуть ей не удалось.
Тяжело скрипнула внутренняя дверь — это Виктор прошел в избу. Вот он уже, наверное, отыскал чемодан («помнит ли он, что куртка лежит в черном, не в коричневом?»), теперь уже вынул спецовку, переодевается…
О чем он думает сейчас? Наверное, он очень волнуется — ведь для него это первый день… Недаром он так рано поднялся. Наверное, ему и не надо так рано, он просто не может больше сидеть дома…
Опять скрипнула дверь. Знакомые шаги поспешно простучали по ступенькам высокого крыльца — и снова тишина окружила Лену.
Это была необычная тишина. Вдалеке что–то пыхтело, как будто паровоз набирал пары. Это, конечно, не паровоз, так как пыхтение было долгим и очень размеренным. Потом откуда–то донеслось пронзительное взвизгивание. Лена не могла понять, что это такое. Звук то походил на жужжание бормашины, то напоминал истошный визг падавших на ленинградские крыши немецких зажигалок. Дойдя до самой высокой ноты, он резко обрывался, сменялся жужжанием, и так повторялось без конца.
И все же ощущение непривычной глубокой тишины не покидало Лену, так как пыхтение, визг, жужжание не сливались в сплошной шум, к которому невольно привыкаешь в городе, а существовали отдельно друг от друга. Между ними стояла такая тишина, от которой звенело в ушах.
Непонятные звуки придавали начинающейся жизни какой–то особый заманчивый смысл. Лена не знала их и нисколько не стыдилась этого. У нее все впереди. Ведь ее настоящая жизнь еще только начинается. Сегодня первый день. И это утро тоже первое! И эти странные звуки тоже первые из того неизвестного, что предстоит ей узнать в Войттозере.
На свете столько интересного. Вот сарай. Разве думала она вчера, что есть на свете такой сарай с тесовой крышей, с толстыми, покрытыми белой мукой бревнами, с сеновалом наверху, с хлевом внизу, с ласточкиным окошком под самым коньком и с неровным горбылевым полом. Карельские дома казались совсем не похожими на деревенские строения в Любани, где ей доводилось бывать. Возможно, здесь все и называется по–своему. Ну, что ж, она узнает и это. Как хорошо, что вчера они решили ночевать на сеновале.
Неожиданно у самой стены молодой женский голос сдержанно произнес:
— Добрый день, тетя Фрося.
— A–а, Олюшка! Здравствуй, милая, здравствуй. Когда приехала? Вроде, говорили, с автобусом тебя вчера не было?..
— Поздно вечером, на попутной добралась…
— Чего же так? Иль причина какая?
— Н–нет… По сыну соскучилась.
Голос тети Фроси был каким–то особенно ласковым, вроде даже заискивающим. А молодая отвечала поспешно и встревоженно.
— Технорук у тебя квартировать будет?
— А где ж еще? Сама знаешь, с жильем в поселке трудно… Проходи, Олюшка, проходи в избу! Молочка свеженького попьешь. На работу пойдешь ли сегодня?
— Пойду.
Наступила долгая пауза. Потом молодой голос жестко произнес:
— Ты, тетя Фрося, больше Славку к себе не води. Пусть дома будет.
— Это еще почему? Иль я не угодила тебе чем?
— Не в тебе дело… А Славка пусть дома будет!
— Да что ты выдумала? С чего это парнишку без присмотра оставлять? — В голосе тети Фроси было столько беспокойства, что Лена, никогда не видевшая Славку, почувствовала к нему искреннюю жалость. — Сама целый день в делянке пропадаешь, а он ведь ребенок еще! Кто накормит, напоит? Кто присмотрит?
— К отцу водить буду.
— Не любит он мальчишку, сама знаешь.
— Он на меня сердится, а Славик перед ним ничем не виноват, какой с него спрос!
— Да и Славик не любит деда…
— Ничего… За прежнее тебе спасибо, тетя Фрося, но не обижайся. Так надо. А сюда больше не води его!
— Да что же это такое, господи! — запричитала тетя Фрося. — Родного внука не дозволяют в гости приводить! Где это видано? Семь годов можно было, а теперь нельзя! Да есть ли у тебя совесть? Или замуж надумала? Так разве ж я тебе помеха? Христом богом прошу, не отбирай внука, не отнимай последней радости!
Лена едва сдерживалась от прилива негодования к этой незнакомой и жестокосердной гостье. Она уже готова была сойти с сеновала и вступиться за права тети Фроси, как вдруг тихий голос заставил ее затаить дыхание:
— Тетя Фрося, я ведь просила вас не называть Славика внуком. Он вам не внук, понимаете?
— Не верю, — со слезами в голосе закричала хозяйка. — Не верю и никогда не поверю! Все знают это, все говорят! Одна ты никак гордыню свою смирить не хочешь… Себя зазря дегтем мажешь, да и Павлушу, сынка моего родного, заодно… Нет у тебя сердца, Олюшка!
— Славик не сын Павла…
— Неправду говоришь. Все годы неправду говоришь... Чей же он? Чей? Скажи!
— Это не имеет значения.
— Скажи прямо — поверила ты недобрым слухам про Павлушу? Себя решила обелить? Вроде бы и знать его не знала?
— Напрасно вы так, тетя Фрося!
— Вам все напрасно! Отняли сына, на могилу ему наплевали, а теперь и внука отбираешь… Эх ты!
— Зря вы обижаете меня! Слухам о Павле никто не верит. А уж я–то его знала.
— Зачем внука безотцовщиной делаешь?
— Павел не отец ему.
— Врешь! Уходи, видеть тебя не могу! Только, поверь мне, — придет время, совестно тебе будет.
— Прощай, тетя Фрося. Не обижайся. Так надо,
Старуха ничего не ответила.
3
Еще очень рано, но солнце уже поднялось над лесом. Под его косыми, нежаркими лучами вода в озере курится еле заметным парком, а в тени восточного берега туман такой густой, что поселок по самые крыши увяз в молочном месиве. Виктор по прибрежной тропе спускается к озеру, идет навстречу туману, и поселок с каждым шагом тонет все глубже и глубже. Домов уже не видно, лишь проступающий над мглой темный гребень леса да резко усилившиеся звуки показывают, что поселок близко.
Все вокруг словно облито бесцветным лаком. Тропа и камни, жерди изгороди и картофельная ботва тускло отсвечивают невпитанной сыростью. Мокро, холодно, неуютно. Хочется скорей обогнуть губу, отделяющую деревню от поселка, и выбраться на взгорье.
Но не только это заставляет Виктора почти бежать по петляющей прибрежной тропе.
Поселок уже не спит. Мерно и упруго пыхтит локомобиль, где–то вдали один за другим прогромыхали прицепами лесовозы, вот истошно взвыла и пошла крутить–вертеть, повизгивать шумная поперечная пила.
Рабочий день начинался.
Для Виктора он — первый и потому особенный. Виктор еще не знает, где расположена контора и откуда отправляются в лес машины с рабочими — от конторы, от гаража или в Войттозере имеется специальная нарядная, как это было в Кудерине, где он проходил преддипломную практику. По существу он пока и не технорук лесопункта, так как еще нет приказа по леспромхозу о его назначении, но ему кажется, что где–то что–то идет не так, как надо, и это беспокоит его. Лишь после приказа он имеет право принимать дела, и это займет, вероятно, немало времени, но ему уже сейчас не терпится увидеть все собственными глазами. Перед этим радостно–волнующим чувством отступают даже сомнения, которые совсем недавно мучили его.
По длинному, тронутому гнилью бревну Виктор перебегает ручеек, впадающий в озеро, и оказывается на территории поселка. Слева на взгорье проступает в тумане двухэтажное здание школы, уже виднеется шоссе, по которому они вчера въезжали в Войттозеро. Но сегодня все представляется иным, и Виктор не узнает ни школы, ни шоссе, ни самого поселка.
Впереди и позади Виктора по дороге шагают люди. С сумками на боку или со свертками под мышкой они идут в том же направлении, что и Виктор. Людей становится все больше. Они на ходу соединяются в группы. Уже слышны разговоры, смех, веселые оклики.
Впереди Виктора движется особенно большая группа. Ее ведет седой, краснолицый старик в финской кепке с длинным, слегка обвисшим козырьком. Он шагает медленно, очень медленно, с трудом переставляя грузные ноги, обутые в болотные сапоги со спущенными голенищами. Остальные приноравливаются к нему. Изредка старик сворачивает с шоссе, дробно стучит пальцем в окно того или иного дома. Хозяева их, видно, привыкли к этому стуку.
— Иду, иду, Олави Нестерович!
Старик не ждет. Даже если никто не отзывается, он молча и невозмутимо шагает дальше, чтобы через дом–два привычно свернуть к следующему окошку.
А вот и контора. Ничем не выделяющийся бревенчатый полубарак с низким забором из штакетника. Над входом висит выцветший матерчатый лозунг с первомайским призывом к лесозаготовителям, а на боковой стене — доска показателей по участкам и бригадам.
Вот–вот должны подойти машины, Люди в ожидании курят, лениво переговариваются. У некоторых хмурые от недосыпа лица. Двое или трое, наоборот, неестественно веселы, шумят и озоруют — ведут себя так, словно собрались в лес не на работу, а на гулянье.
Старик в ответ на приветствия трогает козырек кепки и проходит в контору. И сразу Виктор оказывается в центре внимания. Он чувствует, как со всех сторон его рассматривают, ощупывают придирчивые взгляды, и останавливается. Он здесь незнакомый человек. Он не похож ни на новичка–рабочего, ни на приезжее начальство.
— Здравствуйте, товарищи! — Виктор останавливается, не зная, как ему поступить дальше — молча пройти в контору или представиться. Ведь с этими людьми ему теперь предстоит работать, и очень хочется, чтобы первое знакомство оставило у них хорошее впечатление.
Несколько человек вразнобой отвечают ему, остальные продолжают молча наблюдать.
— Я буду у вас работать… — произносит Виктор, чувствуя, что каждая секунда молчания лишь затрудняет его положение.
— Очень приятно познакомиться. — Стоящая неподалеку девушка, игриво улыбаясь, подходит и кокетливо протягивает руку: — Дуся, окарзовщица… Позвольте узнать, вы не по нашей специальности будете…
— Курганов, — не обращая внимания на явную иронию, Виктор пожимает руку. — Назначен техноруком лесопункта.
— Ой, девоньки! Вот попалась я… Прямо на новое начальство! — Дуся растерянно разводит руками и оглядывается на подруг: — Что мне теперь–то будет?!
— Так тебе, дурехе, и надо, чтоб на людей не наскакивала! — смеется высокий белобрысый парень в тесном замасленном комбинезоне. Виктор не сразу узнает в нем Котьку–баяниста. — Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Вы на Дуську не обращайте внимания, она у нас любит глупости.
— Ой, Котенька! У кого ж мне ума набраться, коль судьба с тобой веревочкой связала. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься…
— Виктор Алексеевич! Вас Тихон Захарович ждет!
На крыльце, придерживая рукой полуоткрытую дверь, стоит Панкрашов. Он, как и вчера, в военной форме, но выглядит сегодня не таким бравым и ладным. Лицо заспанное, помятое, гимнастерка и брюки в черных смоляных пятнах, кирзовые сапоги густо облеплены ссохшейся грязью, Виктор понимает, что на Панкрашове обыденная рабочая одежда, но долго не может отделаться от впечатления, будто вчерашний форсоватый мастер за ночь выцвел и поблек.
— Как спалось? — пожимая руку, спрашивает Панкрашов. — Голова не болит после вчерашнего?
— Нет, все в норме.
— А меня, понимаешь, затащили в одно место, — он пропускает вперед Виктора и, шагая за ним по коридорчику, доверительно и смущенно поясняет: — Чуть тепленький домой добрался. Голову разламывает, страсть! Видно, дрянь какую–то пил.
Виктор молчит. Откровение Панкрашова и льстит ему, и тревожит.
— Если болеешь, доложи начальнику и иди домой!
— Что ты! — испуганно останавливается Панкрашов. — Прошу тебя, Орлиеву ни слова… Да я и сказал так просто… Подумаешь — голова! В лесу как рукой снимет. Впервой нам, что ли!
В конторе сидят мастера, бригадиры, десятники. Поглядывая в окна, они ждут. Виктор догадывается, что ждут они не только машин — три автофургона уже стоят на шоссе, а никто из конторы не уходит. «Наверное, будет планерка», — думает он, обходя по очереди всех присутствующих и молча пожимая руки.
— Тихон Захарович, Курганов пришел! — крикнул Панкрашов в сторону кабинета начальника.
Орлиев вышел веселый, словно помолодевший. Здороваясь с Виктором, добродушно пошутил:
— Сразу видать, жена молодая — спишь долго.
— Он, Тихон Захарович, с Дуськой уже успел познакомиться, — с готовностью поддержал шутку Панкрашов.
Орлиев сердито посмотрел на него и вдруг нахмурился.
— А Рантуева где? Мне говорили, она приехала.
Виктор растерянно оглядывается, ищет ее глазами.
Как это он забыл, что на планерке должна быть и Оля? Столько думал о ней, готовился к этому — и вдруг в последнюю минуту забыл о ней?
Помощник мастера с участка Рантуевой, тщедушный старичок в ватном жилете, в зимней шапке, приподнимается и, моргая, поясняет:
— Она… это самое… наказывала, чтоб ее не ждали. По семейным делам… это самое… не успеет.
— На работе она будет сегодня?
— Будет, будет, — кивает старичок.
«Может, и хорошо, что мы встретимся не здесь», — думает Виктор.
Орлиев помолчал, постучал пальцами по письменному столу и сказал:
— Вот так, товарищи! Курганов — наш новый технорук. Зовут его Виктор Алексеевич. Человек с высшим образованием. Бывший партизан… Вот так! Его указания прошу выполнять беспрекословно… Вопросы есть?
Вопросов не было.
— У тебя, Виктор Алексеевич, есть что сказать?
— Пока, к сожалению, нечего.
— Так вот. Задание каждому известно. Кровь из носу — а план давать! Без плана нечего из лесу возвращаться. Который месяц проваливаем. Хватит. Тебя, Олави Нестерович, прошу — на план жми, на подсобные работы силы не отвлекай. А тебя, Панкрашов, предупреждаю. Если не наладишь вывозку, приму строгие меры. Добавочную машину тебе дали? А где результат?
— Трелевка подводит. Участок такой, что трактора тонут. По колено в болоте работаем, — жалобно подает голос Панкрашов. — На таком участке на лебедках впору трелевать, а не тракторами.
— Тебе, может, еще самолет понадобится! — Орлиев отвернулся от Панкрашова и дал понять, что планерка закончена.
Уже был восьмой час утра. Мастера и бригадиры один за другим потянулись из конторы к ожидавшим их грузовикам.
Когда остались вдвоем, Виктор спросил у Орлиева:
— Где же мой предшественник? У кого мне принимать дела?
— Какие там дела! — махнул тот рукой. — На Мошникова не надейся, в дела вникай сам. А бумаги он потом тебе передаст.
— Приказ на меня уже есть?
— Приказ будет, не беспокойся.
Глава вторая
1
Когда Лена вошла в избу, тетя Фрося с красными от слез глазами сидела на лавке и безучастно смотрела на топившуюся печь. На столе лежала горка очищенной картошки, поверх шелухи был брошен нож. Печь уже прогорела, но у огня не стояло ни одного чугунка или кастрюли.
— С добрым утром, тетя Фрося! — тихо сказала Лена и лишь потом подумала: «Для нее это утро совсем не доброе!»
Старуха кивнула в ответ и как бы нехотя вымыла чугунки, наполнила их водой, задвинула в печь.
Лена умылась и хотела помочь. Но тетя Фрося без слов взяла из ее рук нож, дав понять, что управится сама.
Лена присела на лавку и стала смотреть в раскрытое окно, которое выходило на неширокий залив. На другом берегу виднелись стандартные дома нового поселка. Оттуда и доносились звуки, так заинтересовавшие Лену час назад. Теперь все это — и интерес, и волнение, и радость предстоящего познания — отступило перед крохотным кусочком житейской драмы. Тут тоже предстояло познание, но оно было совсем другим — оно не обещало радости.
— Не сердись. У тебя все еще впереди, — вдруг услышала она голос тети Фроси. Старуха, опершись на ухват, смотрела на нее с доброй улыбкой.
— Что впереди? — спросила Лена.
— Наработаешься. Гляжу, обиделась, что картошки чистить не дала. Не обижайся, горе не велико.
— A–а… Я не обижаюсь.
— Ну и умница. Нечего гордость зазря показывать. Не люблю я гордых, через них и жизнь навыворот идет.
«Это она об Ольге», — подумала Лена, и снова ее охватил прилив нежности и жалости к одинокой хозяйке. Хотелось как–то поддержать ее, посочувствовать, но будет ли рада тетя Фрося тому, что Лена оказалась невольной свидетельницей их разговора с невесткой?
— Питаться, поди, в столовой будете?
Этот вопрос застал Лену врасплох. Они с Виктором как–то не думали об этом.
— А у вас разве нельзя? — решительно спросила она.
— Отчего нельзя? Можно. Только придется ли вам наша еда по вкусу? Разносолов мы не готовим.
— А вы думаете, мы к разносолам привыкли? — обрадованно засмеялась Лена, — На стипендию не очень пошикуешь,
— Ну, смотрите сами. Коль не понравится, говорите, не обижусь.
Тетя Фрося подробно выспросила Лену, кто она и откуда. Узнав, что ее родители погибли во время войны, вдруг тихо заплакала. Лена смотрела, как она кончиками платка вытирает слезы, и ей самой вдруг захотелось плакать. Эти слезы словно сроднили их.
Когда сварилась картошка, тетя Фрося достала соленых волнушек, сметаны, зажарила в малой воде ряпушки и принялась так угощать Лену, как будто после многих лет встретила родную дочь, которую считала погибшей.
— Ешь, ешь, сиротушка моя! — приговаривала она, подкладывая Лене самые лучшие куски. — У чужого стола, чай, не много сладкого повидала…
Лена, тщательно подбирая слова, чтобы чем–либо не умалить искренней доброты старушки, пояснила, что хоть и росла она без родителей, но о ней заботилась родная тетка. Однако тетя Фрося по–своему истолковала ее смущенное объяснение:
— Что и говорить! Тетка не родная мать.
Они встали из–за стола, когда ходики на стене уже показывали начало десятого. Пока Лена мыла посуду, тетя Фрося подмела пол, и они вместе отправились в поселок.
Лене здесь все нравилось. И само необычное селение, разделенное заливом на две части — старое и новое, и тихая губа, казавшаяся под лучами яркого солнца необыкновенно чистой и прозрачной, и даже эта каменистая тропинка. Она так прихотливо извивается, то выходя к самой воде, то приближаясь к шоссе. А там, за поселком, какой таинственный темный лес! Почему он сегодня темный? Вчера он не казался таким. Все чудесно — и лес, и светло–голубое небо, и краешек воды, за которым угадывается большое озеро… А главное, впереди Лены идет эта славная тетя Фрося, вдруг ставшая для нее такой близкой, как будто они знают друг друга всю жизнь.
— Ну, вот ты и пришла. Вон твоя школа! — Тетя Фрося указала на двухэтажный деревянный дом, стоявший чуть в отдалении. — Мне дальше… Обедать–то когда придешь?
— Не знаю, — тихо ответила Лена, вдруг почему–то оробев. Школа оказалась совсем не такой, какой рисовалась в ее воображении.
— Спросишь Анну Никитичну, — напутствовала тетя Фрося. — А коль ее в школе нет, домой к ней зайди, она живет вон в том доме… Бойчей держись! Наша директорша бойких любит.
— Хорошо, тетя Фрося. Спасибо вам.
2
Территория школы была огорожена новым деревянным забором, за ним — турник, кольца, трапеции и волейбольная площадка. В здании тихо. Из открытых окон тянуло запахом олифы.
Этот привычный запах как–то успокоил Лену. Он напомнил детство, ее родную школу, первый день после летних каникул, когда класс сияет белизной и вновь покрашенные парты кажутся совсем незнакомыми.
Дверь была открыта. Лена вошла и, остановившись в коридоре, прислушалась. Нигде ни души. Лишь в одном из дальних классов слышалось шуршание, как будто кто–то старательно тер тряпкой классную доску. Лена пошла на звук.
Ее встретил старичок, с которым они ехали в автобусе. Он, как видно, что–то красил, так как в руке держал кисть, а его фартук был забрызган свежими каплями черного лака. Он сразу узнал Лену.
— A–а, новенькая! На работу пришла? С утра, стало быть, пораньше… Ну, как устроились?
— Здравствуйте, спасибо, хорошо… Скажите, могу я видеть директора?
— А почему ж не можешь? Можешь, и очень даже просто. Поднимись наверх, первая дверь направо, надпись: «Учительская». Там, значит, и найдешь директора.
Объясняя это, старик впереди Лены поднялся наверх, указал на дверь и даже открыл ее:
— Анна Никитична, тут, стало быть, новенькая к вам… Входите, входите, — шепнул он Лене и закрыл за нею дверь.
Рябова разговаривала по телефону. Она лишь кивнула и, не спуская глаз с вошедшей, продолжала громко и сердито выговаривать кому–то за срыв договорных обязательств. Разговор продолжался долго. Лена успела внимательно разглядеть и учительскую, и своего будущего директора. Учительская ей понравилась — все просто, уютно, хотя и тесновато. Особенно ей пришлись по душе густо разросшиеся на окнах цветы. Они, правда, скрадывали много света, но делали небольшую комнату совсем домашней.
Зато сама Рябова ей не понравилась. Лена с детства опасалась женщин, которые зачем–то стараются быть похожими на мужчин. Даже одеваются по–мужски — в однотонный строгий костюм, нередко даже с галстуком и торчащим из грудного карманчика кончиком носового платка. Ходят широкими шагами, говорят громко и слишком уверенно. Такие в молодости обычно кажутся старше, а в старости — моложе своих лет.
Рябова, хотя на ней был не костюм, а зеленый жакет, произвела на Лену именно такое впечатление. В разговоре по телефону она держалась подчеркнуто развязно, временами грубо, то и дело кричала:
— Лесничество, повесьте трубку… Я говорю, повесьте трубку и не мешайте… Я говорю с районом!
«Сколько ей лет? Тридцать, сорок или больше?» — пыталась определить Лена, глядя на моложавое, налитое здоровьем лицо Рябовой.
Потом она подумала, что Рябова совсем еще молода и ей просто хочется казаться старше. На лице ни морщинки, ни усталости во взгляде, которая хочешь или не хочешь, но дает себя знать у пожилого человека. И вместе с тем чуть заметная седина уже тронула рыжевато–золотистые пышные волосы…
Наконец директор повесила трубку, протянула Лене руку.
— Здравствуйте. Вы ко мне?
— Да, я… Вот, пожалуйста! — Лена подала ей направление из министерства.
Рябова едва заглянула в бумагу и потребовала:
— Диплом.
— У меня зачетка… Я учусь на пятом курсе. Перешла на заочное.
Рябова ничего не сказала, лишь кинула на Лену быстрый и, как показалось, неодобрительный взгляд. Она долго и внимательно рассматривала зачетку, листала, вглядывалась, что–то сравнивала, и, пока она этим занималась, ее лицо было молодым и приятным. Даже что–то похожее на добрую улыбку чуть задержалось в уголках ее губ, и у Лены отлегло от сердца.
Но вот зачетка просмотрена, с легким, выразительным вздохом отложена в сторону, и снова на лице Рябовой неприступное выражение, словно бы и не было этих обнадеживающих секунд.
— И о чем только думают в министерстве? — вдруг громко спрашивает Рябова. — Просим физика, направляют словесника. А потом, понимаете, еще в отчетах пишут, что на периферию направлено столько–то единиц…
Лена смотрит в глаза директору и молчит… Потом робко поясняет, что министерство не виновато, что она сама просила направить ее в Войттозеро, так как ее муж назначен сюда на работу…
— Знаю, — недовольно перебила ее Рябова. — Не о вас речь… У них там вообще такие порядки, что толку не добьешься. По бумажкам работают, людей не видят…
— Знаете?.. Я с вами не согласна, — решительно возразила Лена.
— Не согласны? — удивилась Рябова. — В чем?
— В том, как вы говорите о министерстве. — Лена боялась, что Рябова вновь перебьет ее, и поэтому говорила слишком громко и слишком торопливо: — Я, конечно, не знаю… Я человек новый… Но меня встретили там очень хорошо… Они ведь могли бы просто отказать мне, не так ли? Но они вошли в мое положение… Они очень чутко отнеслись ко мне…
— Еще бы! Они ведь тоже газеты читают.
— При чем тут газеты?
— А как же? — Рябова с усмешкой порылась в стопке газет, достала «Ленинское знамя». — После такой статьи о вашем муже что им и оставалось, как не отнестись к вам очень чутко. — Она развернула газету и ткнула пальцем в статью Чадова. — Тут прямо черным по белому написано: «Его жена будет работать преподавателем языка и литературы в Войттозерской школе…» Чего же еще надо? Все уже решено.
Лена вскипела от негодования. Она далее встала, чтобы высказаться до конца, повернуться и уйти. Все равно работать в этой школе ей навряд ли придется. Пусть знает этот сухарь, что она думает о ней… И вдруг Лена поняла, что высказывать–то ей в сущности и нечего. Что она имеет против директора школы? Ничего. Она стояла, смотрела на слегка улыбающуюся Рябову и молчала.
— Зачем вы во всем подозреваете нехорошее? — после долгой паузы с болью спросила Лена. — Зачем? Ведь я была в министерстве еще до этой статьи.
— Не кажется ли вам, дорогая Елена Сергеевна, что свои подозрения вы приписываете мне? А что касается статьи, то из редакции могли позвонить в министерство, сказать, что готовится такая статья. Что им стоило? Это так просто: «Герои возвращаются в леса…» И все! Двадцать лет назад, когда здесь ни черта не было, тоже приезжали сюда люди… Но о них не писали статей… Никому и в голову не приходило считать это геройством. Брали в руки путевку, ехали.
Слова Рябовой все больше задевали Лену. Ей вспомнилось, с какой гордостью она читала статью Чадова, и теперь было вдвойне обидно, что не увидела всей ненужности и несправедливости этой статьи. Не случайно Виктору статья не понравилась. Он умница, он сразу все понял и, прочитав, выругал Чадова. А она даже радовалась, что о ее муже, который еще только едет на работу в Войттозеро, уже пишут в газете. Как глупо радоваться незаслуженной почести!
— Вы хотите стать настоящей учительницей? — неожиданно спросила Рябова.
— Хочу.
— Тогда слушайте. Уроков по литературе и языку я вам не дам… Да–да, не удивляйтесь. Просто их у меня нет. А вам я советую взять класс первашей. Хотите? Я работаю в школе семнадцать лет и скажу вам честно — предметник, который не поработал в начальных классах, это еще не учитель. Поверьте мне на слово, а потом сами убедитесь.
— Но ведь в начальных классах своя методика. Нас этому совсем не учили.
— Вот в этом–то и беда! Ну скажите, чего стоит преподаватель, который не умеет научить человека обычной начальной грамоте? Я не в обиду вам, а потому, что в институтах перестали об этом заботиться… Вашу беду исправим, если хотите. Поработаете четыре года, проведете весь цикл — тогда и в старших легче будет. Я с этого начинала, помогу вам. Согласны?
Лена медлила. Нелегко ей было сразу расстаться с тем, к чему готовилась в мыслях вот уже много лет… Особенно жалко было уроков литературы. Ощущение было такое, словно у нее отняли вдруг самое дорогое. Пушкин, Лермонтов, Тургенев… Ей не придется вдохновенно рассказывать о Чацком и Печорине, о Рудине и Наташе Ростовой. А Горький и Чехов, которых она особенно любила! Некому ей будет раскрывать благородство Данко и чеховскую тоску о прекрасном…
— Если нет, то принимайте школьную библиотеку. Другого пока ничего не могу предложить, — сухо сказала Рябова, внимательно наблюдая за Леной.
Лена почувствовала себя прижатой к стене.
— Согласна, — пересохшим от волнения ртом еле выдавила она.
Увидев, как обрадовалась Рябова этому ее вынужденному решению, Лена взмолилась:
— Я согласна. Но дайте хоть несколько часов в старших… Я попробую справиться. Неужели нельзя?
— Сейчас нельзя, потом посмотрим, — твердо ответила Рябова.
«И все–таки ты страшный сухарь», — подумала Лена.
— С квартирой устроились? Когда можете приступить к работе?
— Хоть сегодня. Могу даже сейчас, — холодно ответила Лена.
— Сейчас? — Рябова как бы не заметила иронии. — Ну, что ж! Можно и сейчас. Это даже хорошо. Учителя вернутся из отпусков через два дня, а работы непочатый край… Вот вам первое задание — обойти весь поселок и переписать всех детей от семи до шестнадцати лет. Это в порядке контроля за всеобучем. Начинайте с краю и гоните дом за домом.
Лена молча приняла уже разграфленную тетрадь, карандаш, положила все это в сумочку и встала,
— Можно идти?
— Можно.
Рябова подождала, пока стихнут на лестнице шаги Лены, потом не спеша перешла в класс, из окна которого видна была тропка, и долго наблюдала, как Лена, опустив голову, медленно идет к поселку. Вот ее белая блузка мелькнула над забором и скрылась за первым домом…
Анна Никитична улыбнулась и пошла из класса в класс, проверяя — уже не первый раз — качество только что проведенного ремонта.
Встретив внизу завхоза, она поделилась с ним:
— Ну, Егорыч, новенькая мне понравилась,
— Я, ить, говорил, — обрадовался завхоз.
— Н–ну! Мало ли что ты говорил… Вам только дай волю, кого хочешь испортите своими похвалами,
Глава третья
1
Приемка дел не заняла много времени. Мошников открыл скрипучий шкаф, стоявший в кабинете Орлиева, и вынул пропыленную кипу бумаг. Даже при беглом осмотре Виктор убедился, что техническая документация велась малограмотно и по ней трудно было что–либо установить. Лесопункт располагал немалой техникой, но графика планового ремонта по существу не было, и Мошников весьма неопределенно пояснял, по какой причине почти половина механизмов не работает.
«С выяснения этого и придется начать», — решил Виктор.
Старенькая пожелтевшая карта лесосечных фондов была аккуратно заштрихована в квадратах, в которых вырубку уже закончили. Бросалось в глаза, что вырубка ведется сплошным фронтом. Освоив один квартал, бригады переходили в соседний. Никакого деления на зимние и летние лесосеки не было, хотя, судя по карте, кварталы резко отличались и по рельефу, и по категории леса.
— У вас что, и рельеф, и лес везде одинаковые? — Виктор посмотрел на молча наблюдавшего за ним Мошникова.
— Лес? — переспросил тот. — Нет, почему же. Лес разный. Больше еловый да сосновый, а есть и осинник, береза опять же. Как везде, так и у нас.
— План поставки леса в сортиментах у вас имеется?
Мошников зачем–то порылся в бумагах, потом пояснил:
— Все планы у Тихона Захаровича хранятся.
Виктор попросил показать на карте, в каких кварталах работают сейчас мастерские участки. Мошников, чуть ли не носом водя по карге, долго искал, перебирая квадрат за квадратом, и все время бормотал:
— Вяхясало — в шестьдесят третьем… Панкрашов — в пятьдесят девятом… Шестидесятый, шестьдесят второй… А вот он. Вот тут участок Вяхясало… Панкрашов поближе должен быть… Ага, вот и он. Ну, а третий участок — тот совсем в стороне. Вот тут где–то…
Беспомощность Мошникова вначале удивила Виктора. «Ну и технорук!» — скрывая усмешку, подумал он. Но позже, видя безуспешное старание своего предшественника ввести его в курс дела, начал испытывать неловкость. «К чему мучить человека? Другой на его месте просто выложил бы на стол документацию, и разбирайся как знаешь. А этот не только не обижается, но даже вон как старается быть полезным…» Полистав для приличия бумаги, Виктор сложил их стопочкой.
— Все? Будем считать документацию принятой?
— Все, — с облегчением прошептал Мошников. — Если хотите, я проведу вас, на месте кое с чем познакомлю.
— Спасибо. Не стоит вас затруднять. Это я, наверное, один смогу сделать… Если будет мне что–либо непонятно, я зайду к вам. Хорошо?
— Знаете ли, это очень кстати, — обрадовался Мошников. — У меня, знаете ли, скоро собрание, из райкома приедут, а доклад все еще не дописан… Вы уж извините, я домой пойду, там поработаю.
— Ну и славно! Пойдемте вместе! Я на биржу.
У Мошникова не было не только кабинета, но и письменного стола. Молодой и расторопный плановик лесопункта незаметно вытеснил технорука из комнаты напротив, где располагался технический кабинет, и вот уже два года Мошников, ни разу не посетовав на это, ютился, когда можно было, в кабинете начальника.
Расспросив, как ближе пройти на нижнюю биржу, Виктор попрощался с Мошниковым.
— Вы уж извините, товарищ Курганов, что не могу проводить… — Мошников виновато заглядывал Виктору в глаза.
— Ну что вы, что вы… — отвечал Виктор, сам начиная испытывать какую–то удивительную стеснительность, словно он в чем–то уже успел провиниться перед этим человеком.
Нижняя биржа располагалась в двух километрах от поселка, на берегу реки, берущей начало в Войттозере. У самого истока река была перегорожена старой бревенчатой плотиной, через открытую запруду которой вода сейчас с мягким шумом скатывалась в неширокое извилистое русло. Проходя по берегу, Виктор вдруг заметил, что вода в реке совсем не похожа на озерную. В озере — прозрачная, даже слегка беловатая, а здесь — коричневая, словно густо заваренный чай. Многочисленные, отдающие ржавчиной родники, сбегавшие слабыми струйками в реку, не могли так окрасить воду… Оставалось одно предположение… Найдя сухую длинную жердь, Виктор, как минер щупом, обследовал дно. Так и есть — дно реки сплошь устлано гниющими бревнами — топляками. Местами их уже затянуло податливым слоем ила, и, когда щуп натыкался на дерево, вода долго пузырилась, как будто кто–то живой дышал там внизу.
Да, это был неизбежный удел всех сплавных рек — больших и малых. Сколько сотен кубометров добротной древесины покоится на дне сорокакилометровой Войттозерки… Потом двухсоткилометровая Суна с ее порогами, перепадами и плесами. Там уже не сотни, а многие тысячи кубометров потерянного леса. И каждый из них стоит более семидесяти рублей, он засчитан в план, за многие из них выплачены премиальные.
Виктор вспомнил, что в книгах и лекциях сплавные реки часто восторженно именуют «дешевым транспортом». Ничего себе, дешевый! На лесозаготовках, как видно, нет и не скоро будет что–либо дешевое. Реки тоже задаром не работают на человека, они даже не торгуются, а сами берут дорогую плату.
2
Нижняя биржа оказалась совсем не такой, какой ожидал ее увидеть Виктор. Вдоль берега тянулись длинные штабеля леса — пиловочника, баланса, шпальника. Кроме передвижкой электростанции и двух электропил, никаких других механизмов не было. Разгрузка лесовозов и укладка сортиментов в штабеля производились вручную, несколькими бригадами грузчиков. В дощатой будке возле мерно работающей передвижной электростанции безмятежно спал краснолицый усатый механик. Две девушки — вероятно, десятницы — сидели в тени законченного укладкой штабеля. Две бригады тоже сидели без дела — не хватало леса. Лишь третья неторопливо разделывала недавно привезенный воз долготья.
Заметив Виктора, девушки поднялись и молча уставились на него.
— Нет лесу? — спросил Виктор, поздоровавшись.
— Нет, — тихо ответили обе разом.
— Давно стоите?
— С утра и было–то четыре воза.
— Где начальник биржи?
— Я…
Девушка помоложе, с толстыми косами, уложенными вокруг головы, поспешно надела лежавшую на земле спортивную куртку и уставилась на Виктора. Ее большие серые глаза выглядели такими испуганными, что Виктор улыбнулся. Она чем–то напомнила ему Лену такой, какой та была в первый вечер их знакомства.
— Вы давно начальник?
— Третий месяц…
— Техникум окончили?
— Да.
— Как вас зовут?
— Шумилова… Валя.
— Вот скажите, Валя, почему вы штабелюете плохо разделанный лес?.. Смотрите сюда! Откомлевка не произведена, окарзовка сучьев сделана плохо… На подкладки используете хорошую древесину.
Валя смущенно, словно впервые, разглядывала штабель, под которым только что сидела. Ее подруга, черноглазая, смуглая девушка, в легких, по ноге сшитых хромовых сапожках и в сером шерстяном свитере, вдруг громко сказала:
— Чего молчишь? Это ж не твоя вина. Этот штабель в лесу разделывали… Забыла, что ли?
— Допустим, вам привезли плохо разделанные сортименты, — продолжал Виктор. — Но ведь нельзя же этот брак принимать… Надо бы исправить его, а уж потом штабелевать.
— Позвольте вопросик такого содержания? — раздался за его спиной мужской голос. Виктор оглянулся. Позади него уже стояло несколько рабочих. — Вопросик, значит, такого содержания…
Низенький, тщедушный, неопределенного возраста мужчина с маленьким нервным личиком, нестриженый, небритый, одетый в латаную–перелатаную брезентовую куртку, обутый в огромные, сбитые набок сапоги, стоял почти вплотную к Виктору, колко и вызывающе смотрел сощуренными глазками прямо ему в лицо. По веселой ухмылке, с какой наблюдали за происходящим рабочие, Виктор понял, что сейчас произойдет что–то забавное.
— Вопросик, значит, такого содержания, — медленно, смакуя каждое слово, повторил мужичок.
— Не тяни ты, дядя Саня, скорей давай! — выкрикнул сзади молодой голос и раньше времени захохотал.
Дядя Саня недовольно оглянулся, нахмурился и вновь впился своими глазками в Виктора. Наконец, словно обретя нужные слова, он выкрикнул:
— Кто рабочему классу платить будет?
— За что платить?
— Брак. Допустим. Констатирую. Но за разделку этого штабеля там, на верхнем складе, кому–то уплачено? Уплачено. Интересно узнать, будет ли руководство второй раз платить за переделку? Или рабочий класс нижней биржи должен вкладывать свой труд бесплатно? Прошу ответить на этот вопрос!
— Почему бесплатно? Бесплатно никто работать не заставляет…
— Тогда возникает вопросик следующего содержания… Вы, извиняюсь, кто будете?
— Я — технорук лесопункта…
— Очень уместно… Вопросик, значит, у меня такого содержания… По–государственному ли будет — два раза платить за одну работу, и как это согласуется с поставленной экономической задачей снижения себестоимости продукции?
Виктор уже понял, что рабочие воспринимают их разговор как пустое веселое представление. Однако в вызывающих, идущих от желания загнать начальство в тупик, рассуждениях дяди Сани было много такого, что надо было поддержать.
— Правильно вы говорите. Не по–государственному это. А задаче снижения себестоимости это попросту противоречит.
Но дядя Саня был не из таких, с кем можно было помириться. Он даже крякнул от удовольствия и замахал руками:
— Так на каком таком противозаконном основании вы, уважаемый товарищ, призываете нас идти против государственной линии, а? — его голос с каждым словом повышался, в конце он даже взвизгнул от негодования. — Не есть ли это порочная практика руководства, когда наш советский молодой специалист не бережет народную копейку? Не есть ли это отрыв от народа и пренебрежение государственными интересами?
Кое–кто уже в открытую хохотал, глядя на покрасневшее от натуги, исполненное священного гнева лицо старика. Лишь Валя чуть не плакала от стыда за смешное и глупое поведение дяди Сани. Она несколько раз осторожно трогала старика за рукав, но он не обращал на нее никакого внимания.
— Зачем вы создаете, можно сказать, прибавочную стоимость у этих несчастных бревен, когда еще великий Карл Маркс учил, что прибавочная стоимость и есть та категория, которая порождает эксплуатацию труда капиталом…
Виктор даже растерялся: «Ну и чепуху прет… А говорит, будто лектор какой.,.»
— Это с одной стороны… А с другой? — Дядя Саня многозначительно поднял вверх указательный палец и обвел всех суровым взглядом.
Но, что было с другой стороны, никто так и не услышал. Молодой парень в матросской тельняшке неожиданно выступил вперед, нежно обнял оратора и успокаивающе похлопал его по спине.
— Хватит, дядя Саня, хватит… Начальник сказал, что все будет без обмана… За работу заплатят — и баста… Каждое бревнышко язычком оближем, только монету гони!
— Да разве в этом дело, в деньгах разве? — попытался воспротивиться старик, но сильные руки парня заставили его повернуться и сделать несколько шагов в сторону.
— Потом скажешь, в следующий раз… А сейчас хватит, — подмигивая кому–то, успокаивал парень неохотно смирявшегося старика. — Гляди, вон лесовоз идет, пора за работу.
Заметив пыливший по дороге лесовоз, дядя Саня сбивчивой старческой рысью понесся ему навстречу, уже издали ругаясь на шофера и размахивая кулаком.
— Этот штабель развалить и переделать, — громко сказал Виктор. — Тут с чьего участка лес? От Панкрашова, — сам себе ответил он, увидев на торце одного из бревен размашистую угольную пометку «Панкр.». — Ну вот, половину стоимости работы удержим с него.
— Не надо переделывать, — лениво и снисходительно произнесла девушка в свитере.
— Это почему? — повернулся к ней Виктор.
— Я и так приму.
— А вы кто такая?
— Я? — Девушка даже плечами пожала в недоумении. — Приемщица сплавной конторы. Так что из–за пустяков не стоит шум поднимать.
— Нет, товарищи, так дело не пойдет. Биржа — это лицо лесопункта, и держать в штабелях заведомый брак мы не будем. Если сплавная контора согласна обманывать государство, то мы этого делать не станем.
— Подумаешь — велик брак? — недовольно фыркнула приемщица. — Как будто от этого что–то изменится, если сучки почистить. Ни лучше, ни хуже — те же кубометры останутся, и никакого обмана тут нет. Вот если б мы завышали объем или пересортицу допустили — тогда другое дело,
— Вы тоже так считаете? — строго спросил Виктор у Вали. Она испуганно оглянулась на подругу и произнесла:
— Н–нет.
— А вы как, товарищи? — повернулся Виктор к рабочим. Те молча переглядывались, потом один неуверенно сказал:
— Что ж, можно и переделать… Все одно без дела стоять часто приходится… А только непорядок это, товарищ технорук. Возят сюда сортиментами, а сдавать сплавной конторе нам приходится…
— Лучше бы хлыстами возили, чтоб мы сами тут разделывали… Все побольше заработать можно, правда, дядя Петя? — подал голос парень в тельняшке.
— Дело не в заработке, а порядку было бы побольше… За чужой брак краснеть не пришлось бы. Да и работа двойная — там на эстакаде штабелюют, потом разбирают, грузят, а мы опять штабелюем… А если возить хлыстами, то и одной штабелевкой обойдемся.
— Хорошо, товарищи… Это мы обдумаем. Конечно, сразу перейти на хлыстовую вывозку нам будет трудно. Но дело это нужное, и к нему будем стремиться…
Мимо них к дальнему незаконченному штабелю тяжело протащился лесовоз. Дядя Саня, стоя на подножке, что–то гневно выговаривал шоферу, который не обращал на него никакого внимания. Рабочие разошлись по своим местам.
— Не сердитесь, пожалуйста, на дядю Сашу, — вдруг попросила Валя, когда они направились к прибывшему лесовозу. — Он очень добрый, только странный такой… Всегда спорит, всю жизнь… Знаете, он какой? Взрослым начал грамоте обучаться, а теперь такой начитанный… Во всем поселке ни у кого нет столько книг… И читает, читает день и ночь — все подряд читает. Семья с воды на хлеб перебивается, а он каждую получку книг напокупает, конфет, печенья и всех детей в поселке угощает… Зря некоторые смеются над ним. Он очень добрый и справедливый человек… Только очень несчастный…
— Почему?
— Не знаю… Я сколько помню — его все «Санькой–критиканом» зовут.
— Вы здешняя?
— А как же. Я в деревне Заселье родилась. Знаете, километров двадцать отсюда, туда, на запад, — махнула она рукой в сторону озера. — В Войттозере семилетку кончила, в интернате три года при школе жила. А теперь вот работать сюда назначили. Правда, я сама попросилась, а теперь вижу — зря!..
— Это почему же?
— Есть причина, — вздохнула Валя и, помолчав, все–таки объяснила: — Назначили сразу после техникума десятником на биржу, а потом и начальником. Все меня знают, девчонкой помнят… Да и мне тоже — кругом знакомые. Приказывать неловко, стыдно, просить — не всегда слушаются… Нет уж, лучше бы на другой лесопункт куда.
— Ну, уж это вы напрасно, — сказал Виктор, хорошо понимая переживания девушки и в то же время чувствуя, что ее надо как–то подбодрить. — Знакомство знакомством, а дело делом. Тут стесняться нечего.
Валя посмотрела ему в лицо и промолчала. Виктору стало стыдно за свой слишком простой и легкий совет;
— Знаете, Валя, я ведь тоже почти здешний.
— Да? — удивилась она. — А я вас совсем не знаю.
— Я воевал здесь. В отряде Орлиева… Юнцом тогда был, совсем мальчишкой… Порой даже не верится, что это все было на самом деле… А теперь вот назначили техноруком… И знаете, ведь у меня сегодня первый рабочий день…
— Из вас начальник получится, — подумав, сказала Валя.
— Это почему же?
— У вас есть характер, сразу видно. Я так перепугалась, когда вы начали меня расспрашивать…
— Неужели я такой страшный?
— Теперь–то вижу, что нет… — Улыбка сделала ее лицо еще более детским и стеснительным. — Вы, пожалуйста, не ссорьтесь с Аннушкой. Она хорошая. Она просто хотела мне помочь.
— Это вы о приемщице? — нахмурился Виктор. — Зря вы ее защищаете… При таком отношении к делу мы никогда толку не добьемся…
— Что вы, что вы! Вы ее просто не знаете… Она очень строгая и требовательная… Вот увидите… Это она нарочно себя с плохой стороны показать старается…
— У вас что–то все добрыми и очень хорошими получаются! Как у моей жены, — улыбнулся Виктор, подумав о Лене: «Где–то она сейчас? Пошла ли в школу?»
— А вы думаете — это не так? — спросила Валя.
— Нет, почему же… Но не будете вы отрицать, что на свете много и плохих людей.
Несколько шагов они прошли молча. Виктор уже начал забывать о разговоре, присматриваясь к тому, как рабочие растаскивают только что сгруженную древесину, когда Валя убежденно произнесла:
— И все–таки хороших людей куда больше, чем плохих.
«Да, нелегко, видно, приходится тебе с таким характером, — подумал Виктор. — И все же очень хорошо, что в лес — на самую грубую, издавна самую жестокую работу — приходят такие душевные люди…»
Глава четвертая
1
С нерадостным чувством подходила Лена к первому дому на краю поселка.
Лена любила мечтать. Как часто рисовала она в мыслях свой первый урок! Вот она входит в класс, здоровается… Может быть, ее встретят скучающие, а то и вообще безразличные взгляды учеников, для которых литература такая же обуза, как и тригонометрия. Ну что ж, она готова и к этому! Важно, чтоб сам преподаватель любил литературу до самозабвения! Любил и понимал ее красоту. Лена ясно, будто со стороны, видела, как она улыбнется и начнет говорить. Она будет говорить так ярко и вдохновенно, с таким чувством, что даже теперь, когда она лишь думает об этом, на ее глазах невольно выступают слезы. Ей казалось, что ради этого первого урока она и учится вот уже четырнадцать лет. Получится он хорошим, таким, как думается, все остальное пойдет легче, само собой. В нем, в первом уроке, и заключена великая сила преподавательского таланта. Зажечь, увлечь, заставить полюбить…
И вдруг все перевернулось.
Мысленно Лена даже соглашалась с рассуждениями Рябовой о профессии учителя. Действительно, настоящий педагог должен уметь обучать и начальной грамоте. Но почему же эту простую истину она услышала впервые здесь?.. Если бы кто–нибудь там, в университете, хотя бы одним словом обмолвился об этом — сейчас было бы легче. Не обязательно тратить дорогое университетское время на прохождение того, как обучать первашей рисовать палочки, крючки. Но какие–то методические основы начального обучения, наверное, должны же знать учителя с высшим образованием. Что знает она сейчас? Она даже не помнит, с чего начался тот урок, когда мать впервые привела ее в школу. С тех пор сохранилось лишь ощущение запаха свежей краски, которой была покрашена парта, и чувство робости. Помнится, они что–то рассказывали, что–то рисовали, рассматривали какие–то картинки.
«Нет, нет. Надо отказаться, пока еще не поздно! — с ужасом думала Лена, пытаясь представить свою новую работу. — Так нельзя. Вот пойду и скажу, что так нельзя… Я не имею никакого права браться за то, чего не умею».
Лена останавливалась, оглядывалась на школу, вспоминала придирчивый, чуть насмешливый взгляд Рябовой, и ее решительность пропадала. Она может не соглашаться, отказаться от работы вообще, но поколебать Рябову ей не удастся. Такие от своего не отступятся. А главное — за ней, за этой несговорчивой Рябовой, стоит та правота, против которой возражать трудно. Учитель должен быть учителем!
Лена подошла к крайнему дому. Вблизи он оказался не таким красивым, как издали. Это было длинное и низкое здание, обшитое досками и покрашенное в ярко–желтый цвет. Узкий сквозной коридор, справа и слева — двери, двери, двери.
Лена постучала в первую. Никто не ответил. Постучала во вторую — снова ни звука. Она переходила от двери к двери, стучала все громче — никто не отзывался. Так Лена вышла на крыльцо на противоположном конце здания. Во всем доме не было живой души. Что делать?
— Тетенька, вам кого? — услышала она детский голос. Рыжеволосая, в выцветшем ситцевом сарафанчике, девочка лет десяти с любопытством наблюдала за Леной с дороги. В одной руке она держала маленький бидончик, в другой — детскую скакалку.
— Девочка, подойди сюда! — обрадовалась Лена и, когда та, пряча за спиной бидончик и скакалку, приблизилась, сказала: — Я учительница, переписываю детей, которым нынче в школу… Скажи, кто здесь живет? Почему дома никого нет?
Девочка долго таращила на Лену глаза, потом все–таки не вытерпела и, закрывшись рукой, прыснула в сторону.
— Какие ж тут дети? Тут мужское общежитие.
Лена еще раз оглядела дом и поняла, почему на всех окнах одинаковые занавески, почему возле крыльца стоит общий умывальник с пятью штырьками… Все это было теперь так легко объяснимо, что Лена и сама рассмеялась.
Так они познакомились. Девочку звали Галей, она жила в поселке, а сейчас возвращалась из деревни, куда ходила за молоком.
Галя вызвалась помочь в обходе поселка. Лучшего помощника трудно было желать.
— К Зайковым вам не надо, к Перхиным тоже, а вот Вовку Михалева надо записать, ему пора в школу, — тараторила она, показывая на окна и явно гордясь своей осведомленностью.
— Нет, Галя, я должна зайти в каждую квартиру, а вдруг приехал кто новый, — пояснила Лена.
— Что вы! Кто приезжает, тех не здесь селят… Новые живут на другом краю, в новых домах, а тут все старые.
— И все–таки зайдем, спросим.
Этого Галя никак не могла понять, и в те дома, где, по ее данным, никаких детей нет, она не входила. Но зато там, где были дошколята, Галя проявляла инициативу. Придерживая на весу бидончик, чтобы не расплескать молоко, она забегала вперед и громко кричала:
— Тетя Маня! К вам учительница! Вовку в школу записывать.
Если в квартире никого не оказывалось, Галя знала, где найти хозяев. Прыгая через несколько ступенек, она неслась в огород или к соседям и обязательно кого–либо приводила.
С такой помощницей дело двигалось быстро. Поручение все больше нравилось Лене. Было очень интересно входить в чужую квартиру, знакомиться, смотреть, как живут люди в этом далеком поселке. Жили люди тесновато. Но домашняя обстановка радовала — она напоминала городскую: электросвет, радио, комнаты с большими окнами. Почти в каждом коридоре велосипед, а то и мотоцикл.
Лену везде принимали радостно. Усаживали на лучшие места, кое–где угощали свежей черникой, показывали портфели, тетради, пеналы, жаловались, что в поселке (да и не только в поселке, а и в районе!) не достать школьной формы.
Постепенно Лена привыкла к своему новому положению и, видя, с каким вниманием слушают каждое ее слово, стала говорить так, как будто она уже много лет работает в начальной школе.
Все шло хорошо. Время летело незаметно. Лена решила закончить обход домов на главной улице до обеда, но смешной и грустный случай сорвал ее планы.
Лена начала примечать, что ее бойкая помощница стала вести себя необычно. Она как–то притихла, в ее доверчивых голубых глазах отражалось плохо скрываемое беспокойство.
— Галя, тебе, наверное, домой надо? — спрашивала Лена. — Беги. Теперь я и одна справлюсь. Спасибо тебе.
—Н–н–нет, — нерешительно отвечала та и, когда учительница отворачивалась, начинала торопливо и тревожно принюхиваться к своему бидончику. В следующий дом Галя не вошла.
Когда Лена, радостная и возбужденная, вышла, она увидела, что ее помощница, укрывшись за забором, тихо и горько плачет. У ее ног стоит бидончик, рядом валяется крышка.
— Галя, что с тобой? — испугалась Лена.
Та ничего не ответила.
— Что случилось? Ты пролила молоко?
Галя отрицательно покачала головой и заплакала еще громче.
— Ну, скажи же, что с тобой?
Наконец Галя подняла лицо, посмотрела сначала на учительницу, потом на свой сиротливо стоявший бидончик и еле выговорила:
— Молоко… скисло…
Было смешно и грустно. Лена подняла бидончик. Молоко действительно отливало по краям прозрачной голубизной. В первую секунду Лене хотелось рассмеяться оттого, что беда оказалась такой малой. Потом стало досадно. Ведь это ее вина! Таскала за собой по жаре бедную девочку с бидоном и даже не подумала, чем все может кончиться.
— Ну, Галочка, успокойся! Беда поправимая! Пойдем! — Лена взяла девочку за руку.
Галя, подумав, что учительница собирается вести ее домой, отказалась:
— Не пойду… Мамка бить будет… При вас не будет, а потом все равно побьет… — И заревела так громко, что Лена испугалась, как бы на них не обратили внимания.
— Перестань плакать! — строго приказала она. — Мы пойдем в деревню и купим нового.
— Как без денег купишь? Если в долг, то мамка все равно узнает! — несогласно тянула Галя.
— Глупенькая ты! — погладила ее по голове Лена. — Зачем в долг? У меня ведь есть деньги? Есть.
Галя понемногу утихла. Она еще не совсем верила, что ее беду можно поправить, но, подчиняясь учительнице, пошла за нею. Чтобы не привлекать лишнего внимания, они свернули с шоссе, вышли на прибрежную тропу.
Неожиданно Галя загрустила.
— Все равно мамка узнает… Тетя Параскея ей обязательно скажет, что я два раза у нее молоко брала… — как бы раздумывая вслух, сказала она. — А потом, вдруг у тети Параскеи и нет молока? Она многим продает.
— А мы у других купим! Пойдем, пойдем. У моей хозяйки тоже корова есть.
Тетя Фрося очень удивилась, когда Лена, которую она уже поджидала на обед, пришла не одна и попросила продать два литра молока.
— Зачем продавать? Бери и пей сколь хочешь! Ишь, выдумала — продавать!
Пришлось рассказать правду. Тетя Фрося неожиданно принялась стыдить Галю:
— Бить тебя некому! Впервой тебе с молоком дело иметь, что ли! Не зима на дворе…
— Не ругайте ее, тетя Фрося. Тут моя вина! — попросила Лена.
— Как это твоя? Она глупенькая, что ли? Вот, ужо, скажу матери! Не могла сначала молоко домой отнести, да в холодное место поставить… А скисни оно часом позже, что бы мать твоя о Параскее подумала? Хорошо было бы, а?
Лена едва успокоила вновь разревевшуюся Галю, помыла горячей водой бидончик, налила свежего молока и велела быстрее бежать домой. Та благодарно вскинула на учительницу свои покрасневшие от слез глаза и понеслась к поселку так быстро, словно за ней кто–то гнался.
2
Виктора к обеду ждать было безнадежно, и они сели за стол вдвоем с тетей Фросей.
Лена заметила, что хозяйка с каким–то радостным любопытством приглядывается к ней, словно бы хочет спросить о чем–то, но не решается. Лена сама попробовала начать разговор, рассказала о школе, о том, как приняла ее Рябова, о первом поручении. Но тетя Фрося не проявила к этому особого интереса. Выслушала и коротко сказала о Рябовой:
— Крутой у нее нрав…
Помолчала, подумала и добавила:
–— Однако, скажу тебе, школа у нас хорошая…
Обед был сытный: рыба, свежие щи, тушеная картошка. На шестке стоял вскипевший самовар. Лена ела с большой охотой и сама удивлялась своему аппетиту. «Так буду питаться, скоро такой же здоровущей, как Рябова, сделаюсь», — весело подумала она.
— Стало быть, места наши вам не чужие? Твой муженек в войну партизанил у нас? — как бы между делом спросила тетя Фрося.
— Да, он воевал здесь, — подтвердила Лена, и тетя Фрося заметно оживилась.
— Сынок мой, меньшой, тоже в партизанах был... Молоденьким ушел, совсем парнишкой… Про Павлушку Кочетыгова муженек тебе ничего не говорил, не помнишь?
— Кочетыгов… Кочетыгов… — взволнованно повторила Лена. Она в этом никому не призналась бы, но Виктор так мало рассказывал ей о своей партизанской жизни.
Нередко Лена задумывалась, как странно все получилось. То, что привлекло ее в Викторе в первый день их знакомства, то, с чего в сущности и началась их любовь, впоследствии оказалось для нее запретным. Единственный раз Виктор рассказывал о прошлом с охотой и даже с вдохновением. Это было в тот памятный вечер, в актовом зале академии…
— Конечно, говорил! — воскликнула она. — Ведь это же он, Павел из Войттозера! Да, да, именно Кочетыгов! Он погиб смертью героя… Он спас отряд, так ведь?
— Поначалу так вроде сказывали, — неожиданно помрачнела старуха. — А потом…
— Что потом? — спросила Лена, вспомнив утренний разговор.
— A–а, что говорить… — махнула рукой тетя Фрося. Она долго глядела прямо перед собой застывшими от скорби глазами, затем вздохнула и улыбнулась:
— Не к чему тебе в чужие печали входить. Да и что толку–то?! Скажи–ка лучше, как твоего муженька по батюшке.
— Алексеевич, Виктор Алексеевич.
— Ну и хорошо. Ты ешь, не стесняйся.
До конца обеда они не произнесли больше ни слова. Тетя Фрося уже принялась разливать чай, когда Лена, вдруг спохватившись, выскочила из–за стола, заметалась, отыскивая сумочку и тетрадь.
— Что я наделала?! Что я наделала?!
— Да что с тобой? — испугалась старушка.
— Вы понимаете, я научила девочку соврать матери!
— Чего соврать–то? — не поняла тетя Фрося.
— Про молоко!!! Ведь в сущности я научила Галю соврать, не говорить, что молоко скисло…
— Эка беда, — усмехнулась хозяйка. — Мошничиха не дура, она и сама сразу угадает, что молоко не от Параскеи.
— Тем хуже, тетя Фрося! Это так неприятно!.. Спасибо вам за обед! — уже от дверей крикнула Лена и побежала по тропе к поселку, оставив тетю Фросю удивляться ее чудному поведению,
3
Мошниковы готовились обедать. Трое детей, один другого меньше, сидели за пустым столом, в ожидании шлепали друг друга по рукам, поглядывая на мать, сердито возившуюся у плиты. В небольшой кухоньке было жарко и душно, пахло пареными овощами. Сквозь раскрытую дверь виднелась другая комната, побольше, с кроватями, с бумажными занавесками на окнах и домоткаными половиками.
Еще из сеней Лена услышала сердитый голос хозяйки:
— За смертью тебя посылать, дура набитая! Посмей еще так сделать, я не такую выволочку задам!
«Галю ругает», — догадалась Лена, и вся робость, владевшая ею, пока она искала квартиру Мошниковых, сразу прошла. Лена решительно постучалась, готовая не только принять на себя вину, но если надо, то и вступиться за Галю.
Ее приход нисколько не удивил Мошниковых. Детишки за столом продолжали баловаться, а хозяйка равнодушно кивнула на приветствие и крикнула в сторону другой комнаты.
— Петр Герасимович, к тебе пришли!
— Нет, нет, я к вам. Я учительница, из школы. Вы, пожалуйста, не ругайте Галю. Это я во всем виновата.
Видя, что мать Гали не понимает ее, Лена рассказала, как все было, и снова попросила простить девочку. Мошникова ничего не ответила и, оглядев притихших детей, недоуменно пожала плечами. Из другой комнаты выглядывал ее муж и тоже молчал. Лена уже подумала, что она по ошибке попала не в ту квартиру, как вдруг пятилетний малыш произнес баском:
— А мамка уже побила ее… Пускай не бегает, нас не оставляет.
— Замолчи, идол! — нервно выкрикнула мать. — Не дадут с человеком поговорить. Вот наказание!
Мошников с укоризной посмотрел на сына, на жену и скрылся. Только тут Лена заметила, что из–за стояка плиты безотрывно смотрят на нее заплаканные глаза Гали.
— Я думала, вы из райкома, — вдруг разочарованно произнесла хозяйка. — Тут муж из райкома кого–то поджидает.
— Нет, я из школы, новая учительница.
— Не Курганова будете?
— Да, Курганова.
Мошникова еще раз внимательно оглядела Лену. Ее потное, раскрасневшееся от жары лицо стало надменно–злым, неприятным.
— Что ж, большое вам спасибо, дорогая, что о моих детишках заботу поимели, не оставили их без молочка. А если вы насчет платы зашли, то не беспокойтесь. Мы хотя теперь и безработные, — она выразительно кивнула в сторону соседней комнаты, где прятался муж, — но пять рублей отыщем, не обеднеем.
— Что вы, что вы, — возразила Лена, еще не понимая, почему вдруг так переменилась Мошникова. — Разве я возьму? Я не за тем пришла!
— Нет уж, пожалуйста, возьмите! Мы не привыкли такие подачки получать. Особливо от вас. — Мошникова порылась в кофте, висевшей на стене за плитой, достала деньги и, походя погладив по голове удивленную Галю, протянула их Лене.
— Зачем вы меня обижаете? — спросила Лена, как бы не замечая протянутую пятерку и глядя Мошниковой в глаза.
— Мы вас обижаем?! А вы нас не обижаете? — со слезами выкрикнула Мошникова. — Вам это не в обиду, что детишек голодных оставить хотите? Ваш муженек по знакомству да по блату с этим Орлиевым сговорился, вот и оставили… моих бедных без куска хлеба… — Она прижала к себе Галю, уткнулась лицом в ее рыжие косички и разрыдалась.
— Евдокия, перестань! — сверкнув из–за двери очками, выкрикнул Мошников.
— И ты еще кричишь на меня, мямля несчастная! — набросилась на него жена. — Сам за себя постоять не можешь, а еще кричишь… Без работы остался! Куда ты пойдешь, что ты можешь! А я это так не оставлю. Я до Москвы, если понадобится, дойду. Неужто помирать детям с голоду?..
Лена лишь теперь догадалась, какое отношение к происходящему имеет она. Догадалась, и сама едва не расплакалась — так жалко ей стало и самого растерянного хозяина, и притихших детишек, и плачущую мать.
— Успокойся, Евдокия, ну что с тобой, — неловко трогая всхлипывавшую жену за рукав, упрашивал Мошников.
— Мамка, и–ись хочу! — захныкал пятилетний «идол».
— Сейчас, сейчас, — вытирая фартуком слезы, заторопилась Евдокия. Она засуетилась у плиты, снимая с огня кастрюлю. Быстро и ловко расставила тарелки, налила детям супу, и те принялись за еду. Нерешительно присела к столу и Галя, однако есть не стала, хотя тарелка была налита и ей. Она посматривала то на мать, то на Лену.
Лена не знала, уйти или подождать, пока улягутся страсти, чтобы спокойно объясниться с хозяйкой. Евдокия ее словно не замечала. Лишь один раз, когда ей понадобилось пройти к помойному ведру, чтобы слить воду из кастрюли со сварившейся картошкой, она слегка задела локтем Лену и сразу же извинилась. Хозяин тоже не находил себе места — то уйдет в другую комнату, то снова вернется на кухню. Если бы он вел себя не так беспокойно, Лена, возможно, и осталась бы…
— Простите меня, но я меньше всего хотела доставить вам неприятности… До свидания и, пожалуйста, простите!
— Чего уж там… — непонятно вздохнула хозяйка, не отрываясь от своих дел.
Лена медленно затворила за собой дверь. Если бы Евдокия знала, как ей не хочется уходить, не объяснившись, как тяжело у нее на душе, может, она и вернула бы ее. Может, она одумается, позовет?..
Лена тихо спустилась с крыльца, прошла мимо окон.
Она уже была на шоссе, когда позади вдруг услышала торопливые шаги.
— Товарищ Курганова…
Лена обернулась. Ее догонял Мошников. Он уже был в пиджаке, из верхнего карманчика которого виднелись разноцветные бумажки, футляр для очков и два карандаша.
— Товарищ Курганова! Вы простите, что так получилось… Просто у нее нервы… Знаете, семья, дети…
— Я понимаю, — кивнула Лена. — Я все понимаю.
— И еще просьба, — помолчав, сказал Мошников. — Мне очень не хотелось бы, чтобы кто–нибудь узнал об этом… Особенно ваш муж… Все это глупости, но они могут помешать… А нам ведь работать вместе… И потом — я ведь секретарь парторганизации… Неудобно, знаете, что жена… Чепуха ведь, явная чепуха…
— Хорошо, я никому не скажу.
— Ну, вот и все. Спасибо вам, товарищ Курганова. Извините, что задержал…
Он пошел к дому — узкоплечий, сутулый, уставившийся в землю огромными глубокими очками,
Глава пятая
1
Последний участок лежневки кончился. Груженый лесовоз тяжело ткнулся передними колесами в глубокую колею грунтовой дороги и сбавил скорость. Предстоял долгий подъем на взгорье, где «плечо» выходило на основную лесовозную магистраль. Самое трудное было позади.
Виктор взглянул на часы, потом на спидометр. Прошло сорок минут, как лесовоз отошел от эстакады. Сорок минут — и всего пять километров. Дорога была в таком состоянии, что только опытность шофера помогла старому «газгену» благополучно миновать все ямы и выбоины. Грунт был тяжелый — влажный пепельно–серый подзол, превращенный шинами в густую ползучую кашу. Он вбирал, всасывал в себя подсыпаемый еженедельно гравий и настилаемую хвойную подушку. Лежневый настил был сделан лишь в самых низких местах, и хотя он был старым, изрядно расшатанным, но машина там шла значительно легче.
«А что будет, когда начнутся дожди?» — с горечью думал Виктор, вслушиваясь в надсадное завывание мотора. Казалось, еще секунда — и мотор не выдержит. Но проходили не только секунды, но и минуты. Машина, дрожа как в лихорадке, тяжело брала многочисленные подъемы, ненадолго притихала, сбегая вниз, к лежневке, две–три минуты ровно и мягко тянула по деревянному настилу и вновь начинала свою адскую работу при выезде на грунт. И так все сорок минут.
«Выход один — строить сплошную лежневку… Это дорого, страшно дорого, но выбора нет… Осенью без лежневки пропадем», — размышлял Виктор, краем глаза наблюдая за шофером, который облегченно вздохнул и принялся закуривать, когда машина одолела последний подъем и впереди зажелтела лента основной магистрали.
— У поворота останови, я выйду, — сказал Виктор. Шофер, вероятно, расслышал только последние слова и притормозил.
Спрыгнув на дорогу, Виктор ощутил, как удушливо жарко было в кабине лесовоза. От свежего, по–вечернему прохладного воздуха даже закружилась голова. Чуть позже, присев на придорожный камень, он с удивлением увидел, что до вечера еще далеко, что солнце еще стоит высоко над лесом, а воздух вначале показался ему прохладным лишь потому, что он, Виктор, весь мокрый от пота. «А шофер ведь целый день, восемь часов… И не просто сидит гостем, а каждую секунду в напряжении, — с теплым чувством подумал Виктор о шофере, который за сорок минут не произнес ни слова. — Их на лесозаготовках называют аристократами. Нет уж, лучше, по–моему, сучки рубить, чем париться в такой «душегубке».
Виктор вытер кепкой лицо, переобулся и медленно зашагал по магистральной дороге. Где–то там, на два–три километра ближе к поселку, должна начинаться лесовозная ветка, ведущая на участок Рантуевой.
Туда ему до конца смены уже не успеть. Да и неудобно появляться на участке, когда людям пора «шабашить».
И все же Виктор незаметно для себя прибавлял шагу. Участок Рантуевой оставался единственным из основных производственных участков, с которым он не успел познакомиться сегодня.
Рабочий день подходил к концу. Он оказался удивительно коротким. Даже не верилось, что уже прошло девять часов с того момента, как Виктор брел в тумане по береговой тропе и раздумывал, каким–то будет он, этот первый рабочий день!
«Вот и снова день прошел, а что сделано для бессмертия?» — неожиданно вспомнилась фраза одного из товарищей по академии, которую тот полураздумчиво, полушутливо произнес однажды, ложась спать в тесной комнате общежития. Постилло был одним из самых отстающих студентов на первом курсе. Он восемь лет прослужил в армии, и учеба давалась ему с великим трудом. Чтобы угнаться за товарищами, он должен был сидеть над книгами с утра до полуночи. Возможно, поэтому его слова вызвали особенно веселый хохот товарищей.
С тех пор это изречение стало чем–то обязательным в жизни шестерых однокурсников. Когда в полночь в комнате гасили свет, кто–либо из товарищей с издевательски тяжким вздохом обязательно произносил его. Постилло был лишен чувства юмора и принимал все за чистую монету. «Да, да, — с озабоченностью подхватывал он. — Действительно, что сделано для бессмертия? Ничего». А все кончилось для шутников совершенно неожиданно. Дипломный проект Постилло оказался самым лучшим в академии и был прямо на защите принят представителем треста «Ленлес» к внедрению в производство. В ту ночь один из самых настойчивых шутников в последний раз произнес: «Вот и пять лет прошло, а что сделано для бессмертия?» — «Да, да, — с грустью подхватил Постилло. — Совсем ничего, чудовищно ничего…» Привычный ответ на этот раз вывел из себя любителя шуток. «Да я не тебя спрашиваю, черт этакий! А нас, вот всех нас… Что мы сделали для бессмертия?»
В тот год Виктор уже не жил в общежитии. Женившись, он переселился в огромную и плотно заселенную квартиру старого дома, в котором Лена и ее тетя занимали одну комнату. Когда ему передали, чем кончилась шутка о бессмертии, он, вероятно, острее других воспринял обращенный к товарищам вопрос.
Если отбросить ложную скромность, то Виктор ждал от себя немалого. Он долго не знал, во что это выльется, но в нем всегда, еще со школьных лет, бродило так и не перебродившее за время войны стремление сделать что–то такое, чем могли бы восхищаться люди.
Это шло из детства. Он рос в обстановке, где девиз — быть первым! — лежал в основе воспитания. Быть первым не для себя, не для личного тщеславия, а для пользы страны, народа.
Это бурлившее в крови чувство позвало весной 1942 года семнадцатилетнего паренька, только что закончившего школу ФЗО, на войну, на самый трудный, как сказали в обкоме комсомола, ее участок — в партизанский отряд.
Война была не такой, какой она представлялась издали. Очень скоро Виктор понял, что быть первым на войне — это не только быть готовым к подвигу. Быть первым на войне — это суметь выдержать многосотверстные походы по лесам и болотам с опухшим от комариных укусов лицом, с натертыми до крови ногами. Быть первым на войне — это съедать, несмотря на никогда не утоляемое чувство голода, ровно столько, сколько положено нормой, хотя в мешке за спиной полно принадлежащих тебе же продуктов и плечи ноют от их тяжести. Быть первым на войне — это уметь в течение недель и месяцев спать на заиндевелых ветках хвои по два часа за один привал, так как большего не разрешал командир из опасения поморозить усталых людей.
И только после всего этого, если у тебя хватит сил, ты сможешь совершить подвиг, о котором мечталось в тылу.
Такова была партизанская жизнь.
В войну Виктор не сделал ничего такого, чем могли бы восхищаться люди. Так, по крайней мере, казалось ему. Два года он жил в ожидании той единственной своей минуты, которая должна стать самой важной не только для него, но и для всего отряда. Готовил себя к ней, и когда она наконец наступила, то все получилось совсем не так, как ему хотелось, и это принесло ему лишь новые душевные терзания.
После мартовской ночи, в которую погиб Павел Кочетыгов, ему еще сильнее, чем прежде, захотелось совершить что–то такое, что дало бы возможность людям увидеть и узнать его истинную цену.
Однако война закончилась. Путь к осуществлению этого в мирное время стал еще более долгим. Девять лет, как девять трудных подъемов на едва различимую снизу вершину! И вот — то волнение, которое он испытывал перед каждым партизанским боем, знакомо переливается, бурлит и приятно согревает сердце.
Да, здесь, в Войттозере, он сделает теперь то, что не удалось ему сделать во время войны. И как хорошо, что судьба вновь привела его в эти края. Здесь он нужен людям. Это ощущение родилось у него вчера, во время разговора с Орлиевым на берегу озера, и с тех пор ни на минуту не оставляло его. Да, люди ждут от него чего–то большого и значительного…
Ждет Валя Шумилова — эта тихая и добрая девушка, еще не нашедшая своего настоящего места на лесопункте. Ждет старый мастер Вяхясало. Во время разговора его выцветшие глаза смотрели на Виктора так, будто лишь от нового технорука зависит, как пойдут дела дальше. Ждет механик передвижной ремонтной мастерской — тощий, словно завяленный, и такой сутулый, что если бы не высокий рост, то его наверняка приняли бы за горбатого. Он тяжко сопел и все время спрашивал: «Разве это работа, а?»
Даже на делянке, где утомительно однообразная работа приучила обрубщиц сучьев к беззастенчивой болтовне, Виктор услышал за своей спиной громкий разговор.
— Ну, девки, технорук у нас чистый жених…
— Будет Кланьке заботушка… а, Кланька?
— Ишо поглядеть надо, на што он гожий, — певуче отозвался мягкий, по–белорусски акающий голос. — Пущай сперва себя покажет…
— Опоздала ты, девка. У него, говорят, жена почище тебя — молоденькая да красивая.
— Жена нам не помеха. Отобьем. Было б за что тягаться… — и Кланька первой засмеялась.
Виктор понимал, что это обычная болтовня, что именно так, а может, даже и похлеще, принимают на делянке любого нового человека. Ведь день впереди долгий. И все же даже в такой болтовне слышалось ему подтверждение того, что и здесь в него верят, ждут, надеются на него.
Вчера это страшило. Он плохо спал ночью, тревожно раздумывал: «А вдруг не сумею ничего найти? Или не смогу сделать? И жизнь превратится в серую и скучную службу… Бывает же так у людей! Просто войти в жизнь лесопункта ведь мало, надо руководить, возглавлять, направлять…»
Сегодня все было позади. Прямо с утра Виктор почувствовал, что работы здесь непочатый край. За день он лишь бегло ознакомился с производственным потоком, но почти в каждом его цикле успел заметить такое, что, на его взгляд, требовало немедленного исправления.
Технологические просчеты встречались в большом и в малом. Взять хотя бы лесоотводы. Все лето люди, тракторы, машины копошатся в грязи, в низких болотистых местах. А по другую сторону лесовозной магистрали тянутся сухие сосновые боры — беломшаники. Боры тоже входят в Войттозерский лесфонд. Почему было весной не перебраться туда, не оставить нынешние делянки для зимы, когда мороз скует болота? Сколько трудностей, кажущихся сейчас совсем непреодолимыми, было бы снято одним этим решением! Правда, туда не проложены «усы», но ведь рано или поздно их придется прокладывать.
Виктор посмотрел на запад, где во всю ширь горизонта простирались еще не тронутые леса. Светлые сосновые боры изредка перемежались с темными пятнами елового густолесья, и лишь кое–где были заметны лиственные породы. Работать в таких лесах одно наслаждение. Вот здесь–то и можно будет организовать настоящий лесной поток, когда машины не потянутся, а побегут, покатятся с возами ровных, как на подбор, бронзовоствольных хлыстов… Туда–то и надо было перейти на летний сезон. Ну, а если уж остались в старых делянках, то прежде всего надо было позаботиться о дорогах. Лучше неделю–другую повозиться с дорогами, чем потом несколько месяцев ежедневно гробить машины. В этом прав Вяхясало, и удивительно, что Орлиев не поддерживает его.
«С этого я, пожалуй, и начну. Не сегодня, даже не завтра. Надо все изучить, взвесить, составить продуманный до мелочей план. До зимы еще три месяца… Может, выгодней окажется перейти туда, в западные делянки. Вот только затрет с прокладкой дороги… А может, придется ждать зимы на старом месте. Тогда уж надо будет налечь на строительство лежневок по–настоящему».
2
То, чего Виктор так ждал и так боялся, произошло на нижней бирже, куда он после окончания смены вернулся с последним лесовозом.
Олю он увидел издали, из окна кабины. Она стояла рядом с Валей у того самого злополучного панкрашовского штабеля и, поддерживая на весу полевую сумку, что–то записывала в блокнот. Она была так далеко, что Виктор еще не различал ее лица; там могла оказаться любая другая из работающих на лесопункте женщин, но по тому, как тревожно заколотилось сердце, как кровь прилила к лицу, он почувствовал, что не ошибся.
Сквозь бурое от пыли ветровое стекло он увидел, как Оля подняла голову на звук приближающейся машины, окинула лесовоз быстрым взглядом и вновь склонилась к блокноту. Машина уже проходила мимо девушек, направляясь в дальний конец биржи. Виктор понимал, что ему самое время выходить. Он весь день искал этой встречи и теперь сам оттягивал ее.
— Дальше поедете? — спросил шофер.
— Нет, спасибо, выйду здесь…
Он вылез, прихлопнул дверцу и, собираясь с мыслями, ждал, пока лесовоз пройдет мимо… Медленно, очень медленно ползли перед глазами чешуйчатые еловые хлысты. Мысли Виктора бежали куда быстрее. О многом он успел передумать, многое вспомнить, пока наконец у самого носа проскрипел, переваливаясь с боку на бок, прицеп, и Виктор вдруг увидел, что стоит в пятнадцати шагах от Оли.
В ту же самую секунду она резко повернулась и пошла вдоль дороги к поселку.
— Оля! — окликнул он, понимая, что она уже заметила его, но сделала вид, что не узнала.
Трудно сказать, состоялась бы их встреча или нет, если бы рядом никого не было… Может быть, и нет. Но между ними стояла Валя Шумилова. Оля обернулась. На ее лице даже появилось что–то похожее на приветливую улыбку.
— Здравствуй, Оля!
Виктор не смог скрыть своего смущения и уже жалел, что они не вдвоем, что за каждым их словом и движением наблюдают посторонние, ничего не понимающие глаза.
— О, да никак это Витька Курганов?! — удивленно воскликнула Оля. — А я–то думаю, что за чин из лесовоза вылез! Думала, корреспондент какой! — Она широко, по–мужски, потрясла Виктору руку и рассмеялась.
— Неужели я похож на корреспондента? — улыбнулся Виктор и повернулся к Вале: — Разве я похож на корреспондента?
— Н–нет. Не похожи, — серьезно ответила та, оглядев сверху донизу рабочий костюм Виктора..
— Ну уж, корреспонденты тоже всякие бывают! — снова рассмеялась Оля. Ее смех насторожил Виктора — в нем слышалось что–то нарочитое. — Вон Юрка Чадов как приедет, так в кладовой нарочно спецовку, которая похуже, выбирает. Он почему–то считает, что от этого доверие к нему прибавляется…
— У меня, к сожалению, выбора нет. Что есть, то и ношу. Как ты живешь, Оля? Ведь больше девяти лет не виделись…
— Как живу? — переспросила она и, помедлив, вдруг повернулась к Вале: — Валя, как мы живем? По–моему, хорошо, а?
— Хорошо, — подтвердила та.
— Ну вот, видишь… А ты как?
— Я полностью присоединяюсь к вам, — пытаясь принять ее беззаботный тон, ответил Виктор. Этот тон вначале насторожил его, но теперь стал казаться единственно подходящим. ««Умница, Оля! Как хорошо она сразу все почувствовала! Действительно, к чему нам терзать друг друга, ведь все равно ничего уже не исправишь».
— К нам надолго? — спросила Оля. Он даже не сразу понял вопрос, потом рассмеялся:
— Насовсем, Оля… Совсем насовсем.
— Насовсем? — переспросила она и вдруг обратилась к Вале: — Ты идешь домой или остаешься?
— Останусь… Потом приеду.
— Ну, я пошла. До свидания, Виктор… Алексеевич, если не ошибаюсь.
— Не ошибаешься. Можно и я с тобой?
— А почему же… Дороги хватит и на двоих… Все веселей будет.
Некоторое время они шли по лесовозной дороге, потом Оля свернула на узкую тропку, петлявшую между кустами вдоль реки. Они и так шли молча, а теперь разговаривать стало совсем трудно. Впереди уже виднелся кусочек озера. Лес, озеро, низко висевшее впереди солнце вдруг напомнили Виктору тот вечер, когда они с Олей ждали самолет. Сколько же лет прошло с тех пор?
«Зря я увязался идти с нею, — подумал Виктор, вдруг почувствовав, как этот молчаливый путь постепенно настраивает его на воспоминания. — Чего я ищу? Объяснений? Но она не нуждается в них… Видно, она ко всему, бывшему между нами, относится умнее и проще, чем я.
Прошлое есть прошлое… Его нельзя ни оживить, ни исправить… Надо думать о настоящем».
Они миновали то место, где Виктор утром ощупывал жердью дно реки. Вот и мягко шумевшая плотина осталась позади. Вода в реке стала заметно светлее, а озеро все полнее вбирало в себя багровую густоту заходящего в легкие тучи солнца. Справа, в километре, виднелись крайние дома поселка.
— Ну вот, видишь, как весело вдвоем! — остановилась Оля, когда тропка вышла на берег озера и круто повернула к поселку. — И не заметили за разговором, как дошли.
— Да, неплохо поговорили, — грустно усмехнулся Виктор.
— Скажи–ка мне, пожалуйста, — Оля поравнялась с Виктором, сняла синюю холщовую куртку, перекинула ее на руку, и они пошли рядом. — Тебя сюда направили, или ты мог выбрать и другой лесопункт?
— Вероятно, мог…
— Почему же ты не сделал этого? Ты знал, что я здесь?
— Знал. То есть, в тот момент, когда решался вопрос о назначении, я не знал… Но если бы знал, то тем более выбрал бы Войттозеро.
— Скажи, пожалуйста! — Оля уже не скрывала насмешки. — А я, признаться, уж не верила, что из–за меня ты готов на такой подвиг… Сколько лет верила, а когда перестала — он тут как тут… Интересно получается. Наверно, и жена твоя тоже ради меня в Войттозеро приехала?
— Оля, не надо… — попросил Виктор, чувствуя, как в нем поднимается неприязнь к ней.
— Нет, почему же? Она ради тебя, ты ради меня — вот и выходит, что оба вы обо мне и позаботились.
«Поссориться она хочет, что ли?» — подумал Виктор, увидев, каким жестким и надменным стало лицо Оли.
— Если тебе нравится, ты можешь насмехаться надо мной, — сказал он. — Может, ты и имеешь на это право… Хотя я всегда думал, что встретимся мы по–иному… Ну, пускай. Если доставляет тебе удовольствие, — смейся. Но почему ты пытаешься издеваться над моей женой, которую ты не знаешь и даже в глаза не видела, — не понимаю. Это так не похоже на тебя.
— Говорят, она у тебя хорошенькая? — как будто не замечая его обиды, весело спросила Оля. — Панкрашов без ума от нее…
Виктор пожал плечами и отвернулся.
— Ну, не сердись, — Оля ласково тронула его за локоть. — Я пошутила… Раньше ты понимал шутки.
Когда до ближайших домов оставалось не больше ста метров, Оля замедлила шаг и тихо сказала:
— Я думаю, вам надо уехать отсюда. Вам легче. Вы все равно еще не устроились. Попросись на другой лесопункт и уезжай.
— Это еще почему? — Виктор каждое ее слово принимал все еще враждебно, ожидая скрытой насмешки.
— Так будет лучше и тебе, и мне, и твоей жене.
— Я приехал работать… А что касается… этого… то я много думал… Лучше в открытую, чем прятать…
— Твоя жена знает? — пристально посмотрела ему в глаза Оля.
— Жена? — переспросил Виктор и сбивчиво пояснил: — Всего я ей не говорил… но она знает, что мы… дружили с тобой… Но я расскажу ей потом, все расскажу, как было…
— Дружили?! — усмехнулась Оля. Услышать это слово от него было особенно обидно. Внешне они действительно только дружили: в отряде Орлиева были такие строгости, что им приходилось скрывать свои чувства даже от самых близких товарищей… Кто–кто, а сам Виктор хорошо знает, что их тогда связывало несравненно большее, чем простая дружба.
— Значит, ты считаешь, что мы только дружили? — спросила Оля, готовая тут же высказать ему все. — Ты, может, даже жалеешь о том, что было между нами? Жалеешь, да?
— Зачем ты спрашиваешь об этом? — с болью произнес Виктор, понимая, что любой его ответ обидит ее.
— Может, ты теперь даже стыдишься того? Может, считаешь нашу… эту самую дружбу… позорным пятном в своей благополучной жизни?
Она била в самое больное место, и Виктор молчал. Ее слова уже не вызывали в нем никакого протеста. Было лишь немного жаль того удивительно правильного тона, который был удачно ею найден на бирже. А сейчас Оля вела себя так, как вела бы себя любая другая женщина. Что ж, жаль, конечно, но она имеет право на это. Он во всем виноват… Но каяться, сожалеть о прошлом он не будет. И лгать, что не сожалеет о нем, тоже не станет. Все сложнее, чем кажется… Теперь даже не нужно ничего объяснять, она все равно не захочет ничего понять. Может, действительно, лучше уехать из Войттозера? Хотя теперь уже незачем… Отношения с Ольгой определились, а Лене он откроет все сам…
Оля неожиданно рассмеялась:
— Интересно, как бы ты вел себя, если бы такие вопросы тебе задала жена? Тоже молчал бы, а?
— Она просто никогда не стала бы спрашивать об этом, — пробурчал Виктор, почувствовав, что в настроении Оли снова произошла перемена.
— Почему?
— Ей незачем будет спрашивать. Я сам все расскажу ей. Она все поймет.
— Напрасно ты так думаешь. Если она тебя любит, то обязательно спросит… И ой как спросит. Поэтому тебе лучше уехать из Войттозера.
— Пойми, Оля, не могу я уехать, — горячо заговорил Виктор. — Только сегодня, вот до разговора с тобой, я впервые почувствовал, что все эти девять лет подсознательно стремился сюда… Жил, работал, учился, чтоб вернуться сюда, ты понимаешь? Это так трудно объяснить, но когда–нибудь ты поймешь… Ты ведь и сама, наверное, ощутила это?.. Жила в Петрозаводске, а потом приехала сюда и, видимо, нашла себя здесь.
— Ну, у меня совсем другое… Семья. Если бы не сын, я никогда не вернулась бы в Войттозеро.
— Как, у тебя есть сын? — спросил Виктор. — Ты разве замужем?
Она помолчала, словно борясь с желанием объяснить что–то, и коротко ответила:
— Была…
— Как «была»? А теперь?
— Разошлись, — беззаботно сказала Оля и снова рассмеялась: — Разошлись как в море корабли… Чего ты удивляешься? Разве мало люди расходятся…
— Почему же мне никто не сказал об этом? Ни Чадов, ни Орлиев?
— Давняя история… Может, потом и расскажут. Так почему же ты все–таки не хочешь уехать из Войттозера?
Новость так поразила Виктора, что он смотрел на Олю и ничего не понимал. Оказывается, Оля была замужем. И уже давно. Так вот почему она в сорок пятом году уехала из Петрозаводска! Вот почему они не могли найти друг друга! Что–то похожее на чувство ревности, даже обиды, шевельнулось в нем, когда вспомнил, с каким волнением ждал ответа на свои письма и запросы.
— Как же так получилось, Оля? Уже через год, как мы расстались, ты вышла замуж?
— Даже раньше, в том же году… Чего же тут особенного? Встретила человека. Думала, все серьезно — разве мало так случается. Вот и с тобой у нас почти так же вышло,
— Но мы хотя бы не записывались.
— Ас ним мы тоже не записывались, — беззаботно махнула рукой Оля. — Сначала об этом не думали, а потом уж было незачем. Ладно, хватит... Было и прошло… Почему ж ты не хочешь уехать из Войттозера? Ты начал говорить и не закончил.
Виктор с трудом припомнил, что он говорил. Но продолжать уже не хотелось. Как будто Оля вдруг потеряла в его глазах что–то очень важное и значительное. И вместе с тем неожиданное признание вроде чем–то сблизило их, уравняло друг с другом и сгладило прошлое.
— Мне кажется, в Войттозере я могу сделать что–то полезное. — В голосе Виктора уже не было ни пафоса, ни волнения, которыми прежде стремился передать ей основную причину того, почему он решил остаться в Войттозере. — Здесь есть над чем поработать.
Оля подождала, не скажет ли он еще чего–нибудь. Потом медленно надела куртку и пожала плечами:
— Ну что ж. Придется мне уехать отсюда.., Не хотелось бы, а придется…
— Но почему, Оля?
Она не ответила и зашагала быстрее. Они вышли на главную улицу поселка. У столовой Оля остановилась, посмотрела на Виктора и с грустной улыбкой покачала головой:
— Витька, Витька! Ничего–то ты не понимаешь!
Глава шестая
Из открытого окна конторы слышался сердитый орлиевский бас:
— Ты мне такие штучки брось! Пока в план не войдешь, лучше и не заикайся про отпуск… Лесовозов я тебе не рожу, тракторов тоже. Поменьше пьянствуй да с бабами путайся, побольше о деле думай, если мастером хочешь остаться.
«Панкрашова отчитывает», — догадался Виктор.
В кабинете напротив сидевшего за столом Тихона Захаровича стоял уже успевший переодеться в суконную гимнастерку и хромовые сапоги Панкрашов. В углу тихо, сосредоточенно сосал трубку Вяхясало. Вид у Панкрашова был виноватый, даже чуть ли не угодливый, но по его хитрому взгляду Виктор понял, что Панкрашов ни в чем себя виноватым не считает, а если и изображает таковым, то лишь затем, чтобы поскорее утихомирить расходившегося начальника.
Виктор не терпел ни хитрости, ни лицемерия, и поведение Панкрашова ему не понравилось. Не согласен — возражай, защищайся, а не скрывай своего истинного мнения за внешней покорностью. Особенно было обидно за Орлиева, которого панкрашовская угодливость невольно унижала, а сам он вроде бы и не замечал этого.
— Вот так. — Тихон Захарович перевел тяжелый взгляд с Панкрашова на Виктора и вдруг спросил:
— Чего ты чудишь?
Виктор непонимающе пожал плечами.
— Что там у тебя на бирже произошло? Ты что — другого дела не нашел, что ли? Зачем штабеля перекладывать приказал?
— А, вы об этом… — улыбнулся Виктор и начал горячо доказывать, насколько плохо обстоит дело с качеством подготовленных к сдаче штабелей, но Орлиев досадливо махнул рукой:
— Знаю. Ерунду ты затеял. Принимает сплавная контора штабеля — ну и слава богу… Пусть сами следят за качеством. Чего тебе надо?
Если бы в кабинете не было Вяхясало и Панкрашова, Виктор, возможно, и не воспринял бы эти слова с такой обидой. Но на него строго и оценивающе смотрели умные, чуть сощуренные глаза Вяхясало, а Панкрашов, собиравшийся уже уходить, даже присел на жесткий деревянный диван. Едва сдерживаясь от волнения, Виктор медленно сказал:
— Тихон Захарович, вы допускаете принципиальную ошибку. Так работать нельзя.
По тому, как сразу побледнело лицо Орлиева, можно было ожидать, что сейчас произойдет что–то невероятное.
Панкрашов подался чуть вперед, готовый предотвратить несчастье. Даже Вяхясало вынул изо рта трубку и застыл, держа ее в согнутой руке.
Но невероятного не случилось. Тихон Захарович вдруг сморщился, глубоко вздохнул и отвалился к спинке кресла, прижав руку к сердцу.
— Панкрашов, сходи к сторожихе, принеси водицы, — тихо попросил он и крикнул вслед: — Да скажи ей, чтоб впредь вода всегда стояла здесь. Безобразие! Разбили графин и купить не могут!
Панкрашов вышел. Несколько секунд стояла тишина.
— Ты видел сегодняшнюю сводку? — кивнул Орлиев Виктору.
— Не видел, но догадываюсь.
— А так можно работать?
— Нельзя.
— Вот то–то и оно… А ты в штабеля зарываешься. Не до них нам, если уже шесть тысяч кубов долгу…
— Не согласен. Штабеля тоже не мелочь… То есть, в сравнении с долгом, конечно, мелочь… Но ведь и долг потому, что мы везде, на всех циклах работаем так же, как на штабелевке. Технически малограмотно мы работаем…
Виктор высказал свое мнение о неразумном отводе лесосек, о запущенности профилактического и среднего ремонта механизмов, о недооценке дорожного строительства — о всем том, о чем он думал, шагая по лесовозной магистрали.
Орлиев хмурился, недовольно сопел, но терпеливо слушал. Панкрашов принес литровую банку с водой и стакан. Тихон Захарович отпил несколько глотков, отодвинул воду от себя и снова навалился грудью на стол, давая понять, что готов все выслушать до конца. За неплотно закрытой дверью в соседней комнате тоже притихли, и теперь голос Курганова, казалось, разносился по всему дому.
— Все? — спросил Орлиев, когда Виктор закончил.
— Все.
— Ну что ж… Критиковать ты умеешь. Хотя недостатка в критике мы и раньше не испытывали…
— Тихон Захарович, Курганов много правильного говорил, — подал голос осмелевший Панкрашов.
— Помолчи, — глянул в его сторону Орлиев. — «Санька–критикан» тоже много правильного говорит. Это я к слову. А с тебя, — он посмотрел на Виктора, — другой спрос. Ты не ревизор и не уполномоченный из треста. Тебе не критиковать, а исправлять все надо… Да–да, своими руками, горбом своим.
— Я разве отказываюсь? Я готов взяться хоть сейчас. Важно ваше отношение…
Орлиев словно пропустил его слова мимо ушей.
— В первые дни все всегда начинают с критики. А как же? Это очень удобно. Наладятся дела — тем больше славы. Не наладятся — опять же заручка есть.
— Тихон Захарович, разве я ради славы?!
— Я не о тебе и говорю, Курганов! Ты не обижайся, а лучше делом докажи, что ты не из тех, кто критику своей профессией сделал. — Он помолчал, побарабанил пальцами по столу. — Мысли твои дельные. Давай договоримся так. Денька через два–три соберем руководящий состав и заслушаем тебя. А ты подготовься как следует.
— Обязательно, Тихон Захарович! — обрадовался Виктор.
— Вот так и порешим… А что касается биржи — прошу туда не лезть… Ты сгоряча наломал дров, обидел приемщицу, и теперь только ненужные придирки будут. Не до того нам. Наладим поток, тогда время будет и за биржу приняться. Надо во всем видеть главное, по нему и бить!
Возражать Виктор не стал, хотя и чувствовал, что, уступая, идет на сделку со своей совестью. «Ничего, доберемся до биржи, тогда и он поймет мою правоту», — успокоил он себя.
Разговор о делах притих. Посидели, покурили, перекидываясь случайными фразами о прогнозах погоды, об открывающейся на днях охоте, о строительстве и ремонте жилья. Панкрашов между прочим сказал, что недавно ночью слышал какие–то сильные взрывы с Засельской стороны. Орлиев недоверчиво нахмурился, но Вяхясало тоже подтвердил, что и он слышал их, и даже не один раз.
— Может, учебные бомбежки, — высказал предположение Панкрашов.
— Учебные бомбежки так близко к границе не станут проводить, — возразил Орлиев. — Строят там что–то…
Упоминание о бомбежках немедленно перевело разговор на тему о водородных бомбах, о которых в то время много писалось в газетах.
Из соседней комнаты один за другим в кабинет перебрались люди. Народу набралось столько, что сразу стало тесно и дымно.
Виктор почувствовал, что все ждут его мнения по этому вопросу. Ведь как–никак он приехал из Ленинграда, и среди присутствующих был единственный с высшим образованием.
Стараясь говорить понятнее, он рассказал, что знал, о принципах цепной реакции. Всех очень поразило, когда он высказал вычитанную в одной популярной брошюре мысль, что Солнце — это огромная атомная бомба, что там все время происходит не прекращающаяся цепная реакция и выделяемое ею тепло делает возможной жизнь на Земле.
— Почему же Солнце не взрывается? — спросил один из рабочих и заявил: — Нет уж, от такой бомбы давно бы одна пыль осталась.
— У меня вопросик такого содержания! — услышал Виктор знакомый голос.
Так и есть. В дверях стоял взъерошенный, с возбужденно блестевшими глазами, невесть когда появившийся здесь дядя Саня.
— Возможна ли подобная же цепная реакция на нашей обитаемой ныне планете? И как на данный вопрос смотрит современная нам наука?
— Я, товарищи, не специалист… Но, вероятно, теоретически это возможно, хотя практически вряд ли осуществимо.
— Допустим. Вопрос второй. — Дядя Саня на секунду задумался и выпалил: — Была ли практически осуществима атомная бомба, — допустим, десять лет назад?
— Нет, не была, — улыбнулся Виктор, угадывая, к чему клонит дядя Саня. — Атомная бомба появилась восемь лет назад, когда исход войны был уже ясен. Ее применение, даже по мнению многих видных американских ученых, было величайшим преступлением перед человечеством...
— Это мы знаем, — широким жестом прервал его дядя Саня. — Мы подписывали Стокгольмское воззвание и все это знаем… Заостряю вопрос. Почему же вы не допускаете практического осуществления цепной реакции на всей нашей обитаемой планете?
— Но ведь это никому не нужно. Это приведет к гибели на Земле всего живого.
— Не возражаю… А откуда вам известны коварные планы человеконенавистных империалистов, и чем вы докажете, что они не преследуют именно такие цели?
Дядя Саня, считая, что поставил своего оппонента в затруднительное положение, оглядел публику и милостиво помог ему:
— Даю наводящий… Не следует ли из вышесказанного, что на современном нам этапе человечество находится под угрозой и цивилизация способна уничтожить саму себя?
— Ну, ты еще чего?! — поднялся над столом Орлиев. — Ты прежде думай, а потом болтай… Привык распускать язык, да еще при народе.
Дядя Саня моментально сник. Он, оробело глядя на Орлиева, пытался еще что–то сказать, но возбужденный блеск в его глазах уже уступил место растерянности и беспокойству.
Виктору стало жаль дядю Саню. С подчеркнутым уважением он разъяснил, что истинная наука не может быть направлена во вред человечеству, что ядерные реакции на Земле, в отличие от солнечных, носят строго управляемый характер, а выдающиеся ученые, как советские, так и западные, сейчас энергично выступают против использования атомной энергии в военных целях.
— Эта борьба проходит в рамках всемирного движения за мир. И очень показательно, что один из выдающихся физиков современности, французский ученый Фредерик Жолио–Кюри, чьи труды много сделали для расщепления атома, является председателем Всемирного Совета Мира…
— Товарищ Жолио после войны вступил в коммунистическую партию! — добавил дядя Саня.
— Вот в таком плане и должна идти речь! — довольно произнес Орлиев. — Ну что ж, товарищи! Я думаю, все ясно. Будем считать нашу стихийную политбеседу оконченной. Пора и расходиться. Кто, я вижу, в кино собирался, а кто и дома с утра не был… Завтра без десяти семь планерка! — напомнил он.
— Слушай, а крепко ты его! — восхищенно сказал Панкрашов, когда они вышли на шоссе. — Старика чуть кондрашка не хватила… У нас тут никто с ним так и не разговаривает. Разве что Рябова или Санька–критикан… Рантуева с ним не спорит. Делает по–своему, и баста! А я, понимаешь, не могу так. Не то что боюсь. Бояться вроде бы и нечего. А как глянет старик, да как брови на глаза надвинет — тут уж лучше смолчать. Пусть перекипит…
— Из–за тебя же все это и вышло, — недовольно перебил его Виктор, — учти, Костя! Если еще хоть раз доставят на биржу плохо разделанные сортименты — все отнесу за твой счет.
— На все переделки моей получки не хватит, — засмеялся Панкрашов. Он щелкнул крышкой никелированного портсигара, предложил папиросу Виктору.
— Спасибо. Я сегодня накурился так, что уже чертики в глазах прыгают…
— Да–а, круто ты за дело взялся. — Панкрашов затянулся. — Что касается штабелей, то тут я со стариком согласен. Чего нам за сплавную контору голову ломать… Скажут они: переделать, тогда другой вопрос! А чего нам наперед батьки в пекло лезть?!
— Ты знаешь, что такое ГОСТ? — спросил Виктор. — Мы будем делать, как положено…
— Попал я в переплет! — с отчаянием развел руками Панкрашов. — Одному кубики гони, другому качество давай… Да разве ж можно по ГОСТам работать? Тогда о плане и думать нечего.
Виктор чувствовал, что Панкрашов переживает совсем не так сильно, как старается показать это. «Привык дурачка на себя напускать», — с неприязнью подумал он и холодно произнес:
— Ничего. Возьмешься за дело по–настоящему — и план будет и ГОСТы выдержишь.
— Крутой ты! — рассмеялся Панкрашов. — А вчера вроде другим мне показался, когда песни пели… Ну, брат, одно скажу — найдет у вас с Орлиевым коса на камень… В кино не собираешься сегодня? А то приходи! Ну, мне сюда. Привет Елене Сергеевне передавай.
Глава седьмая
1
Мальчик кормил щенка. Щенок был совсем крохотный, он еле держался на коротких дрожащих лапках. Его длинные, чуть ли не до земли свисавшие уши смешно болтались, когда он, тыкаясь мордочкой в молоко, захлебывался и фыркал.
На Лену мальчик не обратил внимания, лишь заслонил от нее щенка и стал решительнее тыкать его носом в блюдце.
— Ты его с пальца попробуй, — посоветовала Лена.
Мальчик непонимающе взглянул на нее, и Лена поразилась цвету его глаз. Они были настолько черными, что в них совершенно терялись зрачки, и от этого взгляд казался особенно пристальным и не по–детски грустным.
— Да, да, попробуй, — улыбнулась Лена. — Вот так.
Она положила на траву сумочку, взяла на руки щенка, обмакнула в молоко палец и поднесла к черному холодному носику. Щенок доверчиво потянулся к пальцу. Его розовый шершавый и теплый язычок так и замелькал, слизывая молоко. Крохотное тельце даже задрожало от удовольствия, и ощущение этого было настолько приятным, что Лена радостно засмеялась:
— Ну, ну, не спеши! Вот тебе еще, свеженького. И еще вот, еще…
Вначале мальчик смотрел на это обрадованно, потом стал все тревожнее заглядывать в лицо Лене и наконец ревниво потянулся к щенку:
— Так я и сам умею.
— Конечно, умеешь, — подтвердила Лена, передавая щенка. — Где ты его взял, такого кроху?
Мальчик помолчал и, освоившись с кормежкой, похвастал:
— Он породистый… Сам уток ловить будет… Увидит, нырнет и — цап ее за ногу под водой. У него и уши длинные, чтоб вода не забиралась.
В это Лена не очень–то поверила, но щенок действительно был какой–то необычный: большеголовый, вислоухий и весь лохмато–черный, лишь узенькая белая полоска пробегала по его пухлому животику и широкой грудке. Коричневыми бусинками малоподвижных глаз и растопыренными толстыми лапками он до смешного напоминал вдруг ожившего плюшевого мишку из того далекого детства, когда все игрушки казались живыми, и если они не хотели сами двигаться, есть, ложиться спать, то лишь потому, что были лентяями и любили притворяться.
Этот не притворялся. Он ел с жадностью, забавно вытягивая вслед за пальцем мордочку.
— Счас, счас, — торопился мальчик. — Да ты не кусайся! Ишь зубы какие! Такой маленький, а уже кусаешься.
Стараясь нащупать зубы, он поглубже засовывал в рот щенку палец, отчего тот несколько раз срыгивал и испуганно пятился назад.
— Ох, и злой будет! Так и ладит за палец схватить! Не верите? Вот попробуйте.
— Верю, верю. Только ты отпусти его, он уже сыт.
Почувствовав свободу, щенок неумело отряхнулся и заковылял в сторону. Выбравшись на солнцепек, он постоял как бы в раздумье и, к огорчению мальчика, неожиданно прилег, закрыв глаза и превратившись в черный комочек.
— Он устал, пусть отдохнет, — сказала Лена. — Ты в этом доме живешь?
— В этом, — с неохотой ответил мальчик.
— В школу ходишь?
— Нет.
— Нет? Почему? Сколько тебе лет?
— Восемь.
— Почему же ты не ходишь в школу?
— А я болел.
— Весь год болел? — подошла к нему поближе Лена. — Чем же ты болел?
— Не знаю, — скучающе отвернулся он от нее.
— Как твоя фамилия?
— Рантуев.
— А зовут?
— Славик.
— А как зовут твоего отца?
Нащупав в траве камешки, Славик принялся бросать их на крышу сарая. Они скатывались по крыше обратно и падали почти к самым его ногам.
— Славик, я с тобой разговариваю. Нехорошо так. Как зовут твоего папу?
Славик один за другим перебросал все камни через конек крыши и лишь потом повернулся к Лене.
— У меня нет папы… Он погиб на фронте…
— Он был в партизанах? Командиром разведки? — воскликнула Лена,
— А вы откуда знаете? — спросил мальчик, недоверчиво покосившись на нее.
— Знаю, Славик, знаю… Я живу у твоей бабушки… Твоя мама скоро придет?
— Скоро, если не будет собрания.
— Ты сегодня так и был здесь один?
— Не–е. Я к деду ходил. А завтра мы, может, на рыбалку поедем…
— Ты любишь рыбачить?
Славик замялся. Врать ему не хотелось, но на настоящей рыбалке, чтоб далеко в озеро уйти, на луды, да чтоб ловить на донку настоящих окуней, ему еще ни разу не доводилось. Чужие дяди его не брали, а дед считал удочную рыбалку баловством.
— Не то чтобы уж очень, — подумав, ответил он и вдруг оживился: — Вот если б ружье было!.. У нас вон там, знаете, уток сколько?! Вся треста так и шевелится. Это не так далеко, вон за той губой! Хотите, покажу!
— Хорошо, хорошо. Обязательно потом сходим… — Радуясь, что разговор налаживается, Лена сообщила, что она из школы и что Славик будет учиться у нее.
— Ты, никак, в школу ходить не хочешь? — спросила она, заметив, что Славик вдруг стал грустным.
— Я не хочу второгодничать, я во второй класс хочу, — тихо произнес он, глядя в землю.
— Какой же ты второгодник? Ты ведь не ходил в прошлом году.
— Все равно. Не буду я от Кольки отставать. Я лучше читать умею. У меня вон и книги есть! — быстро заговорил он, и Лена увидела, как в его черных глазах загорается непререкаемое упрямство.
— Так, Славик, нельзя! Все должны начинать учиться с первого класса. Ну и что ж, что ты пропустил год. Другие и по многу лет пропускают. Возьми фронтовиков! Они четыре года пропустили и совсем взрослыми после войны за парту сели. И ничего, учились, инженерами стали…
— В первый класс все равно не пойду.
— Как это не пойдешь? Директор школы прикажет — и пойдешь. В школе есть порядок и дисциплина.
— А вот и не прикажет! — засмеялся Славик. — Тетя Аня — мамина подруга, и не будет ничего приказывать.
Лена не сразу сообразила, что тетя Аня — вероятно, Анна Никитична Рябова. Да, видно, в этом доме для мальчика нет ничего запретного! А может, наоборот, запрещают ему слишком многое. До всего он должен доходить своим умом, и в результате — это удивительное упрямство и совершенно не детская самоуверенность. «Обязательно дождусь его матери», — решила Лена.
2
Жильцы соседних квартир уже вернулись, и дом все больше оживал. Из распахнутых окон слышались голоса, позвякивание посуды, приглушенное бормотание репродукторов.
Хозяевами одной из квартир оказалась молодая чета — высокий парень в берете и замасленной спецовке и низенькая жизнерадостная толстушка в лыжном костюме и мягких брезентовых сапожках. Парень нес вязанку дров, его жена — целый ворох пакетов и свертков из магазина. Однако это не мешало им шалить, толкаться, нестись к дому наперегонки. К калитке первой успела девушка. Парень, не долго думая, шарахнул через невысокий забор и сумел опередить ее на крыльце. Потом, вспомнив про дрова, выкрикнул: «Чур, я первый» — и, ласково хлопнув жену ладонью по спине, направился к сараю.
— Ну, что, Славка, скоро жениться будем? — вместо приветствия спросил он. Заметив щенка, нагнулся, нежно погладил его: — Дед подарил?
— Знаешь, какой он! — заторопился Славка. — Он сам уток ловить будет!
— Нам с тобой, брат, такие ни к чему, — засмеялся парень. Он положил в сарай дрова, подмигнул Славику: — А нам зачем, чтобы сам?.. Мы сам с усам, вот оно! Знаешь, как медведь по бору ходит? — сурово нахмурился он.
— Знаю, дядя Толя, знаю! — закричал Славик, радостно бросаясь за угол сарая.
— То–то, — засмеялся «дядя Толя». Он помедлил, словно выжидая, не захочет ли Лена о чем–нибудь спросить его, и направился к крыльцу.
А Лене и действительно хотелось задать ему вопрос, но она не могла решить, как назвать мать Славика: «товарищ Рантуева» — слишком официально, «Ольгой» — неудобно, а отчества она не знала. Пока она соображала, парень уже поднялся на крыльцо.
— Скажите… мать Славика скоро вернется? — наконец, решившись, спросила Лена.
— Мать Славика? — переспросил «дядя Толя», как бы пытаясь уяснить себе, кто же такая мать Славика, и вдруг улыбнулся — широко, добродушно и даже виновато: — Конечно, скоро. Кажется, на биржу поехала… Славик, слетай–ка быстро в столовую, может, мамаша там уже. Кому говорю! — прикрикнул он, когда Славик сделал вид, что не слышит его.
— Я обожду… У меня есть время.
— А то к нам зайдите. Чего на улице комаров кормить?
— Спасибо, я здесь…
— Ну, как хотите, — и парень ушел в дом.
— С кем ты там? — услышала Лена из сеней чуть приглушенный женский голос.
— Ольгу Петровну спрашивали…
— Приезжая, видать. Вроде в поселке таких и не было. Уж не жена ли нового технорука?
— А может, и жена… Налей–ка водицы побольше. Сегодня как черт грязный…
Лене очень хотелось, чтобы они продолжали такой разговор, но где–то неподалеку завели радиолу, и музыка грянула так оглушительно, что щенок, к радости Славика, вскочил и испуганно заметался по траве.
Напоминание о Викторе наполнило Лену ощущением чего–то волнующего, приятного, чуть тревожного. Так было всегда. Наверное, это и есть ощущение своего счастья. Оно такое необъяснимое и безмерное, что, кажется, на свете вне его ничего и не существует. Оно включает в себя все — и этот дом с милыми, очень милыми людьми, и тот дом, рядом, в точности похожий на этот, и все другие дома поселка со всеми его жителями. Даже то, что произошло в школе или в доме Мошниковых, — тоже уже частица их жизни. Пусть горькая, обидная — но без нее Лена теперь и не могла представить своего будущего. Если бы ее вдруг заставили забыть, выбросить нынешний день из головы, она чувствовала бы себя обкраденной.
Виктор… Может, он уже вернулся и ждет ее...
— Славик, идем ужинать!
Лена даже вздрогнула — так близко от нее прозвучал голос и таким он был знакомым.
— Мама, правда, он хороший? Он будет жить у нас, правда? — и радостно и виновато закричал Славик.
На тропке у дома стояла высокая стройная женщина в синей холщовой куртке, в новых блестевших на солнце резиновых сапогах, в ярко–красной, еще не успевшей выгореть косынке. Через плечо — полевая кожаная сумка, в руках — алюминиевый судок с ужином, хлеб, свертки. Ее загорелое лицо с небольшим вздернутым носом в первую секунду показалось Лене неприятным — застывшим, словно выточенным из холодного коричневого камня. И все же было в нем то, что привлекало внимание, заставляло еще вглядываться в него. Высокий чистый лоб, густые строгие брови. Они так ровно нависали над большими серыми глазами, что глаза не блестели, а, казалось, излучали откуда–то из глубины собственный мягкий свет. Вглядевшись даже издали в эти спокойные, мягко лучившиеся глаза, Лена почувствовала невольную зависть.
— Идем ужинать!
Да, именно такой и представляла себе Лена Ольгу Рантуеву — непримиримо суровой, но обязательно чем–то привлекательной.
— Здравствуйте. Я вас жду.
— Меня? — Казалось, Ольга лишь теперь заметила Лену.
— Да, я из школы. Мне хотелось бы поговорить с вами о Славике…
Рантуева, ни слова не говоря, направилась в дом. Поставив на крыльцо судок с едой, ловко, одной рукой открыла замок и распахнула дверь.
— Входите! — не оборачиваясь, пригласила она и вошла первой.
Отдельная квартирка Рантуевой состояла из кухни и комнаты. Мебели было немного — два стола, шкаф, этажерка, несколько стульев, кровать и кушетка, где, вероятно, спал Славик, — но квартирка была такая маленькая, что казалась забитой мебелью. Во всем ощущалась забота хозяйки о чистоте и уюте, и вместе с тем на всем этом лежал какой–то нежилой отпечаток. Все было на месте, все аккуратно расправлено и выглажено, как будто никто никогда не садился на эту низкую кушетку, затянутую в белый чехол, или никто не ступал по чистым самотканым дорожкам. Хозяйка молча предложила Лене стул и, не снимая рабочей куртки, присела сама, давая тем самым понять, что разговор будет недолгим.
— Я хотела поговорить с вами о Славике… — начала Лена, вдруг почувствовав робость. О чем она может говорить с этой женщиной, смотревшей на нее явно отчужденно?
— Можно узнать, кто вы такая? — спросила Рантуева,
— Я? Я из школы… Буду работать учительницей в первом классе. Фамилия моя Курганова… Елена Сергеевна.
— A–а… очень приятно. Я слышала о вас. Вы, значит, жена нашего нового технорука.
— Да, — обрадовалась Лена. — Я вас тоже немного знаю… Вы ведь, кажется, партизанили вместе с Виктором?
— Недолго, — поспешно ответила Оля и, помолчав, напомнила:
— Ну, я вас слушаю…
— Славик ведь должен идти в школу?
— Да.
— Но он не хочет идти в первый класс. Вы знаете об этом?
— Мало ли чего кому не хочется… Не можете же вы перевести его сразу во второй?
— Не можем, — подтвердила Лена.
— Значит, он пойдет в первый класс.
— Хорошо, я запишу его.
— По–моему, его уже записывали.
— Да, но сейчас мы делаем последнюю контрольную проверку, — пояснила Лена, чувствуя, что Рантуева относится к ней с плохо скрываемой иронией.
— А–а.„ Ну если последнюю, то пожалуйста…
Лена развернула тетрадь, поставила порядковый номер и записала фамилию.
— Простите, полное имя у Славика — Вячеслав?
— Нет, Ростислав… Ростислав Ольгович.
— Редкое имя, редкое и хорошее, — похвалила Лена.
— Не Олегович, а Ольгович, — поправила Рантуева, заглянув к ней в тетрадь. — Да, да, не удивляйтесь. Есть такое женское имя — Ольга! Он от него и будет — Ольгович.
— Но ведь не может же быть отчества по имени матери! — воскликнула Лена.
Ольга Петровна снисходительно усмехнулась, потом вдруг быстро прошла в другую комнату и, вернувшись, положила перед Леной желтое с золотистым гербом свидетельство о рождении.
— Читайте. Видите, черным по белому — Ростислав Ольгович.
— Что вы, что вы, я верю!
— Нет уж, пожалуйста, взгляните.
— Это какая–то нелепость…
— Документ правильный, — холодно сказала Рантуева. — Вы ведь, кажется, живете у тети Фроси? Пожалуйста, при случае объясните ей, что Славик ей не внук. И пусть она не рассказывает свои выдумки каждому встречному и поперечному. Если она не верит мне, то пусть поверит хотя бы документу.
Документу трудно было не поверить. В нем действительно черным по белому было засвидетельствовано, что «Рантуев Ростислав Ольгович родился 8 октября 1944 года в городе Петрозаводске». А в графе «отец» стоял уверенный прочерк.
Пораженная всем этим, Лена молчала. Она смотрела на цифру «23», под которой значилась в ее тетради фамилия Славика, не знала, что ей делать дальше, что спрашивать, что говорить.
Увидев, что гостья и не собирается уходить, Рантуева с подчеркнутым безразличием занялась домашними делами. Сняла куртку, сапоги, разожгла керосинку, чтобы разогреть принесенный ужин, и принялась умываться.
— Ольга Петровна, Славик знает об этом?
— О чем? — Рантуева повернула к Лене намыленное лицо, смахнула тыльной стороной ладони наползавшую на глаза пену.
— Ну… что у него по документам нет отца.
Лишь закончив умывание и вытираясь длинным вафельным полотенцем, Ольга ответила:
— Он узнает тогда, когда будет способен правильно понять…
Наконец–то в ее словах Лена уловила располагающие к откровению нотки.
— Скажите, вы сами это сделали или так нужно?.. Этот прочерк в метрике?..
Рантуева уже находилась в другой комнате. Возможно, она не расслышала или не поняла, но очень долго не отвечала.
Она вышла к Лене переодевшаяся — в светло–сером костюме, в черных замшевых туфлях и белой шелковой блузке. Ее короткие вьющиеся волосы были аккуратно уложены и высоко заколоты сзади обручевой гребенкой.
«Как здорово к ее глазам подошли бы косы!» — подумала Лена, глядя на стройную красивую фигуру Рантуевой.
Ольга Петровна сняла с керосинки кастрюлю, поставила чайник и вновь присела напротив Лены.
— Вы, кажется, что–то спрашивали?
— Этот прочерк… Вы сами так сделали?
— Да, этого прочерка у Славика могло бы и не быть…
— Скажите, зачем вы это сделали? Это же так ужасно… Почему только разрешают так делать?!
— Разрешают?! — усмехнулась Ольга Петровна. Ее взгляд грустно остановился на Лене.
— Он сделал что–то очень плохое, да? — от волнения почти шепотом спросила та.
— Сейчас я, может быть, поступила бы по–другому… — как бы не слыша ее, сказала Оля. — А тогда — только так, только так.
— И все–таки это ужасно!
— Почему ужасно! — В один миг взгляд Рантуевой вновь стал строгим и чуть надменным. — Вот вы! Вы очень любите своего мужа?
— Очень! — Лена даже покраснела от невольно вырвавшегося признания.
— Ну, а если бы он бросил вас… Пусть даже он не знал бы, что вы беременны. Как бы вы поступили?
— Не знаю. Я просто даже не могу представить себе такого.
— Я тогда тоже не могла это себе представить… Потому, наверное, так и поступила… А Славик вырастет, я постараюсь, чтоб он понял… Простите, но мне пора кормить сына.
3
В это время дверь с треском распахнулась, и Славик — испуганный, с ошалелыми глазами, — заметался по квартире, прижимая к груди щенка.
— Мама! Он идет. Он отберет у нас Барса…
Он совал щенка под кровать, за шкаф, попробовал даже закрыть его подушками, но ни одно место не казалось ему надежным. И когда снова широко распахнулась дверь, замерший от испуга Славик со щенком в руках стоял посредине комнаты.
В кухню не вошел, а ворвался плотный старик с круглой седоватой бородой. Его красное от гнева, потное лицо блестело, а большие широко расставленные глаза, казалось, вот–вот вылезут из орбит.
— А, вот ты где? — Даже не поздоровавшись, старик шагнул к Славику, широкой ладонью поддел снизу маленькое тельце щенка, а другой рукой ухватил мальчика за ухо.
— Не отдам, он мой! — закричал Славик.
— Отец, что такое? — негодующе поднялась Оля.
— А то, что твой чертенок украл у меня щенка.
— Я не украл… Я взял одного… У тебя их много!
Скулил щенок, рычал старик, истошно кричал Славик.
— Славик, отдай щенка! Отец, отпусти ребенка сейчас же!
— Ты на меня не кричи, а лучше сына научись в строгости держать! Я из–за этих щенков какие расходы несу. Да знаешь ли ты, поганец, — вновь подступился старик к Славику, — сколько этот щенок стоит?! Мне в городе полтораста целковых дают за каждого, а тебе баловство да озорство!
— Мамочка, пусть он оставит нам Барсика… Ну, пусть, мамочка! — уже не кричал, а тихо упрашивал Славик, глядя на мать жалобными глазами.
— Отец, я тебе отдам деньги, оставь щенка. Сейчас нет, а после получки отдам, — попросила Ольга.
— Ну, уж дудки! Знаем мы вашу отдачу… Тоже богачка нашлась! Да чего, скажи на милость, я буду с тебя деньги получать, коль чужие люди их сами навязывают. — Старик повернулся за сочувствием к молча наблюдавшей эту сцену Лене. Однако, поняв, что и та держит не его сторону, он вскипел еще больше: — Ишь богачка нашлась! Видели, а! Она на пустое баловство полторы сотни готова выкинуть! Хотя, что ей? Сколько денег ты псу под хвост выкинула? За восемь–то лет? Посчитай–ка по двести целковых в месяц… Ей, видите ли, — старик вновь повернулся к Лене, — пенсию назначили, а она…
— Прекрати! — меняясь в лице, крикнула Ольга.
Ее голос прозвучал так резко, что старик застыл с полуоткрытым ртом, а Славик испуганно прижался к матери:
— Мамочка, не надо. Не надо…
— Ты продашь щенка? Деньги я отдам завтра, одолжу и отдам.
Лена даже удивилась тому сдержанному спокойствию, с каким Ольга Петровна произнесла эти слова. Старик, казалось, сдается. Он в нерешительности поглядел на щенка, притихшего на его огромной узловатой ладони, даже чуть–чуть приподнял его, как бы пробуя на вес, и вдруг сказал, словно отрезал:
— Не продам. Не терплю баловства.
— Тогда уходи. Не играй у мальчишки на нервах.
— Ну–ну… Ты отца–то не больно гони… Гляди, как бы каяться не пришлось… Я–то уйду, а вот ты сама ко мне не пришла бы… Все вы умны на один час…
— Что за шум, а драки нет!
Никто и не заметил, как на пороге кухни появилась Анна Никитична. Веселая, улыбающаяся, она окинула всех быстрым, приветливым взглядом и сразу забрала все в свои руки.
— Дядя Пекка здесь? Тогда все понятно… Новое обострение междуродственной обстановки. О, Елена Сергеевна? Вот не ожидала встретить здесь… Здравствуй, Славик, здравствуй, дорогой мой! — Она подхватила мальчика под мышки, подняла в воздух и поцеловала. По той легкости, с какой она это проделала, чувствовалось, что она так поступает не впервые. — Ну, Ольга, а я к тебе в гости. Еле дождалась, когда вернешься. Что это вы все словно по камню проглотили? Дядя Пекка! Ты что? Щенками здесь торгуешь, что ли?
— Торгуем, да не сторгуемся, — явно обрадованная приходом Рябовой, усмехнулась Оля. — Не продает нам дед щенка. Наших денег жалеет. Лучше, говорит, в город свезу, у чужих сотню получу, чем родному внуку удовольствие сделаю.
— Баловство, а не удовольствие, — буркнул старик, направляясь к двери.
— Постой, дядя Пекка… Куда же ты? Покажи щенка, дай–ка его сюда… Ой, какой ты ушастенький, да умненький, да потешный… Конечно, такие только для забавы и годятся.
— Я и говорю… Зачем он им? Это — породистый, чистокровка. Пес в хозяйстве совсем негодный… Городским другое дело, которые там на дичь охотиться любят ради удовольствия. А так — только деньгам перевод.
— Ну и сколько же такой стоит?
— За полторы сотни с руками оторвут.
— Выгодное дельце ты придумал, дядя Пекка, — засмеялась Рябова. — Выгодней, выходит, чем поросят разводить… А фининспектора ты не боишься? Постой, постой… Мне уступишь такого?
— Да зачем он вам, Анна Никитична. Одна возня с ним.
— Тетя Аня, он сам уток ловить будет, когда вырастет, — с надеждой произнес Славик.
— Ну вот, а ты говоришь — зачем, — покачала головой Рябова. — Сколько тебе за него дать? Вот тебе сотня. Остальные пятьдесят за мной. По рукам? Ну и хорошо… Славик, иди сюда! Вот тебе щенок, расти его. А ты, дядя Пекка, не жалей наших денег… Не в деньгах счастье. Правда, Елена Сергеевна?
Лена радостно закивала головой. «Почему же это я не догадалась так сделать? Так быстро и хорошо. У меня тоже в сумочке есть немного денег», — тут же огорченно подумала она.
— Дядя Пекка, ты уходишь? — спросила Рябова, хотя тот неподвижно стоял посреди комнаты и ничем не показал, что собирается уходить. — Ну, до свидания, спасибо за щенка… А я, кажется, к ужину попала. Вот хорошо… Давно я не ужинала на дармовщинку…
Почувствовав себя лишней, Лена попрощалась и вслед за дядей Пеккой не без сожаления вышла. Ей очень хотелось, чтобы Рябова или Оля пригласили ее остаться — попросту посидеть, поговорить, познакомиться поближе. Ей сейчас так не хватало этого.
— Елена Сергеевна, вы знаете, что сегодня в клубе кино? «Сельский врач», с Тамарой Макаровой… — отворив окно, крикнула Рябова.
— Спасибо, Анна Никитична. Мы уже смотрели эту картину.
— Мы тоже видели… Но что делать, коль других нет. Будем смотреть еще раз.
— Спасибо. Может быть, мы и придем.
Старик успел уже выйти на шоссе. Когда Лена поравнялась с ним, он пошел рядом и, как бы оправдываясь, проговорил:
— Директорше, что ей! Она может сорить деньгами. Одна живет, а больше тыщи получает… Ей чего — ни семьи, ни заботы.
— А у вас большая семья?
— Я, милая, шестерых на ноги поднял… Выучил, вырастил, к делу пристроил… Двое в войну погибли, а трое в люди вышли… В городе живут. Вот только младшая — не видать ей счастья в жизни.
— Почему вы так считаете?
— Себя больно высоко ставит… Можно ли так–то? С войны с дитем вернулась. Ну, казалось бы, живи как все люди. Найди мужика себе подходящего и живи, раз такая промашка вышла. Где тут! Нам нужен такой–сякой, особенный. Сколькие сватались — ей не по носу… скоро люди смеяться будут. Э–э, да что там говорить! — Старик махнул рукой и больше не произнес ни слова. Когда вышли из поселка, он даже не взглянул на Лену, свернул к своему дому, неподалеку за школой.
Глава восьмая
1
Хотя Анна Никитична и собиралась поужинать на дармовщинку, но, как только ушли дядя Пекка и Лена, сесть за стол она отказалась.
— Что ты, что ты! Это я нарочно, чтоб позлить дядю Пекку. Вы ужинайте, а я вот гнездышко для Барсика оборудую… Славик, где мы его устроим? У плиты? Ну что ж — и тепло, и в сторонке…
Рябова была на шесть лет старше подруги. До войны один год преподавала историю в классе, где училась Ольга. Но время как бы стерло разницу в годах, и когда Ольга с сыном вернулась в Войттозеро, они постепенно сблизились. Вышло так, что единственным человеком, которому Ольга откровенно рассказала все случившееся с ней во время войны, оказалась Анна Никитична, и это определило их отношения.
Рябова была одинока. Часто она шутила, что сама судьба против ее замужества: «До войны было некогда, после войны не за кого…» Оля знала, что Анна Никитична немножко кокетничает. Стоит ей лишь поманить пальцем, и Костя Панкрашов, по мнению многих, самый завидный в Войттозере жених, сломя голову прибежит к ней. Вот уж два года он весь сияет, если Рябова хоть чем–либо покажет к нему внимание. Это знали все в поселке, и единственным человеком, который как бы не замечал этого, была сама Анна Никитична. Оля много раз заводила с ней разговор, но Рябова лишь весело хохотала в ответ:
— Панкрашов?! Костя–то? Да кому он нужен, бабский угодник этакий? Тоже мне жених!
Годы шли. Рябовой уже стукнуло тридцать пять. Оля с беспокойством и сожалением примечала, как в ее красивых рыжевато–золотистых волосах появляются сизые ниточки преждевременной седины. Не видела этого лишь сама Анна Никитична. И далее больше того — ее требования к возможному спутнику жизни не только не уменьшились, но даже возросли.
С годами Анна Никитична все крепче привязывалась к семье Рантуевых. Славик стал для нее настоящим кумиром. В раннем детстве он много болел, и Рябова наравне с Ольгой делила бессонные ночи у его постели. В ее отношении к Славику было что–то непонятное. Прекрасный педагог, умный, требовательный руководитель в школе, она теряла эти качества, как только дело касалось Славика. Мальчику все разрешалось, любое его желание моментально исполнялось, стоило лишь услышать об этом тете Ане.
Временами Оля даже ревновала подругу к сыну. Ей казалось, что и сама она нужна Рябовой лишь постольку, поскольку она мать Славика. Нет, она не была против такой привязанности. Но разве Славик может пожаловаться на недостаток материнской ласки? А если он растет избалованным и своенравным, то прежде всего виновато безудержное внимание к нему Анны Никитичны. У ребенка не может быть двух матерей, а он уже начинал вроде бы привыкать к этому.
Как–то Оля высказала свои опасения. Анна Никитична не придала им ровно никакого значения:
— Ты преувеличиваешь. Не мешает ребенку в семье любовь и отца и матери!
— Отец, вероятно, совсем другое. У нас с тобой две матери получаются.
— Ну, хорошо, — засмеялась Рябова. — Давай так и поделимся. Ты будешь матерью, а я отцом.
— Нет уж. Отец скорее из меня получится, чем из тебя, — невесело поддержала шутку Оля.
И все осталось по–прежнему.
Вот и сегодня. Оля была не очень довольна тем, как повернулось дело с покупкой щенка. В конце концов разве в щенке дело? Щенок лишь маленькое проявление их принципиальных расхождений с отцом, которого в послевоенные годы словно подменили. И главное, деньги–то ему совсем не нужны — дети выросли, обзавелись семьями, даже изредка сами помогают отцу. Однако отец ведет себя так, что людей стыдно. Оля давно уже заняла к старику непримиримую позицию. Из–за этого и ушла от него. И вот результат… Анна Никитична все смазала. Она хорошо знает отношения Оли с отцом и поддерживает подругу. Но как только речь зашла о Славике, тут уже все позабыто. И деньги нашлись, и примирительный тон.
Как и следовало ожидать, щенок не дал мальчику хорошо поесть. Едва дождавшись конца ужина, Славик подхватил Барсика, сунул его в зимнюю ушанку и заторопился на улицу.
Анна Никитична подчеркнуто строго выговорила ему за то, что он плохо поел, заставила надеть куртку, но проводила его таким довольным взглядом, что Ольга рассмеялась:
— Если бы знали твои ученики, какой ты можешь быть доброй, то трудно тебе пришлось бы с дисциплиной!
— Ничего. Пойдет в школу, и он познает мою строгость, — пообещала Рябова. — Ну, закончила? Давай поболтаем, а? До кино еще больше часа.
— Давай.
На их языке «поболтать» — это обеим взобраться с ногами на диван и говорить о чем–либо самом сокровенном. А если все переговорено, то и просто помолчать наедине, изредка обмениваясь случайными фразами.
— Костюм сними, помнешь, — напомнила Рябова. Оля словно впервые заметила на себе праздничный костюм. Она даже покраснела и принялась поспешно переодеваться.
«Вот глупая! Вырядилась, удивить хотела!» — выругала она себя, вспомнив свою встречу с Леной. Молодая, со вкусом одетая жена Виктора неожиданно вызвала в ней ревнивое желание показать, что и они здесь не лыком шиты, что и у них есть что надеть. Теперь она видит, что сделала это зря. Лена оказалась безобидной и милой девчонкой, совсем еще наивной и доверчивой.
Переодевшись в голубое, чуть поблекшее летнее платье, которое она сшила два года назад в Петрозаводске, когда училась на курсах мастеров лесозаготовок, Оля снова почувствовала себя легко и привычно. Дорогой и красивый серый костюм действительно тяготил ее. Она долго мечтала о таком, копила деньги, подбирала материал, а когда сшила, то не ощутила никакой радости. Приятно наряжаться, если хочешь кому–то понравиться.
— Ну как, видела его? — спросила Рябова, когда
Ольга устроилась на диване, отвалившись в другую сторону.
Подруга сделала вид, что не понимает:
— Кого его?
— Ну–ну, не хитри… Сама знаешь…
— Видела… Целый день пряталась, ну, думала, сегодня пронесло, а вечером на бирже встретились.
— Ну и как же у вас? Расскажи! — Рябова подвинулась поближе. Оля понимала, что Анной Никитичной руководит сейчас не праздное любопытство, но рассказывать вдруг расхотелось.
Вчера поздно вечером они долго говорили об этом, пытаясь найти самую разумную линию в отношении Ольги к новому техноруку… Анна Никитична была непреклонна: «Держись гордо! Покажи ему свое презрение… Таких надо учить!» Вчера Ольга не возражала. Известие, что Курганов приезжает в Войттозеро, вызвало в ней сложные чувства. Сглаженная годами, потерявшая свою остроту обида заговорила вновь. Действительно, зачем он приехал сюда? Да еще не один, а с женой?.. У Анны Никитичны был свой взгляд на это: «Он или подлец, который не видит ничего предосудительного в ваших прошлых отношениях, или мямля, слюнтяй, рассчитывающий хоть как–то успокоить свою совесть».
Ольга слушала ее, кивала головой, а сама втайне надеялась на что–то третье. Ей не хотелось верить, что Виктор, ее честный, откровенный и скромный Витька, которого она так хорошо знала, мог оказаться таким. С какой радостью она стала бы доказывать Анне Никитичне обратное, но факты были против нее. Злость, горечь, обида заглушали все…
Так было вчера. А сегодня все оказалось и проще и сложнее.
Оля вяло, как бы нехотя рассказала о встрече с Кургановым, об их разговоре по пути в поселок.
— Слюнтяй, — констатировала Анна Никитична. — Типичный слюнтяй… Даже странно. Внешне вроде производит хорошее впечатление. Я по пути специально заглянула в контору посмотреть на него. Он был там, о чем–то спорил с Орлиевым. Спорил вроде по–деловому, мне даже понравилось… А вот возьми же ты, — такую штуку с тобой упорол, а?
Анна Никитична вгорячах любила употреблять подчеркнуто грубоватые обороты речи.
— Ты напрасно так считаешь, — возразила Оля. — Курганов не такой уж и плохой…
— Это еще что такое? — Рябова даже приподнялась от удивления. — Уж не думаешь ли ты его оправдывать?
— Нет, не думаю… да и незачем.
— Так чего ж ты скатываешься на позиции всепрощения? Экая непротивленка злу насилием нашлась!
— Слушай. А ты не допускаешь мысли, что он ничего не знал?
— Как это не знал? Чего не знал?
— Не знал, что у меня есть сын.
Анна Никитична от негодования даже фыркнула. С грохотом сунув ноги в стоявшие у дивана туфли, она поднялась и широко, по–мужски, зашагала по комнате.
— Не знал?! — передразнила она Ольгу. — Как это не знал? Но, черт возьми, знал же он о том, что клялся тебе в любви? Ну если он этого не помнит, то… Знал же он, что… Прости, но мне так и хочется сказать грубость… Хорошо, хорошо, не буду! — Рябова сделала успокаивающий жест, хотя Оля ничем не выразила своего недовольства. — Неужели он и этого не знал? Он забыл все! Или хочет забыть! А так поступают подлецы!
Ольга слушала разгневанную подругу, и, странное дело, вчерашние чувства, так сильно бушевавшие в ней целые сутки, не приходили. Даже наоборот. Подчеркнуто грубые слова Анны Никитичны почему–то скорее оправдывали Виктора, чем обвиняли его. Она как бы наяву увидела себя произносящей эти слова и сама устыдилась их. «Боже мой! Ведь все тогда было не так, совсем не так… Разве в этом дело?» — думала Ольга, радуясь, что в разговоре с Виктором она все–таки сдержалась.
— Аня, знаешь, о чем я подумала? — с радостью и чуть грустной улыбкой вспомнила Ольга. — Вот ты говоришь — клялся… А мы ведь никогда не говорили о любви. Не говорили, понимаешь… Сначала, наверное, стыдились этого слова, а потом и говорить было незачем… Мы так редко могли быть вдвоем… И всегда где–то неподалеку обязательно был Пашка. Он всегда чувствовал, когда мы вдвоем, и обязательно громко пел, чтобы мы знали, что он идет…
Это признание произвело на Анну Никитичну неожиданное воздействие. Она резко остановилась посреди комнаты, долго с ужасом смотрела на просветленное лицо подруги,
— Ольга! — металлически ровным и бесстрастным тоном произнесла она. — Ты все еще любишь его!
— Что ты, — испугалась та. — Я просто вспоминала…
— Ольга, не отказывайся. Ты любишь его. Теперь я все понимаю.
— Ты ошибаешься. — Оля взяла себя в руки и улыбнулась горько, насмешливо. — Я люблю?! Смешно… Разве можно после всего, что было, любить! Нет, Аня, тысяча раз нет.
— Не спорь! — недовольно приказала Рябова, опускаясь на диван рядом с подругой.
Некоторое время обе молчали.
— Пора собираться. Мы можем опоздать в кино, — напомнила Оля, выглядывая в открытое окно на улицу, откуда доносился радостный голос Славика, игравшего со щенком.
Рябова словно не слышала ее. Хмуро и сосредоточенно смотрела в какую–то точку на полу до тех пор, пока Оля не поднялась и не начала собираться.
— Ольга, — сказала она сурово и поучительно. — Я прошу тебя об одном. Не унижай себя. Держись гордо, чтоб он и подумать не мог о твоем чувстве.
— Что ты выдумываешь? Вбила себе в голову чепуху какую–то!
— Вдовья доля нелегкая, — не слушая ее, продолжала Анна Никитична. — Ты девять лет несла ее. Я восторгалась тобой. С честью несла, с достоинством.
— Ты так торжественно говоришь! — засмеялась Ольга.
— Пойми, он не стоит тебя… Я знаю, что это, может быть, пустые для тебя слова, но, если бы со мной произошло подобное, я бы вырвала свое сердце. Да, да, не смейся! Так оно и было бы.
— Я начинаю тебя бояться, — пошутила Ольга, чувствуя, что и опять ее слова Анна Никитична не примет во внимание.
— Учти, эта девочка любит его, вероятно, так же, как любила когда–то ты... Может быть, у тебя больше прав, но твое счастье с ним будет мнимым.
— Неужели ты считаешь меня глупой? Твои пророчества начинают надоедать!
— Ты сама не замечаешь, что делаешь! Ну зачем же ты опять в новый костюм наряжаешься? Раньше и в платье превосходно в кино ходила, — безжалостно упрекнула ее Рябова. — Не обижайся. Я прежде всего о тебе думаю. Постарайся быть прежней, ни словом, ни взглядом не покажи, что любишь его.
— Хорошо, хорошо… Я буду гордой, буду ходить, задрав голову, и ни разу не посмотрю на него. Если и посмотрю, то презрительным взглядом… Я буду испепелять его взглядом!
Чем серьезней и тревожней становилась Анна Никитична, тем веселей и беззаботней чувствовала себя Оля. Она даже и сама не понимала, почему ей стало так легко и радостно. Не только же из духа противоречия подруге? Есть же, наверное, и другая причина? Она боялась признаться, но чувствовала, что есть, живет в ее сердце, растекается по всему телу ощущение чего–то радостного, волнующего, давно неиспытываемого. И каждое слово Анны Никитичны лишь разжигает его, заставляет верить, что это не выдумка и не обман.
— Брось кривляться! Я серьезно говорю… Не нужно ни унижений, ни показной гордости. Важно, чтобы ом не заметил ни того, ни другого. О Славике чтобы ни–ни… Учти, Ольга, если ты поддашься, ты мне больше не подруга. На всю жизнь не прощу!.. Зови Славика, надо парня спать укладывать, а то и верно опоздаем в кино.
2
Лена прямо с порога радостно воскликнула:
— Витя! Как хорошо, что ты уже дома! Сегодня в клубе «Сельский врач»…
Она не закончила. Сначала посмотрела на хмурое, как бы постаревшее лицо мужа, сидевшего над остывшим ужином, потом перевела взгляд на отвернувшуюся к окошку при ее входе тетю Фросю и вполголоса спросила:
— Что–нибудь случилось, да?
Виктор тяжело вздохнул, поднялся из–за стола.
— Да нет… Ничего.
Тетя Фрося торопливо вытерла концом платка глаза и засуетилась:
— Виктор Алексеевич, ты ничего не поел. Куда ж ты? Это все я, глупая… Садись, садись. Вот и жена пришла, вместе поужинаете.
Она почти силком усадила Виктора за стол, налила в рукомойник воды и с полотенцем наготове ждала, пока Лена вымоет руки.
— Про сынка моего, Павлушку, мы тут вспоминали… — Голос тети Фроси дрогнул и сорвался на глухой клекот. Закрыв лицо полотенцем, старушка отвернулась к стене. — Вы уж простите меня, что тоску вам нагоняю, — заговорила она через несколько секунд, вслед за Леной пристраиваясь за столом. — Ешьте, ешьте, сиротушки мои… Так, говоришь, кино ноне интересное?! Вот и сходите, поглядите, а потом и мне расскажете.
— Устал я что–то, — Виктор вопросительно посмотрел на Лену. — Да и вставать завтра рано.
— Нет уж, Виктор Алексеевич, — не соглашалась тетя Фрося. — Ты уж доставь жене удовольствие, сходи с ней… В ваши годы не к чему дома скучать.
— Тетя Фрося, пойдемте и вы с нами, — обрадованно предложила Лена. — Втроем это так хорошо будет. Вы любите кино?
— Кто ж его не любит?.. Только я за свой век раз десять — не больше — и бывала. До войны, помню, оно к нам редко приезжало. Народу набьется, чуть ли не на голове один у другого. Тогда все ходили — и стар и млад. Целыми семьями. Помню, «Чапаева» раза три показывали, и все одно — сидят люди, смотрят. Павлушка мой так уж любил, так любил кино это самое… А мне больше про Мустафу — парнишка такой — нравилось. Я так расплачусь, бывало, что и до дому слез не уйму.
— Вот и пойдемте с нами, тетя Фрося, — упрашивала Лена.
— Нет уж, спасибо тебе на приглашении, а свое, видать, я отсмотрела… А вы кушайте, чаю пейте, да и ступайте. На людей посмотрите, себя покажете… У нас у клуба, знаете, сколько народу собирается? Ярмарка — да и только! Прямо на улице и танцуют. Музыка на весь поселок разливается. Вот и сейчас, поди, слышно? Чего вам дома сидеть? Для этого в старости время хватит.
Виктор собирался в кино без желания. Лишь по требованию Лены он надел свой выходной черный костюм, повязал галстук и почистил полуботинки. Тетя Фрося, с удовольствием наблюдавшая за сборами, провожала постояльцев словно на праздник. Она даже вышла на крыльцо и, скрестив на груди руки, счастливо и чуть грустно смотрела, как молодая пара спустилась по ступенькам и зашагала вдоль озера, навстречу огням и музыке.
— Вам где постелить? — крикнула тетя Фрося, когда Лена на повороте тропы обернулась и помахала ей рукой, — В боковушке я все прибрала,
Лена жестом показала, что спать они будут на сеновале, и в знак благодарности послала тете Фросе воздушный поцелуй.
— Хорошо, хорошо… Молоко на столе будет, а хлеб сама знаешь где.
Перед войной ее Павлушка, отправляясь в кино или на гулянье, всегда просил оставить на столе горшок с молоком и краюху хлеба.
Тем временем Виктор и Лена уже поравнялись с последним домом деревни.
Справа, над озером, как и утром, уже висела тонкая пелена тумана. Солнце только что зашло, и окна домов поселка горели ярко–багровыми отблесками.
— Правда, она очень чудесная? — Лена, поеживаясь от прохлады, поплотнее прижималась к мужу.
— Кто, тетя Фрося? — рассеянно спросил Виктор. — Да, конечно…
— Я так рада, что мы поселились у нее. Ты рассказал ей о Павле, да? То же самое, что рассказывал, помнишь, на вечере в академии?
— Да.
— Ты тогда так замечательно говорил! Мне хотелось даже заплакать. И не только мне. Я видела, как один старик…
— Лена! — Виктор поймал руку жены, крепко сжал, потом, словно вспомнив что–то, отпустил ее. — Помнишь, я говорил тебе, что в отряде я любил одну девушку… Я хочу, чтобы ты знала об этом…
— Конечно, помню. Ты хочешь сказать, что эта девушка Ольга Петровна Рантуева, да? Ну, вот видишь. Я сразу догадалась. Она такая необыкновенная, что, наверное, все в отряде были влюблены в нее. Ведь правда, да?
— Откуда ты знаешь ее?
— Я сегодня с ней познакомилась… У нее чудесный мальчик Славка, Как несчастливо сложилась у нее судьба!
— Она рассказывала тебе? — встревоженно спросил Виктор.
— Да. Мы так хорошо с ней поговорили… Мне так хочется подружиться с ней…
— Лена, я любил ее по–настоящему… — Виктор долго не мог решиться произнести это, а когда решился, то произнес бесстрастным, словно чужим голосом. — Я хочу, чтоб ты знала…
И все же Лена, видимо, не поняла его. Она преградила мужу путь, сделала сердитое лицо и шутливо–грозно подступила к нему:
— Не хочешь ли ты сказать, что любил ее больше, чем меня, а? Как ты смеешь говорить, что любил кого–то больше своей родной жены?
— Леночка, милая…
Они находились на виду и у деревни, и у поселка, но Виктор, вдруг ощутив, как с плеч свалилась тяжесть, горячо и нежно обнял жену, зарылся лицом в ее пышных и ласковых волосах. Несколько секунд они стояли, слушая горячее взволнованное дыхание друг друга. Потом Виктор обхватил Лену за плечи, и они медленно пошли дальше. Он уже готов был рассказать ей все–все, но Лена заговорила первая:
— Ты знаешь, я вот не верю, что можно дважды любить по–настоящему… Я ведь тоже любила… В шестом классе. Любила Борьку Звягина… Он был в школе самый умный, самый красивый. Скрипач–вундеркинд. Он уже тогда по радио несколько раз выступал… У нас все девчонки были влюблены в него, а я больше всех… Он, конечно, на меня и внимания не обращал… Всю блокаду о нем думала. Он эвакуировался. Помню, лежишь на диване закутанная, голодная, пошевелиться даже трудно, а как вспомнишь, что есть на свете Борька Звягин, кажется, на еще худшее готова, только бы конца войны дождаться… Мне все время рисовалось, как мы с Борькой встретимся и он обязательно меня полюбит. Так, ни за что, возьмет и полюбит… Может, за то, что я в блокаду только о нем и думала… Ты «Дикую собаку Динго» читал?
— Читал.
— А нам в школе запрещали ее читать, хотя это очень и очень правдивая книга. Боялись, что мы повлюбляемся друг в друга.
— Ну, а что же с Борькой?
— С Борькой? — удивилась Лена. — Понимаешь, не было на свете никакого Борьки… Борька — это ты… Вот встретила тебя и поняла, что никакого Борьки не было. Есть известный скрипач–концертмейстер, который за три года консерваторию закончил, и все… Помнишь, я тебя однажды на концерт затащила в филармонию. Мравинский дирижировал. Первым слева от дирижера сидел молодой скрипач. Черный и важный. Это и был Борька… Тогда я впервые после войны его увидела. Прочитала в афише — «Концертмейстер Звягин» — и решила сходить… Помню, сидела и смеялась. Ты еще меня несколько раз одергивал. Это я наш шестой класс вспомнила. Вспомню — смешно. Смешно и радостно. Смотрю на Борьку, а тот прошлый Борька — вон он, рядом со мной сидит. И нисколько не похож на того черно–белого пингвина, которому знаменитый Мравинский руку пожимал.
Это неожиданное признание обидело Виктора.
— Выходит, ты не меня любишь, а эту самую свою мечту во мне?
— Чем же это плохо? — удивилась Лена. — Это ведь хорошо, когда любишь человека, на котором сошлись твои мечты! Разве можно любить по–другому?
— Не знаю… Мне кажется, что все–таки надо любить человека, а не свою мечту в нем… Вдруг окажется, что тот человек в чем–то не соответствует твоей мечте? Ведь может же случиться такое? Что тогда? Обман, разочарование, разрыв?
— Ты рассуждаешь, как на лекции по психологии, — засмеялась Лена. — А он, этот человек, любит меня или нет?
— Допустим, любит.
— И он видит во мне свою мечту?
— Вероятно, видит… Но любит прежде всего тебя. Такой, какая ты есть…
— Если он любит и дорожит любовью, то должен тоже позаботиться, чтобы он и моя мечта о нем никогда не расходились. А как же иначе?
— Скажи, пожалуйста!… Второй год мы живем с тобой, а я и не догадывался, что в любви ты такая требовательная и эгоистичная.
— Значит, не очень–то эгоистичная, если ты не замечал этого, — торжественно отпарировала Лена.
Они посмотрели друг на друга, рассмеялись и, взявшись за руки, побежали к поселку.
3
Клуб помещался в длинном приземистом здании, стоявшем на большом пустыре, обнесенном забором из штакетника. В дальнем углу пустыря виднелись штабеля строительных бревен. Чуть в сторонке на бетонном фундаменте было уложено несколько венцов сруба, по которому можно было легко догадаться, что старый клуб уже не удовлетворяет войттозерцев, но строительство нового явно затянулось.
Киносеанс вот–вот должен начаться. Уже смолк ревевший на весь поселок динамик, установленный на коньке крыши, уже понемногу затихал битком набитый зрительный зал, а Виктор и Лена стояли перед окошком с чернильной надписью «Касса» и тщетно стучали в фанерную дверцу. Один из мальчишек, беспокойно перешептывавшийся в коридоре с приятелями, сообщил, что билеты уже кончились и заведующая в аппаратной.
— Я сейчас позову ее! — Не ожидая согласия, он метнулся к выходу.
Молоденькая розовощекая заведующая, поблескивая красивыми, слегка раскосыми темными глазами, извиняющимся тоном сообщила, что мест уже нет, но если товарищ Курганов хочет, она может поставить два стула в проходе.
— Знаете, я даже не ожидала… — говорила она, расставляя стулья. — Третий раз эту картину прислали, я брать не хотела… А народу, глядите, вон сколько… Вы уж простите, что рядом не могу посадить, проход нельзя загораживать…
— Ничего, ничего. Большое вам спасибо, — поблагодарил Виктор, смущаясь оттого, что все в зале оборачиваются, смотрят на них. — А Тихон Захарович здесь?
— Что вы! — удивилась заведующая. — Он редко ходит… Если что — не обижайтесь. Механик у нас в отпуске, картину крутить буду я…
Небольшой зал казался из–за низкого потолка длиннее и шире, чем был на самом деле. В сравнении с недавно побеленными стенами полотняный экран выглядел желтым и грязным. Но вот погас свет, вспыхнуло светлое пятно на экране, и он оказался теперь совсем не грязным и не желтым, а ярко–белоснежным. Рамка попрыгала сверху вниз, слева направо, приобрела резкость, потом громко заверещал аппарат, на экране медленно, все ускоряясь, запрыгали титры, появился звук, и картина началась. Она шла с перерывами. После каждой части загорался свет и снова повторялось все по порядку: рамка, резкость, мелькающие титры, звук. В этом была своя прелесть. Как будто каждый сидящий в зале сам активно участвовал в демонстрации фильма. В перерывах люди разговаривали, обменивались мнениями, из одного конца зала в другой перебрасывались репликами. А как только вспыхивал экран, все замирало. Звук был неважный, но зрители с напряженным вниманием следили за судьбой врача, приехавшего в далекую сельскую больницу.
В перерыве после второй части Виктор заметил Олю. Она сидела в середине зала по соседству с полной женщиной в зеленом жакете, рядом с которой возвышалась голова Панкрашова. Оля ни разу не обернулась, но Виктору почему–то показалось, что она знает о его присутствии. Даже больше того, он был почти уверен, что Оля и ее соседка разговаривают о нем. Не случайно соседка несколько раз словно скучающе оглядывала зал.
«О чем они говорят?» — с тревогой раздумывал Виктор, не спуская глаз с Оли. Сидевшая впереди него Лена успела познакомиться с пожилой парой, видимо, супругами, и уже рассказывала им о фильме «Сельская учительница», сценарий которого написан тем же автором.
Супруги ее слушали с подчеркнутым вниманием, а женщина даже попыталась припомнить.
— Была, была такая картина про школу–то… Помнится, и артистка там играла эта же самая… До войны смотрела. Тогда она помоложе выглядела… Про серый камень все пела….
— Вы, наверно, спутали, — прервала ее Лена. — До войны был фильм «Учитель». Там действительно играли Макарова и Борис Чирков. Тоже хороший фильм… А «Сельская учительница» уже после войны вышла.
— Верно, верно, — согласилась женщина, и муж ее довольно закивал головой.
«О чем они разговаривают?» — рассеянно слушая оживленную речь Лены, думал Виктор, уже нисколько не сомневаясь, что Оля и ее соседка говорят о нем. И вдруг решился: «Это надо сделать сегодня. Сейчас. Немедленно».
В перерыве после третьей части Виктор неожиданно тронул за плечо жену:
— Леночка! Я должен уйти! У меня очень важное дело к Тихону Захаровичу… Если не успею к концу сеанса, ты не заблудишься, дойдешь до дому?
— Не беспокойтесь, мы проводим ее, правда, Шура? — Мужчина посмотрел на свою жену и, когда та кивнула в ответ, дружески улыбнулся Виктору: — Мы очень рады, что познакомились с вашей женой!
— Спасибо.
Орлиев был дома. Он только что пришел и, сидя на кровати, снимал тяжелые, надоевшие за день сапоги.
— Тихон Захарович! — чуть растерявшись под его удивленным взглядом, сказал Виктор. — Я хочу рассказать вам одну историю… Я должен был сделать это раньше!
Глава девятая
Второй рассказ о войне
Это случилось в марте 1944 года.
Орлиев принял рискованное решение — обойти озеро и ворваться в гарнизон с тыла, через узкую полоску между шоссе и озером. Силы были явно неравными — сотня партизан против двух рот белофиннов. Успех могла принести лишь внезапность. Впереди уже темнели дома Войттозера, минеры уже поползли к проволочным заграждениям, уже Орлиев отдал команду разворачиваться к атаке, когда от деревни с шипением взметнулась и словно повисла в небе зеленоватая ракета. И сразу ударили пулеметы.
Отряд начал отходить. Путь был один, по старой лыжне, по которой еще совсем недавно шли к гарнизону. Справа было шоссе, слева — озеро. Вдоль побережья тянулось минное поле. Все понимали, что отряд постигла страшная неудача и единственное спасение — уйти до рассвета за озеро. Опасность сближает людей — все старались держаться кучнее, а гремевшие позади пулеметные и автоматные очереди подстегивали и заставляли торопиться.
Медленный, начавшийся по команде отход грозил превратиться в бегство.
— Стой! Минеры, ко мне!
Это была первая за время отхода команда, и в ней прозвучала такая властность, что все остановились.
— Минеры, ко мне! — повторил Орлиев.
— Минеры… Минеры… — вполголоса понеслось по колонне.
Команда заглохла в голове цепочки. Непрекращающиеся автоматные очереди противника показались совсем близкими.
— Минеры есть? — вновь раздался голос командира. — Петренко? Есть Петренко?
Шорох грузных шагов Орлиева и снова:
— Кобзев!
Командир шел вдоль колонны, заглядывая в лица и в темноте не узнавая бойцов.
И в том, что никто не откликался на его вызов, было что–то угнетающее. Все это слышалось как бы сквозь невидимую стену, отделявшую Виктора от остальных. Мучительно болело простреленное плечо, рука немела, каждый удар пульса отдавался в висках.
«Почему они молчат? — морщась от боли, думал Виктор, чувствуя, что следующим выкликнут его. — Почему они молчат? Я ведь не могу. Я ранен… Почему они молчат?»
— Демикин…
Командир был уже совсем рядом.
— Убит, — тихо ответил кто–то. И Виктор все понял. С какой–то мучительной тяжестью, как будто это было давным–давно, он вспомнил, что все минеры, как и он, были посланы делать проход в проволочных заграждениях, и лишь потом догадался, почему никто не отзывается на выклик командира.
Словно очнувшись, он медленно, еле справляясь с лыжами, сделал несколько шагов к командиру.
— Курганов? Ты? — выкрикнул Орлиев, резко схватив его за плечо.
— Я… — морщась от пронзившей его боли, прошептал Виктор.
— Почему ты не отзываешься? Ты слышал команду? — отчетливо и жестко спросил Орлиев. Десятки темных, обрамленных маскхалатами лиц смотрели в их сторону.
— Я ранен…
Орлиев на секунду растерялся. Потом кинул быстрый взгляд на окровавленный маскхалат и строго спросил:
— Почему не перевязан? Где сестра? Рантуева, ты куда смотришь? — Он выждал, пока Оля примется за перевязку, вытер рукавицей потное лицо и повернулся к отряду:
— Кто сможет сделать проход? Есть желающие?
Некоторое время все молчали, затем сзади раздался неторопливый голос:
— Есть. Я могу попробовать.
Виктор узнал Кочетыгова.
— Мне нужно не пробовать, а сделать. Сумеешь? — спросил Орлиев.
— Сделаю, — ответил Кочетыгов, приближаясь к командиру.
«Ты же совсем не умеешь, я знаю, — мысленно возразил ему Виктор. — Ты просто хочешь быть лучше других…»
— Хватит. Завязывай потуже, — приказал он Оле, наматывавшей ему на плечо бинт. Не дождавшись конца перевязки, Виктор тоже придвинулся к командиру.
— Я сделаю проход.
Орлиев недоверчиво посмотрел на него, подумал и согласился.
— Хорошо, Курганов. Пойдете вдвоем.
Он приказал занять круговую оборону, закрепиться и держать бой до последнего.
Казалось бы, в положении отряда ничто не изменилось, лишь смертельная опасность на несколько минут стала ближе, но все почувствовали себя привычнее и потому увереннее. Оборону партизаны не любили, им редко приходилось прибегать к ней, и все же она лучше бесцельного и поспешного отступления. Склонившись и обняв обоих за плечи, Орлиев приказал Кочетыгову и Курганову:
— Пойдете вдвоем. Сделайте проход. Выйдете на озеро — дайте сигнал. А дальше?.. Дальше — другое задание. На середине — остров. Ты, Кочетыгов, должен его хорошо знать. В прошлом году там были дзоты с крупнокалиберными пулеметами. У нас один путь — мимо этого острова. И один путь для спасения — вызвать огонь на южную сторону, чтобы отряд смог проскочить мимо острова с севера. Понятно? Возможно, нынче в дзотах никого нет. Тогда мы прямо через остров. Короче, вам надо идти прямо на остров с юга. Мы будем держаться здесь, пока вы сделаете проход. Все! Есть вопросы?
— Нет, — ответил Кочетыгов и первым тронулся к озеру.
Минное поле оказалось неплотным, но левая рука Виктора плохо слушалась, и он подолгу возился с каждой из снятых мин. Кочетыгов светил фонариком, помогал и отмечал проход. До озера оставалось всего полтора десятка метров, когда наверху начался бой. Работать стало легче, уже не нужно было светить карманным фонариком: то и дело вспыхивали ракеты, рвались гранаты, трещали автоматы, гремели выстрелы из карабинов. Наверху, озаренные вспышками, отчетливо виднелись низкие слоистые тучи, и отсветы от них неровными бликами ложились на голубоватый снег. Наконец они вышли на озеро. Кочетыгов дал условный сигнал и, чуть подождав, помчался вдоль берега. Виктор, упираясь одной палкой, едва поспевал за ним. Так они бежали долго. Потом Кочетыгов резко свернул к острову и пошел медленнее.
Бой позади продолжался. По характеру перестрелки можно было понять, что белофинны не стремятся сейчас же, в темноте, разгромить партизан. Через два часа рассвет, и на этот раз время работало на них.
А впереди все отчетливее вырисовывался черный силуэт острова. Он уже возвышался над темной каймой леса на противоположном берегу и казался одним огромным, затаившимся дзотом.
— Далеко еще, Пашка? — задыхаясь, спросил Виктор.
Кочетыгов оглянулся:
— Половину прошли.
Бой позади утихал. Редкие выстрелы стали какими–то булькающими, словно стреляли под водой, а отсветы уже не доходили сюда. С каждым шагом все слышнее становилось шуршание лыж. Почувствовав, как повеяло в лицо холодом, Виктор подумал: «Туман поднимается. Это хорошо. В тумане отряду легче проскочить… Только бы не отморозить руку». Ее, онемевшую, он уже давно не чувствовал. Боль как будто затихла и отдавалась уже не в плечо, а в шею.
— Стой! Передохнем минутку! — присел на снег Кочетыгов. Виктор опустился на другую сторону лыжни, И сразу тишина окружила их. Было так тихо, что казалось, вокруг, на многие километры, нет ни души.
— Вырвались наши, как думаешь? — спросил Виктор.
— А чего ж не вырваться? — беззаботно усмехнулся Павел. — Первый раз, что ли?
— Тихо уж очень… Пойдем, а?
— Погоди! — Павел хотел что–то сказать, тяжело и часто задышал, но, так и не решившись, поднялся: — Пошли!
Остров приближался. До слез напрягая зрение, Виктор силился хоть что–либо рассмотреть в его неясных очертаниях, но легкий морозный туман скрадывал их, превращал остров в огромную бесформенную громаду, медленно покачивающуюся впереди.
Виктор уже не верил, что на острове есть белофинны: «В прошлом году были, а нынче нет. Ведь бывает же так… Зачем им держать здесь гарнизон?»
Павел все чаще останавливался. Оглянется, постоит и, ни слова не говоря, трогается дальше.
Наконец решившись, Павел подождал, пока Виктор вплотную приблизится к нему.
— Слушай, Витька… У тебя с Олей… это серьезно?
Виктор не сразу понял, о чем его спрашивают, и молчал.
— Серьезно, спрашиваю, или как? — как бы устыдившись мягкости первого вопроса, сердито повторил Кочетыгов.
— Как это «как»?
— А ну вас всех… — зло махнул рукой Павел и заскользил к острову.
Несколько минут шли молча. Потом Павел обернулся и сказал:
— До войны мы сюда рыбачить приезжали. Тут луда.
— Хорошо клевало? — с готовностью поддержал разговор Витька, но Павел ничего не ответил.
«За Олю злится. Нашел время! — подумал Виктор. — И всегда он такой. Только хочешь стать к нему поближе, сразу шипы выпускает… А ведь ты, Павел, хороший, я знаю. Зачем сердиться нам друг на друга, когда, может, и жить–то нам осталось минуты…»
Виктор думал об этом, а сам не верил в близкую смерть. Нет, не может он вдруг умереть, перестать жить, мыслить, дышать. Особенно сейчас, когда кругом так тихо, и на этом острове, конечно, никого нет. Если бы не боль в плече… Да, все же не везет ему — второе ранение за полтора года…
— Стоп! Ложись! — скомандовал Павел.
— Что? Заметил? — Виктор ползком придвинулся к товарищу.
— Лежи. Отсюда начинается главное. Сейчас встанем и пойдем. Рядом пойдем. Чтобы шуму побольше было. Понятно? Интересно, сразу они откроют огонь или подпустят поближе?
Виктор удивленно посмотрел на Павла,
Почти два года он знал его и ни разу не слышал ничего подобного. Кочетыгов не любил, когда даже другие рассуждали о предстоящей опасности, обрывал и высмеивал их, а тут словно подменили его.
«Ему тоже страшно», — подумал Виктор и произнес:
— Я думаю, там нет никого…
— Ты так уверен? — усмехнулся Павел.
Впереди на снегу виднелись темные пятна. Это торосы. Видно, не сразу покорилось Войттозеро суровой зиме, если обильные снегопады за многие месяцы не смогли скрыть и заровнять торосы.
Виктор вглядывался туда, и торосы вдруг оживали, начинали двигаться, перемещаться, делались похожими на цепочку залегших людей в маскхалатах. Он знал, что это не так, что это просто нагромождение льда, и все же было страшно. За торосами — остров. Если он встретит их шквалом огня, то никакой надежды на спасение не будет.
— Почему нас Тихон двоих послал, а? Как думаешь? — вдруг спросил Кочетыгов. — Умирать ведь, а двоих. Зачем?
— Вдвоем лучше, не так страшно, — не понимая, к чему клонит Павел, ответил Виктор.
— Близко, но не в цель! А знаешь почему? Вот я шел, думал–думал и догадался. Сказать?
— Скажи.
— Один струсить может, наврать, приказа не выполнить. Двое — совсем другое дело… А в общем, глупо это, погибать двоим, если и одного хватит.
Павел помолчал, глядя на темневший впереди остров, и неожиданно спросил:
— Ты веришь мне?
— Почему ты об этом спрашиваешь?
— Нет, ты скажи — веришь ты мне или нет?
— Конечно, верю… Чудной ты…
— И я тебе верю, — торопливо заговорил Кочетыгов. — Зачем нам погибать двоим! Зачем? Ведь глупо! Хватит и одного. Давай жребий, а? На равных, а?
Все происходящее Виктор принял бы за шутку, но Кочетыгов уже достал коробок и, отвернувшись в сторону, долго возился со спичками, не переставая говорить:
— Это же глупо, обоим. Хватит одного. Это даже лучше, Вызвать огонь на себя может и один…
— Павел, слушай, не надо, — растерянно попросил Виктор.
— Трусишь, да? — с насмешкой процедил сквозь зубы тот, в упор глядя на товарища. — Боишься, что тебе одному придется идти умирать, да? Из зависти к моему счастью трусишь? Не бойся, счастье у нас одинаковое. Мне в бою везет, тебе в любви. Ну что — потянешь или нет? Скорей, давай. Длинная — остаешься здесь, короткая — идешь к острову. — Движения Павла были настолько лихорадочны, а голос таким необычно хриплым и язвительным, что у Виктора на мгновение мелькнула мысль, что Павел хочет обмануть его.
«Нет, он не сделает этого. Он просто хочет проверить меня. Ведь на острове наверняка никого нет, а потом в отряде смеяться будет…»
— Ну, тяни, не раздумывай! — Павел поднес к самому лицу Виктора кулак с зажатыми спичками. Две темные маленькие головки дрожали перед глазами.
— Выбирай, чего волынишь?!
И Виктор решился.
Глядя в лицо товарищу, он потрогал обе спички и выбрал левую. Он зажал свой жребий в руке и на ощупь понял, что ему досталась длинная спичка.
— Ты, Витька, счастливый! — что–то слегка насмешливое прозвучало в голосе Павла.
Да, таков был партизан Пашка Кочетыгов. Даже перед смертью он не упускал случая хоть чем–нибудь уколоть товарища.
Что было потом — Виктор запомнил как во сне.
Павел резко поднялся, повесил на шею автомат, поправил сумку с гранатами. Встал и Виктор, повторяя каждое движение товарища. Но Кочетыгов остановил его:
— Чего вскочил? Ложись!
— Я пойду…
— Ложись, говорю! — грубо, с угрозой в голосе повторил Павел. — Я приказываю, я — старший, понятно?
Он выждал, пока Виктор, неловко опираясь на одну руку, опустился на снег, и лишь после этого в его голосе послышались теплые нотки:
— Как только я пройду торосы, поднимайся и дуй вокруг острова. Наши где–то на озере. Найдешь, не иголка. Смотри, Тихону ни слова… Никому не говори… Разве что… Оле… Скажи ей, что Пашка… A–а, в общем, она сама все знает… Ей тоже ничего не говори! Ну, Витька, прощай! Не вздумай идти за мной!
Он сильно оттолкнулся палками. Лыжи так загремели по слабой корочке наста, что Виктор едва удержался, чтобы не крикнуть: «Тише ты!»
Секунда, другая, третья, и белая фигура Павла начала растворяться, сливаясь со снегом, с торосами, с легкой туманной мглой. Шуршание лыж становилось все тише, иногда оно ненадолго совсем пропадало, и жуткая тишина начинала все яснее, все громче звенеть у Виктора в ушах. Потом снова слышался шорох лыж, такой далекий и приглушенный, что казалось, кто–то совсем рядом осторожно скребет пальцем по дереву.
«Неужели до острова так далеко?» — Виктору казалось, что Павел ушел давным–давно, что прошло не меньше получаса, а ведь остров совсем рядом. Когда шуршание лыж пропадало, рождалась надежда:
«Да–да, он уже там. И там никого нет!» — хотелось вскочить, бежать туда быстро–быстро, чтоб скорее уйти от этого мучительного одиночества, чтоб скорее быть снова вместе.
Но шуршание доносилось опять, и каждый шорох отзывался царапаньем на сердце.
Надежда на благополучный исход была такой сильной, что когда остров вдруг осветился холодным светом, Виктор не поверил своим глазам. Это ракета на парашюте, или, как называли ее партизаны, «фонарь», который подолгу висит в небе, заливая все вокруг зеленоватым светом.
Все стало совсем не таким, каким казалось во тьме. Остров — совсем маленьким, берега — низкими, покрытыми черной каймой кустарника, а озеро — ровным и белым, на нем словно и не было никаких торосов.
В первую секунду яркий, все пронизывающий свет совсем не испугал Виктора. Лишь позже, когда донесся сухой хлопок выстрела, он осознал, что случилось самое страшное.
Виктор инстинктивно пригнул голову, почти упершись подбородком в жесткий, колючий наст. «Фонарь» медленно опускался. Его свет постепенно тускнел, из ярко–зеленого переходил в красноватый. Озеро снова бугрилось торосами, которые на глазах росли, темнели, отбрасывая все более длинные тени,
«Не заметили», — с облегчением подумал Виктор, на время забыв, зачем они были посланы сюда, к этому острову.
«Фонарь» уже висел на уровне леса, давая слабый, подрагивающий свет, который почти не доходил до того места, где лежал Виктор. И в этот момент там, впереди, с озера раздалась короткая и быстрая автоматная очередь. В тишине она прозвучала как–то особенно громко, даже вызывающе.
Сразу же в ответ из двух точек на острове ударили пулеметы. Все потонуло в сливающемся грохоте. Над головой засвистели пули. Виктор знал, что стреляли не по нему, но казалось, все озеро зароилось трассирующими пулями. Они невольно заставляли плотнее прижиматься, втискиваться в снег. «Фонарь» догорал. В его последних отблесках Виктор перед самым носом увидел валявшиеся на чистом ровном снегу две спички. Они лежали почти рядом, в полуметре одна от другой, с одинаковыми черненькими головками, и не было ничего особенного в том, что на снегу после привала остались две спички.
Но это был жребий.
«Фонарь» погас. И хотя еще гремели очереди, над головой еще мелькали трассирующие пули, Виктор ничего не замечал. Он лихорадочно приподнялся и схватил спички, застонав от боли в плече.
Да, так оно и есть! Глаза не обманули его. Обе спички были одинаковыми.
«Может быть, одна из них хотя бы надломлена?» — Виктор торопливо ощупал их и растерянно сел на снег: спички оказались целыми.
«Зачем он так сделал, зачем?» — в отчаянии, чуть не плача, подумал он, почувствовав себя обманутым в чем–то самом дорогом и важном.
Павел был еще жив. Сквозь раскатистые сливающиеся очереди пулеметов иногда слышался сухой треск его автомата.
Виктор вскочил и, не обращая внимания на свистевшие вокруг пули, побежал к острову. Ему еще было далеко до первых торосов, когда пулеметный огонь прекратился. Потом прогремели взрывы гранат, беспорядочные автоматные очереди, и все стихло. Сразу стало страшно. Остров загадочно застыл, торосы вновь превратились в цепочку подкрадывающихся врагов. Где–то вдалеке шуршали невидимые лыжи.
«Пашка, зачем ты так сделал?»
Не отдавая себе ясного отчета, что он делает, Виктор одной рукой вскинул к плечу автомат и выпустил в сторону острова длинную очередь. Он знал, что его пули едва долетели до берега, что он лишь понапрасну выдает себя, но все же после этой длинной и бесполезной очереди стало как–то легче.
У берега вновь взлетела ракета. Это был уже не «фонарь», а обыкновенная сигнальная ракета, которая, описав дугу, через пять секунд с шипением упала в снег.
Вновь ударили пулеметы — сначала правый, потом и левый. Теперь они били на выстрелы Виктора. Пули не только свистели вверху, но и с «цвиканьем» врезались в снег.
Виктор выждал, пока прекратится огонь, и решил уходить, огибая остров с юга. Но едва он тронулся, как пулеметы застрочили снова.
«На звук бьют. Лыжи шуршат, — догадался Виктор. — Ну и пусть! Теперь уже все равно… Так даже лучше!»
Он шел, забросив за спину автомат и опираясь здоровой рукой на лыжную палку. Как она мешала раньше и как пригодилась теперь. Наст держал, и лыжи хорошо скользили. Виктор не думал о том, что ждет его впереди. Его охватило какое–то удивительное безразличие к собственной судьбе. Он даже не обратил внимания, когда смолкли пулеметы. Несколько раз он останавливался: «А, может, и не надо идти? Все равно мне не выбраться… Может, повернуть к острову и, как Павел, остаться там?» Виктор понимал, что сейчас, когда задание выполнено, было бы бесполезным и даже глупым идти к острову, что он не сделает этого, не имеет права сделать даже потому, что этого не хотел Павел. И все же он думал об этом, так как сама мысль, что он, если бы вдруг понадобилось, готов повторить то, что сделал Кочетыгов, давала ему облегчение.
Угнетала тишина. Казалось, все вокруг или вымерло, или притаилось. Звучное шуршание лыж по насту вдруг тоже притупилось, стало каким–то одиноким и затерявшимся. Слева темным пятном маячил остров. Виктор огибал его по громадной дуге, и если бы не приближающийся противоположный берег, то трудно было бы понять — он ли идет или мимо него плывет и никак не может проплыть черный таинственный остров.
Светать еще не начинало, когда отряд, благополучно обойдя остров с севера, достиг восточного берега. Как только последний боец вошел в прибрежные кусты, все вздохнули с облегчением: теперь можно и сражаться. До базы — больше ста километров, три дня пути по заснеженному лесу, где нередко придется продираться сквозь обледенелые сучья густого хвойного подроста, таща на волокушах раненых. Но что значит лес и долгий путь в сравнении с только что пережитым!
Кому доводилось зимой блуждать ночью по лесу, тот знает, что перед самым рассветом тьма словно густеет. Резкие, привычные очертания ненадолго расплываются в слабой опускающейся сверху серой мути. Деревья как бы вонзаются в нее своими вершинами, а снег под ногами блекнет, тускнеет, становится матовым.
В такую минуту мартовского рассвета, когда отряд, оставив на берегу прикрытие, готовился уже двигаться в глубь леса, тыловое охранение по цепи донесло:
— Слышу шуршание лыж!
Сообщение не было неожиданностью, все ждали преследования. Орлиеву, который своими ушами хотел проверить донесение, не пришлось давать команду: «Тихо!» Даже раненые с тревогой вслушивались, повернув головы в сторону озера.
Там кто–то шел. Слабый, похожий на царапанье, шорох лыж приближался. Орлиев сразу определил, что преследователей немного, но в морозном тумане звуки обманчивы.
— Третий взвод и сандружинницы — взять раненых и отходить. Азимут девяносто. Первый взвод — развернуться вправо, второй — влево. Пулеметы — на фланги! — тихо скомандовал он, выдвигаясь к самому побережью.
— Тихон Захарович, разрешите мне остаться с первым взводом! — улучив момент, попросила Оля Рантуева.
— Это что за новости! — одернул ее командир. — Выполняй приказ! И без тебя хватает мороки!
Звуки с озера уже нельзя было разобрать из–за шума, который создавал уходивший в глубь леса третий взвод. Казалось, что полтора десятка людей намеренно топчутся на одном месте, ломают сучья, стучат о деревья лыжами и палками.
— Огонь только по команде! — передали по цепи приказание Орлиева.
В стороне деревни взлетела в воздух зеленая ракета. Ей ответили красной ракетой с острова, потом двумя зелеными с середины озера, примерно с того места, где с час назад партизаны огибали остров.
Теперь уже никто не сомневался, что их преследуют.
— Комиссара ко мне! — приказал Орлиев.
— Комиссара! Комиссара! — торопливо побежало по цепи. Дорохов был на левом фланге. Прошло не меньше двух–трех минут, пока он успел подойти к командиру.
— Видел? — спросил Орлиев.
— Видел.
— Надо уходить!
— А если там наши? — кивнул Дорохов в сторону озера.
— Скоро будет поздно!
— Мы ничего не знаем о судьбе нескольких бойцов. А вдруг там кто–то из них, — сказал Дорохов, кивнув на озеро.
Орлиев и сам думал об этом, но напоминание комиссара лишь разозлило его.
— Я не могу губить весь отряд, понятно? Ждем пять минут и будем отходить.
Дорохов чувствовал, что командир по–своему прав, и промолчал. Снова потянулись томительные секунды.
— Идут, совсем близко! — приглушенно выкрикнул кто–то справа от командира.
— Чего орешь?! — вполголоса оборвал Орлиев. — И без тебя слышат!
Шуршание, ставшее торопливым и сбивчивым, раздавалось так близко, что и Орлиев, и Дорохов, и каждый партизан уже точно определили место, откуда оно доносится. Теперь было ясно, что шел один человек. Орлиев силился разглядеть лыжника, ему казалось, что он уже видит его, но серая, предрассветная муть делала все вокруг как бы расплывчатым.
Вот лыжник остановился, вероятно, прислушиваясь, потом сделал шаг, другой, третий… Берег, как видно, пугал его… Он снова остановился.
— Это наш! — поднимаясь, прошептал Дорохов командиру. — Я выйду навстречу.
Орлиев резко дернул его за плечо и придавил к земле.
— Эй, кто там! — выкрикнул он. — Выходи, кто там?
Несколько секунд стояло молчание, потом слабый голос с озера радостно ответил…
— Товарищи! Это я, я…
— Курганов! — воскликнул комиссар, освобождаясь из–под цепкой руки Орлиева.
— Ты — Курганов? — громко спросил командир. — Выходи скорей, чего копаешься.
Виктор торопился изо всех сил, но те несколько десятков шагов, которые отделяли его от товарищей, показались ему самыми долгими за весь поход. Нот перестали слушаться его. Левой руки он давно уже не чувствовал, и каждый шаг теперь причинял ему нестерпимую Соль во всем теле. С трудом поднялся на берег, боком пролез сквозь кусты и почти упал на руки бойцу, поднявшемуся ему навстречу. Дорохов крепко обнял его, поцеловал в заиндевевшее лицо и принялся растирать Курганову висевшую поленом левую руку.
— Молодец! — похвалил Виктора Орлиев и тут же прикрикнул на собравшихся вокруг нескольких бойцов: — А вы чего? У тещи на именинах, что ли? Марш по местам!
Виктор хотел доложить командиру о происшедшем на озере, но тот, собрав взводных, уже давал распоряжение на отход.
— Идти можешь? — только и спросил он Виктора.
— Могу, — ответил Курганов, хотя и ощущал, что сил хватит ненадолго.
Оставив небольшое прикрытие, которое должно было отойти по их следу минут через десять, отряд направился догонять третий взвод.
Уже светало. Виктор как во сне шел в середине колонны, натыкаясь при неожиданных остановках на впереди идущих и отставая на длинных переходах. Обмерзшие сучья больно стегали по лицу, но он не мог отводить их руками, как делали другие, — одна рука уже висела на повязке, а другой он тяжело опирался на палку.
Он шел по глухому войттозерскому лесу и все время машинально поворачивал голову влево. Ему все еще казалось, что он идет по озеру, а слева от него темнеет, плывет в другую сторону черный загадочный остров.
Часть третья
Глава первая
1
Километрах в десяти на запад от Войттозера пролегал каменный кряж, или по местному, «сельга». Он начинался где–то далеко на юге и цепочкой переходящих друг в друга холмов тянулся в северные районы, теряясь там в лабиринтах озер.
У Войттозера кряж был невысок. Если идти на запад по дороге, его, пожалуй, не сразу и приметишь. Подъем — не крутой, по обочинам — те же придорожные кусты, за ними — лес, камни, мох.
Но тот, кому вздумается отправиться туда по лесу, не может не заметить разницы. Первые два часа он будет с трудом пробираться по перестойному еловому лесу, местами продираясь сквозь цепкие заграждения колючего, увитого паутиной, подроста. Корни деревьев здесь не уходят в глубину, а стелются на виду по самой поверхности пепельно–серой почвы, которая никогда не просыхает и распространяет вокруг запах прелой хвои. Кроны образуют такой густой шатер, что лучи солнца почти не достигают земли, и кроме мхов, папоротников, хвощей нет внизу других растений. И тебя невольно охватывает ощущение, что ты попал в какую–то доисторическую эпоху.
Но постепенно грунт становится тверже. Оглянувшись, замечаешь, что вокруг стало светлее. То и дело уже попадаются веселые медно–желтые стволы раскидистых мяндовых сосен, выросших в избытке и света, и питательных соков. Пройдешь еще километр–другой, и начинаются боры. Здесь и под ногами сухо, и над головой просторно. Деревья — как на подбор — одно к одному — ровные, высокие, без сучьев до самой макушки. Воздух чистый, настоянный запахами и брусничника, и вереска, и свежей сосновой смолы, слезой переливающейся на солнце.
Ты вышел на кряж.
На запад от него леса уходят за горизонт. Как и везде в Карелии, там много озер, которые соединяются между собой ручьями и протоками. Но ни одно из них давно уже не знает, что такое сплав леса, так как ручьи и протоки текут там на запад, в сторону границы с Финляндией.
За сельгой, или, как говорят в Войттозере, в Заселье, на берегах некоторых озер стоят небольшие деревушки. До войны жители занимались сельским хозяйством, а в зиму ходили «сезонить» на лесозаготовки. В войну засельские деревни обезлюдели. Жизнь так и не вернулась в эти края. Возвращаясь из армии или эвакуации, люди селились в Войттозере, где создавался большой механизированный лесопункт, становились кадровыми рабочими.
Старые дома медленно разрушались. Даже их хозяева, неплохо устроившиеся в новом поселке, свыклись с этим и, приезжая в родные места помогать рабочим подсобного хозяйства леспромхоза в сенокосе или на уборке» уже не надеялись, что жизнь по–новому и с другой стороны вернется в эти края.
2
Орлиев сдержал свое слово.
В один из вечеров он созвал всех мастеров, бригадиров и десятников на совещание.
Народу набралось человек тридцать. Самая большая в конторе комната, где размещалась бухгалтерия, оказалась забитой до отказа. Люди успели поужинать, переодеться, и Виктор, привыкший за эти дни видеть их в рабочей одежде, не без труда узнавал присутствующих.
Оля пришла одной из последних. Отыскивая взглядом свободное место, она задержалась в дверях, на какой–то миг встретилась глазами с Виктором, и ему показалось, что ее брови вопросительно дрогнули.
— Пожалуйста, здесь есть стул, — крикнул он.
— Нет уж… Нам от начальства подальше надо! — весело отозвалась Оля и стала пробираться в дальний угол, где, грустно прислонившись щекой к холодной черной печке, сидела Валя Шумилова. Кто–то из молодых парней предложил Оле место, но она отказалась и устроилась с Валей на одном стуле.
За столом главного бухгалтера уселся Орлиев. Он жестом пригласил Виктора занять место рядом. Съежившийся, ставший в последнее время совсем незаметным, Мошников примостился у другого края стола, разложил чистую бумагу, намереваясь вести протокол. Бывший технорук занимался теперь бытовыми вопросами. Недавно
Орлиев поручил ему возглавить работы на одном из участков подсобного хозяйства ОРСа, куда лесопункт направил около тридцати человек.
Тихон Захарович постучал карандашом по столу и, когда все повернулись в его сторону, сказал:
— Не курить!
Курильщики отнеслись к этому по–разному. Одни сразу же погасили папиросы, а другие потянулись к выходу. Кто–то распахнул окно, однако музыка у клуба звучала сегодня так раскатисто, что окно пришлось затворить.
Несколько минут Орлиев ждал, пока вернутся курильщики. Он сидел, навалившись грудью на стол, и ни с кем не перекинулся ни словом, ни взглядом. В его поведении было что–то гнетущее, словно предстоял разбор серьезного проступка, в котором были повинны все собравшиеся. Тихон Захарович даже не поинтересовался, как у Виктора обстоят дела с докладом, готов ли технорук к совещанию.
Хорошо, что доклад готов. Виктор просидел над тезисами не один вечер, и если сейчас волновался, то лишь оттого, что ему очень хотелось сделать доклад как можно более интересным и убедительным. Он все время держал в голове фразу, которой собирался начать выступление. Она должна была задать и докладу, и совещанию тон откровенного, товарищеского разговора, в котором можно поспорить, выдвинуть иные соображения. Спора Виктор не боялся, он даже хотел бы поспорить. Тогда все увидели бы, что его предложения основываются не только на книжных требованиях технологии, но и на знании конкретной обстановки.
— Начинаем.
Орлиев поднялся, выждал, пока смолкнут последние шепотки, жестом приказал закрыть дверь.
— Повестка вам известна. Слово предоставляется техноруку лесопункта Курганову.
— А регламент?! — укрывавшийся до сих пор за чужими спинами дядя Саня удивленно вскочил и вытянул вверх руку.
— Какой еще тебе регламент? — сдерживаясь, сквозь зубы проговорил Орлиев. — Если пришел, сиди и не мешай! Кто тебя звал сюда?
Однако присутствовавшие были настроены к дяде Сане добродушнее, чем начальник.
— Пусть сидит, не помешает…
— Места хватает, чего там!
— Дядя Саня, иди–ка сюда, садись здесь…
— Тихо! — Орлиев уже не скрывал раздражения. — Мы собрались не забавляться… Слово имеет Курганов…
Виктор рассчитывал свое выступление на полчаса, но проговорил значительно дольше; в начале он рассказал о той технической революции, которая произошла в лесной промышленности за последние годы и свидетельством которой мог служить Войттозерский лесопункт. Вероятно, присутствующие слышали все это не раз и смотрели на него с выжиданием: скажет новый технорук что–нибудь интересное или нет?
Виктору очень хотелось остановиться на опыте Кудеринского леспромхоза, где ему приходилось бывать во время практики и где механизация работ на всех циклах была очень высокой. Правда, Кудеринский леспромхоз — образцово–показательное предприятие. Хорошо бы здесь, в Войттозере, хоть наполовину достичь того, что уже имеется там.
Об этом Виктор мог бы говорить долго, однако чутье подсказывало, что сейчас это не произведет впечатления. Поэтому, перевернув листок с пометками о Кудерине, он сразу перешел к анализу всего технологического цикла работ в Войттозере.
Начал с использования лесосечного фонда, с неправильного отвода лесосек.
— Если бы мы в начале лета перешли в делянки семидесятого, семьдесят шестого и семьдесят седьмого кварталов, я уверен, что с выполнением плана у нас обстояло бы дело куда благополучней… Эти кварталы сухие. Они входят в наш лесфонд. А теперешние делянки — оставить на зиму. Я думаю, переход не поздно сделать и сейчас…
— А дороги? Туда ж ни веток, ни «усов» не проложено! — воскликнул заведующий гаражом Сугреев, необычайно живой и, несмотря на хромоту, подвижный сорокалетний фронтовик, много лет избираемый председателем цехкома. — Да разве разрешат нам по всему лесу мотаться? Насчет этого строго!
— Дороги рано или поздно строить придется. И «усы» прокладывать. А что касается разрешения, это, я думаю, вопрос второстепенный… Ошибки надо исправлять!
Виктор предложил для начала перевести в ближайший к лесовозной магистрали семидесятый квартал хотя бы один участок.
Во время длительной паузы Орлиев посмотрел на докладчика и ничего не сказал. Люди тоже промолчали. Лишь кто–то тяжко вздохнул:
— В сосновом–то бору дивья работать!
Второе предложение — о срочном ремонте действующих «усов» — было встречено более оживленно. Виктор предложил создать на лесопункте участок дорожного строительства во главе с мастером, выделить ему тракторы, кузовные машины, передать бульдозер и добиться у леспромхоза и треста хотя бы двух–трех самосвалов.
— Мы, товарищи, должны понять, что дороги — это главное на лесозаготовках, — чувствуя молчаливую поддержку, горячо заговорил Виктор, но Орлиев вдруг перебил его:
— На лесозаготовках главное не дороги, а лес…
Это было так неожиданно, что кто–то хихикнул и, скрывая смех, раскашлялся.
— Лес, конечно, главное… — поправился Виктор. — Но без дорог не будет и леса.
— Кто плохо работает, тому и асфальт не поможет, — категорично отрезал Орлиев и добавил: — Продолжайте!
— Можно мне сказать? — Рантуева, не ожидая разрешения, встала. — Я считаю, что вопрос о дорогах поставлен правильно. И о дорожном участке — тоже, и нечего нам…
— Прения после доклада! — спокойно остановил ее Орлиев. — Продолжайте! — требовательно повернулся он к Виктору.
Сидевший в углу Вяхясало быстро–быстро зачмокал пустой трубкой, потом набил ее табаком и закурил. Однако, видимо, вспомнил про запрет и медленно двинулся к выходу.
Третье предложение технорука было выслушано в напряженной тишине. Виктор доложил, что вместе с механиками, шоферами и трактористами они провели осмотр всех механизмов и установили, что состояние технического парка явно неудовлетворительное. Механизмы эксплуатируются на износ. Дни профилактики не соблюдаются. Сроки планового ремонта не выдерживаются. Отсюда аварии, простои. Мастерские не имеют самых необходимых запасных частей.
— Вот возьмем вчерашний день. У одного трактора на участке Панкрашова лопнула соединительная муфта водяной помпы… Копеечная деталь, их на складах техснаба сколько угодно. А нам пришлось самим делать ее, и это в наших–то условиях… В результате трактор простоял полторы смены.
Пример никого не удивил. Поломки — большие и малые — случались так часто, что люди привыкли к ним и считали их неизбежными. Хорошо, что трактор простоял не неделю или месяц, а ведь бывало на лесопункте и такое…
— Мы разработали примерный график профилактического и среднего ремонта тракторов и лесовозов, — после небольшой паузы сказал Виктор. — По этому графику на линию должны ежедневно выходить двенадцать автомашин и четырнадцать тракторов. График должен строго соблюдаться. Только в таком случае мы сможем обеспечить своевременный ремонт и тем самым предотвратить выход из строя большого числа механизмов.
— Это как же так?! — с места выкрикнул здоровяк в коричневой вельветовой куртке, сидевший прямо перед президиумом. Это был Лисицын — бригадир трактористов с участка Панкрашова. — У меня, к примеру, шесть тракторов. График — это хорошо. Допустим. Неужто я должен трактор, который, можно сказать, еще на ходу, ставить в ремонт, если мы и так плана не даем.
— Должен, — твердо сказал Виктор, покосившись на хмуро молчавшего Орлиева. — Надо ставить, если хочешь обеспечить бесперебойную работу участка.
— Кому он тогда нужен, ваш график! — зло сплюнул Лисицын. — Тут и так полгода премиальных не получаешь, а теперь совсем хотят на тариф посадить.
— Лисицын, помолчи! — постучал карандашом по столу Орлиев и обратился к Виктору: — Ты кончил? У кого есть вопросы?
Вопросов оказалось много. Спрашивали о возможностях получения новых тракторов, автомашин, резины, автодерриков, о порядке выплаты надбавки за бригадирство, о расценках на дорожном строительстве, об улучшении питания в лесу. Первым хотел задать вопрос дядя Саня, но Орлиев сделал вид, что не замечает его руки, и предоставлял слово другим. Спрашивали, в основном, бригадиры. Мастера, которых ежедневно собирали на планерки, молчали. На вопросы отвечал сам Орлиев, и делал это так коротко и категорично, что поток вопросов моментально иссяк. Лишь маленькая ладонь дяди Сани все еще сиротливо тянулась вверх.
— Ну, что у тебя? — наконец спросил Орлиев.
Дядя Саня вскочил, вытянулся и восторженно замер в предчувствии чего–то важного и значительного.
— Имею вопрос такого содержания. Прошу докладчика осветить главную тенденцию развития лесной промышленности в перспективе.
Виктор знал, что никто в Войттозере, кроме, наверное, Вали Шумиловой, не принимал дядю Саню всерьез и в то же время все, исключая Орлиева, относились к нему так, как обычно взрослые относятся к не по годам умному ребенку — с интересом и с подчеркнутым покровительством.
Вопроса дяди Сани никто не понял, а сам он с довольным и даже вызывающим видом смотрел на Курганова.
— Непонятно! Давай, дядя Саня, попроще! — послышались голоса.
Старик успокаивающе поднял руку, давая знать, что все идет как надо.
— Уточняю. По какому пути будет развиваться современная нам лесная промышленность — по линии тенденции дорожного строительства или по тенденции конструирования таких машин, каковым никакие дороги не нужны? И как на данный пункт смотрит наука с точки зрения рентабельности?
Чувствовалось, что этот вопрос был подготовлен у дяди Сани заранее. Он не только ни разу не запнулся, но и произнес его, делая многозначительные ударения на словах «тенденция» и «рентабельность».
— Во–о, дает! — Лисицын восхищенно тряхнул головой и завертелся из стороны в сторону.
— Вопрос к делу не относится, у нас не лекция! — Орлиев махнул дяде Сане, чтоб тот садился.
— А почему же? Это нам интересно! Пусть докладчик ответит! — Лисицын вновь заоглядывался, ища поддержки у соседей.
Но мнения собравшихся разделились.
— Кончать пора, чего там!
— Пусть ответит, интересно все–таки.
— Чего шумим, товарищи! — поднялся Лисицын. — Правильный вопрос… Надо же нам знать про эти самые… тенденции. И опять же для нашего идейного роста полезно…
— Смотрите–ка, Лисицыну идейный рост понадобился! — со смехом воскликнул кто–то, — Давно ль ты сознательным стал, а?
— При чем тут сознательность! — зло обернулся на голос Лисицын. — В конце концов имею я право получить ответ на вопрос или нет? Где же у нас… эта самая… демократия?
— А ты на собрании иль на лекции когда последний раз был? — скрипнув протезом, вскочил Сугреев. — О демократии рассуждаешь, а сам профсоюзные взносы по году не платишь… Вообще о профсоюзе вспоминаешь, когда бюллетень надо оформить.
— При чем тут взносы? Что вы мне рот зажимаете?
— А при том, что нездоровое у тебя настроение. Прямо скажу, потребительское… Вы думаете, — Сугреев оглядел собравшихся, — ему действительно интересно узнать что–то новое про науку? Нет. Голову даю на отсечение, что нет! Он просто почуял, что, может быть, товарищ Курганов затруднится ответить на этот вопрос, и ему это приятно. Опять же обсуждать дела на лесопункте не хочет. Лисицыну, видно, по нраву тот порядок или вернее беспорядок, которого у нас хоть отбавляй.
— Ну–ну, ты поосторожней! Нечего из меня контру делать… Не нравлюсь, можете снимать с бригадиров, плакать не буду.
— Хватит.
Орлиев пристукнул кулаком по столу, и сразу все притихли. Дядя Саня быстро юркнул за спины соседей и словно растворился.
— Есть еще вопросы? Нет. Кто хочет выступить?
— Я бы хотел ответить на вопрос, — сказал Виктор. Орлиев недовольно поморщился: «стоит ли переливать из пустого в порожнее?», но слово все–таки дал.
Вопрос затрагивал трудную проблему, над которой бились ученые и изобретатели. Но по какому пути идти — ясности пока не было, и работы шли пока в обоих направлениях. Но как объяснить все это, чтоб не уронить авторитет науки? Если бы Виктор беспристрастно изложил все, как око есть, и то его ответ навряд ли удовлетворил бы слушателей. А он, желая защитить честь науки, стал доказывать правомерность и того и другого пути в решении проблемы дальнейшей механизации заготовок, и сразу у многих на лицах появилось насмешливое выражение.
— Что же они двоятся–то? — выкрикнул кто–то, когда Виктор закончил. — Чем в разные стороны тянуть, лучше б объединились, да вместе… А то как в басне про лебедя, рака и щуку получается…
Положение создалось такое, что впору было начинать все объяснение сначала. Но Орлиев уже крепко взял вожжи в руки.
— По научной части на этом разговор закончим. Кому интересно, попросим товарища Курганова провести лекцию в клубе… А сейчас переходим к делу. Кто желает высказаться по докладу?
Орлиев оглядывал людей, и каждый под тяжелым взглядом начальника опускал глаза. Лишь Оля сделала вид, что не замечает требовательного взора Орлиева. Отвернувшись, она о чем–то переговаривалась шепотом с Валей Шумиловой.
— Что, нет желающих? Рантуева! Ты, кажется, хотела что–то сказать?..
Оля пожала плечами:
— Да нет… Расхотелось мне что–то… Пусть другие говорят, а я послушаю.
— Олави Нестерович, у тебя есть что–либо?
Вяхясало поднялся, ссутулился и напряженно уставился сощуренным взглядом на висевшую под потолком лампочку. Чувствовалось, как мучительно подыскивает он нужные слова.
— Хороший доклад… Лесосека, дорога, механизмы — все правильно… Так надо делать…
Произнеся это, Вяхясало поджал тонкие синеватые губы, помолчал, словно еще раз обдумывал сказанное, и неожиданно стал усаживаться на место.
— Вот двинул речугу! — насмешливо подмигнул Лисицын, глядя на начальника. — Олави Нестерович, язык он без костей, чего износу боишься!
— Панкрашов, начинай! — мрачно потребовал Орлиев, даже не поглядев в его сторону. А зря! Быстрый и расторопный Панкрашов на этот раз поднимался медленно и неохотно, пожимая плечами и слоено жалуясь на свою судьбу. Но как только усевшийся на стул Орлиев поднял на него глаза, Панкрашов снова стал прежним — серьезным, слегка смущенным и чутким к каждому слову начальника.
— Я полагаю, товарищи, — быстро произнес он, поворачиваясь из стороны в сторону, — что мы должны всецело одобрить высказанные в докладе предложения. Действительно, товарищи, неправильно у нас спланированы лесосеки. Барахтаемся в грязи, а рядом в пяти километрах сухие боры… Да если бы меня в июне перевели туда, я, может, уж давно квартальный план выполнил… С дорогами тоже непорядок. В общем, я одобряю предложения нашего руководства и прошу мой участок перевести в другой квартал.
— Правильно! — крикнул Лисицын. — Уж там… мы дадим…
— А ты–то чего радуешься? — спросили его сзади. — Переход, знаешь, сколько дней возьмет?..
— Потерпим, — подмигнул Лисицын. — Недельку посидим на тарифе, зато потом свое возьмем с прогрессивочкой да с премиальными.
— Нас тоже тогда в сухие боры ведите! — поднялась пожилая женщина, бригадир обрубщиц сучьев с участка Вяхясало. — А мы что — рыжие? Нам тоже надоело одежду о еловые сучья рвать, в болоте по колено ползать… В сосняке и дурак выработку даст.
Тугие желваки заходили по лицу Орлиева. Он тяжело дыша поднялся, уперся ладонями в край стола. Все сразу притихли.
— Есть еще желающие? — подчеркнуто бесстрастным голосом спросил Тихон Захарович и, не ожидая ответа, объявил: — Ну тогда разрешите мне!
— Хороший доклад сделал нам технорук! Умный доклад. Он вскрыл много недостатков в нашей работе. Правильно вскрыл. Их мы будем и должны исправлять… Но, к сожалению, и в докладе, и в прениях не сказано о главном… Мы можем перейти в другие лесосеки, можем отремонтировать дороги, наладить ремонт механизмов… Но если мы не будем трудиться по–настоящему — ни черта не выйдет. Легкой жизни в лесу не бывает. Лес — он любит мокрую от пота фуфайку да ломоту в костях к вечеру. Только так, а по–другому не бывает… Много у нас недостатков. Даже больше, чем Курганов назвал тут. Но разве в них дело? Главное — работать мы разучились. Легкой жизни в лесу искать начали. А если мы возьмемся как следует, то и на старых делянках, на старых дорогах, на старых машинах можем черту рога свернуть… Надо не искать каких–то объективных причин, а заставить людей работать. За то сам, товарищи бригадиры, мы и платим бригадирскую надбавку. Самим надо сил не жалеть, ну и с других спросить по–настоящему… Вот это главное, о чем в докладе ни слова не сказано.
Теперь о мастерах. Да разве может настоящий мастер отмалчиваться на таком совещании или так беззубо выступать, как сегодня у нас. Позор всем троим — Рантуевой, Панкрашову и тебе, Олави Нестерович! Короче говоря, предупреждаю: если в течение трех дней кто–либо из мастеров не войдет в график — пеняйте на себя! Полтораста кубов каждый участок должен давать ежедневно! Что касается предложений, высказанных в докладе, то их мы рассмотрим на узком кругу, согласуем с леспромхозом… Тут поднимались бытовые вопросы. По ним обращайтесь теперь к товарищу Мошникову, он у нас будет заправлять этим делом… Все. На этом совещание закрываю. Завтра планерки не будет…
Курганов сидел ошеломленный.
В комнате сразу стало шумно. Люди поднялись, задвигали стульями, потянулись к выходу, словно ничего не случилось. Даже разговоры вели такие, как будто окончилось не совещание, а очередной киносеанс, который был по–своему интересным, но он окончен, и пора возвращаться к обыденным житейским делам.
— Василий, ты уж, поди, сена наготовил? Гулять будешь в воскресенье?
— Какое там! Травостой совсем никудышный…
— Надо бы плотину открыть, пусть бы пообсушило берега.
— Эй, кто в клуб? На последний сеанс успеем! — гремел в коридоре чей–то голос.
Виктор машинально собирал в кучу свои бумаги, смотрел, как пустеет комната, слушал, как голоса людей звучат, удаляясь, уже за окошком, и все еще не мог понять — почему же все так вышло? Неужели он зря старался, потратил целую неделю на изучение всех этих, как оказалось, никому не нужных вопросов? Нет, не может быть… Он же ясно видел, что людей очень заинтересовало все это. Да разве и могло не заинтересовать, когда оно — лишь самое минимальное, самое необходимое, без чего невозможно нормально работать в будущем… Где ж Орлиев? Он уже успел уйти. Ушел и не сказал ни слова.
И все уходят. Вот уже в комнате остается всего несколько человек… Оля еще здесь. Интересно, что думает она? А Валя Шумилова смотрит на него с явным сочувствием. Ей, наверное, хочется подбодрить Виктора. Вот и они ушли… Никто ни единого слова не сказал Курганову, как будто и не было никакого доклада. Остался один дядя Саня. Конечно, он хочет задать очередной «умный» вопрос… Как глупо все! Еще два–три таких совещания, и к Виктору будут относиться в поселке так же, как и к дяде Сане. Жалеть и посмеиваться, посмеиваться и жалеть!
3
Орлиев был в своем кабинете.
— Почему ты не показал мне доклада? — спросил он, когда Виктор стал укладывать в шкаф взятую для совещания документацию.
— Вы ведь не просили. И даже не поинтересовались, готов ли мой доклад, — зло ответил Виктор.
— А тебя разве просить надо?! Ишь, какой! Ты разве сам не понимаешь, что нельзя выходить на широкое собрание с несогласованными предложениями!
— Вы же сами предложили мне выступать, помните?.. Это — во–первых. А во–вторых, я ничего нового не высказал. Все это уже давно делается… Вот, возьмите новое «Положение по организации работ в лесу», принятое в прошлом году министерством, и там вы все найдете.
— «Положение», «Положение»… Ты мне не тычь в нос «Положением». Надо смотреть на конкретную обстановку. Правильно говорить да предлагать мы все умеем. А кто будет план выполнять?!
— Тихон Захарович! — Виктор присел к столу начальника и посмотрел ему в глаза. — Скажите откровенно — вы верите, что за три дня участки войдут в график, что они станут давать по полтораста кубов?
— Ну и что ты хочешь этим сказать?
— Нет, ответьте. Вы верите?
— Если каждый будет работать не жалея сил, как работали когда–то мы сами, то полтораста кубов не велика задача.
— Давайте без если… Да или нет?
— Ты что, купить меня хочешь? — прищурился Орлиев. — Ну, допустим, через три дня участки не войдут в график! Должны же мы, черт возьми, ставить такую задачу! Если мы ее не поставим, то и по сотне кубов не получим. Только так мы и можем чего–то добиться… А ты хотел бы распустить вожжи, дать легкую жизнь… Стоит хоть на день их поослабить — и пиши пропало, больше уже не натянешь!
— Ну, а кто будет виноват, когда через три дня участки не войдут в намеченный вами график?
— Мыс тобой и будем виноваты, кто же еще? — усмехнулся Орлиев. — Мы перед леспромхозом и райкомом, мастера перед нами, бригадиры перед мастерами…
— Так мы и будем всю жизнь в виноватых ходить? Кому же польза от этого? Все кругом виноваты, а толку нет.
— Нет, есть толк!.. С виноватых всегда спросить можно. И спросят в конце концов, если мы не наладим дело.
— Так будем работать, мы плана никогда не дадим, поймите! Зачем же нам ставить себя заведомо в положение виноватых? Это же глупо!
— Глупо, говоришь?! — резко поднялся Орлиев. — А я, если хочешь знать, всю жизнь себя виноватым чувствую, хотя и не считаю себя глупым. Всю жизнь! За все на свете! Тебе это не нравится, а настоящий коммунист и должен чувствовать себя виноватым… Ну, если не виноватым, то обязанным… Перед партией, перед народом, перед святой целью, которой отдашь жизнь! Ты уже не мальчишка, пора бы и тебе понять, что только таким путем мы и можем добиться того, к чему стремимся. Не жалеть себя! Только в таком случае ты получаешь право не жалеть других. И когда каждый преисполнится таким чувством, тогда и родится та сила, которая построит коммунизм. Это глупо, по–твоему, да?
— Я не об этом, — недовольно отмахнулся Виктор, чувствуя, что разговор зашел слишком далеко. — Почему бы нам не поставить дело так, чтоб не чувствовать себя виноватыми в мелочах?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну хотя бы работу лесопункта.
— Лесопункт — это не мелочь, а на данный момент главное в нашей с тобой жизни, — жестко поправил его Орлиев.
— Ведь можем же мы наладить работу. Пусть не в три дня, как хотелось бы, а в три недели, или за месяц… Об этом я говорил в докладе!
— Стране нужен лес сейчас. Не через месяц или через год, а сейчас!
Виктор еле сдержал улыбку, почувствовав, что сейчас–то он наверняка припрет к стенке Орлиева.
— Тихон Захарович! Ведь вы же великолепно знаете, что наш лес поступит к потребителям никак не раньше, чем через год. До весны он будет спокойно лежать на берегу Войттозерки.
— Ну, вот что, приятель! Хватит! Не нам с тобой умнее всех быть. Дано нам задание — десять тысяч кубометров в месяц — мы и должны выполнять его. Хорош был бы порядок у нас в государстве, если каждый стал бы умничать и все делать на свой лад.
На том и расстались.
Курганов ушел, а Тихон Захарович еще долго сидел, склонившись над столом. Сегодня все казалось ему непривычным и раздражающим… Даже тишина в конторе была настолько необычной, что Тихон Захарович не выдержал, открыл дверь из кабинета и долго, как бы не веря себе, с удивлением рассматривал пустую комнату. Каждый вечер здесь сидели люди, а сегодня никого. Во всем доме никого, даже сторожиха тетя Паша ушла куда–то, наверное, в кино.
«Привыкла, что я сижу здесь до полуночи, вот и бегает, — раздраженно подумал Орлиев. — Всея! Даже контору сторожить и то я должен… Нет, хватит! Слишком я подраспустил их».
Подсознательно Тихон Захарович чувствовал, что кое в чем он поступил с Кургановым несправедливо. Но это лишь сильнее разжигало в нем желание сломать этого петуха, заставить его жить и думать теми единственно справедливыми мыслями, которыми жил сам он.
«И откуда у них берется такая демагогия? — подумал он. — Разве в наше время было такое? Нет, мы дали им слишком много воли. За нашей спиной им все кажется — раз–два и в дамки! Все легко, пока за тебя другие делают, а тебе даже отвечать ни за что не нужно. Какой спрос с него? А я за все в ответе. И даже за него самого, за петуха этого, мне отвечать придется! Разве не имею я права на строгость? Полное право дано мне самой жизнью…»
Глава вторая
1
Ночью шел дождь. Стоявшая две недели сухая погода резко повернула к ненастью. С вечера затянуло небо, и озеро заплескалось о берег мелкими сбивчивыми накатами. Вдалеке чуть слышно погромыхивало.
Около полуночи налетел резкий ветер. Он заметался между деревней и поселком, то заставляя поскрипывать кочетыговскую крышу, то затихая и как бы вслушиваясь в безутешное всхлипывание озера, открытого ветру со всех сторон.
Растревоженный спором с Орлиевым, Виктор долго не мог заснуть, несмотря на усталость.
«Поплывут наши дороги, — грустно думал он, слушая, как настойчиво барабанят по стеклам холодные осенние струи, и неожиданно рассердился: — Ну и пусть! Может, хоть это заставит его поверить, что так дальше нельзя…»
Дождь шел долго. Несколько раз Виктор просыпался, с тревогой вглядывался в мутно–серые окна. Дождь все лил и лил, лишь из косого и порывистого стал тихим и размеренным, какой любят грибники.
Утром он прекратился, но по небу неспокойно ползли низкие тучи, готовые в любую минуту разразиться новым дождем.
В этот день планерки не было, и Виктор пришел в контору позже обычного.
Орлиев, не глядя на него, сказал:
— Тебя в райком вызывают… К Гурышеву, первому секретарю…
— Зачем?
— Не знаю… Зайков машину в леспромхозовские мастерские гонит, с ним и поезжай. Обратно, если успеешь, — автобусом, а нет — заночуешь, или на попутной.
— Я зайду в леспромхоз, поговорю о переходе в семидесятый квартал. Хотя бы один участок…
Орлиев ничего не ответил.
— Мы потеряем неделю, — воодушевленный тем, что Тихон Захарович не возражает, продолжал Виктор. — Но это оправдает себя, сразу повысит производительность…
— Если леспромхоз снимет у нас с плана две–три тысячи кубов, можно и перейти.
— Как снимет? Нам этого совсем не нужно, мы будем переводить участки по очереди… Да и леспромхоз нам, конечно, нисколько не снимет…
— Я тоже так думаю, — равнодушно сказал Орлиев. — Чего же, в таком случае, мы будем терять дни, увеличивать долг…
— Я уверен, все это окупится…
— А потом, — Орлиев сделал вид, что не слышал заверений Виктора, — для леспромхоза согласиться с тобой — значит признать и свою вину. Такого там не любят…
— Но вы–то сами видите, что здесь действительно допущена ошибка… Это видят все — Вяхясало, Рантуева, Панкрашов… О подобных просчетах в газете недавно писали.
Виктор сгоряча сказал и сразу же пожалел об этом. Он уже заметил, что всякое упоминание о газете выводит Тихона Захаровича из себя.
Толстый цветной карандаш сухо хрустнул в руках Орлиева, обломки полетели в угол.
— Когда я увижу это, — Орлиев тяжело поднялся, — я отдам приказ о переходе в семидесятый квартал… Ясно? А теперь езжай, не задерживай машину!
2
Выехали через час. За поселком дорога круто взяла вправо вдоль озера, блестевшего в просветах между деревьями. Слева, то скрываясь в зарослях ивняка и ольшаника, то вновь приближаясь к дороге и возвышаясь над ней, бежали черные ниточки телефонных проводов.
Привалившись плечом к дверце кабины, Виктор смотрел на дорогу и никак не мог отделаться от мысли, что все происходящее между ним и Орлиевым — какая–то затянувшаяся шутка. Неужели Тихон Захарович разыгрывает ее намеренно, чтобы проверить его принципиальность? Все другие объяснения выглядят неправдоподобно. Всерьез Орлиев не мог так ошибаться. Виктор два года бродил за своим командиром по вражеским тылам и ни разу не усомнился, что каждый приказ Орлиева — всегда самое мудрое и единственно правильное решение. Даже после прощальных слов Павла там, на озере. А ведь в партизанском отряде на карту ставились не кубометры, а человеческие жизни. Что же произошло теперь? Неужели прав Чадов? Нет, этого не может быть. Это какое–то недоразумение, которое должно разрешиться как можно скорее…
Зайков бережно притормаживал машину у каждой выбоины. Мотор работал безотказно, но в его мягком шелестящем шуме не было той упругой, скрытой до времени силы, которую так ценят водители и невольно чувствуют даже пассажиры.
«Если бы на вывозке ездили так осторожно», — подумал Виктор и спросил, кивнув на мотор:
— Расточка цилиндров нужна?
Сам не зная почему, Виктор всегда испытывал уважение к малоразговорчивым людям, и сейчас ему хотелось сблизиться с Зайковым.
— Не только. Кардан менять надо. Много чего…
— Ого! — Виктор склонился к спидометру.
— Восемьдесят две тысячи, — не отрывая взгляда от дороги, подсказал Зайков. — Можете не удивляться! По нашим дорогам и за это спасибо!
— Дороги дорогами, а ездим тоже безобразно…
Зайков как будто только и ждал этого. Он даже притормозил лесовоз, чтобы Курганов лучше мог слышать.
— А что делать прикажете, если я уже пятый месяц даже нормы не даю?.. А у меня еще обязательство… «Обязуюсь в течение летнего сезона…» Тьфу! Болтовня одна!
Он резким, привычным движением послал машину вперед. Мотор сбивчиво взвыл, захлебнулся, но все–таки выдюжил и вновь расслабленно зашелестел по дороге,
— Зимой ты выполнял норму?
— Зимой и дурак выполнит…
— Ну, а почему?
Зайков неожиданно ухмыльнулся:
— Не пойму я, товарищ технорук… Вы что, меня за дурака считаете?.. Или, извиняюсь, сами в нашем деле не очень?
— Вы не улыбайтесь, а подумайте и скажите — почему наш лесопункт летом не выполняет плана? — обиженно произнес Виктор.
— Есть и без меня кому думать. Наше дело — баранку покрепче в руках держать.
— А у вас что? Нет своего мнения?
— Что толку в моем мнении? Лесосеки от этого суше не станут, да и болот не убавится…
— Ну–ну, продолжайте! — обрадовался Виктор.
— A–а, чего зря языком болтать! — махнул рукой Зайков.
— Вы правильно начали, только почему вы считаете, что бесполезно говорить об этом? Разве нельзя исправить? Разве все не в наших руках? Мы допустили грубую ошибку. Летом рубим там, где надо рубить зимой. Никак не спланировали лесосеки. Все лето идем низинами, болотистыми местами вдоль сельги. Тонем, вязнем, гробим технику, а идем. Рядом великолепные сухие боры… Чего проще? Так нет! Боимся дополнительных затрат, и каждый день приносим многотысячные убытки…
Зайков никак не проявил интереса к словам Виктора. Он, еще больше насупившись, склонился к рулю, как будто вести машину стало труднее. Виктор уже потерял надежду услышать что–либо в ответ, когда Зайков медленно, словно боясь ошибиться, сказал:
— А что? Может, это и правда.
— Не может, а самая настоящая правда! — улыбнулся Виктор.
— Так какого же черта вы мне об этом говорите! — неожиданно вскипел Зайков. — Почему не сделаете так, как надо? Чего вы меня–то агитируете? Возьмите да и исправьте, если правда!
— За тем я и еду в район, — сказал Виктор. Он тут же простил себе эту маленькую ложь, твердо решив не возвращаться домой без разрешения на переход в семидесятый квартал.
Виктор мысленно пытался представить себе тихогубский райком, зеленое здание которого он издали видел десять дней назад, кабинет секретаря, рисовавшийся почему–то похожим на кабинет Селезнева в тресте, наконец, самого Гурышева. Виктор знал, что Гурышев — молодой партийный работник, до назначения в Тихую Губу был секретарем ЦК комсомола республики.
И, вероятно, оттого, что Гурышев молодой, что ему, наверное, трудно, Виктор, ни разу в глаза не видевший секретаря райкома, испытывал к нему не только симпатию, но и какое–то очень близкое чувство — как будто стоит им свидеться, и они станут самыми сердечными друзьями. Раз Гурышеву трудно, он должен обязательно искать поддержки. И Виктор заранее готов ее оказать. Конечно, Гурышев не может не поддержать его предложений…
— Ровно не видит, что лесовоз! — вдруг проворчал Зайков, нажимая на сигнал.
На дороге с поднятой вверх рукой стоял человек. Он был в сером брезентовом плаще, в фуражке и кирзовых сапогах. На обочине лежали вещмешок и ружье.
Зайков сигналил, а человек, упрямо подавшись вперед, стоял посреди дороги и смотрел, как машина все ближе и ближе накатывается на него.
— Останови! — приказал Виктор, заметив на фуражке пешехода звездочку.
Военный подошел к лесовозу, открыл кабину, поздоровался, спросил:
— В Тихую Губу?
Быстрым наметанным взглядом он окинул лесовоз и, убедившись, что кроме кабины поместиться негде, с сожалением произнес:
— Ничего не поделаешь, придется вам потесниться. Подвинься, товарищ. Вот так. Рюкзачок в ноги, а ружье сюда, вдруг косачи попадутся… Как славно, а? Наконец отдохнем…
В кабине стало тесно. Даже шоферу пришлось чуть сдвинуться со своего места.
— Под дождь попали? — спросил Виктор прямо в затылок попутчику, непросохший плащ которого трещал, звенел, словно ломался при малейшем движении.
— Хватил сырости! — весело отозвался тот. — Думал, и конца не будет… Продрог и, как назло, ни одной машины. Вы первые. Ну, думаю, если не остановят, заставлю силой оружия…
— Откуда же вы идете? — удивился Виктор, вспомнив, что поблизости нет никаких селений.
— Оттуда! — попутчик неопределенно махнул рукой на запад. — Не меньше тридцати километров по азимуту отмахал… Думал путь сократить, к ночи в Тихую Губу попасть, а вышло наоборот… Ну и места тут у вас! Нога человеческая не ступала… Даже оторопь берет… Ну, ничего, скоро оживут.
Сейчас не то. Грохочет линия: Московский поезд мчится к нам, И сосны, белые от инея, За ним бегут по сторонам, —вдруг произнес он и повернулся к Виктору. — Здорово сказано, а? Это я в каком–то журнале вычитал, давно уже, а запомнилось… Знаете, там сначала про медведя, как он пришел на строительство… «Мы разбежались кто куда».
— Это стихотворение Петра Комарова «Медвежий угол», — сказал Виктор, удивившись совпадению. Совсем недавно, когда они ехали из Ленинграда в Петрозаводск, Лена много раз наизусть читала эти стихи, глядя на нескончаемо тянувшиеся за окном леса.
— Верно, теперь вспоминаю — Комаров. Читал давно, когда еще на другой работе был, а потом понадобилось, вспоминал, вспоминал, уйму книг перерыл — пропало, и все тебе… Это прямо про нас написано, у нас недавно почти такой же случай был! Только не один медведь на линию вышел, а целая троица… Так, говорите — Комаров? Надо записать, а то опять забуду. Простые фамилии легче забываются…
Достать планшет было совсем нелегко. Виктору пришлось так навалиться на Зайкова, что тот не выдержал:
— Вы бы хоть плащ сняли, не замерзнете, поди?
— Верно! Я от радости сразу и не додумался. Останови–ка, друг, машину.
Он соскочил на землю, снял плащ и оказался капитаном войск МВД, одетым в потертую суконную гимнастерку, на которой новые с золотистым отливом погоны и колодка с орденскими ленточками выглядели слишком нарядными. «Фронтовик», — обрадованно подумал Виктор. Однако на Зайкова все это произвело совсем другое впечатление. Увидев погоны, он с хмурой подозрительностью начал приглядываться к пассажиру.
Пока капитан возился с плащом, Зайков, чтобы освободить побольше места, переместил ружье к левой дверце рядом с собой. Делал он это с недовольным видом, как бы лишь потому, что приходится делать, коль сразу не отказал настойчивости явно лишнего пассажира, но капитан заметил истинный смысл его намерений.
— Это правильно! — хитровато улыбнулся он, слегка подмигивая Зайкову. — Надоело оно мне за сутки, плечо натерло.
Тронулись дальше. В кабине стало удобнее, уже можно было достать папиросы, закурить. И машина пошла быстрее, хотя по–прежнему дорога была ухабистая.
— Не гони! — приказал Виктор. — Успеем.
Ему хотелось поговорить с капитаном, а тряска и толчки не давали раскрыть рта. Зайков чуть сбавил ход и громко спросил:
— Вы, товарищ капитан, у нас в районе служите или в командировке?
— У вас. Теперь у вас. — Капитан ощупью искал что–то в мешке.
— А где же, если не секрет?
— На строительстве железной дороги.
— Какой, какой дороги?
— На строительстве будущей железной дороги, — с улыбкой повторил капитан. Он наконец нащупал в вещмешке то, что искал, и вынул пачку печенья.
— Что–то не знаю я у нас в районе такого строительства, — медленно сказал Зайков, как бы случайно толкнув локтем Виктора.
— Откуда тебе знать, коль в ваш район мы неделю назад вышли. В газетах про нас не пишут…
Капитан разорвал обертку, протянул печенье сначала Виктору, который из вежливости взял одно, потом Зайкову. Тот кивнул на замятые руки, поблагодарил и отказался:
— Скоро, друзья мои, не придется вам по этим дорогам душу вытряхивать. Сядете в вагон и… «сосны белые от инея…» Хоть в Москву, хоть на край света…
Он с хрустом грыз печенье и говорил с нескрываемой, но доставляющей ему радость, завистью: вот, дескать, мы построим вам дорогу, вы будете раскатывать по ней в поездах, а мы уйдем дальше, в другие места, строить новую.
— Что–то не слышал я о такой дороге, — повторил Зайков, вновь задевая Курганова.
Виктор тоже не слышал. Ни в тресте, ни в Войттозере никто ни словом не обмолвился о строящейся железной дороге. Но если это и выдумка их случайного попутчика, то очень неглупая… Ведь об этом — о дороге по ту сторону водораздела — робко, как о далекой мечте, совсем недавно подумалось Виктору, когда глядел он на безбрежный, щетинистый, весь в складках, зеленый ковер, раскинувшийся на запад до самого горизонта.
Машина вдруг резко затормозила. Вдали навстречу ей двигался почтовый автофургон.
— Вот что, — сказал Зайков, в упор глядя на капитана. — Я не хочу быть ротозеем… Короче, предъявите документы!
Капитан засмеялся так заразительно, что Виктору стало вдруг стыдно.
— Что ты, Зайков. В район ведь едем, там–то уж проверят и без нас.
— Район районом… А в дураках я быть не хочу… Да и имею я право знать, кого везу…
— Молодец, парень, хвалю! — Капитан вынул из нагрудного кармана удостоверение. — Я с самого начала ждал. Этот парень, думаю, обязательно документ проверит.
— Смешного тут ничего нет, — сказал Зайков, передавая удостоверение Курганову.
Виктор, мельком взглянув на документ, успел прочесть написанное от руки тушью: «Капитан Белянин Афанасий Васильевич».
Встречная машина, не сбавляя хода, пронеслась мимо.
— Ну, а что стал бы делать, если б у меня документ оказался не в порядке? — пристал к Зайкову капитан, когда тронулись дальше.
— Там видно было бы.
— Нет, все–таки. А вдруг я шпион и у меня оружие в кармане, что тогда? Пикни вы, я раз–раз, и в лес, и поминай как звали.
— Что вы пристали — «оружие», «оружие»! Подумаешь — оружие! Что мы, не видели его, что ли! В войну и не такого насмотрелись!
— А все–таки, скажи по–честному, если бы ты был уверен, что я… Ну там шпион, допустим, неужели ты стал бы прямо документы спрашивать?
— Нашли дурака! — вдруг засмеялся Зайков. — Уж как–нибудь вдвоем с техноруком и без документов доставили бы, куда следует… Просто захотелось мне проверить — правду вы говорите про дорогу или сочиняете? — соврал он, довольный, что все обернулось хорошо.
— Теперь поверил?
— А что? Вполне возможно, что так и будет,
— Не возможно, а обязательно будет.
— Я не спорю, поживем — увидим.
Виктор слушал их разговор, удивлялся изворотливости недоверчивого Зайкова, смотрел на взбухшую после дождя темную дорогу, на белесые, издали отсвечивающие лужи и вялые мокрые кусты, повисшие над кюветами, — чувствовал, как в нем поднимается, ширится, подкатывается к самому горлу ощущение большой радости.
«Я ведь подумал о дороге… В первый день подумал… Значит, я могу что–то сделать, если хватило ума сразу самому понять главное… Вот скажи я об этом сейчас Белянину или Зайкову — не поверят».
И сосны, белые от инея, За ним бегут по сторонам, —не понимая сам, как это у него вырвалось, вполголоса произнес Виктор.
Белянин притих, не договорив что–то Зайкову.
— Может, вы все знаете? — спросил он. — Я бы списал… Оно мне позарез нужно, уж больно подходящее стихотворение.
— Нет, не знаю… Хотите, мы вместе сходим в районную библиотеку и разыщем его!
— Идет! — с радостью согласился Белянин.
С высокой горы открылся вид на Тихую Губу.
— Вам в райотдел МВД? — спросил Зайков.
— Нет, брат… Вези–ка меня к главному начальству, в райком.
Глава третья
1
Большое старинное село Тихая Губа своим видом производит двойственное впечатление. Все зависит от того, с какой стороны к нему подъезжаешь. Пассажир из Петрозаводска, впервые попавший в эти края, вправе разочарованно воскликнуть:
— И это райцентр?! Типичная деревня!
Он прежде всего обратит внимание на старые бревенчатые дома с потемневшими крышами и с перекосившимися мелкодольчатыми окнами. Таких домов в Тихой Губе пока еще большинство.
Житель района, въезжающий в Тихую Губу с запада, остановится на горе, окинет село довольным взглядом и радостно улыбнется. Он прежде всего увидит высокие светлые здания: райкома партии, школы–десятилетки, больницы, Дома культуры, конторы леспромхоза, универмага, детского дома. Да мало ли в Тихой Губе новых хороших зданий, которые выросли в последние годы и своими крашеными фасадами изменили облик села. А если учесть асфальт, желтые дорожные знаки, белые оградительные столбики вдоль кюветов, уличные фонари, не менее десятка автомашин, которые всегда можно увидеть одновременно на главной улице, — то чем не город Тихая Губа?!
Нечто подобное произошло и с Виктором. Он проезжал Тихую Губу всего десять дней назад. Тогда село представилось ему большой и мрачноватой деревней.
Теперь Тихая Губа показалась ему чуть ли не городом. Он приятно ощутил легкое покачивание машины, ровно бегущей по гладкому асфальту, с интересом читал поблескивающие стеклом, так похожие на городские вывески, с удовольствием любовался высокой трубой, которая ничем не отличалась от заводских и наверняка принадлежала или леспромхозовским мастерским, или районной разнопромартели.
С еще большим интересом озирался по сторонам Белянин. Он был в Тихой Губе впервые и въезжал в нее с запада.
Даже Зайков заметно оживился. То ли вид райцентра на него подействовал, то ли он был рад, что благополучно добрался до цели, но когда машина спустилась с горы и плавно вкатилась на асфальтированную улицу, Зайков долго, без особой нужды, нажимал на сигнал, распугивая бродивших по обочине кур и оповещая всех о своем прибытии.
2
С хорошим, приподнятым настроением Курганов и Белянин вошли в кабинет первого секретаря райкома партии Гурышева. Пригласили одного Виктора, но Белянин увязался за ним.
— Я ненадолго. Представлюсь и побегу по своим делам.
Гурышев встретил их, сидя за большим письменным столом с телефонным аппаратом справа и с кипой разноцветных папок слева. Высокий, широкоплечий, с густой светлой шевелюрой, низко спадавшей на упрямо нависший над глазами лоб, он по своему облику ничем не отличался от молодых парней, каких можно встретить на любом лесопункте за рулем трактора или с электропилой в руках. Его широкое с мелкими чертами лицо выглядело слишком простоватым для райкомовского кабинета. Казалось, что Гурышев непривычно чувствует себя даже в черном шевиотовом костюме и полосатом шелковом галстуке, повязанном огромным узлом. Ему более подошла бы небрежно расстегнутая рубашка с закатанными до локтей рукавами, из–под которой на груди обязательно должен выглядывать уголок тельняшки. Но Гурышев был одет подчеркнуто строго и аккуратно. На левом лацкане пиджака тускло поблескивал орден Красного Знамени. Виктор сам никогда не носил своих наград и с удивлением смотрел на людей, выставлявших напоказ свои знаки отличия. Так уж повелось с первых послевоенных лет. Но орден Гурышева не вызвал у него этих чувств. Этот орден отличался от его собственного, он был покрупнее и держался не на ленточке, а был наглухо привинчен к пиджаку. Такие награды давали лишь до войны и в самом ее начале.
Гурышев что–то размашисто писал. Его левая рука в кожаной перчатке безжизненно лежала на столе, придерживая своей тяжестью листок. Увидев посетителей, он весело поднялся:
— Проходите, товарищи! Здравствуйте! Кто же из вас Курганов? Думаю, что вы? — он запросто ткнул пальцем в грудь Виктору и, пожимая руку Белянину, засмеялся: — А вот кто вы, простите, не знаю?..
— Разрешите представиться — замполит третьего отделения исправительно–трудового лагеря капитан Белянин.
— Не надо так официально, — засмеялся Гурышев, — а то и мне придется перед вами навытяжку стоять. Я ведь всего–навсего бывший лейтенант.
Он вернулся к своему креслу, привычным движением уложил на столе согнутую левую руку, поинтересовался.
— У вас, наверное, какое–нибудь общее дело есть?
— Нет. Мы вместе приехали. Попутчиками оказались…
— Довод важный, — усмехнулся Гурышев и посмотрел на Белянина: — Ну, я слушаю вас.
Капитан придвинулся поближе к столу секретаря. В его глазах неожиданно загорелись лукавые огоньки.
— Скажите, товарищ секретарь, сколько на данный момент у вас в районе первичных партийных организаций?
— Первичных партийных организаций? — удивился Гурышев. — Почему вас это интересует?
— Потому, — Белянин уже не прятал веселой улыбки, — что вы наверняка считаете их на одну меньше.
— Постойте, постойте! Догадываюсь… Вы со строительства железной дороги?
— Да, товарищ секретарь. Вошли, как говорится, во вверенные вам границы и пойдем по району пятьдесят пять километров. Просим принять на учет нашу парторганизацию охраны лагеря.
— Таким вестям нельзя не радоваться, не так ли, Курганов? Не одни же вы дорогу строите. Значит, я мог ошибиться сразу на несколько первичных организаций? — улыбнулся он капитану.
— Пока только на одну… Строительно–монтажные поезда еще находятся на территории соседнего района. А скоро и они придут к вам.
— Ну как скоро — через месяц, два, три?
— Думаю, к концу года они пойдут уже по вашему району.
— Очень хорошо! Скажи, товарищ Белянин, — Гурышев вышел из–за стола, сел напротив капитана, — сколько времени понадобится, чтоб пройти эти пятьдесят пять километров?
— Трудно сказать… — замялся Белянин. — Ведь не от нас зависит, как строители пойдут.
— Ну все же. Хотя бы приблизительно.
— Знаете, товарищ секретарь, я ведь сам не в курсе подробностей. В мои прямые обязанности это не входит, все знаю только в силу собственного интереса… Вам бы, может, лучше в управлении побывать.
— Ну вот и выкладывайте все, что знаете в силу собственного интереса, — с улыбкой потребовал Гурышев. — Расскажите, где будут станции. Вот карта! Вы не стесняйтесь! Курганов свой человек, ему через год с этой самой дорогой в прямом контакте работать придется.
Район Белянин знал великолепно. Он свободно перечислял озера, названия которых даже не были приведены на карте. По–военному четко, начиная от узловой станции, он провел карандашом линию трассы, отметил каждый разъезд. Виктор, которого этот разговор интересовал не меньше, чем Гурышева, с напряжением ждал, будет ли станция на пересечении строящейся дороги с войттозерским трактом. Карандаш медленно полз вверх, вот он обогнул Засельское озеро с запада, вот уже пересек тракт и застыл.
— Здесь предполагается самая крупная в вашем районе станция… — сказал Белянин. — У нас здесь большое задание по строительству. Будем строить не временные бараки, а капитальные дома.
— В Заселье большой лесозавод запроектирован, — пояснил Гурышев Виктору.
Отметив еще три разъезда, карандаш Белянина вышел из пределов района и бегло заскользил на север.
— Ну, что ж, спасибо тебе, товарищ капитан, — сказал Гурышев. — И за добрую весть спасибо, и за то, что имеешь такой широкий «собственный интерес»… Видишь, как хорошо ты нам все объяснил, а скромничал… Ты, наверное, и о делах своей парторганизации собирался потолковать.
— Честно признаюсь, не рассчитывал, — смущенно заулыбался Белянин. — Я ведь в Петрозаводск добираюсь, решил по пути зайти. Для дружбы и пятьдесят верст не околица! А вдруг не захотят нас на учет принимать? — пошутил он.
— На учет примем, — серьезно пообещал Гурышев. — Но о делах лучше потом потолковать. Вы ведь пока в соседнем районе на учете. Неудобно получится. Давай так договоримся! Ты езжай в Петрозаводск, делай свои дела, согласовывай все с начальством, а вернешься — сообщи, и я к вам выберусь…
— Вот это дело! Будем ждать! — пожимая руку, воскликнул Белянин. Уже от дверей он предложил Виктору: — Давай часа в три в столовой встретимся. Пообедаем вместе, потом в библиотеку заглянем.
3
Гурышев проводил его довольным взглядом.
— Живой мужик, люблю таких.
Некоторое время молчали. Видимо, Гурышеву нелегко было перейти от воодушевляющих мыслей о железной дороге к другим делам.
— Здорово, а? Как ты считаешь, Курганов? — кивнул он в сторону карты.
— Знаете, — горячо сказал Виктор. — Вышла очень занятная вещь. Десять дней назад я подумал об этом. Так и подумал: только с дорогой можно взять лес, перезревающий, веками нетронутый и заживо гниющий на многих десятках километров.
— Ну, допустим, до революции в Заселье лес рубили, — заметил Гурышев, которому почему–то не очень пришлось по душе откровение Курганова. — Рубили и гнали в Финляндию. Финские промышленники орудовали.
Гурышев одной рукой ловко переложил папки, выбрал одну из них, достал какую–то бумагу, исписанную с обеих сторон фиолетовыми чернилами, начал ее читать.
— Как же ты, товарищ Курганов, помимо райкома и леспромхоза приехал в Войттозеро и начал командовать, а?
— Не понимаю. Разве мое назначение не было согласовано? Меня направил трест.
— Шучу, шучу, — оторвался от чтения Гурышев и отодвинул бумагу в сторону. — А все же нехорошо, десять дней работаешь в районе, а мы тебя и в глаза не видели. В первые дни думал: приедет же он на учет становиться, а потом узнаю — беспартийный. Пришлось пригласить для знакомства. Не обижаешься? Хотя обижаться на вызов в райком партии ты не имеешь права. Ты же комсомолец? Или ты из комсомола решил уйти? Почему на комсомольский учет не становишься?
— Поздно уж по возрасту. Двадцать девять уже стукнуло.
— Ну, а в партию почему не вступаешь?
— Есть причина…
— Какая, если не секрет?
— Долгая история…
— Ну, а все же? Хотя бы в общих чертах.
— Тут в общих нельзя… В общих тут никто и не поймет ничего.
— Суть–то, суть в чем? — Гурышев уже неодобрительно посмотрел на упершегося глазами в стол Курганова. — Ты можешь мне суть раскрыть? Что у тебя, проступок какой, или с биографией не в порядке?
— С биографией все в порядке. В детдоме я вырос, с десяти лет в детдоме… А в войну получилось так, что… в общем, послали нас двоих… на смерть послали…
«А вдруг не поймет он? Или не поверит?» — подумалось Виктору.
— Струсил, что ли? — Глаза Гурышева так и впились в собеседника. Курганов даже вздрогнул от этого жесткого взгляда. — Не бойся. Говори честно. Теперь дело прошлое. Судить тебя за это никто не будет.
— Нет, не струсил… Трусом я никогда не был. Я просто нарушил приказ командира.
— …И не выполнил задание? — подсказал Гурышев.
— Нет, задание было выполнено.
— Так в чем же дело?
— А в том, что я должен был погибнуть, — повысил голос Виктор. — На смерть нас посылали двоих… Понимаете?.. Меня и Пашку Кочетыгова.
— Погибнуть, погибнуть! — Гурышев тоже повысил голос и поднялся над столом — высокий, широкоплечий, чуть скосившийся плечом в одну сторону. — Может, и я должен был погибнуть, а погибли другие… Не всем же погибать… Что ж, и я, как баба, должен теперь ныть и плакаться? Неискренне это, Курганов, неискренне и неубедительно.
— Но вы понимаете, что мы нарушили приказ командира… К острову–то пошел один, а я остался.
— Но задание–то, ты говоришь, вы выполнили, не так ли?
— Да, так. Но выполнил его один Кочетыгов. А меня наградили… По ошибке, конечно. И все потому, что я сразу все не рассказал, а потом в госпиталь отправили.
— Слушай, Курганов, — сощурился Гурышев, глядя сверху вниз на Виктора. — Ты парень, вижу, умный… Скажи, ты не кокетничаешь сейчас передо мной, а? Не нравится мне этот разговор. Учти, я тоже фронтовик и понимаю, что к чему.
Уловив на лице Гурышева чуть заметную усмешку, Виктор с открытой неприязнью посмотрел ему в лицо и медленно спросил:
— У вас есть двадцать минут времени?
Гурышев постоял в раздумье, потом подошел к телефону, снял трубку, назвал номер и коротко предупредил, что он задержится и просит начинать без него. В его разговоре по телефону прозвучала такая начальническая беспрекословность, что Виктор даже удивился, как это минуту назад он решился вести себя с Гурышевым не только на равных, но даже и повышать на него голос.
«Если он сядет за стол и произнесет «слушаю», то про Олю я ему не стану рассказывать!» — подумал он.
Гурышев сел за стол, но слово «слушаю» не произнес.
Виктор повторил почти все, что уже рассказал Орлиеву.
Вначале он долго не мог совладать с голосом, настроиться на тот грустный и откровенный лад, при котором, как ему казалось, только и можно было понять и оценить все случившееся на Войттозере в мартовскую ночь.
Гурышев слушал молча и подчеркнуто равнодушно. Поэтому слова, назначенные мягко и доверительно долетать лишь до уха собеседника, неприятно отдавались во всех углах притихшего и словно замершего кабинета.
Второй раз Виктор сам, по собственному желанию, рассказывает об этом, и второй раз так неудачно получается.
— Слушай, я ведь помню ту операцию, — вдруг перебил его Гурышев. — Я тогда в Беломорске был, в ЦК комсомола работал…
С этого момента все пошло по–другому. Виктор, сам не зная почему, решил, что Гурышев верит ему, и говорить сразу стало легче.
— Потом, уже в госпитале, я узнал, что меня наградили орденом Красного Знамени, — закончил рассказ Курганов. — Я долго мучился, переживал, потом написал в штаб партизанского движения.
— О чем написал?
— Что незаслуженно меня наградили… Я не заслужил никакого ордена. Это все Павел Кочетыгов…
— Глупо сделал, что написал, — махнул рукой Гурышев. — Награду ты заслужил… Не каждый раненый за такое дело возьмется… Слушай, а этот Кочетыгов, видно, настоящим парнем был, а?! — с восхищением и даже завистью спросил он. — Вот это друг!.. Ты не ошибся, спички и верно целыми были? А то уж как–то, знаешь…
— Честное слово!
— Значит, парень очень любил эту Олю, — задумчиво произнес Гурышев. Он долго молчал, глядя в окно, на мутно–серое небо, низко висевшее над озером. Потом резко повернулся к Виктору.
— И ты эту историю со спичками никогда никому не рассказывал? Так все годы и держал при себе?
— Нет, почему же… Два раза рассказывал. Первый раз давно уже, сразу после войны… следователю. Я тогда на Урале жил…
— Следователю? При чем тут следователь?
— Не знаю… Он составил протокол и уехал. Я думаю, было это связано с моим письмом в штаб партизанского движения.
— Возможно, и с письмом…
— Ну, а совсем недавно я рассказал все Тихону Захаровичу.
— Интересно, как он отнесся?
— Отнесся… — виновато улыбнулся Виктор. — «Не знал я, говорит, этого, когда твой наградной лист заполнял…» А потом принялся так распекать меня, так распекать… В общем–то, конечно, он прав.
— В чем прав? — нахмурился Гурышев.
— В отношении меня… Конечно, я должен был понести наказание. Только напрасно он думает, что я не понес его. Вы думаете, легко это — жить и чувствовать себя подлецом, человеком, оставшимся в живых только благодаря чужому благородству.
— Чужому? — переспросил Гурышев. — Но ведь Кочетыгов был твоим другом.
— Зачем же нужен был тот обман со спичками?
— Но ведь была еще и Оля, которую он любил.
— Оля?! — Виктор смутился, примолк. — Да, конечно… А вы знаете, может, из–за этой самой спички у нас с ней ничего и не получилось. Я искал ее, писал, куда только мог, а сам в душе боялся той минуты, когда мы встретимся и мне придется рассказать все.
— Ты что, и до сих пор не знаешь, где она?
— Она живет в Войттозере… Оля Рантуева, мастер на лесопункте.
— Как, эта самая Оля и есть? — удивился Гурышев. — У нее, кажется, растет мальчик?..
— Да, она была замужем…
— Эх вы, — огорченно махнул рукой Гурышев. — Она замужем, ты женат. Такого чувства сберечь не могли… Ты–то ведь любил ее?
— Любил.
Несколько раз звонил телефон. Гурышев брал трубку, успокаивал: «Сейчас, сейчас, еще несколько минут!» — и поспешно бросал ее на рычаг.
— Вот за это я бы вас с удовольствием высек. И тебя и ее. Такого чувства сберечь не могли! — повторил он. — Запутался ты, парень! Нет, не в жизни запутался, а в самом себе. В жизни у тебя все правильно, как надо! Завод, академия, лесопункт — все хорошо и правильно. На лесопункте, говорят, смело и энергично ведешь себя. А в себе самом запутался, вроде и сам не знаешь, чего тебе хочется. Правильно я говорю?..
— Правильно… Только я знаю, чего я хочу...
— А ну–ка поделись со мной?
— Работать хочу… По–настоящему. Вот вы опять не поверите, думаете, я — для красного словца… А я по–настоящему хочу. Работать и жить! Знаете, хочется сделать что–то большое и нужное людям!
Гурышев так пристально посмотрел на него, что Виктор покраснел и замолчал.
— Затянулся наш разговор, а мне уходить надо, — помолчав, поднялся Гурышев. — Даже вот по этому письму нам поговорить не пришлось. — Он потряс листком, исписанным фиолетовыми чернилами. — Тут письмо на тебя. Жалоба целая в связи с твоим назначением…
— Жалоба? От кого же? — пересохшим ртом спросил Виктор.
— Ладно, это все ерунда. Теперь вижу, что и яйца выеденного не стоит. А что касается нашего разговора, то скажу не как секретарь райкома, а по–дружески. Хороший, видать, ты парень. Но на все смотришь как–то через себя, через свою душу, что ли… А душа у тебя неспокойная, потревоженная… Неужели ты и работать собираешься только лишь за тем, чтоб себя реабилитировать, совесть свою успокаивать? Так ведь можно, знаешь, до чего дойти? Знаешь, в чем твоя ошибка? Ты ищешь цель жизни в самом себе, а надо видеть ее вне себя… Может, и не понятно я говорю, но честное слово, я как–то почувствовал это.
— Нет, понятно… Но неужели уж я такой? — тихо спросил Виктор.
— Да нет, — досадливо махнул рукой Гурышев, — я не говорю, что ты такой. Я хочу только, чтоб ты не стал таким. Ты когда домой едешь?
— Если успею — сегодня вечером… Надо еще в леспромхозе побывать, в мастерские заглянуть, запчасти оформить.
— Ну, вот что!.. Если не уедешь сегодня — приходи вечером ко мне. Домой. Там посидим, потолкуем… Договорились? Часам к десяти я буду дома обязательно…
4
Директора леспромхоза Потапова на месте не было. В конторе его ждали несколько человек. Все они хорошо знали друг друга, и в приемной держался веселый разговор. Секретарша — молоденькая девушка, почти подросток — тоже принимала в нем участие, а на вопрос Виктора пожала плечами.
— Вчера из отпуска вышел, с ночи куда–то уехал, а куда — не знаю.
Подождав несколько минут, Курганов уже собирался уйти, чтобы заглянуть попозже, когда дверь широко распахнулась и в кабинет, ни с кем не поздоровавшись, торопливо прошагал низенький, хмурый мужчина в брезентовом плаще и замызганных сапогах. По тому, как дружно поднялись со своих мест ожидающие и все разом, доставая из сумок бумаги, потянулись к кабинету, Виктор понял, что пришел Потапов.
Секретарша поспешно поставила на стол машинку и начала двумя пальчиками что–то выстукивать, настороженно поглядывая на незнакомого молодого человека, который неизвестно чего ожидает здесь, когда директор у себя в кабинете.
— Директор пришел… — робко напомнила она, встретившись с Виктором глазами.
— Ничего, я подожду…
Ждать пришлось недолго. Из кабинета один за другим выходили люди, прятали в сумки подписанные требования, весело прощались с секретаршей и убегали на склад или в мастерские. Не прошло и пяти минут, как секретарша сказала:
— Там больше никого нет.
Потапов сидел за столом, даже не сняв плаща. В руке он держал остро отточенный с обоих концов красно–синий карандаш. На его худом, землистого цвета лице ничего нельзя было прочесть, кроме безмерной усталости и недовольства. «Вот я старый и больной, — как бы говорило оно, — день и ночь мотаюсь по лесопунктам, а вы, молодые и здоровые, надоедаете мне бумажками…»
Сверкнув на Курганова желтоватыми белками, Потапов сделал в его сторону едва заметное движение, как бы протягивая руку за бумагой, на которой ему предстояло поставить свою резолюцию. Однако увидев, что Курганов пришел не за этим, он раздраженно ерзнул и отложил карандаш.
Виктор представился, пожал директору горячую мягкую руку и, не дождавшись приглашения, сел на стул у стены. Ни интереса, ни даже вежливой улыбки не заметил на лице директора. Как будто новые техноруки приезжают к нему ежедневно, и все они изрядно ему надоели…
— Думают ли в Войттозере план выполнять? — не глядя на Виктора, хмуро спросил Потапов.
Виктор не знал, что директор предпочитает разговаривать в третьем лице, и, не поняв, что этот вопрос обращен прямо к нему, ответил:
— Думают…
— Что они думают — неизвестно? Второй квартал завалили, июль завалили, август заваливают. Дядя за них работать должен.
Потапов явно избегал смотреть на собеседника и даже сидел, чуть отвернувшись в сторону. А поскольку каждое слово он сопровождал короткими нервными жестами и покачиваниями головы, то выглядело это смешно: как будто он разговаривал с кем–то третьим, невидимо сидевшим прямо перед ним.
— Сколько там дают за день? Двести сорок кубов вчера, двести тридцать позавчера. А надо сколько? Четыреста надо по плану. А задолженность дядя за них перекрывать будет? Они, видите ли, думают…
Выждав момент, Курганов подробно изложил свои предложения по улучшению работы лесопункта. Потапов, слушая его, по–прежнему смотрел куда угодно, но только не на собеседника. Виктор как–то очень быстро привык к этой манере директора. И даже оценил ее достоинства: с Потаповым можно было разговаривать, не сковывая себя требованиями вежливости.
— Тихон Захарович в курсе? — спросил Потапов.
— В курсе.
— Чего же в Войттозере от меня хотят?
— Разрешения создать дорожный участок и начать переход в другие кварталы.
Потапов неожиданно повернулся и на какой–то миг в упор посмотрел на Курганова. Это длилось не больше мгновения, но в его глазах Виктор успел уловить и явную заинтересованность, и недоверчивую настороженность.
— Если в Войттозере думают укрыться за моей спиной, — вновь отвернувшись в сторону, медленно сказал директор, — то зря на это рассчитывают… Спина у меня узкая и всех не закроет… Головы у самих есть? Есть. И не простые головы. Академии окончили. Раз есть — пусть думают. А надумали — нечего за чужие спины прятаться!
— Мы не прячемся, — заторопился Виктор. — Нас только смущает неизбежное временное снижение вывозки, пока переходить будем… Вы же сами ругать будете… Позже мы все это наверстаем обязательно. И потом неизбежен перерасход фонда зарплаты на дорожное строительство.
— Ругать будем, вас нельзя не ругать. А план Войттозеру спущен в соответствии с производственно–техническими нормами плюс установленный процент роста производительности труда. План никто отменить не может… При перевыполнении плана фонд зарплаты естественно увеличивается… Все определяет результат.
— Значит, вы не запрещаете? — радостно спросил Курганов. Он уже потерял надежду получить согласие леспромхоза и готовился пойти за помощью к Гурышеву. Но, как оказалось, Потапов не такой уж и формалист.
— Молодой человек, я запрещаю лишь одно — не выполнять план. Можете переходить куда угодно, хоть на Луну… Но если, черт побери, в Войттозере опять провалится месячный план, то тогда…
— Месячный мы обязательно провалим, — пообещал Курганов. — Осталось меньше недели.
Потапов второй раз метнул взгляд на Виктора.
— Молодой человек, я не слышал ваших демобилизующих настроений, понятно?! И не советую высказывать их в другом месте.
— Возможно, даже квартальный провалим! — не слушая предупреждения, продолжал Виктор. — Зато к концу года с лихвой перекроем всю недоимку. А главное, дальше на долгое время войдем в график, в хороший ритм. Конечно, если немедленно исправим ошибку с лесоотводами. Помогите нам запчастями… И потом, нельзя ли выделить нам еще один бульдозер?
— Ни на одном лесопункте у нас нет столько техники, сколько в Войттозере… И все мало! В болотах там ее топят, что ли?
— Случается и такое, — улыбнулся Курганов, наблюдая, как Потапов вновь установил контакт с невидимым собеседником. — Работаем в таких делянках, что на днях один трактор действительно чуть не утопили…
Он достал из кармана отпечатанную на машинке бумагу и положил ее на стол перед директором.
— Что это? — Потапов взял карандаш, заглянул в список.
— Список запчастей. Здесь самое необходимое.
— В Войттозере не умеют даже оформлять документов… — в прежней медлительной и безразличной манере начал было выговаривать директор, но сразу же нашлось дело карандашу, и выговор остался незаконченным. — Этого у нас нет… Этого тоже… Ну, а где же резина? Ах, вот… Жирно, жирно жить хотите… Резина на дороге не валяется… Наполовину срежем. А это, пожалуйста, берите хоть того больше.
Список покрылся размашистыми синими пометками и исправлениями.
— Возьмите бланки и выпишите настоящие требования, — вернул список Потапов. — Все, что есть, дадим. Будет бульдозер — дадим и бульдозер. Все сделаем… Повторяю, молодой человек… Победителей у нас не судят… Но если…
— Все ясно, товарищ директор! — весело поднялся Виктор. — Разрешите идти?
— На днях я к вам приеду! — выкрикнул Потапов, когда за Кургановым дверь уже захлопнулась.
Глава четвертая
1
«Дорогая тетя Ася!
Сегодня получила твое первое письмо. Прежде всего не волнуйся. Я тебе написала сущую правду. У пас все идет хорошо. Войттозеро — это не какая–то богом забытая деревушка, а настоящий поселок, почти город. Здесь все есть — и кино, и электричество, и библиотека, и школа. А магазин, знаешь, какой? Удобней ленинградских. У одного прилавка ты можешь купить и приемник, и пуговицы, и селедку, и хлеб. Даже мотоциклы бывают. Если чего и нет, то можешь прямо обратиться к продавщице. «Маша, будешь на базе, узнай, скоро ль привезут швейные машины или, скажем, пальто зимние?» А люди, знаешь, какие чудесные — простые, добрые, и все друг друга знают.
У меня сегодня радость. Наш директор предложила мне кроме основной нагрузки еще восемь часов литературы в вечерней школе. В этом году открываются четыре класса вечерней школы — пятый, шестой, седьмой и восьмой. А дальше будем прибавлять по классу в год.
Мои будущие перваши — это чудо! Каждый день у школы торчат часами. Проходу нет: «Тетенька, а сколько дней до школы осталось?» — «Еще пять дней». — «А пять дней — это много?» Анна Никитична дала мне книгу по методике преподавания в младших классах. Прочитала — и прямо в ужас пришла, какое это сложное дело! Все меня успокаивают, а я все равно волнуюсь…
Наша хозяйка, тетя Фрося, — удивительный человек! Подумай только — ей уже шестьдесят лет, а она с рассвета до ночи на ногах. Дома все сготовит, приберет, бежит в общежитие лесопункта уборку делать. Там восемь комнат, живут парни, так что работы хватает. А кроме того — корова, огород, сенокос, да еще успевает и сети «похожать». В прошлое воскресенье мы были на сенокосе. По–честному, мне не понравилось. Какой же сенокос, когда траву по горсточке горбушей резали? Лугов здесь мало, заросли лесом. Но зато сети «похожать» — какое удовольствие! Я научилась хорошо грести и лодку так держу во время «похожки», что тетя Фрося даже хвалит. Рыба сейчас идет — ряпушка. Она очень вкусная, если зажарить в малой воде. Это, знаешь, надо на большую сковородку ровными рядами уложить рыбу спинкой вверх, посолить, залить водой, добавить чуть–чуть, для вкуса, масла, и на огонь… Быстро и вкусно.
Тетя Ася! Ты просишь, чтоб следующее письмо тебе написал Виктор. Пойми, что ему некогда. Он с утра до ночи занят. Даже ночью он бредит о волоках, эстакадах и лесосеках. Его здесь хвалят, я уже сама не один раз слышала в клубе и в магазине… А здесь зря хвалить не станут.
Мы решили каждый месяц посылать тебе по триста рублей, чтоб хоть немного отплатить за все то добро, что ты сделала для нас и особенно для меня. Пожалуйста, не отказывайся, а то мы обидимся. Мы ведь вдвоем будем зарабатывать много–много! Одна я буду получать целых две повышенных стипендии!
Если будут звонить девочки с курса, то скажи им, что я обязательно напишу, но потом, когда проведу первые уроки…»
Вдруг Лена почувствовала себя так, как будто в комнате кто–то есть. Она испуганно подняла голову. Света керосиновой лампы явно не хватало на всю кочетыговскую горницу. Медленно, очень медленно проявлялась дальняя, оклеенная серыми обоями стена с черным прямоугольником низкой двери, с тускло поблескивающим латунным умывальником у порога, с посудной горкой в левом углу и кадкой для воды под нею. Весь правый угол занимала большая смутно белевшая печь. Все было на своих, исстари заведенных и уже ставших для Лены привычными местах.
Успокоившись, Лена ткнула пером в стеклянную невыливайку, чтобы закончить письмо, прочла последнюю фразу и задумалась. Перед глазами — одна из самых любимых ею аудиторий: сорок пятая. Широкие, обитые черным линолеумом столы, тяжелая, как бы раздавшаяся вширь, кафедра, за окнами — Нева, Адмиралтейство, Исаакий… Подруги, тайком, чтоб не заметил лектор, читают се письмо, которое она им напишет. Им не терпится узнать, что и как, — ведь через год у них тоже будет свое Войттозеро.
«Тетя Ася! Приезжай к нам будущим летом в отпуск, и сама увидишь, как хорошо здесь у нас…»
Лена с сожалением посмотрела на окно, перечеркнутое поблескивающими ручейками мелкого дождя так густо, что стекло изломанно и расплывчато отражало и лампу, и стол, и саму Лену. И вдруг за всем этим она скорее угадала, чем увидела, мелькнувшее белое пятно.
«Да что это я? Никого там нет, просто показалось», — успокаивала она себя, а сама против воли поглядывала на окно.
Дождь неслышно и неторопливо сек по стеклу, которое искрилось мелкими, вспыхивающими на свету каплями. На мгновение капли замирали, потом, отыскивая друг друга, оплывали все ниже и ниже, пока не сливались в ровные струйки, стремительно и беспрерывно сбегавшие в темноту.
Так длилось минуту, две, три… Так длилось весь вечер. Прежде веселые переливы осеннего дождя успокаивали, рождали ощущение тепла и уюта. Теперь они казались исполненными какой–то настороженности… Чтобы хоть как–то прорвать тишину, Лена громко откашлялась, попробовала даже вполголоса запеть, но через минуту поймала себя на том, что невольно сдерживает дыхание и прислушивается.
Она поняла, что не успокоится до тех пор, пока не узнает, был ли кто за окном или ей это показалось.
Лена взяла лампу и решительно направилась к двери. Тяжелая, обитая снаружи старым войлоком дверь со скрипом отворилась, свет лампы задрожал на нетесаных стенах сеней. Лена огляделась и открыла дверь на крыльцо. Из темноты выступили мокрые перильца с развешанными на них половиками, сбегающие влево ступеньки, и все вдруг пропало: лампа ярко, до самого верха стекла, вспыхнула красноватым пламенем и погасла.
В ту же секунду Лена услышала удаляющиеся шаги.
— Кто там? — крикнула она, испугавшись скорее внезапной темноты, чем этих хлюпающих по грязи шагов.
Шаги смолкли.
— Кто там? — дрожащим голосом повторила Лена. Она уже начала кое–что различать в темноте, но мешали огни поселка на другом берегу залива. Они тянулись ровной редкой цепочкой и били прямо в глаза.
Никто не отвечал. Лена уже решила захлопнуть дверь и наложить на нее засов, как вдруг на фойе смутно серевшего озера увидела человека. Он стоял на тропе вполоборота к дому, как будто желая и не решаясь отозваться на оклик.
— Живет ли здесь Ефросинья Кочетыгова? — хрипло спросил незнакомец, и по чуть заметному акценту Лена догадалась, что он карел.
— Да, да, живет, — обрадованно ответила она.
Незнакомец сделал несколько шагов к дому и вдруг остановился.
— Позовите ее, — попросил он.
— Сейчас ее нет дома, она в поселке. Но вы, пожалуйста, входите, она скоро должна прийти…
Незнакомец посмотрел в сторону поселка и ничего не ответил. Потом, зябко поежившись, стал под навес крыльца.
— Что же вы будете здесь мокнуть? — заговорила Лена. — Входите, прошу вас…
— Ничего, — успокоил ее незнакомец. — Ведром больше, ведром меньше — теперь все одно. Я и так промок.
— Простите, но это какое–то ребячество стоять под дождем, когда можно посидеть в комнате!
Лена и сама начинала мерзнуть, но уйти, оставив незнакомого мужчину у крыльца, она не могла.
— Ребячество?! — усмехнулся мужчина. — Вы кто, квартирантка?
— Да, я живу здесь.
— Давно?
— Недавно, вторую неделю.
— Я так и подумал! — хрипло засмеялся незнакомец и вдруг закашлялся: — И верно, сырость проклятая, пожалуй, можно и в избу зайти, а?
— Не можно, а нужно… Входите! Я сейчас лампу зажгу.
2
Найти спички ей сразу не удалось. Она долго шарила рукой по столу, натыкаясь на книги, бумаги, чернильницу. Потом, вспомнив, что днем часто видела на каком–то из выступов печи коробок спичек, принялась искать там, но сейчас, как назло, ничего не находила.
Гость, встряхнув в сенях одежду, уже вошел в избу и стоял у порога, ждал.
— Спички потерялись. У вас случайно не найдется? — спросила Лена, продолжая ощупывать выступ печи.
Незнакомец сделал шаг к печи, пошарил там и сразу затряс спичечным коробком.
— Как же нет? Вот, пожалуйста…
Лена протянула руку, но он, не замечая ее, торопливо чиркнул спичкой. Первая не зажглась, сломалась. Он бросил ее на шесток и достал вторую. Коробок, видно, был затертым, и вторая, синевато искрясь в темноте, тоже не загорелась.
— Вот, черт! — выругался гость, доставая третью.
— Да у вас, наверно, руки мокрые, — извиняющим тоном сказала Лена, и в это время спичка вспыхнула.
Совсем близко от себя Лена увидела белое лицо, окаймленное густой бородкой, в которой поблескивали капельки влаги, и встревоженно озирающиеся молодые глаза, так не вязавшиеся ни с бледностью лица, ни с пожилой степенностью бороды.
Медленно, как бы пытаясь узнать и не узнавая, гость оглядывал все, что можно было увидеть в желтом пропадающем полусвете. Спичка догорала, пламя уже почти касалось его бурых, чем–то покалеченных пальцев, но он не замечал этого: подняв над собой огонь и чуть подавшись вперед, он вглядывался, как будто искал что–то в избе.
Лена удивленно смотрела на незнакомца. И он, видимо почувствовав это, усмехнулся:
— Так и будем стоять? Где лампа?
Он зажег лампу, поставил на стол, а сам сел на лавку в дальнем углу.
— Вы занимайтесь своим делом, я не помешаю.
Лена предложила ему снять мокрый ватник, но он отказался и даже не снял с головы серой матерчатой фуражки с обвисшим козырьком.
— Хотите чаю? — вдруг обрадованно предложила Лена. — Это быстро, у нас самовар всегда наготове…
Он посмотрел на самовар, улыбнулся и отрицательно покачал головой. Лене по его взгляду на самовар почему–то показалось, что чаю ему очень хочется, но странное поведение незнакомца насторожило ее, и она не стала уговаривать.
— Девушка, а шамовки у вас не найдется?
— Шамовки? — переспросила Лена, лихорадочно соображая, правильно ли она понимает смысл этого вроде бы знакомого, но так редко употребляемого слова. — Ну, почему же не найдется? Пожалуйста, садитесь к столу, Я сейчас, одну минутку.
Торопливо, словно боясь, что гость передумает, она принялась выставлять на стол что попадалось под руку из еды — хлеб, горшок с молоком, жареную рыбу. Она уже взялась за ухват, собираясь лезть в печь, но гость с улыбкой остановил ее:
— Хватит, девушка, хватит… Спасибо.
— Вы, может, супу хотите? У нас всегда к ужину остается…
— Спасибо, не надо.
— Пожалуйста, не стесняйтесь!
Грузно переступая резиновыми сапогами и оставляя на чистом полу следы, гость прошел к столу и протиснулся по лавке в простенок между окнами.
Умывальник был на виду, рядом с ним висело длинное холщовое полотенце, но он и не подумал вымыть руки. Лишь помедлил в нерешительности — снимать ли ему фуражку? — потянулся к ней, но передумал и принялся за еду.
Теперь вблизи скуластое лицо гостя выглядело значительно моложе, чем показалось Лене сначала. Оно было совсем не белым, а обветренным, покрытым белесыми шелушившимися пятнами. Из–под фуражки на левую щеку выбегала извилистая полоса широкого шрама. Внизу она раздваивалась, одним концом уходя за ухо, а другим прячась в густую, чуть тронутую курчавинкой бородку.
Ряпушку гость ел так, как едят ее в Войттозере, — вместе с костями, беря со сковороды рукой и макая хлебом в жидкий соленый отвар.
— Вы здешний?
Гость перестал жевать, пристально посмотрел на Лену и отрицательно покачал головой.
— Наверное, родственник тете Фросе?
Он кивнул и, помедлив, сказал с еле заметной усмешкой:
— Дальний.
— Я так сразу и подумала, — обрадовалась Лена.
— Почему?
— И сама не знаю, — призналась она. — Только как вы вошли, я сразу подумала… Вы, наверное, давно здесь не бывали?
— Давно, — подтвердил гость.
— Вы устали, промокли…. Хотите, я вам на печке постелю.
— Спасибо, только ночевать я не буду. Некогда. Дождусь… и пойду. — Заметив недоумение на лице Лены, он склонился к столу и, помолчав, пояснил: — Меня машина ждет.
— Во всяком случае без чаю мы вас не отпустим! — не допускающим возражения тоном сказала Лена и принялась за самовар. Она взяла с шестка трубочку бересты и. как это делала тетя Фрося, надорвала се в нескольких местах.
Лена впервые разжигала самовар и очень боялась, что у нее ничего не получится. Но огонь жадно уцепился за краешек бересты, весело затрещал, а когда она бросила горящую растопку в узкую горловину, вытянулся до самого верха. Добавив лучины, она вставила старую кое–где прогоревшую трубу и радостная, как бы ожидая похвалы, повернулась к гостю.
— Откройте вьюшку! — напомнил тот,
Лена огляделась и ничего не поняла.
— Дымоход откройте, — улыбнулся он.
— А–а! — Лена, выпачкавшись сажей, сняла тяжелую чугунную крышку с дымохода.
Огонь в самоваре сразу загудел так же, как гудел он в умелых руках тети Фроси.
Пока Лена мыла руки, гость покончил с едой и устало отвалился к стене. Его повеселевшие глаза медленно бродили по избе, то застревая на каком–нибудь предмете, то быстро перекидываясь из угла в угол, словно проверяя, все ли на месте. Вдруг он весь передернулся, застыл, прислушиваясь.
— Это тетя Фрося, — сказала Лена, услышав мелкие деловитые шаги за окном.
Гость побледнел, незаметно отодвинулся подальше от лампы и бросил на Лену укоряющий взгляд, как будто она была в чем–то виновата перед ним.
Тетя Фрося уже поднялась на крыльцо и, видимо, убирала висевшие там половики.
«Ой, почему же я не убрала их?» — подумала Лена и уже сделала шаг к двери, как гость опередил ее, резко схватил за плечо, отдернул назад и метнулся к выходу.
Дверь взвизгнула и захлопнулась за ним.
Все произошло так быстро, что Лена скорее удивилась, чем испугалась. Она чувствовала, что сейчас что–то должно случиться. Она почему–то верила, что случится только хорошее, и страшно испугалась, когда услышала глухой, похожий на стон, выкрик хозяйки.
Она быстро раскрыла дверь в сени. Гость на крыльце приглушенно говорил по–карельски что–то успокаивающее, но тетя Фрося рыдала все громче и громче:
— Ох… да что ж это такое? Ох, да правда ли это?
— Тетя Фрося, что с вами? — испуганно крикнула в темноту Лена.
— Ленушка, милая! — сквозь рыдания бессильно отозвалась хозяйка, но гость оборвал ее и, распахнув дверь с улицы, торопливо сказал Лене:
— Не беспокойтесь! Идите в избу!
— Ступай, Ленушка, ступай! Я сейчас, — слабым голосом попросила тетя Фрося.
Лена помедлила, потом вернулась в дом, убрала со стола бумаги и прошла в свою комнату.
Обычно Лена дожидалась Виктора, как бы поздно он ни приходил. День обязательно заканчивался чаепитием под руководством тети Фроси. Лена любила эти минуты, когда никто никуда не спешит и все трое стараются услужить друг другу. Но теперь так уже не будет. Лена чувствовала себя обиженной — с ней обошлись, словно в этом доме она чужая. Тетя Фрося тоже хороша: по–иному, как «доченькой», Лену и не называет, а при первом случае показала, чего стоят эти слова…
Лена разделась, легла в кровать, хотя чувствовала, что не заснет.
Они вошли в дом минут через десять. Лена слышала, как тетя Фрося принялась угощать родственника чаем. И хотя она вела себя сегодня совсем по–необычному: суетилась, охала и вздыхала, без толку металась от стола к посудной горке, от самовара к сундуку, где хранился сахар, — Лена по звукам угадывала каждое ее движение. Вот тетя Фрося открыла чайницу, вот отсыпала на руку чаю, чтобы определить на глаз заварку. Вот прошумела струя кипятка, и чайник переместился на конфорку, чтобы заварка разопрела и дошла на медленном жару.
«Сейчас она позовет меня», — подумала Лена. В обычные дни, поставив чайник на конфорку, тетя Фрося, довольная, что хлопотливый день позади, присаживалась к краю стола и певучим голосом приглашала:
— Чаю пить!
«Сейчас позовет… А я откажусь, не пойду, раз она так поступила», — обиженно уговаривала себя Лена, а сама ждала приглашения и знала, что обязательно выйдет к столу.
Выйдет не потому, что ей обязательно нужен этот крепкий чай, к которому она так еще и не могла привыкнуть, а затем, чтобы вернуть те добрые, истинно семейные отношения. Но сегодня все шло по–другому.
Лена услышала, как хозяйка уже разливает чай, и поняла: ее сегодня не позовут.
3
А за столом происходил совсем не веселый разговор.
Не успела мать осознать нежданно свалившееся счастье, как новая беда пришибла ее.
— За что же тебя, Паша, а? За что ж тебя на муку такую, господи? — спрашивала она, а ее сердце и млело от счастья, и горем сжималось за страшную долю сына.
Сын только улыбался в ответ и упрашивал:
— Ну, ладно, ладно… Не плачь, чего ты?
Шрам мешал улыбке. Она получалась какой–то чужой, перекашивающей дорогое каждой своей черточкой лицо.
— Пашенька, сынок! Ты, ить, в героях был. Тихон Захарович говорил, что и к орденам тебя представляли… За что же потом так, а? Неужто мало ты принял в войну муки?
— Ладно, мать, что было, то прошло.
— А сидеть–то долго ли?
— Скоро выйду. Я уже в расконвоированных хожу…
— Пашенька, не таись ты, Христа ради! Скажи ты матери, за что горе такое принимаешь? Чует мое сердце, не виноват ты! А если и ошибся в чем, то по молодости — неужто судят за это?
— Слушай, мама. Ты, смотри, никому не проговорись, что я дома был… А то опять буза выйдет. Да и где я — не говори… Не надо… Освободят — тогда сам вернусь.
— Что ты, сынок! Никому ни слова, об этом и не думай!
— Я ведь третий год здесь, в наших краях. Дорогу по Заселью ведем. Почти каждую ночь собирался тебя навестить. Обернусь, думал, за ночь. Правильно сделал, что не приходил. Могли побег пришить — и баста!
— А теперь–то как — отпустили или без спросу?
— Сейчас ничего… Вовремя вернусь, никто и знать не будет.
— Вай–вай–вай! Да что ж ты у меня такой несчастный! Зачем же ты себя губишь? А коль узнают? Лучше б мне написал, я бы сама прибежала, на крыльях бы к тебе, родимый, прилетела. Неужто повидаться не разрешили бы?
— Ты, мать, за письма не обижайся. Я никому не писал. И писать не буду. Ни строчки. Меня вон сколько уговаривали обжалование написать, а я не стал.
— Зачем же ты так–то! Через гордыню, может, и муку принимаешь.
— И пусть. Не просил и просить не буду… Не о чем мне просить… Слушай, мама, у тебя водки, случаем, нет дома?
— Откуда ж быть ей, пить–то некому… Может, к соседям сбегать?
— Не надо. Вот ты спрашивала, за что я сижу? А я, мать, по крупной попался. С власовцами вместе. Ты знаешь, кто такие власовцы? Они, сволочи, в наших стреляли, а я с ними в одной загородке. И днем и ночью — все с ними, восьмой год уже…
— Ты пей, пей, а то чай совсем остыл.
— Нет, мать, теперь слушай. Пришили мне такую вину, что я даже сам удивляюсь, как к стенке не поставили. И главное, все складно вышло. Помнишь, в сорок третьем я домой приходил, неделю на хлеву жил?
— А как же, Пашенька? Уж как я тогда боялась за тебя!
— С оккупантами я тогда связался.
— Да что ты говоришь, опомнись!
— Это раз! В марте сорок четвертого я отряд на засаду вывел, а сам пошел в разведку и в плен сдался.
— Господи, какие страсти ты рассказываешь? — горестно всплеснула руками мать и зарыдала в голос: — Пашенька, сыночек! Да в кого ж ты такой несчастный выдался?! Зачем же ты сделал это?
— Да никак и ты в ту чепуху поверила? — Павел обошел вокруг стела и, не зная, что делать, остановился.
Он никогда не умел быть ласковым, но сейчас и жалость, и гнев боролись в нем. — Перестань, слышишь! Неужто и ты поверила в эту чепуху? — спрашивал он, неловко трогая мать за вздрагивающее худенькое плечо.
— Хватит, мать… Я думал, ты–то хоть радоваться будешь! Чего плакать–то?! Иль и ты не рада, что я в живых остался?
— Что ты говоришь, Пашенька?! Разве ж я не радуюсь? — Она подняла голову, несколько секунд смотрела на его искривленное в улыбке лицо, хотела сдержать слезы и не могла. Прикрыла глаза кончиком платка и зачастила плачущей скороговоркой: — Разве ж осталась у меня другая какая радость… День и ночь — все о тебе. Плачу–то я от радости, ты не думай! — она всхлипнула, вытерла глаза, улыбнулась, глядя на сына, и вдруг снова залилась слезами: — Загубил ты жизнь свою молодую! За что же так господь наказал тебя!
— Перестань, или я сейчас же уйду!
— Что ты, что ты, сынок! — испугалась мать.
Павел помедлил, потом сел на лавку, вытер ладонью вспотевшее лицо.
— Не виноват я. Ни в чем не виноват! — не глядя на притихшую мать, угрюмо сказал он. — Вся вина моя в том, что следователю чуть в морду не дал, когда тот издеваться начал. «Ну, рассказывай, как Родину, говорит, предал, как от присяги отступился?» Он, сволочь, привык всех на одну мерку мерить. В плену всякие были, попадались и продажные шкуры… А я до самого освобождения в лагерном госпитале пробыл, еле вытянул. Опять же вопрос: «Как же так? Партизан финны чуть ли не на месте расстреливали, а тебя в госпитале держали… Почему?» А я откуда знаю — почему? Может, потому, что война к концу шла… Так и пошел клубок наматываться. Одно на другое, одно на другое… такую картину вывел, что десять лет за милость посчитали… Э–э, да что теперь говорить!
— Как же дальше–то будет, Пашенька?
— Как будет? — переспросил он в нерешительности, подумал и ответил: — Так и будет… Увидим… Через год выйду. А может, и раньше. Поговаривают, что, как только до Заселья трассу доведем, амнистия может быть… Поживу месяцок дома, потом куда–нибудь в другие края подамся. Здесь не стану с этой самой печатью жить… Устроюсь, потом тебя вызову… Поедешь?
— А куда, Пашенька?
— Куда–нибудь подальше. Мест хватит.
— Олюшка–то так замуж и не вышла, — напомнила мать.
— Она здесь, что ли? — нахмурился Павел, хотя эта весть заметно порадовала его.
— Здесь. Мастером работает. Сына растит. Большой уж парень… В школу пойдет нынче… Чудно у нее вышло. Всем говорит, была замужем, да развелась, а никто ее мужа и в глаза не видел.
— Говорит — была, значит — была.
Мать помолчала, помялась и все же спросила:
— Скажи, Пашенька, может, это твой сынок у Олюшки растет?
— Что ты еще выдумываешь? — рассердился Павел и неожиданно для себя почему–то покраснел. Потом рассердился еще больше: — Болтаете попусту языками… Как не стыдно только!
— Я к тому, что Славику вроде пенсия была за тебя назначена, а она отказалась брать ее…
— Вам только бы выдумывать что–то… Человек говорит, что был замужем — так не верят.
— Не сердись, сынок… Что говорят, то и я…
— Поменьше бы болтали, лучше жить было бы.
Павел заметно помрачнел, стал вдруг неразговорчивым.
Вскоре он собрался уходить. Тетя Фрося уговаривала еще погостить, съесть еще что–нибудь, а сердце у самой так и рвалось на части: и с сыном побыть хочется, и боязно, что могут хватиться его там, в лагере. Лучше уж поскорей ему вернуться, от беды подальше быть.
Несмотря на возражения сына, она вышла проводить его. Сначала до крыльца, потом до прибрежной тропки, потом до околицы. И так незаметно, быстро и молча, она шагала за ним больше часу. Чтоб сократить путь, Павел решил возвращаться напрямик по лесу.
Они расстались в семи километрах от деревни, на дальнем конце озера.
Павел торопливо обнял мать, ткнулся бородой в ее мокрое от слез и дождя лицо и почти бегом бросился в темень холодных, осыпавших его каплями кустов.
«Двадцать верст по лесу! Только б не заблудился, да все благополучно кончилось», — подумала мать, вслушиваясь, как его шаги сливаются с шумом дождя.
Глава пятая
1
Первым, кого увидел Виктор, вернувшись домой после поездки в район, был Юрка Чадов. Веселый, раскрасневшийся, он сидел за столом, держа на пальцах одной руки блюдце с чаем. И трудно было понять, то ли он всерьез глаза закатывает от удовольствия, то ли дурачится, разыгрывая сидевшую у самовара тетю Фросю и стараясь рассмешить почему–то хмурую Лену.
— Привет начальству! — крикнул он. — Садись, старина, чайком побалуемся.
— Если желаешь, можно и не только чайком! — Виктор вернулся в хорошем настроении, и неожиданный приезд Чадова его обрадовал: — Можно и в магазин сбегать.
— Нет, нет, в командировках у меня «сухой» закон. Гоняю чаи и наслаждаюсь свежим воздухом.
— У тебя все не как у добрых людей… Говорят, другие в командировках только и позволяют себе выпить, чтоб жена да начальство не видели.
— Вот когда женюсь, может, и я на других похожим сделаюсь, — рассмеялся Чадов.
— Вчера приехал?
— Нет, часа три назад… Пограничники на попутной до самого поселка довезли…
Виктор умылся, сел к столу. Тетя Фрося разожгла на шестке огонь, чтобы зажарить ему свежей ряпушки. Лена засветила лампу и взяла в руки книгу. Все делалось молча, даже подчеркнуто молча… Но Виктор, возбужденный успешной поездкой в район, не замечал этого.
— Тетя Фрося, не беспокойтесь… Я обедал в столовой и сыт… Лена, у нас есть стихотворение «Медвежий угол»? Помнишь, ты его в вагоне читала?
— Помню. Зачем оно тебе? .
— Познакомился с одним интересным человеком… Он помнит четыре строки. Я две… В библиотеке искали — не могли найти.
— Значит, в Войттозере лирикой увлекаются? План заваливают, а о стихах думают?.. Так, так! — Чадов настолько ловко имитировал голос Потапова, что Виктор рассмеялся.
— Знаешь его?
— А кто же не знает Потапыча? Колоритная фигура! Тридцать лет стажа в лесу и не меньше десяти выговоров в учетной карточке… Ворочается, работает… До боли головной, до скрипа в позвоночнике, как сказал бы наш редактор… На таких работягах и ползет наша лесная промышленность. Скрипит, но ползет.
— Ну, а ты громить нас приехал? Одиннадцатый выговор Потапову хлопотать?
— Нет, старик, на этот раз ты ошибся, — улыбнулся Чадов, — совсем наоборот — славить вас, чертей полосатых.
— Твоей славой мы сыты по горло… Какую ерунду ты тогда написал! Читать стыдно.
— Ты о чем? О той заметке? Разве я что–либо исказил? Ни слова выдумки. Сам Дорохов проявил к ней свое высокое внимание… Вызвал меня, подробно расспросил, учти — о тебе расспросил. Наш редактор не больно щедр на похвалы, а и то добрым словом о статье отозвался… Ну, и вот результат! Нужен очерк о делах и буднях Войттозерского лесопункта. Положительный, понимаешь! О том, как партизаны трудятся на местах былых боев.
— Нечем нам пока хвастаться.
— Ничего, найдем! Надо быть диалектиками… В жизни всегда есть и хорошее и плохое. Нужно только уметь его выявить… Большое спасибо, тетя Фрося, за ужин. Давно не пробовал такой вкусной ряпушки.
— Простите, — поднялась Лена. — Можно, я возьму лампу? Вы, пожалуйста, зажгите себе другую. — И она прошла в соседнюю комнату. Тетя Фрося проводила ее грустным взглядом, потом, взяв подойник, вышла.
— Неужели я чем–нибудь обидел ее? — спросил Чадов. — О, женщины, женщины… Даже лучших из них я отказываюсь понимать.
— Хватит, — оборвал его Виктор. — Не так все это просто, как ты думаешь.
— Потому–то я и не очень стремлюсь думать об этом… Давай, старина, потолкуем о деле… Виделся я с нашим Тихоном, но он, как всегда, встретил меня не очень любезно. Неужели дела действительно так плохи?
— Пока да. Ты, по–моему, напрасно приехал. Конечно, если действительно не думаешь еще раз громить нас в газете.
— Я же сказал, что приехал с другой целью… Будь спокоен, у меня еще не было случая, чтобы вернулся с пустыми руками… Бот это видишь? — Чадов потряс коричневой, в мягкой обложке, записной книжкой. — Сейчас в ней нет ни слова, а через три дня придется доставать новую… Так, старина, и работаем! Давай твои настроения, суждения, сомнения, впечатления — все вываливай сюда… Начнем по порядку — как встретил тебя Тихон?
Он явно рисовался, и Виктор с трудом узнавал его. Раньше Чадов держался в меру смущенно, в меру снисходительно, но всегда тихо и покладисто. Даже десять дней назад он вел себя совершенно иначе, чем сейчас… Такие неожиданные превращения всегда настораживают.
— Как встретил Тихон? — переспросил Виктор. — Хорошо встретил.
— Не густо, — улыбнулся Чадов. — Пойми, мне это очень важно, как все происходило? Может, с той сцены и начнется мой очерк.
— Да ну тебя! Встретились, как все встречаются… Посидели, выпили, поговорили…
— О чем?
— Обо всем. Можешь записать — даже песни пели, наши, партизанские.
— Любопытно, — воскликнул Чадов, хотя по его лицу было видно, что ему хочется не этого: — Конечно, с нашим Тихоном не очень–то разговоришься. Небось хмурился, мрачнел после каждой рюмки и обо мне, как всегда, говорил только дурное?
— Но ведь и ты о нем говорил далеко не лестные слова, помнишь?
— Помню, — согласился Чадов. — Говорил. Правда, говорил я только тебе. Говорил не в отместку, а потому, что так думаю… Я искренне убежден, что такие вот железобетонные Орлиевы попросту пережили себя… Они не дают ни дышать, ни работать. Под их рукой все становится окаменелым и бездушным.
— Послушай, ты не сводишь с ним личные счеты? За ту характеристику…
— Значит, он тебе рассказал даже про нее, — улыбнулся Чадов. Его глаза как–то странно оживились, словно он наконец докопался до самой сути. — Нет, старина, я не свожу с ним личные счеты… Конечно, он здорово напакостил мне. Но мне грех обижаться на свою судьбу… А с Орлиевым мы на разных полюсах, понимаешь?
— Но вы ведь оба члены партии? Как же понять это? Как же вы можете стоять на разных полюсах? Значит, кто–то из вас настоящий коммунист, а кто–то…
— Я, может, не точно выразился, — поспешно поправился Чадов. — Я хотел сказать, мы на разных флангах… Если представить вот нас всех одной идущей в наступление шеренгой, то мы с Орлиевым вроде бы на разных флангах.
— Обычно фланги взаимодействуют. Где же логика? Не получается что–то…
— Ладно, ладно, снова сдаюсь, — примиряюще усмехнулся Чадов. — Разве тебя, ортодокса, переспоришь? Ну, хватит об этом. Скажи лучше, как встретились вы с Олей Рантуевой?
Виктор сразу почувствовал, что этот вопрос задан неспроста. Ведь две недели назад, в Петрозаводске, Чадов не позволил себе ни единого намека, он лишь между прочим сообщил, что Рантуева живет в Войттозере. Виктор хорошо помнил свое беспокойное состояние. Он тогда очень страшился продолжения разговора о ней, и вместе с тем хотел узнать об Оле как можно больше и подробнее… Тогда он, кажется, ничем не выдал своего волнения и в душе был благодарен Чадову, когда тот перевел разговор на другое. Теперь–то он видит, что со стороны Чадова это была явная хитрость, и он напрасно поддался на нее… Другой человек прямо и без всяких обиняков спросил бы Виктора, почему у них с Олей все разладилось. Вон Гурышев — совершенно чужой человек, и то первым делом спросил об этом. Но Чадов не такой. Он всегда делает вид, что понимает людей гораздо глубже, чем те понимают самих себя. Такие не могут без таинственной многозначительности… А потом они жалуются на отсутствие друзей…
«Нет, дорогой мой, напрасно ты понизил голос, спрашивая об Оле. Две недели назад ты мог бы на этом купить меня, но сейчас я сам с удовольствием посмотрю, как удивленно расширятся твои столь проницательные и хитрые глаза».
— Ты знаешь, мы встретились просто замечательно, — громко, чтобы его могла слышать и Лена, сказал Виктор, — Оля хороший мастер, ее любят на участке. Мы видимся каждый день, и отношения у нас очень хорошие.
— Великолепно! — по–прежнему вполголоса отозвался Чадов. — Признаюсь, меня это очень смущало в очерке, а вдруг, думаю, прошлое наложило свой отпечаток… Выдумать тут нельзя, а обойти было бы очень трудно.
«Врешь! Не так–то все у тебя просто…» — подумал Виктор и, чувствуя, что взял в разговоре правильный тон, сказал:
— Можешь не беспокоиться… Да говори ты громче, чего ты шепчешься. Больных в доме нет, никому не помешаешь.
— Я боюсь, что наш разговор вновь раздражит Елену Сергеевну, — улыбнулся Чадов.
— Ничего. Не такая уж Лена раздражительная, как ты думаешь… Она все знает и все хорошо понимает.
— Помнишь, я сразу сказал, что у тебя замечательная жена.
2
Щелкнув крышкой портсигара, Чадов закурил, с наслаждением выпустил долгую струю дыма и спокойно посмотрел в глаза Виктору.
— Ты вообще счастливчик. Тебе всегда удивительно везло и в жизни, и в любви.
— Завидуешь? Я это уже слышал от тебя.
— Конечно, кое в чем и завидую, — согласился Чадов. — Но в зависти немного толку. Я понять хочу, почему так получается… Почему там, где другой наверняка запутался бы, может, даже сломал бы голову, у тебя получается легко и просто.
— Послушай, ты, кажется, в чем–то меня подозреваешь?
— А разве тебя можно в чем–либо подозревать? — обезоруживающе улыбнулся Чадов. — По–моему, такие, как ты, выше всяких подозрений… Они всегда до предела откровенны и всегда правы в глазах большинства.
— Ты, как видно, откровенность считаешь чуть ли не пороком, — спросил Виктор, радуясь, что наконец–то Чадов сам раскрыл себя.
— Нет, почему же? Откровенность тоже бывает разная… Помнишь, у Маяковского есть умные строки: «Тот, кто постоянно ясен…» А есть и такие, для которых откровенность не больше не меньше как удобная в жизни маска. Та же самая хитрость наизнанку. Скажу честно — я начинаю не любить людей, кичащихся своей откровенностью. Я начинаю им не верить.
— К какому же разряду ты относишь меня? Судя по твоему отношению, к первому.
— Нет, ты не так–то прост, как кажешься, — многозначительно рассмеялся Чадов. — Я вот и хочу понять, в чем тут дело? Зачем ты хитришь со мной? Охотно допускаю, что ты, как и Орлиев, питаешь ко мне какую–то ничем не объяснимую неприязнь… Но почему же, дьявол вас побери, вы, кичащиеся своей откровенностью, сами хитрите на каждом шагу? Почему? Ты же сам отлично знаешь, что отношения у тебя с Орлиевым далеко не блестящие, что в первый же день вы отчаянно поцапались на виду у людей, а мне, когда я спрашиваю, отвечаешь совсем иное. Я уже не говорю, что в данном случае ты просто обязан был сказать правду. Хотя бы не лично мне, а газете, которую я здесь представляю. Тем более, что у вас был не просто личный спор. Ответь мне, почему ты так сделал?
— Ты знаешь, почему… Ты слишком ненавидишь Орлиева, чтобы быть к нему справедливым.
— А ты разве считаешь его правым? Разве не гнусно поступил он с твоими предложениями на совещании.
— Ты знаешь даже это? Когда же ты успел?
— Три часа для газетчика большой срок. Об этом много говорят в поселке. И, не в пример тебе, возмущаются произволом Орлиева. Конечно, возмущаются немногие. Большинство так привыкло к всесилию нашего Тихона, что давно уже молчат… Так же, как и ты…
— Я не молчу. Не собираюсь. Но я не хочу, чтоб наши производственные споры ты использовал против Орлиева. Именно ты. Потому что у тебя не очень справедливая, по–моему, вражда к нему. Вы расходитесь в крупном, а наши споры — мелочь!
— У Орлиева нет мелочей. У таких все главное, — жестко сказал Чадов. — Они не признают у других ни случайностей, ни ошибок… Их каждое слово и поступок исполнены той многозначительности, в сравнении с которой робкие попытки возразить или поспорить уже выглядят чуть ли не политической ошибкой.
У Виктора было такое ощущение, как будто он помимо своей воли становится участником не совсем честного сговора. И что самое неприятное — он ничего не может с этим поделать. Это был какой–то неотвратимый круг: о чем бы они ни заговорили, разговор обязательно возвращался к Орлиеву.
— Слушай, Юрка. Ну чего ты хочешь? Чего добиваешься?..
— Чего я хочу? — Чадов подумал и вдруг усмехнулся. — Немногого, старик, совсем немногого… Хочу, чтобы Орлиевы уступили наконец место людям, которые будут жить не во имя непорочности самих принципов, а во имя претворения тех принципов в жизнь. Ты разве не согласен с этим?
— Говоришь ты как будто и правильные вещи… Но все же, знаешь, я бы не пошел с тобой в разведку…
— Как же не пошел бы, — засмеялся Чадов, — если мы с тобой уже ходили, и не один раз?
— Тогда ходил, а теперь не пошел бы…
— Почему? — искренне удивился Чадов.
— Потому что ты, пожалуй, оставил бы меня одного, если бы нас обнаружили и меня вдруг ранили.
— Напрасно так думаешь… — Чадов помолчал и вдруг спросил: — Ну, а с Орлиевым ты пошел бы?
— С Орлиевым? — задумался Виктор. — С Орлиевым пошел бы.
…Вернулась тетя Фрося, и разговор прервался. Глядя в окно, за которым виднелись редкие точечки огней поселка, Виктор с грустью подумал: «Как быстро теперь наступают сумерки!» Десять дней назад в эту пору они сидели с Орлиевым на берегу озера и смотрели на тихий закат с багровой, протянувшейся до самого горизонта дорожкой. Он отчетливо помнил чувство умиротворенности, которое охватило его тогда. Казалось, в жизни начинается безоблачная пора, такая же ясная и безоблачная, как высокое голубоватое небо над головой и покойные прозрачные дали перед глазами.
Он знал, что приехал сюда не ради тишины и покоя, что завтрашний день может оказаться куда более трудным, чем ему думается, но оттого, что рядом с собой он почти ощущал плечо Орлиева, уже ничто не могло испугать его. Это было очень приятное ощущение! Он как бы вновь вернулся в так хорошо знакомое по войне состояние, когда можешь ни о чем не думать, не тревожиться, не переживать. Обо всем подумает командир.
Виктор и тогда отдавал себе отчет, что это ощущение обманчиво. Он уже и сам является командиром, ему придется самому думать, тревожиться, переживать за других, а при случае и держать ответ. Но рядом был Орлиев. О, как приятно жить и ощущать, что над тобой всегда есть твердая, волевая рука, которая не позволит сбиться с правильного курса. Орлиев, действительно, бывает жестоким, но командовать людьми не просто. Люди все–таки не любят, когда ими командуют. Но без этого нельзя. Важно, чтоб командир был всегда справедливым… Не в мелочах! В мелочах можно и ошибаться… А в главном…
— Ребята, молочка парного не хотите ли? — спросила тетя Фрося. — Чтой–то вы, гляжу, пригорюнились? Все, слышу, спорите, спорите. А чего вам спорить? Слава богу, в люди вы вышли… — Тетя Фрося тяжело вздохнула. — Выпьете, что ли?
Чадов поблагодарил и взял стакан. Виктор отказался.
«День скоро станет таким коротким, — подумал он, вновь поглядев в окно, — что работать в две смены без освещения уже будет нельзя… А жаль! Двухсменная работа здорово выручила бы».
Чадов залпом выпил молоко и еще раз поблагодарил.
— В городе такого не попробуешь, — добавил он.
— Господи! О чем я и говорю… Еще пей! Пей на здоровье!
— Нет, спасибо, — засмеялся Чадов и попросил: — Тетя Фрося, не разрешите ли у вас переночевать? Не хочется в комнату приезжих идти, неуютно там как–то, да и скучно.
— Ночуй, ночуй, места хватит…
— Ты, Виктор, не возражаешь? — Чадов внимательно посмотрел на товарища.
Честно говоря, присутствие Чадова уже начало как–то стеснять Виктора. Он ждал его ухода, чтобы поговорить с Леной, узнать, чем она расстроена. Но можно ли отказать человеку в ночлеге, особенно не в своем доме?
— Конечно, о чем спрашивать, — пожал он плечами.
Чадов заметно повеселел, словно не надеялся на согласие Виктора. Тетя Фрося вскоре заторопилась в магазин, который закрывался в десять часов, и от порога многозначительно спросила, не нужно ли чего молодым людям купить.
— Купите, если есть, бутылку коньяку, — неожиданно решил Виктор, доставая деньги.
— И вторую за мой счет, — сразу же отозвался Чадов, тоже протягивая сторублевку.
— Нет, хватит одной… Я хочу отплатить долг.
Тетя Фрося ушла, и снова они остались вдвоем.
— Рыбачишь? — спросил Чадов.
— Два раза бывал…
— Рыбалка здесь отменная. Надо будет вечерок посидеть с удочкой… Расскажи–ка мне поподробнее о твоих предложениях… Мне Рантуева и Панкрашов о них говорили, но хотелось бы от тебя услышать.
Виктор принялся рассказывать без всякого настроения, но постепенно увлекся, даже достал бумаги с подсчетами и выкладками.
Чадов выслушал с интересом, кое–что записал в блокнот и удивленно спросил:
— Неужели Тихон не поддержал твоих предложений? Насколько я понимаю, речь идет о создании нормального технологического процесса? Ведь это такая малость, а он против?
— Кто тебе сказал, что он против? Он лишь хочет осуществлять их постепенно.
— Витя, не хитри! Сам знаешь, что говоришь неправду… Все ясно. Тихон сам виноват во всем, потому–то и сопротивляется.
— Слушай, не раздувай выдуманную тобою же склоку. Мы сами во всем разберемся.
— Витя, твоя точка зрения беспринципна… — укоряюще покачал головой Чадов. — Почему ты начинаешь вилять?
— Хорошо, допустим, Орлиев неправ… Допустим, он совершил ошибку. Повторяю, допустим… Но почему же ты цепляешься за ту ошибку, возводишь ее в принцип? Ты же сам протестовал против подобных методов.
— С Тихоном можно бороться лишь его методами. Ничего не прощать, ничего не забывать. Каждую ошибку у других он любит рассматривать как проявление определенной линии. Пусть на себе испытает, что это значит.
— Но чем же в таком случае ты сам будешь отличаться от Тихона? Ты восстаешь против жестокости, а сам готовишься проявить еще большую…
— Эх, Витя, Витя! Не довелось, видно, тебе испытать силу карающей руки Тихона… А я своими глазами видел. Помнишь, поросозерский поход! Ты тогда остался раненым и многого не знаешь… Помнишь, был у нас боец Шувалов. Ты думаешь, он погиб? Нет, он был расстрелян. Расстрелян за то, что на какие–то минуты сомкнул на посту глаза и Тихон обнаружил это. А ведь на месте Шувалова мог быть и я, и ты… Легко ли было не сомкнуть глаза, когда люди валились от усталости и засыпали стоя.
— Но ты же знаешь, что Орлиев поступил так не ради себя, — возразил Виктор. — Конечно, очень жестоко, но этого, вероятно, требовала обстановка. Отряд был в окружении, и все могло кончиться трагедией.
— Да, обстановка была тяжелая, очень тяжелая, — согласился Чадов. — Однако она не стала легче от того, что мы лишились еще одного хорошего бойца… Возможно, я понял бы Орлиева, если бы он имел дело с какими–то несознательными элементами. Но ведь, черт побери, он командовал людьми, которые добровольно пошли сражаться с врагом… Значит, такая крайняя мера не имела даже воспитательного значения. Она была рассчитана на устрашение, а значит, была продиктована или неверием в людей или чистым формализмом. Провинился человек — и баста.
— Возможно, тогда была ошибка Орлиева, но я не хочу судить его за прошлое. Мы даже не имеем права на это. Нам легко — мы там отвечали лишь за самих себя. Он думал за всех. И неплохо думал — мы победили.
— Против этого спорить трудно, — усмехнулся Чадов. — Мы действительно победили… Но победили не благодаря жестокости Орлиева, а вопреки ей… Вот что действительно достойно восхищения. А Орлиев не понимает этого.
— Ты говорил когда–нибудь так с самим Орлиевым?
Чадов посмотрел на Виктора и рассмеялся.
— Ты думаешь, мне своя голова надоела? Да он только и ждет, чтоб к чему–нибудь прицепиться…
— Я бы не мог так, — подумав, сказал Виктор. — Как же можно думать о человеке такое и ни разу с ним не объясниться?
— Собирайся, идем, — неожиданно поднялся Чадов.
— Куда?
— К Тихону… Пойдем и потолкуем с ним начистоту. Сегодня у меня есть настроение! Кстати, и о твоих предложениях потолкуем.
Виктору и самому хотелось побывать у Орлиева, узнать, что произошло на лесопункте за время его командировки, посидеть, рассказать о Гурышеве, Белянине, Потапове.
— Лена, я ненадолго уйду, — приоткрыв дверь в другую комнату, сказал он.
Лена читала лежа в кровати, придвинув к изголовью табуретку с лампой. Оторвавшись от книги, она долго не могла прийти в себя, потом, устало потянувшись, с улыбкой поманила мужа пальцем.
— Вы еще спорите? — прошептала она, прильнув к нему. — Опять ты небритый?! Ты знаешь, мне он сегодня совсем–совсем не понравился.
— Чадов? Почему? — Виктор покосился на полуоткрытую дверь.
— Не знаю… Просто он какой–то неприятный. Он ведь тебя не любит. Я это почему–то сегодня почувствовала… И потом — он чего–то от тебя хочет… Ты надолго? Без тебя мне теперь здесь так грустно бывает.
— Мы к Орлиеву. Ничего, Леночка, скоро достроят дом, и мы переедем в свою квартиру.
— Ты на меня не сердишься? Потом я расскажу тебе что–то важное, хорошо?
— Виктор, я подожду тебя на улице! — крикнул Чадов.
— Я иду…
Глава шестая
1
Тихон Захарович был дома. Это они увидели, как только свернули с шоссе к общежитию. Окно на торцовой стене барака тускло лучилось зеленоватой полоской света, которая с каждым шагом раздвигалась, открывая все шире внутренность комнаты. Вот уже выглянул край абажура, отбрасывавшего яркий свет вниз, на листы белой бумаги. Вот за стеклом показалась огромная орлиевская рука, державшая авторучку. Рука дернулась и быстро–быстро покатилась по листу бумаги. Сам Орлиев все еще был скрыт косяком окна. Еще шаг, и прямо перед ними — орлиевское лицо. В зеленоватом свете оно выглядело неестественно белым. Не было в нем ни обычной строгости, ни отчужденной сосредоточенности, когда Орлиев и слушает человека, и делает вид, что все это пустая трата времени.
Когда Курганов и Чадов проходили мимо окна, Орлиев оторвался от работы, задумчиво поглядел в черноту ночи. Виктор даже остановился, так как глаза Тихона Захаровича были устремлены прямо на него. Но Орлиев ничего не заметил и вновь склонился к столу.
— Бьюсь об заклад, мемуары строчит! — усмехнулся Чадов. — Представляю себе, что он там наворочал.
— Хватит тебе умничать! — оборвал его Виктор. — Неужели не надоело?
Чадов постучал в дверь и, не ожидая ответа, вошел.
— Здравствуйте, Тихон Захарович! А мы к вам на огонек, как говорится… Сидели вот у Курганова, дай, думаем, сходим, благо ночь теперь длинная, успеем выспаться…
Орлиев явно растерялся. Не ответив на приветствие, он торопливо сгреб со стола бумаги, сложил их в папку, сунул в ящик стола… Потом сдержанно улыбнулся и предложил гостям садиться.
Чадов и здесь вел себя как дома. Он сел поближе к столу, закурил и, глядя на не скрывавшего свое недовольство Орлиева, чуть заметно улыбнулся. Виктор чувствовал себя так же неловко, как и Тихон Захарович. Он молча оглядывал комнату. В углу, где в день приезда стояла вторая кровать, было пусто.
— Не мемуары ли писать надумали? — спросил Чадов, кивая на ящик стола.
Вероятно, он попал в самую точку, так как Орлиев обернулся к нему, потом посмотрел на стол и резко ответил:
— Нет…
— А зря! — и Чадов сожалеюще причмокнул. — Разве плохо было бы, если бы появилась книжечка о нашем отряде… Есть что рассказать, есть что вспомнить…
— Как в район съездил? — перебил Орлиев, обращаясь к Виктору.
— Хорошо, Тихон Захарович.
— В леспромхоз заходил? Потапова видел?
— Заходил, и обо всем договорились. Он обещал помочь нам бульдозерами, а запчасти, какие есть, я отобрал. Надо завтра послать за ними машину. Порубочный билет выписал…
— Тихон Захарович! — неожиданно вступил Чадов. — Правду ли говорят, что вы не поддерживаете предложений Курганова?
— Кто говорит? — нахмурился Орлиев, и Виктор заметил, как чуть дернулась его правая щека.
— Многие…
— Зря говорят, — Орлиев помедлил, посмотрел искоса на Виктора. — Завтра мы начнем создавать свой дорожно–строительный участок и будем переходить в семидесятый квартал. В начале сентября переведем туда участок Рантуевой. А что касается профилактики, то тут никакой проблемы нет. Технорук обязан следить за своевременностью ремонта — и все тут.
Ответ Орлиева был для Виктора полной неожиданностью. Он верил, что теперь, после разговора с Потаповым, ему будет легче убедить Орлиева, но он и не надеялся, что Тихон Захарович согласится так быстро. А вдруг Орлиев хитрит? Вдруг согласился лишь потому, что раскусил намерения Чадова и не хочет давать ему лишний козырь?
Но Чадов и сам был, казалось, обрадован не меньше Виктора.
— Я так и думал! — улыбнулся он. — Конечно, это какое–то недоразумение! Значит, и на собрании вы не выступали против?
— Я же говорил тебе! — радостно воскликнул Виктор.
Их оптимизма не разделял только сам Орлиев. Он сидел, задумчиво барабаня пальцами по столу, и недовольно хмурился.
— Вероятно, на собрании вы высказались лишь за то, чтоб не делать этого, не обдумав, очертя голову? — продолжал Чадов. — Вы в таком смысле высказались?
— Я всегда говорю то, что собираюсь сказать, — холодно заметил Орлиев.
— А люди, конечно, не поняли вас. Они поняли, как будто вы хотите положить предложения Курганова под сукно.
Орлиев неожиданно нервно рассмеялся:
— Разве у нас есть в конторе сукно, под которое можно что–либо положить? У меня на столе даже стекла нет.
— Это же так говорится, — улыбнулся Чадов. — Иносказательно, вроде…
— А ты давай прямо, без этих самых иносказаний. — Орлиев посмотрел на Чадова, выжидающе сощурился. Его широкий, угловатый лоб темной полоской прорезала глубокая складка.
Чадов словно бы не замечал всего этого. Он медленно достал сигарету, прикурил и равнодушно спросил:
— Значит, на собрании вы поддержали Курганова?
Виктор видел, что какое–то время Орлиев колебался.
Однако вопрос был поставлен слишком прямо, и Виктору стало жалко попавшего в смятение Тихона Захаровича.
— Какое это теперь имеет значение? — воскликнул он, обращаясь к Чадову.
— Погоди, Курганов! — Орлиев даже руку протянул, как бы отстраняя технорука от разговора. — Ты хочешь знать, поддержал ли я на собрании предложения? — Тихон Захарович подался к Чадову, сощурился еще больше. — Нет, не поддержал. Так и запиши. Достань свой блокнот и запиши… Если хочешь знать, то и сейчас я считаю, что не в них дело. Хочешь знать — почему? Могу объяснить. Я никогда не ищу объективных причин для оправдания. А эти предложения не что иное, как попытка найти оправдание… Дескать, мы не выполняем план потому–то. Стоит что–то подправить, и план будет выполняться. Ерунда! Пока мы не заставим людей работать как надо, ничто не поможет. Это главное, сюда и бить надо.
— Любопытно! — глаза Чадова оживленно заблестели. — Значит, вы считаете, что виноваты люди?
— Мы не выполняем план, этим все сказано.
— Тихон Захарович, вы не правы! — не выдержал Курганов. — Вы забываете, что план нам дается в расчете на каждый механизм… Если мы не будем правильно эксплуатировать трактора или лесовозы, мы никогда не выполним плана.
Орлиев недовольно покосился на технорука:
— Механизмами управляют люди.
— Но ведь машина не человек! Если она вышла из строя, ее не уговоришь и не заставишь поработать лишний часок.
— Ты ломишься в открытую дверь… Люди решают все, и никто никогда не докажет мне обратного.
— Да, люди управляют механизмами! Но им надо создать условия! — разгорячился Виктор, уже не обращая внимания на Чадова, который с довольной усмешкой следил за спором. — Даже самый опытный трелевщик почти не властен над трактором, застревающим в болоте; даже самый лучший шофер бессилен перед бездорожьем.
— Красиво говорить ты умеешь, — с сожалением покачал головой Орлиев. — Но кто ищет в лесу легкой работы, пусть сразу меняет профессию. Будут у нас и болота и бездорожье… Даже при коммунизме терпеть их придется. Потому–то мне и не по душе твои планы! Размагничивают они людей, на легкую жизнь настраивают.
— О чем спор?! — Чадов удивленно развел руками. — Лично мне все ясно, кроме одного. Почему же вы, Тихон Захарович, все же приняли предложения Курганова?
— «Почему», «почему», — рассердился Орлиев. — А ты, видать, хотел бы, чтоб я их не принял. Для твоей статейки было бы вот как выгодно! На этот раз тебе не удастся сделать из меня консерватора или антимеханизатора. Не выйдет!
— Зачем же вы так? — улыбнулся Чадов. — Стоит ли обижаться на критику в газете? Каждый из нас делает свое дело.
— Твою критику я предугадываю и загодя на нее реагирую. Потому и соглашаюсь. Не хочу быть в газете противником нового. Курганов обещает дать квартальный план, и я не возражаю. Пусть делает по–своему.
— А где же тут, Тихон Захарович, принципиальность? Не согласны и соглашаетесь? — Чадов в раздумье пожал плечами и добавил: — Это так не похоже на вас!
За весь разговор это был самый безжалостный удар. Тихона Захаровича даже всего передернуло.
— Ты еще будешь учить меня принципиальности?! — яростно прошептал он в лицо Чадову, который даже не отстранился и продолжал чуть заметно улыбаться. — Убирайся ко всем чертям!
Чадов медленно, с достоинством поднялся.
— Виктор, идем отсюда! — Он повернулся и как–то уж очень спокойно зашагал к выходу.
В ту же самую секунду Орлиев в бессильной ярости рухнул на стол, выставив вперед огромные, побелевшие от натуги кулаки.
— Уходи! — закричал Виктор. Его особенно разозлила неторопливая, исполненная довольства походка Чадова.
Вот его шаги простучали по тротуару под окном и затихли, а Тихон Захарович все еще лежал, скрипел зубами и стонал, как от нестерпимой боли.
Виктор налил воды в стакан, тронул начальника за плечо. Тот поднял красное набрякшее лицо, недовольно посмотрел на Виктора и резко отстранил стакан.
— Ты еще здесь? Иди домой! Я не баба, нечего водички подносить…
— Я хотел об одном деле поговорить…
— Иди, иди, завтра поговорим.
Он бесцеремонно выпроводил Виктора за дверь.
Было уже поздно. Виктор долго стоял, прислонившись к косяку двери барака. Из комнат доносились голоса жильцов. Слышно было, что люди готовятся ко сну. И никто из них даже не подозревал, что произошло в угловой комнате…
Послышались шаги. Это возвращался Чадов. Он остановился, не доходя до полосы света, падающей из окна Орлиева, и осторожно заглянул внутрь дома. Виктор тихо кашлянул. Чадов испуганно отпрянул от окна, всмотрелся и тихо спросил:
— Витя, это ты? Идем скорее, я жду тебя! Ну как, доволен ты разговором в открытую?
2
Назавтра Орлиев раньше других явился на планерку, был по–обычному молчалив и сдержан, ничем не выказал своего дурного настроения, и никто ничего не заметил. Даже с Чадовым, тоже пришедшим на планерку, он вел себя так, как будто вчера ничего не случилось. Как и остальным, он молча пожал ему руку и поскорее занялся делами.
Планерка была недолгой.
Орлиев огласил приказ о создании дорожно–строительного участка. Мастером участка был назначен Вяхясало. Все восприняли эту весть с шумным одобрением и, услышав фамилию старого мастера, дружно повернулись к нему. Лишь сам Олави Нестерович не выразил ни радости, ни огорчения. С застывшим, словно окаменелым лицом он смотрел на начальника, боясь пропустить что–либо важное.
Вторым приказом участок Рантуевой переводился в семидесятый квартал. На переход, включая строительство ветки, которое должен был выполнить Вяхясало, давалось шесть дней. Срок был коротким, но никто не стал спорить. Места в новом квартале высокие, лесовозная магистраль под боком, ее надо лишь укатать, кое–где подсыпать песку, а строить лежневку на первых порах не придется.
Приказ был написан четким, по–военному категоричным языком с указанием фамилий, дат, конкретных объектов. Как видно, Орлиев не собирался давать устных пояснений. Виктора обидело, что Тихон Захарович не согласовал с ним текста приказа, хотя последним пунктом ответственность за все возлагалась на технорука лесопункта.
Этот параграф показался Виктору вообще излишним — разве он и без него не стал бы отвечать за такие важные в жизни лесопункта дела? Но радость его была настолько велика, что он уже и не обращал внимания на эти мелочи. Наконец–то от разговоров можно перейти к делу!
Когда планерка закончилась, Чадов подошел к Виктору:
— Поздравляю с победой.
— Погоди с поздравлениями, — не сдержал радостной улыбки Виктор, потом спохватился: — При чем поздравления, и какая же тут победа?
— Всякое отступление Тихона — уже победа, — подмигнул понимающе Чадов.
Через два дня вновь созданный участок приступил к прокладке дорог в семидесятом квартале. За это время Курганов и Вяхясало составили технологическую карту освоения лесосек, наметили места для разделочных эстакад, линии волоков.
Дорога в лесу! Всего–то и нужна для нее пятиметровая полоса, свободная от пней, валунов и топи, крутых спусков и подъемов, но как трудно найти ее даже в самых сухих, самых светлых борах. Приходится отвоевывать ее метр за метром, валить, трелевать деревья, корчевать пни, снимать мягкий грунт бульдозером, добираясь до плотных слоев, засыпать расщелины и вымоины, строить лежневку через болота, срезать косогоры, устилать, уминать, укатывать.
Столько трудов, и такой короткий век! Кончится в ближайших кварталах лес, и замрет дорога. В низких местах будет оплывать жижей, на высоких — зарастать травой и кустарником, сгниет, если не убрать, лежневка, сотрутся все следы, и случайно попавший в эти места человек никогда не подумает, что еще совсем недавно на той дороге кипела жизнь.
Короткий у лесовозной дороги век, но зато завидный. Сотни людей, начиная от высокого начальства до обходчика, только и живут думами о ней, беспокоятся, заботливо щупают настил, знают каждую выбоину и каждую расшатанную машинами плаху. О дороге говорят на собраниях, спорят, ругают друг друга за невнимание к ней. Десятки тысяч кубометров леса пройдут здесь к нижней бирже, и вначале с каждым рейсом внимательные глаза шофера будут настороженно всматриваться: а вдруг разошлась колея, или поворот крутоват, или настил расшился? Но нет, все в порядке! И колея не широка, и поворот в самый раз, и настил крепок! Езжай, шофер, гони машину, держи крепче баранку. Обо всем позаботились строители. Они сделали дорогу такой, что не страшны ей ни бурные летние ливни, ни затяжные осенние дожди.
3
Подготовительные работы в семидесятом квартале шли полным ходом. Одновременно с прокладкой лесовозной ветки строились эстакады, расчищались волоки, и через два–три дня мастерский участок Рантуевой уже сможет перебраться на новые места. Общая выработка по лесопункту временно снизилась — сказался переход на работу двумя заготовительными участками вместо трех. Но это снижение, к счастью, было меньше ожидаемого. На биржу ежедневно доставлялось более двухсот кубометров древесины, и Курганов был убежден, что через несколько дней столько же сможет давать один участок Рантуевой. У Виктора был свой план. Он уже твердо решил, что в течение сентября нужно будет перебазировать в сухие боры и участок Панкрашова. Тогда лесопункт без особого напряжения сможет давать по четыреста и даже по пятьсот кубометров в день. Правда, план девяти месяцев не будет выполнен. Но к концу года они наверстают упущенное. Разве имеет принципиальное значение — когда доставлена на биржу древесина: в сентябре, октябре или ноябре? Ведь лес все равно будет лежать в штабелях до весны. Если они сумеют сейчас перейти в сухие боры, а нынешние лесосеки хорошо подготовят для зимних работ, то лесопункт надолго войдет в график. К началу сплава он даст куда больше древесины, чем намечено.
В Войттозере побывал директор леспромхоза. Усталый, измученный, он неожиданно приехал рано утром, перед началом рабочего дня. Из старого потрепанного «козлика» вылез с вопросом:
— Думают ли в Войттозере план выполнять?
Объяснения начальника и технорука выслушал молча, глядя куда–то совсем в сторону, лишь раза два неопределенно хмыкнул. Едва дождавшись конца пояснений, нетерпеливо вскочил в машину и погнал на биржу. Весь день Потапов мотался с участка на участок, из бригады в бригаду. Побывал на каждой повалочной ленте, пробежал почти каждый волок и нигде подолгу не задерживался. Курганов и Орлиев едва поспевали за ним. Вначале эта гонка казалась Виктору смешной и ненужной. Но постепенно, по тем коротким замечаниям, которые на ходу делал директор, он понял, что Потапов не так уж и смешон. Его безличные, чуть язвительные реплики были удивительно метки, он на ходу успевал заметить то, мимо чего они с Орлиевым проходили не замечая. Рабочие знали Потапова, охотно и уважительно с ним здоровались. Он никому не улыбнулся, ни с кем попусту не заговорил. Молча совал каждому свою маленькую горячую руку, хмуро оглядывался по сторонам и спешил дальше.
На участке Панкрашова они увидели Чадова, сидевшего в окружении рабочих. Чадов что–то рассказывал, молодые парни из погрузочной бригады внимательно слушали и в ожидании держали наготове веселые улыбки. Потапов узнал Чадова, поздоровался с ним, потом с каждым из парней и сказал, чуть заметно кивнув на стоявший возле эстакады порожний лесовоз:
— Приятно видеть мобилизующую роль газеты.
— Используем для воспитательной работы каждый перекур, — ответил с улыбкой Чадов.
Орлиев, остановившийся у будки ПЭС, загремел на всю эстакаду:
— Кундозеров, долго ль у тебя лесовоз простаивать будет?!
Вынырнувший откуда–то бригадир заторопил ребят, и те, с сожалением вдавливая в мох недокуренные чадовские сигареты, потянулись к своим местам.
— Михаил Петрович, у меня небольшой разговорчик, — обратился Чадов, когда Потапов уже направился навстречу показавшемуся на волоке Панкрашову.
— Давай вечером в конторе.
Вечером состоялось короткое совещание. Казалось, здесь директор решил выговориться за весь молчаливый день и устроил всем такую накачку, которой Виктор никак и не ожидал. Снова — биржа, дороги, механизмы… Те же самые вопросы, о которых с такой болью совсем недавно выступал сам Виктор. Но Потапов как нарочно весь свой безличный сарказм заметно направил в адрес технорука. «Неужели нынче в академии перестали учить людей, как нужно относиться к механизмам?!» — вопрошал он, глядя на других. Или: «В мое время в академии совсем по–иному к дорогам относились…»
И все же, слушая эти явно язвительные намеки, Виктор радовался. Он внутренним чутьем угадывал, что Потапов относится к нему совсем по–иному, чем старается показать это сейчас, что ему дела в семидесятом квартале явно пришлись по душе. А что касается ругани, то опытный лесной работяга, сам не зная о том, поддерживает авторитет Виктора в глазах мастеров. Ведь он говорит сейчас то же самое, что говорил Курганов несколько дней назад.
Потапов уехал незадолго до полуночи. Уже сидя в машине и не глядя на провожающих его Орлиева и Курганова, он сказал:
— Начали своевольничать — идите до конца. Отступа у вас нет. Но учтите, кому много дано, с того много и спросится. Бульдозер вам дадим, а вот где экскаватор взять — прямо ума не приложу… — Он помолчал и вдруг рассердился. — Вы вот здесь умничаете, а голову дядя за вас ломай!..
Вероятно, в устах Потапова это было одобрением перевода заготовок в семидесятый квартал. По крайней мере, так понял Виктор.
Возвращаясь домой, он ликовал. Одержана первая победа. Пусть она досталась и не очень дорогой ценой, но и за нее пришлось все же постоять. Теперь на очереди участок Панкрашова. Потом строительство добротных зимних лесовозных дорог. Потом — оборудование нижней биржи. Настоящей механизированной биржи!.. Нет, биржа на Войттозере, пожалуй, уже и не потребуется. Ведь все идет к тому, что через год придется возить лес совсем в другую сторону, на запад, к железной дороге. Биржу придется строить уже там. Вот тогда–то и начнется настоящая работа! Чудесный войттозерский лес не будет долгими месяцами лежать в штабелях на берегу реки, не будет гнить в воде во время сплава. Уже через два–три дня он помчится на платформах на юг, сияя свежей, даже не успевшей поблекнуть и ошелушиться бронзовой корой… Как хорошо жить, ощущая, что завтрашний день будет лучше вчерашнего.
Глава седьмая
1
Мечта кажется грандиозной лишь до ее осуществления. Давно ли она денно и нощно владела воображением, волновала своей недостижимостью, заставляла мучительно думать, искать, терзаться?! Но вот преодолен какой–то рубеж, задуманное едва начинает претворяться на практике, а уже все меняется. То, что вчера было таким необычным, трудным и потому особенно привлекательным, сегодня уже кажется обыденным и малозначительным. Человек даже сам удивляется: «Чем же я так восторгался? Это же так легко, так и должно быть. Если бы осуществить еще вот это и это, вот тогда другое дело!»
Так рождается новая мечта, а с ней и новые волнения, терзания, раздумья…
Нечто подобное переживал Виктор.
В один из дней он не без колебаний решился сказать Орлиеву, что собирается съездить в Заселье и хочет добраться до Чоромозера.
Если бы Тихон Захарович поинтересовался, зачем понадобилась такая поездка, то Курганов навряд ли дал бы вразумительное объяснение. Он, вероятно, ответил бы:
— Там строится железная дорога.
«Ну и что из того?» — мог спросить Орлиев, и Виктору пришлось бы туго. Как объяснить Тихону Захаровичу все те намерения, которые и для самого Виктора были слишком смутными и отдаленными? Ведь дорога приблизится к ним не скоро. Пройдет год, пока можно будет думать о чем–либо конкретном для лесопункта. И все же Виктор уже не мог чувствовать себя спокойно — ему не терпелось увидеть все своими глазами. Орлиев, вероятно, расценил бы это как мальчишество и прожектерство. Он любил такие слова…
Да, так было бы, если бы Тихон Захарович потребовал объяснений. Но Орлиев ничего не спросил. Он лишь недоуменно пожал плечами. Весь его вид говорил: «Чего спрашиваешь? Езжай куда хочешь, делай как знаешь, раз ты такой умный!»
Холодок в их отношениях не исчезал. Внешне все выглядело благополучно и даже лучше, чем в первые дни.
Тихон Захарович уже не позволял себе ни командовать, ни повышать голоса на Курганова. Но вместе с тем пропало чувство взаимной близости, они стали как бы совсем чужими, как будто и в прошлом их ничто не связывало. Вначале Виктор относил это за счет их разногласий по делам лесопункта. Но в делах они пришли к общему решению, а отношения не налаживались. Теперь Виктор подозревал, что причиной является Чадов. Конечно, Орлиев считает Виктора чадовским единомышленником! Со стороны получается действительно так: Чадов продолжал жить у Курганова, со дня на день откладывая отъезд. Но как объяснить Тихону Захаровичу, что все значительно сложнее, что с Чадовым они почти не разговаривают, что Виктор и сам удивляется, почему Юрка не переберется в комнату для приезжих.
Виктору очень хотелось объяснить все это Тихону Захаровичу. Но как только он видел непроницаемое в своей угрюмости лицо Орлиева, охота откровенничать пропадала.
2
У заведующего гаражом был служебный мотоцикл. До деревни Заселье Курганов решил воспользоваться им, а там — или пешком, или верхом на лошади, которую он надеялся достать в подсобном хозяйстве.
Он выехал рано утром. Первые восемь километров дорога была хорошо знакома, по ней возили лес. Но вот магистраль свернула вправо, и на запад потянулась когда–то улучшенная проселочная дорога, мелко выщербленная дождями и сдавленная зарослями кустарника. Пологими террасами она шла на подъем, и впереди наконец открылось Заселье. Нет, не деревня, которую с перевала еще нельзя было увидеть, а огромное зеленое море, тянувшееся до горизонта.
У кряжистой сосны, откуда начинался спуск, Виктор остановился, заглушил мотор и долго любовался открывшимися отсюда далями.
День выдался теплый и солнечный, но заметно подступала осень. Светлые пятна лиственных пород уже выделялись на фоне темно–зеленой хвои сосняков и ельников. Они еще не начинали желтеть, однако чувствовалось, что еще неделька — и заполыхают леса, хотя и редким, но ярким осенним разноцветьем. Только в это время года можно понять, что карельский лес не так уж беден и однообразен, каким он может показаться зимой или летом. Даже в самой густой хвойной чащобе неожиданно выбьется вверх и загорится ярко–красными гроздьями ягод гибкая рябина. Рядом, смотришь, молодая осинка гасит зелень своего жесткого листа, чтобы перед самым листопадом вспыхнуть таким пожаром, которому иной клен позавидует. Ровно золотятся березки, бледнеют и становятся почти прозрачными поникшие листья черемухи, ржавеет хмурая неприхотливая ольха, которая в мелколесье на куст похожа, но в густом лесу и в настоящее дерево норовит вымахать.
Так будет потом, а сейчас еще стояла та благодатная для природы пора, которую можно назвать и ранней осенью и поздним летом. Еще цепко держались на стебельках иссиня–сизые ягоды черники, а уже повсюду, куда ни глянь, рдела поспевающая краснобокая брусника. Грибов было так много, что твердые круглоголовые маслята попадались даже на обочинах проселка.
Внизу дорога огибала обомшелый скальный выступ и терялась в темном густолесье, которое на взгорьях сменялось бледно–зелеными сосновыми борами. Ламбин и болот не было видно, но они угадывались вдали по неожиданным четким провалам в раздольной и ровной щетине леса.
У Виктора было такое чувство, как будто он всю жизнь стремился в этот неведомый край и теперь вот увидел его. Он никогда не бывал здесь, но все, открывшееся ему, казалось знакомым, когда–то виденным, но почему–то забытым. Знакомы были не только зелено–голубые дали, но и само волнующее, приятное чувство узнавания. Словно он уже когда–то переживал все это — смотрел, радовался, волновался. Где и когда — он не помнил, но то прежнее ощущение тоже было связано с лесом.
Снизу послышался шум мотора, из–за скалы вынырнул и деловито полез в гору зеленый «газик». Виктор заспешил к мотоциклу, включил зажигание, нажал на заводную педаль, и в это время, преодолев подъем, «газик» остановился.
— Авария? — высунулся из кабины лейтенант–пограничник.
— Спасибо, все в порядке! — Виктор нажимал на педаль снова и снова, но мотоцикл, как назло, не заводился. Пограничники — их было трое — сочувственно наблюдали, и положение Виктора становилось смешным. «Сейчас спросят — куда, зачем? А то еще и права на вождение потребуют… Вот дьявол, наверное, аккумулятор сдал».
В последнюю минуту отчаявшийся Виктор догадался подсосать из карбюратора бензину. Двухцилиндровый мотор взревел так, что заглушил мягкий и ровный шум поджидавшего «козлика».
— А я думал, и впрямь авария! — Лейтенант приветственно помахал рукой, и «козлик» понесся на восток.
Виктор тоже помахал рукой и осторожно, на первой скорости, начал спускаться к скале.
Достать лошадь в Заселье оказалось делом нелегким. Еще не был закончен сенокос, а уже пора начинать уборку картофеля. Прибежавший на шум мотора Мошников прямо с ходу стал жаловаться на недостаток рабочих рук. Он жаловался как–то по–своему — робко, поминутно заглядывая в глаза и как бы боясь, что его жалобы будут поняты неправильно. Лесопункт прямого отношения к подсобному хозяйству не имел, но для войттозерцев, посланных на сельхозработы, Курганов представлялся начальством, и ему пришлось выслушать немало жалоб и заявлений.
— Помогать надо, не спорю, — подступал к техноруку степенный мужик в побуревшей от пота гимнастерке. Как видно, он был на покосах за старшего. — Мы не отказываемся. Надо так надо. Но ты дай мне урок. Пусть будет хоть две тонны на душу. Но я буду знать — сделал и домой. День и ночь буду работать. А тут маешься вон сколько — и конца не видать. А другие, опять же, ни одной пясточки сена не заготовили, в лесу прохлаждаются.
Он так и сказал «прохлаждаются», и никто не улыбнулся, как будто работа в лесу была легким занятием.
Не очень уверенный в своем праве на это, Курганов приказал Мошникову добиться у орсовского начальства, чтобы рабочим был определен «урок», а сам обещал договориться с Орлиевым о замене давно работающих на сенокосе людей.
Виктор уже решил добираться к Чоромозеру пешком, когда возле дома, стоявшего в стороне от деревни, заметил лениво пасущуюся лошадь.
Средних лет женщина, копавшая на огороде картошку, на вопрос Виктора: «Чья это лошадь?», не прерывая работы, ответила:
— Чужая.
— Ну, а все же? Кому она принадлежит?
Женщина выпрямилась, вытерла подолом потное лицо и неохотно пояснила:
— Лесничества конь этот будет… — И вдруг громко закричала в сторону дома; — Дядя Пекка! Тут про коня спрашивают.
С сеновала спустился заспанный босой старик. Он долго щурился сначала на яркий свет, потом на женщину, потом на мирно пасшегося коня и, наконец, на Виктора.
— Тут вот приезжий про коня спрашивает.
Выслушав просьбу Виктора, старик принялся подсчитывать:
— Туды — двенадцать, обратно — двенадцать. Выходит двадцать четыре… Обыденкой думаешь или как?
— Сегодня же вернусь.
— Дорогу знаешь?
— Доберусь… Тут где–то зимник, говорят, есть.
— Есть зимник, есть… Куда ему деться?
Старик, широко и громко зевая, потер красное лицо, почесал спину, снова оглядел коня, женщину, кучку картофеля и вдруг поднял на Виктора испытующий взгляд:
— Два червонца, думаешь, не много будет, а?
— Думаю — много. Это же на такси в городе почти столько выйдет.
— Верно, — согласился старик. — А меньше нельзя… Вот она, — равнодушный кивок на женщину, — червонец дает… Захвачу по пути пару мешков картошки до Войттозера — червонец в кармане. Картошку–то она в город на базар отправляет, — пояснил он к явному неудовольствию женщины. — А тут дело не пустяшное. Двенадцать туды, двенадцать сюды… Дорогу тоже надо в расчет взять. Дорога тут, парень, такая, что трактор не пройдет, а ты говоришь — такси?!
— Я верхом думаю.
— Так уж, конечно, не в тарантасе, — согласился старик. — А коню–то все одно, те же двадцать четыре версты.
Спорить было бесполезно. Получив деньги, старик словно проснулся, забегал, засуетился. В несколько минут все было готово. Седла у него не оказалось, но зато в телеге был толстый удобный войлок с веревочными петельками вместо стремян.
— Значит, к «зэкам» добираешься? — спросил он, провожая Виктора, чтоб показать зимник. Виктор даже не сразу сообразил, кто такие «зэки», кивнул и потом поправился:
— Я на строительство железной дороги…
— Это, парень, не близко, — огорченно остановился старик. — Еще верст пять за Чоромом будет… Чего же ты сразу–то не сказал? Этак я, пожалуй, маловато с тебя взял.
— Ничего, батя, — улыбнулся Виктор, — коня я не загоню, тихо поеду.
— Этого я не боюсь. Мою скотину никто не загонит. Ты только к ночи возвращайся. Мне завтра домой надо… Вернешься — прибавишь, может, пятерку, а?
Вымогательства старика стали уже злить Виктора.
— Нет у меня больше денег, — резко сказал он и подхлестнул коня концом повода.
— Сейчас нет, потом отдашь. Я ить тоже из Войттозера. Свидимся. Ну, езжай с богом.
3
Еле приметный, заросший травой зимник прямо от деревенских угодий начал петлять. Солнце оказывалось то слева, то прямо перед глазами, то справа, и у Виктора было такое впечатление, будто он почти не продвигается вперед. Он понукал лошадь, сначала легонько, а потом все сильнее и сильнее подхлестывал ее, но старик, как видно, не преувеличивал, когда говорил, что загнать его скотину невозможно. При каждом ударе конь лишь вздергивал головой, но не прибавлял шагу. Такая езда утомляла, но зато в ней были свои прелести. Можно было, не думая о дороге, отпустить повод и разглядывать все по сторонам. Где–то здесь поблизости пройдет скоро железнодорожная линия. Места тут в общем–то сухие, но нелегко будет проложить ее по этим каменистым холмам. Сколько потребуется трудов? Тут насыпь, там скальная выемка, тут снова насыпь… И так без конца. А потом нивелировка полотна, укладка рельсов, линии связи, мосты, разъездные пути, водокачки, станционные постройки… Нет, не скоро еще «загрохочет линия и курьерский поезд примчится к нам». Белянин — хороший парень, но слишком уж большой оптимист!
Виктор вырос в краях, где лесом называли низенькие ольховые заросли, покрывавшие кочковатые пожни неподалеку от деревни. Летом там пасли скот, и весь выгон был так истоптан, заляпан коровьими лепешками, усеян овечьими катышками, что было даже непонятно, где находит себе пропитание деревенская скотина. Может быть, когда–то там и был настоящий лес, но в годы детства Виктора, кроме отчаянно шальных слепней, кислого запаха помета и хрупких, ссыхавшихся к концу лета кустов, там ничего не было. Поэтому маленький Витя очень поразился, когда однажды зимой деревенские мужики привезли откуда–то такие длинные бревна, что концы их пришлось класть на подсанки. Заиндевевший отец, усталый, но довольный, бросил на пол окостенелую от мороза сумку и весело подмигнул:
— Тебе лисичка гостинчик из лесу прислала…
Гостинчик был похож на горбушку обыкновенного хлеба: был он твердый, холодный и удивительно вкусный. Непонятно только, почему гостинчик прислала лисичка — она ведь такая хитрая и жадная.
Тогда–то Витя узнал, что где–то есть и другой лес. Судя по всему, он был совсем не похож на их пожни, так как отец, в ответ на просьбу сына взять его с собой, изобразил на лице ужас:
— Что ты! Там медведь живет.
Медведь Витю не страшил. Но оказалось, что в лесу живут и волки, и баба–яга, и главное — разбойники… Их он боялся больше всего на свете.
Так они и жили порознь — таинственный лес и маленький Витя, который связывал с ним самое страшное, что существует в жизни.
Чувство, что лес — это какой–то иной, совершенно обособленный мир, осталось на всю жизнь. Его не развеяла даже война.
Два года он провел в лесу, сроднился с ним, однако всегда входил в него с каким–то особым настроением. В войну — с напряженным ожиданием опасности, после войны — с радостным ощущением того, что бояться больше нечего, что лес — вот он — родной, красивый, близкий, хотя и живущий независимой от человека жизнью, но полностью открытый тебе.
Близость Чоромозера Виктор угадал по гулу падающих на землю деревьев. Впереди рубили лес. Рубили, вероятно, вручную, так как не было слышно ни равномерного стука электростанции, ни рокота тракторов. Вялое, медлительное похрапывание лучковки, предостерегающий крик, короткий треск надламывающегося дерева и глухой мягкий удар о землю.
При каждом ударе конь вздрагивал, настораживался и подолгу шевелил ушами.
Потом все смолкло. Несколько минут Виктор, попридерживая коня, ехал в тишине, за которой все же угадывалось присутствие людей. Вот уже пахнуло дымком, и справа, чуть в стороне от дороги, глухой голос лениво запел:
Любо, братцы, любо, Любо, братцы, жить…Припев тягуче–однообразно подхватили еще несколько человек:
С нашим атаманом Не приходится тужить…Виктор выехал на пригорок, и ему открылась широкая полоса поваленного, но не везде окарзованного леса. Просека уходила на юг, пропадая за следующим пригорком. Вдали по ее сторонам виднелось несколько куч неразделанных хлыстов, посредине горели костры. Одни из них ярко пылали, в других огонь еще не успел пробиться сквозь огромные, похожие не копны сена ворохи свежей хвои. Кучи дымились сизыми и плавно поднимающимися к небу столбами. Такие же удивительно сизые и однообразные люди стояли, сидели, лежали вокруг костров.
Пели у ближнего костра. Виктору показалось, что он даже различает хриплоголосого запевалу, лежавшего вверх лицом на таком же сизом камне, как и его добела застиранная одежда.
— Дальше нельзя! — остановил Виктора тихий голос справа.
На вершине горушки стоял часовой — молодой парень, с любопытством рассматривавший неожиданно появившегося всадника.
Небольшой участок зимника попадал в зону оцепления. Виктор объяснил, кто он и зачем едет. Услышав фамилию Белянина, часовой оглянулся на товарищей, стоявших справа и слева от него на расстоянии видимости, и, немного подумав, махнул рукой:
— Езжайте! Только не останавливайтесь!
Виктора заметили и у ближнего костра. Песня и разговоры смолкли. Люди медленно поворачивали напряженные лица вслед за движением проезжавшего мимо всадника. В их взглядах было такое выжидание чего–то необыкновенного, обнадеживающего, что Виктор не смог смотреть в их сторону. Он знал, что это преступники. Белянин говорил, что многие из них совершили во время войны тягчайшие преступления, которые в те времена могли караться лишь одним — смертью. Этим сохранили жизнь. Значит, им поверили, а восемь лет, прошедшие после войны, — большой срок даже для человека, не находящегося в исправительно–трудовых лагерях. И все же трудно было смотреть в их сторону.
…Вот и люди у костра уже остались за его спиной. Еще десяток метров, и изгиб уведет дорогу из зоны оцепления.
— Начальничек! Дай закурить! — вдруг услышал Виктор позади сдавленный голос. Он оглянулся. Сидевший на камне человек сквозь стиснутые зубы повторял все громче и громче: — Закурить дай! Неужто папироски жалеешь?
Виктор поспешно достал портсигар, загреб горстью половину папирос и приостановил коня. Мгновение — и папиросы оказались в руке у заключенного. Вот он уже снова сидит у костра на сизом камне, среди завистливо наблюдавших за всем этим товарищей.
— Напрасно вы, гражданин, порядок нарушаете, — сказал пожилой охранник с погонами старшего сержанта, когда Виктор проезжал линию оцепления. — Хватает им курева. Из озорства забавляются.
— Извините, пожалуйста… До Чоромозера далеко еще?
— Четыре километра.
— А капитан Белянин на месте, не знаете?
— Вчера вернулся. А так всю неделю в командировке был.
— Этой дорогой я попаду в лагерь?
— Так прямо и езжайте. Лагерь в стороне будет, увидите.
Глава восьмая
1
За тонкой рассохшейся дверью Белянин кого–то убеждал:
— Пойми, тебе же добра хотят! Почему ты не хочешь сказать правды?
Другой голос — глухой и тихий — заученно отвечал:
— Не было никакого побега. Я сам вернулся.
— Ну, хорошо. Пусть это и не побег, а самовольная отлучка. Тогда объясни, зачем ты это сделал? Должна же быть какая–то причина?..
И вновь глухой голос монотонно отговаривается:
— Нет никаких причин. Заблудился и все.
После небольшой паузы Белянин спокойно, как ни в чем не бывало, принимался пояснять, что такие доводы никого не убедят, что заблудиться он никак не мог, что должна быть какая–то причина, а если он не хочет, чтобы его отлучку посчитали за преднамеренный побег, то должен рассказать правду.
И опять следует короткий безразличный ответ:
— Никуда я не бегал. Заблудился и все.
По эту сторону двери сидит охранник — молодой, темный от загара парень с печальными голубыми глазами. Он безучастно теребит ремень карабина и делает вид, что все происходящее за дверью его не касается. Однако, как только замирает голос Белянина, он настораживается, нетерпеливо ждет и даже чуть заметно досадливо морщится, когда в десятый раз слышит одно и то же: «Заблудился и все!..»
Вначале Виктор слушал разговор за дверью с невольным участием к провинившемуся. Причиной этому был голос — глухой, равнодушный и в первый момент показавшийся странно знакомым… Но теперь он лишь поражался терпению Белянина, который, слушая на протяжении часа уныло–однообразные ответы, ни разу не вышел из себя. Виктор не знал обстоятельств дела, но уж нисколько не сомневался, что провинившийся упорно что–то скрывает.
— Не бегал я… Сам вернулся… Заблудился и все… — твердил он, и Виктор, как и охранник, уже не может сдержать досады.
«Другой на месте Белянина уже давно бы перестал с тобой возиться, — думает Виктор, отходя к низкому окну.
За окном — длинный серый забор с колючей проволокой, перечеркивающей покатые крыши бараков внутри зоны. За ними на горизонте — узкая зубчатая полоска дальнего леса.
Время едва перевалило за полдень, а Виктору кажется, что он находится здесь удивительно давно — настолько примелькались ему и забор со «скворечниками» для часовых, и крыши с белыми трубами, и вся эта начисто выкорчеванная серая земля вокруг лагеря.
В лагере малолюдно. Все, кроме дежурных, на трассе или на подсобных работах. Даже в «скворечниках» не видно постовых. Где–то лениво взвизгивает двуручная пила. Потом она смолкает, и начинают доноситься удары топора.
По правде говоря, у Виктора и нет серьезного дела к Белянину. Просто он уже считал капитана своим другом и рассчитывал, что тот вызовется проводить его на строительство дороги.
«Скоро уже пора возвращаться, а я теряю тут напрасно время, — думает Виктор. — Надо коня посмотреть да подкормить хоть чем–нибудь…»
За дверью тихо. Слышно лишь, как шелестят переворачиваемые листы бумаги. Охранник тоже вслушивается в этот едва уловимый шелест.
— Я скоро вернусь, — говорит Виктор охраннику, который удивленно смотрит на него и ничего не отвечает.
Конь стоял в тени одной из хозяйственных построек. Кто–то расседлал его и принес охапку травы.
— Давай, давай, подкрепляйся, — ласково похлопал Виктор коня по бугристой жесткой коже и подумал: «Неплохо бы и нам перед поездкой подкрепиться. Скорей бы Белянин освобождался».
Однако поездка на строительство не состоялась. И совсем не потому, что там на сегодня был назначен большой взрыв и проезд туда перекрыт уже с утра. Шагая к служебному бараку, Виктор еще не знал ничего этого, как не знал и того, что через одну–две минуты неожиданная встреча заставит его забыть все на свете.
Вот он поднялся на крыльцо, перешагнул порог. Навстречу ему по длинному коридору двигались двое. Вели заключенного. Виктор еще не успел разглядеть охранника, шагавшего сзади, но уже понял, что ведут того самого парня из кабинета Белянина… Сизая короткая рубаха без ремня, сизые брюки, сизая наголо остриженная голова и серое, удивительно серое лицо со шрамом и с бородкой.
Коридор был узок. Освобождая проход, Курганов потеснился. И в эту минуту глаза их встретились. Заключенный вздрогнул, выпрямился и даже чуть отшатнулся в сторону.
— Проходи, проходи, — неизвестно кому сказал конвоир.
Заключенный обернулся на голос, и Виктор увидел правую не обезображенную шрамом половину лица.
— Павел!!! — крикнул он, хватая его за плечо.
— Назад! — Конвоир даже взял наизготовку карабин и, видимо, устыдившись этого, тихо попросил: — Проходите, гражданин, проходите… Нельзя! А ты чего стал, проходи! — крикнул он Павлу, все еще стоявшему у стены, напротив Курганова.
Павел резко повернулся и, ни слова не говоря, зашагал по коридору.
«Неужели я обознался? — растерянно глядя ему вслед, думал Виктор. — Не может быть… Неужели он даже не оглянется».
Заключенный не оглянулся. Еще шаг, и он уже будет на крыльце.
— Эй, погодите! Я сейчас! — не зная, что делать, закричал Виктор, с таким отчаянием, как будто заключенного уводили на расстрел и Курганов никогда не узнает — Павел это или нет?
Конвоир приостановился. Однако заключенный уже был на крыльце, и ему пришлось поспешить за ним.
Виктор едва не сшиб выходившего из кабинета Белянина.
— Я уже подумал, что ты уехал, — обрадованно улыбнулся капитан. — Пойдем ко мне на квартиру!
Словно ничего не понимая, Виктор прошел в кабинет, сел. «Наверное, он стоял за этой печкой, — подумал он. — Потому–то его голос и был так плохо слышен».
— Ты молодец, что наведался! — Белянин тоже вернулся, положил на стол темно–серую папку. — А я, понимаешь, в Петрозаводске чуть ли не неделю пробыл… Что с тобой? — встревоженно спросил он, посмотрев на бледное лицо Виктора.
— У заключенного, которого ты допрашивал, фамилия — Кочетыгов? — наконец мрачно произнес Курганов.
— Ну, во–первых, я не допрашивал, я не следователь, — улыбнулся Белянин. — А почему это тебя интересует?
— Его зовут Павел? Он тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения? — Виктор все повышал и повышал голос, как будто обвинял в чем–то Белянина, который ничего не понимал и удивленно смотрел на него. — Он бывший партизан? Уроженец Войттозера?
— Да объясни ты наконец, в чем дело? — начал сердиться Белянин. — Что случилось? Ты знаешь его, что ли?
— Он мой партизанский друг… Друг — понимаешь?
Белянин ничего не сказал. Он лишь внимательно и чуть недоверчиво посмотрел на Курганова.
Через полчаса Белянин знал все. Было не очень легко понять и разобраться, настолько сбивчиво и часто отвлекаясь на маловажные подробности рассказывал ему Виктор.
— Ну что ж, — сказал Белянин, прерывая затянувшуюся паузу. — Все это почти не расходится с тем, что записано в документах. Но здесь есть и другое — сотрудничество с врагом, измена воинскому долгу, добровольная сдача в плен.
— Такого не может быть, пойми ты! Это дикое недоразумение!
— Однако сам Кочетыгов не подал ни одной апелляции. Значит, он признал обвинение справедливым.
— Я никогда не поверю! Пойми, это все равно, как если бы мне сказали, что я изменник Родины!
Белянин лишь улыбнулся на его слова.
Оба долго молчали.
— Ты можешь мне разрешить свидание с Кочетыговым? — спросил Виктор.
— Вообще–то это будет нарушением режима. Кочетыгов находится сейчас в изоляторе. За самовольную отлучку.
— Неужели ты не можешь помочь даже в этом?!
Белянин подумал–подумал и, вызвав по телефону дежурного, приказал устроить свидание. Вскоре дежурный сообщил, что Кочетыгов от свидания отказывается.
— Отказывается? — переспросил Белянин, покосившись на Виктора. — А ну–ка, приведи его сюда!
Здесь, в Чоромозере, Белянин был каким–то иным. Вроде бы и тот же добродушный, приветливый человек, но начальственное положение наложило на него свой отпечаток. Его небрежно–снисходительное «А ну–ка…» больно резануло слух Виктора. Белянин, видно, и сам почувствовал это. Положив трубку, он сказал:
— Трудный он парень, Кочетыгов. Отколол с самоволкой штуку и заперся. Ясно, что домой бегал. Ему помочь хотят, а он ни «тпру» ни «ну». Если до высокого начальства дойдет, знаешь, как могут квалифицировать?!
Ввели Павла. Он вошел подчеркнуто отчужденно и, ни на кого не глядя, сразу же протиснулся в угол за печкой, подальше от окна. Виктор тоже сидел как на углях, не смея поднять на него глаз. Дождавшись, пока дежурный выйдет, Белянин неловко откашлялся и сказал:
— Ты что же, Кочетыгов, не узнаешь друзей, что ли? — Павел помолчал, потом вдруг поднял глаза, как будто собираясь сказать что–то, но, усмехнувшись, опять опустил их к полу, где на железном листе валялась придавленная папироса.
— Чего же ты молчишь? Бери стул, садись! Ты что, не узнаешь Курганова, что ли?
Павел сделал робкое движение к стулу, но опять передумал и лишь прислонился плечом к печке.
— Чего ж ты от свидания отказываешься?.. Да садись ты, чего ломаешься! — повысил голос Белянин. — Курить хочешь? На вот, кури.
— Спасибо, не хочу…
— Ну, как знаешь… — Белянин положил на стол начатую пачку «Беломора», спички. — Почему же ты отказался от свидания?
— Не о чем нам с Кургановым разговаривать…
— Как это не о чем?! Ты что говоришь? К нему пришел старый партизанский товарищ, а ему, видите ли, не о чем разговаривать?!
— Гусь свинье не товарищ! Какие могут быть друзья у «зэка»?
— Э–э, парень! — протянул, качая головой, Белянин. — Вон куда ты смотришь?.. Как же ты жить дальше думаешь? Ну вот, выйдешь через год на свободу, так и будешь один? К тебе люди с добром, а ты от них в сторону. Придется, парень, нам не один раз потолковать с тобой, пока есть еще годик в запасе… Как ты, не возражаешь?
— Потолковать можно, — усмехнулся Павел. — Только бесполезно. Мне уже не семнадцать, и кое–что повидал я. Цену словам знаю.
— Вот ты Курганова из друзей отчислил, а он верит в тебя, даже сейчас верит!
— Слова недорого стоят.
Тон, который взял в разговоре Белянин, при каждом слове коробил Виктора обидной, вызывающей несправедливостью.
— Афанасий Васильевич! — обратился он. — Вы не можете нас вдвоем оставить! Хотя бы ненадолго, а?
— Вдвоем? — переспросил Белянин. — Почему нельзя? Можно. Ты не возражаешь, Кочетыгов?
Павел безразлично пожал плечами. Лишь за Беляниным закрылась дверь, он придвинул к печке стул, сел, поднял с пола окурок, выправил его, потянулся за спичками.
— Зачем ты это делаешь? — Виктор торопливо достал свой портсигар, протянул его. — Бери!
Павел, словно не замечая Курганова, погремел коробком со спичками, прикурил, сделал две глубокие торопливые затяжки. Время шло. Вот уже Павел загасил окурок, положил его не в пепельницу, а открыл дверцу печи и бросил туда. Потом, подумав, поворошил там бумаги и, добыв еще несколько окурков, принялся растирать их, чтобы собрать табаку на самокрутку.
— Павел, расскажи, как это случилось?
— Что? — удивленно поднял голову Кочетыгов.
— Ну… то, что ты здесь…
Павел посмотрел на Виктора с нескрываемой враждебностью.
— Тебе лучше знать.
— Мне, почему? — испуганно спросил Виктор.
Презрительно усмехнувшись, Павел оторвал уголок лежавшей на столе газеты, принялся свертывать самокрутку. Его усмешка была злой и неприятной: левая половина лица, пересеченная извилистым шрамом, который не могла скрыть даже бородка, оставалась неподвижной, лишь уголок губ чуть загибался книзу.
— Почему мне? Прошу тебя, не молчи, пожалуйста! Скажи, что ты имеешь в виду? Я ведь не знал, что ты жив. И никто не знал. Даже твоя мать считает тебя погибшим. Ты понимаешь, когда я вдруг увидел тебя… Я не поверил своим глазам… Ты жив… и вдруг здесь! Почему так случилось, расскажи… Я и до сих пор не верю этому. Ты был в плену?
— Нет, на курорте…
Павел погасил самокрутку, спрятал окурок в карман и вдруг резко повернулся к Виктору:
— Чего ты добреньким прикидываешься, а? И того ты не знал, и этого не знал… Ты про жребий давал показания следователю? Давал. Протокол подписывал? Подписывал. Чего тебе еще надо?!
— Павел! Я рассказал все, как было. Я даже не думал… Честное слово, я не знал, что ты жив! Клянусь тебе!
— «Как было»! Из–за этого «как было» я, может, и сижу здесь. В плену многие были, но не каждый по поддельному жребию попадал. Пойди докажи, что это не так. Я все мог опровергнуть, но когда этот самый протокол появился, тут уж деваться некуда. Тут такая линия получилась, что спасибо хоть крайнюю меру не дали. Сиди и не рыпайся. Да что с тобой говорить?! Зачем ты пришел? Чего тебе от меня надо?
— Я хочу помочь тебе… Если бы не этот жребий, ты смог бы оправдаться, да? Ты ведь так сказал?
— Мне не в чем оправдываться, понял! И убирайся ты отсюда ко всем чертям! Не нужна мне теперь твоя помощь…
Павел подошел к двери, открыл ее и сказал громко и сдержанно:
— Гражданин начальник! Свидание окончено.
2
Белянин проводил Виктора до конца трассы. Он понимал его состояние, старался отвлечь посторонними разговорами. Рассказывал о стройке, о том, с каким приподнятым настроением он, возвращаясь из Петрозаводска, проехал на рабочей «кукушке» по уже готовому, но еще не сданному в эксплуатацию участку дороги.
— Едешь и не верится! Давно ли мы проходили там? Каждый метр взад–вперед сотни раз исхожен. И вот тебе — линия, насыпь, паровоз, разъезды. Честное слово, дух захватывает! Поганая у меня работа и не по мне она. А все ж даже в ней бывают свои радости. Вот доведем трассу до Заселья, наш лагерь на расформировку пойдет… Кто на свободу, кто в другие лагеря. А дорога–то останется… Навсегда останется — ив памяти, и здесь, среди леса.
— Навряд ли это будет приятным воспоминанием, — сказал Виктор. Он вел на поводу лошадь, но не обращал на нее внимания. Конь понуро плелся сзади, успевая то тут, то там выхватывать пучок травы.
— Не скажи! Мне доводилось встречать людей, которые Беломорканал строили. Ты знаешь, как они его теперь вспоминают? С гордостью. Вот, дескать, какое дело своротили. Скольких преступников он настоящими людьми сделал?! Плохое забывается, а хорошее остается.
— Говорят, что наоборот, — возразил Виктор.
— Это у кого как! — засмеялся Белянин. — От характера зависит…
Трасса заметно продвинулась вперед. Она уже огибала высоту, на которой Виктора остановил постовой.
— Скажи, куда мне лучше написать? — помедлив, спросил Виктор.
— Ты все–таки решил написать?
— Да. Обязательно!
— Это ты правильно решил, — обрадованно поддержал Белянин. — Раз твои показания подложно использовались в качестве обвинения, ты должен написать… Пиши прямо в Президиум Верховного Совета. Там разберутся. Или на пересмотр дело отдадут, а могут просто помилование решить! Хорошо бы не одному тебе! Есть же, наверное, другие партизаны, которые хорошо знали Кочетыгова. Вот бы и они пусть написали!
— Конечно, есть! Да его сам Орлиев, командир наш, мальчишкой знает, с первых дней воевали вместе. И Дорохов, комиссар… Он теперь в ЦК партии республики работает.
— Хорошо, если бы и они написали. Ну, прощай! Да не трави ты себя особенно, Курганов. Нет тут твоей вины. Ну, желаю удачи!
Виктор, в надежде заставить коня идти порезвее, срезал гибкий березовый прут. Однако на этот раз больших усилий не потребовалось. Конь — то ли сам торопился домой, то ли почувствовал серьезные намерения седока — но после первых ударов неожиданно оживился и тяжело затрусил, отгоняя слепней потряхиванием головы.
«Нет тут твоей вины…»
Вначале слова Белянина успокоили Виктора. Действительно, в чем его вина? Он не солгал, ничего не выдумал, нигде никогда даже слова плохого не сказал о Павле,
Но чем больше Виктор раздумывал об этом, тем больнее и неприятнее становилось у него на душе. Конечно, он виноват. Он не может не быть виноватым, раз Павел безвинно страдает уже девять лет.
Если бы Виктор смог догадаться обо всем тогда, в феврале 1945 года!
Глава девятая
Третий рассказ о войне
Февральским вечером перед самым концом дневной смены Курганова вызвали в цеховую контору к телефону.
Виктор выключил трансформатор, положил щиток, рукавицы, держатель и, удивляясь неожиданному вызову, побежал по длинному цеховому пролету, с двух сторон озарявшемуся неровными голубыми вспышками электросварки.
— Из горкома комсомола, что ли? — спросил он мастера.
— Не знаю… Третий раз тебе звонят!
Едва Виктор назвал себя, как незнакомый мужской голос сказал:
— Добрый день, товарищ Курганов. Я привез вам привет от ваших друзей. Я не ошибся, вы ведь партизанили в Карелии?
Большей радости для Виктора было не придумать. Скоро будет год, как он покинул отряд, и с тех пор ничего не знает о товарищах. Из госпиталя он писал им, но ответа так и не получил. Приехав на Урал, писал снова, даже обращался с запросом в штаб партизанского движения. Получив от какого–то неизвестного ему лейтенанта административной службы Кармакулова короткий, разбитый по пунктам ответ, Виктор подумал, что его уже почему–то не считают партизаном. Было очень больно, но поверить в это ему было совсем не трудно, так как после той мартовской ночи, в которую погиб Павел, он жил с ощущением какой–то вины перед товарищами...
И вдруг такая радость!
Виктор даже сам не помнит, что он ответил в телефон. Кажется, поблагодарил и взволнованно затих.
— Товарищ Курганов! Я думаю, нам имеет смысл повидаться? Как вы на это смотрите? Вы не можете зайти ко мне в гостиницу? У вас когда смена кончается? В восемь? Ну вот сразу и приходите… Моя фамилия Сидоров.
В тот вечер Виктор даже не поужинал в цеховой столовой. Он боялся потерять лишнюю минуту, а еще надо было забежать в общежитие, умыться, переодеться.
Его встретил молодой, но уже начинающий лысеть человек в сером свитере, в новых белых бурках и темно–синих суконных брюках. Приветливо улыбаясь, он помог Виктору снять шинель, повесил ее в большой обшарпанный шкаф, занимавший угол тесного и скромного номера.
Разговор вначале не клеился. Для знакомства обменялись двумя–тремя взаимными вопросами. Сидоров, оказалось, приехал на Урал в командировку и завтра уезжает… В свою очередь он обратил внимание на еще не совсем зажившую после ранения левую руку Виктора.
— Разве вам не дали инвалидность?
Внешне рука выглядела вполне нормальной, но силы в ней еще едва хватало, чтобы продержать всю рабочую смену легкий щиток.
— Нет, почему же… Имею третью группу… — ответил Виктор, удивившись наметанности глаза Сидорова.
— Имеете инвалидность и работаете?! Хотя в этом нет сейчас ничего удивительного… Давайте по случаю встречи выпьем по капельке! Подвигайтесь сюда!
На круглом столике, покрытом газетой, нашлась бутылка водки, черные сухари и банка свиной тушенки.
Выпили, закусили и настороженно замолчали.
Вот тогда–то Виктора и поразил в Сидорове удивительно пристальный взгляд.
«Пригласил и молчит. Почему он молчит?» — подумал Виктор, чувствуя, что хозяин безотрывно наблюдает за ним.
— Расскажите, как там… наши партизаны живут? — прерывая тягостное молчание, спросил он.
— Живут… Неплохо живут… — как–то отчужденно проговорил Сидоров и, помолчав с полминуты, вдруг поднялся:
— А ведь я вас, Курганов, по делу пригласил.
— По делу? По какому делу? — поднялся и Виктор.
— Сидите, сидите… Вот мое удостоверение… Вы служили в отряде Орлиева?
— Да.
Сидоров присел к письменному столу, предложил Виктору придвинуться поближе.
— Вы участвовали в прошлом году в марте в Войттозерской операции?
— Да, участвовал.
— В мае из госпиталя 25–27 в Архангельске вы писали письмо в штаб партизанского движения по поводу этой операции?
— Писал… Только не по поводу операции. Я писал об ордене. Меня наградили. Орденом Красного Знамени… Я писал, что не заслужил такой награды, что все это сделал Кочетыгов… Скажите, вы вызвали меня в связи с этим письмом?
— Можете считать так… Расскажите мне все по порядку! Все, что вы видели и слышали в ту ночь, со всеми подробностями…
Виктор начал рассказывать и по первым же уточняющим вопросам понял, что многие подробности Сидорову уже известны. В тот вечер он не придал этому большого значения. Тогда он не мог и предположить, что Сидоров знает их не только по его письму в штаб партизанского движения, а и по показаниям Павла Кочетыгова; не мог, конечно, Виктор знать и того, что в ответ на издевательское поведение Сидорова Павел не сдержался и чуть было не дал следователю в морду. Этот человек читал письмо Виктора в штаб. Значит, ему известно было, как относится Виктор к Павлу.
Хотя Сидоров с его многозначительной медлительностью, с какой–то угнетающей рассчитанностью слов и движений был ему уже неприятен, Виктор рассказывал все искренне и бесхитростно.
— Стоп! — остановил его Сидоров и переспросил: — Как только взлетела ракета, сразу от деревни ударили пулеметы? Так вы говорите?
— Да.
— Значит, финны знали о нападении, если они были готовы?
— Это навряд ли… Зимой по ночам они всегда держали гарнизоны в состоянии боевой готовности.
— Вы говорите, что сигнальную ракету зацепил кто–то из ваших случайно?
— Да, в темноте это было нетрудно.
— Все понятно… Продолжайте!
Пока Виктор рассказывал об отходе отряда вдоль берега озера, Сидоров что–то записывал, и было такое впечатление, что он не слушает, лишь машинально кивает головой. Но как только Виктор начал говорить о решении командира прорываться на восточное побережье и послать к острову разведку, он снова прервал его:
— Вы сказали, что делать проход в минном поле первым вызвался Кочетыгов?
— Да.
— А разве он был минером?
— Нет. Но минеров, кроме меня, не было. Трое погибли под проволочными заграждениями у деревни…
— Почему же вместе с ним вызвались идти и вы? Вы же были ранены?
— Да, но я знал, что Павел не умеет снимать мины.
— Вы уверены в этом?
— Ему никогда не приходилось…
— Вас это характеризует с самой лучшей стороны…
Снова торопливое шуршание карандаша по уже исписанному листу бумаги, в тишине чем–то похожее на то осторожное и быстрое шуршание лыж по мартовскому насту, когда они с Павлом остались на озере вдвоем.
Дальше началось самое трудное.
Даже наедине с собой, вспоминая последние минуты перед расставанием с Павлом, Виктор ощущал, как мучительный стыд, неловкость, досада на себя мешают ему трезво думать о том, что произошло на озере. С этими чувствами лихорадочно и сбивчиво писал он в штаб партизанского движения на второй же день после вручения ему в госпитале ордена. И все же тогда было легче. Там никто не заглядывал в глаза с таким видом, как будто знает о тебе больше, чем ты сам.
Виктор волновался и с трудом подбирал слова. Говорил, как было, что чувствовал, о чем думал… Чтоб было понятнее, он то уходил в прошлое, в историю взаимоотношений его, Павла и Оли Рантуевой, то забегал вперед, и тогда Сидоров уточняющими вопросами вновь возвращал его к последней сцене на озере.
— Значит, первым предложил нарушить приказ командира отряда Кочетыгов? Как вы думаете, зачем он это сделал?
— Не нарушить… Он просто сказал: «Зачем погибать двоим, когда с заданием справится и один».
— И вызвался пойти сам?
— Да, он хотел этого.
— И вы согласились с ним?
— Нет. Я стал спорить.
— Но он мог бы вам приказать. Он был старший.
— Мог бы, — замялся Виктор.
— Он приказал оставаться или нет? Отвечайте точнее!
— Нет, не приказал…
— Значит, вы сами не захотели? Струсили, выходит?
— Нет, я не струсил, — побледнел Виктор.
— Тут только два выхода… Или он приказал вам остаться, на что он как старший имел право, — Сидоров особенно подчеркнул последние слова, — или вы самый настоящий трус! Третьего быть не может. Что же вы молчите?
— Я собирался рассказать вам все, как было, но вы не хотите слушать меня.
— Вот еще! Я же оказываюсь и виноватым! Что же вы собирались сказать?
Услышав слово «жребий», Сидоров расхохотался.
— Придумай что–либо поумнее. Это рассчитано на явных простаков! — сказал он, переходя на «ты».
«Почему он вдруг переменился? Неужели он и вправду считает меня трусом?» — подумал Виктор. Он уже не знал, продолжать ли ему рассказ? Если Сидоров не поверил в жребий, то в дальнейшее он и вовсе не поверит.
— Ты хочешь сказать, что вы разыграли жребий и счастливый достался тебе? Как же вы его разыгрывали — на фантиках или монету бросили? — Сидоров уже не скрывал насмешки.
— Вы напрасно не верите… Я говорю правду.
— Чем докажешь?
— Доказательств у меня нет…
— Так почему же я должен тебе верить?
— Потому что так было на самом деле…
— А разве ты все это не мог выдумать? Если бы ты подтвердил, что Кочетыгов приказал тебе остаться, тут еще можно и допустить. Все–таки он старший… По крайней мере, трудно было бы доказать, что ты в чем–то виноват.
— Но не могу же я говорить неправду! Мы действительно тянули жребий… Не на фантиках, не по монете, а на спичках. На обыкновенных спичках…
Виктор остановился, чтобы перевести дыхание и хоть как–то овладеть собой. Да, тогда он растерялся. Перед открытым подозрением Сидорова он вдруг ощутил себя совершенно беззащитным…
— Что же ты замолчал?! Или не успел еще придумать продолжений?.. Не кругло получается у тебя, Курганов! Нет, совсем не кругло! — с язвительным сочувствием покачал головой Сидоров. — Жаль мне тебя… И признаваться тебе не хочется, и соврать не умеешь… Как же ты все–таки в живых–то остался? Придется тебе рассказать правду…
— Правду я и рассказываю…
— Ну, давай, давай… Терпения у нас хватит, выслушаем…
С наигранной внимательностью Сидоров приготовился слушать, облокотившись на стол. Он больше ни разу не перебил Виктора, который, не поднимая глаз на следователя, угрюмо и кратко закончил рассказ. Лицо Сидорова заметно оживилось, едва он услышал о поддельном жребии.
— А что, это, пожалуй, неплохо придумано, а? — весело воскликнул он.
— Это не придумано… Так было на самом деле.
— Ну, ну… Я и говорю, Кочетыгов ловко придумал… Вот уже похоже на правду! Теперь мне нужны несколько уточняющих обстоятельств… В какой руке Кочетыгов держал спички?
— Кажется, в левой.
— И Кочетыгов знал, что на острове есть финны?
— Да, он был почти уверен в этом…
— И он велел никому о жребии не рассказывать?
— Да.
— Почему, как ты думаешь?
— Мы ведь нарушили приказ командира… И потом Павел вообще был такой… Он не любил, чтобы о нем говорили, и слово «герой» употреблял только в насмешку…
— Ну, я думаю, тут дело не в лирике… Теперь договоримся так. Сейчас ты пойдешь домой… Тебе утром во сколько на работу? К восьми? Значит, завтра ровно в семь я жду тебя здесь. Смотри, чтобы мне не пришлось искать тебя.
Назавтра Виктор — измотанный, усталый, с тяжелой от бессонницы головой — вновь стоял перед знакомой гостиничной дверью.
Сидоров встретил его приветливее, чем вчера. Угостил чаем с черными сухарями, предложил папироску «Беломорканал» ленинградской фабрики и все медлил, ждал чего–то, спрашивая и рассказывая о каких–то пустяках.
— Мне на работу пора, — напомнил Виктор.
— Ах, да… Уже двадцать минут восьмого… Ну, что ж, приступим к делу. Вот протокол твоих показаний! Прочти, подпиши и можешь быть свободен.
Протокол занимал шесть страничек, аккуратно переписанных под копирку красивым округлым почерком.
Когда все было закончено, словно гора свалилась с плеч.
Сидоров тепло попрощался с Виктором и предупредил:
— Я думаю, в твоих интересах не болтать об этом.
— Вы о нашей встрече?
— Обо всем… Уезжать отсюда не собираешься?
— Нет. С осени думаю поступить в вечернюю школу, в восьмой класс. Надо учиться…
— Помни, что я тебе говорил! — еще раз предупредил его Сидоров.
В тот день Виктор опоздал на десять минут на работу. В ответ на укоряюще–молчаливый взгляд мастера смутился и впервые соврал:
— Проспал, батя, прости!
Глава десятая
1
Мотоцикл с визгом затормозил у конторы лесопункта.
На счастье, Орлиев сидел в кабинете один. С нескрываемым раздражением он кинул на Виктора быстрый взгляд, но ни слова не сказал. Он читал какой–то слепо отпечатанный на машинке документ. Чуть в сторонке лежала сводка работы за день, тщательно разграфленная синим карандашом и заканчивающаяся размашистой подписью плановика.
— Вы знаете, кого я сегодня встретил? — едва отдышавшись, горячо заговорил Виктор. — Тихон Захарович, прошу вас! Оторвитесь на минутку! Очень серьезное дело. Я виделся с Павлом Кочетыговым. Он жив! Жив, понимаете?
Еще в пути Виктор пытался представить себе, какое впечатление произведет на Орлиева его известие. Сначала тот не поверит, потом оно ошеломит, обрадует его, заставит немедленно предпринимать что–то. Они сразу же примутся за письмо, и Чадов, если еще не уехал, поможет им. Потом они соберут подписи от всех партизан, которые знали Павла…
Но вышло все не так.
Орлиев действительно удивился. В первый момент на его лице вместе с удивлением даже проглянул слабый отблеск радости. Но чем дальше он слушал Виктора, тем заметнее мрачнел, сутулился, смотрел сощуренными глазами в сторону окна. Его твердые неподатливые пальцы уже барабанили по столу.
— Мальчишки! Сопляки! Доигрались со своими штучками! — глухо проронил он. — Вон к чему приводит ваше умничанье! Ты тоже виноват…
— Тихон Захарович! Я уже слышал все это! Сейчас незачем об этом говорить… Надо помочь Павлу!
— Чего ты от меня хочешь?
— Надо написать в Москву, объяснить все. Это же ошибка, ее надо как можно скорее исправить!
— Ты что, считаешь, что его без причины на десять лет посадили? — вдруг спросил Орлиев, поглядев прямо в глаза Виктору, растерявшемуся от такого вопроса.
— А вы разве… считаете иначе?
Орлиев помолчал. Он, видимо, хотел как–то уйти от прямого ответа, но это было не в его натуре. Тяжело повернувшись в кресле, он поднялся и сказал:
— Десять лет за пустяки не дадут… И занимались его делом, наверное, люди не глупее нас с тобой.
Виктор тоже встал. Он едва уже сдерживался.
— Значит, вы отказываетесь?
— Что — отказываюсь?
— Писать в Москву.
— Да, отказываюсь… И тебе не советую тратить время впустую. У тебя есть дела поважней. Заварил кашу с переходом в семидесятый, а сам занимаешься черт знает чем!
— Хорошо, мы это сделаем без вас! — Виктор пошел к выходу, у двери остановился. Он чувствовал, что просто уйти не может. Лучше сразу высказать все до конца.
— Знаете что?! — Виктор старался говорить спокойно, но негодование, обида все–таки проступали в дрожании его голоса: — Мне много говорили о вас… Я не верил… Вы знаете, кем вы были для меня?! Я никогда не думал, что вы можете так поступить. Неужели вы не верите Павлу? Ведь вы его знаете с детства… Ведь это же… подло, поймите!
— Что?! — Орлиев резко оттолкнул ногой загремевший стул и, подавшись вперед, навис над столом. — И ты, молокосос, учить меня будешь?!
— Нет, не буду… Я просто никогда уже не смогу верить вам. Никогда!
Хлопнув дверью, Виктор вышел в приемную, пробежал мимо удивленных шумом людей и выскочил на улицу.
«Вот так… Теперь все ясно… Рано или поздно это, видно, должно было случиться», — думал он, торопливо шагая к деревне.
На половине пути вспомнил об оставленном у конторы мотоцикле.
«Ладно, потом вернусь… А я еще не верил Чадову. Какой я был дурак! Теперь все ясно!»
Дома никого не оказалось. Входная дверь была снаружи заперта на привязанную к скобе палочку–заложку, и Виктор побежал обратно к поселку.
Кто–то из встречных сказал, что видел «петрозаводского корреспондента» у столовой, что тот собирается уезжать, так как был с чемоданом.
— Автобус не ушел еще?
— Стоит, стоит, должно, пойдет скоро.
Виктор нашел Чадова в столовой. Сидя за одним столиком с шофером автобуса, Юрка попивал настоянный до черноты чаек и вел разговор о дороге, о погоде, о городских новостях.
— Можно тебя? — тронул его за плечо Виктор.
— A–а, вернулся, — обрадовался тот. — Я уж думал, и не увидимся. Хочешь чаю? Садись…
— Ты уезжаешь?
— Да, брат, пора… «Шеф», наверное, и так икру мечет.
— Я тебя ищу.
— Что случилось? — встревоженно посмотрел на него Чадов.
— Выйдем… Дело важное…
— Не опоздай! Скоро трогаемся, — крикнул им вслед шофер.
У столовой, как всегда перед отходом автобуса, было много народу. Виктор отвел Чадова за угол здания, к поленницам дров.
— Тебе придется на денек остаться, — сказал он, еще не зная, как лучше сообщить о новостях.
— Да что случилось? Чего ты тянешь?
Подробно говорить было некогда. Виктор рассказал лишь главное — Павел жив и находится в заключении.
— Вот это новость! — воскликнул Чадов. — Значит, он–таки попал в плен… Ну и казус! Слушай, а ты случаем не знал об этом раньше? — подозрительно прищурился он. — Зачем тебя в лагерь поперло? Какое–то уж больно удивительное совпадение.
— Конечно, не знал… Я и до сих пор в себя прийти не могу. Временами даже не верится.
— Ну и история! Жаль Павла! «Луцеж потяту быти, нежели полонену быти». Помнишь «Слово о полку Игореве»? Мудро сказано!
— Орлиев отказался написать в Москву… Я хотел, чтоб мы, все, кто знает Павла, написали туда. А он отказался…
— Разве я не говорил тебе! — усмехнулся Чадов. — Ты не верил мне, ну а теперь сам убедись, каков Тихон на поворотах.
— Ты прав, — согласился Виктор. — Как ни печально, но это так… Черт с ним, обойдемся и без него… Идем! Где твой чемодан? В столовой остался?
— В машине…
— Бери скорей и пойдем. Надо сегодня же, сейчас же написать!.. Подробно, обстоятельно, все, как было!..
По усилившемуся гомону и громким голосам можно было понять, что автобус уже готовился к отправке, Виктор и Чадов подошли, когда шофер уже давал сигналы. Чадов постучал в ветровое стекло, прося подождать, и, неловко помявшись, сказал Виктору:
— Понимаешь, старик, я не могу остаться.
— Что ты говоришь? Почему не можешь?
— Я и так опаздываю… А потом — у меня срочное дело… Организационный вопрос, понимаешь..
— Юрка, всего один день… Завтра ты уедешь.
— Нет, нет, не уговаривай, остаться не могу.
— Может, ты тоже не хочешь?
— Ну что ты, Виктор!.. — По тому, как Чадов растерянно и виновато улыбнулся, Виктор вдруг понял, что попал в цель. И эта вечная улыбка неожиданно показалась ему настолько жалкой и противной, что он отвел взгляд в сторону.
— И у тебя хватает после этого наглости в чем–то обвинять Орлиева?! Эх ты… Краснобай!
— Ты зря, Виктор, — тихо отозвался Чадов.
Снова прогудела сирена. Чадов неуверенно сказал: «Ну, до свидания!» — и полез в автобус.
Шофер, обернувшись, подождал, пока он усядется, потом дал сигнал, и машина тронулась. Она уже выезжала на шоссе, когда Виктор неожиданно сорвался с места, догнал ее, побежал рядом, стуча в кузов до тех пор, пока машина не остановилась.
— У тебя есть адреса наших товарищей по отряду? — через окно крикнул Виктор Чадову. — Дай их мне.
Чадов торопливо зашарил по карманам, достал одну записную книжку, другую, начал листать, вынул карандаш, стал быстро переписывать. Шофер и пассажиры недовольно наблюдали за ним, но, понимая, что происходит что–то важное, молчали.
— Да вырви ты их… — не выдержал Виктор. — Зачем они тебе?.. А если потом понадобятся, я их верну.
— Конечно, конечно, — торопливо согласился Чадов.
Несколько старых затрепанных по краям листков перешли через открытое окно из руки в руку, и машина умчалась,
2
Войттозерское отделение связи занимало одну из квартир жилого щитового домика. Все здесь было как на настоящей почте: высокая перегородка с двумя окошечками, стол с образцами почтовых отправлений под стеклом, небольшой коммутатор и даже похожая на фанерный шкаф будка для телефонных переговоров.
— Можно вызвать Петрозаводск?
Сидевшая за барьером девушка надела наушники.
— Что в Петрозаводске?
— Цека партии. Товарища Дорохова.
— А номер не знаете?
— К сожалению, не знаю.
Ждать пришлось долго. Виктор присел к столу, машинально, не вдумываясь в текст, прочитал лежавшие под стеклом образцы переводов, телеграмм и писем, адресованных в город Краснодар, какому–то Ивану Осиповичу Петрову, проживающему по ул.Советской, дом64, кв.5. Он подумал об Иване Осиповиче, как о живом человеке, и даже позавидовал ему. Хотелось верить, что есть на свете этот Петров и, видно, он очень хороший человек и верный друг, если ему так часто пишет, телеграфирует, шлет переводы Николай Сергеевич Кузнецов, проживающий в Петрозаводске, по проспекту Ленина, дом15, кв.10.
Изредка мягко жужжал коммутатор. Девушка щелкала переключателем и певуче–однообразно отвечала:
— Почта… Соединяю…
Потом Виктор вспомнил об адресах, оставленных ему Чадовым. Нужных адресов было немного, всего шесть; видно, Чадов впопыхах вырвал лишь первые попавшие на глаза. Они были затеряны среди многих других, ничего не говорящих Виктору, записанных чадовской рукой то убористо и подробно, то размашисто и коротко. Когда попадалась знакомая фамилия, Виктор радовался так, как будто встретил не почтовый адрес, а самого партизанского товарища.
«Чупа, Рудник Светлый. Проккуеву…» — читал он и тут же добавлял: «Здравствуй, Федор! Далеко ты забрался, на самый Полярный круг… Помнишь, как вместе мы разряжали невзорвавшуюся бомбу, добывали взрывчатку?.. А Павел Кочетыгов жив… Жив, понимаешь?.. И мы должны ему помочь…»
«Пудож, Куганаволок. Минину Петру Ивановичу. Ты, конечно, вернулся к себе и опять ловишь своих небывалых куганаволокских лещей… Я не забыл, как в голодные недели травил ты наши души рассказами о рыбацкой ухе. Мы сердились, а ты нарочно расписывал ее с такими подробностями, что и до сих пор мне уха кажется самой вкусной едой».
«Кондопога. Профком бумкомбкната. Ивоеву Алексею Ивановичу… Не сердись, дорогой политрук, что вспоминаю тебя, лишь когда твоя помощь потребовалась. Верь, что никогда не забывал о тебе. А если не писал, то так уж вышло… Виноват я… И перед тобой и перед другими… Ты, я знаю, простишь меня, ты всегда хорошо понимал людей… Да и не обо мне сейчас речь, а о нашем дорогом Павле…»
— Дорохова нет. Будете говорить?
Виктор долгим непонимающим взглядом посмотрел на девушку, потом растерянно спросил:
— А где же он?
— Не знаю. Будете говорить? Скорее.
— Да–да… Буду…
Он поплотнее затворил дверцу кабины, прижал к уху прохладную тяжелую трубку, в которой что–то шуршало, потрескивало, булькало.
— Приемная товарища Дорохова слушает… — Далекий женский голос едва пробивался сквозь шумы.
— Можно Андрея Николаевича?
— Он в командировке… Кто его спрашивает?
— Курганов из Войттозера…
— Вы, может, с его заместителем поговорите?
— Нет, мне нужен Андрей Николаевич.
— Его, к сожалению, нет.
Треск и шумы в трубке, казалось, отсчитывали секунды, одну за другой…
— Может, вы передать что–либо хотите? — вновь послышался женский голос.
— Да, да, передать, — обрадованно закричал Виктор. — Передайте, что звонил Курганов из Войттозера… Скажите, что Павел Кочетыгов жив… Да, да, именно жив… Так и скажите! Андрей Николаевич его хорошо знает… Я потом напишу ему. Передайте это, пожалуйста.
— Хорошо, передам, — сдержанно отозвалась трубка.
Глава одиннадцатая
1
В эту ночь до самого утра тускло светились окна в задней комнате дома Кочетыговых. Дождавшись, когда Лена и тетя Фрося улягутся спать, Виктор вывел первые слова:
«Москва, Кремль, Председателю Президиума Верховного Совета СССР».
Он не знал, как нужно писать подобные письма. Вероятно, ему следовало подождать, с кем–то посоветоваться, но ждать он не мог. Ему казалось, что если он сегодня же не напишет в Москву, то это будет таким же отступничеством, какое уже совершили Орлиев и Чадов.
Особенно трудно давалось начало. Он начал письмо, как обычное заявление: прошу вас о том–то и о том–то… Но как только стал приводить доказательства и мотивы, то понял, что без подробного, последовательного рассказа обо всем не обойтись.
Пришлось взять новый лист бумаги. Он по порядку, начиная с детства, описывал жизнь Павла, рассказывал, каким храбрым и самоотверженным был комсомолец из Войттозера, как в 1943 году он целую неделю прожил в оккупированной деревне и собрал очень важные разведывательные данные, как в марте 1944 года Павел, чтобы спасти отряд, пошел на неминуемую гибель, был тяжело ранен, в беспамятстве попал в плен…
Теперь Виктор даже не задумывался, стоит ли рассказывать про их отношения с Олей. Он писал все, как было, волнуясь и переживая так же, как волновался и переживал девять лет назад.
Закончив письмо, Виктор перечитал его и вдруг увидел, что упустил главное — не написал о том, как подло и недобросовестно его сделали свидетелем обвинения против Павла.
И вот снова, в третий раз, на чистом листе с отступом вправо появляются крупно выделенные слова: «Москва, Кремль».
С каждым разом писать труднее. Мысли, одна тревожней другой, сбивают его, уводя в путаный и замкнутый круг. Павел считает, что во всем виноваты его показания. Но ведь Сидоров приехал к нему на Урал с уже готовым обвинением! Теперь–то Виктор понимает, что это было так. Значит, дело не только в его показаниях, которые, кстати, и не могли быть иными — он говорил тогда только правду. И что он мог сделать тогда, девять лет назад, если бы и знал его намерения? Значит, все дело в Сидорове, а может быть, и еще глубже… Ведь не случайно Белянин обронил фразу: «Разве Кочетыгов один такой!» Он–то, наверное, имеет для этого основания.
«Стоп! Ты что же, хочешь уйти от ответственности, спрятаться за других? — в упор спросил себя Виктор. — Но ты же виноват, Ты многое мог сделать. Ты мог написать это письмо не сейчас, а тогда. Пусть даже оно и не помогло бы Павлу, но это было бы честнее. Конечно, тогда ты ничего не знал. Но разве неведение может служить оправданием в таких делах? Ты таился от добрых и честных людей и доверился подлецу, к которому у тебя самого возникла неприязнь с первых же минут…»
Да, все могло быть иначе. По–иному могла сложиться жизнь у всех троих — у Павла, у Оли, у него самого. А тетя Фрося? Можно ли измерить, чего стоили ей эти девять лет?
Тетя Фрося, оказывается, знала, что Павел жив и находится в заключении. Виктор долго мучился, не зная, как лучше сообщить новость старушке. Наконец, решился… Тетя Фрося, даже не дослушав его и ничего не спросив, расплакалась:
— Витенька! Разве ж заслужил он это?!
Павел, конечно, бывал дома. Вероятно, даже знал, что Виктор живет в Войттозере. Он, наверное, успел мысленно подготовиться к возможности встречи и поэтому так вел себя.
Когда письмо было закончено, стало еще беспокойнее. Виктор долго ходил по комнате, потом остановился у кровати, глядя на чуть нахмуренное во сне лицо жены. С момента приезда в Войттозеро их отношения с Леной заметно переменились. Он виделся с ней только по вечерам, когда усталый, вымотавшийся за день приходил домой, терпеливо высиживал полчаса или час за самоваром и поскорее валился спать, чтоб проснуться на рассвете и снова уйти на целый день.
«Какой же я свинья! — подумал он с горечью. — Рядом со мной самый близкий и самый родной человек, а я вроде не замечаю ее…»
— Лена, Леночка, проснись на минутку!
Она долго, с трудом признавая мужа, смотрела на него испуганными, постепенно прояснявшимися глазами.
— Лена, я тут написал письмо в Москву.., Ты… не хочешь… прочитать?
— В Москву? Кому же там?
— Прочти, поймешь… Ты не вставай, я придвину лампу.
За полчаса не было сказано ни слова. Шорох переворачиваемых страниц казался Виктору сильнее громовых разрядов. Он то жалел, что дал Лене читать письмо, то радовался этому.
Скоро о Павле и обо всей этой истории будут знать все! Сразу становилось спокойнее на душе.
Ему очень хотелось видеть, какое впечатление на Лену производит его письмо, и одновременно хотелось быть выше такого мелкого, как ему казалось, интереса. Что бы Лена ни сказала, он ничего не изменит. Там жизнь, правда, и все это существует уже помимо него и нужно не только ему!
Стоя у окна и глядя в черноту ночи, Виктор курил одну папироску за другой. По отражению в стекле он вдруг увидел, что Лена уже не читает. Она, хотя и держит в руках письмо, но смотрит куда–то мимо.
Виктор ждал, что Лена начнет говорить первая, но она сидела тихая, безмолвная. Беря у нее из рук письмо, он сказал:
— На днях мы переедем отсюда…
— Разве уже готов дом? — как–то безразлично спросила Лена.
— Пока поживем в общежитии. Ты хочешь спросить что–то?
Лена промолчала. Это было так непохоже на нее.
— Спи, пожалуйста, — сказал Виктор не без обиды. — Мне надо написать еще кое–кому…
— Знаешь, у Павла были какие–то очень странные глаза, — словно не слыша его, проговорила Лена.
— А ты разве видела его?
— Да, он приходил сюда…
— Почему же ты не рассказала мне?
— А ты разве все мне рассказываешь?
Виктор внимательно посмотрел на нее и вдруг понял, что это–то и было новым в их отношениях.
— Прости меня! — он склонился к ней, привычно прижался щекой к жестким, как бы звенящим, волосам, ощутил слабый аромат ирисок, которым всегда отдавала ее кожа, и этот знакомый запах еще более разбередил его вину… — Прости! Я очень виноват перед тобой!
— Тогда я не знала, что это он. Даже не догадывалась.
— Я тоже многого не знал…
Она машинально гладила его по щеке, о чем–то думала.
— Витя, но почему ты не рассказал про жребий Орлиеву? Тогда, сразу… Может, ничего такого и не было бы, если бы он знал?.,
— В этом ты не права! — Уловив в своих словах что–то похожее на оправдание, он разозлился на себя, легонько отстранился от жёны, отошел к столу. — Орлиев даже сейчас не хочет помочь Павлу. Так все получилось. Меня сразу же отправили в госпиталь. И потом — Павел просил никому не говорить об этом. Никому, понимаешь… Я не мог нарушить его последнее слово…
— Но ты же его все–таки нарушил… Ты ведь рассказал следователю.
— Ты думаешь, так просто было молчать… Неужели ты ничего не поняла из письма? Если бы я знал, для чего он приезжал ко мне?!
— Я поняла… Я ни в чем не обвиняю тебя… Я понимаю, что ты не виноват… И все же это очень страшно, Виктор!
— Ничего, Лена. Теперь будет легче. Теперь все ясно, и я не остановлюсь ни перед чем!
2
В начале седьмого Виктор сбегал на озеро, умылся, выпил два стакана парного, только что принесенного тетей Фросей молока и, забрав письма, пошел в поселок.
В эту ночь поспать не удалось. Он лишь ненадолго задремал над столом и проснулся, услышав за стеной шаги тети Фроси. И все же, несмотря на усталость, Виктор был в приподнятом настроении. Сделано задуманное! Шесть запечатанных, готовых к отправке писем лежат в его полевой сумке. Одно толстое, похожее на пакет, и пять самых обычных писем партизанским товарищам. Они схожи даже по тексту. Писать все подробно не оставалось времени, и письма получались, может, немножко сухими, зато по–деловому ясными. Потом, когда решится вопрос с Павлом, нужно будет завязать настоящую переписку. А сейчас главное — не терять ни минуты!
Лишь увидев на дверях почты замок, Виктор понял, что еще очень рано. «Надо было оставить письма Лене», — с сожалением подумал он. Бежать в деревню не было времени, он собирался с первой же машиной уехать в семидесятый квартал. Доверить письма кому–то постороннему он тоже не мог. Мало ли что случится — забудут, задержат, а то и потеряют. Оставался один выход —–идти на квартиру к заведующей почтой.
Наскучавшийся за ночь старик сторож у магазина расспросил Виктора, зачем ему нужна заведующая, куда письма, почему их нужно отправить обязательно заказными, потом охотно показал дом заведующей, а на вопрос о ее имени–отчестве неожиданно рассердился:
— Да какая она тебе — отчества?! Верка и все… Отчество заслужить надо. В наше–то время отчество не каждому и к пятидесяти полагалось… А теперь как фигли–мигли на голове закрутила, так, пожалте–е, только по отчеству… А что, как говорится, в итоге? Нет уважения к старшим, вот что!
Весь день он провел в семидесятом квартале, куда уже заканчивался перевод участка Рантуевой. Завтра первые десятки кубометров леса должны пойти из новых делянок на нижнюю биржу.
Переход в новые делянки — привычное дело для лесорубов. Однако на этот раз он производился так, как будто совершалось что–то поистине грандиозное и невиданное. Возможно, это лишь казалось Виктору, который за множеством дел даже и не заметил, как минул день. Когда пришла «пищеблоковская» машина, он наспех пообедал, собираясь вздремнуть хотя бы полчасика, но как только привалился на скамью в кабине передвижной электростанции, мысли сразу вернулись к вчерашним событиям.
Теперь все воспринималось как–то по–иному. Вчера он жил одним чувством — что–то делать, не терять ни минуты… Остальное казалось само собой разрешимым. Сегодня этого уже было мало. Сегодня его беспокоил результат. Беспокоило даже письмо в Москву.
«У кого хватит терпения читать его целые полчаса?» — с досадой думал он, уже жалея, что поторопился отправить письмо.
В исходе дела он не сомневался и сегодня. Тут важно, чтобы там проявили интерес, а все остальное настолько очевидно, что даже и сомневаться не в чем. А вот заставит ли его письмо проявить внимание к делу Павла? Не лучше ли было написать обычное небольшое заявление, а уж потом, когда дело станут пересматривать, дать подробные пояснения?
Вечером, вернувшись в поселок, Виктор забежал на почту.
— Вы отправили мои письма?
— Конечно, — успокоила его девушка. — Пожалуйста, квитанции и сдача…
— Вот досада! — воскликнул Виктор. — А их нельзя никак задержать, а?
Он и сам знал, что это невозможно, но был в таком огорчении, что все–таки спросил.
— Что вы! — рассмеялась девушка и действительно стала похожа на Верку, которую смешно было бы называть по отчеству. — Да они уже в Петрозаводске, наверно… Вы знаете, я вас искала. Вам звонили из Петрозаводска.
— Мне из Петрозаводска? — удивился Виктор и сразу же подумал: «Наверное, Чадов! Опять будет оправдываться…»
— Будут повторно звонить в девять часов. Ждите в конторе! Надеюсь, выписывать вам официальное приглашение не надо?
В семь вечера почта закрывалась. Райцентр соединялся напрямую с квартирой Орлиева или с конторой лесопункта, где ночью дежурит сторожиха.
К девяти часам в конторе никого не осталось. Последним ушел Орлиев. За целый день они не обмолвились ни словом, но Тихон Захарович уходил как–то медлительно, словно знал о предстоящем разговоре и это очень интересовало его.
В начале десятого зазвонил телефон. Виктор почти нисколько не сомневался, что звонит Чадов, и был очень удивлен, когда услышал незнакомый голос:
— Это кто — Курганов?
— Да, да, это я, — ответил Виктор, начиная догадываться, кто вызывает его, но еще боясь ошибиться в своем предположении.
— Здравствуй, Курганов… Что, никак, уже не узнаешь по голосу? А всего–то и не виделись девять лет.
— Здравствуйте, Андрей Николаевич.
— Это ты мне звонил вчера? Ты? Тут у меня что–то напутали…
— Ничего не напутали, Андрей Николаевич! Все правда. Кочетыгов жив, он в заключении, в Чоромозере… Он был в плену, понимаете… Это я во всем виноват… Я написал уже в Москву.
— Постой, постой… Теперь ты меня действительно запутал.., С такими делами ты мог бы и не звонить, а приехать в Петрозаводск. Разве по телефону о таких делах говорят?
Виктор, почему–то посчитав, что Дорохов тоже не проявляет должного внимания к судьбе Павла, резко ответил:
— Приехать я не могу.
— Почему?
— Завтра мы начинаем работу в новом квартале.
— Ну, а послезавтра? Или через два–три дня?
— У нас, знаете, как трудно сейчас…
— Трудно, говоришь. Ты хочешь, чтоб я приехал, что ли? У меня работы меньше, видать…
От радости Виктор даже не обратил внимания на иронию в голосе Дорохова.
— Конечно! Это очень–очень нужно, честное слово! — воскликнул он так горячо, что Дорохов рассмеялся:
— Спасибо за приглашение… Я, конечно, приеду. А сейчас ты можешь мне рассказать все по порядку? Можешь? Тогда начинай! Не торопись и говори спокойно… Я слушаю!
— Знаете… Лучше все–таки приеду я… Нет, завтра я действительно не могу, а послезавтра обязательно приеду… Письмо в Москву я уже отправил…
Часть четвертая
Глава первая
Четвертый рассказ о войне
1
В марте 1944 года после неудачной войттозерской операции отряд Орлиева был переброшен в Заполярье. В средней Карелии уже чувствовалось приближение весны, а здесь, в далеком поселке Ковдор, откуда на запад уже не было ни дорог, ни троп, еще вовсю властвовала зима, с трескучими морозами, снегопадами и многодневными метелями.
До середины апреля партизаны совершили два успешных лыжных похода в глубокий тыл и готовились к третьему — последнему перед длительным отдыхом на время весеннего распутья.
Молоденькая фельдшерица, недавно присланная в отряд, вечером явилась в штаб и, выждав, когда командир останется один, доложила, что сандружинница Рантуева в поход идти не может.
— Почему? — нахмурился Тихон Захарович.
Зардевшаяся фельдшерица, стараясь не произносить самого этого слова, дала понять, что Рантуева беременна.
— Что? — воскликнул Орлиев. — Да ты понимаешь, что говоришь?! Да ты видела ли вообще беременных женщин и знаешь ли, что это такое?
Совсем растерявшаяся фельдшерица пояснила, что ошибки никакой нет, что Рантуева уже на четвертом месяце и в поход идти не может.
— А ты куда смотрела?! — загремел Орлиев. — Подчиненные делают черт знает что, а она, видите ли… Перестань нюни распускать, слышишь! Пиши сейчас же официальный рапорт и позови сюда Рантуеву!
Оставшись один, Тихон Захарович не только не успокоился, а разошелся еще больше. Подумать только, какой позор! До него доходили слухи, что в других отрядах случалось такое, но чтобы подобное произошло у него?! Да еще с Олей Рантуевой, его землячкой, которую он всегда ставил всем в пример?!
— Это еще что за новость? — спросил Орлиев, когда Рантуева, остановившись у порога, доложила о своем прибытии.
Рантуева продолжала смотреть в лицо командиру, как будто не понимала, о чем ее спрашивают. Тихон Захарович оглядел сверху донизу ее высокую стройную фигуру и никаких перемен не заметил. Вероятно, белый, отороченный мехом полушубок скрадывал их.
— Это правда, что доложили мне? — спросил командир не без надежды, что все еще может оказаться недоразумением. Оле — такой славной, ловкой, красивой — не придется заканчивать партизанскую службу таким образом, да и репутация отряда останется чистой…
— Правда.
Если бы Оля расплакалась, покаялась, попросила помощи, Тихон Захарович, возможно, поступил бы по–иному. Но она продолжала смотреть в глаза командиру так спокойно, как будто ничего не случилось.
— Кто? — с дрожью в голосе спросил Орлиев, кивнув куда–то за окно в сторону барака, где жили партизаны.
Рантуева молчала.
— Кто тот подлец? — лицо Орлиева медленно наливалось не предвещавшей ничего хорошего багровостью. — Я спрашиваю, кто тот подлец, который позволил себе такую гнусность?
— Почему он обязательно подлец? — тихо спросила Оля.
— А кто же он? Кто? — неожиданно взорвался Тихон Захарович визгливым, совсем несвойственным ему выкриком. — На такое способны лишь подлецы! Соблазнить девчонку, вывести из строя сандружинницу! Да я ему сделаю, знаешь — что?!
— А если он хороший человек?
— Кочетыгов? Говори прямо, не виляй!
— Для вас это не имеет значения, но меня никто не соблазнял.
— Ах, ты еще хочешь быть и благородной? Ну–ну. Ты знаешь, что ты сделала?
— Знаю.
— Ты знаешь, что завтра же я отчислю тебя из отряда?
— Знаю.
— Ни черта ты не знаешь, дура этакая! — вновь вскипел Орлиев. — Что вы можете знать, молокососы несчастные?! Вы только и умеете глупости делать… Вот что: завтра же отправишься в Беломорск. Я дам письмо начальнику медицинской службы, и там тебе сделают аборт… В отряде никто не должен знать этого. Фельдшера я предупрежу.
— Аборта я делать не буду, — чуть помедлив, твердо сказала Оля.
Орлиев почувствовал, что еще одно слово, и он потеряет контроль над собой. Отвернувшись к окну и глядя в темноту ночи, он подумал: «Взять бы сейчас ремень, зажать меж колен твою глупую голову, да пороть, пороть, пока не заплачешь, не закричишь истошным голосом, которым и должна кричать баба в твоем положении».
— Если бы то, что сделала ты, — чуть успокоившись, начал Тихон Захарович, — мог сделать мужчина, я немедленно отдал бы его под суд. Нет, не только за нарушение дисциплины, а за трусость. Как самострела, понятно?
— Уж не обвиняете ли вы меня в трусости? — чуть заметно усмехнулась Оля.
— Да, обвиняю. И не без оснований. Война не закончена.
После недолгого молчания Оля вдруг сказала:
— Тогда, товарищ командир, у меня к вам просьба.
— Ну, — обернулся Орлиев, почувствовав в ее голосе что–то новое.
— Разрешите мне сходить в последний поход. Я могу, вы не думайте! Никто и знать не будет… А потом уж отчисляйте. Разрешите, прошу вас!
Тихон Захарович даже фыркнул в гневе от того, что вновь обманулся в своих надеждах.
— А умнее ты ничего не могла придумать? Завтра или скажешь мне, кто он, и поедешь на аборт, или будешь отчислена из отряда. Выбирай!
— Можно идти?
— Иди.
Через три дня Рантуева покидала отряд.
Сквозь оттаявший глазок в заиндевелом окне Тихон Захарович рано утром наблюдал, как в сопровождении подруг она вышла из санчасти, вскинула за плечи вещевой мешок и по переметенной за ночь дороге медленно направилась на восток, к поселку Ена, чтобы оттуда на попутных машинах добраться до железной дороги.
Жалость и гнев бушевали в душе Орлиева. Уходила партизанка, взявшая в руки оружие еще в первый месяц войны. Тогда она была совсем девчонкой. Тихон Захарович хорошо помнил, с какой мольбой смотрела она на районную «тройку», формировавшую в июле партизанский отряд. Тогда все решил голос Тихона Захаровича, знавшего Олю чуть ли не со дня ее рождения. Три года боев, походов, лишений… И теперь вот она уходит, чтобы через пол года стать матерью.
«Разве так должна покидать отряд славная партизанка, орденоносец?» — думал Тихон Захарович, глядя на удалявшуюся по дороге фигуру.
Но как только он вспоминал их разговор и перед глазами вставало гордое, даже чуть надменное лицо Оли — гнев, досада, злость не оставляли места жалости. «Только так, только так… — твердил он про себя. — Чтоб ни на минуту не забывали о долге. Своевольничают, делают глупости, да еще и не хотят признавать своих ошибок!»
Долго метался Орлиев по тесной комнате штаба, убеждая себя в своей правоте и чувствуя, что прав он далеко не во всем. Он уже досадовал и на комиссара Дорохова, который находился на совещании в Беломорске. Во всем случившемся есть и его упущение. Комиссар должен лучше других знать, что творится в отряде. Особенно во время отдыха.
«Будь на месте Дорохов, — раздумывал Тихон Захарович, — вопрос о Рантуевой мог бы решиться и по–иному. Он сумел бы уговорить эту строптивую девчонку открыться, признать свою вину».
В отряде любили Дорохова, и Орлиев втайне завидовал своему комиссару. И не только завидовал, но и досадовал, так как во всем этом он видел что–то несправедливое по отношению к нему, к командиру. «За что любят бойцы комиссара? — спрашивал себя Тихон Захарович и без колебаний отвечал: — За то, что он добрый, никогда не обращается к бойцам командирским тоном, ведет себя с ними запросто и даже нередко выступает «ходатаем» за провинившихся. Чего стоила бы такая любовь, если бы в отряде не было командира, который не может позволить себе что–либо подобное? Вот и получается, что авторитет комиссара держится за счет командира. Люди не понимают этого. А ведь не напрасно в армии упразднили институт комиссаров и ввели единоначалие».
И все же теперь, как и всякий раз, когда Дорохова не было рядом, Орлиев чувствовал себя не очень уверенно. Если бы комиссара не было вообще — тогда другое дело. А то приедет, узнает все и наверняка не одобрит. «Поторопился, скажет, ты, Тихон Захарович. Явно поторопился. Отчислить человека никогда не поздно».
А того и не понять ему, что речь идет сейчас не просто о человеке… Для Дорохова Оля — обычная сандружинница, каких в отряде восемь. А для него, для Орлиева, она — односельчанка, партизанская «крестница». Может, поэтому он и поступил с ней так строго, чтоб другим неповадно было…
На столе стыл принесенный связным завтрак, но Тихон Захарович к нему не притронулся. Уже пора было собирать командиров взводов, давать учебное задание на день, когда Орлиев велел вызвать отрядного ездового.
— Запрягай! Поедешь в Ену за почтой, — распорядился он.
— Почта только завтра будет, — напомнил ездовой.
— Я говорю — запрягай и отправляйся за почтой, — сурово сдвинул брови Орлиев и, помолчав, добавил: — Если кого по дороге нагонишь, подвези. Слышишь?
Это было самое большее, что, по его мнению, мог он позволить себе, не подрывая дисциплины в отряде.
2
С первым пассажирским пароходом, пришедшим из Шалы в только что освобожденный Петрозаводск, приехала и Оля. Одетая в подаренный сестрой, изрядно поношенный жакет, с чемоданом в руке и вещмешком за спиной, она сошла по трапу на временную пристань и, предъявив документы, начала подниматься в гору.
В то лето в Карелии буйно и долго цвела сирень. Было даже как–то странно видеть среди запустения и разрухи эти не опаленные ни жарой, ни войной свежие и нежные цветы. Их дарили победителям, с букетами сирени встречали после долгой разлуки родных и близких.
Олю не встречал никто. Она даже не знала, жива ли ее сестра Ирья, у которой она рассчитывала остановиться в Петрозаводске. Два месяца прожила Оля в Шале у старшей сестры. Работала на лесопилке. Каждый день бежала домой с ожиданием чего–то необыкновенного. Была почти уверена, что и сегодня писем не будет, ведь ее адреса никто из партизанских друзей не знает, и все же в самом ожидании она находила какое–то утешение.
Как только пришла весть об освобождении Петрозаводска, Оля твердо решила, что должна поехать туда. Напрасно старшая сестра уговаривала остаться в Шале, упрашивала, даже бранила. С большим трудом удалось уволиться, еще сложнее было достать пропуск и получить на пароходе место, но Оля от своего не отступилась.
И вот она медленно поднимается по разбитой булыжной мостовой к центру города. Оля уже не могла бы скрыть свою беременность. Да она и не собиралась скрывать ее, хотя даже самые добрые и сочувственные взгляды встречных вызывали у нее досаду.
«Они думают, мне тяжело, а мне вовсе не тяжело. И иду я медленно совсем не поэтому. А потому, что торопиться мне некуда. Если Ирья и дома, то она не очень–то обрадуется моему приезду. У нее у самой семья, а муж–то на фронте…»
На площади Кирова ее окликнули:
— Вам далеко, гражданочка?
Два моряка с карабинами на ремне остановились напротив. Один даже сделал попытку взять у нее чемодан.
— Улица Широкая Слободская… — Подумав, что они хотят проверить у нее документы, Оля выпустила чемодан и полезла в карман жакета.
— Не беспокойтесь, пожалуйста… Коля, давай, действуй!
Моряки остановили первую попутную грузовую машину, о чем–то пошептались с шофером, усадили Олю в кабину и прощально помахали рукой. Вскоре Оля стояла у калитки дома, где жила ее сестра.
Как она и думала, радостной оказалась лишь только встреча. Четверо полуголодных ребятишек смотрели на ее вещмешок с такой надеждой, что Оля не выдержала, выложила на стол все скудные припасы, выданные ей в Шале на десять дней.
Она понимала, что паек, получаемый семьей, завтра придется делить уже на шестерых, но трудно было без слез видеть детей, растерявшихся от неожиданного для них счастья. Четырехлетняя Таня, вероятно, ни разу в жизни не едала рыбы. Она удивленно и даже недоверчиво смотрела на черного соленого налима, потом вслед за старшими взяла ломоть и принялась жадно отдирать молоденькими зубками кусочки жесткого рыбьего мяса.
О муже Ирья ничего не знала со дня оккупации Петрозаводска. Она вообще мало что знала. Три года прошли в каком–то отупении: только бы прокормить детей, только бы не дать им умереть с голоду! Так день за днем, неделя за неделей, год за годом. Как во сне Ирья припомнила, что однажды в их комнате появился дед Пекка. Зачем он приезжал в Петрозаводск, она не знала. Она только хорошо помнила, что он ничего не привез внучатам.
— Подумай только, — даже теперь с обидой жаловалась она Ольге. — Приехал из деревни и ничего не привез!
Оля попробовала защищать отца, поясняя, что в деревне тоже голодали. Сестра слушала, кивала головой, однако со слезами повторяла:
— Подумать только? Приехал и не привез.
Ирья была так потрясена всем пережитым, что об Олином положении спросила лишь мимоходом.
— Когда? — кивнула она на ее выпиравший под жакетом живот.
— В октябре, наверное.
— Может, к тому времени с питанием и наладится, — вздохнула Ирья.
Тяжелое то было время для петрозаводчан!
Рухнула стена долгого безвестия, окружавшего город, и люди в те дни разом узнавали о многих горестных утратах. Письма, запросы, извещения. И в каждом из них — одно: жива ли семья, жив ли отец, сын, брат? Трудно было найти семью, которой не коснулась беда. В те дни люди были особенно беззащитны перед ней. Одна–две короткие фразы делали их счастливыми или приносили непоправимое горе.
Тяжелое было время, но и радостное!
Семьями — от мала до велика — выходили отощавшие, полураздетые люди на расчистку улиц освобожденного города. Строились переправы через Лососинку и Неглинку, сносились колючие оцепления концентрационных лагерей на окраинах, оборудовались временные пекарни, магазины, налаживались водопровод и канализация.
Вместе с семьей Ирьи выходила на общественные работы и Оля. Даже маленькая Таня целыми днями вертелась около взрослых, больше мешая, чем помогая им. Но никто не упрекнул за это ни мать, ни девочку. Нелегкий для изнуренных людей труд воспринимался в те дни как праздник, на который имели право все.
Оля не знала, как она будет жить дальше. Конечно, она должна поступить на работу. В горкоме комсомола помогут ей. Но посещение горкома Оля откладывала со дня на день. Там придется все подробно объяснить и рассказать… А сейчас, через три месяца после ухода из отряда, ее положение нисколько не прояснилось. От Виктора никаких вестей не было. Она не могла сообщить ему свой адрес, так как не знала, куда и в какой госпиталь направили его. Теперь–то он наверняка вернулся в отряд. Писать в отряд ей не хотелось. О ее письме обязательно узнает Орлиев, он легко догадается обо всем, и весь его необузданный гнев обрушится на Виктора. Нет, она будет ждать. Тем более, что ждать остается недолго. Война на Карельском фронте уже близится к концу.
В начале октября в столицу республики для участия в партизанском параде съехались все отряды.
Оля узнала об этом поздно вечером от вернувшейся с работы Ирьи. Ей уже было тяжело двигаться, и с каждым днем она все реже выходила на улицу.
В тот вечер Оля не могла сидеть дома. Одевшись во все лучшее, она пошла к центру города. Отыскивать свой отряд она не собиралась, ей хотелось и не хотелось встретить кого–либо из партизан, но беспокойное чувство заставляло ее бродить по слабо освещенным городским улицам, радостно вздрагивать и смятенно опускать голову, когда впереди угадывались силуэты идущих ей навстречу шумных и веселых партизан. На счастье, ей попадались лишь люди из других отрядов. Со многими из них Оля была хорошо знакома, она угадывала их по голосам, но сейчас они не узнавали ее. Они широко шагали прямо по булыжной мостовой, громко переговаривались со встречными девушками, шутили, пели, смеялись, — в общем, вели себя так, как обычно ведут себя партизаны после трудного и удачного похода.
Дома Олю встретила сияющая от счастья Ирья.
— Куда ты пропала? К тебе из отряда приходили…
Оля почувствовала, как ее сердце на мгновение остановилось и вдруг забилось быстро–быстро…
— Кто? — тихо спросила она.
— Трое приходили. Один пожилой мужчина в очках и две девушки — Клава и Надя. Еле, говорят, разыскали тебя. Смотри–ка, сколько продуктов принесли! Консервы, сухари, сахар… Долго сидели… Завтра после парада опять зайдут…
«Пожилой в очках — это, наверное, Дорохов», — подумала Оля и больше не произнесла ни слова. Сестра до поздней ночи восторженно нахваливала и щедрость, и доброту к детям, и обходительность гостей из отряда. Оля лишь грустно улыбалась и согласно кивала головой, когда Ирья обращалась к ней за подтверждением.
Назавтра выдался чудесный солнечный день. С утра на Круглой площади гремела музыка. Казалось, весь город вышел на улицы, чтобы наконец–то увидеть тех, о чьих славных делах слагались легенды и песни, но чьи имена три года тщательно скрывались под таинственными инициалами даже в самых подробных очерках и корреспонденциях.
Лозунги, знамена, счастливые возбужденные лица.
В центре площади, перед пьедесталом памятника Ленину, отрядными колоннами выстроились партизаны. Блестит на солнце начищенное оружие! Прошел уже месяц, как в карельских лесах прогремел последний боевой выстрел. А сколько их было за три года?! Сколько сотен тысяч гильз ржавеют по обочинам трудных партизанских троп, каждая из которых прокладывалась в жестоком бою! Сколько неприметных партизанских могил разбросано по необъятным карельским просторам от Шелтозера до Заполярья?
Теперь пришла победа!
В последний раз алеют ленточки на пилотках и фуражках. Завтра одни из партизан сменят их на солдатские звездочки, другие просто снимут их, чтобы снова стать штатскими людьми.
Это будет завтра! А сегодня, держа равнение, они крепко прижимают к груди до блеска обтершиеся в боях и походах автоматы… Сегодня они в первый и последний раз собрались все вместе, чтобы торжественным победным парадом завершить трудное дело, начатое три года назад!
Гремит музыка, колышутся флаги, ярко светит солнце…
Оля стояла в отдалении, на углу Комсомольской улицы, и между головами соседей видела колонны партизан. Она пришла сюда задолго до начала парада, и ее ежедневно опухавшие ноги уже начали наливаться покалывающей тяжестью. Все чаще и чаще внутри вздрагивало и напрягалось то, что теперь с каждым днем настойчивей заявляло о своем праве на самостоятельность. Удивительное это чувство — ощущать в себе другую жизнь! Вначале оно пугало каждым неожиданным шевелением, заставляло нервничать, чутко прислушиваться к слабым трепетным толчкам. Потом Оля так привыкла к этому, что, кажется, не было на свете ничего приятнее, чем постоянно ощущать требовательное беспокойство будущего человечка…
В последние месяцы Оля жила одной мыслью — только бы сохранить ребенка, только бы не сделать чего–либо такого, что помешало бы ему появиться на свет. Сколько раз с завистью смотрела она на своих племянников, больше всего на свете желая, чтоб и ее сын был таким же выносливым, как эти, столько перенесшие за годы оккупации дети!
Закончился митинг, разнеслась над площадью строевая команда, замерли шеренги партизан.
Оля всей душой там, среди товарищей. Она вытягивает голову, встает на цыпочки. Она даже задерживает дыхание, как будто и ей в следующую секунду тоже предстоит сделать первый четкий шаг на виду у тысяч людей…
С первыми тактами музыки глухо вздрогнула площадь, и качнулись сотни голов с красными лентами наискосок… И одновременно с этим резкая распирающая боль в пояснице заставила Олю пошатнуться, скорчиться, обхватить руками живот.
— Антикайненцы идут! Слава антикайненцам!
— А это «Буревестник»!
— Ура карельским партизанам!..
Оля не видела, что происходит на площади. Она слышала музыку, шум толпы, глухой мерный топот. По выкрикам она догадывалась, какой из отрядов проходил вблизи нее.
Через минуту боль начала утихать. «Ну, успокойся, миленький, ну, успокойся, прошу тебя!» — шептала Оля, ласково поглаживая себя по обмякшему, словно уменьшившемуся животу.
— Орлиевцы идут! Орлиевцы!
— Вот это выправочка! Вот это молодцы!
Оля выпрямилась, снова встала на цыпочки. Совсем рядом шел ее отряд. Близкие, дорогие люди. Сейчас их лица взволнованно сосредоточены, устремлены вперед, но, боже мой, какие они все родные… Быстрым ищущим взглядом Оля скользит по ним, узнавая их, почти ни на ком не задерживаясь. И вдруг она поняла, что его среди них нет. Мимо уже идут сандружинницы, заключавшие отрядную колонну.
— Надя, Клава! — не сдержавшись, кричит Оля, протискиваясь вперед. Перед ней расступаются, на нее оглядываются.
Отряд удалялся. Подруги или не слышали ее голоса, или не решились нарушить церемонию марша. Оля, опустив голову, пробирается сквозь толпу назад. Она уже почти стонет от непрекращающихся приступов.
— Что с вами, девушка? Вам плохо? — спрашивает одна из женщин и, не дожидаясь разрешения, подхватывает ее под руку.
— Не надо, не надо! Я сама! — задыхаясь, упрашивает Оля, но, как только они выбираются из толпы, женщина, окинув ее опытным глазом, почти приказывает:
— Идемте, я отведу вас… Разве можно так рисковать?! Не беспокойтесь, я медработник и зря говорить не стану.
…Вечером, встревоженная долгим отсутствием сестры, Ирья отправилась ее искать и на всякий случай заглянула в родильный дом. Там ей ответили, что в шесть часов Рантуева Ольга Петровна родила сына.
Глава вторая
1
В середине октября на дороге между поселком и старой деревней остановилась грузовая машина, следовавшая из райцентра в сторону Заселья. Из кузова на землю спрыгнул молодой человек в черном пальто, в темно–синем костюме и серой низко надвинутой на глаза шляпе. Все на нем было новым, хотя слегка и помятым за долгий путь, но еще не успевшим пообноситься и поэтому выглядевшим как бы с чужого плеча.
Кивнув шоферу, молодой человек перекинул с руки на руку легкий чемодан и, поглядывая по сторонам, направился по тракту к видневшейся впереди деревне.
Он так спешил сюда, что не стал ждать в Петрозаводске автобуса и всю ночь добирался на попутных машинах. Однако дойдя до косогора, откуда с дороги сбегала, сокращая путь к деревне, давняя тропка, он вдруг остановился, как будто торопился увидеть лишь ее, эту узкую петлявшую между валунами тропу.
Все вокруг изменилось за эти двенадцать лет — даже озеро, даже лес по его берегам, даже хмурое, пропитанное холодной сыростью небо казалось удивительно чужим и неприветливым, а тропа осталась прежней. Деревня постарела, осунулась, дома еще печальнее и настороженнее нависли над водой. Сосновый бор, где до войны стояло лишь несколько бараков лесопункта, отодвинулся в сторону, уступив место ровным улицам плотно застроенного поселка, Новые дома, дороги, машины, электролинии,,.
Он не жалел прежнего. После того, что произошло с ним, даже самые безмятежные годы давно уже приобрели в его сознании оттенок печальной предначертанности того, что случилось позднее. Он не любил их вспоминать.
Теперь он, вероятно, искренне радовался бы переменам, если бы не щемящее чувство, что все новое сделано без него, что благодаря этому другие, незнакомые люди получили, может быть, большее право называть Войттозеро родным, чем он, действительно родившийся и выросший здесь.
Наверное, поэтому он так удивился и обрадовался тропке. Вот ее–то он имеет полное право назвать своей! Эту тропку, которая и сейчас служит людям, утаптывали и его мальчишеские ноги, когда он с холщовой сумкой в руках бегал в школу. По этой тропе в тот жаркий июльский день он ушел из деревни с наскоро уложенным матерью вещмешком за плечами.
Тогда он не позволил ей проводить его, даже не сказал, что уходит в партизаны. Мать стояла у дома и тихо плакала, а он был счастлив и злился на нее за эти ненужные слезы. У Долгого ручья его ждала Оля, тоже с мешком и тоже счастливая… Тридцать верст до райцентра они отмахали за шесть часов, ни разу не передохнув, и это были самые счастливые часы за все время их дружбы… Оля тогда еще не знала, примут ли ее в отряд. Он, чтобы успокоить ее, всю дорогу болтал о пустяках, смеялся, даже предавался полушутливым мечтам о том времени, когда война закончится и они вот так же вдвоем будут возвращаться в Войттозеро. Разве мог он думать тогда, что вернется в родную деревню через двенадцать лет?!
…Впервые воспоминания не вызвали в нем привычного желания намеренно оборвать их, переключить мысли на другое. Впервые не захлестнула его обжигающая злоба на себя за то, что не выдержал, позволил поддаться слабеньким и обманчивым мыслям о том, к чему возврата для него, казалось, уже никогда не будет.
Перед ним лежала, сбегая к озеру, знакомая тропа. В конце ее — родной дом. Там — мать, радостная встреча, начало новой жизни. Как бы ни старался обманывать себя, но все–таки он думал об этой самой минуте, жил ею долгие годы заключения, хотя сознательно настраивал себя совсем на другое.
Почему он медлит? Почему стоит, теряя дорогие минуты? Может, его удерживает опасение, что другой такой радости в его жизни уже никогда не будет, и ему хочется растянуть этот волнующий миг?
Вот она — свобода! Прошло три дня, как в комендатуре лагеря ему вручили свидетельство об освобождении и заработанные за те годы деньги. Он мог быть в Войттозере через несколько часов, но он попросил выписать ему проездные документы до Петрозаводска. Даже если бы ему отказали, он все равно поехал бы в город на свои деньги, чтоб не возвращаться домой в лагерной одежде.
Три дня! Но лишь сейчас, выйдя на знакомую тропу, он впервые ощутил себя действительно свободным. Он может пойти по тропе и через десять минут будет дома. А если захочет, может стоять на косогоре, любоваться на знакомые дали или завернуть к школе, прильнуть к тускло поблескивающему окну нижнего этажа и заглянуть в бывший свой класс.
Из всего, что ему на радостях приходило в голову, было самое безрассудное — оставить на тропе чемодан и идти к школе. Но, вероятно, именно потому он и поступил так, радуясь, что имеет на это полное право… Ведь это его школа, самая родная из всех школ на свете. В ее стенах он закончил семь классов. Теперь стены обиты тесом и покрашены в зеленый цвет, а тогда он знал каждый сучок на нижних венцах школьного здания. Он только скажет: «Здравствуй, школа!», заглянет через окно в свой класс и пойдет дальше. Разве есть в этом что–либо странное, коль человек двенадцать лет не видел своей школы? Целых двенадцать лет…
В школе была перемена. Он угадал это по шуму, грохоту, голосам… Заметив в окнах любопытные детские лица, он замедлил шаги, остановился и, вдруг поняв нелепость своего поступка, почти побежал обратно.
Через десять минут он уже поднимался на крыльцо родного дома. Наружная дверь была открыта настежь. Он вошел в полутемные сени, постоял, прислушиваясь, потом резко, без стука, открыл дверь в комнату.
Мать стирала. В тот самый момент, когда он появился на пороге, она выливала в корыто горячую воду из огромного, белого от накипи чугуна. Она смотрела на сына и не могла разглядеть его сквозь облако сизого пара,
— Принимай гостя, мать! — с улыбкой сказал он, удивляясь, что она все еще не узнает его.
— Пашенька! — Пустой чугун грохнулся на пол, опрокинулся и зазвенел старыми обожженными боками. По привычке наспех вытирая руки о передник, мать кинулась к сыну, хотела повиснуть у него на шее, но, пораженная его одеждой, остановилась.
— Да это я! Я, не пугайся! Совсем вернулся, понимаешь!
2
Курганов и Орлиев виделись два раза в день.
Сферы деятельности разделились сами собой. Виктор после планерки, если не было других срочных дел, вместе с рабочими уезжал в лес. Тихон Захарович оставался в поселке. В дни, когда на биржу почему–либо мало поступало древесины, он появлялся на делянке — строгий, решительный и шумный…
Да, он умел заставить шевелиться кого угодно. На повалочной ленте его еще никто и в глаза не видел, издали еще едва доносился громкий орлиевский бас, ругающий кого–то на эстакаде или на волоке, а обрубщицы сучьев уже кричат электропильщику:
— Жми, Василий… «Сам» идет! Сердитый!
Крикнут, подмигнут друг дружке, даже засмеются, а все же топоры дружнее и звонче начинают мелькать в их руках.
Казалось бы, чего бояться начальника им, этим веселым и болтливым девчатам, у которых язык острее их топоров и на все всегда есть готовый ответ?! Никого из них начальник не смог бы даже понизить в должности, так как профессия сучкоруба считается самой неквалифицированной на делянке. И все же, когда Орлиев, мрачно оглядев бригаду, удалялся, женщины, нисколько не скрывая этого, облегченно вздыхали.
Орлиеву все подчинялись с полуслова. Он дважды не повторял распоряжений. Непосредственно к рабочим Орлиев никогда даже и не обращался. Если он видел, что кто–либо из рабочих делает не так, как нужно, он подзывал мастера:
— Ты что, этот пень пониже обрезать не можешь, что ли? Так и будешь каждым хлыстом за него задевать?
Словно сам мастер расчищает волок и подрезает пни.
Так же Орлиев поступал и во время войны. За каждое, даже мелкое упущение бойца он учинял спрос прежде всего с командира отделения. Тем самым проступок провинившегося как бы удваивался: и сам проштрафился, и своего командира под удар поставил.
У Виктора с подчиненными сложились совсем иные отношения. Почти с первых дней ему пришлось добиваться своего не приказами, а убеждением. Это требовало времени, сил и нервов. Зачастую приходилось подолгу объяснять, почему надо сделать именно так, и почему по–другому это делать не выгодно. Хорошо, если тебя понимали с первого раза. Бывали случаи, когда Виктор искренне завидовал умению Орлиева сказать словно отрубить. И все же потом он испытывал истинное удовлетворение оттого, что добился своего не предоставленной ему властью, а умением убеждать.
Отчуждение между Кургановым и Орлиевым усугубили очерки Чадова. Они печатались в нескольких номерах газеты под рубрикой «Письма из Войттозера». Первый очерк назывался «Там, где гремели бои». В нем Чадов возвышенно и упоенно рассказывал о днях войны, о судьбах Орлиева, Курганова, Рантуевой, о новом поселке. Все это было как бы продолжением той статьи, которую он напечатал в связи с приездом Курганова.
Все в очерке было правильным, но, читая его, Виктор не мог преодолеть чувства несогласия и даже неприязни. Близкое и дорогое казалось фальшивым и надуманным лишь только потому, что о нем рассказал Чадов. Даже рубрика вызывала какое–то отвращение.
«Сидит человек в петрозаводской квартире, строчит себе, а читатели должны думать, что он пишет все это из Войттозера. Кому нужен такой обман? Он бы мог действительно из Войттозера написать письмо… Было о чем… Но он не захотел, испугался!» — подумал Виктор.
В последнем очерке «Новое пробивает дорогу» Чадов зло обрушился на Орлиева, изображая его как рутинера, деспота, отставшего от жизни человека. Начальнику лесопункта противопоставлялся молодой энергичный технорук, который был расписан в таких положительных тонах, что Виктор невольно краснел при виде газеты с этим очерком.
В те дни газеты в Войттозере читались нарасхват. Даже в лесу во время перекуров не было другой темы для разговора.
Последний очерк показался Виктору самым несправедливым, хотя все факты, описанные в нем, имели место в жизни. Угнетало уже одно то, что Чадов не сдержал своего слова. За каждой строкой Виктору виделось желание Чадова сразить Орлиева, свести с ним счеты за прежнюю взаимную неприязнь. Тем более что все, на что указывалось в очерке, на лесопункте уже было осуществлено.
Еще острее, видимо, почувствовал эту несправедливость сам Орлиев. Он ходил мрачнее тучи. По поселку прошел слух, что Тихон Захарович написал в Петрозаводск протест — то ли в газету, то ли в ЦК партии.
Очерк окончательно утвердил разлад между начальником и техноруком.
Как раз в те дни, в середине сентября, Виктор предложил на дождливые месяцы перевести в сухие боры и участок Панкрашова. Своевременность такого решения была очевидной. Дорожно–подготовительный участок наладил свою работу, и переход не занял бы много времени.
— Понравилось в героях ходить, еще захотелось, — недобро сверкнул глазами Орлиев.
Близился конец квартала. Участок Рантуевой на новых делянках в первые дни справлялся с заданием без особого напряжения. Стала реальной надежда, что лесопункт войдет в график и сумеет до конца сентября покрыть хотя бы часть задолженности по прежним месяцам. Но как только в сводках начали появляться очень разительные итоги работы двух участков, Орлиев постепенно стал перебрасывать трактора и лесовозы от Рантуевой к Панкрашову, мотивируя это тем, что участки соревнуются, а условия работы у них слишком различные.
Техники у Панкрашова скопилось немало, но каждый трактор давал выработку чуть ли не в два раза меньшую, чем на участке Рантуевой. Частые осенние дожди затруднили и трелевку и вывозку. Работать приходилось почти по колено в воде.
Напрасно Виктор спорил, настаивал, доказывал, что делать нужно как раз наоборот. Если уж и не переводить участок Панкрашова в сухие боры, то нужно сосредоточить побольше техники у Рантуевой, то есть там, где она будет давать большую выработку. Его поддерживали и Вяхясало, и Рантуева, и председатель рабочкома Сугреев, Но Орлиев был неумолим.
После одного из таких разговоров Курганов вгорячах решил позвонить наконец в райком Гурышеву. То ли Виктор очень был взволнован и говорил слишком сбивчиво, то ли Гурышев куда–то спешил, но секретарь райкома пристыдил его:
— Неужели вы не можете разобраться в этом на месте? Есть у вас партбюро или нет? Соберитесь, обсудите. Если не прав Орлиев, поправьте его…
Видимо, вспомнив, что Курганов беспартийный, Гурышев помолчал и потом попросил сказать Мошникову, чтобы тот срочно позвонил ему.
Сегодня во время планерки Мошников тихо предупредил Виктора, что завтра вечером состоится расширенное заседание партбюро, где будет рассматриваться вопрос о работе лесопункта, и ему, как техноруку, нужно обязательно присутствовать.
— Ты комсомольскую рекомендацию из Ленинграда не получил еще? — поинтересовался Мошников.
— Получил… Мне ее сразу же, через две недели выслали.
— Так чего же ты тянешь? Сдавай ее. Теперь у тебя с документами все в порядке. Рассмотрим вопрос и о твоем приеме в кандидаты.
— Может, обождать пока? — спросил Виктор, пытаясь заглянуть сквозь толстые очки в глаза Мошникову. — Как вы считаете, а?
Мошников неопределенно пожал плечами, ссутулился еще больше. Весь его вид говорил: «Сам решай… Я даже не знаю, принято ли в таких делах советоваться…»
Виктор вынул из бумажника рекомендацию райкома комсомола, и через минуту она уже была в сейфе, где хранились две другие, полученные им от Орлиева и одного из товарищей по академии,
3
В день возвращения Павла Виктор находился на участке Панкрашова.
К концу обеденного перерыва сюда неожиданно приехала на попутном лесовозе Оля Рантуева.
— Вот это новость! — воскликнул Панкрашов. — К нам гостья пожаловала… Из верхнего светлого рая в кромешный наш низменный ад!
— Смотри–ка, ты от зависти стихами заговорил! — засмеялась Оля. Вид у нее был встревоженно–радостный.
— А что? Могу и стихами… — Панкрашов браво выставил вперед ногу, подбоченился и, закатывая в деланном упоении глаза, продекламировал:
Из светлого верхнего рая В кромешный наш низменный ад Спустилася дева младая, Чьи очи, как звезды, горят.— Здорово, а? — обрадованно закричал он. — Ведь сам сочинил, только что… Взял и выдал!
— Как бы Орлиев тебе вечером панихиду не выдал! Опять на обочине два воза аварийки прибавилось… Много ли вывез сегодня?
— Будет, будет нам панихида, — горестно замотал головой Панкрашов. — Такая уж наша планида. Кому пироги и пышки, а нам синяки и шишки.
— Да что с тобой сегодня? Опять стихами сыплешь?!
— И верно, опять складно вышло! — искренне удивился Панкрашов. — Оказывается, уж и не такое трудное дело стихи сочинять. Легче, чем план давать… Эх, брат Костя, может, загубил ты свой талант?!
Виктор уже давно приметил, что при разговоре с женщинами, особенно с молодыми и красивыми, Панкрашов не может быть самим собой. Он обязательно примет позу то разудалого весельчака, которому море по колено, то удрученного жизнью печальника, на которого незаслуженно валятся удары судьбы, то простоватого парня, способного сболтнуть все, что вздумается. А вообще–то Панкрашов был далеко не глупым человеком. В бригадах его любили за веселый нрав и слегка ироническое отношение к своему положению начальника. Обращались с ним запросто, называли Костя, охотно приглашали на семейные праздники, во время поездок на работу вышучивали его так же, как и любого другого, попавшего на язык…
Одну слабость Панкрашова знали все: любил нравиться женщинам. Как уж ни высмеивали его мужчины, как ни издевались над ним, а стоило появиться в поселке новенькой красивой девушке, приехавшей из деревни наниматься на работу обрубщицей сучьев, Панкрашов весь преображался, начинал по очереди разыгрывать свои роли,
Лишь перед одной женщиной в поселке Костя никогда ничего не разыгрывал, и даже больше того — терялся, делался неловким и тихим. Это была Анна Никитична Рябова. Многие диву давались, чем могла его прельстить школьная директорша? И красотой особой она не отличается, и немолода, а ходит за ней Костя тенью, под всякими предлогами ищет ежедневных встреч.
Кто знает, может, потому он и хотел нравиться другим, чтоб вызвать у Анны Никитичны хотя бы ревность? Может, потому и старался блеснуть своими талантами, чтоб говорили о нем в поселке, чтоб все это услышала и оценила она?
Сегодня представился особый случай. Оля — близкая подруга Анны Никитичны, и Панкрашов неожиданно обнаружил новую возможность привлечь к себе ее внимание.
Курганов с улыбкой наблюдал, как Костя напряженно шевелит губами, стараясь подобрать что–то похожее на стихи. Но окончательно закрепить свой успех ему не удалось. Оля повернулась к Виктору:
— Можно с тобой посекретничать?
Это было так неожиданно, что Виктор не сразу нашелся.
— Что–нибудь случилось на участке?
— Было бы с чего секреты разводить, если б на участке что случилось! — Весело оглядев наблюдавших за ними рабочих, она громко сказала: — Я, может, в любви объясниться хочу… Имею на это право или нет?
— Имеешь! — подтвердил Панкрашов. — А вот на месте Курганова я бы подумал… Все–таки женатый человек!
— Нашелся радетель о чужих женах! — со смехом выкрикнула пожилая женщина, учетчица с эстакады.
— Разве я о женах? Я к тому, что надо бы и о друзьях помнить, которые в холостых еще ходят… Нечего невест зря отвлекать!
— С такими женихами, как ты, невесты в девках состарятся, — махнула рукой Оля и первой пошла от эстакады.
По влажному чавкающему под ногами мху они спустились с пригорка к светлому родничку и, не сговариваясь, остановились. На лесосеке был тот редкий и непривычно тихий час, когда от скрытой за кустами эстакады отчетливо доносилось не только каждое слово, но и даже легкое позвякивание черпака в руках у раздатчицы, разливавшей по кружкам чай. Все вокруг как бы нарочно затаилось, застыло в пасмурной сыроватой мгле, рождая у Виктора смутную, необъяснимую тревогу.
— Ты знаешь, что вернулся Павел?
— Н–нет. — Виктор так часто думал об этом, так ждал этого, а вопрос Оли прозвучал настолько обыденно, что он не сразу понял. А когда чуть позже осознал услышанное, то уже не мог что–либо добавить, так как любое слово стало казаться ему ненужным, ничего не выражающим в сравнении со значимостью радостной вести. Он молчал. Это обидело Ольгу.
— Не понимаю тебя… — пожала она плечами. — Я так торопилась, думала, ты обрадуешься.
— Спасибо… Ты видела Павла?
— Где я могла видеть? Мне прислала записку Валя Шумилова… Уже все знают, что он вернулся… Я хочу поехать в поселок. Поедем вместе?
— Нет… Сейчас я не могу.
— Какой же ты, Витька… — Оля не докончила, со злостью сбила носком сапога дряблую бесцветную шляпку позднего мухомора и вновь язвительно заговорила: — Неужели Панкрашов не справится здесь без тебя? Нянька ты ему, что ли? Надеюсь, мне ты, как технорук, разрешаешь на пару часов оставить участок?
— Ты можешь ехать…
— Спасибо и на этом. Хотела поговорить с тобой еще об одном деле, да теперь уже не буду…
— Говори, я слушаю.
— Нет уж, ладно… Потом, если вообще такой разговор понадобится… Непонятный ты человек! Сам столько хлопотал о Павле, всех на ноги поднял, а теперь вроде и не рад. Даже повидаться не торопишься.
— Мы виделись с ним полтора месяца назад.
— «Виделись»! Хорошее было свидание, когда он под стражей был.
— Вечером мы увидимся.
Оля уехала в поселок.
В четыре часа приступила к работе вечерняя смена. Тракторы один за другим подтащили к эстакаде по пачке хлыстов, уже отправился на нижнюю биржу первый лесовоз, и можно было уезжать домой, но Виктор все еще медлил, беспокойно переходя от бригады к бригаде и оправдывая себя тем, что работа еще не совсем наладилась. Наверное, сегодня он был бы рад, если бы на делянке вдруг случилось что–либо непредвиденное и понадобилось бы его вмешательство. Но как нарочно, все шло даже лучше, чем в предыдущие дни. Первой смене удалось оставить запас хлыстов и для разделочников на эстакаде и для трелевщиков на пасеке. Если не подведут лесовозы, то участок Панкрашова даст сносную суточную выработку.
«И все же надо ехать!» — подумал Виктор, когда механик передвижной электростанции включил освещение, и лес вокруг эстакады сразу сделался непроницаемо–темным. Где–то за этой черной стеной рокотали, всхрапывая, близкие, но невидимые трактора.
Глава третья
1
Вот уже больше месяца Кургановы жили в одной из комнат женского общежития, расположенного в центре поселка.
Виктор опасался, что их неожиданный переезд от Кочетыговых вызовет немало разговоров и пересудов, однако никто этого и не заметил. Орлиев даже не спросил, чем вызвано такое внезапное решение. Выслушав Виктора, он приказал Мошникову подыскать комнату и подобрать на время необходимую мебель.
Труднее было объясниться с тетей Фросей.
Когда Виктор за вечерним чаем сказал ей, что в поселке им выделили комнату и завтра они переедут туда, тетя Фрося запротестовала и принялась стыдить Лену, считая почему–то ее виновницей поспешного переселения.
— Это еще что за причуды! Сама целый день на работе, мужик на работе — какая ж будет жизнь, прости меня, господи? Да разве ж с добра люди идут в это самое общежитие?.. Поглупее тебя девки еще не успеют замуж выскочить, и то уже просят у Тихона Захаровича отдельную квартиру.
Лена сидела подавленная, молчаливая, опустив глаза.
— Лена здесь ни при чем. Это я так решил! — сказал Виктор.
Тетя Фрося поглядела на него и вдруг притихла.
— Коль не по нраву вам что, могли бы сказать… Не чужие, поди! — вздохнула она и обиженно поджала губы.
Виктор попытался успокоить старушку. Поблагодарив за все доброе, что она сделала для них, он объяснил, что в общежитии они будут лишь до пуска новых домов, которые к ноябрьским праздникам обязательно вступят в эксплуатацию, что переезжать им рано или поздно все равно придется, так как со дня на день может вернуться Павел, и лучше это сделать сейчас, пока есть возможность.
— Ты думаешь, Пашенька скоро вернется? — спросила тетя Фрося. В ее взгляде было столько надежды — робкой, чуть недоверчивой и такой желанной, — что Виктор, даже если бы и не был уверен в правоте своих слов, не осмелился бы ответить другое.
— Обязательно. Как же иначе? — подтвердил он.
Тогда он мог только надеяться. Поездка в Петрозаводск и разговор с Дороховым укрепили эту надежду. Но из Москвы никаких вестей не было. Он получил лишь ответы от товарищей по отряду. Теплые, удивительно сердечные ответы, какие могут прислать верные и близкие друзья! Первой пришла телеграмма от Проккуева из Чупы: «Сделал все, как ты просил. Верю, надеюсь, радуюсь. Пиши скорее подробности. Федор».
…Да, тогда и он мог сказать: «верю, надеюсь, радуюсь». Теперь надежда сбылась, Павел вернулся. Почему же теперь к этой большой радости снова примешивается горечь? Неужели до конца жизни Виктору так и суждено носить в сердце ощущение своей вины перед Павлом за все случившееся? Разве он не сделал все, что мог, чтоб скорее забылось то неприятное прошлое?
…Комната, где поселились Кургановы, была большая, и, несмотря на все старания Лены, ее пока не удалось сделать уютной. Мебели было мало: шкаф, стол, несколько стульев и две узкие металлические кровати у противоположных стен. Книги лежали стопками в углу, так как стеллаж, заказанный школьному столяру Егорычу, еще не был готов. Виктор и Лена питались в столовой, денег на покупку мебели почти не оставалось, да и заниматься домашними делами было некогда. Лена работала в две смены, все свободное время у нее уходило на подготовку к урокам, а Виктор приезжал из лесу таким усталым, что, ожидая жену, иногда засыпал нераздетым, привалившись головой на кровать.
Единственной радостью в новом жилье была огромная круглая печь с такой чудесной тягой, что пламя внутри всегда гудело, а папиросный дым тонкими струйками тянулся туда чуть ли не с середины комнаты.
Топить такую печь было одно удовольствие. Вернувшись домой, Виктор первым делом приносил дрова, снимал промокший плащ, топором щепал лучину, стоймя набивал топку поленьями и от одной спички разжигал печь. Через несколько минут все трещало, гудело, полыхало, по стенкам полутемной комнаты метались неровные блики. Он гасил свет, садился к печи на поваленную набок табуретку и подолгу глядел немигающими глазами на огонь. Нет, это гудящее прожорливое пламя было совсем не похоже на медлительные ласковые языки партизанского костра, но и оно удивительно настраивало на воспоминания и раздумья.
Если уроки были удачными, Лена приходила возбужденная, счастливая. Она у дверей щелкала выключателем, бросала портфель и с ходу принималась рассказывать, что восьмиклассники сегодня просто прелесть, что Костя Огуреев («помнишь, Котька–баянист?») с таким чувством наизусть читал отрывки из «Слова о полку Игореве» («на древнерусском языке, понимаешь»), что весь класс был удивлен.
Неудачные уроки делали Лену несчастной. Не зажигая света, она бессильно садилась к столу, долго молчала и почти всегда начинала с одного и того же:
— Видно, я совсем, совсем никудышный преподаватель. Такая простая тема, и никто ничего не ответил… Никто, ты понимаешь?!
Виктор лишь улыбался в темноте ее сетованиям и начинал успокаивать, ссылаясь на то, что вчера на лесопункте был трудный день, работали допоздна, и, естественно, ее ученики не имели возможности подготовиться.
— Но ведь я им все объяснила на уроке. Все–все, до последней мелочи… Могли же они хоть что–то запомнить? Могли. Но они, видно, ничего не поняли — вот что печально!
Виктор принимался ей доказывать, что ее ученики — взрослые люди, и если они почему–либо не подготовились к уроку, то на авось отвечать не станут. Виктор сам учился в вечерней школе и знал, что все это не всегда так, но надо же хоть чем–то успокоить Лену, а то она всю ночь не сомкнет глаз.
Утренние уроки с первашами, которых Лена так боялась раньше, давались ей, видно, легче, чем литература в восьмом классе. По крайней мере о первашах она говорила реже и обязательно что–либо радостное и смешное.
…В этот вечер Виктор не успел снять рабочий плащ, как пришла тетя Фрося. Она прямо с порога со слезами на глазах бросилась ему на шею:
— Витенька, сынок! Радость–то какая! Мой Пашенька вернулся!
Осторожно и неловко прижимая к груди всхлипывавшую старушку, Виктор вдруг ощутил всю беспредельность ее радости, всю силу благодарности судьбе за то, что она подарила ей такое счастье. Материнское сердце щедро. Пусть на долю Виктора пришлась лишь маленькая частица ее чувств, но и той доли вполне хватило, чтобы его прежние собственные переживания стали казаться мелкими и ненужными. Он рос без матери. Может быть, поэтому он, тоже не сдержав слез, стыдливо отворачивался в сторону и бессвязно бормотал:
— Что вы, тетя Фрося?.. Плакать–то зачем?..
Позже, когда старушка ненадолго присела на стул и наступило молчание, Виктор заметил у порога набитую свертками сумку, из которой торчали горлышки нераспечатанных бутылок.
— Да что же это я?! — спохватилась тетя Фрося вскакивая. — Столько дел, а я расселась тут… Витенька, собирайся скорей! И так уж поздно. Леночка еще в школе? Зайди за ней. Так и скажи, в гости зовут.
— Павел тоже звал меня? — помедлив, спросил Виктор.
— А как же? — удивилась тетя Фрося. — Кого же ему и звать–то, если не тебя… Народу не много будет… Вы с Леночкой, Тихон Захарович обещал зайти, Олюшка да еще из деревенских кто придет. За угощение не обессудьте — наскоро готовимся! Ты уж, Витенька, не задерживайся, поскорей приходи!
— Хорошо, тетя Фрося.
Давно не бывало у Виктора такого радостного настроения. С озера дул напористый влажный ветер, раскачивал тусклые уличные фонари, но он не замечал ни ветра, ни тьмы, ни слякоти. В распахнутом пальто он шагал по середине улицы, намеренно поворачивая лицо в сторону ветра и даже напевая что–то про себя.
Заметив еще открытый магазин, он остановился, подумал, что надо обязательно чего–нибудь купить, вошел внутрь, долго решал, что именно, и, не придумав ничего лучшего, купил запыленную бутылку шампанского и две пачки папирос с красивым названием «Северная Пальмира».
Возле почты тоже остановился, постоял в нерешительности, глядя на темные окна, потом бегом понесся к теперь уже знакомому дому, где жила заведующая. К удивлению, его встретила Валя Шумилова. Босая, одетая в старенькое пестрое платье, она мыла пол и очень смутилась, увидев Виктора. Так они и стояли друг против друга, виновато и растерянно улыбаясь. Лишь теперь Виктор понял, почему при первой встрече лицо молоденькой заведующей почтой показалось ему знакомым. Ведь она, конечно, сестра Вали.
— Можно Веру? — спросил он, все еще продолжая улыбаться.
Даже то, что Веры не оказалось дома, уже не могло изменить его настроения.
— Она сможет, когда вернется, отправить несколько телеграмм?
— Не знаю. Если уж очень срочные…
— Конечно. Очень даже срочные… Вы понимаете, вернулся Павел Кочетыгов! — воскликнул он, совсем забыв, что именно Валя сообщила об этом на делянку.
— Напишите текст, я передам Верке.
— Да? Очень хорошо… Только не надо никакого текста. Я оставлю адреса и деньги, а под каждым адресом пусть она напишет всего два слова: «Павел вернулся» и ничего больше.
— Но нужна же хоть какая–то подпись.
— Подпись? Пожалуйста. Везде пусть подпишет «Курганов». Вот адреса. Один, другой, третий. Всего пять. Вот деньги.
— Не знаю, примет ли у меня Верка такие телеграммы, — покачала головой Валя. — Нужно хотя бы переписать все это.
— Нет уж, пожалуйста, уговорите ее. А если нельзя — пусть перепишет. Только пусть обязательно сегодня отправит. Скажите, я очень просил. Договорились?
— Хорошо, — улыбнулась Валя.
— Большое спасибо. Скажите, что за мной подарок к ее свадьбе. Да и к вашей тоже! — уже из сеней крикнул Виктор и сбежал с крыльца.
«Теперь — скорее в школу, а потом — туда… Туда, туда», — чуть не нараспев повторил он, поглядывая на едва пробивавшиеся сквозь тьму желтые пятнышки деревенских окон на другой стороне залива.
2
О приглашении гостей сам Павел узнал последним, когда тетя Фрося с покупками примчалась домой и заохала, заахала, не зная, за что наперед приняться.
— Пашенька, ты бы хоть помог чем. Люди придут, а у нас ничего не готово. Совестно будет.
— Какие люди! Что ты еще выдумала!
— А как же? Неужто не придут? Придут же люди с тобой повидаться? Неужто не надо их угостить? Тихон Захарович обещал быть.
— Ты что — никак гостей наприглашала?
Мать, сделав вид, что не заметила его недовольного лица, ласково заговорила:
— Зачем приглашать? Хороших людей и приглашать не надо. А если б и позвала, так что ж тут худого? Отчего же не посидеть, не выпить рюмочку ради праздника.
Павел все понял. Но спорить и ругаться было поздно. Он лишь мрачно усмехнулся:
— Не велико торжество. Не из экспедиции на полюс я вернулся… Нашла тоже праздник!
— Не совестно ль так тебе говорить, Пашенька? — обиделась мать, готовая вот–вот расплакаться. — Разве ж есть для меня другой такой праздник?! Нет и никогда не будет. Неужто ты мать не можешь уважить, хоть в такой–то день?
— Ладно, ладно, чего теперь говорить, — пробурчал Павел. — Чего делать–то надо? Да не гоношись ты! Подумаешь, велика важность — гости! Давай за водой схожу…
Когда Виктор пришел к Кочетыговым, никого из гостей, кроме Оли, еще не было. Тетя Фрося в огромной деревянной чаше размешивала винегрет, Оля перетирала старые с потемневшими ручками вилки, а принаряженный Павел, сидя на сундуке, листал забытую Кургановым книгу с таким видом, словно все происходящее в доме его совершенно не касалось.
Увидев Виктора, он неторопливо поднялся, пожал ему руку, даже сдержанно улыбнулся, но не произнес ни слова. Вероятно, и улыбнулся он лишь потому, что за ними наблюдали внимательные глаза Оли. Виктор не видел этого, и скупая улыбка Павла очень обрадовала его. Он разделся, вынул из кармана бутылку, поставил ее под лавку и прошел в передний угол.
— Леночка скоро ли придет? — ласково спросила тетя Фрося.
— Придет… Закончит уроки и придет.
Виктор присел на лавку рядом с Павлом и оглядел комнату.
Ничто в ней не изменилось за месяц, но знакомая, ставшая даже родной комната вызывала теперь тоскливое чувство. Как будто каждая вещь в ней смотрела на него с немым упреком: «Вот ты испугался, переехал, а делать этого совсем и не надо было…»
Павел молчал. Женщины занимались своим делом. Виктор достал коробку «Северной Пальмиры», распечатал ее, взял папироску и предложил Павлу. Тот оторвался от книги, помедлил, покосившись на этикетку, и все–таки принял угощение, с большим трудом выковырнув покалеченными пальцами папироску из плотно уложенной коробки.
— Мужики, никак дымить здесь собрались? — громко спросила Оля. — Шли б в другую комнату, там и чадили.
— Ишь ты какая неженка стала! — усмехнулся Павел.
— Пусть себе курят, чего ты? — вступилась тетя Фрося, но Павел первым поднялся и направился в комнату, где еще совсем недавно жили Виктор и Лена.
В опустевшей комнате было темно и прохладно. Они остановились у окна и напряженно курили, попеременно озаряя себя красноватым светом при затяжке.
— На лесопункт будешь устраиваться? — спросил Виктор, чувствуя, что Павел первым разговора не начнет.
— Нет, — резко отозвался тот.
— А чем заниматься думаешь?
— Не знаю… Там видно будет.
Загасив окурки, помолчали и, не сказав друг другу больше ни слова, вернулись в переднюю комнату, где все уже было готово и самовар весело тянул нескончаемую, уютную песню.
Вскоре раздался стук в дверь, и на пороге появилась счастливая улыбающаяся Лена.
— Вот и мы! Не опоздали? — весело спросила она и, обернувшись, позвала: — Анна Никитична, где ты там?
— Здесь я, здесь, — послышался из сеней знакомый голос, потом на свет вышла Рябова, тоже веселая, улыбающаяся. — Ну и темнотища у вас тут в деревне! И когда только Орлиев сюда электричество подведет? Где он? Ах, его нет. А то заставила бы платить за порванный капрон… Где тут воскресший из мертвых? Здравствуй, Павел! Здравствуй, тетя Фрося! Я, как всегда, незваная прихожу. У меня нюх такой — как где праздник, я тут как тут… Но сегодня не моя вина. Вот Елена Сергеевна пристала — пойдем да пойдем… Чего ж, думаю, стесняться? Такие дни не часто бывают. А Павел, думаю, не забыл, как я ему «двойки» ставила? Чего ты смеешься, или я неправду говорю? — повернулась она к Ольге.
— Конечно, неправду, — улыбнулась та.
— Это еще почему? Может, скажешь, что и тебе я «двоек» не ставила?
— Конечно, не ставила…
— Да вы что? Сговорились тут, что ли? — в удивлении развела руками Рябова. — Не хотите ли теперь сказать, что вы отличниками всегда были, а?
Павел неожиданно улыбнулся и глухо сказал:
— Вы нам не могли «двойки» ставить. Тогда «неуды» в ходу были…
— Вот именно! — закричала Оля и довольно захлопала в ладоши. — Молодец, Пашка!
— Так это ж еще хуже, чего вы радуетесь? — попробовала вывернуться Рябова. — У «двойки» хоть «единица» утешением служит, а у «неуда» и того нет… Вот всегда так, — обратилась Анна Никитична к тете Фросе. — Хотела людям хорошее сделать, а они норовят меня же и впросак посадить.
— Неужто и правда, Пашенька, ты «неуды» получал? — спросила тетя Фрося с таким искренним огорчением, что все дружно рассмеялись.
Минут десять подождали Орлиева. Но как только шумное настроение начало понемногу спадать, Анна Никитична вдруг спросила:
— Долго ль нас тут голодом морить собираются? Почему шестеро должны ждать седьмого?
— Садитесь, садитесь за стол, дорогие гости, — заторопилась тетя Фрося, хотя, видно, ей очень хотелось дождаться Тихона Захаровича. — Пашенька, приглашай, чего же ты! Анна Никитична, Оленька, Лена! Садитесь, где поудобней.
Гости сели первыми: Рябова и Оля на лавке у стены, Виктор и Лена на скамью напротив, оставив Павлу табуретку. Однако он, помедлив, выбрал место рядом с Рябовой.
— Э–э, так не годится! — запротестовала та. — Чего на угол сел? Хочешь семь лет в холостяках ходить?
— Мне не страшно, — слегка улыбнулся Павел. — Я уже больше того просрочил… А табуретку давайте за Орлиевым забронируем…
— Ну, если так, то на углу мне и подавно бояться нечего… — Она поменялась с Павлом местами, заставила его придвинуться поближе к Оле, а сама уселась на табуретку. — Чего мы тесниться будем? Правда, тетя Фрося? Придет Орлиев — ему место найдется… Еще Гоголь говорил, что городничему в любой тесноте место найдется… Где это он говорил, Елена Сергеевна, в «Ревизоре», что ли?
— В «Мертвых душах», — ответила с улыбкой Лена, уже успевшая привыкнуть к подобным неожиданным вопросам директора школы.
— Да, да, вспомнила. Это Петр Петрович Петух так Чичикова угощал… Вот был хлебосол, а? Как вспомню его кулебяку, так слюнки текут. Хотя, честное слово, и до сих пор не знаю, что такое кулебяка! Ни разу не пробовала… Говорят, что–то вроде рыбника, только с мясом… Мужчины, вы бы поскорей за свое дело брались, чтоб рыбничка попробовать. Неужто мне и за бутылку браться первой?
— Пашенька, наливай, чего ж ты? — Тетя Фрося счастливыми глазами оглядывала гостей, то и дело переставляя на столе закуски.
Павел откупорил бутылку водки, разлил ее по стопкам.
— Ну, кто скажет первый тост? — спросила Анна Никитична и повернулась к Виктору: — Может, вы, Виктор Алексеевич?
— Не надо тостов, — тихо произнес Павел. Он сидел покалеченной щекой к Оле. Это, вероятно, стесняло его, так как он прикрывал щеку ладонью, то и дело облокачиваясь на стол.
— Пашенька, ну почему же не надо? — вступилась тетя Фрося,
— Не надо, мать. Ни к чему это… Пусть каждый выпьет за то, за что ему хочется.
— Да что мы, пьяницы какие, что ли? — обиделась мать. — На поминках и то пьют за покой усопших. А мы молча, как в кабаке.
— Ну, если ты так хочешь, то мы выпьем за твое здоровье. — Павел посмотрел на огорченную мать и улыбнулся: — Чтоб ты жила на свете еще столько же… Хочешь?
Он протянул к ней рюмку. По очереди чокаясь с гостями, смущенная вниманием тетя Фрося прослезилась, а Лену даже поцеловала в лоб.
Когда все притихли, занявшись закуской, Лена попросила:
— Давайте выпьем так, как предлагал Павел, а?
— Ого, — засмеялась Рябова. — Оказывается, ты, Елена Сергеевна, любишь не только мужа и литературу. То–то ты меня так звала сюда!
— Нет, — серьезно сказала Лена. — Я не пьяница, но если уж за столом принято пить вино с тостами, то пусть наш тост будет самый необычный. Это же здорово — молча пожелать друг другу самого лучшего… И не только счастья, а чего–то конкретного в жизни, понимаете меня?
— Интересно! Что бы, к примеру, ты стала желать мне? — спросила Оля. Виктор заметил, как ее взгляд скользнул по нему и вновь выжидающе, чуть насмешливо застыл на Лене.
— Этого как раз я и не хочу говорить. Я хочу пожелать, подумать про себя.
— Почему?
— Наверное, потому, что говорить друг другу откровенное мы еще не умеем. Плохое боимся, хорошее стесняемся… Получается, что говорим мы хуже, чем думаем. А ведь тяжело так. Всем тяжело.
— В том немного беды, — мрачно усмехнулся Павел. — Хуже, когда говорят хорошее, а делают плохое…
— Она о честных людях, а ты о подлецах… — возразила ему Оля и вновь посмотрела на Лену. — Ты правильно сказала, очень правильно! Если бы хорошие люди были откровеннее, может, подлецы давно бы уже вывелись… Значит, каждому из нас у тебя есть свои пожелания счастья?
— Да. Что же тут странного? Разве мы не думаем друг о друге?
— А вдруг твое пожелание мне не годится? Или наоборот?
— Но мы ведь желаем друг другу только хорошего, не так ли?
— Поддерживаю тост, — громко сказала Рябова. — Павел, наливай, и давайте выпьем, как она сказала. Павел, слышишь?
— Тихон Захарович идет! — Сидевший в задумчивости Павел встрепенулся, сделал знак рукой, чтоб все помолчали.
На крыльце действительно раздались грузные шаги. Тетя Фрося вскочила, засуетилась, не зная, то ли броситься встречать дорогого гостя, то ли готовить ему чистую посуду и место за столом.
3
Все ждали, повернувшись лицом к двери. Вот шаги прогромыхали в сенях, замерли, потом раздался короткий стук в дверь и, слегка пригнув голову, в комнату шагнул Орлиев. Дверь была для него достаточно высокой, он мог бы и не пригибаться, но он почему–то сделал это.
— Ого, да тут целый пир! — Сощуренными от света глазами Тихон Захарович оглядел по очереди всех сидевших за столом. — Ну, старая, с радостью тебя… Теперь и сам вижу, что сын действительно вернулся… А с чем тебя поздравлять, — повернулся он к Павлу, вылезшему из–за стола, — я, брат, и не знаю. С возвращением домой, что ли?
— Спасибо, — напряженно улыбнулся тот.
Орлиева усадили на предназначенное ему место, в виде штрафа налили полный стакан водки, тетя Фрося поставила перед ним глубокую тарелку и наложила в нее всей имеющейся на столе закуски.
— Постойте, а за что же мы пить–то будем? — удивился Орлиев, заметив, что все со стопками в руках ждут его. — Тост уже был, что ли?
— Был. Каждый молча пьет за то, что он желает присутствующим, — пояснила Рябова.
— Это уж настоящий индивидуализм, — глухо засмеялся Орлиев. Виктор обратил внимание, что он держался сегодня как–то совсем по–иному, чем обычно. Охотно улыбался, хотя оживленность выглядела слишком внешней. — Это похоже на тайное голосование. Когда обсуждают, вроде бы все «за», а потом столько черных шаров появится…
— У нас черных шаров не будет… У нас все желают друг другу только самое светлое и хорошее! — горячо заверила Лена.
Орлиев посмотрел на нее, улыбнулся и тяжело поднялся над столом со стаканом в руке.
— Ну что ж, если так, то давайте.
Большими медленными глотками он выпил водку и, закусывая солеными грибами, вдруг в шутку спросил сидевшую рядом с ним Рябову:
— Замуж скоро выйдешь?
— В ноябрьские праздники…
Она ответила с таким серьезным видом, что все, кроме Павла, дружно рассмеялись. Даже тетя Фрося позволила себе чуть улыбнуться.
— Чего смеетесь? — недоуменно пожала плечами Анна Никитична. — Вы думаете, я шучу? К ноябрьским праздникам выхожу замуж и всех приглашаю на свадьбу.
— За кого, если не секрет? — весело спросила Оля.
— Ну, уж тебе–то надо знать за кого. Будто в мои годы бывает много женихов?.. Вот если бы Тихон Захарович посватался, тогда и у меня выбор был бы. А так всего–то и есть один женишок завалященький…
— Ты серьезно или сейчас решила? — Оля еще продолжала улыбаться, но в ее голосе уже послышались беспокойные нотки.
— Сейчас, но вполне серьезно. Подняла рюмку и решила. Вдруг, думаю, никто из вас не догадается пожелать того, что мне по душе. Взяла сама себе и пожелала.
— Просто поразительно, но вам я пожелала именно этого, — сказала Лена, глядя на Рябову широко открытыми, застывшими в удивлении глазами.
— Панкрашов, как жених, совсем не завалященький. Жених он первостатейный! — усмехнулся Орлиев. — Значит, скоро погуляем на твоей свадьбе?
— Конечно, погуляем, если жених не сбежит. Что вы на меня так смотрите, как будто я у кого–то жениха отбила? Он мой, собственный… Сама три года приручала, воспитывала, сама и маяться с ним буду! Тетя Фрося! Разве плохой у меня жених?
— Хороший, хороший! — одобрила старушка.
— Почему же они не верят мне? — спросила Рябова, пожимая плечами.
Ее раскрасневшееся улыбающееся лицо было таким непривычно растерянным и смущенным, что Лена первой не выдержала:
— Верим! Верим! — закричала она и бросилась к Анне Никитичне поздравлять. Следом за ней — Оля, тетя Фрося.
Даже Орлиев, картинно растопырив руки, обнял Рябову и неловко чмокнул ее в щеку.
— Э–э! Да ты и целоваться–то не умеешь! — выкрикнула Рябова, и в ее желудевого цвета глазах вспыхнул насмешливый огонек. — Вот уж не думала! Как холодной губкой мазнул по щеке! Вам, мужики, у Панкрашова научиться надо. Вот он целуется — огонь по жилам, мороз по коже!
— Аня, что с тобой? — перебила ее Оля.
— А что?
— Не пойму я тебя что–то, — засмеялась Оля.
— А чего непонятного?! Выйду замуж, нарожаю детей — все станет на свое место. Чего тут не понимать?
— Не будет у тебя детей, — сказал Орлиев.
— Это еще почему?
— Поздно спохватилась. Раньше думать надо было.
— Врешь! Не такая уж я и старая! Правда ведь, тетя Фрося? Разве я не смогу уже иметь детей?
— Можешь, можешь… Шурка Аникиева вон и в сорок лет первого родила.
— Видишь?! — торжествующе повернулась Рябова к Орлиеву. — А мне еще тридцать шесть. На зло тебе нарожаю целую кучу — толстеньких, рыжеватеньких, с веснушками… Чтоб все как один на меня были похожи. А тебя вместо крестного отца посажу, чтоб не пророчил. Ну, что притихли? Давайте выпьем за мою свадьбу, а то я трезветь что–то стала.
Орлиев заметно захмелел, и настроение его начало портиться. Грузно навалившись на стол, он долго, пристально смотрел на Павла, словно не узнавая его, потом медленно облизнул набухшие губы и громко спросил:
— Тебя реабилитировали или амнистировали?
Все притихли.
— Разве это имеет значение? — едва заметно улыбнулся Павел, глядя в неподвижные, мутно–свинцовые глаза бывшего командира.
— А как же? Если амнистировали, выходит, просто помиловали… А если реабилитировали, значит, всю вину с тебя сняли… Есть разница, по–твоему, или нет?
Улыбку как рукой смахнуло с внезапно побледневшего лица Павла. На секунду оно стало безжизненно белым, потом на нем начала медленно проявляться и расти другая улыбка — злая, искаженная шрамом и похожая на болезненную гримасу.
Виктор схватил Орлиева за плечо и закричал:
— Перестаньте! Как вам не стыдно?! Какое вы имеете право?!
Орлиев, даже не глядя на него, резким движением стряхнул руку.
— Тихон Захарович! Ряпушки свеженькой, сама ловила! — подскочила к мужчинам тетя Фрося.
— Погоди, мать! — Павел уже овладел собой и придвинулся к самому лицу Орлиева: — Ну, а если за мной нет вины, тогда что? — тихо спросил он, криво усмехаясь в одну сторону. — Не было и нет, тогда как? Нужна мне эта ваша реабилитация или нет?
— Нужна, — мотнул головой Орлиев.
— Она что, вернет мне те девять лет, что ли? Сделает лучше или хуже, чем я есть?
— Павел, не надо, — попросила Оля, обнимая его за плечи и стараясь отвлечь.
— Надо, Оля, надо! — не оборачиваясь, возразил Павел. — Раз уж он начал этот разговор, надо договорить до конца! Он нас три года водил за собой. Его умом мы жили и днем и ночью. Пусть теперь разъяснит мне, почему я должен искать оправдания, если ни в чем не виноват.
— Если не виноват, тебя должны были реабилитировать…
— Ах, так! — Павел несколько секунд в упор смотрел на Орлиева, потом медленным взором обвел всех гостей, тяжело передохнул и неожиданно ласково обратился к Оле: — Ну вот и договорились! Теперь все ясно… Налей–ка мне, Оля… Или постой, я сам.
Он сел, придвинул поближе неоткрытую поллитровку, налил половину стакана и выпил, держа бутылку в руке. Сразу же, не закусывая, налил снова. Горлышко бутылки нервно позвякивало о край стакана, водка проливалась на стол, на аккуратно, по–праздничному нарезанные ломтики черного хлеба, к которому Павел и не притронулся за весь вечер.
— Вот так, Оля, они и жили, — полупьяно бормотал он. — Воевали, в походы ходили, голодали… Только мы ему верили… а он нам нет… Мы всей душой, а он нет… Как же это так, Оля, вышло?.. Курганов, ты ведь тоже ему верил, а?
— Верил, — подчеркнуто громко отозвался Виктор. Он был так зол сейчас на Орлиева, что с удовольствием бросил бы в лицо все накипевшее в нем за эти полтора месяца. Он уже хотел налить себе для храбрости, но его остановил властный голос Орлиева, обращенный к Павлу:
— Дай сюда бутылку!
Вылив в свой стакан остатки водки, Орлиев одним махом осушил его, поднялся, на ходу сорвал с гвоздя у дверей плащ и шапку и, не надевая их, вышел в сени. Он ни с кем не попрощался. Лишь проходя мимо тети Фроси, коротко бросил:
— Не давай ему пить!
Вечеринка была испорчена. Для приличия посидели еще с полчаса. Всем не хотелось оставлять хозяев в грустном настроении, но веселья не получилось.
Долго прощались, чувствуя какую–то неловкость за случившееся. Уговорились встретиться в субботу еще раз, посидеть, поговорить, попеть песен. Рябова даже пообещала достать баян.
Когда они остались одни, Павел спросил мать:
— Ну, как ты теперь считаешь? Надо было нам гостей звать или не надо?
— А как же, Пашенька? Посидели, поговорили… Все честь по чести… А что пошумели маленько, так за столом это у всех случается… С подвыпивших людей велик ли спрос?
— Эх, мать! — покачал головой Павел. — Или ты очень уж у меня умная, или совсем–совсем ничего не понимаешь? В том–то и дело, что шуму у нас и не было. Лучше б пошуметь, да за грудки схватиться, чем так… Ударить и уйти… Ну, где ты меня спать положишь? Давай на полу, а? Как в детстве, помнишь?
Глава четвертая
1
По привычке Павел проснулся в шесть часов, но впервые за многие годы провалялся в постели до восьми. Отчаянно болела голова, и вставать не хотелось. Мать уже заканчивала топить печь, когда он взял полотенце и в ботинках на босу ногу пошел к озеру.
Утро было сырое, промозглое. Тростники у берега зябко шуршали на ветру ссохшимися пожелтевшими стеблями. Вода обжигала холодом опухшее лицо, леденящими струйками сбегала по спине к поясу, разгоняя сонливость и заставляя приятно поеживаться.
Что–то похожее он много раз испытывал в детстве по субботам, когда отец, покряхтывая от удовольствия на банной полке, нагонял такого знойного пару, что Павел с братьями не выдерживали, выскакивали наружу и, если озеро еще не замерзло, бросались в ледяную воду. Давно это было, кажется, даже в какой–то прошлой и чужой жизни.
Но баня и теперь стояла на прежнем месте, только она уменьшилась и нависла подгнившей стеной над самой водой. Павел открыл затекшую дверь. Изнутри пахнуло устоявшейся березовой прелью. Теперь к знакомому запаху примешался запах гнили, давней копоти и запустения. Нехитрая черная каменка местами обрушилась, однако все остальное было на месте. Даже старый, проржавевший ковш стоял на скамье возле огромной бочки, в которой раньше раскаленными камнями грели воду.
Павел никогда не любил домашних хозяйственных дел, но теперь ему вдруг захотелось, чтоб вновь ожила, стала прежней эта заброшенная баня. Он тут же принялся укладывать на свои места провалившиеся внутрь топки камни. Ломкие, крошащиеся от перегрева он заменял новыми, найденными на берегу.
— Куда ты пропал? — мать заглянула в баню. — Зову, зову. Чай пить пора, картошка стынет…
Он ожидал, что мать обрадуется, похвалит его, но она лишь воскликнула:
— Ой, да никак ты каменку ладишь? — и тут же развела руками: — А мы, ить, Пашенька, в поселок ходим… Там баня хорошая построена… Рубль заплатишь — и никаких хлопот.
— Вы можете ходить куда угодно, а я буду тут мыться, — грубо ответил он.
Работать сразу расхотелось. Однако он не пошел завтракать, пока не закончил ремонт каменки.
За завтраком мать, желая загладить свою неловкость, ласково попросила его осмотреть крышу, которая давно уже течет, и из–за этого начал подгнивать сруб. Павел ничего не ответил. Дождавшись, когда мать уйдет в поселок, он собрал кое–какой имевшийся в доме инструмент и вышел во двор.
Дом заметно обветшал за эти двенадцать лет. Даже сколоченная перед самой войной лестница предостерегающе похрустывала, когда он взбирался по ней к ровной и прочной на вид, но местами уже обомшелой тесовой крыше.
Павел догадывался, о какой дыре говорила мать. В сорок третьем году, когда он пришел в разведку в Войттозеро и целую неделю жил дома, скрываясь на сеновале, он сам проделал в крыше эту дыру, чтобы можно было наблюдать за дорогой. Тогда он бесшумно оторвал одну доску и, когда нужно было, осторожно сдвигал ее в сторону. Из деревни ему пришлось уходить так спешно, что он не успел прибить доску на место.
Теперь доска куда–то пропала. Вероятно, ее сорвало и унесло ветром. Из–за нее подгнили и выкрошились по краям две соседние, и дыра действительно образовалась немалая. Менять нужно было уже три доски. А где их возьмешь в доме, в котором двенадцать лет не было мужика?
«Доски Орлиев должен бы дать мне бесплатно, — с усмешкой подумал Павел, сидя на крыше. — Но я не возьму их, нет. Я куплю их, поставлю на место и потом, когда все выяснится, пусть это пятно на моей крыше будет колоть ему глаза».
Сверху поселок казался еще красивее. Ровные, правильно расположенные серые прямоугольники низких крыш: шиферных, толевых, драночных. Между ними — полоса дороги, штакетные заборчики… Машины, люди, дым над трубой красного кирпичного здания, откуда доносилось пыхтение локомобиля… Совсем незнакомый, чем–то даже чужой, но такой манящий мир открывался по другую сторону залива! Неужели для него, для Павла, он так и останется чужим? Вчера еще он верил, что все может быть по–иному. В конце концов он и сейчас может пойти туда, предъявить документы, подать заявление и ему, вероятно, не откажут, его возьмут на работу, дадут в руки топор и направят рубить сучья. Это–то уж он умеет делать! За последние годы он столько окарзовал хлыстов, что эта работа навек опротивела ему. Там он научился делать и другое: освоил профессию взрывника. Его никто не учил. Там вообще никого не учат. Там просто спрашивают: «Есть взрывники? Выходи!» Он вышел. Вот такая работа нравилась ему. Она была связана с риском, и это отвлекало от тяжелых дум, заставляло все время быть в напряжении. Хорошо бы и теперь найти такую работу, которая не оставляла бы времени для таких раздумий… Чтоб требовала быстроты и ловкости! Чтоб каждый день была новой и неожиданной…
К черту крышу! Пусть она гниет и расползается! Разве он собирается здесь жить?! Неужели не найдется на земле уголка, где ничто не будет напоминать ему о прошлом, где они с матерью заживут спокойно и счастливо?!
Павел слез с крыши и, переодевшись, зашагал в поселок.
2
— Здорово, зятек! Никак родственников перестал узнавать?
Всмотрелся Павел и признал: дядя Пекка Рантуев стоит перед ним и хитровато щурится из–под лохматых бровей. Жив старик и даже мало изменился, только седина пробежала по пышной бороде да пухлое лицо совсем красным стало, как будто в кипятке обваренное. Одет так, как и до войны не хаживал. Ладный солдатский бушлат, высокие кожаные сапоги, а на голове форменная фуражка со значком лесничества.
— Здравствуй, Петр Ильич! — обрадовался Павел, отвечая на крепкое рукопожатие.
Хотя и не очень понравилось ему насмешливое обращение старика, но в этом было что–то привычное, давнее. Войттозерский мужик никогда, бывало, слова не скажет просто — обязательно норовит при встрече подковырнуть соседа насмешкой, заранее зная, что и тот ответит тем же.
— Стало быть, вернулся с даровых хлебов? — спросил старик, пахнув в лицо Павлу легким запахом хмельного.
— Вернулся, как видишь..,
— Слыхать, на Чороме был?
— Был и на Чороме.
— Вот скажи ты! — воскликнул старик. — Я, ить, парень, не один раз за эти годы там бывал… Мой объезд совсем рядом… А ни разу не встретились, а? Сколько я вашему брату, «зэкам» этим самым, махорки перевел! Знал бы, так лучше тебе ее отдал. Как–никак родственник все же!
— Махоркой я не бедствовал, — сказал Павел, оглядываясь по сторонам. Они стояли в самом центре поселка, а старик кричал так, что за версту было слышно.
— Ну, что ж! — дядя Пекка поскреб затылок, левой рукой пошебаршил в кармане ватных брюк, подумал и вдруг решился: — Встретились, так выпить надо… Пойдем ко мне!
Зашли в магазин. Дядя Пекка бодро спросил две поллитровки и посмотрел в глаза Павлу так выразительно, что тот сразу все понял. У Павла нашлось двадцать пять рублей, и водку купили в складчину.
— О закуске не думай! — успокоил гостя старик, когда они вышли из магазина. — В хорошем доме закуска всегда найдется… Да и много ль двум мужикам надо!
Дом у старика Рантуева действительно был хороший. Павел помнил его еще с довоенных времен и теперь с трудом узнал. Раньше это был обыкновенный деревенский дом — огромный, темный, с хлевом под одной крышей. А теперь, спрятавшись жилой частью в тесовую обшивку, дом выглядывал крашеными окнами из–за высокого забора с воротами и калиткой. Во дворе лениво бродили откормленные куры, в конуре глухо отозвался на стук калитки недовольный кобель, под навесом жевала сено лошадь.
— Богато живешь, дядя Пекка! — удивился Павел.
— Работаем, без дела не сидим… — равнодушно ответил тот, отпирая на дверях огромный висячий замок.
В сенях навстречу им, радостно виляя пушистым хвостом, выскочила вислоухая черная сука с умными пристальными глазами и чутким подвижным носом.
— Вот она, моя кормилица, моя «Щенка»! — беря собаку на руки, ласково заговорил старик. Он погладил ее и, отпуская, похвастался: — Кажись, ить, пустое дело — собачка, баловство. А вот уж сколько лет по тыще рублей дает. Были годы, и по два раза щенилась. Знаешь, какой она породы?
Павел не ответил. Оглядывая избу, он только сейчас осознал, что Оля не живет здесь. Он вспомнил, что мать как–то говорила ему о переезде Ольги в поселок. Но было странно и непривычно увидеть это самому.
— Почему Ольга не живет дома? — спросил он, когда старик пригласил его к столу.
— Это ты, парень, у нее спроси. — Дядя Пекка налил сначала по полстакана, потом добавил еще понемногу и, сдвинув стаканы, уравнял их содержимое с такой тщательностью, что ему, пожалуй, мог бы позавидовать аптекарь.
— Ну все же, должна же быть причина? — повторил Павел, когда они выпили. — Давно Ольга не живет здесь? Или вообще ты не пустил ее домой?
— Как же не пустил, чего зря болтаешь! — взъерепенился сразу старик. — Не пустишь вас, поди–ка!.. Два года жила, пока мальчонка не подрос, да голодно было… А как сынишка на ноги встал да карточки отменили — и отец нехорош сделался… Нынче, как видно, не жди благодарности от детей. Ишь, теперь зарабатывает по две тыщи в месяц — можно жить и одной!.. Сиди, что вскочил! Отца при людях позорит, а того не понимает, что для нее же стараюсь…
Он, снова тщательно размерив, разлил по стаканам водку.
— Пить больше не буду, — остановил его Павел.
— Как же это не будешь? — удивился старик. — А кому же твоя доля достанется? Неужто по бутылкам разливать будем?
— Говори, зачем звал!
Старик помедлил, покряхтел, поглядывая то на Павла, то на переливавшуюся холодящей зеленью жидкость в стаканах.
— Не знаю, парень, как теперь и говорить с тобой. Если тебе кто наболтал, что я плохо к твоему сынишке относился, ты не верь. Не было того… Ольгу, это верно, много ругал, пристыживал. Сама виновата…
— Какого моего сынишку? Что ты мелешь?
Старик уставился в глаза гостю и вдруг поднялся — разгневанный, красный, взъерошенный.
— Ты что? В обратную сыграть хочешь?.. Совесть есть у тебя или нет? Ты же в могилу, парень, глядел! Испортил девке жизнь и нос отворачиваешь?! Твой ведь ребенок у Ольги, чего зенки пялишь?!
Павел не мог понять, спьяну ли старик несет чепуху или хитрит. Все это так неожиданно и невероятно, что он просто рассмеялся ему в лицо:
— На арапа берешь! Не делай из меня дурака!
— Ах ты, каторжная душа! — взвизгнул старик, хлопнув кулаком по шаткому столу. Стаканы звякнули друг о друга, и водка пролилась из них. Павел едва успел подхватить упавшую пустую бутылку. — Нет на вас, проходимцев, теперь закона об алиментах, так, думаете, и делу конец?! Нет, я тебя заставлю, я тебе жить не дам… Вся деревня знает, как ты девку обхаживал, ночи у моего дома просиживал. Кто ее в отряд этот самый партизанский увел? Ты! Сам Тихон Захарович письменно затвердил, чей у Ольги ребенок… Кто ей там, в партизанах, шагу ступить не давал?..
— Перестань, слышишь! — меняясь в лице, сказал Павел.
Старик вдруг расплакался, бессильно уткнувшись в широкие разлапистые ладони:
— Не будь ты поганым человеком, Пашка… Чего тебе еще надо? Женись! Умру я, все твое будет… Старшие дочки у меня пристроены, ладно живут… Они ничего не потребуют… Разве что Ирье чего–либо выделите…
Он плакал по–настоящему. Слезы накапливались между кривыми натруженными пальцами и стекали по бугристой тыльной стороне ладоней, оставляя мутноватый след.
Было смешно: крепкий, полный сил старик говорил о своей смерти, как будто она должна была наступить чуть ли не завтра. Однако именно это и заставило Павла поверить ему.
— Перестань… За кем Ольга была замужем?
— Какое там замужество, — всхлипнул старик, отворачиваясь и вытирая глаза. — Напраслина! Уж как я корил ее эти годы! Уж как корил!.. «Выходи, говорю, ищи жениха, чего жизнь себе портить». А она вроде знала, что ты живой… Об Ольге ты не думай, она крепко соблюдала себя! — добавил он, с надеждой поглядывая на застывшего в хмуром раздумье Павла.
— Ты не врешь мне, старик?
— Живым мне не быть на этом месте! — торопливо воскликнул тот и даже, подумав, перекрестился. — Какое тут замужество, когда из партизан брюхатая пришла… Чуть ли не год у сестры в Петрозаводске жила, домой стыдилась показаться… А так ты не думай — крепко себя держала… Парни лесопунктовские сколько на нее заглядывались. Всем от ворот поворот.
— Хватит тебе об этом! — взволнованно оборвал его Павел, начиная догадываться о чем–то. — Когда сын у нее родился?
— Восьмого октября… Аккурат после парада партизанского… Ушла на парад и оттуда прямо в больницу.
— Восьмого, восьмого… Где мы тогда были? — лихорадочно забормотал Павел.
— Я ж говорю, аккурат после парада, — повторил старик, вновь обеспокоенный странным поведением гостя.
— Не об этом я! — отмахнулся тот и вдруг попросил: — Добавь водки, давай выпьем!
Старик охотно наполнил стаканы. Торопливо выпили, помолчали, и Павел неожиданно спросил вновь:
— Ты ничего не соврал, не перепутал, а? Пойми, это так важно!
— Господи! — забеспокоился тот. — С чего ж я врать–то буду?!
— Ладно, старик! — поднялся Павел, чувствуя, как хмель все гуще окутывает его разгоряченное сознание, даже язык стал заплетаться. — Верю я тебе! Но учти, если соврал, большой грех на душу возьмешь! За всю жизнь не отмолишь!
— Куда же ты, Паша! Посидел бы, надо ж разговор–то закончить.
— Пойду, дело есть! Спасибо за угощение! Ну, старик, угостил ты меня… Крепко угостил, — тяжело покачал головой Павел, пожимая хозяину руку.
— Жениться–то будешь аль нет? — уже с крыльца выкрикнул старик.
Павел, оглянувшись, лишь криво усмехнулся и еще быстрее пошел, пошатываясь, к калитке.
3
Днем в конторе лесопункта народу бывало немного, и поэтому девушки–счетоводы с любопытством встретили незнакомого возбужденного молодого человека, скорее ворвавшегося, чем вошедшего в бухгалтерию.
— Где мне увидеть Курганова?
— Виктор Алексеевич в лесу.
— Лес большой… Где он там?
— Скорее всего на участке Панкрашова. Он часто там бывает… А может, и у Рантуевой.
— Как мне туда добраться?
— Выйдете на дорогу и садитесь в любой лесовоз, который идет с биржи… А там спросите.
Тяжело повернувшись, Павел вышел, нерассчитанно громко хлопнув дверью.
На панкрашовском участке Курганова не оказалось. Сам Панкрашов, сразу догадавшийся, кто перед ним, объяснил Павлу, что технорук был здесь, но часа два назад уехал куда–то, вероятно, на нижнюю биржу, где идут подготовительные работы, так как через несколько дней лесопункт перейдет на вывозку леса в хлыстах.
— Если будете на работу устраиваться, проситесь ко мне, — предложил Панкрашов, пока Павел ожидал лесовоз, чтобы поехать обратно. — На участке вот как нужны хорошие ребята. Не пожалеете… И база для роста большая!
— Подумаю, — буркнул в ответ Павел, хотя и не собирался работать на лесопункте.
На бирже Курганова тоже не было. Валя Шумилова, которой очень хотелось, чтоб Павел признал ее — ведь она очень хорошо помнила его еще по школе! — расспросила шоферов, и кто–то сказал, что недавно видел Курганова на дороге, недалеко от школы. Он стоял там возле военного «газика» с каким–то проезжим капитаном.
«Скрывается, подлец», — подумал Павел, хотя сквозь хмель все–таки понимал, что у Виктора еще нет никаких причин скрываться от него.
Когда он пешком добрался до школы и Курганова не оказалось и там, неожиданно мелькнувшая мысль выросла в убеждение. Все Войттозеро вот оно, на виду! Каждого человека можно разыскать за полчаса. А он мотается уже больше двух часов и даже издали не видел Курганова.
«Ничего, доберусь до тебя! Я все–таки загляну в твои черные глаза! Я хочу видеть, какими они станут, когда я спрошу тебя…»
Оглядываясь по сторонам, Павел стоял на дороге напротив школы. Он не знал, что делать, а бушевавшие в нем ярость и гнев искали выхода. Вдруг, еще раз взглянув на школу, он обрадованно мотнул головой, перескочил через забор и напрямик, по опустевшим грядкам пришкольного огорода направился к зданию.
По тихому коридору он переходил от класса к классу. Потом остановился, прислушался к неторопливо–четкому голосу учительницы, взглянул на цветную вывеску «1 класс» и приоткрыл дверь.
Лена, стоявшая между партами, удивленно оглянулась. Он видел только ее, а белые, удивительно белые головки склонившихся над партами учеников казались ему маленькими шариками.
— Можно вас на минутку?
Испуганная, недоумевающая Лена вышла в коридор и плотно притворила дверь.
— Что–нибудь случилось, Павел?
— Для кого как, — усмехнулся он. — Мне нужно с вами поговорить…
— Хорошо. Только подождите, пожалуйста… Через пять минут кончится урок.
— Ладно, подожду.
Оставшись один, Павел вынул папиросу, закурил. Вспомнив, где он находится, сразу же погасил ее и окурок выбросил в открытую форточку.
«Ма–ма мы–ла Ми–лу», — доносился из класса детский голос. — «Ми–ла ма–ла…»
Это повторялось так долго и так размеренно, что Павел едва не выкрикнул: «Ну, мыла мама Милу? А что дальше, дальше что?»
Чтоб скрыться от этого голоса, он прошел к раздевалке и сел на деревянный диван.
Наконец прозвенел звонок, и сразу же появилась Лена, улыбающаяся, чуть встревоженная, с портфелем и кипой тетрадей в руках.
— Пройдемте в учительскую…
— Нет, давайте здесь.
Мимо них в раздевалку пробегали первоклассники, хлопали по барьеру сумками и портфелями. При виде учительницы утихали, и, уходя, каждый обязательно останавливался у дверей:
— До свидания, Елена Сергеевна.
Лене приходилось то и дело отвлекаться, отвечать ребятишкам, и она предложила:
— У меня уроки кончились. Подождите минуточку, я оденусь. Вы проводите меня домой, и мы спокойно поговорим.
— Нет, — отрезал Павел. — Я вас долго не задержу.
Лена посмотрела на него и настороженно сказала:
— Я слушаю.
— Разговор будет о вашем муже… О бывшем моем друге Витьке Курганове.
— Я догадываюсь, — кивнула Лена.
Чувствуя, что прежний запал начал у него пропадать, Павел, искусственно подогревая свою злость, насмешливо заговорил:
— Догадываетесь? Это хорошо, что вы такая догадливая. Тем короче будет разговор.
— Можно потише? — попросила Лена, оглядываясь на учеников, уже с удивлением посматривавших в их сторону.
— Ладно. Будем потише. — Павел облизнул запекшиеся губы и, нисколько не понижая голоса, спросил: — Вы знаете, что у вашего мужа есть ребенок? Знаете об этом, а?
Ничего не понимая, Лена молчала, потом участливо тронула его за плечо.
— Что с вами, Павел? Идемте, идемте, я провожу вас домой!
— Может, вы знаете? — отстраняя ее, продолжал он. — Тогда нам и говорить не о чем?
— Прошу вас, уйдемте отсюда! Здесь дети…
— Ах дети! — вскочил он. — А там щенок, что ли? Щенок, спрашиваю я вас? Об этих вы думаете, беспокоитесь, воспитываете… А они и без вас вырастут… А тот пусть сам, пусть тешит себя, что его папа погиб! Эх вы, люди!
Несколько мгновений он, сощурившись, смотрел ей в глаза и вдруг резко махнул в отчаянии рукой:
— Да что с вами говорить?!
Тяжело качнувшись, он повернулся и с вытянутой вперед рукой, как бы на ощупь, пошел к выходу.
— Постойте! — Лена загородила ему дорогу. — Нельзя же так! Я провожу вас.
— Не надо. — Неровным, но сильным движением он отстранил ее, потом обернулся, с укором покачал головой. — А вы мне так понравились тогда, помните?
Следом за ним Лена вышла из школы. На улице было прохладно, но она, разгоряченная, взволнованная, не чувствовала холода.
— Павел, вы можете мне объяснить, о чем вы говорите? — спросила Лена, когда ребячий шум и гам остался за дверью,
— Ах, вы еще делаете вид, что ничего не понимаете! — вновь распаляясь, заговорил он. — Ну, хорошо! Выскажемся яснее… Вы знаете, что Витька в отряде дружил с Олей Рантуевой?
— Да, знаю, — быстро отозвалась Лена, побледнев от предчувствия чего–то страшного и неотвратимого.
— Тогда все в порядке. Об остальном догадаться не трудно…
— Зачем вы так зло мстите? — растерянно и беззащитно улыбаясь, спросила Лена. — Я не верю вам, не верю, понимаете? — вдруг выкрикнула она и, опустившись на мокрую скамью, заплакала. — Я никогда вам не поверю, никогда, слышите! Уходите! Вы злой человек, и я никогда вам не поверю. Стойте, куда же вы? Идемте, идемте! Нет, нет, вы пойдете со мной!
Таща за собой слабо упиравшегося Павла, Лена почти бегом поднялась по лестнице на второй этаж. К счастью, следующий урок уже начался, и в учительской за письменным столом сидела одна Рябова.
— Анна Никитична! — бросилась к ней Лена. — Вы подруга Ольги Петровны! Вы все хорошо знаете… Вот он… он сказал страшную вещь… Он сказал, что Славик сын Виктора… Скажите ему, что это неправда! Вы ведь все знаете!
Рябова все поняла с полуслова. Она догадалась обо всем, едва лишь увидела взгляд Лены, устремленный на нее с такой отчаянной надеждой, что она испугалась. Она знала, что рано или поздно это должно было случиться. Она опасалась, что оно могло произойти вчера, и потому пошла незваной на вечер к Кочетыговым.
— Как тебе не стыдно! — грозно поднялась она над столом. — Как тебе не стыдно! — повторила она, приближаясь к Павлу и стараясь за суровостью тона скрыть свою растерянность. — О, да ты пьян, и поэтому болтаешь несуразицу!
— Я сказал правду! — упрямо мотнул головой Павел.
— Анна Никитична, скажите вы! Прошу вас! — Лена трогала директора за руку, заглядывала ей в глаза, которыми та гневно буравила угрюмо молчавшего Павла.
— Елена Сергеевна, успокойтесь! — Рябова даже не обернулась к Лене. — Кому нужна твоя правда! Ты думаешь, что говоришь и зачем это делаешь? Думаешь или нет? — выкрикнула она, как будто перед ней стоял не взрослый, так много повидавший в жизни человек, а нашкодивший ученик. — Отправляйся сейчас же домой! Немедленно, слышишь! И выбрось всю эту ерунду из головы! Идем! Елена Сергеевна, вы подождите меня! Я провожу его, а то он один и до дому не доберется… Надо же так нализаться! Я просто не узнаю тебя, Павел!
4
Дверь за ними плотно захлопнулась. Лена так и осталась стоять посреди комнаты. Она ничего не понимала… Почему Анна Никитична не расхохоталась Павлу в лицо? Почему она не высмеяла его нелепых предположений? Ведь Рябова так остро и язвительно умеет это делать. Почему она поторопилась увести Павла из учительской? Неужели?..
И Лена вдруг поняла, что это, конечно же, правда. Торопливо одеваясь, она уже и верила и боялась поверить до конца, искала каких–то убедительных доводов и тут же настраивала себя на противоположное.
Она не помнила, как добежала до конторы лесопункта. В темном коридоре остановилась, почувствовав такое сердцебиение, что едва нашла в себе силы открыть тяжелую дверь.
Виктора в конторе не было. Если бы там не оказалось и Тихона Захаровича, Лена поехала бы на делянки, обязательно разыскала бы мужа. Но делать этого ей не потребовалось. Орлиев сидел в своем кабинете, он, конечно, знает все, и ему Лена верила.
Она имела возможность успокоиться, обдумать предстоящий разговор, так как Тихон Захарович долго говорил по телефону, потом бухгалтер принес на подпись целую кипу бумаг. Когда, наконец, Орлиев поднял на нее малоприветливый взгляд, Лена, собрав все свое мужество, прямо спросила: правда ли, что Виктор является отцом Славика Рантуева?
— Кто тебе сказал? — Седые брови Тихона Захаровича дрогнули и полезли вверх. Его удивление так обнадежило Лену, что она радостно ответила:
— Павел. Он пришел пьяный, злой какой–то…
Орлиев, упершись взглядом в стол, молчал. Каждая секунда казалась Лене вечностью.
— Прошу вас, скажите только правду! — не выдержала она. — Вы понимаете, как это важно для меня?!
В третий раз, едва уже не плача, она повторила свой вопрос, и Тихон Захарович, как бы подводя итог своим раздумьям, резко сказал:
— В таких делах я вам не судья. Разбирайтесь сами…
Теперь сомнений не оставалось. Лена поднялась и медленно, ни слова не говоря, вышла.
Когда через час Рябова вернулась в учительскую, она нашла на своем столе записку:
«Дорогая и милая Анна Никитична! Я так благодарна Вам за все–все… Извините, что не дождалась Вас — я плохо себя чувствую… На всякий случай оставляю рабочие планы уроков и прошу заменить меня, если я заболею всерьез. Еще раз большое Вам спасибо
Е. С.»
Глава пятая
1
На заседание партийного бюро приехали Гурышев и Потапов.
Виктор пришел в контору прямо из лесу. Увидев стоявший на обочине дороги леспромхозовский «газик», он подумал, что сегодня должно произойти что–то важное, и это ощущение не покидало его весь вечер.
Гурышев, пожимая Виктору руку, вполголоса спросил:
— Я слышал, Кочетыгов вернулся?
— Да.
— Обязательно познакомь меня с ним, хорошо?
Заседание было открытым, и к семи часам в комнате бухгалтерии мест уже не хватало. Пришли не только коммунисты, но и беспартийные. И как всегда у самых дверей робко прятался за спинами впереди сидящих молчавший до поры до времени дядя Саня.
Рябова как–то особенно приветливо поздоровалась с Виктором.
— Вы были дома? Как самочувствие Елены Сергеевны?
— Разве с ней что–то случилось? — встревоженно спросил Виктор.
— Нет, нет… Простудилась, наверное… Вы не видели ее?
— Я не заходил домой…
Когда пришла Рантуева, Анна Никитична взяла ее под руку, увела из комнаты, и они возвратились к самому началу заседания. Рябова села к столу, чтобы вести протокол.
Члены партбюро тесным полукругом расположились возле стола, за которым нервничал празднично одетый, причесанный и побритый Мошников. Орлиев устроился чуть в отдалении, в правом переднем углу, прислонившись плечом к тяжелому шкафу, набитому бухгалтерскими папками.
Мошников, то и дело вытирая потное лицо, открыл заседание, объявил повестку дня и хотел уже предоставить слово докладчику, когда председатель рабочкома Сугреев, сидевший рядом с ним, удивленно спросил:
— Разве приема в партию не будет? Я слышал, у Курганова все документы оформлены.
Мошников замялся, посмотрел на Виктора, потом на Орлиева, зачем–то поворошил лежащие перед собой бумаги и сказал:
— Коммунист Орлиев взял назад свою рекомендацию, которую он дал Курганову.
— Как так?! Вот это новость! — воскликнул Сугреев, поворачиваясь к невозмутимо молчавшему Орлиеву.
«Начинается», — подумал Виктор. Сообщение Мошникова почти не удивило его. В последние дни он предчувствовал, что это могло случиться, и даже сам хотел объясниться с Орлиевым, но как–то не собрался. Обидно лишь то, что ни Тихон Захарович, ни Мошников не предупредили его.
В комнате нарастал тревожный шум. Случай был настолько необычным, что даже Гурышев посмотрел на Орлиева таким взглядом, словно видел его впервые.
— Я скажу об этом в докладе, — спокойно кивнул Орлиев.
Он дождался, пока Мошников официально предоставит ему слово для доклада, выдвинул вперед себя стул, неторопливо вынул из кармана несколько листков бумаги и начал говорить.
Да, Орлиев умел завладеть аудиторией. Он не блистал красноречием. Даже наоборот, говорил слишком отрывисто, как бы с трудом подбирая слова. Вначале казалось, что и слушать–то его не будут, — так сухо и казенно он начал доклад. И все же его слушали. В его устах каждое, даже набившее слух слово звучало настолько весомо, голос был таким властным и уверенным, паузы так многозначительны, что все, сказанное им, приобретало какой–то особый смысл, над которым люди невольно задумывались. Понять этот скрытый смысл они не успевали, так как следовали новые фразы, новые паузы, новые цифры, которые, в свою очередь, хотя и были знакомы, по опять казались исполненными глубокого значения.
Даже Виктор, заранее предполагавший, что скажет начальник, был захвачен этой безостановочной сменой тяжелых, как удар молота, фраз и не менее выразительных пауз.
Орлиев не скрывал тяжелого положения, сложившегося на лесопункте. Пожалуй, он даже усугублял его в своей речи, рисуя все в таких красках, как будто все стоит на краю катастрофы и пришла пора осознать опасность.
Зачем он делал это, Виктор понял лишь потом, когда Орлиев, проанализировав работу всех участков, стал объяснять, почему лесопункт провалил план не только второго, но и третьего квартала.
— Итого: мы задолжали государству пять тысяч кубометров древесины. Из них три с половиной тысячи деловой… Откуда взялся этот долг? Из чего сложился? С первого сентября мы перевели участок Рантуевой в семидесятый квартал. Потеряли три дня. Три дня по сто шестьдесят кубометров — почти полтысячи.
— Но участок Рантуевой дал в сентябре больше тысячи кубометров сверх плана, — выкрикнул Виктор и замолк, заметив успокаивающий жест Гурышева.
— Мы создали дорожно–строительный участок, — продолжал Орлиев, даже не посмотрев на Курганова. — Хорошее дело. Даже, я бы сказал, слишком роскошное в наших условиях. Отвлекли с основного производства сорок человек. Ликвидировали для этого целый участок, который мог давать по полтораста кубометров в день.
— Мог, но никогда не давал, — заметил вполголоса Сугреев.
— Потому и не давал, что не мог, — громко возразила ему Рантуева. — Разве мыслимо было работать на таких дорогах? Правда, Олави Нестерович?
— Товарищи, прошу соблюдать тишину, — сверкнул очками сосредоточенный Мошников.
— Двадцать шесть рабочих дней по полтораста кубометров — это сколько? — Орлиев поискал глазами плановика и, найдя его, сам же ответил: — Три тысячи девятьсот кубометров. Вот он где скрывается, наш долг. Вот во что обошлось нам создание дорожно–строительного участка!
— Теперь мы имеем дороги, и половина лесовозов не стоит в ремонте, — проворчал Сугреев и, в ответ на укоряющий взгляд Мошникова, рассердился: — Да что у нас, в конце концов, слова сказать нельзя, что ли? Чего болтать зря? До сентября мы работали тремя участками, а что было? Этот самый долг равнялся почти шести тысячам… Или не так?
Но Орлиева непросто было сбить с мысли. Он выждал тишины и продолжал размеренно, спокойно, как будто все выкрики лишь подтверждали его правоту:
— Нас губит прожектерство. За последние полтора месяца оно так захлестнуло нас, что мы уже не можем нормально работать. Нам мешает прожектерский зуд. Что такое — сосредоточить как можно больше техники и рабочей силы на участке Рантуевой? По существу это скрытая тенденция ликвидировать еще один участок. Об этом не говорят, по это так. Вместо того чтобы наладить работу обоих участков, наладить социалистическое соревнование, мы ищем легких путей. Мы выдумываем, строим прожекты… Надо разобраться, о чем думают эти люди? О чем они заботятся? О пользе дела или о чем–то другом? Не ищут ли некоторые легкой славы? А может, их прожекты и планы рождены совсем другим? Может, им вообще не нравятся наша жизнь и наши порядки?..
— Не слишком ли круто поворачиваешь, Тихон Захарович, — покачал головой все время молчавший Потапов.
— Имею основания! — Орлиев взмахнул кулаком, как бы накрепко вбивая свои слова. — Я хорошо знаю корреспондента Чадова. Он служил в моем отряде… В последние полгода он все явственнее показывает себя как отпетый нигилист… Есть такое слово. Это который все отрицает, которому все не по нутру… Раньше я считал, что Чадов одинок. Теперь, к сожалению, и в Войттозере нашлись люди, которые идут за ним, это уже опасно, товарищи! Они спелись и поддерживают друг друга.
— Кого ты имеешь в виду? — спросил Сугреев. — Говори конкретно!
— Тот знает, о ком я говорю, — многозначительно ответил Орлиев и, помолчав, продолжал: — Имеет ли возможность наш лесопункт выйти из прорыва? Да, имеет. Что нужно для этого? И многое, и малое. Во–первых, мы должны раз и навсегда покончить с прожектерством. Надо работать, товарищи! Трудиться надо, а не фантазировать! Во–вторых, мы должны добиться того, чтоб каждый участок, каждая бригада ежедневно выполняли задание. В–третьих, развернуть соревнование, помогать друг другу, подтягивать отстающих и наращивать темпы! Мы знаем лозунг партии — кадры решают все. Если люди горят желанием, то можно сделать даже невозможное. Долг каждого коммуниста — разжечь такое желание. Не искать легких путей, не ссылаться на трудности, а поднять людей на выполнение плана.
Орлиев требовательно оглядел присутствующих, как бы собираясь продолжать, потом вдруг резко сказал: «Все!» — и уселся на свое место. Несколько секунд в комнате стояла выжидательная тишина.
— Есть вопросы к докладчику? — поднялся Мошников.
— Орлиев обещал объяснить историю с рекомендацией, — напомнил Сугреев.
— Разве ты ничего не понял? — пожал плечами Орлиев. — По–моему, каждый понял, почему я не могу рекомендовать Курганова в кандидаты партии.
— В таких делах надо бы говорить определенней. Ты мог не давать человеку рекомендацию. Отказать, и все. Ты имеешь на это право! И ни у кого вопросов не было бы. Но уж коль ты дал, то объясни толком, почему сейчас забрал ее обратно. Вероятно, у тебя есть какие–то причины, которых не было раньше.
— Товарищи! Стоит ли нам уводить партбюро в сторону от основного вопроса повестки дня? — Мошников нерешительно посмотрел на Гурышева, но тот сделал вид, что не замечает его взгляда. — Вопрос у нас важный, и надо сосредоточить все внимание на нем…
— Стоит! — Сугреев так резко поднялся, что едва не упал, зацепившись протезом за соседний стул. — Разрешите мне сказать!.. Я буду говорить без намеков — так, как думаю. Мы собрались, чтоб обсудить производственные дела. Что послужило поводом для этого? Конечно, тяжелое положение с выполнением плана… Но ведь дела в последний месяц пошли вроде бы на лад… Смотрите–ка, участок Рантуевой даже перевыполнил сентябрьский план! Панкрашов тоже нет–нет да и дотягивает до суточного графика… С марта мы не имели такой выработки… Тут бы радоваться надо, подналечь подружней всеми силами, а у нас не получается. Идет какой–то раздор у руководства лесопунктом. И в этом все дело! Если один говорит: «да», другой обязательно «нет»… Как в песне, помните? Почему Орлиев сегодня высказался чуть ли не против дорожно–строительного участка? Против перехода в семидесятый квартал? Почему он, как только увидит лесовоз или трактор на профилактике, краснеет от злости? Потому, что все это предложено Кургановым… Это замечаю не один я, все видят и чувствуют. А в чем тут дело, я лично ничего не понимаю… Я считаю, если мы хотим сегодня разобраться в производственных неурядицах, то должны начинать с отношений между Орлиевым и Кургановым… Пока между начальником и техноруком не будет согласия, хорошего ничего не будет! С этого и надо начинать. Поэтому, мне кажется, история с рекомендацией — вопрос принципиальный…
— Видно, персональные дела тебя интересуют больше производственных, — язвительно вставил Орлиев.
— А тебе что, говорить об этом не хочется? — обернулся к нему Сугреев. — Ты тут такие намеки сделал, что на месте Курганова я потребовал бы партийного разбирательства.
Собрание вновь заволновалось.
— Товарищи, призываю к порядку… — постучал о графин Мошников. — Я думаю, на таком широком заседании нам нет смысла сводить важный вопрос к обсуждению личных взаимоотношений.
Он опять покосился на Гурышева, и тот на этот раз не уклонился от его взгляда, кивком головы попросил слова.
— Я согласен с товарищем Сугреевым, — сказал он, глядя на сразу смолкших людей. — Если между начальником и техноруком есть разногласия…
— Есть! — выкрикнуло сразу несколько человек.
— …Если эти разногласия, — продолжал Гурышев, — мешают производству, а они, конечно, не могут не мешать, то долг партбюро прежде всего разобраться в них… Я думаю, и сам Тихон Захарович не против того, чтоб внести ясность в этот вопрос… Дело тут, конечно, не только в рекомендации. Каждый коммунист имеет право давать или не давать рекомендацию. Это дело его совести и партийной убежденности… Если он взял назад рекомендацию, имея на то веские основания, мы должны лишь поблагодарить его за принципиальность.
— Имею вопрос, — вскочил дядя Саня и, не ожидая разрешения, возмущенно закричал: — Вопрос такого содержания! Какая ж принципиальность тут — давать, а потом брать назад? Что ж тогда беспринципность?
— Сейчас нам Тихон Захарович все объяснит, — улыбнулся Гурышев.
— Что ж, я готов…
В напряженной тишине Орлиев вышел на место, где стоял во время доклада. Члены партбюро потеснились, подвинулись в сторону, чтобы все могли хорошо видеть начальника лесопункта.
— Только слово «объяснять» тут не подходит… Объяснять — вроде оправдываться. Мне оправдываться не в чем. Я должен не оправдываться, а обвинять.
Тихон Захарович задумался и вдруг решительно вскинул голову.
— Прежде всего, почему я дал рекомендацию Курганову? Не только дал, а даже сам предложил ему, когда тот приехал к нам в Войттозеро… Два года Курганов служил в моем отряде минером. Он был неплохим бойцом… По крайней мере, я не знал в то время за ним ни одного проступка или случая, когда бы он не выполнил задания… Он награжден орденом Красного Знамени. После войны человек закончил школу, потом академию и добровольно попросился сюда, к нам… Я был так рад ему, что на меня в райком даже поступила жалоба, как будто я чуть ли не по знакомству устроил Курганова… Было ведь такое заявление, Петр Иваныч? — наклонился Орлиев к Гурышеву.
— Что об этом говорить сейчас? — махнул рукой тот.
Мошников неожиданно вскочил, поправил очки и, вытянувшись как на параде, объявил:
— Товарищи! Считаю нужным информировать партбюро, что это самое письмо по своей несознательности и без моего ведома написала моя жена… Сделано это было с чисто обывательской точки зрения… Я имел с ней серьезный разговор…
— Ты с ней или она с тобой? — под общий смех выкрикнул кто–то.
Орлиев даже не улыбнулся, его лицо еще больше побагровело, Выждав, когда наступит тишина, он продолжал:
— С первых же дней Курганов энергично взялся за дело. Он действительно показал себя знающим специалистом… Имел я основания считать такого парня достойным кандидатом в члены партии? Имел я право предложить ему рекомендацию?
— Пока ты все же объясняешь, а не обвиняешь! — засмеялся Сугреев.
— Ты, Сугреев, меня не перебивай! В последнее время, я замечаю, ты себе слишком многое позволяешь! Как видно, дешевый авторитет зарабатываешь!
— Прошу не мешать выступающему, — сказал Мошников и, подумав, постучал в графин, хотя в комнате стояла такая тишина, что все слышали сбивчивое дыхание Орлиева.
— Почему я взял рекомендацию обратно?.. Это я сделал сегодня, хотя сомнения зародились у меня давно… За последние недели я узнал Курганова, я увидел его как бы с другой стороны. Я увидел, что этот человек начисто лишен качеств, необходимых коммунисту.
— Интересно, какие качества он имеет в виду? — шепотом спросила Рябова, наклонившись к Ольге, сидевшей через человека от нее.
Орлиев услышал ее вопрос и повысил голос:
— …Качеств, предъявляемых коммунисту новым уставом нашей партии. За эти полтора месяца Курганов наворотил здесь уйму проектов, планов, предложений… Он готов их предлагать чуть ли не каждый день… Еще неизвестно, когда вступит в строй железная дорога, строящаяся по Заселью, а он уже всерьез носится с планом перевода лесопункта на вывозку леса туда… Он, видите ли, уже чуть ли не готовит проект механизированной биржи. И это в то время, когда лесопункт находится в прорыве. Кто он — технорук или инженер–проектировщик? Зачем это ему нужно? Вы думаете, он заботится о делах лесопункта? Нет, он прежде всего думает о своей славе, о своей карьере. Он знает, что в нашей стране инициаторов замечают, их награждают, о них пишут в газетах… Вот он и добивается почета и известности…
— Это ложь! — вскочил Виктор и, почувствовав на себе взгляды всех собравшихся, тихо, с болью в голосе, спросил: — Зачем вы говорите неправду? Вы же знаете, что все это не так!
— Ты, Курганов, выслушай! — остановил его Орлиев медленным движением руки. — Тебе дадут слово, если захочешь… Курганов — умный человек. Но его ум — это не частица коллективного разума, а ум индивидуалиста, противопоставляющего себя коллективу. Смотрите, дескать, вот я какой! Я один понимаю больше, чем вы все вместе взятые… Вот я приехал и все могу сделать… Это мораль типичного карьериста! Я не случайно сказал в докладе о Чадове… Курганов и Чадов — друзья. Очерки в газете — замаскированное стремление не только свести личные счеты со мной, но и прославить Курганова.
— У тебя все? — хмуро прервал Гурышев.
— Разве этого мало?
— Я думаю, даже слишком много. — Гурышев достал блокнот, придвинулся поближе к столу.
— Нет, товарищи, у меня не все! — Орлиев перевел дыхание, помолчал и начал говорить, вновь тихо и доверительно: — Я не хотел ворошить прошлое. Но я вижу на лицах некоторых сидящих здесь недоверчивую усмешку. И скажу о прошлом. Всего один факт.
Виктор сразу догадался, о чем будет говорить Орлиев. Теперь это уже не могло ни удивить, ни причинить ему большой боли. Особенно сейчас, когда все прояснилось и встало на свои места. И все же ему очень хотелось, чтоб Тихон Захарович удержался, не употребил во зло то, что было рассказано ему самим Виктором с самыми чистыми и добрыми побуждениями.
Виктор не ошибся. Орлиев рассказал о разведке к острову, расценив поведение Виктора как нарушение приказа и обвинив его в легкомыслии, граничащем с трусостью.
— Ты забыл сказать, что Курганов был ранен, — напомнил Гурышев. — Несмотря на рану, он сделал проход в минном поле… Было так или нет?
— Кто в боевой обстановке считается с ранением? — воскликнул Орлиев. — Тогда гибель грозила всему отряду.
— Ты и сейчас считаешь, что они должны были идти к острову вдвоем? — Гурышев через плечо в упор посмотрел на Орлиева.
— А как же еще? Им приказано было идти вдвоем.
— Зачем?
— Хотя бы затем, чтобы не случилось того, что произошло с Кочетыговым… Только по вине Курганова Кочетыгов попал в плен.
— Что мог сделать Курганов? Допустим, что он тоже пошел бы к острову и уцелел под шквальным пулеметным огнем у самого берега… Разве он мог вынести товарища?
— Обороняться, защищаться до последнего… — Орлиев на секунду замешкался, потом снова заговорил убежденно и требовательно. — В конце концов у двоих всегда больше возможности не сдаться живыми в плен…
— Ясно. Ты будешь еще говорить?
— Хватит, товарищи! — запротестовал Сугреев, давно уже ждавший возможности выступить. — Чего мы будем копаться в прошлом? Еще Курганова надо послушать!
2
Мошников, после своего вызвавшего смех объяснения по поводу письма, совсем перестал руководить заседанием. Он лишь растерянно и молча поглядывал на каждого, кто начинал говорить. Почувствовав, как взоры людей один за другим сошлись на нем, Виктор понял, что ему предоставляют слово. Он медленно поднялся, выдвинул, как и Орлиев, вперед свой стул и, держась за спинку, долго молчал, стараясь собраться с мыслями. Если бы Орлиев не завел разговор о разведке, он знал бы, как держать себя, что ответить на те ничем не обоснованные обвинения. На них ответить легко. Там все строилось на нелепых подозрениях. А здесь?
— Отвечай, Курганов! Чего молчишь! — недовольно поторопил его Сугреев, как видно не понимавший, почему так растерянно держится технорук.
— Спокойно, товарищи! — остановил его Гурышев и, обратившись к Курганову, спросил: — Ты будешь говорить?
— Буду. — Виктор поднял голову, медленным взглядом обвел людей, смотревших на него с сочувствием и удивлением. — То, что сказал сейчас Тихон Захарович, правда…
— Какая правда? — вскричал Сугреев. — Что ты говоришь?
Виктор посмотрел на него и тихо продолжал:
— Да, правда… Правда, что к острову пошел один Кочетыгов… Правда, что мы тянули жребий… Я не хочу оправдываться… Вероятно, мы не имели права делать это. Но сделали мы это не из трусости и не из озорства… Кочетыгов теперь может рассказать, почему мы так поступили. Не мы, конечно… Он, Павел… Я только потом все понял, когда уже финны открыли огонь. Я виноват, что сразу не доложил обо всем командиру. Но после того, как я увидел те две спички, я не мог поступить иначе. Павел намеренно спасал мне жизнь… Мог ли я нарушить его наказ?!
— А не объяснишь ли ты, Курганов, зачем это он сделал? — спросил Орлиев.
— Я ведь рассказывал вам, Тихон Захарович…
— Теперь расскажи людям… Ты бьешь на откровенность. Будь откровенным до конца!
— Хорошо, — побледнев, ответил Виктор. — Я буду… Мы оба любили одну девушку…
— Какую? — громко и холодно спросил Орлиев. Он даже не взглянул на Ольгу, но по какому–то едва уловимому движению его лица Виктор понял, что Орлиев держит ее в поле зрения.
— Тихон Захарович, зачем это? — попробовала урезонить начальника Рябова, но ее вопрос лишь подлил масла в огонь.
— Я вижу, здесь у Курганова слишком много защитников! Многих, видать, подкупила его откровенность. Пусть–ка тогда он будет откровенным до конца… Пусть расскажет, как он обманул ту самую девушку. Да–да, ту самую, ради которой спас ему жизнь Кочетыгов! Обмануть командира — этот наказ Кочетыгова ты выполнил! Почему же ты не выполнил другой его наказ? Что? Молчишь? Сказать нечего, да? Рантуева! — Орлиев даже не повернул головы в сторону Оли, лишь указал на нее пальцем. — Скажи нам, чьего ребенка ты воспитываешь?
Оля на какой–то миг растерялась. Она быстро оглянулась на побледневшую Рябову и вдруг, как бы обретя себя, громко, беззаботно ответила:
— Своего, конечно…
— Я тоже думаю, не бабушкиного! — посмотрел на нее Орлиев. — Ты, Рантуева, коммунистка! Скажи партийному бюро и всем собравшимся, кто отец твоего ребенка? Не этот ли человек, который сам боится признаться? Ты, Рантуева, честный человек. Так встань и скажи!
— Я не понимаю, что тут у нас происходит? — Рябова в негодовании бросила на стол карандаш. — Мошников, ты будешь вести заседание или нет? Тихон Захарович — прекратите! Это же кощунство!
— Товарищи, товарищи! — спохватился Мошников, неизвестно к кому обращаясь. — Давайте по порядку!
— Нет уж, разрешите! — Рантуева встала, вышла к столу. — Такие вопросы не могут оставаться без ответа. — Долгим взглядом она посмотрела прямо в глаза Орлиеву. — Вы хотите, чтоб я ответила? Отвечаю. Да, мы дружили с Кургановым. Да, мы когда–то любили друг друга… Но Курганов никогда не был отцом моего ребенка. Вы довольны?
— Ты лжешь! — выкрикнул Орлиев.
— Конечно, вы знаете это лучше меня, — с иронией подтвердила Оля. — Вы все знаете! Вы всегда так убеждены в своей правоте, что вам ничего не стоит очернить человека, испортить ему жизнь… Человек для вас ничего не стоит… Помните, в ту ночь вы даже и не подумали о тех, кого оставили прикрывать отход отряда! И теперь человек для вас — это списочная единица… Как трактор или лесовоз… Вы цените его, пока он послушно исполняет вашу волю. А чуть он выходит из повиновения… нет, даже не выходит, а едва начинает иметь свое мнение, вы стараетесь подавить его, смешать с грязью, чтоб другим неповадно было… Я не хочу вспоминать прошлое. Незачем. Но таким вы были всегда. Вы же лучше других знаете, что Курганов честный человек. Он много работает, он сделал так много полезного. Почему же вы ненавидите его? Вы даже обвиняете его в том, в чем, может быть, виноваты прежде всего сами… По–моему, вы делаете это потому, что Курганов прав и вы боитесь его. Нет, не самого Курганова, а его авторитета. Курганов хороший специалист, он не страшится идти против вашего мнения. Его за это начинают уважать на лесопункте. А вы разве можете допустить такое? Разве можете вы кому–нибудь уступить хоть частицу вашей власти? Нет! Хотя, по–моему, кроме вашего прежнего командирского авторитета, у вас ничего за душой не осталось.
— Не тебе судить об этом! — Орлиев весь кипел от гнева, с трудом сдерживаясь и багровея все гуще и гуще.
— Конечно, не мне… Кто я? Я для вас такая же списочная единица, как и большинство здесь сидящих… Вам в судьи мы не годимся. Наше дело — судить таких, как Курганов. Даже не судить, а осуждать по вашему требованию. Вам, конечно, этого хочется. Товарищи, я знаю Курганова. Наверное, знаю его лучше других. Два года мы служили в одном отделении, ели из одного котелка… Он, Павел Кочетыгов и я…
— Потому–то ты так и необъективна! — воспользовавшись паузой, нервно засмеялся Орлиев.
— У меня больше вашего нашлось бы оснований в чем–то обвинять Курганова. Но наши личные с ним отношения никакого значения сейчас не имеют… За последние два месяца я узнала его еще лучше и скажу одно! Если меня спросят, могу ли я, как коммунистка, дать рекомендацию Курганову для вступления в кандидаты партии, я отвечу: да, могу. И я дам ее, если Курганов попросит.
— Молодец, Оля! — восторженно кивнула ей Рябова.
Наконец–то дождался своего Сугреев. Рантуева еще не успела сесть, а он уже навис над столом, стремительно водя по лицам присутствующих пылким взволнованным взглядом.
— Садись, Курганов! Чего стоишь? — приказал он Виктору, который, сам не замечая того, все еще стоял, держась за спинку стула.
— Я хочу сказать, объяснить вам, товарищи… Ответить на обвинения Тихона Захаровича, — попробовал возразить Виктор, но Сугреев решительным жестом остановил его:
— Погоди. Дай другим сказать. Садись и послушай… Товарищи! Я собирался говорить о многом. Но теперь, после выступления Рантуевой, говорить долго не буду. Я полностью согласен с ней. Очень хорошо, что у нас сегодня присутствуют секретарь райкома партии и директор леспромхоза. Я полагаю, что в жизни нашей парторганизации это заседание будет переломным. Чем мы занимались раньше? Собирались, обсуждали, принимали решения. Внешне все вроде бы и хорошо. А по существу разве мы использовали предоставленное нам право контроля за хозяйственной деятельностью? Был ли нам подотчетен начальник лесопункта? Нет. Надо сказать прямо, он подмял под себя такого слабовольного человека, как Мошников, и стоял по существу вне критики! И вот результат. Ведь ясно, что у нас неправильно использовались лесосеки, было плохо с дорожным строительством и с отношением к технике. А Орлиев даже сегодня с цифрами в руках пытался все повернуть на прежние рельсы. А то, что он хотел сегодня проделать с Кургановым, это попросту гнусно и недостойно! Он давно понял, что многие поддерживают предложения Курганова, и пошел в атаку. И не просто пошел, а с применением запрещенных, как говорят боксеры, приемов… Как ты, товарищ Орлиев, мог докатиться до этого?
После Сугреева желающих выступить оказалось так много, что пришлось установить регламент — десять минут. Критика, вероятно, подействовала и на Мошникова. Он начал активнее руководить заседанием, слово предоставлял по очереди, не позволял прерывать ораторов вопросами и репликами.
Один за другим поднимались люди, и никто не защищал Орлиева, никто не поддержал его. Даже никогда не выступавшая на собраниях Валя Шумилова попросила слова и, чуть ли не со слезами на глазах, растерянно произнесла всего две фразы:
— Зачем же вы так, Тихон Захарович?! Это ж несправедливо… совсем несправедливо.
Потапов выступать не стал. Лишь в порядке справки, перед выступлением Гурышева, он сообщил, что леспромхозу дано задание поставить до конца года двадцать тысяч кубометров отборного пиловочника для строительства лесозавода в Заселье и что это задание целиком падает на Войттозеро.
— Так что, мне кажется, — он посмотрел на Орлиева, — в Войттозере не зря подумывали о переводе нижней биржи в Заселье.
— Слово имеет товарищ Петр Иванович Гурышев, — наконец объявил Мошников.
С одинаковым нетерпением, но по–разному ожидали Орлиев и Курганов выступления секретаря райкома партии.
Внешне Тихон Захарович был спокоен. Привалившись плечом к шкафу, сидел он, молчащий и неприступный, уже ни словом, ни выражением лица не выдавая своих чувств. Виктор, наоборот, смущенно ерзал и чувствовал себя неловко, словно критиковали и упрекали не Орлиева, а его…
Гурышев начал спокойно, как будто не было до него ни горячих выступлений, ни тяжких взаимных обвинений.
— Признаюсь, товарищи, что я ехал на это заседание с тревожным настроением. Правда, в сравнении с другими месяцами в сентябре вы поработали неплохо. Месячный план перевыполнили, дороги наладили. Но пять тысяч кубометров долгу! Честно скажу, не верилось, что до конца года вы сможете покрыть его! Особенно после доклада Тихона Захаровича… Непосредственно о производственных делах вы сегодня говорили мало. Однако теперь я думаю, что это заседание скажется на делах лесопункта значительно глубже, чем можно было поначалу ожидать. Почему я так считаю? Во–первых, потому что у коммунистов и у всех присутствующих есть единый и правильный взгляд на положение дел на лесопункте. Надо сказать, что в последние годы у нас в лесной промышленности не было недостатка в разного рода начинаниях. Вспомним хотя бы соревнование за сохранность механизмов, увлечение часовым графиком, или почти ежегодные изменения структуры бригад, участков… Лесную промышленность попросту лихорадило от обилия начинаний и инициатив, а положение не выправлялось. Почему? Потому, что не было сделано главного. Не был налажен правильный, наиболее рациональный технологический процесс, с учетом конкретной обстановки. Ведь каждый лесопункт и участок имеют свои особые условия работы. Они зависят не только от погоды, но и от природных условий. Разве можно не учитывать их? Действительно, это походило на прожектерство. Не устранив очевидных нарушений в организации технологического процесса, не сделав самого необходимого, мы хотели выправить дела при помощи массовых движений — соревнования за сохранность механизмов или введения часового графика. На какой–то очень короткий срок это иногда удавалось. Но затем лесопункт или леспромхоз попадал в еще более тяжелое положение. Так действительно было, Тихон Захарович… Правы вы и в том, что центральная наша печать осудила подобное прожектерство. Добавлю, что она обратила внимание на необходимость четкой, технологически обоснованной организации труда. Однако то, на чем настаивает Курганов и что так энергично поддерживают коммунисты лесопункта, не прожектерство. Это даже не какое–то новое начинание, а всего–навсего исправление нарушений в использовании лесосечного фонда, в отношении к дорожному строительству, к механизмам. Хорошо, товарищи, что вы начали это дело и так решительно настаиваете на его завершении. Появляется уверенность, что войттозерцы справятся с выполнением годового плана. И сделают это не при помощи спасительной рубки леса в прибрежных зонах, как еще нередко бывает, а путем умной и правильной организации всего технологического процесса на основных делянках.
Во–вторых, сегодня на партбюро разговор шел о главном. О человеке, о людях, о их взаимоотношениях… Говорилось, в основном, о двоих. Но говорилось так, что во всю остроту встали вопросы о методах руководства, об отношениях руководителя и коллектива… Сейчас я не буду говорить о Курганове. У нас с ним была долгая и, я считаю, полезная беседа. У Курганова есть свои недостатки. При всей его откровенности, он слишком многое переживает в себе, словно боится, что люди не поймут его или поймут неправильно. За свои ошибки в прошлом он заплатил такой дорогой ценой, что меня искренне порадовало доверие и доброе к нему отношение со стороны товарищей. По–моему, такого человека, как Курганов, доверие окрылит еще больше… Скажу о Тихоне Захаровиче Орлиеве. Нелегко говорить такое об одном из старейших коммунистов района, о человеке, которого люди привыкли уважать за его немалые заслуги во время войны и в предвоенные годы. Но коммунисты сегодня поступили правильно. Я полностью поддерживаю их!.. Тихон Захарович! Читаешь ли ты газеты? Слушаешь ли ты радио? Знакомят ли тебя, как члена райкома, с партийными документами последних месяцев?..
— Ты что, экзаменовать меня думаешь? — спросил Орлиев, горько усмехнувшись.
— Экзамен–то был уже! — с сожалением покачал головой Гурышев. — И ты его не выдержал, вот в чем беда… Почему же ты не хочешь понять, чем сейчас живет партия? В последние полгода произошли огромные события, а ты живешь как за глухой стеной. Партия своими решениями еще раз подчеркнула, что забота о человеке, о благе людей — для нее высший закон. А для тебя даже такого понятия, как человек, не существует. Если и существует, то абстрактно… Словно люди, тебя окружающие, не подпадают под это понятие. Ты любишь повторять слово «коммунизм». Разве мы строим коммунизм не ради людей? Разве жить в нем будут не те конкретные люди, которые окружают тебя?
— Коммунизм надо еще сначала построить, а потом думать, кто в нем жить будет, — мрачно перебил Орлиев.
— Вот в этом, пожалуй, твоя коренная ошибка! В твоем представлении коммунизм — как бы огороженный высоким забором пансионат, куда в один прекрасный день будут распахнуты двери — пожалуйста, входите! А ведь не будет такого! Не будет и высокого забора, потому что коммунизм строится не для избранных. Не будет и пансионата, потому что только труд, ставший естественной потребностью для каждого человека, сделает коммунизм возможным. Не будет и конкретного дня, так как коммунизм нельзя объявить. Он будет постепенно складываться из множества каждодневно рождающихся черточек нового не только в экономике, но и в сознании людей. Нельзя сделать человека сознательным при помощи окрика или приказа! Только убеждение, только внимание и забота способны воспитывать людей! Коммунизм — самая человечная и справедливая формация на земле, и строиться она должна самыми человечными методами. Кто не понимает этого, тот не может в настоящее время руководить людьми. Тот попросту отстал от жизни! Как ни больно, но с тобой, Тихон Захарович, произошло именно это! В этом и твоя личная трагедия, и большая вина всех нас… О Мошникове я говорить сейчас не буду. Скоро у вас отчетно–выборное собрание, и, мне кажется, коммунисты скажут свое слово о работе партбюро и его секретаря… Я слышал, отчетный доклад у вас уже два месяца назад готов был? — повернулся Гурышев к Мошникову.
— Готов, готов, — радостно закивал тот, не замечая легкой иронии в тоне секретаря райкома.
— Рановато, — покачал головой Гурышев. — Так поторопились, что теперь новый писать, наверное, надо?
— Он просто цифры свежие подставит, и все! — с насмешкой сказал Сугреев. — У Мошникова третий год подряд одно и то же слушаем!
— Нет! — твердо сказал Гурышев и вдруг как–то сразу помрачнел. — Подстановкой цифр теперь уже нельзя отделаться. Прошли те времена! А в том, что так бывало раньше, есть и ваша вина, товарищ Сугреев! Вы ведь не посторонний человек, а член партбюро! И судить коммунисты будут не только Мошникова, а и вас, всех пятерых… Поэтому предлагаю записать в решении, что проект отчетного доклада партбюро подготовить не одному Мошникову, а совместно с Сугреевым.
— Я не возражаю, — ответил тот. — Только пусть начальство не обижается на критику!
Постановление партбюро приняли единогласно. Его составили из нескольких предложений, выдвинутых тут же. Даже Орлиев голосовал за это постановление, хотя в последнем пункте ему указывалось на недооценку воспитательной работы с подчиненными, произвол и неправильное отношение к критике. Тихон Захарович помедлил, подумал и все–таки вместе с другими членами партбюро поднял руку.
Как только Мошников объявил заседание закрытым, Орлиев поднялся и, ни с кем не попрощавшись, двинулся к выходу. Это было так неожиданно, что люди расступились перед ним, образовав молчаливый коридор. Тихон Захарович шел медленно, ни на кого не глядя.
— Погоди, я провожу тебя! — крикнул ему Гурышев.
Но Орлиев как будто ничего не слышал. Он даже не обернулся и, резко толкнув дверь, скрылся в темном коридоре.
Глава шестая
1
Не зажигая света, Тихон Захарович ощупью добрался до кровати и, не раздевшись, тяжело ткнулся головой в прохладную подушку. Бешено колотилось сердце, и с каждым ударом где–то там, в глубине, поднималась ноющая боль, ставшая в последний месяц почти постоянной.
Близилась полночь. Тихон Захарович угадывал ее по тому, как постепенно замирала жизнь в общежитии. По коридору шумно прошли вернувшиеся с танцев парни. Голоса, хлопанье дверей, позвякиванье чайников… И когда в доме начало стихать, в дальней комнате жалобно взвизгнул Котькин баян. На секунду он замер, словно не решаясь тревожить ночную тишину, потом приглушенно и медленно, как бы пробуя чистоту звучания, потянул грустную знакомую мелодию:
Не пыли, дороженька лесная, По тебе шагать далеко нам… Не роняй ты слезы, мать родная, А победы пожелай своим сынам…Это повторялось каждый вечер, с того самого дня, как полтора месяца назад Котька впервые услышал полюбившуюся песню. Он довел ее исполнение до такого совершенства, что, казалось, сам баян научился выговаривать слова.
Тихон Захарович знал, что произойдет дальше. Кто–либо обязательно загрохочет кулаком в стену и закричит:
— Дня тебе мало? Не наигрался, что ли?
Сегодня Тихон Захарович с особым нетерпением ждал этого. Песня раздражала, тревожила, усиливала жгучую боль. Она каждым своим звуком проникала в сердце, переполняя его и создавая нестерпимое теснение в груди.
«Неужели никого не найдется, кто бы постучал ему? Как будто свет на баяне да на песнях сошелся…» — думал Тихон Захарович, вслушиваясь и досадуя, что сегодня как назло никто не собирается оборвать Котьку.
Наконец кончилась и песня. Глухо рявкнули басы — Котька укладывал баян в футляр, — еще несколько раз хлопнули двери, и весь дом погрузился в тишину.
Ночь, темнота, смутно сереющее окно и черные, расползающиеся в глазах тени…
Только теперь Тихон Захарович отчетливо понял, почему он с такой ненавистью слушал песню. Она сбивала его, мешала думать о случившемся, напоминала слишком многое, чтобы он мог сосредоточиться, холодно и спокойно, как хотелось ему, разобраться во всем.
…Случилось страшное! Нет, дело не в Курганове. Страшно другое. Впервые за тридцать лет пребывания в партии его не поняли. Тридцать лет! Он вступил в партию тогда, когда Курганова еще не было на свете…
…Тишина. Ползут, расплываются неясные тени. Боль вроде успокаивается. Она, конечно, пройдет… Но почему так трудно дышать?
…Да, люди не поняли его! Впервые!.. Это был страшный момент, когда он не мысленно, а наяву ощутил, что если он вскочит и крикнет: «За мной, товарищи!», то не почувствует за спиной горячего дыхания на все готовых людей. А какое это сладостное и волнующее чувство! Он много раз испытывал его и всегда с замиранием сердца думал, что ради одного такого момента стоит всю жизнь не жалеть себя. Разве он жалел себя? Было ли у него что–либо, кроме одной–единственной цели — служить людям, тем самым людям, которые так несправедливо отвернулись от него?!
…Надо бы встать, открыть окно. Или дверь. Зря так рано начали топить печи. Осень нынче совсем не холодная.
«Он беспощаден к людям…» «Он не понял, что коммунизм строится для людей…» Какая наивность! Разве великие учителя не предупреждали, что путь к счастью человечества тернист и труден? С нытьем и жалобами его не одолеешь. Если сейчас думать о благах, то не скоро мы построим коммунизм. Пусть кто–нибудь назовет хоть один случай, когда Орлиев был снисходителен к себе! Разве это не дает ему права быть таким же и в отношении других? Разве теперь вопрос не стоит прямо — кто кого? Или мы их, или они нас! Разве враги когда–нибудь были снисходительны к нам, коммунистам? Нет, тысячу раз нет! Он и сейчас отчетливо, как никогда раньше, видит кучку войттозерских комбедчиков, при свете пожара стоящую ноябрьской ночью перед дулами озверевших белобандитов. Разве враги были снисходительны, когда в концлагере Киндасово заморили голодом его жену и десятилетнюю дочь? А миллионы павших?! Почему свой долг мщения за них мы должны растворить теперь в преждевременной снисходительности к себе, к друзьям, а потом, значит, и к врагам?
…Надо бы подняться, найти и принять сердечные капли, которыми запасся он после того, как приступ впервые схватил его при подъеме на Кумчаваару. Они стоят где–то на окне…
…Когда же это было? В тот вечер он узнал о приезде Курганова. Мог ли он думать тогда, что все так обернется! Он ждал верного помощника, послушного начальника штаба. А приехал совсем незнакомый человек… И люди ему верят! Ведь они, по существу, пошли за ним… Даже Гурышев, даже Потапов поддержали Курганова…
…Почему так душно в комнате? Темно и душно. Даже летом в темноте кажется прохладнее. А на дворе не лето. Осень. Настоящая осень. Завтрашний день снова придется начинать с уступок… Трактора и лесовозы вернуть Рантуевой… Панкрашову готовиться к переходу в семьдесят второй квартал. Вяхясало строить дорогу для вывозки к Заселью. Так решило партбюро. Даже Мошников голосовал, хотя, наверное, так ни черта и не разобрался, зачем все это нужно. Ну что ж! Решили — значит, надо делать! Если кто–либо надеется, что Орлиев пойдет против решения собрания, он жестоко ошибается… Чадову этого очень хотелось бы. Он бы снова расписал в газете… Но этого не будет… Орлиев прежде всего коммунист и знает, что такое партийная дисциплина. В конце концов разве в перестройках дело? Разве из–за того разгорелся сыр–бор? Это только частность. А главное совсем в другом…
Надо думать, думать, думать. Как только расслабляешься, начинаешь успокаивать себя, боль сразу усиливается… Удивительно одеревенели ноги. Как будто мешок с песком придавил их. Какая тяжелая тьма!..
Он никогда не думал, что темнота может так давить на тело, подобно опрокинутому на тебя возу черной ваты. Она оседает все плотнее, плотнее, лезет в рот, в нос, в уши… Уже ничего не видно и не слышно, уже задыхаешься, лихорадочно разгребаешь ее руками, сознавая в ужасе, что тебе не успеть выкарабкаться.
В детстве Тихону Захаровичу довелось мыться в печке. Было это зимой, после долгой болезни, когда он еще не совсем поправился и не мог пойти в баню.
Мать начисто вымела печь от сажи и золы, постелила соломы, поставила чугун с водой, шайку:
— Полезай, Тиша! Голову помоешь, распаришься…
Печь находилась рядом с дверью, и мать, чтобы не застудить мальца, затворила ее заслонкой. Тесно, душно, темно. Все шло хорошо, пока Тихон не вздумал выпрямить занемевшие ноги. Он хотел их вытянуть, но ноги уперлись в шершавый горячий кирпич. Он хотел отодвинуться, но и спина сразу же коснулась противоположной стенки печи. Ужас охватил Тихона. Вероятно, сказалась долгая болезнь, но он так ясно представил себя заживо заколоченным в гробу, что страшно закричал, забился в поисках выхода и, опрокидывая чугуны и шайки, почти выбросился на пол вместе с заслонкой.
Давно это было. Очень давно. Он даже и забыл о том. И все–таки это ощущение, что полная темнота может быть твердой, горячей, вещественной, сохранилась в нем, оказывается, до старости… Вот она вновь подступает, наваливается… Сейчас она не похожа на ту, она мягкая, но она тоже давит, затыкает рот, заполняет уши… Где же выход? Где он? Он должен быть здесь, слева… Надо выбрасываться, пока не поздно… Пора!
В судорожном рывке Тихон Захарович вскакивает. Сапоги грохают об пол, и этот грохот похож на взрыв. Так рвутся гранаты. Оглушающий треск, неуловимая вспышка пламени, обжигающая лицо волна и… полная тишина! Перед глазами плывет, качается снова обволакивающая темнота.
Нет, он не умер! Он еще жив! Он найдет выход!
Нетвердыми шагами он добирается до двери. Привалившись плечом к косяку, что есть силы толкает ее.
Дверь распахивается, гулко ударяясь о стену… Снова взрыв, пламя, оглушающая тишина.
— Люди!!! Сюда, люди! Помогите!!!
Он медленно сползает вниз. Он цепляется пальцами за каждый сантиметр косяка, из последних сил жмется плечом, чтоб не упасть, и все же сползает, клонится все ниже и ниже.
Он слышит испуганные голоса, он понимает, что говорят о нем, он даже видит людей, но ничего не может сказать им… Боль, адская, мучительная боль сковывает даже язык.
Через полчаса прибегает испуганная, едва очнувшаяся от сна фельдшерица. Она делает укол, окладывает ноги больного грелками… Потом приносят кислородную подушку. Когда постепенно дыхание восстанавливается, чужим — тихим и жалобным — голосом Орлиев просит:
— Позовите Курганова…
— Вам нельзя разговаривать! Лежите спокойно! — просит фельдшерица, щупая слабый мерцающий пульс. Проходит минута–другая, и вновь, отрываясь от кислородной трубки, больной повторяет:
— Позовите Курганова…
У него нет сил повысить голос, по выпученные глаза смотрят так повелительно, что фельдшерица не может отказать.
— Сходите кто–нибудь за Кургановым! — говорит она толпящимся у дверей парням.
Парни — необычно тихие, удивленные. Им, здоровым и сильным, еще трудно понять, что же произошло, и еще непривычнее видеть своего начальника, вчера такого властного и энергичного, теперь бессильно раскинувшимся на койке.
Медленно, слишком медленно тянется время. Вдох–выдох, вдох–выдох, минута за минутой. Кажется, проходит целая вечность, пока возвращается посыльный.
Остановившись у порога, он подзывает фельдшерицу.
— Почему вы шепчетесь? — встревоженно поднимает голову Орлиев. — Что случилось?
Его взгляд такой растерянный и бессильно–требовательный, что фельдшерица в испуге бросается к больному:
— Пожалуйста, не волнуйтесь… Прошу вас…
— Почему не пришел Курганов? — сопротивляясь ее попыткам уложить его голову на подушку, спрашивает Орлиев. — Отвечайте же, черт возьми! — гневно смотрит он на посыльного.
— Курганова нет дома… От него ушла жена… Уехала из поселка.
Орлиев откидывается, задыхаясь, приникает ртом к кислородной трубке. С полминуты в комнате слышатся глубокие медленные вдохи и ровное легкое шипение воздуха.
Остекленевшими глазами Орлиев смотрит в потолок. Потом, после каждого вдоха, он повторяет по одному слову:
— Курганова… Найдите… Курганова… Найдите.
2
Спит поселок. Давно уже выключена линия уличного освещения, и глаз способен различать в темноте лишь неясные очертания самых близких домов. Внизу невидимо плещется озеро. По небу плывут невидимые тучи. В стороне шумит невидимый лес.
Спит поселок. Кажется, совсем и не велик он. Каждый дом знаешь по памяти… А все же больше тысячи сердец бьются в эту минуту под его крышами… Тысяча сердец — тысяча жизней, а значит, и тысяча судеб, которые продолжаются даже ночью. Пусть с тобой ничего в эту ночь не произошло. Пусть твое сердце билось мягко и ровно. Но если есть рядом или по соседству неспокойное сердце, если с ним что–то случилось, то и твоя судьба какой–то стороной продолжалась в его радостном или горестном биении… Ведь чужая радость — это и твоя радость. Чужое горе — это и твое горе. Конечно, если твое сердце не одиноко, если оно принадлежит к той тысяче, которые пока бьются спокойно и лишь завтра узнают, что произошло ночью.
Они сидели на кухне и разговаривали почти шепотом. Но в доме стояла такая тишина, что Славик, если бы он не спал, мог из другой комнаты слышать каждое их слово.
— Ты не прав, Павел! Понимаешь ты это?
— Оля, я все сделаю… Я найду ее хотя бы на краю света. Я поеду сегодня же и разыщу ее. Без нее я не вернусь сюда! Я не буду оправдываться, говорить, что был пьян… Пойми и меня! Тогда мне казалось, что только так я и обязан поступить. Ради тебя, понимаешь? Неужели тебе никогда не хотелось сказать ему правду?
— Конечно, хотелось… Я много раз ловила себя на этом, а вчера даже начала с ним разговор. Начала и вдруг вовремя остановилась. Вдруг поняла одну простую истину. Если хочешь себе счастья, береги счастье других…
— Но нельзя же, черт побери, строить счастье на обмане! Рано или поздно это все равно выяснилось бы!
— Не шуми! Я согласна с тобой… Но здесь нет обмана. Ни он, ни я не обманывали друг друга. Помнишь, как это было?
— Неужели ты думаешь, я могу забыть!
— Какое это было унизительное состояние любить украдкой, любить с сознанием, что ты совершаешь почти преступление… И все это в такое время, когда не знаешь, вернется ли он из разведки, будем ли мы в живых завтра… Если бы не Орлиев, все могло быть по–другому.
— Ты жалеешь об этом?
— Давай никогда не будем задавать друг другу таких вопросов.
— Хорошо, Оля. Прости… Можно мне посмотреть на Славку? Я ведь никогда его не видел…
— Он спит, не разбуди, пожалуйста.
— Хорошо, хорошо, я даже не буду зажигать свет.
— Что же ты увидишь в темноте? Погоди, я включу свет.
— Не надо. Я посвечу спичкой… Ого, какой славный парень!
— Да, Славка вырос. Недавно ему исполнилось девять лет.
— Оля, мне мать говорила, что Славка меня считает своим отцом. Правда?
— Да. Она сама внушила ему.
— Оля! Может, она и не напрасно это сделала, а?
— Не надо сейчас, Павел.
— Я не сейчас… Я потом… Ты только не разубеждай Славика и не говори, что я уже вернулся. Хорошо, хорошо, я не буду об этом. Оля, можно мне еще посидеть у тебя?
— Извини, Павел. Мне в семь часов надо уже вставать.
— Тогда я поброжу во дворе… Как раньше, помнишь? Все равно сегодня мне не спать. А завтра я уеду и привезу ее во что бы то ни стало… Займу денег у твоего отца и поеду.
— Ну, отец не очень–то, пожалуй, расщедрится. Лучше у Анны Никитичны попроси.
— Ничего… я знаю один верный подходец и к дяде Пекке… Только боюсь, ты обидишься.
— Спокойной ночи, Павел.
3
Когда Курганова наконец разыскали и он пришел к Орлиеву, у постели больного рядом с фельдшерицей сидела заплаканная Рябова. Увидев Виктора, она быстро поднялась, неслышными шагами пошла ему навстречу:
— Наконец–то! Он вас очень ждет…
— Что с ним?
— Сердце… Совсем никудышное сердце…
Кажется, ничто не переменилось в этой комнате. Однако тишина, белый халат и сильный приторный запах валерьянки уже сделали ее похожей на больничную палату. Осторожно ступая, Виктор подошел к кровати.
Движением глаз Тихон Захарович дал понять, что заметил Курганова, и даже чуть кивнул ему.
— Только, пожалуйста, недолго, — предупредила фельдшерица.
Виктор сел на ее место.
Орлиев лежал, глядя вверх, с застывшим, неживым выражением на красном, словно укрупнившемся лице. Он медленно и тяжело дышал, огромной волосатой рукой прижимая ко рту кислородную трубку. На лбу поблескивали капельки пота. Наконец Тихон Захарович оторвался от трубки, повернул голову влево.
— Спасибо, что пришел… А я вот, видишь, совсем… расклеился.
— Ничего, все наладится…
Почувствовав пустоту своих слов, Виктор смутился и принялся подтыкать свисавшее с кровати одеяло.
Снова некоторое время Орлиев дышал из кислородной подушки, Виктор смотрел на него, и с каждой секундой что–то новое, совсем незнакомое открывалось ему. Как будто перед ним был уже не Орлиев, а чужой, никому не известный человек, долгое время выдававший себя за Орлиева. Ему даже не нужно было маскироваться — так похожи они внешне. Тот же тяжелый властный подбородок, тот же угловатый умный лоб, те же глубокие, идущие от суровости характера складки на лице, нависшие лохматые седые брови, недоверчивый пучок морщин у глаз, гневные крылатые ноздри с красными прожилками…
Теперь эти знакомые черты, застывшие в неподвижности, воспринимались как–то порознь, и лишь огромным усилием памяти их можно было соединить в одном лице. Ему не хватало главного, что всегда отличало Орлиева: силы, воли, движения.
Виктору вдруг подумалось, что если бы этот неподвижно лежащий человек сейчас решительно поднялся, строго посмотрел на присутствующих, все стало бы на свои места. Каждая черта вновь ожила бы, соединилась с другой. Даже одного короткого движения хватило бы, чтоб Орлиев стал Орлиевым. Но сейчас он не был способен и на это.
— Я слышал… у тебя… ушла жена? Уехала, говорят…
Застигнутый врасплох, Виктор поспешно кивнул. Было тяжело, очень тяжело начинать разговор о Лене, но Орлиев, с усилием повернув голову, смотрел на него неестественно блестевшим, вопросительным взглядом.
— Да, — подтвердил Виктор. — Она уехала… Наверное, в Ленинград. Получилось какое–то…
— Она вернется, — перебил Орлиев, медленно и четко выговаривая каждый звук. — Вернется… Это бывает… Если она жена тебе… а не…
— Тихон Захарович, вам нельзя разговаривать! — вступилась фельдшерица, когда обессилевший Орлиев лихорадочно приник к трубке.
— Да, да… Вам нужен покой. Я пойду, — поднялся Виктор. — Я зайду потом, утром.
— Погоди! — Орлиев дотронулся до Виктора рукой, несколько секунд лежал, собираясь с силами, и вдруг беспокойно зашевелился: — Анна Никитична, где ты?
— Я здесь, Тихон Захарович.
— Открой стол!.. Справа… верхний ящик… Справа, говорю! — повысил он голос, скосив глаза так, что они, казалось, выкатятся из орбит… — Там лежит папка… Зеленая… со шнурками… Дай ее сюда!
Непослушными пальцами он долго развязывал тесемки, потом, судорожно рванув, вырвал их из обложек папки и достал лежавшую сверху бумагу. Виктор сразу узнал ее — это была рекомендация, которую Орлиев дал ему несколько недель назад для вступления в кандидаты партии.
— Возьми… Я знаю… Она тебе уже и не нужна… А все же возьми… Захочешь — сам порвешь… Так уж вышло, брат… Так вышло… Эту папку тоже возьми. Будет время, почитаешь. Тут, брат, вся жизнь моя… Только Чадову не давай!.. Не показывай даже, слышишь! Берегись таких… А теперь иди! Иди, брат!
Холодной и потной рукой он слабо сжал кисть Виктора и откинул голову к стене. Фельдшер поднесла ему кислородную трубку, и он задышал медленно, тяжело и жестко, как будто дышал не человек, а работали громадные кузнечные мехи.
4
— Анна Никитична, можно вас на минутку?
Они вышли в коридор.
— Накиньте пальто. Холодно, — мягко напомнил Виктор.
— Ничего. — Рябова машинально застегнула жакет на верхнюю пуговицу и остановилась у двери, настороженно глядя на Курганова. Даже при тусклом освещении было хорошо видно, как осунулось и постарело ее лицо. Опухшие от слез глаза, воспаленные, набрякшие краснотой веки, бесчисленные морщинки, покрывавшие шею, виски, подбородок:
— Анна Никитична! Я хочу вас спросить…
— Да… Я слушаю…
— Оля… на заседании… сказала правду?
— Вы ведь уже спрашивали у нее?
— Да, спрашивал… Я говорил с ней… Я хочу, чтоб и вы ответили мне.
— Она сказала правду, — размеренно подтвердила Рябова.
— Но скажите же тогда, кто отец Славика? Поймите, я не успокоюсь, пока не буду знать!
Она строго посмотрела на него:
— Я должна предостеречь вас от этого. Все годы Славик считал своим отцом Павла. Ни у кого нет права внушать ему какие–то сомнения. Ни у кого! И особенно у вас!
— Почему же вы так выделяете меня?
— Виктор Алексеевич! Может быть, сейчас и не время говорить об этом, но я не умею и не хочу скрывать. В Войттозере я единственный, наверное, человек, который знает все о ваших прошлых отношениях с Олей… — Она посмотрела ему в глаза, помолчала, потом тихо сказала: — Еще полтора месяца назад я просто ненавидела вас. Да, да, я ненавидела вас.
— Я это чувствовал…
— Да! И я имела на то право. Я хочу, чтоб вы знали. Так будет лучше — и вам, и мне. Нам рядом жить и работать.
— Спасибо, Анна Никитична, за откровенность. Почему вы так смотрите на меня?
— Вы сказали это искренне?
— Да... Я не лгу… Я не умею лгать.
— Что ж, я рада… Я очень рада… Если бы вы знали, как я хочу для них счастья! Имеют же право на счастье люди, которые так много страдали, так много отдали другим!
— Вы как будто упрекаете меня! Вероятно, вы правы… Но поймите…
— Нет, я ни в чем вас не упрекаю. Я вам очень поверила. Особенно вчера.
— Скажите, что я должен делать?
— Что делать? — Она задумалась, чуть улыбнулась, — Как–то однажды Оля сказала: «Если хочешь себе счастья, думай о счастье других». Не знаю, где она выкопала эту мудрость, но теперь часто повторяет ее. Разве я могу вам сказать, что вы должны делать? Вы обязаны решать сами. Чего вам не следует делать — я уже сказала!
— Я люблю Лену… Люблю, понимаете!
— Разве кто–нибудь сомневается в этом? Или кто–нибудь мешает вам? Почему вы здесь? Я верю, что Елена Сергеевна рано или поздно сама вернется. Но на вашем месте я не стала бы ждать.
— Я не могу так. Я должен разобраться.
— В чем?
— Я должен знать правду о Славике.
— Вы знаете ее. Другой правды нет и никогда не будет. Все сложилось так, что для вас, Виктор Алексеевич, мне хочется переиначить Олину поговорку: «Если вы желаете счастья другим, то позаботьтесь о своем счастье». Судьба многих людей будет зависеть от того, как вы наладите свою семейную жизнь. Теперь так много зависит от вас самих! Не забывайте этого. Извините, я должна идти.
— Я все понял, Анна Никитична… Спасибо вам, я никогда этого не забуду.
Глава седьмая
1
Гурышев, сидевший рядом с шофером, заметил Лену случайно. Откинувшись вполоборота назад, он разговаривал с Потаповым и сквозь боковое стекло едва успел уловить взглядом мелькнувшую в темноте фигуру.
— Там человек, что ли? — спросил он у шофера.
— Девушка, кажись… — ответил тот. — И куда только их гонит в полночь? Да еще с чемоданом. Тут и деревень–то нет.
— Останови! — Гурышев открыл дверцу, вылез из машины. — Девушка, вам куда? Не в Тихую Губу?
— Да… в Тихую… — донеслось из темноты.
— Так идите скорей! Чего вы там копаетесь?
Откинув сиденье, Гурышев подождал, пока Лена протиснется назад, передал ей чемодан и хлопнул дверцей:
— Трогай!
Минут десять ехали молча. Лена была и рада и не рада счастливому случаю. За весь вечер в сторону Тихой Губы не прошло ни одной машины, и она потеряла всякую надежду.
На автобус Лена опоздала. Оказывается, теперь он уходил из Войттозера на три часа раньше, чем летом. Не раздумывая, Лена вышла из поселка и зашагала по дороге в сторону Тихой Губы.
Она шла не отдыхая, не замечая вгорячах ни слякоти, ни темноты, ни тяжести чемодана. Впервые присела отдохнуть, когда скрылись позади огни поселка и постепенно заглохли все звуки, кроме ровного глухого шума леса. Этот мягкий, то наплывающий, то откатывающийся куда–то вдаль шум несколько часов сопровождал каждый ее шаг. Он похож на невидимый морской прибой. Он все время куда–то зовет, то рождая неясные надежды, то усиливая и без того тяжкое отчаяние. В такие минуты было особенно невыносимо. Хотелось, чтобы вместо долгого заунывного гула пронесся над лесом стремительный ураган, — и пусть бы все стихло!
Потом пришло чувство одиночества. Лена никогда не испытывала его, даже во время блокады. Она даже не знала, что это такое, и когда впервые подумала, что на многие километры вокруг нет ни одной живой души, ей стало жутко.
«Ну и пусть! Пусть я умру! Пусть завтра найдут меня на дороге! Может быть, хоть это заставит его понять, что он сделал!» — уговаривала она себя, пытаясь обрести безразличие к своей судьбе, в которое так удобно вмещалась и обида на Виктора, и ее оскорбленная любовь к нему, и мучительный стыд перед другими за все случившееся.
Чуть успокоившись, она поняла, что ничего с пей не произойдет. Конечно, до Тихой Губы ей к утру не добраться. Но утром пойдут машины, они подвезут ее. Там она сядет в автобус до Петрозаводска и вечером будет уже в ленинградском поезде.
«Если бы он по–настоящему любил меня, он давно был бы здесь! Он не стал бы ждать даже утра… Он мог бы взять мотоцикл…»
Она знала, что Виктор любит ее. Но думать другое было для нее легче, и она пыталась уверить себя в этом.
Поэтому, когда сквозь шум ветра она услышала со стороны Войттозера далекое завывание мотора, она решила, что это обязательно он, и торопливо переместилась к самому краю дороги. «Пусть не думает, что все так просто и я так легко прощу ему!» — почему–то испугавшись предстоящей встречи, принялась уверять она себя, а сама вслушивалась и больше всего боялась, как бы слабый гул мотора не оборвался, не оказался бы слуховой галлюцинацией, которая, как она знала по книгам, часто приключается с измученными путниками.
Машина прошла мимо.
Растерянно глядя на удалявшуюся полосу света, на кургузую низкую машину, Лена вдруг поняла, что это, конечно, не Виктор, что на лесопункте таких машин нет. Это было так горько и так неожиданно, что захотелось упасть на мокрую землю и плакать, плакать, плакать…
«Газик» чуть съехал вправо и остановился, помигивая красноватым глазком. Кто–то огромный, едва различимый в темноте, вылез из машины и громко спросил:
— Девушка, вам куда? Не в Тихую Губу?
2
Чем дальше уезжала Лена, тем тревожнее и беспокойнее становилось на душе.
«Мог же он взять мотоцикл? Небось когда ему понадобилось ехать в Чоромозеро, он взял его!» — думала она, жалея, что все получилось не так, как могло бы быть.
Отмолчаться Лене не удалось. Гурышев обернулся к ней и спросил:
— Куда же вы, девушка, на ночь глядя, да еще и с чемоданом?
— В Ленинград.
— Что же ночью?
— Так надо…
— А сами откуда? Из Войттозера?
— Да, из Войттозера.
Сосед вдруг беспокойно задвигался, тоже повернулся к Лене и спросил:
— Где же вы там работаете? Что–то я вас не помню?
— В школе.
— А–а, — протянул он многозначительно и замолк.
Дорога обогнула по краю неширокое болото, на середине которого на мгновение блеснуло в лучах фар черное озерцо, и вновь нырнула в темноту леса.
— Ни о каких перебросках и не думай, — неожиданно сказал Гурышев. — Дело здесь не в том — сработались они или не сработались. Тут вопрос в принципе.
По–видимому, они продолжали прерванный разговор, так как сосед Лены сразу же отозвался:
— Орлиев и сам из Войттозера уйти не согласится. Уж я–то знаю его.
— Тогда тем более говорить об этом нечего! Не станешь же ты перебрасывать Курганова, если он прав и все люди на лесопункте поддерживают его? Ты видел, как дружно они встали за него?
— По–моему, они восстали против Орлиева. Если бы на месте Курганова был кто–то другой, то получилась бы та же картина. Что и говорить, Тихон повел себя в Войттозере неправильно. Это чувствовалось давно, а сегодня так ясно выявилось.
— Одно другому не противоречит. Конечно, дело в Орлиеве. Но ты видел, как отнеслись люди к Курганову, хотя на него был вылит такой ушат грязи! Это что–то значит, черт возьми! А ведь кое–что в словах Орлиева было и правдой, если подходить формально… И я убежден, что большинство это поняли!
— Ты имеешь в виду выступление Рантуевой? — спросил Потапов, но Гурышев ничего не ответил. Он помолчал, потом обернулся к Лене:
— Вас не укачивает? Если хотите, садитесь впереди!
— Спасибо, мне хорошо.
— Вы в Ленинград надолго?
— Не знаю.
— Что же так? Заболел там кто–нибудь?
— Заболел, — ответила она, радуясь, что в темноте не видно ее смущения.
— А я уж думал, вам не понравилось у нас, что вы уезжаете ночью. Похоже, удираете.
Последнее слово Гурышева больно кольнуло Лену. Она скорей почувствовала, чем увидела, что Гурышев улыбается, и рассердилась:
— Зря вы так о людях думаете!
— Это правильно! — засмеялся он, и разговор прервался.
Когда до Тихой Губы оставалось не больше двух километров, впереди на дороге выметнулись из–за горы ослепительно яркие фары. Они быстро–быстро неслись вниз. Шофер включил ближний свет и сообщил:
— Скорая помощь из райбольницы! Наверное, что–то случилось…
— Останови! — приказал Гурышев.
Он выскочил на дорогу, поднял руку. Встречная машина резко с визгом затормозила, несколько секунд постояла и вновь рванулась в сторону Войттозера.
— Что там? — спросил Потапов, когда Гурышев сел на свое место.
— У Орлиева сердечный приступ…
Лена оглянулась. Красные точечки машины скорой помощи были уже далеко. Вот они в последний раз мигнули и пропали.
«Газик», высвечивая фарами белые валуны и редкие густокронные сосны, взобрался на вершину горы. Внизу открылись пунктиры уличных огней Тихой Губы.
— Прямо с утра возвращайся в Войттозеро, — сказал Гурышев. — Сиди там хоть неделю, пока почувствуешь, что Курганов и без тебя справится. Орлиев, видно, надолго выбыл… Неспокойно у меня на душе… Навалились мы на него уж очень дружно. Боюсь, не сломали ли мы человека?
— Тихон и не такое видал, — неопределенно отозвался Потапов. — Да и навалились–то не мы, а он, скорей…
— Ты все же поласковей с ним будь… Кто бы подумал, такой кремень — и вдруг сердце!.. До свидания! Завтра перед отъездом загляни в райком! Ну, девушка, а вас куда отвезти? — спросил Гурышев, когда Потапов вышел из машины у небольшого домика с палисадником.
— Я здесь сойду, — ответила Лена. — Где тут автобусы останавливаются?
— Так и будете на остановке ждать? — с улыбкой посмотрел на нее Гурышев. — Автобус на Петрозаводск только днем пойдет.
— Мне все равно. — Лена поставила на колени чемодан, по Гурышев остановил ее:
— Сидите! Езжай ко мне! — повернулся он к шоферу. — Сидите, вам говорю!..
Машина свернула на боковую улочку и остановилась у двухэтажного деревянного дома.
Гурышев молча взял чемодан Лены и зашагал к одному из подъездов. Своим ключом он открыл дверь, зажег в прихожей свет и сказал вышедшей из дальней комнаты низенькой и полной женщине в халате:
— Маша, познакомься… Это учительница из Войттозера. Жена технорука Курганова. Помнишь, он был как–то у нас… Он еще тебе очень понравился. Ну вот! А это его жена… Учительница… Твоя коллега, выходит… У них, понимаешь, случилось несчастье, и она едет в Ленинград… Ты, пожалуйста, устрой Игорька у нас на диване, а ей постели в детской… А сейчас, если можно, чайку нам. Ночи уже холодные пошли… Нет, нет! Всякие разговоры завтра. А сейчас чаю и спать. В общем, вы как хотите, а я спать сразу.
Первым побуждением Лены после таких слов было желание схватить чемодан и поскорей выскочить на улицу. По крайней мере, не стоять подобно уличенной во лжи девчонке, не краснеть под взглядом этой незнакомой и, видно, очень доброй женщины, а поблагодарить, извиниться за беспокойство и уйти.
Оказывается, Гурышев уже догадался, кто она. Он знает Виктора и зачем–то, как бы между делом, похвалил его. Возможно, он знает и о том, что встало между ними. Ведь он выехал из Войттозера несколькими часами позже. Зачем только она согласилась прийти сюда?
Но уходить было поздно. Электрочайник был уже наполнен водой, и шнур воткнут в розетку. Так и не очнувшийся от сна парнишка лет двенадцати, притулившись головой к отцу, уже прошагал заплетающимися ногами из комнаты в комнату, а хозяйка доставала из внутристенного шкафа свежее постельное белье.,.
В семь утра в квартире Гурышевых зазвонил телефон. Еще не совсем проснувшись, Петр Иванович быстро поднялся, привычно сунул ноги в домашние туфли и вышел в переднюю. Вот он снял трубку, позевывая, назвал себя и надолго замолчал.
Потом Гурышев постучал в детскую:
— Вы спите? Звонили из Войттозера… Только что скончался Тихон Захарович Орлиев. Через час я еду туда.
Он подождал, надеясь, что гостья хоть как–нибудь отзовется, и постучал сильнее.
— Слышите? Вы едете со мной или нет? Почему вы молчите?
На его голос из кухни вышла жена.
— Чего ты шумишь? Она ведь ушла…
— Как ушла? Куда? Почему ты не разбудила меня?
— Собралась и ушла… Давно уже. Буду, говорит, ловить попутную… Я не знала, что для тебя это так важно.
— Извини, Маша… Знаешь, только что скончался Тихон Захарович Орлиев. Я еду в Войттозеро.
3
В ту минуту, когда Гурышев разговаривал с женой, Оля разбудила сына.
Славик поднимался неохотно, даже хныкал, и каждое утро Оля с болью на душе подходила к его постели. Занятия в школе начинались в девять часов, и он мог бы спокойно спать еще не меньше часа. Но другого выхода не было. Оля должна поскорее отвести его к Анне Никитичне, чтобы успеть в контору на планерку.
В это утро подгонять Славку не пришлось — он проснулся радостный, нетерпеливый.
— Мам, мы сегодня пойдем смотреть, как рождаются ручьи.
— Как это! — рождаются? Да не торопись ты, ешь, успеешь.
— Знаешь, как интересно? Нет ничего и вдруг есть. Прямо из–под камня. Малюсенький такой. Можно ладошкой запрудить. Мы с Васькой знаем один такой. А Елена Сергеевна говорит, что и все реки так рождаются… Ничего нет и вдруг есть. Может, и наш ручей потом большим станет? Елена Сергеевна сказала, что мы всем классом пойдем смотреть его.
— Сегодня Елены Сергеевны не будет.
— Почему?
— Она заболела… Простудилась и заболела.
— Мам, я забыл сказать. Она вчера к нам приходила.
— Когда приходила? Зачем?
— Когда ты на работе была. Она тебя спросила, а потом… Она, наверно, и плакала, что заболела. Гладит меня по голове и сама плачет. Смешно, когда большие плачут. Я вон сколько болел и никогда не плакал, правда?
— Правда… Ну, поел? Бери сумку и подожди меня на улице. Я приготовлю еды Барсику. После школы не забудь пообедать в столовой. Вот деньги!
— Можно, я у тети Ани пообедаю?
— Ну хорошо. Если пригласит, можно и у тети Ани.
— А как же? Конечно, пригласит. Она меня каждый день зовет. Я и уроки там сделаю.
— Идем… Славик, ты был бы рад, если бы к нам вдруг вернулся твой папа?
— Как это вернулся? Мой папа погиб на войне, я не хочу другого папы.
— Ты не понял меня. Самый настоящий твой папа… Если бы вдруг он не погиб, понимаешь? Если бы его тяжело ранили, и он все эти годы лечился? А потом выздоровел и вернулся. Разве ты не рад был бы этому?
— Еще бы!.. Только как же? Я всем в школе сказал, что мой папа герой и он погиб. Получилось бы, что я наврал, да? Получилось бы, что я хвастун?
— Глупенький ты мой! Какой же ты хвастун, если твой папа и был настоящим героем! Ну, ладно! Идем скорее.
Анны Никитичны дома не оказалось. Дверь была не заперта. Оля с удивлением оглядела холодную, непротопленную комнату, неясная тревога кольнула ее сердце.
Школьная сторожиха, кипятившая в титане воду, сказала, что директорша как ушла ночью в поселок, так больше не приходила.
— Славик, сиди здесь и никуда не уходи! — приказала Оля…
Они встретились на тропке между школой и поселком. Анна Никитична, в расстегнутом пальто, со сползшей на плечи косынкой, медленно шла, ничего не замечая вокруг.
— Где ты была? Что случилось?
Увидев Олю, Рябова остановилась, концом косынки вытерла мокрые от слез щеки, потом медленно и тихо сказала:
— Нет больше Орлиева…
— Как нет? Что ты говоришь?!
Анна Никитична печально покачала головой.
— Сердце. Совсем никудышное сердце.
Она вдруг неловко ткнулась лицом в плечо подруги и беззвучно разрыдалась.
4
В это время в Тихой Губе шел дождь. Мелкий, почти невидимый, он начался уже больше часа назад.
Зябко кутаясь в поднятый воротник пальто, Лена стояла на автобусной остановке, и единственно, что могло радовать ее в ту минуту, — покатый толевый навес, так предусмотрительно сделанный кем–то для нерасчетливых или бездомных пассажиров. И единственно, чего ей хотелось сейчас, — это как можно скорей уехать, чтоб не торчать здесь под недоуменными взглядами прохожих.
Но автобус до Петрозаводска будет не скоро — в одиннадцать. Второй, войттозерский, пойдет обратно лишь вечером.
В восемь часов из гаражей вышли грузовые машины. Несколько раз Лена поднимала руку, однако машины как назло шли ближними рейсами.
Оставалось одно — ждать. Конечно, ждать можно было бы и у Гурышевых.
Но оставаться там Лена не могла. Ночь прошла в мучительных раздумьях. Все сильнее одолевали какие–то неясные сомнения, и Лена почувствовала, что если она останется в той уютной семейной квартире до утра, то ей уже не уехать. Мягкая проницательная воля хозяина пугала ее. А уехать нужно, нужно обязательно. Хотя бы затем, чтоб там, вдали, спокойно обдумать все случившееся… Нет, тете она пока ничего не скажет… Она сначала все обдумает, примет решение… Тетя поймет ее. «Пусть он не надеется, что я так легко прощу ему! — повторяла она про себя, когда начинали закрадываться сомнения. — Может быть, я и никогда не сделаю этого! Да, я люблю его! Пусть! Но можно ли вообще прощать людям такое?!»
— Попутчица! Вкусны ли были грибы с заповедных мест?
Возле павильона, глухо урча мотором, стоял огромный самосвал с блестящим барельефом зубра на капоте. Веселый, улыбающийся парень, придерживая открытую дверцу, выглядывал из глубины кабины.
— Не узнаете? Помните, грибы у меня торговали?
— A–а! Здравствуйте! Извините, пожалуйста…
— Куда путь держите? В город, поди?
— Даже дальше.
— Жаль, что не ближе! А то прокатил бы я вас на своем рогаче с ветерком да с песнями! Как устроились в Войттозере?
— Спасибо, хорошо.
— Ну, до встречи.
— Постойте! Вы не в Петрозаводск?
— Нет. Километров шестьдесят, если хотите, могу подбросить. А там мне в сторону.
— Верно? Можете? — недоверчиво переспросила Лена.
— Садитесь. Давайте чемодан! Чем не «люкс»? Тепло, светло, просторно… Жаль, приемники не ставят, а то бы я вас и музыкой угостил.
Парень не умолкал ни на минуту. Не успели выехать из села, а Лена уже знала, что он ездит за кирпичом для строительства леспромхозовских мастерских, что успевает в день сделать два рейса, что все дело в машине, а его машина — новая, месяц назад с завода получена.
Лена слушала, радовалась теплу, удобству и движению, а тревожное чувство не проходило.
Вот остались позади последние домики Тихой Губы, мелькнуло в последний раз озеро. Стало совсем одиноко и грустно. Дорога, лес, сизое мглистое небо.
У мостика через ручей машину остановил автоинспектор. Как видно, он хорошо знал и шофера и машину. Едва заглянув в путевой лист, сразу же вернул его. На Лену он не посмотрел, но парень охотно, даже с оттенком хвастовства пояснил — учительница из Войттозера. Жена технорука Курганова. Подброшу попутно до Половины.
Лена подумала, что если бы инспектор усмотрел что–либо противозаконное и высадил ее, она, наверное, нисколько бы не обиделась. На какой–то миг ей даже захотелось этого.
Прикурив с шофером от одной спички, инспектор пошел к своему черно–красному мотоциклу.
Машина уже миновала мост, когда инспектор что–то прокричал вслед. Шофер притормозил, высунулся, покивал головой и торопливо захлопнул кабину.
— Что там? — спросила Лена.
— Не расслышал. Вроде умер кто–то, что ли?.. Эх, попутчица, так и быть — прокачу я вас до Карбозера. Не велик круг, а автобус оттуда в десять тридцать отходит!
— Пожалуйста, не делайте этого. Мне некуда торопиться. Я подожду… Кто же там умер, а?
— Не знаю. Может, мне и послышалось. Чего это вы приуныли? Веселей глядите! Через час сядете на автобус и все будет лучшим образом!
Заметив на глазах Лены слезы, парень затих и всю дорогу молчал, лишь изредка сочувственно посматривал на попутчицу.
Глава восьмая
1
В тот вечер клуб был самым тихим местом в поселке.
Дорожка из свежей хвои начиналась у ограды, вела через настежь открытые двери в полузатемненный зал, где возвышался обшитый красной материей гроб, со всех сторон подпираемый наскоро сделанными венками.
Бесшумно ступая, люди входят, подолгу молча стоят в отдалении. Ни лишнего звука, ни шепота — тишина такая, что редкое забывчивое женское всхлипывание заставляет всех вздрагивать и поворачиваться в его сторону. Слезы на глазах у многих, но никто не плачет, никто не бросается с горестным причитанием, как это заведено в деревне, к ногам покойного. Все стоят и чего–то ждут. Как будто не верят случившемуся и ждут невероятного.
Так проходят час за часом. Одни сменяют других, и все время у дверей теснится плотная толпа молчаливых людей. Бессменно дежурят у гроба Рябова и ответственный за похороны Мошников.
Как и все, Виктор некоторое время постоял у входа, потом тихо приблизился к гробу и, держа кепку в руке, склонил голову.
Бледное лицо покойного выглядело сейчас совсем иным, чем утром. Морщины разгладились, в волосах заметнее проступила ровная искристая седина, а брови совсем побелели. От этого лицо казалось удивительно ясным и просветленным, каким никогда Виктору не доводилось видеть Тихона Захаровича при жизни.
В газетах еще не было напечатано ни извещения, ни некролога, но весть о кончине Орлиева уже разнеслась далеко. Начали поступать телеграммы с соболезнованием. Их складывали на маленьком столике у сцены.
Виктор вышел из клуба.
На мокрой скамье, при тусклом свете уличного фонаря, сидел Сугреев. Он, наверное, сидел здесь давно, так как в этой же позе Виктор видел его и полчаса назад. Только теперь рядом с ним примостились молчаливые Панкрашов и дядя Саня, а напротив, покачиваясь и растирая шапкой по лицу пьяные слезы, стоял бригадир трактористов Лисицын. Никто на него не обращал внимания, но Лисицын всхлипывал и бормотал:
— Вот был человек и нет его… Был и нет… Так и все мы… Были и не будем…
Заметив технорука, он постарался потверже стоять на ногах и, закрывая торчащую из кармана бутылку, неожиданно сказал:
— По причине безмерной скорби… Был человек и нет его.
— Иди домой! — не поднимая головы, сумрачно приказал Сугреев. — Костя, отведи его! Нашел время куражиться!
— Слушаюсь! Молчу и повинуюсь. Был у нас начальник, а теперь, видать… Вот жисть, а! — выкрикнул Лисицын и, заметив нетерпеливое движение Сугреева, заторопился:
— Иду, иду! Сам пойду!
Когда он вышел за ограду, Панкрашов виновато объяснил:
— Давно бы убрал его с бригадиров, да дело хорошо знает. А все ж снимать, видно, придется…
— Поменьше бы панибратствовал с ним, — сухо заметил Сугреев. — Побольше бы требовал, тогда и снимать не нужно было бы!
— Это тоже правильно! — согласился Панкрашов.
Некоторое время молча курили. По хвойной дорожке мимо них медленно и бесшумно двигались к клубу люди. Подходя к крыльцу, старательно вытирали ноги, мужчины снимали головные уборы.
— Был там? — тихо спросил Виктор Сугреева, кивнув в сторону клуба. Тот беспокойно заворочался и вдруг стеснительным, таким несвойственным ему тоном сказал:
— Понимаешь, не могу… Столько смертей за войну повидал! Сам два раза в танке горел, чудом спасся… А тут — не могу! Вчера еще спорили, живой был… Просто в голове как–то не укладывается.
— Это у тебя оттого, — несмело вставил дядя Саня, — что ты вчера крепко ругался с ним…
— Ерунду городишь! — оборвал его Сугреев. — При чем тут это? Если понадобится, я снова ругаться буду! Да и не только ругаться, а теперь, после вчерашнего, драться буду, понял?
Он помолчал и продолжал прежним тоном — тихим и сдержанным:
— Тут другое… Может, потому, что слишком много за войну смертей повидал, теперь и не могу… На похоронах будешь говорить? — повернулся Сугреев к Виктору.
— Буду, наверное…
— Тебе надо. Я слышал, он тебе рекомендацию вернул?
— Вернул.
— Об этом тоже надо сказать. Не для тебя, а для него, понял?
2
Виктор медленно шел по поселку, направляясь к конторе. Было уже поздно, но идти домой, в холодную, вдруг опостылевшую комнату, не хотелось. Там он будет один…
Он понимал, что час–другой ничего не изменят. Рано или поздно ему придется взять в бытовке ключ и убедиться, что комната действительно пуста… И все же лучше сделать это потом. Легче, когда есть хоть какая–то надежда. Почему какая–то? Разве он не верит, что Лена вернется? Возможно, это произойдет и не завтра, но она вернется обязательно. Завтра Лена получит его телеграмму. Приедет к тете Асе на Лесную, а телеграмма уже ждет ее. Надо только решить, что же ей написать в телеграмме? Объяснять, снова все объяснять? Орлиев вчера сказал, что объяснять — значит оправдываться. Неужели он действительно так считал? Не в том ли и причина многих наших бед, что мы считаем эти объяснения ненужными, иногда боимся или стыдимся их, а в результате даже хорошие люди не всегда понимают друг друга?
Да, в жизни много странного, случайного, непредвиденного. Но есть у нее и своя неумолимая логика, которую никто никогда не может безнаказанно нарушить… Помнится, два месяца назад, когда они только что приехали в Карелию, Виктор задумывался над всем этим. Тогда он еще не знал очень многого, но предчувствовал, что его семейная жизнь не будет такой ровной и гладкой, как хотелось бы. Нет, он и тогда не думал, что прошлое можно будет просто обойти и вычеркнуть из жизни. В противном случае он, вероятно, и не приехал бы в Войттозеро. Вся беда в том, что он, оберегая покой Лены, не допускал ее к тому, что уже невольно составляло часть и ее жизни.
Будь у тети Аси на квартире телефон, можно было бы заказать разговор с Ленинградом. Час ожидания, и все сразу решилось бы. А может быть, Лена и сама позвонит ему? Не потому ли его так тянет в контору, что он надеется на это? Где она сейчас? Что делает? Скорее всего сидит в вагоне, смотрит в темное окно и думает, наверное, о том же. Если бы она знала, что произошло в Войттозере за это время!
Днем было легче. Там, на лесосеке, случались минуты, когда сознание полностью переключалось на конкретные дела. Разговаривая с людьми и отдавая распоряжения, Виктор то и дело ловил себя на том, что продолжает думать о Тихоне Захаровиче, как о живом. Привычное ощущение, что где–то там, в конторе, сидит Орлиев, который еще неизвестно как отнесется к его распоряжениям, было настолько сильным, что временами брало сомнение–неужели действительно Тихона Захаровича уже нет?
Несколько раз шоферы лесовозов сообщали, что на бирже и в поселке видели директора леспромхоза. Виктор понимал, что ему надо бы вернуться в поселок, но откладывал это с минуты на минуту, переходил от бригады к бригаде, перебирался с участка на участок, радуясь небывалой слаженности и молчаливому упорству людей. Сегодня ни одно из распоряжений не приходилось повторять. Люди подчинялись с полуслова, как будто частица орлиевской воли вдруг незримо для самого Виктора передалась ему.
Что это — сила привычки или последняя дань уважения к покойному? А может, ничего этого и не было. Просто люди хотели показать, что могут хорошо работать без понуканий, угроз и окриков. Ведь только в таком труде — дружном и осознанном — и можно испытывать истинное удовлетворение…
В конторе никого не было, но в кабинете Орлиева горел свет. Виктор прибавил шагу, пошел все быстрей и быстрей. На крыльцо он почти взбежал.
В кабинете сторожиха тетя Паша заканчивала уборку. Виктор тихо опустился на стул в общей комнате — почти на то место, где он сидел во время первой планерки два месяца назад. Давно это было! Так давно, что, кажется, тогда сидел здесь и не он, а кто–то другой — близкий, родной ему, но наивный и глупый…
Сегодня, когда он вернулся с лесосеки, Потапов ворчливо упрекнул:
— Ты что же? Так и будешь в лесу целыми днями пропадать, ровно в Войттозере и нет других дел? Не забывай — ответственность теперь на тебе!
Виктор промолчал. Он еще не отдавал себе отчета в том, что значат для него эти слова. Он лишь почувствовал, что вместе с ними на его плечи легло что–то значительное, волнующее и очень неопределенное.
«Ответственность!» Какое пугающее слово!
Тихон Захарович любил повторять его. Он пытался внушить всем чувство ответственности за все на свете, А сам по существу никому не доверял и брал на себя так много, что лишал других этого очень беспокойного и очень радостного чувства.
Людям надо верить!
Войттозеро — это не только сто двадцать тысяч кубометров древесины в год. Это, прежде всего, — тысяча человек: мужчин, женщин, взрослых и детей. И от того, чем живут они, о чем думают, с каким настроением поднимаются по утрам, зависят в конце концов и те сто двадцать тысяч кубометров, по которым там, наверху, и будут судить — ответственно ли относится Курганов к порученному делу.
— Витенька, ты здесь? А я тебя по всему поселку ищу. И в общежитии была, и в клубе справлялась…
Виктор только сейчас обратил внимание, что уборщица, закончив свои дела, уже ушла. Вместо нее посреди комнаты стоит усталая, запыхавшаяся тетя Фрося.
— Чего ж ты тут–то ночью? Да и один еще! Пашенька меня надоумил: «Поди, говорит, позови к нам… Пусть хоть поест ладом да отдохнет…» Пойдем, Витенька, а?
— Спасибо, тетя Фрося. Неудобно мне.
— А чего ж неудобного? Чужие ли мы тебе? Пашенька мой вот как переживает. И все водка проклятая. Разве ж трезвый он позволил бы себе это?! А теперь и сам места не находит. С утра в Ленинград ладил ехать, да беда с Тихоном Захаровичем помешала… А беда — вай–вай — беда какая вышла!
— Не надо ему ехать.
— И я ему то говорю. Зачем ехать да деньги зря переводить? Леночка у нас умная, добрая… Она и сама приедет. Погостит у тетки и приедет. Мало ли что в жизни бывает! Пойдем к нам, а?
Тетя Фрося вдруг присела на стул рядом с Виктором и расплакалась.
— Пойдем, Витенька! Прошу тебя, пойдем! Чует мое сердце, если вы с Пашенькой не поладите, уедет он отсюда… Совсем уедет! Он ведь, знаешь, какой у меня? Куда ему ехать? Поговори ты с ним! По–хорошему поговори! Он ведь к тебе с добром относится, ты не думай. Чего ж вам друг перед другом гордыню показывать? Пойдем, Витенька, а? Ты прости, христа ради, что я в такое время пристаю! Только и тебе будет легче, я ему. Вы ж друзья были.
— Хорошо, тетя Фрося. Вы идите, а я приду попозже. У меня тут дело ненадолго.
— Ну–ну. Не задерживайся. Ждать будем.
Она ушла так же неожиданно, как и появилась.
Некоторое время Виктор стоял, вслушиваясь в ее быстрые, удаляющиеся шаги под окнами. Потом подошел к телефону, вызвал райцентр, телеграф.
— Вы можете принять у меня телеграмму?
— От посторонних по телефону не принимаем.
— Девушка, я вас очень прошу. Я не посторонний. Не будить же мне сейчас Веру. Я завтра уплачу… Телеграмма очень короткая. Всего два слова. Нет, три слова: «Приезжай. Жду. Виктор». Это так важно, девушка…
Через десять минут он вышел из конторы. Линия уличного освещения была выключена, и лишь кое–где в поселке еще светились окна.
Было темно, скользко. Но Виктор шел, не замечая ни слякоти, ни темноты. Он думал о том, как хорошо человеку, когда вокруг него столько хороших людей. Этим часто восторгалась Лена. Он, слушая, умудренно молчал. А ведь она права, хотя у нее это шло и не от житейского разума, а от юношеского восторженного чувства. Да, жизнь потом учит. Но как жаль тех, кто с годами и с действительной умудренностью утрачивает почему–либо ощущение этой радости, которая и поднимает человека на жизнь, на подвиг, на смерть.
Кто сохранил эту радость до конца дней своих, тот не зря прожил на земле.
1957–1963
Вызов
Первая повесть из жизни Петра Анохина
«Мальчишка — я!» Но знайте — муж стальной
В мальчишке том стараньем вашим зреет…
Спасибо вам: спознался я с тюрьмой,
Она во мне кой–что посеет
И не на радость вам такой посев взойдет!..
• • • • • • •
(Из стихов, обнаруженных в архивах Олонецкого жандармского управления.)Глава первая
«Вчера вечером я и мой сослуживец Иванов были на пароходной пристани при отходе парохода в гор. Петербург и после отхода пошли домой… Хотя мы состоим жандармскими унтер–офицерами, но носим штатское платье; вчера на пристани мы были для исполнения возложенных на нас обязанностей. Когда мы стали подыматься в гору, то увидели шедшего за нами Петра Анохина, которого мы знали, так как он состоял разносчиком «Оленецких губернских ведомостей», и Анохин нас знал…»
Из показания свидетеля Алексея Ишанькина, 12 августа 1909 г. (Центральный государственный военно–исторический архив, фонд 1351, опись 12, дело 221, лист 59.)1
В этот вечер помощник начальника Олонецкого губернского жандармского управления подполковник Константин Никанорович Самойленко–Манджаро провожал в Петербург жену и дочь.
Вакационный срок в Смольном институте заканчивался, а приглашения до сих пор не поступило, время шло, поэтому Самойленко–Манджаро согласился с женой, что ехать в Петербург надо немедленно.
Собственно говоря, шанс у его дочери оставался единственный.
Три года назад, когда Самойленко–Манджаро служил в Перми начальником охранного отделения, он близко сошелся с генерал–лейтенантом бароном Остен–Сакеном, командированным на Урал во время тогдашних беспорядков. Теперь барон круто пошел вверх, был принят при дворе, а его жена недавно стала фрейлиной в свите императрицы. Неужели барон, много раз пользовавшийся гостеприимством в доме Самойленко–Манджаро, откажет теперь в протекции его дочери, к которой там в Перми был особенно ласков? Ведь совсем недавно губернатор Протасьев, вернувшись из Петербурга, передал полковнику от него поклон и доверительно сообщил, что барон пользуется особым благорасположением у великого князя, главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа.
В пять часов все было готово к отъезду. Управленческий кучер Тихон старательно и накрепко привязал к задку легкой пароконной коляски три тяжелых чемодана и в ожидании поглядывал на окна.
Когда они втроем спустились во двор, ворота уже были открыты, и Тихон сидел на козлах. Погода стояла пасмурная. Утром прошел холодный дождь, и весь день над городом нескончаемо плыли низкие сизо–лиловые тучи.
— Костя, взял бы ты шинель, — попросила Мария Сергеевна.
— Тихон! По Святонаволоцкой до набережной! — приказал подполковник, усаживаясь в коляску.
— Слушаюсь, вашскородь!
К пароходной пристани ближе попадать по Мариинской и Соборной улицам, но Святонаволоцкая была помалолюдней, и Самойленко выбрал ее.
Чуть отвернув от ветра лицо, подполковник молча — сидел и думал, что, вероятно, следовало бы ему самому везти дочь в Петербург. Весной, когда они с Марией Сергеевной окончательно решили судьбу Людочки, он, собственно, так и предполагал поступить. Тогда он ожидал для себя больших перемен. В декабре полковника Загоскина перевели из Петрозаводска, и Самойленко полгода исполнял обязанности начальника губернского жандармского управления, ожидая, что вот–вот придет приказ о его окончательном утверждении в этой должности, а следовательно — и о повышении в чине. Он имел все основания рассчитывать на это.
Охранные дела в Олонецкой губернии шли неплохо. Если отбросить ложную скромность, то в этом немалая заслуга подполковника Самойленко–Манджаро. Он приехал в Петрозаводск в сентябре 1907 года, и уже через два месяца активно функционировавшая здесь организация социалистов–революционеров была ликвидирована. Эта операция оказалась несложной. Эсеры, вышедшие из подполья после манифеста 17 октября, свою работу в Петрозаводске строили в расчете на интеллигенцию. Их главари были известны полиции по выступлениям на легальных митингах в 1905–1906 годах. Несколько дольше пришлось повозиться с социал–демократами. Как выяснилось позднее, у них. был даже создан так называемый Петрозаводский комитет РСДРП, имелась своя библиотека, гектограф и тайная связь с Петербургом. Деятельность они сосредоточили на Александровском заводе, где осведомительская сеть у жандармского управления не была по существу налажена. Это и понятно — за два года в губернии сменилось три начальника жандармского управления. Тут пришлось начинать почти на голом месте, и опыт, приобретенный в Перми, принес немалую пользу.
Разве не вправе был рассчитывать подполковник Самойленко–Манджаро на повышение? За последние полгода, пока он временно исполнял обязанности начальника, сверху не поступило ни одного замечания или выражения неудовольствия.
Но вот в апреле на горизонте появился полковник Криштановский, и все надежды рухнули. Вернее, даже не сам полковник, а шифровка о его назначении. Новый начальник прибыл значительно позже, через месяц. Он, как видно, не очень был обрадован назначением и не спешил к месту службы.
Константин Никанорович тогда, помнится, впервые подумал, как нелепо и несправедливо устроена жизнь. Рассуди наверху по–иному — и были бы довольны двое — и он, и Криштановский. А так — проштрафился один, а наказан другой. В том, что Криштановский, служивший до этого в Петербурге, чем–то провинился, Самойленко не сомневался. Без этого из штаба корпуса редко переводят в провинцию, да еще без повышения в чине.
Отсюда и пошли натянутые отношения с новым начальником. И хотя чопорный, пунктуальный до мелочей Криштановский ничем не выказал нерасположения к своему помощнику, Самойленко–Манджаро чувствовал, что близости между ними никогда не будет.
…Коляска уже мягко катилась по пустынной Владимирской набережной. В погожие летние дни, особенно в праздники, здесь всегда людно. У деревянных причалов суетятся лодочники. Чиновники и мещане степенно прогуливаются семьями вдоль редкой тополевой аллеи у самой кромки воды. К часу отправления петербургского парохода гуляющие стягиваются к пристани. Из Летнего сада появляются компании гимназистов, студентов, прибывших из Петербурга на каникулы, и в такие минуты причал заполнен до отказа. Владельцы Онежского пароходства поощряют эти сборища, в праздничные дни нанимают духовой оркестр, и тогда, кажется, весь город собирается на пристани. Настоящая ярмарка!
В этот вечер, к счастью, всего лишь три–четыре десятка человек стояли на пирсе. Колесный пароход «Апостол Петр» поднимал пары, труба густо дымила, и восточный ветер сносил дым на провожающих.
У коновязи Тихон лихо развернулся, соскочил на землю и застыл, придерживая лошадей под уздцы. Дождавшись, пока господа выйдут из коляски, он привязал коней и принялся за чемоданы. Подполковник с женой и дочерью двинулись к пароходу.
Самойленко–Манджаро еще из коляски приметил двух мужчин, небрежно облокотившихся на перила неподалеку от трапа. Тогда он лишь мельком подумал, что это, возможно, его люди, а теперь с раздражением отметил, что не ошибся — это действительно были переодетые унтер–офицеры дополнительного штата Иванов и Ишанькин.
Подполковник едва сдержался, чтоб не выругать их и не отправить отсюда. Какие же это, к черту, сыщики, если бросаются людям в глава даже издали? Иванов еще ничего — он хоть внешне похож на преуспевающего мещанина–торговца, да и держится вроде свободно. А Ишанькин? Того и гляди, вытянется в струнку и гаркнет на вою пристань: «Здравия желаю, ваше высокородие!»
Провожающих на пароход не пускали, но матросы у трапа почтительно расступились перед жандармским подполковником, а на палубе его встретил сам капитан и проводил в каюту.
— Прошу вас, господин капитан, распорядитесь о багаже! — сказал подполковник, которому хотелось остаться наедине с женой. — Людочка, ты поди, дорогая, погуляй на палубе.
Внизу глухо и ровно работала машина, потом сверху раздался долгий сиплый гудок. Подполковник взглянул на часы — без четверти шесть.
— Маша! — начал он вполголоса. — Дай бог тебе удачи! Однако прошу тебя, не унижайся перед бароном, если почувствуешь, что он станет уклоняться…
— Не понимаю, зачем ты говоришь это? — пожала плечами жена. — Барон — воспитанный человек… Он так хорошо относился к нам, к Людочке…
— Маша, ты не знаешь Петербурга! Провинциальные знакомства там очень недорого ценятся.
— В конце концов, мы тоже дворяне… И не милости у барона мы будем просить, а содействия.
— Вот и славно! — обрадовался подполковник. — У меня, понимаешь, мелькнула мысль. Ты помнишь тайного советника, сенатора Крашенинникова? В прошлом году он приезжал сюда…
— Отлично помню.
— Я, пожалуй, напишу ему… Это на крайний случай, если барон будет холоден.
— Удобно ли? Хотя, что ж, попробуй… Для нас сейчас все знакомства важны.
Матросы принесли вещи, и сразу же наверху раздался второй гудок. Подполковник стал прощаться.
— Прошу тебя, дорогой! Меньше кури и, ради бога, не сиди подолгу за преферансом. Это вредно для здоровья! Вы всегда так много курите! Извини, я на палубу выходить не стану. Пришли скорее Людочку, я беспокоюсь, где она?
Уже готовились убирать трап, когда подполковник сошел на причал. Провожающие выкрикивали последние напутствия. Иванова и Ишанькина на прежнем месте уже не было. Не задерживаясь, подполковник зашагал к выходу.
Он уже садился в коляску, когда раздался отправной гудок, потом ветер донес первые тяжелые удары плиц по воде. Не оглянувшись на пароход, подполковник привычно перекрестился, мысленно пожелал своим доброго пути, секунду помедлил и приказал кучеру:
— На Екатерининскую! Дом Румянцева!
2
Однако в этот вечер игра не состоялась. Партнеры — командир петрозаводского отряда пограничной стражи ротмистр Фирсов и управляющий Олонецкой контрольной палатой действительный статский советник Челягин, как сговорившись, опоздали чуть ли не на час.
Квартирных телефонов у них не было, но хозяин дома, артиллерийский приемщик при Александровском заводе, штабс–капитан Межинский, не зная, как выйти из неловкого положения и чем занять важного гостя, то и дело бросался к аппарату, куда–то звонил, кого–то спрашивал, что–то пытался предпринять и, не дождавшись результатов, давал отбой, чертыхался, снова и снова приглашал подполковника к столу с закусками.
Они познакомились два года назад, когда Самойленко впервые посетил завод. Кроме преферанса общих дел у них не было, и знакомство поэтому носило характер легкий, приятный, ни к чему не обязывающий. Осенью и зимой за столом встречались по три раза в неделю — для игры были установлены твердые дни. Летом, как правило, компания распадалась и приходилось прибегать, как сегодня, к услугам случайных партнеров..
Холостяцкая квартира Межинского была знакома многим чинам Петрозаводска. Рассказывали, что даже сам губернатор Протасьев — большой любитель преферанса, не один раз в шутку собирался нагрянуть к штабс–капитану, чтоб лично проверить, не превращает ли нынешняя молодежь эту безобидную и благородную игру в азартную.
Об этом губернатор мог не беспокоиться. Играли здесь тихо и без азарта, лишних капиталов ни у кого не было, больше разговаривали, обсуждая губернские новости, а копеечный вист даже при самом диком невезении не позволял проиграть более двух–трех червонцев за вечер. Попросту за вином и картами убивали время, которого было слишком много у каждого, особенно зимой, когда с закрытием навигации Петрозаводск оказывался в три раза дальше от столицы, чем летом. В городе не было ни театра, ни порядочного клуба. Два года назад во вновь отстроенном Народном доме начала давать представления профессиональная труппа, но и само деревянное здание, и репертуар, явно рассчитанный на городских обывателей, были слишком далеки от запросов образованной публики.
Правда, и этот плюгавенький театрик, который еле сводил концы с концами, требовал внимательного глаза. В погоне за эффектом актеры так и норовили приспособить свои роли к условиям Петрозаводска, загримироваться под известных в городе должностных лиц и копировать их со сцены. Недавно, когда играли пьесу некоего Рышкова «Его превосходительства», то посягнули даже на самого губернатора. Конечно, никакой преднамеренной политикой тут и не пахло. Обычное озорство в расчете на кассовый успех. Получилось даже забавно и весело, но слух дошел до губернатора, и жандармскому управлению пришлось разбираться и наводить порядок.
Коммерческий клуб на Садовой в полной мере оправдывал свое прозвание «Купеческий», которое давно и напрочно утвердилось за ним чуть ли не официально. Что и говорить о культуре города, если в нем до сих пор не было электричества. По ночам зажигалось на улицах два десятка керосиновых фонарей, которые горели не столько для света, сколько для обозначения перекрестков.
Что же еще делать в этом городе людям, если не убивать долгие вечера за картами?
Ротмистр Фирсов и Челягин явились одновременно — веселые, смеющиеся, как будто и вины не чувствуя за опоздание.
— Господа, что же это вы… — начал было Межинский, но Фирсов громовым басом захохотал на весь дом и плюхнулся в кресло.
— Нет, вы только послушайте!.. Только послушайте!.. — в бессилье мотал он головой, указывая пальцем на Челягина. — Алексей Захарович, повтори! Прошу тебя, повтори!
Сдержанно улыбавшийся Челягин разделся, повесил шинель и спросил:
— Вы, господин подполковник, конечно, знаете Яблонского?
Самойленко–Манджаро не терпел не только разговоров, но и отдаленных намеков, касающихся сферы его деятельности, особенно со стороны штатских, да еще в подобных шутливых обстоятельствах. Он нахмурился и молчал. Однако все трое выжидающе смотрели на него.
— Если вы имеете в виду социал–демократа Лазаря Яблонского, высланного в прошлом году из пределов губернии, то да, знаю, — выдержав паузу, холодно ответил подполковник.
— Нет, нет… Отца его, — уточнил Челягин.
— Ну и что же? — еще строже спросил Самойленко–Манджаро.
— Так. Маленький случай. Сам сегодня был свидетелем. Иду это я вдоль Сенных рядов… Там в конце торгуют всякой рухлядью… У этого старика Яблонского, как вы знаете, нет даже ларька — прямо на земле торгует, чем придется… В последнюю неделю цветочные горшки продавал… Стоит он озябший, с лиловым носом… Сознаюсь, господа, каждый день его вижу и каждый раз жалею старика — все та же дюжина горшков… А сегодня, откуда ни возьмись, появляется впереди меня столичная дама. Утверждать не стану, но, по–моему, — это была супруга нового начальника жандармского управления полковника Криштановского.
— Не тяни, Алексей Захарыч! — взмолился Фирсов. — Суть, суть давай.
— Дама с прислугой… Останавливается у Яблонского, осматривает его горшки и, не спрашивая цены, говорит: «Сколько у вас? Дюжина? Беру все!..» Что же, вы думаете, сделал этот торговец? Думаете, обрадовался, стал благодарить? Ничего подобного. Он засуетился, забегал у своих горшков, а потом и спрашивает: «Неужели все сразу? Ай–ай–ай! Чем же я завтра торговать буду?»
— Вот именно — чем же! — выкрикнул Фирсов и снова загремел на весь дом. Межинский тоже не удержался, лишь подполковник улыбнулся скорее из вежливости и спросил:
— Надеюсь, не это задержало вас на целый час?
— За опоздание — куча извинений! Но я не один, ротмистр — тоже.
— Господа, господа, прошу закусить и скорее за дело! — заторопил хозяин.
Только сели за стол и не успели сыграть даже первый круг, как раздался телефонный звонок. Фирсов подошел к аппарату и потом позвал: —
— Константин Никанорович, вас…
Самойленко–Манджаро, не торопясь, закончил раздавать карты, по привычке заглянул в прикуп и пошел к телефону. Едва он назвал себя, голос Криштановского строго произнес:
— Господин подполковник, прошу вас немедленно прибыть в городское полицейское управление.
— Слушаюсь! — Самойленко–Манджаро подождал — не добавит ли начальник еще чего–нибудь, но на другом конце дали отбой.
Настроение испортилось. Он не сомневался, что случилось что–то серьезное — за последние два месяца это был первый вызов во внеслужебное время.
Игра — бог с ней, хотя за лето он и очень истосковался по преферансу. «Прибыть в полицию!» Ясно, какое–то важное происшествие! И то, что Криштановский первым узнал о нем, и то, что сейчас придется приносить извинения и срочно уходить, нарушая компанию и возбуждая у партнеров ненужное и преждевременное любопытство, чего так не любил Самойленко–Манджаро, — все это было вдвойне неприятно. И особенно неловко извиняться перед Челягиным, которому он в сущности сделал выговор за опоздание. Он хоть и штатский, а все–таки генерал.
— Господа, прошу прощения. Я, к сожалению, должен покинуть вас! — Самойленко–Манджаро сделал общий поклон и добавил, обращаясь к Челягину: — Извините, ваше превосходительство! Служба! — И он в бессилии перед обстоятельствами развел руками.
«Ваше превосходительство» возымело свое действие и было принято не только с удовлетворением, но и с сочувствием к действительно беспокойной службе подполковника.
До полицейского управления на Садовой было совсем близко, но, выйдя на улицу, Самойленко–Манджаро увидел, что управленческий кучер торопливо разворачивает перед подъездом лошадей. В коляске сидел дежурный жандармский вахмистр.
— Что случилось? — вполголоса спросил подполковник, как только коляска загрохотала по булыжной мостовой.
Вахмистр опасливо поглядел на кучера и, склонившись к подполковнику, тихо произнес:
— Покушение, вашскородие!
Самойленко–Манджаро даже побледнел. После прошлогодней истории с покушением на сенатора Крашенинникова, стоившей ему не одной пряди седых волос, но, к счастью, окончившейся благополучно, это слово стало самым роковым. Что за дурацкое наваждение? Не прошло года — и снова…
— Где? Когда? На кого?
Вахмистр снова покосился на кучера, теперь чуть не вплотную приблизил лицо к подполковнику и прошептал:
— Сегодня… На господина Иванова…
— На какого Иванова? — не выдержал подполковник. — Да говори ты громче, черт возьми!
— Слушаюсь! — испуганно дернулся вахмистр, но все–таки опять поглядел на кучера, помялся и в нерешительности прошептал: — Ha сыщика–с, вашскородие… На состоящего в должности филера унтер–офицера Иванова–с…
С плеч упал такой груз, что подполковник шумно и облегченно вздохнул.
— Убит?
— Никак нет. Жив–здоров. Только пальто малость попортили. А так жив–здоров. Пальто, правда, мало надеванное…
Коляска уже разворачивалась у двухэтажного деревянного здания городской управы на углу Мариинской и Садовой, где располагалось и полицейское управление, и Самойленко–Манджаро, не ожидая, пока лошади остановятся, выпрыгнул из нее, потом одумался, огляделся по сторонам и в подъезд вошел степенно, неторопливо, как и подобало ему по чину.
Глава вторая
«Седьмом вечера Петрозаводске Соборной улице местный, мещанин Петр Федоров Анохин восемнадцати лет нагнав двух филеров жандармов Ишанькина Иванова ударил последнего сзади финским ножом в шею безрезультатно распоров только воротник пальто тужурки. Анохин задержан Ивановым…»
Из шифрованной телеграммы в Петербург, командиру корпуса жандармов. (ЦГА КАССР, ф. 19, оп. 2, ед. хр. 45/2, л. 9.)1
В кабинете полицеймейстера за широким резным столом сидел полковник Криштановский, а сам хозяин кабинета Мальцев — лысоватый, добродушный толстячок, счастливый своим недавним назначением на должность — скромно пристроившись сбоку, торопливо и сосредоточенно писал рапорт.
— Прошу вас, Константин Никанорович, садиться, — вежливо встретил Криштановский своего помощника, указывая на два глубоких кожаных кресла. — Вы еще не закончили, Михаил Романович? — обратился он к полицеймейстеру.
— Одну минутку, ваше высокоблагородие, — отозвался тот, смахнул рукавом пот со лба и застрочил еще быстрее. — Может быть, прикажете переписать набело — я вызову писца!
— Сейчас не надо. Перепишете завтра и пришлете в управление официальный рапорт.
Самойленко–Манджаро уловил в поведении полковника что–то настораживающее: Криштановский впервые обратился к нему по имени–отчеству.
— Могу я, господин полковник, узнать, что случилось? — спросил он.
— Да, да, конечно… Михаил Романович, может быть, уже достаточно? Подробнее доложите завтра!
Криштановский взял у Мальцева недописанный рапорт, не торопясь, прочел его про себя, потом огласил вслух:
— «Сего числа, в 6 часов вечера на Соборной улице у женской гимназии, мещанин города Петрозаводска Петр Федоров Анохин, восемнадцати лет, покушался на убийство унтер–офицера жандармского управления Дмитрия Ивановича Иванова. Анохин при задержании сознался в намерении лишить жизни Иванова и находится при вверенном мне Полицейском Управлении…»
— Какова цель покушения? — спросил Самойленко–Манджаро и сразу же сам понял, что поступил опрометчиво.
— А это, уважаемый Константин Никанорович, мы рассчитывали узнать у вас! — Криштановский, подавшись вперед, склонился к самому столу, и в световой круг от лампы с зеленым абажуром вошло его белое, сухощавое лицо: красивые остроконечные усы, чуть тронутые благородной сединой, тонкие, слегка скривленные в усмешке губы и главное — глаза — чужие, голубые и холодные, которые с первой встречи почему–то были особенно неприятны Самойленко.
— Именно, и только у вас! Именно вы нам внушали мысль, что в городе не осталось больше политических сил, способных на противозаконное действие. Не так ли, Михаил Романович? — вдруг повернулся Криштановский к Мальцеву, который лишь тяжко вздохнул в ответ.
«Вот ты куда метишь! — подумал Самойленко–Манджаро. — Только не пойму пока — зачем это тебе!»
— Не обижайтесь, господин подполковник, но это событие весьма и весьма печальное для нас всех…
— Да, весьма печальное, — со вздохом подтвердил Мальцев и осекся, поняв, что перебил Криштановского.
— Оно несомненно может вызвать весьма неблагоприятный отзвук, если не будут приняты незамедлительные меры. Поэтому предлагаю вам в соответствии с двадцать первой статьей «Положения об охране» приступить к дознанию.
Последнюю фразу Самойленко–Манджаро счел за лучшее выслушать стоя. Как только полковник умолк, он даже слегка прищелкнул каблуками, как это делал двадцать лет назад юнкером III Александровского училища.
— Слушаюсь!
— Сидите, сидите, — успокоил его полковник.
— Могу я узнать, где находится обвиняемый?
— Его допрашивает судебный следователь Чесноков в камере городского пристава.
— Где прикажете приступить к дознанию — здесь или в управлении?
— Начните сразу же здесь, как только закончит судебный следователь… Скажите, Константин Никанорович, Анохин ранее не состоял под наблюдением по вверенному вам ведомству? Может быть, замечался в связи с другими делами?
Новая перемена тона начальника опять насторожила подполковника. Он хорошо знал в лицо разносчика «Олонецких губернских ведомостей» и смутно припоминал, что в доносах филеров фамилия Анохина как будто встречалась. Однако не выработав твердой линии поведения, Самойленко всегда избегал определенных ответов.
— Я боюсь полагаться на память, — подумав, ответил он. — Если прикажете, я могу поехать в управление и свериться по журналу?
— Пока нет нужды. Подождем Чеснокова.
Первый следственный допрос явно затягивался. Чесноков прибыл в управление через тридцать минут после происшествия, по устному донесению полицеймейстера составил письменное постановление о привлечении Анохина в качестве обвиняемого и потом долго ждал товарища прокурора Григоросуло. Вдвоем они начали допрос, который продолжался уже около часа.
— Может быть, вы, Константин Никанорович, пока опросите Иванова и Ишанькина, — предложил Криштановский после нескольких томительных минут молчания. — Они, кажется, в дежурной комнате, не так ли. Михаил Романович?
— Нет, нет. Уже в канцелярии управления.
— Я собирался просить об этом вашего разрешения, господин полковник, — с готовностью встал Самойленко–Манджаро.
2
Иванов и Ишанькин сидели в пустой канцелярии, возле огромного несгораемого шкафа, на котором чуть светилась лампа с прикрученным фитилем. При входе подполковника они разом вскочили, вытянулись и застыли, не спуская глаз с начальника.
Самойленко–Манджаро выбрал стол у стены, уселся и приказал подать лампу. Они оба разом бросились к ней: Иванов оказался первым. Он поставил на стол лампу, дрожащими пальцами прибавил огня и снова занял место рядом с Ишанькиным.
Это было против всяких правил дознания, но подполковник решил допрашивать их обоих вместе.
— Ну–с, садитесь, — начал он и, видя, что они недоуменно переглядываются, приказал: — Садитесь, говорю! Достукались! Молодцы! Хороши филеры — нечего сказать! Сопляк–мальчишка делает с ними что хочет! Почему на пристани были вместе? Иванов, отвечай!
— Позвольте доложить, вашскородие! На пристани был господин Альбов — агент компании «Зингер», наблюдаемый нами согласно приказу.
Два года назад нынешний разъездной агент компании «Зингер», лодейнопольский мещанин Альбов проживал в Петрозаводске и привлекался к дознанию за участие в подпольном кружке. Поэтому, как только он появился в городе, подполковник приказал установить за ним негласное наблюдение.
— Что же он делал там?
— Судя по поведению, приходил узнавать, когда будут пароходы на Вытегру. Он, вашскородие, к отъезду готовится.
— С Анохиным он не наблюдался?
— Никак нет, вашскородие. Анохина мы видели на пристани, но с Альбовым они не разговаривали и, по всему судя, даже незнакомы.
Иванов, рослый двадцатисемилетний парень с усиками, уже несколько лет служил в должности унтер–офицера дополнительного штата. В Петрозаводск он был прислан из Владимира, когда там был открыт революционерами и работать сыщиком уже не мог. Здесь он начал неплохо. Именно ему удалось добыть преступные документы в доме Рыбакова по Большой Подгорной улице, которые затем привели к раскрытию тайной организации эсеров. Помог он и в деле с социал–демократами. Для этого его пришлось на полгода «устраивать» конторским служащим на Александровский завод, потом, задолго до ареста группы Ашкенази, Яблонского и Григорьева, «ссорить» с заводским начальством и «увольнять». Иванова все время приходится скрывать и маскировать.
С Ишанькиным легче. Тот старше, в армии дослужился до чина унтер–офицера, вышел в запас, имеет свой дом, усадьбу и ничто не мешает ему быть филером без видимости службы. Но Ишанькин глуп, прямолинеен и годен лишь для наружного наблюдения.
— Рассказывай по порядку, как было! Садись!
Иванов сделал два шага вперед. Однако сесть в присутствии подполковника не решился.
— Когда пароход, вашскородие, отошел, то я и Ишанькин пошли домой… Ну не то чтоб на самом деле домой, а так пошли, — домой вроде бы. Переждали мы почти всех и пошли… При подъеме в гору по Соборной улице приметили мы идущего сзади нас Анохина… Но мы не наблюдали за ним… Идем себе, переговариваемся… А когда мы уже прошли женскую гимназию, то я почувствовал удар сзади в шею. Вроде острым и большим чем–то… Стал это я ощупывать место удара и оттуда выпал нож. Поднял я его, а тут гляжу во двор гимназии вбежал человек. Ну, мы с Ишанькиным за ним, А он проходным двором мимо мужской гимназии, да к Гостиному двору, да и дальше к бульвару… Тут я и закричал: «Стой, иначе стрелять буду!» А он, вашскородие, бежит… Тогда я снова: «Стой, а то убью».
— Тут, вашскородие, неточно немного, — вступился Ишанькин, — Поначалу — правильно, а в другой раз — неточно. Второй раз он крикнул: «Стой, все равно убью».
— Я же так и говорю, — обиделся Иванов, недовольно обернувшись к Ишанькину.
— Ты слово «все равно» его высокоблагородию не сказал! — строго возразил тот.
— Хорошо, хорошо, Ишанькин… Продолжай, Иванов!
— Ну, человек этот остановился. Прямо, вашскородие, напротив дверей полиции… Тут мы его взяли под руки и сдали дежурному городовому Вилаеву. А этак минут через пять какая–то девчонка гимназистка ножны принесла: «Нашла, говорит, на бульваре», и видела, как Анохин их выбросил на бегу.
— Чем докажешь, что именно Анохин тебя ударил?
— Так ведь он сам сознался, вашскородие, — удивился Иванов. — Так прямо и сказал, что убить меня покушался, только не вышло… Да и народу другого кругом никого не было. Ишанькин вон свидетель…
— Ты что скажешь, Ишанькин?
Тот привычно вытянулся в струнку, несколько секунд широко открытыми глазами смотрел на подполковника и вдруг чуть не навзрыд завыл:
— Вашескородие! Докуда ж это нам терпеть такое придется! Докуда ж терпеть, вашескородие?! Ежели каждый с ножом кидаться станет…
— Прекрати, Ишанькин! У тебя есть что добавить или уточнить?
— Никак нет–с, вашескородие. Все точно–с.
— Иванов! Анохин когда–либо проходил у нас по наблюдению или, может, замечался с другими наблюдаемыми.
— Сам, вашскородие, не проходил. А замечаться — он замечался. Первый раз в позапрошлом году по участникам преступной сходки на Пробе. А потом — нынче весной, вместе с наблюдаемыми Левой Левиным и Давидом Рыбаком. В журнале мной сделана пометка под кличкой «Седой».
— Ишанькин! А у тебя?
— Никак нет, вашскородие. Встречал я его чуть не каждый день — он газеты разносит. А так вроде ничего подозрительного.
— При задержании били его?
— Никак нет. Опасались, вашскородие… Так сгоряча разок–другой ударили, а чтоб бить — этого не было.
— Хорошо хоть на это ума хватило… Иванов, оставайся здесь и жди приказаний. Ишанькин! Немедленно отправляйся в управление! Вместе с дежурным вахмистром привезешь сюда мой черный портфель! Повторяю, вместе с дежурным вахмистром!
— Слушаюсь!
3
Отличительной чертой судебного следователя первого участка Петрозаводского уезда Тимофея Федоровича Чеснокова была аккуратность. Сам по натуре человек тихий, он меньше всего подходил для хлопотливой должности судебного следователя, требовавшей размаха фантазии, широты мышления, крутых поворотов в отношении с обвиняемыми. Нет, Чесноков не был блестящим следователем, хотя служил по ведомству юстиции более тридцати лет и дослужился до чина статского советника. Неторопливость, сосредоточенность и аккуратность — вот три кита, на коих основывалась вся его карьера, не очень успешная для человека с университетским дипломом. Рассказывают, что в Петрозаводск Тимофей Федорович приехал совсем иным и его первое дело о злоупотреблениях тогдашнего начальника Олонецкой таможни наделало много шума. Было это в пору, когда судебные учреждения России переживали бурную и долгую неразбериху, вызванную введением судебной реформы 1864 года. Дважды окружной суд под напором неопровержимых улик выносил обвинительный приговор, и дважды Сенат, разбирая кассационную жалобу обвиняемого и придравшись к каким–то формальным неточностям, кассировал приговор. Дело длилось около двух лет, и за этот срок общественное мнение губернии эволюционировало от восхищения молодым следователем к его полному порицанию. В конце концов дело было передано для дополнительного дознания в другие руки, обвиняемый был переведен на службу в другую губернию, а следователю Чеснокову пришлось начинать свою карьеру заново, но уже не с нуля, а с минусовой позиции, так как начальство усмотрело в его действиях серьезные упущения.
С тех пор Тимофей Федорович стал неузнаваем. Больше он уже не получал ни замечаний, ни порицаний по службе. Но с годами его некогда румяное, жизнерадостное лицо бледнело, приобретало серый землистый оттенок, карие глаза становились все более печальными а сам он как–то быстро постарел, отпустил бородку, усы, купил пенсне и стал похож на учителя гимназии.
Во время допросов он неторопливо записывал показания в протокол, четко формулируя вслух каждую фразу и требуя от допрашиваемого подтверждения ее правильности. Вопросы задавал ровным, спокойным голосом, без всякого желания навязать обвиняемому какую–либо мысль, поэтому и протоколы Чеснокова отличались обстоятельностью и строгой последовательностью.
Сегодня он вел следствие в присутствии помощника прокурора Григоросуло. Самойленко–Манджаро не без оснований опасался, что допрос может затянуться на несколько часов. Полковник Криштановский уже начал терять терпение. Несколько раз он просил полицеймейстера пойти узнать — скоро ли, — и уже готов был сам отправиться в камеру городского пристава, когда наконец дверь кабинета растворилась и вслед за Григоросуло вошел с портфелем в руке Чесноков.
— Наконец–то! — Полковник поздоровался с вошедшим и спросил: — Надеюсь, после такого длительного допроса вы нас утешите важными сведениями?
— Обвиняемый признал себя виновным, — тихо ответил Чесноков.
— Но это мы знали и раньше!.. А сообщники? Цель преступления? Есть ли какие–либо дополнительные данные о политическом характере злодеяния?
Чесноков достал из портфеля протокол и протянул полковнику:
— Вот протокол! Случай казусный… Больше, к сожалению, я ничего пока добавить не могу… Господин полицеймейстер, вручаю вам постановление о мере пресечения… Копию прошу направить вместе с обвиняемым начальнику тюрьмы… Пострадавший Иванов и свидетель Ишанькин сегодня мне не потребуются. Пусть явятся завтра к одиннадцати часам в мою камеру.
Полковник быстро пробежал глазами протокол, недовольно хмыкнул в сторону Чеснокова и приказал Самойленко–Манджаро:
— Прошу приступать к дознанию!
— Могу я, господин полковник, ознакомиться с протоколом?
— Да, да, конечно… Только он навряд ли отражает характер дела. Телеграммы командиру корпуса, департаменту полиции и начальнику охранного отделения я отправлю немедленно.
— Не лучше ли, господин полковник, подождать окончания допроса, — нерешительно возразил Самойленко–Манджаро.
— Нет. Ждать нет никаких оснований. О результатах прошу мне донести немедленно. Я буду дома. Для ведения дознания предоставляю все вверенные мне права.
— Слушаюсь!
Пока начальник одевался и разговаривал с Григоросуло, Самойленко–Манджаро успел прочитать протокол и подчеркнуто громко сказал полицеймейстеру:
— Прошу вас, Михаил Романович, немедленно принять ряд мер… У дома Анохиных, по Новой улице, установить засаду. Произвести тщательный обыск, брать всех приходящих и доставлять в жандармское управление… Обыски, вероятно, потребуются и в других местах. Сегодня же для допроса поочередно доставить в управление всех лиц по моему списку..
— Слушаюсь, Константин Никанорович!
Мальцев весь сиял от счастья, что такое щепетильное и непривычное для него дело столь легко и естественно вышло из ведения полиции, и ему уже не надо ни думать, ни приказывать, а лишь подчиняться и исполнять.
Машина завертелась. Забегали, засуетились полицейские чины, тихо отсиживавшиеся где–то в соседних комнатах. Лишь судебный следователь Чесноков, в шинели и фуражке, ожидая, когда ему вернут протокол, продолжал как ни в чем не бывало неторопливо и старательно протирать платком пенсне на цепочке. Дождавшись, он бережно уложил протокол в портфель, молча поклонился и вышел. Остальное его не касалось. Все предусмотренные Уставом Уголовного Судопроизводства процедуры им выполнены, и он, может до завтра выбросить из головы это совершенно непонятное ему дело. Пусть жандармское управление делает все, что ему вздумается. Тем более что при сем присутствует господин товарищ прокурора. Признаться, Чеснокова немного коробило — особенно вначале его службы, — когда жандармы беспардонно вторгаются в ход следствия, привносят в дело такой политический ажиотаж, что все это начинает мешать объективному дознанию. Но с этим он давно примирился. Тем паче сегодня когда дело начало явно приобретать политический характер ввиду прямой декларации обвиняемого о целях покушения.
Глава третья
«Я признаю себя виновным в том, что 11 августа 1909 года, в гор. Петрозаводске с обдуманным заранее намерением покушался на убийство жандармского унтер–офицера Дмитрия Иванова по поводу исполнения им служебных обязанностей... Я задумал убить Иванова около недели назад за то, что он открыл много политических преступлений… На убийство жандарма меня никто не подговаривал, и сообщников у меня не было… Больше в свое оправдание добавить ничего не могу…»
Из протокола допроса Петра Анохина 11 августа 1909 г. (ЦГВИА, ф. 1351, он, 12, д.222, лл. 54–55.)1
Худенький, невысокого роста парнишка в сером пиджаке и темно–коричневой ситцевой косоворотке сидел на деревянном диване вполоборота к письменному столу. Белесые гладко зачесанные волосы, которые в простолюдии называют «сметанными», по–девичьи нежная бледность лица и светлые широко открытые глаза делали его моложе своих восемнадцати лет.
Позади, чуть в отдалении, мрачно стоял полицейский надзиратель сыскного отделения Василий Лупанов.
Да, именно таким — только с огромной папкой в руках и в форменном картузе — привык видеть Самойленко–Манджаро рассыльного типографии, три раза в неделю приносившего в управление свежий номер «Олонецких губернских ведомостей».
— Фамилия, имя, отчество?
— Анохин, Петр Федорович.
— Время и место рождения?
— Родился в Петрозаводске, в 1891 году.
— Происхождение?
— Из местных мастеровых.
— Вероисповедание и подданство?
— Русский.
— Занятие и средства к жизни?
— Шесть лет работал в губернской типографии, получал 11 рублей в месяц. Две недели назад взял расчет, по собственному желанию.
— И с тех пор нигде не работал?
— Неделю назад поступил в типографию Каца.
— Семейное положение?
— Холост.
— Чем занимаются родители, братья и сестры?
— Отец умер. Работал на Александровском заводе, столяром. Мать Екатерина Егоровна работает по дому. Брату Дмитрию 12 лет. Сестра Евдокия портниха.
Самойленко–Манджаро с любопытством посмотрел на обвиняемого. Не часто на дознаниях люди из мастеровых дают такие точные и четкие ответы. Обычно сбиваются, переспрашивают, а то и вовсе молчат, и самому приходится формулировать суть их ответа.
Типовые анкеты жандармского протокола, как видно, составлялись с расчетом на интеллигенцию — в судебноследственном протоколе все сформулировано конкретней и проще. Зная, что его сегодняшний допрашиваемый — обычный рассыльный из типографии, подполковник старался задавать вопросы в доступной ему форме. Теперь очевидно, что делать этого не следовало — парнишка, по–видимому, не так уж и прост, как кажется…
— Место воспитания?
Это был восьмой вопрос анкеты, и впервые Анохин замялся, промолчал, поднял взгляд на подполковника, и в его светло–серых глазах промелькнуло недоумение.
— Место воспитания, спрашиваю? Ах, тебе непонятно… Ну–ну… Где учился, сколько, когда?
— Окончил три класса в приходском училище в 1902 году.
— Привлекался ли ранее к дознаниям? Каким, где, когда и чем окончено?
— Не привлекался.
Анохин отвечал тихим голосом и слегка картавил. Эта едва заметная картавость, напоминавшая подполковнику светский прононс некоторых губернских дам, невольно раздражала его.
— Ты почему шепелявишь? Разве ты не умеешь говорить нормально?
— Я говорю как умею.
— Раньше, мне помнится, ты не шепелявил.
— Мы с вами никогда не разговаривали.
— Ну а теперь вот, как видишь, довелось! Ну–ка братец! — кивнул подполковник полицейскому надзирателю. — Выйди–ка теперь за дверь… У нас с Анохиным есть дела не для посторонних ушей, не так ли? У него нашлись какие–то свои счеты с жандармами, и нам, естественно, хочется знать, когда, где и сколько мы ему задолжали. Ну–с, господин Анохин, я слушаю! Садись поближе и рассказывай! Хочешь — закури!
— Я не курю.
— Конечно, и водки не пьешь?
— Не пью.
— И с девицами не гуляешь? Понятно. Некогда. Истинный революционер так и должен поступать. У вас, вероятно, все такие?
— Где это — у нас?
— Ах, да… У вас, конечно, никакой организации нет и не было. Прошу прощения. Просто компания благонамеренных молодых людей, которые не пьют и не курят. Изредка, правда, нападают с ножами на высших государственных чинов, или на жандармов — и только.
— У нас нет никакой компании.
— Ну–ну… Мы отвлеклись от основной темы. Рассказывай. Я слушаю.
— Что рассказывать?
— Как ты один, повторяю — один! — задумал убить унтер–офицера Иванова и как привел свое намерение в исполнение.
— Я уже рассказывал следователю.
— Ну, ничего. Не ленись. Тебе теперь много, очень много придется говорить. Так что привыкай.
Анохин повторил почти слово в слово все, что уже рассказывал следователю Чеснокову. По фактам, деталям и обстоятельствам это не расходилось и с показаниями унтер–офицера Иванова. Полное признание вины и столь откровенные показания обвиняемого могли удовлетворить кого угодно, только не Самойленко–Манджаро. Делая вид, что внимательно слушает, подполковник мучительно раздумывал — как ему поступать дальше? Что выгодней — поднимать это дело до уровня политического преступления, совершенного тайной революционной организацией, или наоборот — замкнуть в рамках обычного уголовного проступка. Пока возможно и то и другое… Внутренне, для себя, подполковник был твердо убежден, что в городе нет настоящей, опасной для престола организации. Но если нужно для службы, то всегда найдется полдесятка таких вот, как этот, парнишек, «замеченных и наблюдаемых», которых, наверное, можно будет пристегнуть к сегодняшнему покушению. А пять человек — это уже сообщество.
В прошлом году по делу о покушении на сенатора Крашенинникова, совершенном Александром Кузьминым, подполковник сразу взял курс на ограничение его в рамках уголовного преступления маньяка–одиночки. В порядке дознания, были выявлены кое–какие связи Кузьмина и с эсерами, и социал–демократами, но все это для процесса не имело значения. Кое–кого потом незаметно выслали в административном порядке, кое за кем установили негласное наблюдение. Тогда такой ход вызвал одобрение Петербурга. А как теперь? Криштановский явно тянет в сторону раздувания дела. Ему это выгодно: он в губернии — «новая метла»…
А что лучше для него, для Самойленко–Манджаро? Это нелепое покушение до смешного напоминало прошлогоднее: опять нож, опять Соборная площадь, опять удар сверху, в область шеи — и полное признание вины. Правда, Кузьмин, нанеся удар сенатору Крашенинникову, предпочел скрыться и был схвачен засадой лишь через несколько часов. А этот глупый мальчишка чуть ли не сам прибежал в полицию… Он первым делом заявил о политических целях покушения. Налицо все объективные признаки маньякального поведения. На его месте умный злоумышленник, коль покушение не удалось, постарался бы скрыть свои истинные цели. Тем более что Иванов был в штатском и опасных для жизни телесных повреждений ему не нанесено.
Рассуждая подобным образом, Самойленко–Манджаро меньше всего был обеспокоен дальнейшей судьбой обвиняемого или поисками путей для облегчения его участи. Где–то там, глубоко внутри, конечно, жила в нем и жалость, и даже, возможно, более острая, чем можно было ожидать от человека в его положении. Нет, скорее — не жалость этому сидящему перед ним преступнику, а глубокое сожаление по поводу самого факта, который показывал, что яд бунтарских событий четырехлетней давности все еще продолжает отравлять на Руси молодые неокрепшие головы.
Так ли уж безобидно это покушение? Он учился в кадетском корпусе, когда взрыв двух бомб на набережной Екатерининского канала в Петербурге потряс его до глубины души.
Когда–то августейший монарх, путешествуя но югу империи, посетил их корпус. Имя царя с тех пор было окружено в корпусе таким почитанием, что простое его упоминание вызывало на глазах у чувствительного Самойленко слезы восторга и умиления. Именно во время панихиды 3 марта 1881 года, когда слез не скрывал никто из кадетов, у него созрело твердое решение посвятить жизнь делу охраны империи и трона. Производство Самойленко в первый офицерский чин в III Александровском военном училище совпало с раскрытием очередного сообщества заговорщиков из «Народной воли», готовивших убийство нового государя–императора. Ответом на это могли быть только верность, только рвение и усердие по службе! Думать о карьере казалось низким и позорным. И он мало думал о ней даже в кошмарные дни 1905–1906 годов, когда служил в Перми. Он честно, энергично и успешно исполнял свой долг, не особенно огорчаясь, что уже более десяти лет служит ротмистром без повышения в чине. Ему казалось, что чины, награды, повышения рано или поздно придут сами собой, надо лишь честно и беззаветно служить. Смешно подумать, каким наивным он был даже в сорок лет! Когда буря улеглась, он вдруг увидел, что заметно отстал от бывших однокашников, и тогда впервые подумал, что умение делать карьеру это такое же необходимое, если не более трудное, искусство, как и умение старательно и добросовестно исполнять службу.
— Значит, никаких сообщников у тебя не было?
— Нет, не было.
— А Леву Левина, сына бывшего фактора губернской типографии ты знаешь?
— Знаю. Мы вместе служили в типографии.
— Только служили? Понятно. Ну, а с Давидом Рыбаком ты, конечно, не знаком?
— Нет, почему же… Мы познакомились с ним весной.
— Где?
— Не помню. Кажется, на Мариинке… Или в Летнем саду.
— И часто вы встречались?
— Редко… Только на улице… Случайно…
— Значит, домой друг к другу не ходили?
— Нет.
— А с Левой Левиным?
— Несколько раз я бывал у него в доме.
— А он?
— Не помню, один или два раза…
— А не вспомнишь ли, зачем Лева Левин приходил к тебе 12 июня этого года?
— Это день моих именин.
— Кто еще был?
— Володя Иванов, наборщик из типографии Каца.
— Чем же вы занимались в тот вечер?
— Тем же, чем все занимаются на именинах.
— Все пьют водку. А вы — люди непьющие, некурящие.
— Почему же? На именинах и выпить не грех.
— А Лазаря Яблонского, наборщика из типографии Каца, ты знаешь?
— Да. Когда я был еще мальчишкой, он иногда приходил к нам в губернскую типографию.
— Зачем?
— Не помню. Кажется, по поводу создания союза типографщиков или какой–то кассы взаимной помощи.
— Ну, это было уж очень давно. А попозже ты с ним не встречался?
— Нет…
— А Менделя Ашкенази ты знаешь?
— Нет, не знаю.
— Как же не знаешь? Разве ты не бывал на сходках в 1907 году?
— Нет, никаких сходок я не знаю.
— Конечно, конечно… Теперь ты будешь говорить, что не знаком с братом твоего дружка Абрамом Рыбаком, который выслан сюда из Петербурга под надзор полиции?
— Так, что ли?
— Нет, почему же… Я знаю, что у Давида есть брат, но я не знаком с ним.
— Так–таки ни разу и не встречался?
— Нет.
— Скажи–ка, приятель… Ты никогда не страдал расстройством умственных способностей? Может, бывает пропадение памяти, помутнение мозга или еще что–нибудь?
— Нет, не бывает.
— Тогда объясни мне, пожалуйста… Что занесло тебя, русского парня, на плечах у которого семья, в эту гнусную жидовскую компанию? Посмотри, кто тебя окружает? Левины, Рыбаки, Яблонские, Ашкенази… Надо быть круглым идиотом, чтобы не понимать, как подло использовали они тебя в своих целях… Хитростью и обманом они завлекают в свои сети таких простодушных зеленых сосунков и приносят, на алтарь этой чуждой русскому народу революции все новую и новую кровь… Русские убивают русских! Им только этого и надо. Разве ты не видишь, как дешево они тебя купили?
— Меня никто не покупал. Я действовал один и никаких сообщников у меня не было.
— Разве я говорю о сообщниках? Чаще всего в кровавых делах их среди сообщников не оказывается… Их тактика незаметно науськивать, подстрекать…
— Меня никто не подстрекал. Я действовал сам.
— Выходит, ты просто идиот… Надо быть, совершенно ненормальным, чтоб броситься с ножом на такого физически сильного и, скажу тебе, ловкого человека, как Иванов. Да еще в присутствии Ишанькина… Они били тебя при задержании?
— Н–нет.
— А ведь у нас, знаешь, иногда и бьют. И очень больно бьют… Что делать прикажешь, если вот такие идиоты с ножами кидаются, а потом молчат, благородство показывают. Сиди, сиди… Я бить тебя не стану. Незачем. Твое дело совершенно ясное… Вот сегодня произведем обыски, арестуем Левина, братьев Рыбак, и цепочка замкнется… Уж они–то молчать не станут, уверяю тебя…
— Я действовал один.
— Ну, ладно. Не спеши, а то пожалеешь… Сейчас тебя отправят в тюрьму, и там будет достаточно времени обдумать свое положение.
Когда увели арестованного, Самойленко–Манджаро позвонил в тюрьму и распорядился содержать Анохина в строгой изоляции, выдать ему карандаш и бумагу, и о всех вызовах на допрос к судебному следователю предварительно ставить в известность жандармское управление.
Потом через городского пристава Космозерского он приказал начать немедленно обыски по намеченным адресам.
2
Каменное здание тюрьмы, расположенное на окраине тогдашнего Петрозаводска и отделенное от него широким пустырем, называемым Тюремной площадью, одиноко и грозно возвышалось над городом. Издали, поверх глухого забора, тускло поблескивали перечеркнутые металлическими решетками окна камер верхнего этажа. Это здание сохранилось и сейчас, но, зажатое со всех сторон жилыми домами, оно давно уже потерялось в городе и не производит того мрачного и устрашающего впечатления, какое оно должно было производить на горожан по замыслу его основателей.
Анохин под конвоем двух полицейских стражников был доставлен в тюремную канцелярию.
Время близилось к полночи, но в канцелярии поджидали прибытия нового заключенного сам начальник Петр Ильич Кацеблин и несколько надзирателей. Всех их Анохин знал в лицо — Кацеблину он доставлял газету, а надзирателей часто встречал на улицах. Когда Петр начинал службу в типографии, ему доводилось бывать и в этой комнате. Стражники у ворот, чтоб самим лишний раз не ходить в канцелярию, иногда пропускали рассыльного на территорию тюрьмы: «Одна нога здесь, другая — там, мигом!» Потом такие допуски прекратились.
Пока оформлялась расписка о доставке заключенного, Кацеблин молчал, но как только полицейские стражники ушли, он бодро и даже весело обратился к Анохину:
— Ну, тезка, и ты к нам? Добро, дружок, пожаловать! Ай–ай–ай! Пошалил, значит? Ну–ну, не огорчайся! Не ты, браток, первый, не ты и последний… Вот только статейка–то у тебя неудобная. Что ж ты с ножом? Ну, дал бы в морду, а то прямо с ножом… Нехорошо! Помнишь, как ты, мальчишкой еще, все просился тюрьму посмотреть, любопытствовал, значит? Теперь вот и познакомишься! Глядишь, на пользу пойдет!
Петр никогда ничего не просил у Кацеблина и даже, наверное, ни разу с ним не разговаривал… Он и теперь молчал, сумрачно глядя себе под ноги.
Его зачем–то еще раз обыскали. Надзиратель принес тюремную одежду. Переодеваться посреди комнаты на глазах у стольких посторонних людей было неловко. Хотелось отойти хотя бы за шкаф, но и начальник и надзиратели вели себя так, словно бы только и ждали посмотреть как он станет переодеваться. Потом долго и обстоятельно заполняли тюремное дело, измеряя рост, вес, определяя цвет волос, глаз и особые приметы. Несмотря на всю тщательность осмотра, особых примет так и не нашли, и написали: «уродливости и уклонений от нормы не замечено».
Кацеблин сам проводил Петра в заранее приготовленную камеру–одиночку. Пока шли по коридорам, освещаемым висячими лампами, по–отечески выговаривал:
— О матери подумал бы! Места себе старая не находит… Даже сюда, к тюрьме, вечером прибегала… Думаешь, легко ей теперь?
Петр молчал. Надзиратель отпер камеру, зажег на столе свечу, отомкнул наглухо приделанный к стене топчан и, поджидая начальника, остановился у порога.
— Ступай, ступай! — махнул ему Кацеблин, присел на единственный стул и спросил Анохина: — Нож–то где взял? Неужто специально покупал, для этого?
— Сам сделал, — буркнул Петр.
Допросы и осмотры так надоели, что остаться одному даже в этой мрачной камере казалось ему огромным счастьем.
— Еще хуже! Преднамеренное, заранее подготовленное покушение на убийство.
— Я не отказываюсь.
— Да еще на жандармского чина!.. Ты–то хоть знал ли, кто такой этот Иванов?
— Знал.
— Ну, а не вышло–то почему? Может, в последнюю минуту одумался?
— Нет.
— Плохо твое дело, парень. Совсем плохо. Было тут в прошлом году такое же… Он тут рядом, неподалеку сидел.
— Кузьмин, что ли? — недоверчиво спросил Петр.
— Ты знал его? — оживился Кацеблин.
— Не знал, но слышал.
— Слышал? — Кацеблин недоверчиво усмехнулся и покачал головой: — Глупые вы, ребята... Ой, глупые! Что Кузьмин, что ты! У Кузьмина, правда, несколько иное было… Не просто уголовщина, а преступление с политическими целями… Тайный советник, сенатор, председатель Петербургской судебной палаты! А тебе–то на кой леший этот Иванов сдался? Подумаешь, шишка какая — жандармский унтер–офицер!?
— Он не унтер–офицер, а сыщик! Людей выслеживает, под каторгу подводит! Да и каких людей?! Собака он последняя, а не человек.
— Ну–ну, не шуми! — Кацеблин встал, подошел к Петру, даже руку на плечо положил, — Разве ж он виноват, что служба у него такая… Может, у человека семья, дети… Мало ли как жизнь складывается...
— Нет у него никакой семьи.
— Вот что, парень, скажу я тебе! Зря ты себя за политика выдаешь… Только себе хуже делаешь, да и начальству в губернии вон хлопот сколько! О матери подумай. Ну, я пошел… Если сказать что захочешь, меня проси позвать… Ей–ей, советую — одумайся пока не поздно! По–соседски советую.
Дверь захлопнулась, загремел металлический засов, сухо щелкнул тюремный замок, и голос надзирателя приказал:
— Гаси свет, ложись спать!
Глава четвертая
«Дополнение № 808 обыском Анохина лично на квартире ничего преступного тчк По сношениям обысканы квартиры наблюдавшихся Рыбак Левин Иванов и ученик семинарии Стафеев тчк Преступного ничего тчк Первый и его брат задержаны тчк Нож Анохин взял тайно дяди Номер 812».
Шифрованная телеграмма, отправленная в Петербург 12 августа 1909 г. (ЦГА КАССР, ф. 19, оп. 2, ед. хр. 45/2, л. 10.)1
Из городской полиции Самойленко–Манджаро направился в губернское жандармское управление. Приказав дежурному вахмистру сварить кофе, он прошел в свой кабинет, несколько минут посидел в мягком, кресле, собираясь с мыслями, потом открыл сейф и выложил на стол все дела с перепиской по охране за последние три года.
Дел было много — целая гора разномастных папок под грифами «секретно» и «совершенно секретно», большинство из них подполковник отлично помнил, так как все они прошли через его руки, но у него была давняя привычка — раньше чем браться за новое дело, обязательно полистать, не доверяясь памяти, прежнюю переписку. Часто какой–либо пустяк оказывался той ниточкой, которая накрепко связывала прошлое с настоящим.
Прежде всего он просмотрел журнал наружных наблюдений, который велся на основании донесений тайных осведомителей и штатных филеров. Так и есть — Иванов не ошибся: Анохин несколько раз замечался с Рыбаком и Левиным. Ему даже присвоена агентами кличка — «Седой».
Теперь нужно проверить, с кем встречались за это время Левин и Рыбак. Сделать это нетрудно — надо лишь заглянуть в сводный отчет, где столбцом выписаны все наблюдаемые под их кличками, а напротив — дни встреч и порядковый номер того, с кем замечался.
Чаще всего Левин встречался с «Лекарем». «Лекарь» известен Самойленко–Манджаро. Это фельдшерский ученик Иван Николаев Новожилов. Против его фамилии еще в 1906 году чьей–то незнакомой рукой сделана приписка — «родной племянник Рысакова, убийцы императора Александра II». Да, это была бы заманчивая нить, если бы Новожилов еще весной не уехал в деревню?
Год назад Самойленко–Манджаро привлекал его к дознанию по делу Кузьмина, но достаточных улик не оказалось… Как жаль, что в журнале нет ни одной пометки о встречах Анохина и Новожилова! Однако эту возможность не надо упускать из виду. Теперь — Давид Рыбак… Его встречи внешне безобидны. Чаще всего замечался о учениками из мастерской Патиевского — Гришей Каменер и Нахимом Пивоваровым.
Его старший брат Абрам, после возвращения из Петербурга, держался осторожно. Посмотрим, что покажет обыск…
С удовольствием выпив две чашки черного кофе, принесенного вахмистром, Самойленко–Манджаро принялся за дела с перепиской.
Каждый раз он открывал их с каким–то приятным внутренним трепетом и читал, наверное, с неменьшим упоением, чем его жена новые романы современных писателей.
Донесения, опросы, протоколы, показания!.. Сшитые в одну папку разные бумаги! Нередко они вроде бы даже и не связаны одна с другой. Разве могут они сказать постороннему человеку то, что говорят сердцу Самойленко–Манджаро. А ведь каждая из них — это целый сюжет, какого не придумает ни один нынешний сочинитель. В последние десять лет Самойленко как–то незаметно стал считать себя близким или но крайней мере не чуждым литературе на том основании, что в Александровском военном училище он шел курсом старше нынешнего известного писателя Александра Куприна. Он даже и не помнит, были ли они знакомы, возможно, что и нет. Но одно то, что Куприн ходил когда–то под ним в «фараонах» (а всех младшекурсников в училище звали «фараонами»), ставило, по мнению Самойленко–Манджаро, его в какие–то особые отношения с писателем. Он даже подумывал, что как–нибудь потом, когда выйдет в отставку, навестит однокашника и подарит ему десяток–другой занимательных историй.
Вот сколько их, этих готовых сюжетов, с фабулами и экспозициями, с завязками и развязками, то есть со всем тем, что необходимо каждому произведению изящной словесности.
Каждый раз, открывая первую папку за 1906 год и читая донесение агента, подполковник не может сдержать улыбки. В декабре 1905 года, когда в Москве подавлялся вооруженный мятеж, в Петрозаводске состоялось многолюдное собрание, на котором эсеры излагали свою программу социализации земли. В первом ряду сидел губернатор Протасьев и «одобрительно», как пишет жандармский агент, «отнесся к оглашаемой декларации». До какой растерянности и наивности докатился в тот период нынешний начальник губернии! Не оттого ли он столь требователен и педантичен в охранных делах теперь! Интересно, довел это до сведения Петербурга тогдашний начальник жандармского управления Бабкин? Наверное, нет…
А вот другой — это уж совсем и грустный и смешной случай.
Весной 1907 года с первым пароходом прибыл в Петрозаводск вновь назначенный начальником губернского жандармского управления полковник Загоскин. На пароходе он познакомился с молодой красивой курсисткой, которую пригласил давать его детям уроки. К удивлению агентов и губернских чинов, встречавших Загоскина на пристани, полковник проявил об учительнице поразительную заботу, сам посадил ее в жандармскую коляску и отвез вместе с багажом к ее дому. Лишь много позже Загоскин узнал что учительница эта — член Петрозаводского комитета РСДРП дворянка Галина Станиславовна Тушовская, а ее багаж — это набор преступной литературы, который так и пропал тогда из глаз агентов. Что и говорить, до приезда Самойленко–Манджаро здесь в охранных делах царила полная безалаберность.
Летом 1906 года местный зачинщик многих преступных митингов, социалист Георгий Поляков на глазах у огромной толпы обозвал явившегося умиротворять эту толпу губернатора Протасьева «щедринским помпадуром». Два месяца полиция тщетно пыталась арестовать этого смутьяна и подстрекателя. В город для наведения порядка был вызван отряд драгун. Дело дошло до того, что в день прибытия драгун, 27 сентября, Поляков в открытую явился к проходной Александровского завода, собрал вокруг себя рабочих и устроил митинг. Чинам полиции и стражникам был дан приказ арестовать агитатора. Один из городовых уже схватил его, но толпа оказала сопротивление, и Полякову опять удалось скрыться. Лишь в прошлом году, в результате настойчивых розысков по всей империи, этот опасный преступник был задержан в Забайкалье.
Поэтому надо ли удивляться, что к моменту назначения в Петрозаводск Самойленко–Манджаро здесь функционировал комитет РСДРП.
Во главе, комитета стояли часовщик Мендель Ашкенази, типографщик Лазарь Яблонский и студент Александр Копяткевич, а в его состав входили рабочие Александровского завода Николай Григорьев, Тимофей Чехонин, Тимофей Богданов, Виктор Донов, Иван Васильев, Василий Егоров, лесной техник Александр Харитонов, парикмахер Василий Богданов и учительница Галина Тушовская. Как потом выяснилось, в организации насчитывалось до 80 человек.
Раскрытие и разгром этой организации потребовал времени и сноровки.
Самойленко–Манджаро прибыл в Петрозаводск 17 сентября 1907 года, а через месяц на его столе уже лежала перехваченная на почте бандероль из Петербурга с экземплярами «Письма партийным организациям». Обыск на квартире адресата — матери Копяткевича — выявил немногое: несколько запрещенных книг и одно старое письмо по поводу присылки нелегальной литературы. Однако и этого было бы достаточно, чтоб произвести кое–какие аресты. Другой человек, наверное, так и поступил бы и тем самым лишь усложнил бы дело. Но подполковник не стал торопиться. Три месяца негласного наблюдения успокоили организацию.
11 января 1908 года неожиданный обыск в Петербурге на квартире студента университета А. Копяткевича дал немалый улов — преступного содержания рукописи, подготовленные для нелегального распространения, и письма Г. С. Тушовской с шифрованными сведениями о деятельности Петрозаводской организации. Снова несколько месяцев наблюдения, которые прибавили к делу дополнительные улики. В феврале при помощи филера Иванова был открыт действовавший на Александровском заводе таинственный «Андрей», под именем которого скрывался часовщик М. Ашкенази. В марте — перехвачена новая бандероль на имя матери Александра Копяткевича с последними циркулярами и протоколами ЦК РСДРП.
День ареста и ликвидации комитета был уже близок. Он был намечен на 30 апреля — накануне ставшей уже традицией рабочей маевки. Но неожиданные события ускорили дело. В один из апрельских дней на заводе в большом количестве были распространены по цехам прокламации, подписанные Петрозаводским комитетом РСДРП.
Обыски и аресты пришлось начать 18 апреля. Они длились больше месяца. У Кацеблина не хватало одиночек, и кое–кого из арестованных пришлось направить в уездные тюрьмы. Никто из членов комитета не дал никаких показаний, и май был, наверное, самым тяжелым месяцем за всю двадцатилетнюю службу подполковника Самойленко–Манджаро. Допросы и допросы… Днем и ночью… В тюрьме и в управлении… Казалось бы, все рушится. Если он не докажет наличие хорошо организованного преступного сообщества, то главарей трудно будет привлечь к военному суду.
Первым дал показания Яков Верещагин, Он не был членом комитета, а лишь входил в кружок Григорьева, где вечерами читали преступную литературу. Но он назвал членов кружка и пропагандиста Лазаря Яблонского. Признание Верещагина дало возможность спровоцировать на показания Тимофея Чехонина. А он уже являлся членом комитета.
В эти самые дни совершил свое странное покушение на сенатора Крашенинникова Александр Кузьмин.
Самойленко–Манджаро хорошо помнит бессонные ночи, похожие на сегодняшнюю. Кузьмин не входил в социал–демократическую организацию — однако назвал себя убежденным социалистом–одиночкой. Кое с кем из арестованных он в прошлом замечался и можно было попытаться его преступление связать с группой арестованных социал–демократов. Тем более что сам Кузьмин свое покушение объяснял желанием «убить царского сатрапа, жестоко и несправедливо расправлявшегося с революционерами, и тем самым привлечь общественное внимание к этому».
Менее опытный человек на месте Самойленко–Манджаро, возможно, и стал бы на этот весьма заманчивый путь. Но тогда чутье подсказало подполковнику, что делать этого не следует, что процесс в таком случае неизбежно превратится в слишком громкий, а доказательств, что социал–демократы, вопреки своей программе, встали на путь индивидуального террора, будет слишком недостаточно.
Прибывший из Петербурга следователь по особо важным делам, да и сам председатель Петербургской судебной палаты Крашенинников одобрил эту линию. Дело Кузьмина рассматривалось закрытым военным судом вне связи с Петрозаводской организацией РСДРП.
Однако покушение на Крашенинникова помогло развязать кое–кому языки. На допросах Самойленко–Манджаро, не занося этого в протокол, предъявил знавшим Кузьмина рабочим обвинение в сообщничестве с террористом. Опровергая это, они неизбежно приходили к признанию своего участия в пропагандистских кружках, а тем самым — и в принадлежности к социал–демократической организации.
В ноябре 1908 года главари социал–демократов были отправлены в ссылку, и в губернии наступила благодатная пора политического покоя.
Нет, почивать на лаврах Самойленко–Манджаро не пришлось. Да и лавров–то на его долю, по сути дела, не досталось. Новое назначение получил Загоскин, и Самойленко–Манджаро был твердо убежден, что вакансия начальника управления (а с него и полковничий чин) теперь–то останется за ним…
И надо же было Криштановскому так не во время впасть в немилость?!
Теперь жди нового случая. Не просто жди, а работай, вертись, как белка в колесе!
Штат в губернском жандармском управлении небольшой — четырнадцать человек и всего три офицерских должности. А новый начальник сам к производству ни одного дела не берет — они кажутся ему мелкими. Наверное, все эти расследования «покорнейших доносов о готовящихся революциях в деревнях» аристократу Криштановскому кажутся достойными лишь волостного урядника.
Но не из этих ли мелочей, которые при попустительстве обязательно приводят к крупному, и состоит великое дело охраны государственного порядка и спокойствия Российской империи?
Нет, будь Самойленко–Манджаро начальником губернского жандармского управления, он и сегодня не смог бы спать спокойно, как делает это сейчас полковник Криштановский.
…Самойленко–Манджаро особенно внимательно просмотрел прошлогодние показания участников социал–демократической организации. Среди десятков фамилий в деле никто ни разу не называл Петра Анохина, хотя его знакомство с Яблонским, Ашкенази, Григорьевым и многими другими не вызывало сомнений.
Это и не удивило, и не огорчило. Дело еще только начиналось, а ощущение предстоящих неожиданных открытий, поворотов и догадок, как всегда, приятно волновало подполковника, отгоняя сон и усталость.
2
Обыски продолжались чуть не до утра. Большая группа полицейских во главе с помощником городского пристава Пироненом и начальником сыскного отделения Анисимовым подкатила на извозчичьих пролетках к пятистенному бревенчатому дому Анохиных на Новой улице.
Наружное наблюдение за домом велось уже в течение нескольких часов, с момента покушения.
Искали методично и тщательно. Сначала в тесных комнатках, потом в сарае, в бане, на огороде. Все подозрительное складывали на старый, добела выскобленный ножом стол, за которым обычно обедали многочисленные обитатели этого домика, — ведь кроме семьи покойного Федора Анохина здесь проживали и его братья Семен, Михаил и Василий.
Когда начали оформлять протокол, кончился керосин в семилинейной лампе. Запаса у хозяев не оказалось, и Пиронену пришлось писать при тусклом свете закоптевших полицейских фонарей.
«…при обыске отобрано семь книг под заглавием:
1) «Красное знамя», изд. Арнольд Ариэль;
2) «Государственное устройство во Франции», книгоиздательство «Молот»;
3) «Город пролетариев», изд. «Слово и жизнь»;
4) «Почему крестьяне– требуют земли и воли», книгоиздательство «К свету»;
5) «Народный вестник», книгоизд. «Донская речь»;
6) «Речь Г. А. Гершуни, произнесенная на экстренном съезде партии социалистов–революционеров»;
7) «Жизнь и социализм».
Кроме того, обнаружено:
Талонная книжка Лодейнопольской земской управы, фотографических визитных карточек восемь штук, открытых писем 38 штук, визитных карточек девять штук и личная переписка».
Понятые Петр Суханов и Иван Иммонен подписали протокол, и обыск был закончен.
Приказав матери обвиняемого, Екатерине Егоровне, немедленно в сопровождении полицейского отправляться в губернское жандармское управление на Святонаволоцкую улицу, Пиронен удалился, не забыв оставить у дома Анохиных засаду.
Анисимов уехал раньше. Вместе с городским приставом Космозерским он отправился в дом Качаловых на углу улиц Жуковского и Святонаволоцкой, где проживала семья Левиных. Позже туда же прибыл и Пиронен. Не найдя при обыске ничего предосудительного, они арестовали Леву Левина и доставили его в полицейское управление.
Надзиратели петрозаводского сыскного отделения фон Утхов и Лупанов одновременно производили обыски в квартирах у друзей Петра Анохина — Владимира Иванова и Ивана Стафеева, живших неподалеку от обвиняемого. Кроме ничем не компрометирующих писем, дозволенных цензурою книг и фотографий Петра Анохина с дарственной надписью, обнаружить ничего не удалось.
Самойленко–Манджаро, выслушивая донесения и прочитывая протоколы обысков, уже начал терять уверенность, что ему удастся нащупать что–либо, что позволило бы при необходимости подтвердить у связь покушения с политической организацией.
Из пяти намеченных им обысков оставался последний — у мелкого торговца Аарона Рыбака. Этот последний и оказался самым добычливым для жандармского управления.
Аарон Рыбак был едва ли не самым бедным из всех мелких торговцев в Петрозаводске. Долгое время его большая семья не имела квартиры и ютилась в еврейской синагоге, во главе которой стоял богатый владелец типографии Рафаил Кац. Когда подросли сыновья, положение семьи временно улучшилось. Абрам, а затем и Давид получили работу, была снята комната, но даже это относительное благополучие оказалось недолгим. Абрам втянулся в политику, уехал в Петербург, где был арестован и потом освобожден под особый надзор полиции. В июне он вернулся в Петрозаводск, быстро приобрел популярность среди людей, сочувствующих эсерам, но материальной помощи семье почти никакой не оказывал, так как устроиться на службу не мог.
Обыск в семье Рыбака вели все те же Космозерский, Анисимов и Пиронен.
Время было далеко за полночь. Усталые, разуверившиеся в удаче полицейские чины бродили по комнате, трогая, ощупывая и передвигая с места на место мебель, посуду, утварь. Душный воздух тесного, переполненного людьми помещения давно понуждал их поскорее закончить этот осмотр, но все молча делали свое дело, так как никому не хотелось быть замеченным со стороны жандармского управления в небрежном отношении к службе.
Первым на запрещенные книги натолкнулся Анисимов. Владелец их, Абрам Рыбак, даже не стал запираться. Он тут же признал их своими. Находка заставила начать обыск заново. В пять часов утра, арестовав обоих сынов и забрав все, даже самые безобидные бумаги, которые нашлись в квартире Рыбака, довольные полицейские чины доставили все это в жандармское управление. Они даже не подозревали, что больше обнаруженных ими запрещенных книг порадуют подполковника одним письмом, адресованным Абраму Рыбаку.
Действительно, на первый взгляд письмо было самого безобидного содержания. Однако написано оно было двумя лицами на обеих сторонах листа — Василием Пановым и Яковом Эдельштейном. И тот и другой до 1907 года служили в Петрозаводске, один — земским агрономом, другой — типографщиком. По сведениям, принадлежали к местному комитету эсеров, были причастны к изданию прокламаций, но до ареста успели скрыться. Теперь они проживали где–то в одном месте…
И даже не это было самым важным для Самойленко–Манджаро. Неожиданно он установил, что почерки Василия Панова и Абрама Рыбака удивительно схожи с почерками рукописных протоколов, постановлений и резолюций эсеровской организации, попавших в руки жандармского управления в 1907 году.
Первым побуждением Самойленко–Манджаро было желание позвонить полковнику Криштановскому и порадовать его. Еще лучше не звонить по телефону, а просто спуститься вниз и постучать — ведь полковник жил в том же доме, где помещалось управление, только в другом подъезде.
Самойленко–Манджаро так и сделал: накинул шинель, вышел на крыльцо и остановился.
Окна начальнической квартиры были темны. Да и весь город спал — на сбегавшей к озеру Святонаволоцкой улице не видно ни одного огонька. По–прежнему дул холодный восточный ветер, и подполковник неожиданно представил себе, как препротивно сейчас в открытом озере. «Апостол Петр», конечно, еще не успел дойти до Вознесенья, и Мария Сергеевна, наверное, страдает от бортовой качки. Какое это ужасное состояние, когда скрипучая каюта бесконечно и жутко кренится из стороны в сторону, а тошнота с каждой минутой неудержимее подступает к горлу. Хорошо еще, что Людочка легко переносит качку.
«И все–таки надо было ехать в Петербург мне», — подумал Самойленко–Манджаро, скорее из сострадания к жене и для успокоения совести. Он–то знал, что Мария Сергеевна лучше его справится с этой неприятной миссией, ибо за двадцать лет службы он так и не научился ни просить, ни подлаживаться. В этом–то, как он понимал теперь, была и сила его внутреннего достоинства, и слабость нынешнего положения по службе.
Таким как Криштановский, хорошо. Сейчас он, конечно, спит себе покойно, а стоит разбудить его, сообщить о выявленном, он важно пройдет к себе, усядется за роскошный начальнический стол и потребует подробного доклада. Потом тут же напишет срочное донесение в Петербург в три адреса — командиру корпуса жандармов, департаменту полиции и начальнику охранного отделения.
И успех, который стоил Самойленко–Манджаро не только этой ночи, а и многих бессонных ночей, вдруг легко и просто в глазах петербургского начальства станет прежде всего успехом полковника Криштановского.
Как только подполковник подумал об этом, и будить и докладывать расхотелось. Формально он может не докладывать — ведь все еще далеко не закончено. Предстоит чем–то веским доказать сообщничество Абрама Рыбака в Анохина… Только тогда он сможет одним махом загрести всю эту компанию и отправить куда следует.
Самойленко–Манджаро постоял, подумал и, резко повернувшись, направился в свой кабинет.
Глава пятая
«Сын мой Петр всегда был тихим и скромным… Табаку он не курил и водки не пил… Детство провел он при мне и среди семьи дядей, и я не помню от него, худого слова. С малых лет он был болезненный… До трех лет не ходил… Восьми лет поступил в приходскую школу, в которой учился очень хорошо, кончил через 3 года и поступил в Губернскую типографию…»
Из показаний Екатерины Егоровны Анохиной. (ЦГВИА, ф. 1351, оп. 12, д.221, л. 63.)1
— Гаси свет и ложись!
Дважды лязгнул тяжелый тюремный замок, и все переменилось.
Ещё минуту назад время бежало так быстро, что даже разгоряченное сознание не поспевало за ним. Мучительно хотелось одного — не отстать, догнать, забежать вперед, чтоб предугадать будущее и встретить его с достойным обдуманным спокойствием. Нет, не для того, чтобы изменить что–то или исправить! Изменить или исправить ничего нельзя. Все идет так, как, наверное, и должно идти… Важно самому понимать это и дать это почувствовать им… Все усилие, все напряжение мозга сосредоточено на этом. Как нужны хотя бы полчаса… Полчаса покоя и одиночества.
Теперь все это есть.
Петр задул свечу, лег на жесткий деревянный топчан. Слепая темнота своей привычностью остановила бег времени, как бы отодвинула все случившееся за накрепко запертую дверь и сделала его не реальным, а наоборот — таким, каким оно представлялось ему вчера, когда он, лежа на домашней постели и вслушиваясь в легкое похрапывавание дяди Михаила, мысленно готовил себя к задуманному…
«С заранее обдуманным намерением…»
Эти слова за сегодняшний вечер повторялись так часто и им придавалось почему–то такое особое значение, что Петр про себя даже недоумевал, неужели следователь, жандармский подполковник или начальник тюрьмы — всерьез могут думать, что кто–то решится на подобное дело без заранее обдуманного намерения?
Да, он обдумал все заранее… Даже не вчера, и не позавчера, а двенадцать дней назад, когда уволился из губернской типографии. А может быть, и еще раньше — трудно об этом сказать…
Заявление об увольнении он подал после резкого разговора со смотрителем типографии, лицемерным чинушей Максимовым, который вновь не захотел перевести его на вакантную должность печатника, хотя ученический стаж Петра уже истек. Все знали, что эту должность Максимов держит для своего родственника. Товарищи по работе сочувствовали Анохину и советовали сходить с прошением к советнику губернского правления И. И. Благовещенскому, в ведении которого находилась типография.
Петр хорошо знал Благовещенского, виделся с ним чуть ли не каждый день. Собственно, рабочий день типографского рассыльного и начинался с того, что Петр под перекличку петухов торопливо бежал на Зареку, к собственному дому Ивана Ивановича, чтобы ему, первому в городе, доставить до завтрака свежий номер «Олонецких ведомостей». Благовещенский слыл в городе добрейшим и ученейшим человеком. Он возглавлял Статистический комитет, руководил Обществом по изучению Олонецкого края, сам писал статьи и редактировал краеведческие книги.
Конечно, послушайся Петр сослуживцев по типографии и обратись к Благовещенскому — все могло получиться иначе…
Но на этот счет у Анохина были свои принципы. Просить или жаловаться он не собирался. И со стороны товарищей ему нужно было не сочувствие, а коллективный протест. Он лишь с нескрываемым презрением посмотрел на советчиков и ничего им не ответил.
Утром 1 августа Петр получил расчет, небрежно положил в карман пять рублей сорок две копейки и впервые за шесть лет затворил за собой дверь губернской типографии, как посторонний.
Будущее его не пугало. Владелец частной типографии Кац расширял свое дело и с особым удовольствием преуспевающего конкурента принимал на службу всех уволившихся мастеровых из губернской типографии.
И все же настроение у Петра было скверное. В душе он ждал, что товарищи по работе, среди которых несколько лет назад, казалось бы, не без успеха вел свои беседы Лазарь Яблонский, хоть как–то поддержат его, выступят против произвола Максимова. Однако они не только промолчали, но и посоветовали идти кланяться в ноги губернскому начальству. «Вот тебе и рабочая солидарность! — с горечью подумал Петр, остановившись на Круглой площади. — Конечно, мое дело — мелочь. Но не выйдет ли так и тогда, когда начнется крупное?.. Не окажется ли своя рубашка ближе к телу?.. Неужели в людях совсем задавили то, что так радовало и поднимало их три года назад?»
За редкой цепочкой деревьев внизу пыхтел Александровский завод. Сизое неподвижное облако дыма и копоти висело над литейкой, а высоко, в синем прохладном небе, ровно курилась черная труба котельной.
Завод для Петра был с детства красив и загадочен. Особенно летом, когда в лучах солнца весело поблескивала огибавшая его старые стены быстрая Лососинка, когда по требовательному гудку сходились к металлическим воротам люди и надолго пропадали за ними, погружаясь там в какую–то особую неведомую жизнь. Петр знал, что жизнь эта не была ни красивой, ни заманчивой. Жизнь завода — это изнурительная работа, отнимавшая у людей силы и здоровье. Многие родственники, знакомые и сверстники Петра работали там. За этими стенами день за днем угасала жизнь столяра–модельщика из литейки Федора Анохина, который перед смертью наказывал жене и братьям:
— Катерина! Братушки! Только не отдавайте в завод Петьку… Слабый он, не выдюжит! Учите его — может в чиновники выйдет!
В чиновники Петр не вышел, но на завод ему идти не пришлось. Хорошо это или плохо — трудно сказать. Типографское дело для здоровья еще, пожалуй, похуже литейки… Но кто думает о здоровье в восемнадцать лет?
А на заводе все–таки была своя особая жизнь!
Петр сам увидел и почувствовал ее три года назад, когда сотни рабочих, собравшись на митинг, вдруг на главах превратились в единое целое, и казалось — не было силы сильнее их. Даже губернатор, явившийся однажды в окружении конных стражников, не требовал и не приказывал, а упрашивал рабочих разойтись по домам.
Петру было тогда пятнадцать лет, и он не понимал, почему рабочие медлят, почему они не обезоружат стражников, не сбросят оробелого губернатора с коляски и не сделают той самой революции, о которой так часто говорили Лазарь Яблонский, Георгий Поляков и другие ораторы на тайных сходках на Пробе, Кургане и Чертовом стуле?
«Революция — это праздник эксплуатируемых! — любил повторять Яблонский. — Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а обретет он весь мир!»
Этот праздник, казалось, наступил…
А потом все пошло на убыль… В городе появились драгуны. Были настрого запрещены всякие митинги и собрания. Вновь, как и прежде, революционные брошюры и прокламации уже не читались в открытую, а тайно передавались из рукава в рукав. Работа в кружках затихала.
Когда весной прошлого года Петр узнал об аресте большой группы петрозаводских социал–демократов, первым побуждением было — явиться в полицию и потребовать, чтоб его арестовали вместе с ними. Этого требовала революционная солидарность! Разве Петр играл в организации меньшую роль, чем, скажем, пятнадцатилетний Иван Чехонин, арестованный три дня назад? Ведь они вместе разносили листовки, были связными, выполняли мелкие поручения. У настоящих революционеров и дело общее, и беда должна делиться на всех.
Несмотря на тяжкое материальное положение семьи, Петр, возможно, так и поступил бы, но неожиданно на улице встретил Якова Верещагина, который был арестован вместе с другими членами кружка Яблонского. Их продержали в тюрьме несколько дней и всех, кроме Харитонова и Егорова, выпустили.
Мрачный, подавленный Верещагин неохотно выслушал Петра и, тяжко вздохнув, посоветовал:
— Не глупи, парень… Понадобишься — сами заберут!
Тогда в Петрозаводске еще никто не знал, что жандармам удалось запутать Верещагина и выудить у него нужные им показания.
— Что делать надо, дядя Яков?
— Ждать… Жить и ждать…
Верещагин помолчал и, не попрощавшись, пошел своей дорогой. Он был на десять лет старше Петра, а выглядел стариком.
Ждать пришлось долго. Проходил месяц за месяцем, а никто не появлялся в типографии, никто не присылал никаких брошюр или листовок, никто не передавал приглашений на сходки или в кружок.
Все затихло. Лишь после казни Кузьмина в типографии шепотом передавали друг другу какие–то слухи о бунте в тюрьме, о том, что на могилу казненного кто–то каждую ночь приносит красные цветы, что теперь на кладбище дежурят полицейские.
Осенью стало известно, что члены Петрозаводского комитета РСДРП — Ашкенази, Григорьев, Чехонин, Копяткевич, Яблонский, Тушовская, Егоров и Харитонов — уже отправлены в административную ссылку в Вологодскую и Архангельскую губернии.
Зимой Петр особенно близко сошелся с сыном покойного фактора типографии Левой Левиным. Лева был на два года старше Петра, работал печатником, до самозабвения любил книги, и на этой основе они сдружились. Сначала о политике они почти не говорили. Подолгу гуляя по заснеженным улицам, обменивались впечатлениями о прочитанном и словно приглядывались друг к другу. Но когда Петр узнал, что Лева был другом Александра Кузьмина, он всей душой привязался к новому товарищу. Трагическая судьба юного петрозаводчанина, перед геройским поступком которого они оба преклонялись, накрепко соединила их. Лева не был социал–демократом, но он знал и Копяткевича, и Ашкенази, и Яблонского. Он хорошо отзывался о них, воздавал им должное, но обязательно с состраданием и грустью добавлял:
— Если революция — это самоотречение, то кто из них выше — они или Кузьмин? У них пока еще были только слова, слова, слова. А революция — это, прежде всего, дело!
Лева Левин познакомил Петра сначала с Давидом Рыбаком, а позже, когда тот приехал из Петербурга, то и с его старшим братом Абрамом.
Давиду едва исполнилось шестнадцать лет, но был он не по годам взрослым и серьезным. Как и Лева, он много читал, увлекался стихами. Именно от него Петр впервые услышал стихотворение, которое, наверное, на всю жизнь запало ему в память:
— Прощай, родная! Не тоскуй! Не плачь… не плачь! Не надо… Благослови и поцелуй — Иду на баррикады, Я не могу остаться… нет! Там братья умирают. Пусти меня! Уже рассвет. Ты слышишь — там стреляют. Куда ж, родная, ты? Постой, Простимся у ограды, Мать, ты со мной?! И ты со мной? На смерть, на баррикады? — И ночь прошла… Раздался гром Последней канонады. И положили их вдвоем, Вдвоем у баррикады.Когда бледный Давид читал их своим ровным и тихим голосом, устремив грустные глаза куда–то вдаль, словно вспоминая прошлое, Петр никак не мог отделаться от мысли, что все рассказанное в стихах действительно происходило. И не с кем–нибудь, а именно с этим бедно одетым голубоглазым парнишкой.
Долговязый и сутуловатый Абрам Рыбак внешне производил впечатление хмурого и неловкого человека. Однако в свои двадцать лет он испытал и несколько дознаний за участие в эсеровской организации, и заключение в Петербурге и высылку под надзор полиции. К друзьям своего брата он относился с любопытством, хотя и пытался скрывать его за снисходительной улыбкой. Ум, опыт и эта, иногда похожая на усмешку, понятливая улыбка старшего Рыбака придавали ему вес в глазах молодежи и ставили его в положение непререкаемого для них авторитета. Он знал так много и с такой ясностью и легкостью разрешал любой вопрос, что Петр невольно умолкал, внимательно слушая и искренне завидуя ему. Когда Абрам воодушевлялся, то манерой говорить он очень напоминал Лазаря Яблонского. Это сходство окончательно закрепило для Петра авторитет старшего Рыбака.
— Печальный опыт минувшей революции, — говорил Абрам, с улыбкой глядя на притихших юных слушателей, — должен научить нас самому главному… Нас, социалистов, погубили распри… Эсдеки, эсеры, большевики, меньшевики — а трудовой народ ведь един! Зачем же мы пытаемся расколоть его своими тактическими междуусобицами, если цель у нас одна — социализм. Для достижения этой цели все средства хороши и полезны. Теперь мы вынуждены опять начинать все с нуля. Надо сначала убить медведя — свалить самодержавие, — а потом уже делить его шкуру между разными направлениями социализма. Народ потом сам изберет, что ему лучше — диктатура пролетариата или демократия большинства… Так–то, друзья мои! А начинать нам приходится с нуля! Где те всходы, зерна которых сеяли на Александровском заводе Ашкенази, Яблонский, Копяткевич? Нет их. Их засыпал и загубил первый же суховей реакции — вот тебе и рабочий класс, вот тебе и гегемон революции!
Обидно, горько было слушать эти слова. Но и возражать Петр не мог. Эти мысли и ему не раз приходили в голову, а после одной недавней встречи попросту не давали покоя ни днем, ни ночью.
Незадолго до приезда Абрама в Петрозаводск, Петр, не дождавшись никаких вестей от товарищей по революционному кружку, решил сам начать устанавливать порвавшиеся связи.
Тихим майским вечером, тайком выйдя из города и вброд перебравшись через Лососинку, он разыскал на Голиковке дом Якова Верещагина.
Дядя Яков только что вернулся с заводской смены и в ожидании ужина вскапывал свои крошечный огород. Холодно поздоровавшись с Петром, он даже не прекратил работы. Лишь вскопав грядку до межницы, вытер пот, распрямил усталую спину, закурил и присел на камень.
— Зачем пришел?
Выслушав Петра, долго молчал, склонившись к коленям, кашляя и сплевывая себе под ноги, обутые в огромные облепленные грязью сапоги.
— Вот что, парень. С этим ты ко мне больше не ходи! Кончено с этим… Видишь? — Верещагин натруженным корявым пальцем указал на крыльцо дома, где копошилось трое ребятишек. — Их кормить, одевать, обувать надо… А меня чуть работы на заводе не лишили… Ваше дело холостое, бессемейное, вы и забавляйтесь с этой самой революцией, а меня оставьте в покое!
Петр молча повернулся и зашагал к калитке.
Почувствовав, что хватил через край, Верещагин поднялся, пошел следом, бубня себе под нос:
— Какой из меня подпольщик?.. Да и ни к чему это, видать. Не будет толку…
Уже ни от кого не таясь, Петр решительно направился по Александровской улице к другому члену кружка Яблонского — Егору Попову. Попов был одним из самых грамотных членов кружка. Во время читки революционных книг он часто подменял Яблонского, за что и получил добродушное прозвище — «Читарь».
Попов обрадовался приходу гостя, засуетился, увел Петра в сарай, но когда узнал, что Анохин никем не послан и пришел сам, заметно приуныл. На рассказ о посещении Верещагина Попов огорченно махнул рукой:
— Не один он такой… силой, сволочи, пригнули к низу душу рабочего человека… Фискалов на заводе — хоть пруд пруди… Иные чуть ли не в открытую жандармам за деньги продались, шпионить друг за другом начали…
— Что делать будем?
— Выходит, что пока установка, Анохин, прежняя. Уйти в подполье, сохранить силы и организацию!
— Да где же она, организация? — не выдержал Петр. — Нет ее! И сила зачем нам, если действовать не собираемся?
— Т–с–с! — оглянувшись, погрозил пальцем Попов. — Ты, Анохин, эти свои ликвидаторские настроения брось! Есть у нас организация, понятно! Придет время, и действовать начнем, и силу свою покажем.
Попов принялся разъяснять, что период реакции не может быть вечным, он обязательно сменится новым революционным подъемом, что настоящий революционер должен уметь ждать.
Однако эти рассуждения нисколько не удовлетворили Петра. От них слишком веяло успокаивающей осторожностью, а его молодая душа, растревоженная беспрерывными думами и разговорами о самоотверженных поступках революционеров прошлого, прежде всего искала действия.
«Откуда же возьмется этот подъем, если каждый будет сидеть и ждать его? — раздумывал он, возвращаясь домой. — Лучшие люди томятся на каторге и в ссылке, фараоны празднуют свою победу, а мы должны чего–то ждать… Чем же тогда умный Читарь отличается от оробевшего и предавшего наше дело Верещагина?»
…Да, обидно и горько было слушать Петру слова Абрама Рыбака. Но возразить было нечего. Начинать, действительно, приходилось с нуля.
2
В июле была недолгая радость… Два раза в неделю газета «Олонецкие губернские ведомости» выходила с приложением официальной части, в которой публиковались указы, распоряжения и перемещения по губернии и империи. Два раза в неделю Петр брал под мышку тяжелую кипу газет и до полудня бегал по учреждениям.
Шесть лет назад, когда двенадцатилетним парнишкой он поступил в типографию, эта работа ему нравилась. В форменном картузе и казенных башмаках он весело носился по городу. Все его знали, и он всех знал.
Было забавно видеть, с каким жадным любопытством набрасывались чиновники на принесенную им газету, торопливо, все сразу, пробегали глазами убористые колонки перемещений по своему ведомству; как расцветали лица «счастливчиков», которым выпадало повышение, и как другие с плохо скрываемой завистью поздравляли их. После первых приливов радости, иные «счастливчики» важно вынимали из жилетов копейку или алтын и снисходительно протягивали их Петру. Мальчишкой Петр брал их, иногда по пути забегал в Гостиный двор купить леденцов или «петушка на палочке», а чаще приносил эти копейки матери. Ведь отца уже не было в живых, а его пять рублей жалования в месяц были чуть ли не основным ходом семьи.
Теперь эта работа опротивела до тошноты. И дело было не в этих унизительных подаяниях, их он давно уже гордо отверг, чем нажил себе немало врагов.
Просто Петр вырос, почувствовал себя взрослым, особенно с бурных дней 1906 года, когда впервые побывал на рабочей сходке. Уже много лет он числился не рассыльным, а учеником печатника, успешно освоил профессию, и если смотритель типографии Максимов и до сих пор отправлял его разносить газеты, то делал он это незаконно.
Теперь, когда его посылали разносить газеты, Петр уже не мчался, как ошалелый, по пыльным улицам города. Он задворками переходил из учреждения в учреждение, стараясь, чтоб как можно меньше людей видели его. Много раз он убеждал себя, что стыдиться тут вроде бы и нечего — работа есть работа, и не его вина, что Максимов такой подлец. Но возраст брал свое, и когда гимназистки на Соборной площади, провожая его взглядами, о чем–то перешептывались, он не знал, куда девать глаза.
Лишь несколько раз за последние годы он выполнял эту свою обязанность с прежней легкостью и даже гордостью. Это когда — сначала Яблонский, а потом «дядя Николай», как звали в кружке Николая Тимофеевича Григорьева, — поручали ему доставить по нужным адресам прокламации комитета.
Давно это было. Вот уж скоро год, как и тот, и другой томятся в ссылке в глухих уездах Вологодской губернии…
И все же постылая обязанность рассыльного принесла Петру и еще одну нежданную радость.
В июльский полдень, выйдя из канцелярии воинского начальника на Казарменской улице, он почти носом к носу столкнулся с торопливо шагавшим по направлению к заводской церкви Николаем Григорьевым.
В первую минуту Петр и не узнал дядю Николая. Мерная шляпа, очки, борода и длинные волосы делали его похожим на священника. И только усы были прежними — лихие, чуть закрученные кверху, как у нового жандармского начальника Криштановского.
— Дядя Николай? — удивленно отступил в сторону Анохин.
— Ты, Петр? — спросил тот, но не остановился, лишь торопливо проговорил: — Буду ждать тебя у церкви… Приходи сразу…
За полчаса, что провели они в глухом углу церковного садика, Григорьев успел рассказать, что он тайком на один день приехал в Петрозаводск за старшей дочерью, что сегодня же уезжает с пароходом, что все петрозаводские ссыльные на Вологодчине живы и здоровы, кроме Василия Егорова, который нынче весной утонул в реке, что на похороны собралось много ссыльных и произносились революционные речи. Жить в Кадникове трудно — работы нет, и почта приходит с огромным запозданием. Лишь совсем недавно с оказией удалось получить первую маленькую посылку с марксистской литературой.
— У нас и того нет, — пожаловался Петр. — Живем себе тише воды, ниже травы…
Дядя Николай в Петрозаводске успел повидаться кое с кем из товарищей по заводу, договорился, что поможет им через питерских ссыльных наладить связь с Петербургом, но дело это теперь нелегкое. Жандармы установили такую слежку и так обнахалились, что лезут в чемоданы чуть ли не к каждому подозрительному пассажиру.
— И все же одна цепочка у нас пока уцелела, — улыбнулся Григорьев, неловко протирая очки.
— Машинист с «Апостола»? — догадался Петр.
— Ты–то откуда знаешь?.. A–а, помню, помню… Я же сам однажды посылал тебя к нему. Эту ниточку надо беречь, учти, дружок… Начинать опять придется с малого, с установки связей…
— С нуля начинать придется! — поправил Петр.
— Почему с нуля? — не согласился дядя Николай. — Нуль это, стало быть, когда совсем ничего… А у нас разве не уцелело главное — люди, готовые бороться до конца? Мы временно отступили, но мы не побеждены. Рано они, стало быть, празднуют… Пройдет год, два, пять лет. И, стало быть, снова заполыхает повсюду наше дело. Ты, дружок, стало быть, не суди по Петрозаводску… Особо сильной наша организация никогда не была, да и опыта не имела, потому так легко и удалось жандармам нас разгромить. А Петербург, Москва, Иваново–Вознесенск? Даже в ссылке, — послушаешь, стало быть, других товарищей, что у них делалось, душа радуется! А ты говоришь — с нуля? Даже в Петрозаводске, дружок, и то сделано было немалое. Однажды Ашкенази правильно, стало быть, сказал: «Раб, вкусивший прелесть свободы, уже не раб, а борец»!
Таким дядю Николая Петр никогда не видел. Спокойный, уравновешенный Григорьев не любил и не умел много говорить. А если и брал слово на сходках, то выступал коротко, даже сбивчиво и вроде бы без всякого воодушевления. Сегодня его словно прорвало. То ли сказалось огромное нервное напряжение, пережитое в тюрьме и ссылке, то ли он очень спешил и хотел выговориться, но он не скупился не только на слова, а на жесты: снимал очки и потрясал ими перед самым носом Петра. Очки он надел для маскировки — это ясно: у тридцатилетнего токаря было отличное зрение.
— Дядя Николай! Егор Попов недавно сказал мне, что согласно теории период реакции сменится новым подъемом революции.
— Он, стало быть, правильно тебе сказал.
— Я не спорю. Мне другое интересно. Этот самый подъем наступит обязательно?
— Да. Таков уж, дружок, стало быть, закон истории.
— Даже если мы ничего не будем делать?
— Кто это мы?
— Ну, мы… Ты, я, Егор Попов, все другие…
— A–а, вот ты о чем?! — улыбнулся Григорьев. — Я сам, дружок, когда «Коммунистический манифест» читал да потом Яблонского слушал, часто, стало быть, об этом задумывался. Конечно, революция, дружок, это такая вещь, что она может обойтись, стало быть, и без нас с тобой. Рано ли, поздно ли, но придет она, стало быть, обязательно. Объективная, стало быть, закономерность. Не мы с тобой, так другие… А вот с руки ли нам с тобой, дружок, без революции обходиться? Да еще, если в наших силах ускорить ее приход! Не знаю, как ты, а лично я ждать не согласен… Я буду все силы отдавать, чтоб только, стало быть, ускорить ее приход. Вот так–то, дружок!
— Я тоже, — тихо подтвердил Анохин.
— Рад за тебя, Петр… Ну, мне пора!
На том и расстались. Григорьев в последний раз тщательно протер очки, водрузил их, заставил Петра повторить свой вологодский адрес и ушел к родственникам на Большую Голиковскую.
Петр долго смотрел ему вслед, все еще ощущая его крепкое прощальное пожатие.
Первым, кого увидел Петр, выйдя на Вытегорскую улицу, был жандармский сыщик Иванов, который кокетливо беседовал с какой–то немолодой девицей под ярким матерчатым зонтиком. Он приветливо поздоровался с Анохиным, хотя раньше никогда не делал подобного, и это насторожило Петра: «Неужто выследил дядю Николая?»
Петр с трудом дождался вечера, когда отправлялся пароход на Вытегру.
Пригласив соседа и друга Ваню Стафеева погулять, он пришел на пристань чуть ли не за час до отправления, когда и посадка еще не была объявлена.
Вскоре на пристани появился Иванов. Он лениво прошелся вдоль дебаркадера, внимательно и как бы нехотя оглядывая не столько самих пассажиров, сколько их багаж, и удалился.
Дяди Николая не было, и с каждой минутой Петр все больше убеждал себя, что этот подлец–сыщик, конечно же, не зря был на Вытегорской, что Григорьев уже, наверное, арестован.
Вот и последний гудок. Зашлепали по воде тяжелые плицы. Пароход начал отваливать, и в эту минуту в открытом иллюминаторе, где–то у самой кромки воды, Петр заметил лицо с очками, бородой и лихо закрученными кверху усами.
От радости он так хлопнул по спине Ванюшку, что чуть не столкнул того в воду. Потом принялся неистово махать уходящему пароходу.
Радость была недолгой.
Левее, в нескольких шагах от них, стоял и внимательно смотрел на уходящий пароход жандармский сыщик Иванов и, как показалось Петру, едва заметно и загадочно усмехался.
Глава шестая
«В последнее время сын мой Петр Федоров Анохин 18 от роду, стал сильно задумываться; с детства будучи болезненным, он страдал сильными кровотечениями из носу… Вчера 11 числа в припадке раздражительности, как мне стало известно, сын мой Петр Анохин бросился на жандармского унтер–офицера с целью ударить его, видимо, без всякой особой причины. Так как, ввиду приведенных мною данных, поступок сына моего легко объясняется болезненным его состоянием, дошедшим до умоизступления, то имею честь обратиться к Вашему Высокородию с почтительнейшею просьбою об освидетельствовании сына моего Петра Анохина в состоянии здоровья».
Август 12 дня 1909 года. Вместо неграмотной просительницы Е. Анохиной по ее личной просьбе в сем расписался сын чиновника Василий Менченко. (ЦГВИА, ф. 1351, оп. 12, д.221, л. 60.)1
С допроса в жандармском управлении Екатерина Егоровна Анохина вернулась под утро, когда холодный августовский рассвет уже проникал в горницу, скупо выделяя в полутьме всю безмолвно ждавшую ее семью. Потрясенная горем, она вошла тихо, словно бы в полусне, машинально притворила дверь, оглядела по очереди всех: младшего сына, дочь, троих братьев покойного мужа, и вдруг разрыдалась, закрыв лицо руками и притулившись плечом к косяку.
Тринадцатилетний Митя бросился к ней, сквозь слезы закричал:
— Не плачь, мамка! Не плачь, говорю…
Старший деверь Михаил Дмитриевич бережно усадил Екатерину Егоровну на лавку и, не найдя лучшего утешения, несколько раз повторил:
— Что ж тут поделать…
Из всех четырех братьев Анохиных Михаил был единственным грамотным. После смерти Федора он как бы взял на себя ответственность за его семью и, хотя материальной поддержки оказать не мог, но заботой и вниманием к детям брата пытался заменить им отца. Вчерашний вечер дядя Михаил провел на покосе, домой вернулся поздно, уже после обыска, и ко всему случившемуся отнесся более спокойно, чем его братья — Семен и Василий. Петю он особенно любил, всегда защищал его и, как видно, все еще не верил, что тот может сделать что–либо плохое.
—– Не плачь, Катерина! — успокаивал он невестку. — Уладится, даст бог… Чего в молодости не бывает…
Несколько минут прошли в молчании.
Младший деверь Василий, живший отдельно от братьев во флигеле, нервничал больше других. Во время волнений на заводе он участвовал в митингах, даже был выбран в одну из рабочих депутаций, и с тех пор начальство относилось к нему с подозрительностью. Возвращения невестки он ждал, чтобы поскорее узнать, насколько тяжела вина племянника.
— Катерина! Может, ты все ж скажешь нам… — начал было он, но Михаил так посмотрел на него, что Василий не стал продолжать.
Сорокалетний Семен, как всегда, был молчалив и озабочен. Он сидел в углу, в тяжкой задумчивости свертывал одну за другой цигарки и, казалось, никого не видел и не замечал.
О поступке племянника по городу уже поползли разные слухи. Еще до обыска Семен, возвращаясь домой, услышал о беде от одного из соседей, родственник которого служил в полиции. Тот прямо сказал, что Петра студенты и гимназисты заманили в какую–то заговорщицкую организацию, что преступления там совершают по жребию, и вот такой жребий выпал Петру.
Не верилось Семену в это, однако и поступок племянника никак не поддавался никакому объяснению. Умный, рассудительный парень — и вдруг тебе — среди бела, дня бросается с ножом на человека!
«Умный–то умный, а вел себя в последнее время непохоже на себя! — раздумывал Семен. — Задумчивый был какой–то, вроде бы пришибленный ходил. Мы–то считали, что так увольнение из типографии на него подействовало… А может, и был этот проклятый жребий!»
О своих подозрениях Семен решил до времени молчать, а то брат Василий, чего доброго, совсем взъерепенится — дело тут явно политикой пахнет. Завтра наверняка всю семью на допрос в жандармское управление потянут. Там важно лишнего не наболтать.
Немного успокоившись, Екатерина Егоровна сквозь слезы рассказала, что дела у Петеньки плохи, что забрали за политику, что если не докопаются, кто его подговорил, то грозит ему такое…
Тут она не выдержала и разрыдалась так, что минут десять не могла слова произнести…
…Жандармский начальник, который ее допрашивал, относится к Петеньке по–доброму. Он не кричал, не угрожал ей, сочувствие к беде имел и даже кофеем угощал. Он так прямо и сказал: попал, говорит, ваш сын в плохую компанию. Огромная, говорит, вина на нем, да и нам, говорит, неприятность… Найдем зачинщиков — они в ответе. Не найдем — одному Петеньке вся кара достанется. Дело–то до Петербурга, чуть ли не до самого царя уже известно стало.
— Ну, про нас–то, про дядьев, был у него спрос? — Нетерпеливый Василий даже поморщился, когда Екатерина Егоровна опять расплакалась и надолго умолкла. — Про меня он ничего не спрашивал?
— Как не спрашивать? Про всех спрашивал — и про родных и про знакомых. А чтоб особо он кем из родных интересовался, так вроде бы и не приметно было…
— Больно интересен ты ему, — впервые подал голос Семен, обращаясь к брату, но тот, обрадованный, даже не заметил насмешки.
— Добрые люди совет дали… Одно, говорят, у Петеньки оправдание — что сделал он это не в себе будучи, в беспамятстве вроде бы… Тюремный начальник Петр Ильич так прямо и сказал… Ты, говорит, на меня не ссылайся, а подай господину следователю прошение, чтоб Петеньку доктора осмотрели… Сама же, говорит, сказывала, что болезненным рос мальчишка…
— Правильно! Так и надо сделать! — горячо одобрил Василий. — Разве нормальный позволит себе…
— У Петеньки в прошлое лето не один раз кровь из носа шла, — тихо перебила его Евдокия, всю ночь неслышно проплакавшая в углу. Беду с братом она переживала особенно тяжело. Хотя Евдокия была старше Петра всего на четыре года, но рос он и на ее руках — недаром брат и теперь иногда в шутку называл ее «няней».
Екатерина Егоровна лишь тяжко вздохнула в ответ на эти слова и с надеждой посмотрела на старшего деверя. Михаил и Семен промолчали.
Нелегко было матери подавать прошение, чтоб ее родного сына признали ненормальным. Но другого выхода не было: «Только бы не тюрьма и не каторга, а такой позор переживем как–нибудь».
Когда решили писать прошение, то оказалось, что в доме нет ни клочка бумаги. Все, что было у Петеньки, забрала с собой полиция. Да и писать–то некому. Дядя Михаил, оставшийся единственным грамотным в семье, в последний раз брался за перо чуть ли не во время своей солдатской службы. Доверить такую бумагу малолетнему Мите тоже нельзя было.
Подумав, Екатерина Егоровна решила идти к жившему неподалёку на этой же улице учителю гимназии Собакину. Дядя Михаил хотел отправиться вместе с ней, но она отговорила:
— Константин Васильевич человек умный и добрый. Он лучше нас с тобой разберется, что к чему, Лучше уж с ребятами оставайся.
2
Преподаватель рисования в гимназии и учительской семинарии Константин Васильевич Собакин приехал в Петрозаводск два года назад и снимал квартиру на Новой улице у домовладельца Месселя. Собакины хорошо знали семью Анохина: Петр приносил им газету, а Екатерина Егоровна нередко помогала жене художника, имевшей двух малолетних детей, в домашних работах.
Квартира Собакиных была необычной, и Петр любил заходить сюда. Вся мебель с художественной резьбой и выжиганием была сделана руками самого хозяина. На стенах — картины, рисунки по эмали, чеканка по бронзе. В углах тесного кабинета — незавершенные скульптуры и бюсты, которые общительный Константин Васильевич разрешал не только разглядывать, но и объяснял их.
Со временем дон Собакиных стал известным в Петрозаводске. Губернские тузы, считавшие себя знатоками искусства, чаще и чаще, как бы соревнуясь друг с другом, приезжали на пыльную и грязную в непогоду окраину, чтоб посмотреть новые работы художника, а иногда и приобрести их. Собакины жили в достатке и могли бы снять квартиру поближе к центру, но Константину Васильевичу почему–то пришлась по душе эта тихая окраинная улица.
…Екатерину Егоровну встретили приветливо. Гостеприимная Варвара Васильевна принялась варить кофе а хозяин увел плачущую соседку в свой кабинет и подробно выспросил о случившемся.
Рассказ Екатерины Егоровны взволновал художника. Раскурив трубку, чего он обычно натощак не делал, Константин Васильевич долго расхаживал по маленькому кабинету из угла в угол. Жена принесла кофе, но никто из троих к нему не притронулся.
— Я, конечно, готов написать прошение, — наконец проговорил он. — Но не лучше ли обратиться к адвокату. Дело это тонкое, а честно вам скажу, мне никогда не приходилось сталкиваться с этим.
Слово «адвокат» почему–то испугало Екатерину Егоровну, и она вновь расплакалась.
— Костя! — укоряюще посмотрела на мужа Варвара Васильевна.
— Хорошо, хорошо… Успокойтесь, Екатерина Егоровна, прошу вас! Давайте писать прошение!
Через полчаса прошение было готово. Небольшая заминка вышла с подписью. Расписаться самому за неграмотную Анохину Константин Васильевич счел неудобным, а жена занималась в спальне с проснувшимися детьми. К счастью, мимо окна проходили двое мальчишек с удочками на плечах.
— Вася, зайди ко мне! — окликнул Собакин, растворив окно.
Ученик четвертого класса гимназии Вася Метченко с достоинством вывел свою подпись под прошением.
Уступая настойчивым просьбам хозяйки, Екатерина Егоровна выпила чашечку кофе и, поклонившись в пояс смущенному этой благодарностью Собакину, ушла.
— Костя, неужели ты не мог как–нибудь иначе? — с упреком спросила Варвара Васильевна. — У нее такое горе, она места себе не находит, а ты отсылаешь ее к какому–то адвокату!
— Варя, я хотел сделать лучше… Пойми, это прощение ничего не даст. Петр нормальный, умный и, я даже скажу, очень развитой юноша… Защиту его надо вести серьезно. Я, пожалуй, сегодня, сейчас же схожу к следователю Чеснокову и поговорю с ним… Кстати, ему однажды очень понравилась миниатюра «Олени»… Подарю–ка я ему!
— Это будет похоже на взятку! — улыбнулась жена.
— Да, черт возьми, верно... Но должен же я иметь какой–то повод, чтоб с утра являться на квартиру к малознакомому человеку!
— Разве судьба умного и, как ты говоришь, очень развитого юноши недостаточно веский повод!
— Да, конечно, ты, как всегда, права… Только учти, твоя постоянная правота уже начинает обижать меня, — пошутил он. — Неужели у вас в Рязани все такие умные, а?
Вскоре Константин Васильевич уже шагал по Мариинке, держа путь на улицу Жуковского, где жил судебный следователь Чесноков. Возле почтовой конторы он повстречался с губернским советником Благовещенским, который, как все знали, начинал свой день с долгой прогулки. В городе шутили, что по Ивану Ивановичу обыватели проверяют свои часы. Ровно в семь он выходит из дома на Зареке, в семь пятнадцать шествует по Соборной площади, в половине восьмого прогуливается по Владимирской набережной, а к восьми уже вступает на Петровскую площадь, чтобы две–три минуты в молчании постоять у памятника основателю завода и города.
Вежливо раскланявшись, Собакин и Благовещенский уже разошлись, когда художник вдруг вспомнил, что в ведении Ивана Ивановича находится губернская типография, где служил Анохин.
— Иван Иванович! Прошу прощения…
Слушая художника, Благовещенский раза два, стараясь делать это незаметно, вынимал из кармана часы.
…Да, Петра Анохина он хорошо помнит. Даже более того, года три–четыре назад он собственноручно отодрал его за ухо, когда в рассыльной типографской папке обнаружил бунтовщического характера листовки. Правда, в те годы эти листовки подбрасывались чуть ли не на стол губернатору… Очень сожалительно, что урок, как видно, не пошел впрок.
— К тому же, уважаемый Константин Васильевич, — медленно и веска закончил Благовещенский, — я уже более года административными делами типографии стараюсь не заниматься. Все эти функции возложены теперь на смотрителя господина Максимова, который известил меня, что Анохин уволен из типографии первого числа августа по собственной просьбе. Честь имею!
Он еще раз поклонился и зашагал к Петровской площади чуть быстрее обычного.
Отношение Благовещенского заметно остудило пыл Константина Васильевича. Если уж такой человек, как Иван Иванович, хорошо знавший Анохина и слывший в городе покровителем гуманитарных наук и искусства, не пожелал вникнуть в дело, то на кого же из власть имущих можно рассчитывать еще?
Благовещенский состоял членом многих попечительских и благотворительных комитетов, которые возглавляли сам губернатор Протасьев или его супруга. Он пользовался таким их расположением, что Протасьев, несмотря на разницу в чинах, иногда навещал в качестве гостя дом Благовещенского на Зареке. Неужели же начальник губернии не уважил бы скромного ходатайства своего любимца, чтоб хоть как–то облегчить участь совершившего ошибку юноши?
3
Неожиданным и столь ранним посещением судебный следователь Чесноков был удивлен до крайности. С давних пор его холостяцкая квартира редко видела гостей даже в обычное для визитов время. А тут — извольте видеть — гость в восемь утра, да к тому же, хотя и известный в городе, но совершенно малознакомый.
Попросив через служанку подождать, Чесноков прервал завтрак, оделся по всей форме и вышел в небольшую гостиную, где Собакин перелистывал лежавший на столе августовский номер «Русского богатства».
Вежливо раскланялись, пожали друг другу руки и присели в кресла. Испытывая все усиливавшееся волнение, Собакин объяснил, что осмелился побеспокоить хозяина по не совсем обычному делу, которое, возможно, покажется странным, но он считает своим долгом…
— Буду рад оказаться полезным, — тихо произнес Чесноков, давая понять, что долгое вступление и извинения излишни.
С чувством неуверенности и даже какой–то вины перед невозмутимым хозяином Константин Васильевич принялся рассуждать, что гуманизм, борьба за справедливость и сострадание к простым людям всегда составляли одну из самых лучших черт деятелей русской культуры, что всем им — людям образованным или облеченным властью — необходимо быть особенно чуткими и справедливыми, когда речь идет о молодом поколении, которому свойственны искания и ошибки, что лично у него нет других интересов, кроме желания как–то облегчить участь юноши и дать ему возможность защитить себя всеми дозволенными законом средствами…
Возможно, Собакин говорил бы еще долго, но Чесноков, терпеливо слушавший его, неожиданно улыбнулся.
— Вы, вероятно, имеете в виду дело Анохина? — спросил он,
— Да, да, — с радостью подтвердил Собакин.
— Что же вы хотите?
— Извольте. Сейчас объясню! — Константин Васильевич в волнении поднялся и прошелся по комнате. — Я обратился к вам, Тимофей Федорович, не только как к юристу, но и как к человеку, которого искренне уважаю… Я знаю этого юношу, знаю его семью… Сегодня ко мне приходила его мать… Надо было видеть эту бедную женщину! В общем, я пришел к вам за советом… Речь идет о защите… К кому из адвокатов лучше обратиться?
— Прежде всего, уважаемый Константин Васильевич, подобное обращение ко мне я могу объяснить лишь вашей малоопытностью. Вы хотите, чтоб обвинение оказывало помощь защите… Это нонсенс! Моя должность требует, чтоб я обвинял Анохина, а не защищал его!
— Извините меня, Тимофей Федорович… Но вы знаете дело, и я так надеялся на ваше справедливое сердце.
— Дело еще нельзя знать. Оно только начато. По этой же причине еще рано вести речь об адвокате. Никто не возьмется за дело, пока не будет сформулировано обвинительное заключение. Чтобы защищать подсудимого, надо прежде всего знать, в чем его обвиняют.
— Простите, а разве это неясно?
Чесноков снова лишь улыбнулся на этот вопрос.
— Да, да, понимаю, — заторопился художник. — Следствие еще только начато… Сколько оно может продлиться? Неделю, две, месяц? И все это время юноша и его бедная мать будут обречены на неведение и бездействие?
— Если бы вы, Константин Васильевич, явились ко мне в мою служебную камеру, я не стал бы говорить вам того, что собираюсь сказать теперь… Но дома, на квартире, — извольте послушать! Вчера, найдя в проступке Анохина признаки преступления, предусмотренного статьями девятой и тысяча четыреста пятьдесят четвертой, я заключил его под стражу. Это весьма неприятные статьи «Уложения о наказаниях», действующего в Российской империи. Но главная беда обвиняемому грозит не отсюда…
— Откуда же, Тимофей Федорович?
— Вы, вероятно, знаете, что с 1881 года у нас действует «Положение о мерах по охране государственного порядка и общественного спокойствия», принятое после убийства императора Александра II. Так вот. Статья тридцать первая этого «Положения» квалифицирует преступления весьма близкие к проступку Анохина, и предусматривает весьма тяжкое наказание.
— Какое же?
— Крайнюю меру… Военный суд…
— Не может быть! Это же невозможно!..
— Извольте послушать…
Чесноков достал с полки переплетенный в кожу том «Свода военных постановлений» и прочитал:
— Статья тридцать первая. «Для местностей не объявленных в исключительном положении на рассмотрение военных, судов передаются дела о государственных преступлениях, а также о вооруженном сопротивлении властям, или нападении на чинов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы, или же вследствие исполнения таких обязанностей, если эти преступления сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогов. Наказания за эти преступления предусматриваются статьей 279 XXII книги «Свода военных постановлений».
— Но ведь Анохин, кажется, даже не ранил этого переодетого жандарма! — воскликнул Собакин.
— Этот вариант предусмотрен статьей восемнадцатой. Прочесть?
— Ради бога, не надо. Лучше бы мне никогда и не знать таких законов…
— Я не хочу быть прорицателем, — сказал Чесноков, ставя на место книгу, — но по тому интересу, которое проявило к этому делу жандармское управление, можно предполагать, что без этих статей тут не обойдутся… Спасти Анохина может лишь признание его душевнобольным.
— Мать уже написала прошение об освидетельствовании, — с надеждой сообщил Собакин.
— Да, если жандармское дознание не вскроет более глубоких политических причин, то сами факты покушения не противоречили бы подобному истолкованию состояния Анохина. Однако он сам ведет себя слишком рассудительно и спокойно, чтоб кто–либо смог счесть его за больного. Более того, он не только не отказывается, а и настаивает на политическом характере своего дела. Все это целиком и полностью ведет дело в военный суд… Ведь подобный прецедент был в прошлом году с Кузьминым, помните?
— Да, да, помню… Неужели же и Анохину уготована такая участь? Боже мой, даже не верится!
Чесноков лишь руками развел в ответ.
Некоторое время помолчали. Сипло, с шумом и скрежетом часы пробили половину девятого.
— Прошу вас, Константин Васильевич, — сказал Чесноков, поднимаясь первым, — не расценить мою откровенность как одобрение или сочувствие поступку Анохина. Нет, я резко и категорично осуждаю его не только по закону, но и по совести… Сочувствие мое, а лучше сказать — сожаление относится не к Анохину, а к недостаткам нашей юриспруденции, которая уравняла в ответственности намерение и действие и судит их по одинаковой мере строгости…
— Я понимаю вас и прошу извинить мое вторжение.
Разочарование от беседы со следователем было таким сильным, что Собакин, возвращаясь домой, не мог решить — стоит ли ему сообщать эти неприятные вести семье Анохина.
Глава седьмая
«Самойленко — популярный жандарм в истории нашей партии. Во время встреч с известным работником нашей партии, безвременно погибшим в Сибири И. Ф. Дубровинским («Иннокентием»), он рассказал, что в конце 90‑х годов ему пришлось иметь дело тоже с Самойленко, который был тогда ротмистром. А. В. Луначарский также говорит о нем в своих воспоминаниях «Великий Октябрь».
А. Копяткевич — «Из революционного прошлого в Олонецкой губернии», Петрозаводск, 1922 год.1
В десять утра подполковник Самойленко–Манджаро уже снова был в своем служебном кабинете. День предстоял трудный: опять допросы. Особенно угнетало, что придется много писать. Конечно, можно бы пригласить и протоколиста, однако политическое дознание дело настолько тонкое, что лишние уши — всегда помеха.
Полковника Криштановского на службе еще не было. Как и следовало ожидать, он даже сегодня не изменил своего распорядка и, конечно, явится к одиннадцати.
Дежурный вахмистр доложил, что все вызванные на допрос прибыли.
— Как это все? — удивился Самойленко. — Вы что, вызвали всех сразу?
— Так точно, вашскородие!
— Дураки!
Установив очередность и приказав развести вызванных по разным кабинетам, подполковник хотел уже пригласить смотрителя типографии Максимова, как на пороге появился растерянный филер Иванов.
— Что у тебя?
Оглянувшись на дверь, Иванов сделал несколько несмелых шагов к столу подполковника и вполголоса сообщил, что на Зареке и в Закаменном ходят слухи, будто бы Анохин совершил свое злодейство не по своей воле, что в городе есть тайное сообщество террористов, куда входил и Анохин, что постановлено убить именно его, Иванова, и жребий достался Анохину.
— Ты и испугался? — усмехнулся Самойленко, пытаясь тем самым показать всю вздорность этих слухов, — От кого слышал?
— От Ефима Новожилова, вашскородие!
— Кто таков?
— Городовой полицейского управления. Живет в Закаменном.
— A–а! полиция! — небрежно протянул подполковник. — Ты был на допросе у судебного следователя?
— Только что оттуда, вашскородие.
— Ему не говорил про эти слухи?
— Никак нет.
— Правильно сделал. Никому больше ни слова. Городового я сам вызову и допрошу. Ты ступай и занимайся своей службой.
Иванов поклонился, сделал четкий полуоборот, но у двери в нерешительности задержался.
— Ступай, ступай! Слухи — вздор! — повторил подполковник. — У полиции от страха глаза велики! На днях отбудешь в командировку в Вытегорский уезд!
Болтливость служащих полиции уже не один раз путала карты жандармскому управлению. Самойленко позвонил полицеймейстеру Мальцеву и попросил его принять самые строгие меры, чтобы из стен полиции не распространялось по городу никаких сведений о вчерашнем происшествии, а городового Новожилова прислать к нему в три часа пополудни.
Едва Самойленко–Манджаро закончил этот разговор, как в его кабинете появился сам полковник Криштановский. Одетый подчеркнуто торжественно, даже с орденом, полковник сообщил, что ровно в двенадцать назначена аудиенция у губернатора для доклада по делу Анохина, и он просит информировать о всех уже вскрытых обстоятельствах. То, что полковник на этот раз не вызвал его для доклада в свой кабинет, а сам явился к нему, пришлось по душе Самойленко–Манджаро. Горячо и заинтересованно он стал рассказывать о ходе ночного дознания, о результатах обысков, о допросах Анохина, его матери, Левы Левина и братьев Рыбак. Однако лицо молча слушавшего его начальника с каждой минутой становилось равнодушнее, холоднее и суше…
— Значит, истинные причины покушения до сих пор еще не выяснены? — спросил Криштановский с неудовольствием после долгого молчания. — Не кажется ли вам, что мы с вами будем выглядеть в глазах губернатора, мягко говоря, не очень расторопными?
— Осмелюсь напомнить, господин полковник, что с начала дознания прошло лишь около двенадцати часов, — ответил Самойленко–Манджаро, для убедительности посмотрев на часы. — Из них только три часа дело стояло без движения.
— Три часа без движения? Почему? — насторожился Криштановский.
— С семи утра до десяти я позволил себе отдохнуть, — тихо произнес Самойленко, с удовольствием ощущая неуязвимость своего положения.
— Промедлений и задержек в ходе дознания я не усматриваю, однако результатами не доволен.
Криштановский уехал. Минут десять Самойленко–Манджаро расхаживал по кабинету, мысленно издеваясь над шляхстской надменностью начальника и досадуя на свое положение, когда — виноват ты или прав — последнее слово остается не за тобой. «Всю ночь спал себе спокойно, а теперь еще выражает свое неудовольствие! Интересно бы посмотреть, как он станет докладывать губернатору? Там небось ход дознания будет представлять в самом блестящем виде! Вот так люди и делают себе карьеру, а тут сиди, корпи, возись с этими проклятыми допросами… Нет хватит! Я тоже должен вести себя по–умному».
Весь день у Самойленко–Манджаро были плохое настроение. Этому способствовали и никудышные результаты допросов. До пяти часов вечера он успел пропустить восемь человек, а добавить к дознанию было нечего. Даже смотритель типографии Максимов, обязанный наблюдать за поведением рабочих, не смог сообщить ничего важного. Родственники Анохина были так потрясены случившимся и вели себя на допросах столь искренне, что не верить их показаниям было невозможно. Никого из друзей Петра, кроме Владимира Иванова и Ивана Стафеева, они не знали, а Леву Левина и Давида Рыбака видели в своем доме лишь один раз, в день именин Петра.
Версия о том, что Анохин совершил покушение по жребию, тоже не нашла никакого подтверждения. Городовой Новожилов показал, что разговор об этом возник среда полицейских случайно: просто кто–то высказал такое предположение потому, что в других городах бунтовщики вроде бы так часто делают, а сам Новожилов, хотя и живет неподалеку от Анохиных, в это не верит и никому, кроме своего зятя, не рассказывал…
Самойленко–Манджаро знал, что параллельно с ним ведет свои допросы судебный следователь Чесноков. О криминалистических способностях этого «сухаря», с нетерпением ждавшего срока выхода в отставку с полным пенсионом, подполковник был весьма невысокого мнения, но в пять часов на всякий случай позвонил ему.
Как и следовало ожидать, у Чеснокова ничего интересного для него не оказалось.
— Значит, никаких данных для привлечения Анохина по статье сто второй у вас не имеется? — спросил Самойленко–Манджаро.
Статья 102 уголовного Уложения предусматривала участие обвиняемого в сообществе, направленном к свержению существующего строя.
— Никаких, кроме декларации самого обвиняемого о политическом характере преступления, — ответил Чесноков.
— Декларации?! Что это еще за слово? Почему вы не хотите называть вещи своими именами? Разве вам мало признания самого Анохина? Именно признания, а не какой–то декларации.
— Ничем не подтвержденное пока признание я привык называть декларацией, — тихо пояснил Чесноков. — А кроме того, господин подполковник, мною получено прошение матери о медицинском освидетельствовании обвиняемого.
Ночью, когда развитие дела еще представлялось ему неясным, Самойленко–Манджаро сам дал намек матери Анохина составить это прошение. Сделал он это на тот случай, если высшее начальство захочет ограничить дело одним Анохиным. Теперь же он пожалел о своей поспешности, а слова «сухаря» о прошении воспринял как издевку.
— Вы собираетесь дать ход этому прошению? У вас есть какие–либо данные о ненормальности преступника?
— Ничего, кроме прошения матери. Я обязан сделать это.
— Почему же вы, господин Чесноков, — закричал в трубку подполковник, — так странно себя ведете? В одном случае, не имея данных, даете ход прошению матери. В другом, располагая признанием самого обвиняемого, не хотите инкриминировать ему статью сто вторую? Это становится похожим на ваше нежелание сотрудничать с жандармским управлением в раскрытии опасных политических преступлений.
Чесноков долго молчал. Самойленко–Манджаро представлял себе, как тяжело, наверное, дышится сейчас этому испуганному астматику. Интересно, что он сможет ответить?
— Господин подполковник! — донесся наконец слабый голос Чеснокова. — Я судебный следователь. Моя обязанность всесторонне и объективно раэобраться в обстоятельствах дела. Обвинение формулируется прокурором. Кстати, товарищ прокурора господин Григоросуло присутствует при моих допросах. Он и сейчас здесь. Если хотите, я могу пригласить его к аппарату.
— Благодарю вас… Не надо.
Самойленко–Манджаро вовремя повесил трубку. В его кабинете — второй раз за день! — появился полковник Криштановский.
— Сидите, пожалуйста, сидите! — мягко попросил он. — Я всего лишь на одну минуту. Скажите, Константин Никанорович, вы уже обедали?
— Нет, господин полковник.
— Очень хорошо. Моя супруга и я покорнейше просим, если вы не возражаете, отобедать сегодня у нас. Нет–нет, никаких особых поводов не имеется. Просто мы вспомнили, что вы живете теперь на холостяцком положении, и будем рады в шесть часов видеть вас у себя.
— Сочту за честь, господин полковник.
2
«Православный лях» умел принимать гостей. Самойленко–Манджаро убедился в этом сразу же, как только переступил порог столовой. Все самое лучшее из закусок, что нашлось в лабазах у петрозаводских «гостинодворцев», было выставлено словно напоказ, начиная с местной малосольной семги и заканчивая маринованными прибалтийскими миногами, которые в Петрозаводске были редкостью, так как пользовались спросом лишь со стороны приезжих гурманов.
Жена Криштановского в противоположность мужу была начисто лишена чопорности и своим простодушием напомнила Самойленко–Манджаро екатеринославских степных помещиц — подружек его матери.
— Вы, наверное, любите цветы? — не без умысла спросил он, вспомнив вчерашний потешный разговор о старике Яблонском. Цветов в комнатах нигде не было.
— Да, очень… Но здесь так трудно с хорошими семенами. Придется заказывать из Петербурга.
— Рекомендую обратиться к городовому врачу Мошинскому. Он у нас большой любитель этого дела. Если хотите, я вас познакомлю.
— Сделайте милость.
— Константин Никанорович, прошу к столу! — пригласил полковник. Он уже переоделся в домашний сюртук, расстегнул ворот белоснежной сорочки и вполне мог бы сойти за откровенно радушного хозяина, если бы в его взгляде, движениях и даже улыбке не проступала нетерпеливая настороженность, словно он не был еще уверен, стоило ли ему становиться на столь короткую ногу со своим помощником.
Надо сказать, что Самойленко–Манджаро и сразу не очень поверил в отсутствие каких–либо поводов для своего приглашения на обед. Теперь же, оценив поведение хозяина, увидев уставленный закусками стол и целую батарею разнокалиберных бутылок на буфете, он уже не сомневался, что «лях» что–то задумал.
Так оно и получилось.
Когда закуски уже перестали привлекать внимание обедающих и выпито было изрядно, хозяин приступил к делу.
— Если вы позволите, Константин Никанорович, — начал он, — то мне хотелось бы иметь с вами весьма откровенный разговор… Надеюсь, присутствие хозяйки не будет стеснять вас.
— Что вы?! — развел руками Самойленко–Манджаро. И хотя присутствие хозяйки несомненно стесняло его, он сделал легкий поклон в ее сторону: — Мне это даже приятно…
— Дорогая, прикажи подавать горячее… Так вот, Константин Никанорович! Не знаю, как вас, а меня, признаюсь, весьма беспокоят наши личные с вами отношения… Нет, нет, речь пока идет не о служебных, а именно личных, которые, конечно, накладывают свой отпечаток и на взаимоотношения по службе. Понятно, что наша служба регламентирована уставами и распоряжениями сверху, но все–таки, знаете ли, когда нет должного личного взаимопонимания, это неизбежно сказывается. Вы не подумайте, что я имею к вам какие–либо претензии.
— Я слушаю вас, господин полковник.
— Когда я получал сюда назначение, начальник штаба корпуса, его высокопревосходительство генерал Курлов дал вам весьма лестную аттестацию. И я вполне согласен с ним.
— Благодарю вас.
— …И вот этот весьма неприятный холодок, этакая отчужденность… Возможно, в чем–то есть и моя вина. Однако истинная причина, как мне кажется, кроется не во мне, а во всей этой истории с моим назначением сюда.
«Э–э, да ты не так глуп! — подумал Самойленко–Манджаро. — Но посмотрим, куда ты потянешь?»
— Вы позволите, Константин Никанорович, мне б предельно откровенным?
— Да–да, прошу вас.
— Я понимаю, что вы имели все основания занять мою должность. И для меня, смею уверить, она не является пределом моих вожделений. Скажу, больше, я буду рад как можно скорее освободить эту должность для вас. Для этого есть два вероятных исхода. Первый — вы будете стараться, как это говорят, спихнуть меня, тормозить наши общие дела, чтобы создать в Петербурге неблагоприятное впечатление о моем руководстве. Такую возможность я не исключаю, однако этот путь навряд ли самый короткий и результативный. Я стреляный волк, тридцать лет служу в корпусе, и у меня довольно хорошие связи. То, что меня перевели сюда, — это случайность, неблагоприятное стечение обстоятельств…
— Я не сомневаюсь в этом, — вставил Самойленко–Манджаро в надежде, что Криштановский расскажет поподробнее, в чем же именно состояло это «неблагоприятное стечение обстоятельств». Однако полковник или не заметил намека или сделал вид, что не заметил его, и продолжал:
— Второй исход. Мы оба служим дружно, как говорят, душа в душу. Одно или два удачно проведенных крупных политических дела, смею вас уверить, и мои друзья предпримут все, чтобы я вновь оказался в Петербурге. Я в свою очередь сделаю так, чтобы пост начальника Олонецкого управления остался за вами. Как, устраивает это вас, Константин Никанорович?
— Могу я узнать, господин полковник, в чем состояло неблагоприятное стечение обстоятельств?
— А–а, — небрежно махнул рукой Криштановский, но все же пояснил: — Вы, вероятно, слышали о Вержболовском деле?
Да, Самойленко–Манджаро слышал об этом. В 1907 году офицер Вержболовского жандармского управления Пономарев, чтобы раздуть политическое дело, устроил крупную провокацию с тайным перевозом из–за границы оружия и, желая свалить своего начальника подполковника Мясоедова, попытался запутать и его в потворстве революционерам. Когда подлог выплыл наружу, Пономарев уже служил в Петербурге в должности помощника начальника охраны Таврического дворца.
— Так вот, — продолжал полковник. — Корнет Пономарев был когда–то моим адъютантом и по моей рекомендации был переведен в Петербург. Надо быть абсолютным идиотом, чтоб действовать так примитивно!.. Но мы уклонились от темы. Я желал бы послушать теперь вас! Прошу, не оставить мою откровенность без взаимности.
— Хорошо, господин полковник. Я готов с благодарностью принять вашу руку… Однако здесь в Олонии мы навряд ли сможем рассчитывать в ближайшее время на какие–то крупные политические дела.
— Как? — воскликнул Криштановский. — Разве вчерашнее покушение не дает нам в руки хороших козырей? Я–то отлично знаю, что о каждом факте политического покушения докладывают самому государю–императору… Теперь все зависит от нас с вами, уверяю вас!
— До сих пор не добыто никаких данных, кроме писем Абрама Рыбака, для привлечения Анохина по статье сто второй. Да и письма не имеют к Анохину никакого отношения. На них нельзя поддержать обвинение в создании тайного сообщества с целью свержения установленного законом строя.
— Вы искренне убеждены в этом?
— Боюсь, что да… Хотя утверждать рано, ведь дознание еще не окончено, — как всегда из осторожности добавил Самойленко–Манджаро.
— Поймите меня, Константин Никанорович, — горячо заговорил Криштановский. — Анохин–одиночка — для нас с вами пустой номер. Анохин — член тайного сообщества — это внимание Петербурга, это осуществление и ваших и моих желаний. Неужели мы должны упускать эту возможность?! Разве все это дело не в наших руках?
В это время принесли горячее, вернулась хозяйка и разговор прервался.
Машинально принимая и отодвигая кушанья, Самойленко–Манджаро беспрерывно думал о том же, о чем думал все последние сутки.
Теперь многое стало ясным, но решить, что ему выгоднее, было так же трудно, как и вчера. Попытаться раздуть дело, конечно, можно. Кое–какие основания для этого есть. Но не получится ли в случае удачи так, что Криштановский уедет в Петербург, а он, Самойленко–Манджаро, опять останется с носом. Раскрыть вдруг тайное сообщество — значит волей–неволей признать, что он, Самойленко–Манджаро, исполнявший долгое время обязанности начальника управления, что–то недоглядел и плохо справлялся с этими обязанностями. Тайное сообщество в один день не создается — нити придется тянуть далеко назад, чтоб все это выглядело основательно. Вместо пользы для карьеры на всю жизнь можно пятно получить. Криштановскому хорошо, он в любом случае в выигрыше будет. А тут надо думать и думать… И упускать такую возможность тоже обидно — можно просидеть в помощниках до самой старости и отставки.
Хозяин обедал тоже без аппетита. G трудом дождавшись конца, он встал первым и попросил жену:
— Кофе и ликеры вели подать в кабинет.
Окна кабинета выходили в небольшой редкий парк, за которым в отдалении едва виднелись белые стены тюрьмы. Как это часто случается на севере, неожиданно из–под низко плывших весь день облаков, ненадолго перед самым закатом выглянуло солнце. Сквозь крупную, негустую листву молодых тополей оно проникло в кабинет, покрывая пол и стены какими–то расплывчатыми шевелящимися бликами.
— Давайте продолжим наш разговор, — сказал Криштановский, усаживаясь в кресло и предлагая место гостю напротив.
Однако не успели они закурить, как где–то в глубине тихой квартиры раздался звонок и хозяина вызвали в переднюю.
Он вернулся минут через пять — уже переодевшийся в мундир, радостный и даже сияющий с дешифрованной телеграммой в руке.
— Слава богу, все идет лучшим образом, — перекрестившись, сказал он и протянул телеграмму помощнику.
Самойленко–Манджаро прочел;
«Вследствие телеграммы № 808 Департамент полиции предполагает войти обсуждение прокурорским надзором вопроса привлечении мещанина Петра Федорова Анохина предварительному следствию 102 статьи Уголовного Уложения. Вышеуказанное обстоятельство даст возможность передать дело Анохина военной подсудности.
За директора Департамента полиции Виссарионов».— Слава богу, — вслед за начальником повторил Самойленко–Манджаро.
Телеграмма делала их дальнейший разговор ненужным, и теперь он мог лишь пожалеть, что не успел до нее выразить своего полного согласия с предложением Криштановского.
— Константин Никанорович, — подчеркнуто дружеским тоном сказал Криштановский. — Прошу вас в ведении дальнейшего дознания руководствоваться телеграммой.
3
В субботу 15 августа Самойленко–Манджаро провел очередной допрос Петра Анохина. До этого он вызвал начальника тюрьмы и подробно выспросил о поведении заключенного. Кацеблин сообщил, что ведет себя Анохин на редкость спокойно и тихо: днем медленно расхаживает по камере из угла в угол, ночью спит или делает вид, что спит; к приему пищи относится равнодушно, но съедает все положенное по норме; в разговоры с надзирателями сам не вступает, однако на вопросы дает ясный и четкий ответ; изредка, встает на стул у окна и, вытянув голову, подолгу смотрит сквозь решетку во двор.
— Я ему, ваше высокоблагородие, раза два–три про Александра Кузьмина разговор заводил, — смущенно, словно бы признаваясь в своей вине, сообщил Кацеблин.
— Ну и что?
— Интересуется, ваше высокоблагородие… Расспрашивать вроде бы и не решается, а по глазам видно — интересуется… Может, его в ту же камеру перевести, в угловую на первом этаже? Впечатление может оказать…
— Пока не надо… А разговор с ним почаще заводите. Бумагу и карандаш ему предоставили?
— Как приказано, ваше высокоблагородие.
— Прошу продолжать наблюдение.
…Последний допрос продолжался значительно дольше предыдущих. Самойленко–Манджаро понимал, что если и сейчас, после телеграммы из Петербурга, он не получит каких–либо веских улик для привлечения Анохина к ответственности за соучастие в тайном политическом сообществе, то в глазах начальства будет поставлен под сомнение его собственный престиж. И все же в глубине души он предчувствовал неудачу. Два дня он возился с братьями Рыбак и Левой Левиным, но по сути дела ничего не добыл.
Абрам вообще отказался от всяких показаний и не реагировал даже на угрозы. Он бесстрастно смотрел на подполковника и лишь один раз, усмехнувшись, произнес:
— Господин офицер, я просто не понимаю вас… Вы же знаете, что три месяца назад меня фильтровали в Петербурге! Неужели вы не доверяете своим столичным коллегам?..
Самойленко–Манджаро едва удержался, чтоб вновь не прибегнуть к приемам, которые он нередко употреблял в молодости. Сила еще играла в кулаках, и он охотно посмотрел бы, как издевательская усмешка сползет с этой жидовской морды. Будь в деле побольше улик, он, возможно, и не стал бы церемониться. Но улик не было.
Допрос Анохина подполковник начал с выяснения некоторых обстоятельств, вскрывшихся при обыске.
Анохин показал, что семь печатных книг, обнаруженных у него на квартире, он нашел в лесу неподалеку от Кургана года два назад и никому читать их не давал. Самойленко–Манджаро попробовал запутать его, сказал, что два года назад этого случиться не могло, так как одна из книг якобы выпущена из печати совсем недавно. Но Анохин тут же попросил показать ему эту книгу. Вспомнив, что имеет дело с типографщиком, подполковник счел за лучшее незаметно перевести разговор на другое. Ничего не получилось и со следующим трюком.
Незаметно подсунув в фотографии, найденные на квартире у Анохина, снимок Александра Кузьмина, Самойленко–Манджаро попросил обвиняемого рассказать историю появления у него каждой карточки. Когда дело дошло до Кузьмина, Анохин искренне удивился и сказал, что эта фотография ему не принадлежит и что на ней изображено лицо, ему совершенно незнакомое.
— Как же незнакомое? — улыбнулся подполковник. — Вглядитесь–ка получше. Это же казненный в прошлом году Кузьмин. Лева Левин сказал, что вы с ним были друзьями?
Анохин внимательно всмотрелся в снимок и тихо произнес:
— Нет, Левин не мог сказать этого. Мы не были знакомы с Кузьминым.
— Так. Значит, свое первоначальное показание ты ни в чем изменить не желаешь и утверждаешь, что все показывал правильно?
— Да, не желаю.
— Ну, а нож?! Ты и сейчас станешь говорить, что нож принадлежит тебе?
Анохин смутился и даже, как показалось подполковнику, чуть–чуть покраснел.
— Нож я тайком взял у дяди Михаила.
— Это–то я знаю и без тебя. Но почему ты, черт возьми, врешь и вводишь нас в заблуждение?
— Мне не хотелось впутывать дядю.
— Скажи, какое благородство! Ну, а кого еще ты не желаешь впутывать? Если братьев Рыбак и Леву Левина — то можешь не стараться. Они, братец, уже впутались по горло, и не молчат, как некоторые простофили, играющие в благородство. Подумай сам, Анохин! Могу ли я теперь верить тебе?
— Разве я прошу вас об этом? — с обезоруживающей искренностью посмотрел Анохин прямо в глаза подполковнику. — Вы все равно мне не поверите, да и я вам тоже.
— Ого–о! — протянул Самойленко–Манджаро с неподдельным удивлением. — Это решительно меняет дело… Тогда, братец, давай разговаривать по–иному. На–ка, прочти вот это!
Он протянул Анохину копию телеграммы из Петербурга, приложенную к протоколу дознания.
— Ты знаешь, что такое сто вторая статья? — спросил подполковник, когда Анохин, прочитав телеграмму, молча положил ее на стол. — Это — до восьми лет каторги, если бы тебя судил гражданский суд…
— Я знал, на что шел, — тихо произнес Анохин. — И я не боюсь суда.
Эти слова развеселили Самойленко–Манджаро.
— Ты, наверное, собираешься на суде произнести яркую обличительную речь, не так ли?
Анохин молчал.
— Ты, конечно, читал изданную за границей книгу о сормовских волнениях и хочешь быть похожим на ее героев. Говорят, и в Петрозаводске она уже появилась. Не читал? Зря, любопытная книженция, рассчитавшая на таких простаков, как ты. А знаешь ли, братец, тебе без речей придется обойтись. Военный суд не любит дебатов.
Неожиданно Самойленко–Манджаро поймал себя на том, что у него начинает прорисовываться любопытный ход для дальнейшего дознания. Как жаль, что он не подумал об этом раньше и позволил себе отпугнуть допрашиваемого?! Теперь придется начинать заново!
— Вот так! Оставайся тут и подумай как следует! — сказал он и, кликнув стражника, вышел из кабинета. Вернувшись через полчаса, Самойленко–Манджаро спокойно и неторопливо начал расспрашивать Анохина о том, что уже записывал в протокол не один раз. Потом, постепенно войдя в нужную доверительную тональность, он стал объяснять, что в настоящее время обстановка изменилась и военные суды уже становятся редкостью, что год–два–три назад они рассматривали подавляющее большинство политических дел, a теперь берут их к производству лишь в особых случаях.
Самойленко–Манджаро отлично знал, что все это не так, что число гражданских лиц, судимых военными судам, из года в год растет, но он понимал и другое — что Анохин никогда не сможет проверить или опровергнуть его слов, и потому говорил легко, увлеченно и без всякого опасения.
— Как ты думаешь, почему департамент полиции решил передать твое дело в военный суд? — спросил он и сразу сам объяснил: — Только потому, что сейчас оно лишено всякой политической окраски. Да–да, обычное вооруженное нападение на воинского чина. Причины которого далеко неубедительны, хотя ты и пытаешься придать им политический характер. Не подумай, что я хочу тем самым умалить твою вину. Нет, за свой поступок ты понесешь суровое наказание. Но я хочу объяснить тебе истинное положение, в котором ты очутился, и те причины, по которым мы не можем рассматривать твое дело как чисто политическое. Повторяю, только поэтому дело передается военному суду, который несомненно строже гражданского расценит твой проступок. И плюс ко всему — рассматривать дело он будет при закрытых дверях и без всякой публикации в печати…
— Теперь давай обсудим второй вариант, — продолжал Самойленко–Манджаро после небольшой паузы. — Ты перестаешь запираться. Ты прямо и откровенно рассказываешь обо всем — о своей политической цели, о товарищах, об организации… Ты уже не жалкий одиночка–террорист, ты действительно человек социалистических убеждений. Конечно, не стану скрывать! Кое–кого из твоих друзей мы привлечем к ответственности. Но что им может угрожать? Если, как ты говоришь, они не причастны к покушению, то они легко докажут это. В таком случае — ссылка на два года в Архангельскую или Вологодскую губернию. Это максимальный проигрыш для вашей организации. А выигрыш? Во–первых, все дело будет гласно рассматриваться в гражданском суде, где могут быть и речи, и защита, и публика. Вероятно, на выездной сессии Петербургской судебной палаты в Петрозаводске. Во–вторых, и твой поступок из сферы отвратительной для широкой публики уголовщины превращается в политическую акцию, к которой, не скрою, у людей еще много сочувствия. В–третьих, приговор для тебя будет значительно милостивее. Дело может окончиться сущими для тебя пустяками… Сейчас еще не поздно все исправить! У тебя есть выбор. Подумай и выбирай!
— Мне нечего выбирать. Я действовал один.
— Этого я не отрицаю: действовал ты один. А твои друзья? Неужели у вас не было об этом разговора, хоть когда–нибудь?
— Друзья никакого отношения к моему делу не имеют.
— Это твой последний ответ?
— Ну, что ж! Пеняй дальше на себя! И никогда никому не говори, что тебе хотели плохого. Сам выбрал!
— Я не собираюсь жаловаться, — горько усмехнулся Анохин.
— Подпиши протокол! Вот здесь!
Это было явное поражение. И Самойленко–Манджаро чувствовал, себя так же отвратительно, как если бы его вдруг обманули в самых искренних и дружеских чувствах.
Через неделю, на запрос Департамента полиции о результатах дознания, Самойленко–Манджаро представил на подпись полковнику Криштановскому следующий ответ:
«В Департамент полиции
Как следствием, производимым судебным следователем о покушавшемся здесь 11 сего августа на жизнь унтер–офицера Иванова мещанине Петре Федорове Анохине, так и перепиской в порядке охраны, возбужденной тогда же, решительно никаких данных для предъявления ему, Анохину, обвинения по 102 ст. Уг. Ул. не добыто.
Представление же о передаче дела об Анохине Военному Суду Управляющим губернией сделано, ввиду состоявшегося соглашения с прокурором местного окружного суда, в порядке ст. 31 Положения об охране.
Вообще, дело Анохина совершенно аналогично с делом Александра Кузьмина, казненного здесь в минувшем году, за покушение на жизнь сенатора Крашенинникова, но Кузьмин логичнее мотивировал, объяснив, что имел в виду убить высшего представителя здесь судебной власти.
Передача Военному суду дела Кузьмина состоялась в указанном порядке.
Полковник Криштановский Подполковник Самойленко 22 августа 1909 года».— Теперь я вижу, Константин Никанорович, — горько пошутил Криштановский, надписав письмо, — что вы очень привязались ко мне.
— Не понимаю?.. Чем вызвано?..
— Тем, что вы дали мне на подпись эту бумагу… Да–а, какую великолепную возможность вы так и не сумели использовать!
Глава восьмая
«К данному уже мною показанию по делу по обвинению меня в покушении на убийство жандарма Дмитрия Иванова, добавляю: я имел прямое намерение убить Иванова, как я уже показывал, за раскрытие им политических дел, но каких — теперь не припомню, а главное — за стремление его к открытию таковых; по убеждениям я принадлежал к социал–демократической партии, хотя и не был членом ея… Больше в свое оправдание добавить ничего не могу»,
Из протокола допроса Петра Анохина 28 августа 1909 г. (ЦГВИА, ф. 1351, оп. 12, д.221, л. 76.)1
Карательная машина завертелась. 24 августа в Петербурге между Министерствами внутренних дел и юстиции состоялось соглашение о передаче дела Петра Анохина на рассмотрение военного суда для суждения по законам военного времени, согласно правилам, указанным в ст. 18 «Положения об охране».
Сразу же прокурор Санкт–Петербургской судебной палаты Корсаков предписал прокурору Петрозаводского окружного суда «принять меры к скорейшему окончанию следствия по означенному делу».
Это предписание было немедленно доведено до сведения следователя Чеснокова.
28 августа — стало последним днем следствия, утра Чесноков через петрозаводского городового врача Мошинского произвел в тюрьме судебно–медицинское освидетельствование Анохина.
Мошинский в своем заключении написал:
«Приняв во внимание, что освидетельствуемый отвечает на все вопросы толково, никакими болезнями, которые могли бы влиять на психическую деятельность, не страдал и не страдает, точно также никогда не подвергался никаким вредным насильственным воздействиям, которые могли бы отразиться вредно на психической деятельности свидетельствуемого, я нахожу, что свидетельствуемый вполне нормален в психическом отношении».
Молча наблюдавший за ходом экспертизы Чесноков нисколько не сомневался в ее результатах. Глядя, как Мошинский размашисто и торопливо записывает свое мнение, Чесноков думал о том, что сегодня он составит свой последний, девятый по счету, протокол, передаст все прокурору и этому мучительному следствию настанет конец. Почему — мучительному? Неужели потому, что истинные мотивы покушения так и останутся для него загадкой? Но разве мало подобных, так до конца и не разгаданных дел приходилось ему передавать прокурору за тридцать лет службы? Тогда его беспокоило лишь одно — только бы дело было принято и не возвращено на доследование! Это дело примут наверняка. Его ждут не дождутся, чтоб поскорей спихнуть в военную прокуратуру. Почему же на этот раз он не испытывает привычного чувства облегчения? И зачем нужны ему эти «истинные мотивы покушения», если через год он выйдет в отставку, постарается все это напрочь выбросить из головы и станет в тиши природы ублаготворять свою проклятую астму.
А все же «истинные мотивы» существуют — теперь это особенно ясно! Еще недавно была слабая надежда, что их нет, что экспертиза вдруг внесет в дело что–то неожиданное… Тем обиднее и горше теперь, что ему, Чеснокову, так никогда и не придется узнать этих «мотивов». Нет, не для дела, а хотя бы для себя. Военному суду ничего не нужно — там достаточно самого факта. А ему, как следователю и человеку, это надо знать! Хотя бы потому, чтоб понять наконец, зачем молодежь снова, как и в годы его юности, сознательно и безрассудно кладет свои головы на плаху? Ведь революция оказалась блефом — это ясно каждому. Трон остался непоколебимым, и жизнь идет своим чередом!
С таким настроением и приступил Чесноков к последнему допросу Анохина сразу же после освидетельствования. Он задавал вопросы и все время ловил себя на том, что расспрашивает обвиняемого не столько для пополнения дела, сколько для удовлетворения своего любопытства.
Анохин подтвердил все свои прежние показания и лишь особо подчеркнул, что по убеждениям он принадлежит к социал–демократической партии.
— Но ведь, насколько я знаю, на всех судебных процессах социал–демократы отрицали индивидуальный террор? — спросил Чесноков. — Этот вопрос относится к политическому дознанию и мне вы имеете право не отвечать на него, если не желаете.
— Нет, почему же? Я отвечу… Как я уже говорил, я не состою членом партии, и социал–демократы никакого отношения к моему делу не имеют. Я действовал один. Больше ничего добавить не могу.
Закончив допрос, Чесноков тут же приступил к составлению протокола о завершении предварительного следствия. Показав Анохину все следственные материалы, он спросил, не желает ли обвиняемый чем–нибудь дополнить их. Анохин от дополнения отказался.
Когда протокол был подписан, Чесноков поинтересовался, знает ли Анохин, что его дело передается военной подсудности?
— Да, знаю, — ответил тот. — Мне говорили об этом на допросе в жандармском управлении.
— Разве жандармское дознание не закончено?
— Не знаю. Но больше недели меня никуда не вызывали…
Чесноков подумал и решился:
— Теперь, когда следствие завершено, в моей компетенции до завтрашнего дня разрешить вам свидание… С кем вы желали бы?
— С матерью, с братом и сестрой, с дядей Михаилом.
— Только одно! С кем?
— С матерью.
Через Кацеблина Чесноков тут же отправил посыльного к матери Анохина с предложением немедленно явиться в тюрьму для свидания с сыном.
Екатерину Егоровну и звать было не надо. Чуть ли не каждый день она часами простаивала у тюремных ворот в надежде узнать что–либо о своем Петеньке. Не успел Чесноков закончить письменные формальности, связанные со свиданием, как ему доложили, что мать обвиняемого уже находится в тюремной канцелярии. В ту же самую минуту его пригласили к телефону.
Звонил Самойленко–Манджаро.
— Господин следователь! Мне стало известно, что вы разрешили обвиняемому Анохину свидание с матерью?
— Да, господин подполковник, — ответил Чесноков, несколько удивленный такой осведомленностью.
— Вы получили на это санкцию прокурора?
— Ваше высокоблагородие, — подчеркнуто почтительно обратился к нему Чесноков. — Обвиняемый Анохин пока числится содержанием за мной. Завтра я передаю завершенное производством дело на усмотрение господина прокурора, и обвиняемый будет перечислен содержанием за ним.
— Благодарю за разъяснение. Надеюсь, мне вы разрешите присутствовать на этом свидании?
— Милости прошу, если это представляет для вас интерес.
2
Свидание состоялось в той же камере, где проходил последний допрос. Теперь, после звонка из жандармского управления, Чесноков должен был предпринять ряд мер для соблюдения формальностей. Матери и сыну порознь объяснили, что они обязаны все десять минут сидеть на указанных им местах, не приближаться друг к другу и даже не вставать, говорить громко и отчетливо — в противном случае свидание будет немедленно прервано.
У противоположных стен длинной и узкой камеры были поставлены две табуретки. Одну из них Чесноков предложил занять матери. И сообщил ей, что согласно ее прошению сегодня состоялось медицинское освидетельствование сына, что ее сын признан вполне нормальным и здоровым.
Екатерина Егоровна от волнения и радости плохо понимала происходящее, кивала в ответ на каждое слово и безотрывно смотрела на дверь, из–за которой должен был появиться ее Петенька.
Когда с небольшим опозданием в камеру вошел Самойленко–Манджаро, Чесноков распорядился ввести обвиняемого.
— Подождите, — остановил его подполковник.
Сегодня Самойленко–Манджаро был необычно суров и даже мрачен. В ответ на приветственные поклоны, он едва кивнул Чеснокову и Кацеблину, прошел к столу, сел и хмуро оглядел по очереди присутствующих.
— Госпожа Анохина, вы любите своего сына? — спросил Самойленко–Манджаро, словно бы с трудом решившись на это. — Вы хотите ему добра?
Екатерина Егоровна, не находя слов, растерянно молчала. На ее глазах уже наворачивались слезы.
Подполковник и не нуждался в ответе. Все, что он делал сегодня, делалось им уже без всякой надежды на успех, скорее машинально, по давней привычке использовать малейшую возможность.
— У нас, госпожа Анохина, остался последний шанс. Если ваш сын не сделает честного признания, не откроет своих сообщников, то завтра же его дело будет передано в военный суд. Если вы любите своего сына и хотите ему добра, уговорите его не упорствовать. Напоминаю, что речь идет о его жизни. Вы поняли меня, госпожа Анохина?
Слезы уже катились по щекам Екатерины Егоровны. Вытирая их концом платка, она всхлипывала и согласно кивала.
— Введите арестованного! — приказал Самойленко–Манджаро. — Вы, Петр Ильич, можете быть свободным.
Кацеблин почтительно поклонился и исчез.
Несколько минут прошли в тягостном молчании, и подполковник, постепенно ожесточаясь на эту явно бесполезную затею, с непонятным и несвойственным ему внутренним сарказмом думал о том, что, если во всем этом и есть какой–либо шанс, то, конечно, не у Анохина, не у этой плачущей женщины, тем более не у Чеснокова или Кацеблина, а именно у него самого. Как это глупо и даже оскорбительно, когда достоинство и безупречность зависят от такой мелочи. Скрытый поединок с Криштановским он проиграл, это теперь уже ясно, и проиграл из–за какого–то пустяка, из–за несговорчивости мальчишки, которому уже ничто не поможет и завтра же он канет в небытие со своим дурацким покушением и глупым запирательством. Да, обидно и оскорбительно.
Подполковник еще утром решил, что продолжать службу под началом Криштановского он не должен; надо писать прошение о переводе в другую губернию. Чего доброго, этот «православный лях» еще воспротивится, он опять оказался наверху; а такие любят держать на привязи, тонко и унижающе мстить за былую строптивость.
Безупречная карьера и сопливый мальчишка! И от него все еще продолжало многое зависеть.. Если бы сегодня удалось добыть сведения о преступном сообществе, то Самойленко–Манджаро вновь обрел бы былую независимость и шанс на продвижение. Хотя бы с помощью этого противного ему Криштановского…
В коридоре послышались приближающиеся шаги, на секунду они замерли, потом дверь распахнулась.
Петр ненадолго задержался у порога, затем быстро прошел к своему месту и, прежде чем сесть, вдруг слегка поклонился матери. Этот неожиданный поклон удивил всех — и плачущую мать, и сидевшего за столом Самойленко–Манджаро, и стоявшего у окна следователя. Екатерина Егоровна, не вставая с табурета, трижды поклонилась в ответ и в каком–то и горестном, и счастливом изумлении уставилась на сына.
Петр улыбнулся ей и одобряюще покивал головой. Она тоже улыбнулась, словно забыв, где они находятся и что ждет ее сына.
— Спасибо тебе, мама! Я так рад! Как вы там живете? Дуняшка как, Митя?
— Слава богу, сынок… Ты–то как, Петенька?
— Хорошо, мать, — снова улыбнулся он.
— Сыт ли ты, Петенька? Ты уж прости, сынок, передачи нынче я никакой не успела сготовить. Дают ли тебе мои передачи?
— Дают. Только ты, мама, передач не носи. Кормят меня здесь, хватает… Как дяди поживают?
— Слава богу, сынок… Все живы–здоровы. Кланяться тебе велели. Дядя Михаил сено готовит, коровой обзавестись хочет. А братан твой двоюродный Миша — на службу поступил. В контрольную палату приняли. А потом говорят, и в чиновники выйдет… Ровесник ведь он твой Петенька! — не удержавшись, с сожалением сказала она в расплакалась.
— Прости меня, мать! — тихо произнес Петр, уловив в ее словах невольный упрек. — Виноват я перед тобой, сам знаю… Только не попрекай меня, ладно? За Мишку я рад я люблю его… У него своя дорога, у меня своя… Может быть, тебе и больно слышать это, но пойми меня, мама, я ни о чем не жалею!
— Что ты говоришь, Петенька! Разве можно так–то! Что о тебе господа офицеры подумать могут?! Ты ведь не такой, Петенька, совеем не такой!
В растерянности она не знала даже, к кому обращаться — то ли к сыну, который, наверное, не ведает, что говорит, то ли к молча слушавшим их господам.
Екатерина Егоровна с болью и обидой стала убеждать сына, что вся семья и родственники решили нанять адвоката, что присяжный поверенный господин Леви сказал ей, что лучшая защита в этом деле — это полное признание и раскаяние, что сын ее еще очень молод и суд учтет это и снисходительно отнесется к его ошибке, тем более что никто не пострадал.
— Прошу в разговоре придерживаться семейных дел! — счел долгом напомнить Чесноков, посмотрев на часы.
Самойленко–Манджаро обернулся к нему, что–то недовольно прошептал и объявил:
— Время еще есть. Можете продолжать.
— Петенька! — сказала мать. — Мы решили подать прошение.
— Какое еще прошение? — нахмурился сын.
— О твоем помиловании. Господин Леви сказал, что лучше подать на высочайшее имя. Он обещал написать его.
Петр даже встал, но, вспомнив предупреждение, снова опустился на табурет. Немного успокоившись, он произнес, стараясь говорить как можно мягче и убедительнее:
— Мама! Прошу тебя не делать этого. Я знал, на что шел, и не буду ни у кого просить милости. Не нужны мне и такие адвокаты, как господин Леви.
— Петенька, но ведь тебя закуют в кандалы и отправят на каторгу! Неужель ты хочешь погубить себя?
— Госпожа Анохина, — вмешался Самойленко–Манджаро. — В присутствии вашего столь несговорчивого сына я хочу напомнить вам следующее: если ваш сын будет продолжать упорствовать и скрывать фамилии своих сообщников, с которыми должен разделить ответственность, то его дело будет передано в военный суд и каторга может оказаться самой мягкой мерой наказания.
— Петенька, ты слышишь?! Прошу тебя — не губи ты свою молодую голову, покайся ты. Ой, батюшки мои! И откуда все это взялось в тебе?! Неужели тебе не жалко всех нас?
— Мама, ты не слушай его! Он хочет, чтоб я оговорил своих друзей! А они ведь не виноваты, мама! Он и их хочет отправить на каторгу.
— Свидание окончено! — резко поднялся Самойленко–Манджаро. Если бы не мать и не чистоплюй Чесноков, сегодня он с удовольствием раза два–три съездил бы по морде этому нахалу. Нет, даже не ради показаний, а просто так, чтоб сбить эту мерзкую спесь. — Стража! Увести его!
Два надзирателя уже стояли у настежь распахнутой двери, а в полутьме коридора виднелась почтительно вытянувшаяся фигура начальника тюрьмы.
— Мама, прости меня и не обижайся, — от порога крикнул Петр. — Так надо, мама! Кланяйся нашим!
Захлопнувшаяся дверь приглушила последние слова, они донеслись откуда–то издалека, и ей показалось, что вот сейчас, сию минуту, сын хотел сказать самое важное и нужное. Она с мольбой посмотрела на жандармского начальника, который уже надевал фуражку.
— Вы можете идти, госпожа Анохина.
Медленной заплетающейся походкой она добралась до двери, обернулась:
— Ваше высокородие! Пожалейте его! Он еще такой молодой!
— Да, да. Ступайте! Вам не на кого пенять.
Нет, не таким представлялось ей свидание, о возможности которого днем и ночью она лишь мечтала эти три недели. И все же нынешний сын — какой–то чужой, непонятный и даже жестокий — был для нее не менее дорогим и любимым, чем прежний — мягкий, ласковый и послушный.
Глава девятая.
«Дело полно, медленностей и упущений не усмотрено.»
Из постановления Петербургского военно–окружного суда 24 сентября 1909 года (ЦГВИА, ф. 1351, оп. 12, д.221, л. 4.)1
22 сентября 1909 года помощник командующего войсками гвардии и Петербургского Военного округа генерал от инфантерии Газенкампф, соглашаясь с заключением военной прокуратуры, приказал «предать мещанина Петра Анохина Петербургскому военно–окружному суду».
Назавтра помощник военного прокурора подполковник Матиас представил суду короткий обвинительный акт, список лиц, подлежащих вызову, и следственное дело, указав при этом, что вещественные доказательства, как–то: нож, ножны, тужурка и пальто, — находятся в Петрозаводском полицейском управлении. В качестве свидетелей названы жандармские унтер–офицеры Дмитрий Иванов и Алексей Ишанькин.
Днем позже под председательством генерал–лейтенанта Корейво состоялось распорядительное заседание суда, которое постановило: «делу дать ход и рассмотреть при закрытых дверях ввиду охранения правильного хода судебного заседания…» Для рассмотрения дела определен состав суда, председателем назначен генерал–майор Никифоров, членами суда: полковники Семеновского полка Левстрем и Пронин, полковник гвардейской конно–артиллерийской бригады Виноградский и полковник кавалергардского полка князь Долгоруков.
3 октября начальник Петрозаводской тюрьмы Кацеблин получил предписание военного судьи генерала Никифорова о немедленном переводе подсудимого Петра Анохина в Петербург в Дом предварительного заключения.
Несмотря на субботний день, у прокурора Петрозаводского окружного суда Орлова вечером состоялось совещание, на котором было постановлено не ждать формирования «большого этапа» и отправить Анохина и еще троих переводимых в Петербург заключенных с первым же пароходом, выделив для этого усиленную стражу.
Завтра из Петрозаводска в столицу отправлялся пароход «Петербург», не приспособленный для тюремных перевозок. «В целях безопасности и во избежание всякого рода случайностей» совещание решило на время перевозки заковать четверых заключенных в ножные кандалы.
2
Об этих поспешных приготовлениях ничего не знал сам Петр Анохин. Прошел месяц со дня окончания следствия и свидания с матерью. Сначала Петр ждал, что не сегодня–завтра его вызовут в суд. Он уже не сомневался, что суд будет военным, однако и не предполагал, что состоится он в Петербурге. Ведь Кузьмина судили здесь же, в родном городе!
Дни проходили, иступляюще похожие один на другой.
Дважды, с разрешения и с цензурой прокурора, ему дозволено было отправить короткие записочки матери. Дважды он получил и ответы, написанные на листках школьной тетради крупным ученическом почерком брата Мити. Оба письма заканчивались одними и теми же словами: «Петенька, сынок мой родненький, не губи ты себя понапрасну!» И эта мольба матери приводила его в отчаяние.
Ежедневно Петра выводили на прогулку. Помощник начальника тюрьмы — молодой и румяный чиновник, довольный и собой, и службой, — открывал дверь камеры и весело, упиваясь звуками своего голоса, объявлял:
— Полчаса променаду! Полчаса променаду!
Прогулки Петру разрешались в одиночку, но и они доставляли какую–то радость. Заложив руки за спину, он молча шагал вдоль глухой тюремной стены под пристальным взглядом надзирателя. Он не мог ничего видеть, кроме неба над головой, но ничто не мешало ему слушать. Вот вниз по Святонаволоцкой, взвизгивая немазаными колесами, тяжело проехала телега; вот снизу, от городских кузниц у Неглинки, знакомо донеслись редкие глухие удары молота и звонкое частое постукивание ручника по наковальне. Теперь все это стало для него таким родным, волнующим, что Петр старался осторожнее ступать по земле, чтоб не заглушать этих звуков.
Недолгая радость постепенно уступала место тоске по воле, а потом снова приходило отчаяние. Неужели действительно правы те, кто утверждает, что все напрасно и ничего нельзя изменить? Нет, он не раскаивается в ни о чем не жалеет, кроме того, что сделал он очень мало! Но разве не правы слова песни, которую с таким восторгом, как клятву, совсем недавно пел он вместе с друзьями:
Пусть нам погибнуть придется В тюрьмах и шахтах сырых! Дело всегда отзовется На поколеньях живых…Он готов на все, только бы знать, что не напрасно! Почему же молчит тюрьма, почему молчит воля? Может быть, он поступил безрассудно, не очень умело, но надо же было кому–то начинать!
Тюрьма молчала. Изредка Петр скорее угадывал, чем слышал, как где–то кто–то перестукивается, иногда из–за двери он различал озорные голоса и даже пение, но к нему никто не стучал и никто не делал попыток установить с ним связь. Даже в баню его водили одного, а парашу из камеры забирали по утрам два уголовника, смотревших на него с презрительным любопытством. Непонятная, кем–то подстроенная отчужденность особенно угнетала Петра, хотя он и пытался утешить себя тем, что в тюрьме политических заключенных, наверное, очень мало. Начальник тюрьмы Кацеблин, довольно часто заходивший в камеру, был единственным источником новостей. Он–то и сообщил Петру в конце сентября, что Лева Левин и Давид Рыбак вчера выпущены на волю, а Абрам Рыбак, сидевший в камере с другой стороны здания, будет, вероятно, отправлен в ссылку.
В воскресенье 4 октября Петра после завтрака повели в каптерку, выдали белье, брюки, бушлат и велели переодеваться. В соседней камере его поджидал кузнец, который молча принялся за свое дело. Он примерил к ногам Петра несколько колец, выбрал подходящие и ловко заклепал их. Так Анохин впервые оказался в кандалах, которые вначале не произвели на него впечатления ни их десятифунтовой тяжестью, ни их наличием. Даже наоборот — возвращаясь в свою камеру, он легко позвякивал цепями, стараясь не менять походки. Что такое кандалы, он ощутил через час или два, когда полегоньку, а потом все сильнее и сильнее начали ныть ноги — сперва от ощущения закованности, затем от тяжести оков и натертости голеней.
После обеда две пары кандальников стояли у тюремных ворот. Четыре стражника с примкнутыми штыками и пожилой усатый унтер заняли свои места, ожидая команды на выход. Позади на повозке лежали заплечные мешки охраны и скромные пожитки этапируемых.
Петр оказался в первой паре, рядом с высоким бородатым заключенным в очках и в суконном армяке. Судя по всему, этапы для соседа не были в диковинку. За десять — пятнадцать минут, пока шли последние приготовления, он успел познакомиться со всеми товарищами и особенно заинтересовался Петром. Узнав, что Анохин еще и не осужден, он до крайности удивился и громко обратился к начальнику тюрьмы:
— Господин начальник! Прошу вашего внимания!
— Что такое? — Кацеблин подошел поближе.
— Разве законы империи теперь уже позволяют заковывать в кандалы людей, судом к этому не приговоренных?
— Кого вы имеете в виду? Вы закованы по закону!
— Я имею в виду этого юношу! — очкастый указал на Петра. — Он даже неосужденный, он только подследственный… К тому же политический! Вы не имеете права!
— Он закован по предписанию господина прокурора и это не ваше дело, господин Благосветов, он же Разумовский, он же Григорович. Вам, как беглому каторжнику, вовсе не пристало рассуждать о законности!
— При первой же возможности о ваших действиях я доведу до сведения начальства и общественного мнения.
— Надеюсь, такая возможность вам теперь не скоро представится! — улыбнулся Кацеблин и скомандовал: — Трогай!
Ворота тюрьмы распахнулись, конвой взял ружья наизготовку, и партия медленно двинулась к пристани.
Петр вырос на окраине города и с детства привык к частым крикам мальчишек:
— Колодников ведут! Колодников ведут!
Враз прекращались ребячьи игры, и все наперегонки неслись к мостику через Неглинку, за которым начинался Петербургский тракт. Зрелище всегда было одно и то же: серая масса удивительно похожих друг на друга людей, едва передвигая ноги, спускалась на мост, переходила его и тяжело, из последних сил, тянулась мимо городских кузниц к тюрьме, где на углу Святонаволоцкой и Большой Закаменской их поджидали сердобольные старухи с ломтями хлеба.
В первый раз Петр испугался. Ему, наверное, не было тогда и пяти лет, а кандалы на мосту гремели особенно грозно, и заросшие лица колодников казались нечеловечески страшными, и их выпученные глаза медленно и жадно, одного за другим, оглядывали притихших мальчишек.
Потом этапы перестали и для Петра быть в диковинку. Их стали приводить все чаще и чаще, и не только со стороны Петербургского тракта, но и от пристани. Вместе с колодниками все больше стало прибывать арестантов без кандалов, которых называли «ссыльными», и мальчишки уже кричали по–другому:
— Ссыльных ведут! Ссыльных ведут!
Встречать ссыльных теперь выходили не только старухи и ребятишки с городских окраин. На тюремной площади стали собираться и шумные гимназисты, и любопытствующие торговцы, и рабочие с Александровского завода, и даже сочувствующая революционерам интеллигенция. Стража едва успевала следить за порядком и торопилась поскорей загнать этап за тюремные ворота.
Так было еще совсем недавно. По крайней мере — год или два назад.
Как–то оно будет сегодня?..
…Миновав круглую Петровскую площадь, этап вышел на самую оживленную улицу города — Мариинку. Идти по булыжной мостовой стало труднее: тяжелые на деревянной подошве тюремные башмаки скользили, и цепи у Петра то и дело позвякивали о камни.
— Не торопись! Ремень ровней держи, ноги пошире расставляй! — советовал ему Благосветов, шагавший почти бесшумно.
День был по–осеннему пасмурный, холодный, и гуляющих на Мариинке, несмотря на воскресенье, не было. Моросил мелкий дождик, редкие прохожие, кутаясь в поднятые воротники, почти не обращали внимания на арестантов. Поравняются, секунду–другую помедлят, с удивлением глядя на необычную в воскресный день процессию, перекинутся между собой парой слов и идут своей дорогой. Лишь извозчики, как всегда стоявшие в Палатском переулке, повскакивали с облучков и вышли на Мариинку, но городовой вылез из своей будки и пристыдил их, отдав за одно честь знакомому унтеру из конвоя.
Петр знал и городового Вилаева, и извозчиков, как знал он в лицо многих встречавшихся им прохожих. И то, что все они не обращали на него внимания, принесло ему немалое облегчение. В душе он подготовил себя к таким встречам, решив держаться гордо и независимо. Но решить оказалось куда легче, чем выполнить: голова сама собой опускалась вниз, а подбородок прятался в серый арестантский бушлат. Благосветову хорошо — в городе его не знают, да и вид у него такой, что за уголовника его никто не примет. По всему видно — политический!
На углу Екатерининской, у каменного здания почтовой конторы три нахохлившихся фигуры в гимназических шинелях сгрудились нос к носу и осторожно покуривали, пуская дым в рукав. Петр приметил их издали и все время краешком глаза наблюдал. Кажется, среди них был и тот отчаянный гимназист Андреев, который еще мальчишкой три года назад приводил своих крикливых друзей на рабочие митинги. В прошлом году он привлекался жандармами к дознанию по делу социал–демократов, даже временно исключался из гимназии, но потом был восстановлен.
Вот один из гимназистов заметил этап, что–то сказал товарищам, и все трое выстроились у края тротуара.
Этап медленно приближался. И вдруг звонкий голос разнесся над Мариинкой:
— Анохина ведут! Смотрите — это Анохин!
Это было так неожиданно, что унтер вздрогнул, сделал несколько торопливых шагов к тротуару:
— Господа гимназисты! Прошу соблюдать…
Но гимназисты не умолкали. Они чуть ли не хватали за рукав прохожих, указывали на этап и кричали:
— Смотрите, это Анохин! Анохина ведут!
Прохожие останавливались. Многие из них не знали, кто такой Анохин и почему об этом нужно кричать на всю улицу, но как не остановиться, коль другие стоят и смотрят. Откуда–то появились ребятишки, и собралась уже изрядная кучка народа.
— Господа! Прошу расходиться! Не положено! — упрашивал унтер, когда толпа, обрастая любопытствующими, двинулась по тротуару рядом с этапом. Мальчишки уже путались под ногами у конвоиров.
— …Он типографщик. В первой паре справа! Он покушался на жандармского филера с политическими целями! — захлебываясь от возбуждения, громко повторял Андреев, когда все новые и новые люди присоединялись к процессии.
Некоторые, выслушав эти объяснения, тут же отставали и шли своим путем, другие забегали вперед, чтоб заглянуть в лицо кандальнику.
Петр уже не прятал лица. Подняв голову и глядя куда–то вдаль, он шел шаг в шаг с Благосветовым, словно все происходящее его не касалось. Он вслушивался в шум и все еще не мог понять, чем вызвано это неожиданное возбуждение — обычным любопытством, сочувствием к нему или, может, даже негодованием?
Шум был прерван трелями полицейских свистков. От Садовой, придерживая на бегу шашки, спешили навстречу городовые.
Толпа вмиг рассеялась, даже гимназисты как сквозь землю провалились, и лишь откуда–то из–за забора донесся последний одинокий выкрик:
— Позор фараонам!
Полицейские проводили этап до Соборной площади, потом двое повернули назад, а третий пошел и дальше рядом с конвоем.
Все стихло. Глухо позвякивали цепи, и позади тарахтели по булыжнику колеса тюремной телеги.
Напротив собора унтер замедлил шаг, трижды с поклоном перекрестился и выразительно оглянулся на вверенную ему команду. Стражники последовали его примеру. Перекрестились и двое кандальников, шедших сзади! Благосветов лишь усмехнулся на это, а Петр отвернулся в другую от собора сторону.
Еще двадцать шагов, и они ступят на то самое место, с которого все началось… На тротуаре на углу Пушкинской уже виднеется та выщербленная дождем каменная плита, где он, не вынимая руки из кармана, вытащил из ножен финку и решительно прибавил шагу, глядя прямо в откормленный бритый затылок… Пунцовый затылок покачивался из стороны в сторону, в такт ленивой, оскорбительно самодовольной походке, противней которой, казалось, и не было на свете… Несколько мгновений Петр чуть ли не дышал в этот омерзительный затылок, все еще не peшаясь. И только когда ему показалось, что Иванов оборачивается, он торопливо выдернул нож из кармана и поспешно взмахнул им…
— Держаться правой стороны! — скомандовал унтер и сам первым сдвинулся вправо, пропуская экипажи.
Внизу уже виднелась пристань.
…Как глупо все получилось! Нож почти по самую рукоятку вошел во что–то мягкое. Иванов действительно поворачивался к нему — Петр никогда в жизни не видел у людей такого испуганного, даже умоляющего взгляда, какой был у сыщика.
Бежать Петр не собирался. Ни тогда, когда обдумывал план действия, ни за минуту до его исполнения. Пусть жандармы пишут в своих протоколах, якобы он побежал, «увидев, что промахнулся»! Нет, скорей все было наоборот! Если бы не страдальчески–жалкое лицо Иванова, какое, наверное, бывает лишь у смертельно раненного человека, Петр никогда не побежал бы… Возможно, и сам Иванов вгорячах посчитал себя смертельно раненным, но смотреть на его лицо было страшно…
Петр растерялся и побежал. Сначала во двор мужской гимназии, потом к Гостиному. Он мог бы удрать от погони: Иванов и Ишанькин отставали. Наверное так и надо было сделать. Но тогда?! Бежать на виду у публики, как какому–то карманному воришке, за которым с криком гонятся два человека в штатском, было невыносимо стыдно. И он остановился. Тем более что скрываться не входило в его планы… Глядя на подбегавшего Иванова, он даже испытал минутное облегчение, что тот жив и невредим. Да, он проявил эту минутную слабость, ненужность которой осознал сразу же, как только Иванов и Ишанькин с побоями повели его в полицию.
— Приставить ногу! — прервал размышления Петра голос унтера.
Этап остановился на площади перед входом на пристань. До отправления парохода было не меньше двух часов, и по дощатому настилу пирса бродили лишь случайные прохожие. Зато слева у лодочных причалов, как всегда в воскресный день, шумел настоящий базар. Жители Деревянного, Ялгубы, Суйсари, ввиду позднего времени и ненастной погоды, торопились хотя бы по дешевке распродать привезенные товары, наперебой зазывали покупателей, предлагая сигов, ряпушку, убоину, дичь, соленые грибы и ягоды. Одна за другой лодки ставили паруса и уходили в озеро. Навстречу со стороны Чертова стула и Ивановских островов возвращались лодки городских охотников и рыболовов.
Вся эта с детских лет знакомая картина до боли растревожила душу, и Петр впервые так отчетливо и горько подумал, что теперь все это его не касается, что он здесь чужой, что скоро этот притихший у пирса пароход надолго, а может быть и навсегда, увезет его. Петр обернулся посмотрел на поднимающуюся вверх от пристани Соборную улицу. Неужели он больше так и не увидит мать? Как он не догадался крикнуть гимназисту, чтоб тот предупредил ее… Ведь так много надо сказать! Чтоб не убивалась понапрасну, чтоб думала теперь не о нем, а о младшем Мите, которому, по всему видно, придется быть ее кормильцем в старости…
— Бери, Анохин! — толкнул его в бок Благосветов.
Деревенская женщина в черном платке на виду у стражников протягивала кусок пирога с рыбой. Пирог был белым, с коричневой поджаристой корочкой по краям — таких Петру не часто доводилось пробовать и в добрые времена, а сейчас он был бы рад и куску черного хлеба. Может, потому он оробел и не решался взять пирог у женщины.
— Возьми, сынок! Помолись за своего ровесника, раба божьего Андрея! — тихо сказала женщина, почти насильно всовывая пирог. Видя, что часовые не препятствуют, потянулись с подаяниями арестантам и другие прохожие.
— Это что такое? Прекратить! — издали закричал унтер, уже успевший сбегать к пароходу. — За мной, шагом а–арш!
Пристань очистили от посторонних. Откуда–то появились полицеймейстер Мальцев и начальник тюрьмы Кацеблин. Под их присмотром арестантов по одному проводили на пароход, спустили вниз и поместили в тесной каюте с наглухо закрытым иллюминатором под потолком. Дверь заперли на ключ, поставили в проходе постового, а стражники и унтер расположились в соседней каюте.
— Ну, Кочерин, с богом! — послышался из–за двери напутственный голос Кацеблина. — Не забудь! Анохина первым сдать в предварилку, а остальных троих в пересылку… Смотри, чтоб все было честь честью!
На полчаса все стихло. Арестанты поедали подношение и вполголоса переговаривались. Тут Петр и познакомился с двумя другими спутниками.
Один из них оказался пудожским крестьянином Василием Барышевым, недавно вернувшимся после срочной службы. Две недели назад исправник вдруг арестовал его и заковал в кандалы… Лишь в Петрозаводске ему сказали, что он будет привлечен к суду за убийство на маневрах подполковника Нечая. Да, был у них в полку на учениях такой случай год или два назад… Открыли огонь по наступающему «противнику», а потом оказалось, что где–то на левом фланге за ручьем нашли убитого командира батальона. Человек он плохой был — зверь настоящий, что греха таить! Не любили его в полку… Только кто ж стрелять до своему командиру станет? Может, из офицеров кто счеты какие свел, а скорей — шальная пуля срикошетила… Да и господину подполковнику на том месте быть не полагалось. Никто и не знал, что он там. Долго таскали по допросам всю первую роту… Думали, все кончено, домой отпустили, а вот возьми тебе — кандалы! Да еще говорят — военный суд будет… Бумага об аресте самим генералом бароном Остиным–Сакиным подписана.
— Знаком мне этот барон Остен–Сакен, — сказал Благосветов. — Большой он любитель стальных ожерельев. Но ты, солдат, не отчаивайся! Держись за свое, и точка!
Четвертый арестант был из уголовников. Не без труда удалось у него выпытать, что он из тех пяти кандальников, которые весной убили часового, обезоружили стражников и совершили побег из этапной избы в Пряже… Побег прошел удачно. И кандалы сбили, и по винтовке на руках у каждого… Только сам он захандрил — морозы жмут, а кругом леса. Откололся от товарищей, вышел на тракт и сдался стражникам. Думал, учтут, помилуют… Полгода ждал в надежде, а теперь вот — Сибирь, вечная каторга… Сам он и бежать–то не собирался, силой Заставили бандиты. Хотели в Финляндию удрать, только загоняла их стража по лесам, да всех поодиночке и постреляла где–то возле Олонца.
— А у меня ведь семья, братцы! — громко заплакал уголовный. — Жена, мать–старушка, дети малые… Поить–кормить надо…
— Перестань! — вдруг резко сказал Благосветов, сурово глядевший на него. — Врешь ты все! Нет у тебя семьи и не такая ты овечка, как прикидываешься. Небось сам подговорил товарищей на побег, да и продал их, хотел помилование заработать на чужой крови! Таких жандармы любят!
— Откуда знаешь? — вскинулся уголовник, загремев цепями. Слез на его глазах как не бывало.
— Сиди! С такими как ты от Иркутска до Читы пешком прошел, изучил вашего брата. За дешево купить хочешь — семья, жена, дети… Других дураков поищи со своими жалобами.
— Ох, и умный же ты, падла очкастая! — в восхищении улыбнулся уголовник. — А ведь и верно — нет, братцы у меня семьи. Никого нет — один. Только товарищей я не продавал, врешь ты, очкастый!
— Сядь в угол и чтоб я тебя всю дорогу не слышал! — приказал Благосветов. — А уши свои пальцем заткни от соблазна. Анохин, отодвинься от него! Барышев, поменяйся с Анохиным местами!
Все, чувствуя за Благосветовым какое–то непонятное, но неоспоримое право повелевать, беспрекословно подчинились ему.
Раздался долгий первый гудок. Петр, оказавшийся под иллюминатором, встал, едва дотянулся до стекла, выглянул. И первой, кого он увидел на пристани, была мать. С узелком в руке она металась по пирсу от сходней к корме, от кормы к носу, вглядывалась в окна верхних кают и в иллюминаторы, искала глазами его и никак не находила. Следом за ней бегали брат, сестра и дядя Михаил.
Петр застучал по окованному железом стеклу:
— Мама! Мама!
Но она не видела и не слышала. Петр уже готов был прийти в отчаяние, как Благосветов вдруг подошел к двери каюты и замолотил по ней.
— Позовите начальника конвоя! — попросил он в ответ на оклик часового и, как только тот открыл дверь, с достоинством сказал:
— Господин унтер–офицер! Там, на пристани, мать Анохина… Разрешите им свидание!
— Не могу–с. Без начальства не положено.
— Будь человеком унтер… Ты же сам теперь начальник! Парня на каторгу, может, и на всю жизнь от матери увозишь, а ты — «не могу–с»?! Неужто души у тебя нет? Пусти старуху на пароход, а парня в гальюн поведи… Все ведь в твоей власти. У самого небось дети есть.
Унтер заколебался, как–то нерешительно затворил дверь, а минут через пять снова открыл ее:
— Кому тут по надобности?
— Иди, Анохин! — подтолкнул Петра Благосветов.
Мать стояла в конце узкого прохода. Петр, не поддерживая звеневших кандалов, кинулся к ней, крепко прижал к груди и, чувствуя, что вот–вот не сдержит слез, торопливо заговорил:
— Мама! Не плачь! Не думай обо мне! Все будет хорошо! Прости, что не могу быть тебе кормильцем! Прости, родная! Так надо, мама! Ты не жалей меня, а только прости!
Мать не отвечала. Она ласково гладила его по лицу, плакала, прижимаясь щекой к грубому арестантскому бушлату, и все старалась всунуть сыну в руку узелок с передачей.
Стражники стояли вплотную к ним. Мать наверное и не заметила, как узелок оказался у опасливо посматривавшего вокруг унтера.
— Все! Анохин, проходи! — приказал тот и сам оторвал мать от сына.
Другой из стражников подхватил ее под руку и повел к выходу.
— Береги себя, сынок! — обернулась она сверху трапа.
Раздался второй гудок.
Вернувшись в каюту, Петр бросился к иллюминатору. Черный дым стлался по пристани, и лица родных, стоявших у перил, то стушевывались и пропадали, то снова оказывались совсем близко, в каких–то пяти шагах от него.
Заработала машина, глухо задрожали переборки, где–то рядом заплескалась вода, пристань покатилась в сторону и ее уже нельзя было видеть из иллюминатора.
Унтер принес передачу, от двери молча осмотрел всех — в сохранности ли кандалы — и вышел, а Петр все еще прижимался щекой к холодному стеклу, глядя на скрывавшийся во мгле город. Вот недалеко мелькнуло и пропало урочище Проба, где несколько лет назад он впервые бывал на рабочей сходке.
Серое небо, холодная свинцовая вода за бортом, мгла и впереди — такое же мрачное будущее…
3
Благосветов и Анохин не спали всю ночь. Мерно похрапывал у двери уголовник, где–то внизу у их ног беспокойно ворочался во сне Барышев, а они сидели, прислонившись друг к другу плечом, и тихо, почти шепотом, разговаривали.
Давно уже Петр не испытывал такого чувства доверия, откровенности и близости, как в эту хмурую осеннюю ночь, пока пароход медленно пробирался во тьме к Вознесенью.
Судьба как будто решила все сразу возместить ему за два месяца мучительного одиночества и послала в спутники человека, который понимал его с полуслова.
Учитель Благосветов в декабре 1905 года принимал активное участие в вооруженном рабочем восстании в Ростове–на–Дону, был приговорен к восьми годам каторжных работ, бежал и долгое время скрывался. Год назад он под чужой фамилией был снова арестован во Пскове за политическую пропаганду и подвергнут административной ссылке на Север. Он не успел добраться до места назначения, как департаменту полиции удалось открыть его настоящую фамилию. По телеграмме из Петербурга он был закован в кандалы, и теперь его ждет суровый суд.
Выслушав обстоятельства дела Анохина, Благосветов помолчал в раздумье, потом с улыбкой сказал:
— Было и у нас в Ростове такое же дело… И тоже с жандармом Ивановым. Только наш Иванов не сыщик, а повыше бери — подполковник, начальник железнодорожного жандармского управления… Дело было летом, месяца за четыре до моего ареста. Забастовали рабочие в железнодорожных мастерских. А этот Иванов приказал применить оружие. Ну, и первым от удара жандармской шашкой пал Василий Антипов. Забастовку в мастерских подавили…
А через несколько дней подполковник Иванов получил анонимное письмо, что он приговорен к смертной казни. Назавтра этот же Иванов был убит выстрелами из револьвера у подъезда своего дома… Только, скажу тебе, наш комитет РСДРП никакого отношения к этому убийству не имел.
— А кто же его? — спросил Петр, затаив дыхание.
— Кто? Конечно, эсеры. Нашлись три отчаянные головы… Стрелял ученик технического училища Ковалев, а помогали ему два других молодых парня. Представляешь, какой переполох вышел? Наш комитет в это время готовился ко всеобщей забастовке, чтоб перевести ее потом в вооруженное восстание, а тут такое дело! Чуть провал не вышел. Ковалев был схвачен дня через четыре, и парню грозила смертная казнь…
— Грозила? Разве его не казнили?
— Казнили бы обязательно, но удалось побег ему устроить… Тут уж и наш комитет эсерам помогал. Содержали Ковалева не в Ростове, а в городе Каменске… Все удачно, к счастью, получилось… А забастовку нам надолго задержало. Ростов был буквально наводнен, после этого случая, казаками и жандармами. Нашему комитету пришлось скрываться, прервать завоз оружия для восстания. Вот ты теперь сам и посуди — был ли большой толк для революции от этого убийства?
— Вы это в упрек мне говорите? — спросил Петр. — Пусть я поступил глупо… Но я и решился на свое дело потому, что ничего похожего на Ростов у нас не было. Ни комитета, ни забастовки… Все затихло… Одни сатрапы да их поганые ищейки праздновали свою победу. Пусть видят, что не всех они до тюрьмам и каторгам посажали! Неужели вы станете меня упрекать?
Благосветов помолчал. Пароход качало, торопливо и сбивчиво шлёпали по воде плицы, и с шумом мимо борта проносились рассекаемые форштевнем волны.
— Нет, не стану… Только узколобые начетчики от революции решатся на упрек тебе! Жизнь, Анохин, всегда сложней любой теории, но если ты не будешь знать теории, то никогда не разберешься в жизни. Наша теория революции — это сгусток векового опыта. Она куплена дорогой ценой тяжких поисков, морем крови и долгих заблуждений. Ты, конечно, слышал о Желябове, Гриневецком, Морозове, Фигнер и других народовольцах?
— Слышал.
— И ты, конечно, преклоняешься перед ними?
— А вы разве нет?
— Ну, почему же… Не уважать их нельзя. Я ведь сам среди народовольцев начинал.,. Однако уважать можно по–разному. Можно преклоняться, восторгаться, даже подражать им, как поступают, к примеру, нынешние эсеры… Но не лучшим ли уважением для памяти казненных будет, если мы, наученные их печальным опытом, поведем дело революции по–другому?
— Значит, их опыт все–таки принес пользу революции? Хотя бы тем, что вы только что сказали?
Благосветов усмехнулся.
— Ты, Анохин, цепкий парень… Конечно, принес. Именно тем, о чем мы уже говорили. Но именно поэтому будет особенно неправильно, если каждый станет, вопреки опыту, приходить к революционной правде через повторение их заблуждений… Ты, конечно, понял меня — я это чувствую.
— Знаете, вы говорите очень похоже на дядю Николая.
— Кто такой?
— Наш, с завода… Простой рабочий, но у него как–то все понятно выходит.
— Социал–демократ?
— Да. Сейчас он в ссылке. В июле тайком приезжал в Петрозаводск. Всего на один день. Знаете, вот с нашей встречи у меня все и началось. Я так боялся, — вдруг этот Иванов уже выследил его? Помню, идем мы с товарищем домой, а я и разговаривать ни о чем не могу, все посматриваю вокруг, ищу глазами этого жандарма… Даже руки дрожали…
— И тут ты решил расправиться с ним?
— Нет, не сразу… Тогда я только подумал об этом… Ну, думаю, если ты, собака, и впрямь выследил дядю Николая, то несдобровать тебе! Сам погибну, но и тебе, подлец, не жить!
— Мстить надумал? Таким путем бороться решил?
— Погодите… Дядя Николай благополучно уехал. А дней через десять, в воскресенье, отправились мы с друзьями на лодках в Пески. Человек шесть собралось. Двоих я даже впервые видел. Купались, костер на берегу жгли… А главное, очень много и интересно разговаривали. Стихи читали, песни пели… И все об одном — о свободе, о революции, о справедливости… Этот день я, наверное, никогда не забуду. Был он каким–то необыкновенно счастливым и вместе печальным. Не в том дело, что накануне и в субботу я уволился из типографии, поругался со смотрителем и ушел. Тогда я, помнится, меньше всего думал об этом. Хотелось не только петь и разговаривать, хотелось действовать! Что–то сделать такое, о чем мечтали те великие люди, которые сочиняли эти стихи и песни! Это было как клятва! И я уверен, что все переживали то же самое! Мы много говорили об этом, хотя никто не знал, что нужно делать, с чего начинать… Домой мы возвращались поодиночке, так как за некоторыми из нас полиция вела наблюдение. Было уже поздно. Помню, подошел я к Неглинскому кладбищу и вдруг остановился. Где–то здесь неподалеку могила Александра Кузьмина. Это наш петрозаводский парень. Его казнили в прошлом году за покушение на сенатора Крашенинникова. Я знал, что найти могилу невозможно. Жандармы сравняли ее с землей. Я стоял, смотрел на тихую окраину кладбища, а в голове все сильней стучали слова песни, которую мы так много пели в тот день: «Дело всегда отзовется на поколеньях живых…»
— Скажи, твои друзья примыкали к эсерам? — спросил Благосветов, воспользовавшись небольшой паузой.
— Если только по убеждениям… Ни в какой организации они не состояли… Да и нет у нас в Петрозаводске никаких организаций. Разве черносотенцы… Все разгромлено.
— Продолжай. Только говори потише, я пойму.
— …И надо же было случиться такому, что на Солдатской улице я встретил Иванова. Не знаю, что ему было нужно там? Ведь жил он совсем в другом месте, а теперь вразвалочку, как всегда, брел от Левашовского бульвара. Остановился, пропустил меня, поздоровался и опять как–то ехидно улыбнулся. Вот тогда–то я и решился! Тогда–то, помню, и пожалел, что не было у меня никакого оружия… Ну, а остальное вы знаете!
— Ты друзьям сказал о своем решении?
— Нет! — резко возразил Анохин. — Я действовал один.
— Не горячись! Я верю тебе… Это хорошо, Анохин, что ты до конца верен дружбе! Таким и надо быть! Так и следовало держаться, если бы дело было поручено тебе организацией. Но друзей тоже надо уметь выбирать! И если твои друзья знали или догадывались о твоих намерениях и не отговорили тебя — то они поступили не очень–то по–товарищески.
— Я действовал один! — повторил Петр.
— Я же не спорю! — улыбнулся Благосветов. — Чего же ты сердишься?
— Простите, пожалуйста… Но это же самое мне все время пытался навязать подполковник Самойленко–Манджаро. Он даже сулил мне помощь, если я признаюсь что действовал не один.
— A–а, вот оно в чем дело… Теперь понятно. И все–таки, коль у нас зашел такой откровенный разговор скажи, Анохин: там, на берегу вы говорили о том, что, дескать, хватит слов, хватит бесцельной пропаганды, что пришла пора действовать, что только в борьбе и самоотречении обретешь, дескать, право свое… Было такое, скажи?
— А разве это не так? Что же тут плохого? Почему вы смеетесь?
— Я не смеюсь, а просто улыбаюсь, ибо узнаю эсеровскую закваску и прежде всего — самого себя. Как странно все повторяется! Ну да ладно. Теперь ты и сам многое в состоянии понять… Значит, предъявлена тебе сто вторая, а везут на военный суд? Это, Анохин, тяжелый случай. И ты будь готов к самому худшему. Поэтому давай, пока есть время, вместе подумаем, как лучше держаться и как быть с защитой? У меня все–таки кое–какой опыт есть…
— Я думаю отказаться от защиты.
— Почему?
— Не стану я просить ни защиты, ни милости. Не для того я брался за свое дело. Пусть каторга, ссылка, казнь — мне все равно!
— Ну и дурак, прости меня! Выходит, Анохин, ты так ничего и не понял. Зря, выходит, мы разговаривали.
— Нет, почему же? Я многое понял и вам за это спасибо.
— Почему же ты так глупо продолжаешь вести себя? Ты думаешь, если тебя казнят или отправят в вечную каторгу, ты принесешь этим много пользы революции? Наивно рассуждаешь, парень! Самодержавие любыми мерами устраивает расправу над нами. Ведь его нынешние так называемые законы — это же не что иное, как расправа с революцией. На пощаду нам надеяться нечего. Значит — нужно защищаться. Любыми средствами, вплоть до побегов. Пойми это раз и навсегда, если ты революционер, а не новоявленный христосик! Вот что! У нас еще более суток, целых две ночи вместе. Я тебе многое могу рассказать, ведь и меня в Ростове судил военно–окружной суд. Дам фамилию умного петербургского адвоката. Научу, как перестукиваться в тюрьме. Это нехитрое дело, в тюрьмах по нынешним временам ты всегда найдешь немало людей, которые дадут тебе добрый совет… Все это при одном условии, если ты сразу и напрочь отбросишь свои мальчишеские замашки. В противном случае — бок о бок и в стороны? Ясно? Я не шучу, Анохин. Человек я настырный, и грош мне цена, если мне не удастся переубедить такого неоперившегося птенца, как ты. Всю жизнь не прощу себе этого, понятно?
Глава десятая
Суд был скор
Да не тот приговор
Суд был прямой,
Да судья — кривой…
Из русских пословиц1
Утром 3 ноября, как только забрезжил поздний петербургский рассвет, из ворот Дома предварительного заключения выехала в сопровождении трех конных стражников черная карета. Она свернула на Литейный проспект, потом по Пантелеймоновской мимо Летнего сада выбралась на Садовую улицу, снова свернула вправо и долго громыхала по булыжной набережной Екатерининского канала.
На Мойке, у Поцелуева моста карета остановилась возле здания Петербургского военно–окружного суда.
Рослый жандармский унтер–офицер степенно слез с коня, неторопливо, придерживая рукой саблю, вошел в вестибюль и зычно доложил дежурному офицеру:
— Согласно приказу доставлен из тюрьмы подсудимый Анохин!
Суд был назначен на одиннадцать часов, но начало пришлось отложить. По положению военно–окружной суд мог открыть свое заседание лишь при наличии четырех временных членов, назначаемых из числа штаб–офицеров сроком на четыре месяца.
В кабинете судьи генерал–майора Никифорова уже находились полковники Левстрем, Пронин, Виноградский. Как всегда, запаздывал кавалергард князь Долгоруков.
И то, что опоздание было не первым, и то, что подобное манкирование, непозволительное другим, безнаказанно сходило с рук князю, злило собравшихся, делало потерю времени особенно обидной и ощутимой. Даже обычный в предсудебные часы легкий разговор о столичных новостях на этот раз то и дело прерывался долгими паузами.
Наконец появился и Долгоруков, приехавший неожиданно для всех в дворцовой форме — в белом мундире, поверх которого была надета красная кираса, в белых замшевых лосинах и блестящих гвардейских ботфортах.
— Господа, у меня весьма мало времени! — вместо извинения объявил он, отдавая каждому честь и пожимая руку. — Полковник Гагарин неожиданно заболел и я заступаю на дежурство во дворце.
— Начнем заседание! — и генерал Никифоров первым тронулся к выходу.
Они вошли в небольшой, отделанный под красное дерево зал, расположились за длинным столом с высокими креслами. Генерал, проверив наличие секретаря, прокурора, защитника, судебного пристава и священника, объявил, что рассмотрению суда подлежит дело о мещанине Петре Анохине, обвиняемом по таким–то и таким статьям, и приказал ввести подсудимого.
Под конвоем двух с саблями наголо жандармов Петр вошел в зал, занял указанное ему за перегородкой место.
Часы пробили двенадцать.
Судья задал подсудимому несколько вопросов, выясняющих его личность, и спросил — получил ли подсудимый обвинительный акт, списки судей и фамилию прокурора, поддерживающего обвинение.
— Да, — ответил Анохин.
— Явились ли свидетели? — обратился генерал к приставу.
— Так точно, ваше превосходительство.
— Размещены ли они в соответствии с 717 статьей «Военно–судебного Устава»?
— Так точно, ваше превосходительство.
— Приступаем к рассмотрению дела! Господин секретарь, прошу огласить обвинительный акт!
Тот же голос, что и три недели назад, так же размеренно и бесстрастно повторил обвинение, каждую фразу которого Петр знал наизусть.
— Подсудимый! Понятна ли вам суть обвинения? — спросил генерал и, помедлив, пояснил: — Вы обвиняетесь в том, что, задумав лишить жизни жандармского унтер–офицера Иванова за то, что последний раскрыл много политических преступлений, вы 11 августа в Петрозаводске нанесли ему с указанной целью финским ножом удар в шею, чем, однако, не причинили ему вреда по обстоятельствам от вашей воли не зависевшим. Признаете ли вы себя виновным?
— Да, я хотел убить жандармского сыщика Иванова.
— Подсудимый признал свою вину, — объявил генерал и, обернувшись сначала к прокурору, потом к защитнику, спросил: — Встречают ли стороны надобность в проверке доказательств?
— Прошу допросить свидетелей Иванова и Ишанькина, — сказал прокурор.
— Иванова прошу допросить в качестве пострадавшего! — возразил защитник.
Вышла недолгая заминка. Суд, посовещавшись, все же решил и Иванова, и Ишанькина допрашивать в качестве свидетелей.
— Заявляю протест! — поднялся адвокат. — Иванов является в первую очередь пострадавшим, и суд должен признать его в качестве такового.
— Протест несвоевременен! Список свидетелей был вручен обвиняемому около месяца назад, и он был согласен с ним… Пригласите в зал свидетелей!
Ввели свидетелей. Председатель суда задал вопросы о их личности, вероисповедании и нет ли у них особых отношений с обвиняемым. Потом священник привел свидетелей к присяге, Ишанькина удалили из зала, а Иванов стал давать показания.
Он повторил слово в слово все то, что показывал и следователю Чеснокову, и подполковнику Самойленко–Манджаро.
Петр не видел Иванова с того памятного вечера. Помимо того, что сегодняшняя их встреча сулила очень мало хорошего для Петра, ему было как–то особенно обидно, неловко и даже стыдно сидеть перед ненавистным филером в жалком положении подсудимого. Конечно, Иванов — пешка. Что значит он в сравнении с этими генералами и полковниками! Все дело в них! Им дано судить, решать судьбы, держать в повиновении таких, как Иванов! Или таких, как эти два застывших по бокам жандарма, которые, по своей тупости и довольству, сами не знают, что творят. Прикажи им рубить шашкой — они зарубят, прикажи отпустить на волю — тут же отпустят и даже удивятся. Таков же и Иванов, только еще хуже, так ка не простой холоп, а холоп–ищейка…
— Имеются ли у обвинения вопросы к свидетелю Иванову? — спросил генерал.
— Не имеется, — ответил прокурор.
— А у вас, господин защитник?
— Да. Скажите, господин Иванов, вы служите в жандармском управлении в должности филера?
— Так точно–с.
— В чем же состоят ваши обязанности?
— Наблюдать за неблагонадежными элементами.
— Вам дают задание по наблюдению или вы сами решаете, за кем наблюдать?
— Когда как–с. Чаще всего мы имеем задание…
— Точнее. Имеете ли вы право без распоряжения начальства устанавливать за человеком наблюдение?
Иванов замялся, растерянно посмотрел на судей, на прокурора и молчал.
— Я жду ответа, свидетель.
— О всех замеченных неблагонадежных лицах или действиях мы докладываем начальству.
— На следствии вы заявили, что до 11 августа обвиняемый Анохин ни в чем подозрительном не замечался, не так ли?
— Так точно–с.
— И вместе с тем, как явствует из ваших сегодняшних показаний, вы вели за ним постоянное наблюдение. Было это или нет?
— Никак нет–с. Анохин лишь замечался с неблагонадежными элементами, за которыми велось постоянное наблюдение.
— Кто эти неблагонадежные элементы?
— Лева Левин и Давид Рыбак.
— Господа судьи, — обратился защитник. — Прошу отметить. После инцидента 11 августа указанные Лева Левин и Давид Рыбак были привлечены к жандармскому дознанию, арестованы и за неимением каких–либо компрометирующих их фактов, освобождены из–под ареста… Скажите, свидетель! Как часто вам доводилось встречать или видеть Анохина до покушения?
— Почти каждый день–с.
— Где?
— На улице–с. Он работал разносчиком газеты.
—– Он, как вы утверждали на следствии, знал о том, что вы служите филером?
— Так точно–с. Он приносил газету в жандармское управление и часто встречал нас там.
— Как вы считаете, свидетель, могло ли у Анохина, который, по вашим собственным утверждениям, не являлся неблагонадежным, создаться в результате только что сообщенных фактов мнение, что вы постоянно ведете за ним наблюдение?
— Не могу знать–с.
— Господин председатель, считаю, что вопрос защитой поставлен в наводящей и потому неправильной форме, — заметил прокурор.
— Да–да. Формулируйте вопросы конкретней, — согласился генерал, недовольный затяжкой процесса.
Все — и прокурор, и члены суда, и адвокат, — знали, что дело Анохина уже решенное, что никакие новые факты не изменят сущности приговора. Статьи 18 и 31 «Положения об охране», предусматривавшие «нападение на чинов войска и полиции и на всех должностных лиц при исполнении ими обязанностей службы», требовали наказания в соответствии с 279 статьей Свода военных постановлений, а это означало смертную казнь.
Поэтому процесс не представлял никакого интереса и с точки зрения юридической.
Председатель, даже не стараясь вникать в существо судебного следствия, следил лишь за соблюдением формальностей, так как смертные приговоры поступали на конфирмацию к командующему войсками. Прокурор, отлично сознавая неоспоримость выводов обвинительного акта, заботился о сохранении «чести мундира». А защитник, понимая полную беспомощность своего положения, если и пытался что–то предпринять, то лишь за тем, чтобы хоть этим оправдать себя в глазах подсудимого.
Самое нелепое и парадоксальное состояло в том, что если бы члены суда и захотели вынести обвиняемому иной приговор, то они не смогли бы этого сделать. По высочайшему повелению от 8 сентября 1905 года военно–окружной суд сам не имел права смягчить наказания, а лишь мог, при наличии смягчающих обстоятельств, наряду с вынесением смертного приговора представить командующему войсками отдельное постановление.
На желании хоть как–то добиться у суда этого «отдельного постановления» и были сосредоточены слабые усилия защитника. Он сам понимал их тщетность…
— Скажите, свидетель, чем вы объясняете мотивы покушения на вас? Не вашим ли излишне ревностным отношением к службе, когда вы ежедневно наблюдали за человеком, не являющимся неблагонадежным?
— Не могу знать–с. За Анохиным мы не вели наблюдения, он лишь замечался нами…
— Значит, покушение на вас не связано с исполнением вами служебных обязанностей?
— Ваше превосходительство! — поднялся прокурор. — Мне кажется, адвокат допрашивает Иванова не в качестве свидетеля, а в качестве потерпевшей стороны, что уже отвергнуто постановлением суда.
— Да–да, — согласился председатель. — Суд считает возможным прекратить допрос свидетеля Иванова. Есть ли надобность в допросе свидетеля Ишанькина?
И обвинение, и защита от допроса Ишанькина отказались.
— Судебное следствие считаю оконченным, — объявил генерал. — Переходим к прениям сторон. Ваше слово, гocподин прокурор!
— Я, господа судьи, не намерен долго задерживать ваше внимание. Дело совершенно ясное, а судебное следствие не вскрыло, да и не могло вскрыть никаких новых обстоятельств. Ввиду признания обвиняемым своей вины, попытка защиты привнести в ход процесса какие–то иные мотивы покушения, кроме политических, выглядит особенно неубедительной. Сегодня мы еще раз имеем дело с отголосками того зла, которое, стремясь подорвать благополучие и процветание империи и трона, уже привело однажды к беспорядкам, бунту и кровопролитию. К счастью, наши законы справедливы, незыблемы и решительны в квалификации такого рода деяний. То, что обвиняемый молод, заставляет нас лишь строже отнестись к его преступлению, ибо это не какая–то случайная ошибка, а вполне обдуманный, преднамеренный акт, свидетельствующий не о заблуждениях, а о коренной порочности некоторой, правда — небольшой, доли современного молодого поколения. Обвинение считает вину полностью доказанной и требует применения 279 статьи XXII книги Свода военных постановлений.
— Слово предоставляется защите! — объявил генерал, посмотрев на часы. Прошло уже тридцать пять минут. Если адвокат затянет свою речь, то может создаться весьма трудное положение. Ведь князь Долгоруков скоро должен покинуть суд, а вынесение резолюции требует обязательного присутствия всех четырех временных членов…
Защитник — помощник присяжного поверенного Петропавловский — не знал этого беспокоящего судью обстоятельства. Но он знал другое — военный суд не любит долгих речей и словопрений. А поскольку он понимал, что ему никогда не удастся опровергнуть или поколебать в глазах суда выдвинутые против Анохина обвинения, у него оставался, как ему казалось, единственный слабый шанс для облегчения участи подзащитного: не раздражать суд безуспешными спорами с прокурором, а постараться найти какие–то смягчающие обстоятельства. Таким обстоятельством представлялась ему молодость обвиняемого. Правда, прокурор, как бы угадав его намерения, в своей речи упредил и этот довод, но другого ничего не оставалось.
Вот почему речь адвоката продолжалась всего несколько минут и была выдержана в плане индивидуально–психологической защиты.
Характеризуя подзащитного и жизнь провинциального Петрозаводска, где вырос Анохин, он намеренно избегал постановки политических и социальных проблем.
— Господа судьи! — воскликнул он, как бы взывая к их гуманности и добросердечию. — В одиннадцать лет обвиняемый начал свою трудовую жизнь. В одиннадцать лет! Семейные обстоятельства сложились так, что он лишен был золотой поры детства! Он приходил домой усталым, и лишь книги давали ему отдохновение, лишь через них он узнавал, что была у других счастливая пора детства, отрочества и юности. Господа судьи! Эта увлеченность книгами и начитанность подсудимого не могли не повлиять на формирование его характера. Они будили воображение, обостряли его психологию, рождали в нем импульсы тревог, беспокойства и неудовлетворенности… А тут еще несправедливое отношение со стороны смотрителя типографии, увольнение, поиски службы, удар по самолюбию и так далее, и тому подобное. А тут еще — каждодневная встреча с жандармским агентом Ивановым, который хотя и не имел приказа вести за Анохиным постоянное наблюдение, но фактически вел его, усугубляя тем самым обостренное психологическое состояние моего подзащитного. Много ли нужно юноше, господа судьи, чтобы он бросился с ножом, с камнем или с палкой на обидчика? Именно таким обидчиком предстал в его глазах филер Иванов. То, что в дальнейшем подсудимый привнес в дело политические мотивы, это не более как дань его начитанности, его стремлению не выглядеть в глазах других людей обычным нарушителем правопорядка. Господин прокурор не произнес этих страшных слов — «смертная казнь». Но мы–то с вами знаем, что означает 279 статья Свода военных постановлений! Неужели вы отправите на смерть юношу, вступающего в жизнь, только за то, что он охотничьим ножом распорол пальто и тужурку переодетого в штатское платье жандарма, не нанеся ему даже малейшего ранения?! Господа судьи! Я верю в вашу справедливость и прошу одного — гуманности к человеку, доброты к ближнему, милосердия к оступившемуся. Я кончил, господа судьи!
Адвокат сел. И хотя он сознавал, что истинные причины его взывающего к милосердию красноречия понятны всем присутствовавшим, он был доволен своей речью. По крайней мере, он был предельно краток и его, кажется, слушали. Теперь многое зависело от подзащитного. Если бы он покаялся в совершенном и попросил снисхождения, то, может быть, суд и решил бы, наряду со смертным приговором, принять особое постановление с просьбой о помиловании. Правда, об этом постановлении, даже если оно и состоится, никто не узнает, кроме самих судей. Но без него трудно рассчитывать на какое–то снисхождение.
— Последнее слово подсудимого! — объявил генерал, уже уверенный в том, что все необходимые формальности он успеет провести при полном составе суда.
Анохин встал. Конвойные на полшага отступили назад и под взглядами начальства словно окаменели. Несколько секунд длилось молчание.
— Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
Петр поднял голову и посмотрел на судью.
— Вы будете говорить? — В голосе генерала слышалось нетерпение.
— Говорите, — обернувшись к нему, прошептал защитник. — Просите помилования! Слышите!
— Я спрашиваю вас в последний раз! — Генерал уже не скрывал раздражения.
— Говорите же! — чуть ли не простонал защитник. — Потом будет поздно!
— Я не знаю, что говорить… — тихо произнес Петр, но поскольку все в нетерпении ждали его слов, то голос его был услышан за судейским столом. — Я сказал все… И мне нечего больше добавить… Теперь я понимаю, что совершил ошибку… Хотя и не такую, как говорил здесь господин адвокат… Теперь я не совершил бы.
— У вас все? — генерал уже встал с кресла.
— Проси помилования, идиот! Проси скорей! — сквозь зубы произнес адвокат.
Петр лишь посмотрел на него и молча отвел взгляд в сторону, на темную стену позади судейских кресел.
— Объявляется перерыв для вынесения резолюции! Членов суда прошу пройти в совещательную комнату!
Судебное заседание длилось ровно сорок восемь минут…
2
Обычно в совещательной комнате устраивался небольшой перерыв, чтобы члены суда могли покурить, обменяться впечатлениями и вообще отдохнуть за прохладительными напитками. Сегодня ввиду поспешности князя Долгорукова такого перерыва не было. Членам суда был сразу же предложен заранее заготовленный вопросный лист, где единственный вопрос был поставлен в той же форме, в какой генерал задавал его подсудимому в начале заседания. Только вместо слов: «Признаете ли… себя виновным в том, что…» — теперь стояло: «Доказано ли, что…»
Недолго посовещавшись, суд сформулировал ответ: «Да, совершил и виновен».
Один за другим брали перо и молча выводили свои фамилии полковники Левстрем, Пронин, Виноградский… Лишь князь Долгоруков, уже успевший надеть, шинель, спросил:
— А все же, господа, я не понял — было ли последнее слово подсудимого раскаянием?
— Было! Конечно, было! — подтвердили другие члены суда, только, генерал Никифоров дипломатично промолчал.
— Тогда, господа, может, нам следует принять особое постановление о наличии смягчающих обстоятельств. Ведь преступник действительно чертовски молод и лицо у него совсем не злодейское, а я бы сказал, даже доброе и симпатичное. Как вы, господа? Ваше превосходительство, вы не считаете это нужным?
— Мне кажется, князь, — сказал Никифоров, — что его высокопревосходительство и без наших постановлений постоянно проявляет достаточную мягкость.
— Я не настаиваю, господа. Однако смертная казнь — это чертовски неприятно все–таки… Ну, прошу извинения, мне пора!
Долгоруков ушел, а оставшиеся члены суда под руководством генерала принялись за составление резолюции.
В это время в судебном зале защитник выговаривал своему подзащитному за его последнее слово, за то, что, проявив глупое упрямство, подсудимый тем самым усугубил свое положение и лишил себя, может быть, единственного шанса. Он говорил раздраженно, а сам где–то внутри чувствовал даже облегчение. Он–то знал, что смертный приговор неизбежен в любом случае. И пусть Анохин воспримет теперь приговор не как бессилие защиты, а как расплату за свое упрямство.
— Ведь это не шутка, батенька! — из–за перегородки, распаляя себя все больше и больше, говорил адвокат. — Ты сам предписал себе крайнюю меру! Неужели так трудно было произнести три слова: «раскаиваюсь и прошу помилования»! Всего три слова! А ты еще зачем–то поставил под сомнение доводы защиты! На что ты рассчитываешь, на что надеешься!
Петр ни на что не рассчитывал. Он даже не думал о приговоре, так как все еще никак не мог сосредоточиться. Все, развернувшееся в этом зале, происходило настолько легко и быстро, что казалось сном или шуткой. Неужели это и есть тот грозный суд, о котором он столько думал?
Что же в нем страшного? Все так просто: «господин прокурор», «господа судьи», «господин адвокат».
— Ты понимаешь, в какое положение ты поставил и себя и меня? Я ведь объяснял тебе! Приговор военного суда подлежит лишь кассационному обжалованию. А для этого у нас нет никаких поводов, ибо суд проведен с соблюдением всех установленных законами норм…
Слова защитника доходили до Петра так глухо, как будто их разделяли не деревянные в пояс перильца, а сплошное невидимое стекло… «Установленных законами».
В последние месяцы все люди, с которыми довелось встречаться Петру, кажется, только и думали об этом — как бы соблюсти и не нарушить… Даже Самойленко–Манджаро, прежде чем предложить ему гнусную роль провокатора, обязательно ссылался на какую–то установленную законом статью, которая давала право на ведение дознания.
— У нас осталось последнее. Как только объявят резолюцию, мы подадим прошение… К счастью, я предвидел эту твою глупую выходку и заранее подготовил его…
Защитник лязгал замками портфеля, рылся в бумагах, перелистывал их, снова совал в портфель. Он явно спешил: суд мог войти с минуты на минуту.
— Учти, я не намерен уговаривать. Это не входит в мои функции… Честно скажу, я и так весьма сожалею, что взял на себя твое дело.
— Встать! Суд идет!
Пристав лихо щелкнул каблуками и распахнул двери.
Генерал и трое полковников гуськом прошли к своим местам, но не сели в кресла, а вытянулись по стойке «смирно».
— Объявляется резолюция суда! — Голос генерала звонко отдавался в пустом зале.
— «Тысяча девятьсот девятого года, ноября третьего дня, Петербургский военно–окружной суд… выслушав дело о Петрозаводском мещанине Петре Федоровиче Анохине, восемнадцати лет, признал его виновным в покушении на убийство жандарма по поводу исполнения сим последним служебных обязанностей, а потому и на основании восемнадцатой и тридцать первой статей «Положения о мерах к охранению Государственного порядка и общественного спокойствия» и 279 статьи XXII книги «Свода военных постановлений…» постановил: подсудимого Петра Федорова Анохина лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение с последствиями, указанными в 28 статье «Уложения о наказаниях»… Приговор по вступлении его в законную силу представить на предмет утверждения Помощнику Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа».
Выждав небольшую паузу, генерал чуть тише добавил: — Приговор в окончательной форме будет объявлен тотчас же по изготовлении такового. Приглашаю к этому времени всех участвующих в деле быть. Приговор вступит в законную силу четвертого ноября. Для подачи кассационных жалоб устанавливается суточный срок с момента оглашения приговора. Заседание суда объявляется закрытым!
Часы на стене показывали ровно половину второго.
Глава одиннадцатая
«Начальнику СПб Дома Предварительного заключения 3 ноября 1909 года.
Препровождается обратно вызывавшийся в суд 3 ноября с. г. подсудимый мещанин Петр Анохин, который приговорен к смертной казни через повешение.
Приговор в окончательной форме ему объявлен.
Военный судья генерал–майор Никифоров.
Помощник секретаря титулярный советник Бирюков.
(ЦГВИА, ф. 1351, оп. 12, д.221, л. 38.)1
Издавна заведено, что казни по суду совершаются на рассвете, тем самым как бы даруя приговоренным еще одну, последнюю ночь. До своих решающих минут эта ночь одинакова как для тех, для кого она окажется действительно последней, так и для тех, кому случай и счастье принесут потом помилование. Занесенный меч приговора, «вступающего в законную силу на следующий день», одинаково висит над теми и другими, не разделяя их и никому не оставляя никаких надежд.
Таковы были военно–судебные установления Российской империи.
Осужденный должен ждать своей смерти, и он ждал ее. Вследствие других правил и установлений это ожидание растягивалось нередко на недели, пока приговор находился на конфирмации.
Никто не знал, когда тот или иной командующий войсками или генерал–губернатор соизволит выбрать время и что ему вздумается начертать на приговоре.
Меньше всего об этом знал сам осужденный.
Вот почему каждое наступившее утро он невольно встречал все более крепнувшей надеждой, которая потом, когда приговор все–таки утверждался к исполнению, делала казнь особенно тяжелой и нелепой.
Вот почему каждую приближающуюся ночь даже помилованный впоследствии осужденный воспринимал и переживал, как свою, возможно последнюю…
За время революции 1905–1907 годов военные суды вынесли столько смертных приговоров, что каждая из российских тюрем, помимо общих правил и установлений, выработала и свои собственные традиции в отношении к осужденным на смерть.
В Петербургском Доме предварительного заключения казни не совершались. Для этой цели по столичному судебному округу министерством юстиции были секретным порядком рекомендованы два места — особая Шлиссельбургская тюрьма и Лисий Нос на берегу Финского залива.
Однако и Дом предварительного заключения имел свои традиции, с которыми сталкивался «смертник», как только его привозили из суда.
2
Прежде чем впустить в камеру, Анохина тщательно обыскали и отобрали ремень.
— Зачем? — спросил он. Этот факт удивил его не своей истинной значимостью, о которой он пока не догадывался, а житейским неудобством все время поддерживать рукой широкие тюремные штаны.
— Так положено, — ответил надзиратель, производивший обыск, а старший дежурный надзиратель, наблюдавший за процедурой, с улыбкой добавил:
— Это, чтоб ты не вздумал раньше времени…
Даже этот вполне определенный намек не произвел на Петра почти никакого впечатления. Вот уже несколько часов им владело удивительно отупляющее чувство безразличия и к себе, и ко всему, что происходило вокруг. Оно началось с первых минут суда. Он так ждал его, так волновался и переживал, пытаясь представить, как все будет, и был так удивлен несхожестью своих представлений с увиденным, что до сих пор все казалось ему не настоящим, а нарочито разыгранным.
— Ну, готово? — весело спросил старший надзиратель. — Входи, сто тридцать седьмой! А ремешок — это полагается… Мало ли что придет в голову вашему брату?!
— Боитесь, что вас могут лишить такого удовольствия? — переступив порог камеры, обернулся Петр.
— Входи, входи! Ишь, какой языкастый нашелся?! Посмотрим, надолго ли храбрости твоей хватит? Ты, Казаков, гляди за ним! Глаз не спускай!
Казаков и действительно «не спускал глаз…». Несколько часов подряд Петр медленно расхаживал по камере и всякий раз, поворачиваясь к двери, видел нависшего над «глазком» надзирателя.
«Следишь? Ну и следи, фараон несчастный! — не без злорадства думал Петр. — Хочешь посмотреть, как я буду убиваться, плакать, пощады просить? Нет, сатрапы, не дождетесь! На зло вам не увидите этого… Главное — ходить и ходить. Не думать об этом и ходить!»
В камере залегли свет. Петр все еще продолжал двигаться медленными выверенными шагами, но одиночество уже начало действовать на него. На людях было все–таки легче! Даже среди чужих, враждебно к нему относящихся!
Их открытая враждебность заставляла его искать в себе силы не раскисать, сдерживаться, не падать духом, и это уводило от ненужных расслабляющих мыслей, которые теперь, как назло, все настойчивее лезли в голову.
Перелом произошел во время ужина.
Так же, как и в первый день, где–то далеко в коридоре раздался воодушевляющий все тюремное население протяжный крик:
— У–у–ужин! Ужи–и–ин!
Петр принял через окошко миску с похлебкой, привычно зачерпнул со дна ложкой и неожиданно ощутил в ней странную тяжесть. Обычно похлебка была слегка, для виду, приправлена мукой, а тут — кусок настоящего мяса, которое в тюрьме почти никогда не давали.
Да, конечно, об этом следовало догадаться сразу. Ведь кусочек мяса — это такая малость! Почему же в последний раз не доставить радости голодному человеку? Тем более что это будет лишним напоминанием о его печальной участи…
И тут к Петру как будто пришло прозрение. Умещавшийся на ложке кусочек мяса вдруг сказал ему больше, чем беспощадный суд, длинный приговор и недвусмысленное поведение тюремщиков. Он словно бы впервые поверил в реальность происходившего, и тогда стало страшно.
Нет, он не выбросил тюремную подачку в унитаз, хотя в первую минуту и подумалось об этом. Более того, он нашел в себе силы повернуться лицом к двери и съесть это мясо на глазах у надзирателя. Так, ему казалось, должен был бы поступить в его положении Благосветов, которого он все чаще и чаще вспоминал в трудные минуты.
«Главное — держаться. Все равно ничего не изменишь!» — твердил он, а сам со страхом ощущал, что силы уже покидают его.
Почти машинально он доел ужин, сполоснул под краном миску, поставил ее на полочку у двери. Это было единственное место в камере, куда не доставал глаз надзирателя. Петр привалился плечом в угол и несколько минут стоял, пытаясь вновь сосредоточиться и чувствуя невозможность сделать это.
Сразу же открылось окошко.
— Сто тридцать седьмой! Где ты?
— Здесь.
— В углу стоять нельзя! Выходи!
Снова — шесть шагов до окна и столько же обратно. Раз, другой, третий… Петр ловит себя на том, что начинает ходить все быстрее и быстрее. Он замедляет шаги, но опять повторяется то же. Это непроизвольное ускорение уже мучает его, оно все время стоит в голове где–то позади всех других торопливых, лихорадочно сменяющихся мыслей, мешая им и напоминая, что он должен что–то сделать…
Петр останавливается, секунду–другую медлит и вновь начинает отмеривать шесть утомительно–однообразных шагов. Надо что–то предпринять! Но что можно сделать, если надзиратель и на минуту не пропадает в «глазке» двери. Нельзя даже постучать, вызвать на разговор кого–либо из соседей. Но почему нельзя? Что теперь может сделать ему надзиратель? Разве есть что–либо страшнее того, что ждет его утром?
Петр теперь знает, что нужно делать. Он ложится на койку и начинает костяшками пальцев тихо стучать в стену. Долго никто не отвечает, потом доносится слабый ответный стук. Это, конечно, сосед справа. Он уголовный, ждет суда за хищение, и не с ним хотелось бы связаться Петру в эту последнюю ночь. Но другого выхода нет, и Петр просит его сообщить кому–либо из политических заключенных, что сегодня Анохина приговорили к смертной казни.
— Кто он такой? — спрашивает сосед, считая, что Петр сообщает о ком–то третьем.
— Социал–демократ из Петрозаводска…
— Революционер?
— Да.
— Так ему и надо, — доносится в ответ, — Пусть не мутит народ… А просьбу твою я передам.
— Ты сволочь, холуй и провокатор! — в ярости отстукивает Пётр. Он вскакивает с койки, берет металлическую ложку, подходит к водопроводной трубе и начинает стучать.
— Сто тридцать седьмой! Прекрати! — раздается сразу же голос надзирателя, Петр даже не оборачивается. Звонко и четко одну за другой он выстукивает буквы:
— Товарищи отзовитесь Сегодня приговорен смертной казни.
— Прекрати немедленно! — надрывается за дверью надзиратель.
Петр вслушивается — не отзовется ли кто–нибудь? Нет, кругом тихо… Лишь опять справа слышится слабое царапанье по стене… И вдруг — радость. Сразу и сверху и снизу, сбивая друг друга, начинают что–то стучать по трубе.
Но в камеру врываются двое надзирателей, силой оттаскивают Петра от трубы, отбирают ложку, раз–другой, словно случайно, бьют короткими тычками под дыхание и требуют азбуку.
— Какую азбуку? — не понимает Петр, морщась от боли.
— Ту, по которой стучал…
— Нету у меня, фараоны, никакой азбуки.
Надзиратели не верят, обыскивают его, ничего не находят и удивленные уходят.
— Будешь буйствовать — загнем салазки и в карцер!
— Не посмотрим, что смертник! — пообещал чужой надзиратель, позванный, как видно, на помощь.
Самое тяжелое произошло под утро.
В камере темно. Слабым желтым пятном едва светится «глазок» на двери. Петр лежит на койке и ждет. Сдерживая дыхание, он вслушивается. Он понимает, что этим лишь напрасно мучает себя. Он пытается о чем–либо думать, но мысли, даже самые дорогие и близкие, легко и быстро проскальзывают в голове, оставляя на душе горечь своей неуловимостью.
Тюрьма спит. По крайней мере, так кажется Петру…
А возможно, и не один он недвижно лежит с открытыми глазами на жесткой койке? Он — сто тридцать седьмой, а сколько этажей и отсеков? И далеко не все камеры в тюрьме одиночные… Как это хорошо — быть не одному!
Нет, не спит тюрьма. Где–то далеко–далеко слышны шаги и приглушенные голоса.
Петр настораживается. Да, так и есть — шаги приближаются. С каждым ударом сердца они все ближе и слышнее. Два или три человека четко шагают в ногу. Надзиратели так не ходят…
Петр вскакивает, садится на койку, и в ту же секунду в камере вспыхивает яркий до боли в глазах свет.
…Это за ним — предчувствие не обмануло его!
Скрежет замка, толчок в металлическую дверь и строгий знакомый голос:
— Сто тридцать седьмой! Выходи!
В дверном проеме — фигура старшего надзирателя, в отдалении позади — еще двое.
Это — конец! Петр встает, медленно надевает халат, башмаки, бескозырку. Не глядя на молчаливо застывших надзирателей, выходит в коридор.
— Обыскать! — командует старший.
Надзиратели быстро ощупывают его сверху донизу.
— Обыскать камеру!
Петр не смотрит на старшего, но ощущает на себе его взгляд.
Коридор действительно длинный. И в ту, и в другую сторону — шагов пятьдесят, не меньше. Сейчас они тронутся. Куда, в какую сторону? Если в канцелярию, то налево и вниз. Если во двор — то направо.
Петр знает, что ему делать. Он это решил давно. Вот — сейчас они тронутся — и он начнет… Ту самую песню, которую, как говорил ему Кацеблин, запел Александр Кузьмин, когда его вывели из камеры.
— Готово. Ничего нет! — откуда–то из глубины доносится голос надзирателя.
Вот сейчас! Они выйдут, станут у него но бокам, и он начнет! «Пусть нам погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых!» — про себя повторяет Петр, чувствуя, как бешено колотится у него сердце.
Надзиратели выходят в коридор, но камеру почему–то не закрывают.
— Ну, как, языкастый! Поубавилось, гляжу, у тебя храбрости! — спрашивает старший, подмигивая подчиненным.
Петр не отвечает. Он думает о своем и плевать ему теперь на все издевки.
— В камеру! — вдруг резко командует старший. — Кому говорю! Чего стоишь! Марш обратно!
Подталкиваемый надзирателями Петр переступает порог камеры. Сзади с оглушающим треском захлопывается дверь, и сразу же гаснет свет.
Он долго стоит у порога, лишь начиная догадываться о смысле происшедшего.
В ту ночь он еще не знал, что согласно тюремным правилам осужденные к смерти должны подвергаться ежедневным обыскам и что старший надзиратель сам волен решать, когда ему удобнее произвести эту процедуру. Тюрьма имела возможность мстить даже обреченным.
И она делала это с такой изобретательностью, что смертники до последних своих минут не знали, когда их действительно выводят на казнь, а когда учиняют над ними очередное издевательство.
3
3 ноября в день суда приговор по делу Петра Анохина был отправлен на конфирмацию к Помощнику Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа генералу от инфантерии Газенкампфу.
Темно–синяя папка с вшитыми в нее восемьюдесятью семью листами судебного и следственного дела легла на стол дежурного по штабу и стала ждать своей очереди..
Лишь на десятый день адъютант доложил суть дела, и его высокопревосходительные руки раскрыли папку, полистали приговор.
К счастью, была суббота — день прощений и покаяний, молитв и милостей, канун завтрашних воскресных радостей. Генерал помедлил и мягким гусиным пером — он уважал старые добрые традиции — размашисто начертал на приговоре:
«Приговор суда утверждаю, но назначенную судом Петру Анохину смертную казнь заменяю ссылкою в каторжные работы на два года и восемь месяцев со всеми законными последствиями сего наказания,
13 ноября 1909 года.
Генерал от инфантерии Газенкампф».В тот же день дежурный генерал штаба составил предписание в адрес Петербургского военно–окружного суда о сущности резолюции Газенкампфа и даже снабдил бумагу грифами «секретно» и «спешно».
Бумага еще два дня находилась в штабе и лишь в понедельник 16 ноября 1909 года была доставлена в суд.
В свою очередь председатель суда составил бумагу в адрес военного прокурора с предложением о приведении в исполнение приговора, утвержденного генералом Газенкампфом.
Сам Петр Анохин узнал о помиловании ровно через две недели после суда.
17 ноября тот же старший надзиратель, который устроил издевательский обыск в первую ночь и повторял его при каждом удобном случае, открыл камеру:
— Сто тридцать седьмой! Выходи!
«За оконной решеткой кончался серый петербургский день, и Петр был удивлен неурочным вызовом.
— А ну, пошевеливайся! Быстро, быстро!
Старший надзиратель сегодня был необычно суетлив. Петр нарочно медлил, пытаясь сообразить, чем все это вызвано. Он уже был почти уверен, что его ждут какие–то перемены, старался угадать их и радовался даже тому, что, может быть, его переведут куда–то и он расстанется с этой до кошмаров тяжелой одиночкой.
— Вещи брать? — спросил он.
— Какие еще вещи? Скорей!
Они пошли налево. Сначала — коридорами и металлическими лестницами, потом мрачными глухими переходами, где шаги отдавались словно в пустой бочке… Две недели мучительного ожидания без прогулок и нормального сна изрядно измотали Петра. Он шел как в тумане, неуверенно ступая по каменному полу, а когда они вошли наконец в большую светлую комнату, с широкими окнами и бархатными портьерами на дверях, голова у Петра закружилась, и он едва не упал.
Старший надзиратель сердито подхватил его под локоть, выпрямил и словно припечатал к полу.
— Ваше высокоблагородие! Заключенный Анохин доставлен по вашему приказанию!
Помощник военного прокурора, не тот, который присутствовал на суде, а тот моложавый подполковник Матиас, который составлял обвинительный акт, взял со стола приготовленную бумагу и, не глядя в нее, объявил:
— Осужденный Анохин! Резолюцией его высокопревосходительства смертная казнь заменяется вам двумя годами восемью месяцами каторги с лишением всех прав состояния и последующей ссылкой на вечное поселение в Сибирь.
Подполковник умолк, не спуская глаз с Петра и чего–то ожидая.
— На колени, дурак! — шепотом, но так, чтобы слышало начальства, произнес надзиратель. — Становись на колени и благодари его высокопревосходительство за оказанную тебе милость!
Он так давил на плечо Петра, что тот с трудом удержался на ногах.
Петр, сделав вынужденный шаг вперед, освободился от его руки и продолжал стоять, глядя на подполковника.
— Приговор обращен к исполнению с шестнадцатого ноября. Местом отбытия каторги определена Шлиссельбургская крепость! Имеются ли вопросы, просьбы и ходатайства к военной прокуратуре?
— Нет, — хрипло ответил Петр, сам не узнавая своего голоса.
— Можете увести заключенного!
Весь обратный путь Петр ощущал за спиной раздраженное сопение надзирателя. С каждым шагом оно все больше и больше забавляло его. Пусть сопит, пусть сердится, пусть даже издевается! Теперь ничего не страшно.
В душе поднималось радостное окрыляющее чувство, и в такт глухо бухающим в пустоте шагам Петр мысленно повторял:
— Пусть нас по тюрьмам сажают, Пусть нас пытают огнем, Пусть в рудники посылают, — Мы на все казни пойдем!— Радуешься? — спросил старший надзиратель, прежде чем впустить Петра в камеру.
— А вы разве — нет? — улыбнулся Петр.
— Почему же? И нам приятно, что власть у нас милостивая… Только вот, думаю, — пойдет ли тебе на пользу?
— Пойдет! Обязательно пойдет! — пообещал Петр.
— А ты, парень, не очень–то улыбайся! Каторга, конешно, не смерть на виселице, а для иных она и хуже смерти! Как раз для таких, как ты! Там умеют разговаривать с вашим братом не по–нашему. Любого в бараний рог согнут! Это ведь Шлиссельбург все–таки.
— Кто не захочет гнуться, того никто не согнет!
1965г.
Вся полнота ответственности
Вторая повесть из жизни Петра Анохина
I Возвращение
«Сразу же после Февральской революции в 1917 году тов. Анохин избирается председателем волостного управления (в селе Гымыль в 30 км от Черемхово), где ведет массовую работу среди крестьян.
Все в это время уехали из ссылки, получив амнистию. Мы с тов. Анохиным выехали лишь в конце июня. Крестьяне расстались с т. Анохиным очень неохотно и страшно жалели о его уезде».
Из письма Б. Я. Анохиной от 21 марта 1935 года.1
Нежданная радость — самая большая радость…
Семь лет Екатерина Егоровна даже думать не смела о возвращении сына — «вечное поселение в Сибирь» отнимало всякую надежду. Втайне она молилась лишь о том, чтобы бог милостивый дал ее Петеньке сил и здоровья, научил уму–разуму, наставил на путь истинный. Как о далеком и почти несбыточном мечталось иногда: вот подрастет Митя, пристроится к делу, соберет она хоть немного денег и отправится в эту неведомую Сибирь. Повидает старшенького, а тогда и помирать можно.
Шли годы, а мечта так и оставалась никому невысказанной и по–прежнему далекой.
Потом началась война, и общее горе заметно притупило ее собственное. Вдоволь настрадавшееся сердце матери чутко отзывалось на чужую беду, однако и засыпала и просыпалась она с одной мыслью — о Петеньке.
В тот мартовский день, когда в Петрозаводске обезоружили жандармов и городовых, а из тюремного замка под восторженные крики толпы вышли на волю политические, у Екатерины Егоровны впервые зародилась надежда.
Пароходный кочегар Маликов, сжимая в руке наспех сделанный красный флаг, подошел к ней и, сияя от счастья, сказал:
— Ну, мать, жди теперь Петра! Как он там, пишет ли тебе?
— Пишет, пишет, — смущенно и поспешно отозвалась она.
Было от чего смутиться Екатерине Егоровне. Вот уже два года не получала она от сына никаких вестей.
Вначале Петр аккуратно писал ей из Сибири. Екатерина Егоровна знала, что причислен он к деревне Онгой Ашехабатской волости Балаганского уезда Иркутской губернии, однако свой адрес Петр сообщал то на село Усть–Уда, то на станцию Зима, то на Иркутск, то на Черемхово. Это ее пугало. Ей казалось, что, переезжая с места на место, сын совершает что–то недозволенное.
О своей жизни Петр сообщал мало и всегда что–либо шутливое. Больше о местах, где доводилось ему быть — как там люди живут и чем занимаются. На третьем году ссылки прислал даже немного денег с извинениями, что большего прислать не в состоянии, что заработки здесь скудные, а он теперь не один и на руках у него целая семья.
Это известие всполошило Екатерину Егоровну. Какая семья? Откуда? Почему же Петенька не счел нужным родной матери сообщить, что надумал жениться, и попросить ее благословения! Разве бы она стала ему перечить?..
Ответное письмо сына успокоило. Петр сообщил, что в первые месяцы ссылки ему крепко помог один ссыльный товарищ. Он, по существу, спас его от смерти, приютив у себя голодного и больного новичка. Сам слабый и немощный, он три месяца выхаживал Петра, кормил и поил его, зарабатывая кусок хлеба на тяжелой физической работе. Недавно этот товарищ скончался. У него осталась семья, которая стала теперь для Петра родной.
Эта весточка от сына была последней. Не один запрос отправил Дмитрий в Ашехабатское волостное правление, но всякий раз приходил короткий ответ: «Проживает вне места причисления. Временно отпущен на заработки согласно вышестоящего дозволения».
В тот мартовский день, вернувшись домой с Тюремной площади, Екатерина Егоровна ворчливо сказала младшему сыну:
— Напиши–ка еще раз. Власть теперь переменилась. Пусть разыщут нашего непутевого да пристыдят его, что родных забывает…
А сама с болью подумала: «Только бы жив–здоров был! Только бы жив…»
Новый запрос решили направить через начальника только что созданной в Петрозаводске милиции.
Три месяца молчала почта. Наконец в домик на Новой улице поступило долгожданное письмо, написанное рукой самого Петра:
«Дорогие мама, брат и сестра! Простите, что давно не писал. Теперь скоро увидимся. Скоро возвращаюсь домой. Увидимся — обо всем поговорим. Не обижайтесь, ради бога. Желаю вам здоровья и счастья. Поклон от моей семьи. Ваш сын и брат Петр».
Все лето Екатерина Егоровна считала дни, ждала возвращения сына. Осенью письма от Петеньки стали приходить уже из Петрограда. Они были с каждым разом все реже и короче, и ее охватило тревожное предчувствие: не напрасно ли она надеется? Своих сомнений мать никому не высказывала, по–прежнему заставляла Митю аккуратно и подробно отписывать брату о их житье, но когда до нее дошли вести о новой революции в Петрограде, вдруг с болью и обидой поняла, что предчувствие не обмануло ее, что старший, видать, и вправду стал для семьи отрезанным ломтем и ждать его нечего.
Материнская обида недолга. Погоревала Екатерина Егоровна, поплакала тайком и вскоре стала жить новой надеждой — вот минует зима, станет потеплее, позовет ее Петенька в гости, она и съездит к нему. Петроград–то не за морями и не за горами. Говорят, поезд теперь идет туда неполные день и ночь. Мог бы, конечно, Петенька и сам навестить родной дом, с матерью, с братом и сестрой повидаться, но что можно спрашивать с нынешних детей?
Так и тянулись месяц за месяцем…
А в феврале — нежданная радость!
2
Вьюжным вечером возле домика Анохиных остановились крестьянские сани.
Екатерина Егоровна была одна. Ледяная крупка назойливо секла замерзшие стекла, в трубе завывал ветер, в избу пробивался откуда–то сквозняк, и пламя лучины то ярко вспыхивало, то притухало.
О приезде гостей Екатерина Егоровна услышала в тот момент, когда дверь распахнулась и по–хозяйски громкий голос произнес:
— Ну, команда, входи! Есть ли кто дома?
Первым из темноты сеней через порог переступил пятилетний мальчик в нагольной шубейке, подпоясанной широким ремнем. За ним — женщина в мужской ушанке и в длинном пальто с меховым воротником.
Екатерина Егоровна стояла, затаив дыхание. Она уже догадалась, кто это, но все еще не верилось. И даже когда, неся на руках закутанную в огромный платок девочку, в избу вошел Петр, мать все еще боялась признать его и чего–то ждала, словно вслед за этим коренастым усатым мужчиной должен войти и тот слабый застенчивый парнишка, с которым рассталась она восемь с половиной лет назад.
Хлопнула дверь, взметнулось пламя, и Екатерина Егоровна почувствовала, что силы оставляют ее.
— Петенька! Сыночек мой!
Он бережно опустил на лавку девочку, крепко, что было силы, прижал мать к груди. Так они стояли секунду–другую, потом он поцеловал ее в губы и сказал как–то легко и даже с насмешкой, налегая на слово «мою»:
— Ну, мать, вот и привез я тебе мою семью. Знакомься! Это жена моя — Берта Яковлевна. А это мои штыри кедровые — Сережка и Оленька.
— Я не стырь вовсе, — обиженно пробубнил мальчик, безуспешно пытаясь расстегнуть ремень.
— Конечно, не штырь, — кинулась к нему Екатерина Егоровна и поцеловала его в замерзшую щеку. — Выдумают тоже! Таких славных ребяток штырями называют… Давай–ка, родненький, я помогу тебе! Вот так. Снимай шубку да проходи от двери. Сейчас печку затопим, отогреемся, ужинать станем.
Так же ласково, не переставая приговаривать, она поцеловала девочку, развязала ей платок, усадила на кровать и остановилась перед невесткой, которая молча и настороженно следила за ней от дверей.
Екатерина Егоровна заглянула ей в лицо и как–то оробела, стихла, почувствовала себя неловко. Невестка ей не понравилась. Была она заметно старше Петра а главное — видать, с характером. Лицом бледная, измученная, а серые глаза так и буравят, не знаешь, как и подступиться. Екатерина Егоровна сдержанно поклонилась, но невестка вдруг улыбнулась в ответ, и лицо ее словно осветилось — стало доверчивым и извиняющимся.
— Здравствуйте, Екатерина Егоровна, — медленно и тихо произнесла Берта Яковлевна с легким акцентом.
— Здравствуй, голубушка ты моя, здравствуй. Милости прошу, входи в дом хозяйкой!
Они расцеловались, и сразу стало как–то легче.
— А где же Дуняшка, Митя? — спросил Петр, тоже переживший несколько мучительных мгновений. Мать только рукой махнула:
— К полночи заявятся. Теперь у каждого заботы да работы! Дуняшка–то у нас швеей заделалась, в мастерской служит. А Мити–то небось допоздна не будет, в Красную гвардию записался, каждый день дежурит да военному делу учится. Петенька, ты печку растопить сможешь ли? А я за ужин примусь! Вот не ждала, не гадала! Не знаю, чем и угощать вас. С едой у нас в городе вот как плохо! Хорошо хоть своего огороднего кой–чего осталось.
— Ты о нас, мать, не беспокойся. Мы на станции в буфете перекусили. Согрей нам чайку, да и пусть ребята спать ложатся. Устали с дороги. Поезд опоздал, чуть не сутки в пути…
— Нет уж. Ты сегодня гость и не тебе командовать! Берись–ка за печку! А ты, Берта Яковлевна, ребятами займись, а я мигом им кашки да супа с сущиком сварю — вот, глядишь, и будет все ладно!
Часа через два Сережа и Оленька, досыта наевшиеся, привольно спали на бабушкиной кровати, а взрослые тихо разговаривали за долгим чаепитием. Ради гостей лампа была заправлена остатками керосина. Натуральный чай и мелко наколотые кусочки сахара, привезенные сыном, были для Екатерины Егоровны самым дорогим угощением.
Петр спрашивал, мать охотно отвечала, и лишь молчание невестки немного смущало ее.
В политике Екатерина Егоровна совсем не разбиралась. Для нее смысл недавних событий в Петрозаводске, когда меньшевики и правые эсеры были отстранены от руководства, состоял в том, что помощника присяжного поверенного Куджиева в губернском совете заменил бывший преподаватель гимназии Парфенов. К судейским и адвокатам у нее не лежала душа еще с памятных дней 1909 года.
— А и верно — молод еще этот Куджиев–то! Какой с него начальник губернии? Парфенов — иное дело. Человек самостоятельный, в гимназии учительствовал, женат на дочке горного начальника генерала Яхонтова.
Петр не знал ни Куджиева, ни Парфенова, о том, что происходило здесь месяц назад, был наслышан лишь в общих чертах, и теперь, слушая бесхитростные пояснения матери, улыбался в усы, переглядываясь с женой.
Зато относительно других новостей можно было полностью положиться на осведомленность Екатерины Егоровны. Знала она чуть ли не каждого жителя города и, наверное, о каждом, если не прямо, то понаслышке, могла рассказать что–либо.
Когда наскоро перебрали родственников, Петр стал все ближе подводить мать к друзьям и товарищам по юношеским годам. С радостью узнал, что все они живы и здоровы — и Лева Левин, и братья Рыбак, и Володя Иванов, и Иван Стафеев, и Егор Попов… Нет, не все! Ничего не знала мать ни о Лазаре Яблонском, ни об Ашкенази. Ни тот, ни другой из ссылки в Петрозаводск не вернулись. Зато остальные из ссыльных — Харитонов, Чехонин, Морозов и Григорьев — постепенно вновь обосновались в родном городе.
Особенно порадовала Петра весть о дяде Николае. Мать не без гордости сообщила, что Григорьев теперь в городе при важной должности: все называют его комиссаром. Она часто встречает его на улицах, а раза два даже с портфелем видела.
— Ну, а ты, сынок, как же? — спросила она, с опаской посмотрев на невестку.
— Хорошо, мать, — улыбнулся Петр.
— К нам надолго ли? Или погостить?
— Насовсем. Для гостей время неподходящее.
— Служить где станешь иль опять на работу наниматься пойдешь?
— Я, мать, человек теперь не свободный. Куда направят, туда и пойду.
— Как же это не свободный, — испуганно спросила она. — Разве тебя революция не помиловала?
— Нет. Не в том смысле, — засмеялся Петр. — Куда Советская власть скажет, там и буду служить.
— Ну и куда же она тебя определит? — обиженная этим смехом, мать поджала губы, помолчала и добавила: — Другие, кто при режиме страдал, теперь в должностях ходят.
— Уже определила. На Мурманку.
— Это на железную дорогу, что ли? Кем же туда?
— Да тоже кем–то вроде комиссара.
Эта весть не очень обрадовала Екатерину Егоровну.
— Не лучше ль тебе, сынок, поближе к типографскому делу стать? Или забыл выучку за эти–то годы? По нынешним временам спокойнее, когда при профессии.
— Нет, на забыл. Только я, мать, теперь на всю жизнь человек подневольный, понимаешь?
— Не надоело тебе в подневольных при режиме ходить?
— А если нынешняя неволя люба мне? — улыбнулся Петр.
— Что говорить… — мать примиряюще посмотрела на невестку. — На Мурманке тоже служба… Там хоть паек против городского исправней дают. Братан твой, Мишка дяди Василия, тоже ведь на Мурманку перешел. В конторе по счетоводческой части служит.
Позже пришли — сначала Дуняшка, потом Митя. Дуняшка мало изменилась — ее Петр легко узнал бы, если бы случайно встретил на улице. Все такая же тихая, работящая, домовитая, она и приезду, брата обрадовалась по–своему — вся засветилась от переполнившего ее счастья, порывисто расцеловалась с Петром, с Бертой Яковлевной, потом вдруг засмущалась и принялась налаживать гостям постели. Зато младшего брата Петр признал с трудом. Это и не удивительно — оставил мальчонку, а встретил взрослого парня. Статью Дмитрий — настоящий мужчина, а характером, как видно, мягкий, даже излишне стеснительный. Пришел домой, а ведет себя так, словно в гостях оказался. Винтовку «бердан» от волнения поставил к печке, рядом с ухватом и кочергой; поздоровался с гостями и, не раздевшись, скромно присел на лавку, не зная, что делать дальше.
— Митенька, Дуня! Садитесь ужинать да чай пить! Что это вы? — суетилась мать, подогревая самовар.
Глядя, как младший брат, сдерживая аппетит, смущенно и как бы нехотя ест свою порцию рыбного супа, Петр с радостью подумал: «Хороший парень вырос! Молодец мать! На своих плечах всех подняла!»
Ему вдруг захотелось вот сейчас, немедленно приласкать брата, поговорить душа в душу, чтоб потом навек была у них дружба и полное доверие. Такое чувство он испытал впервые, хотя там, в Сибири, часто думал и о матери, и о Мите, и о Дуне. Издали все казалось другим. Читая письма, писанные Дмитрием под диктовку матери, разве мог он так ясно, как сейчас, представить себе, какой у него взрослый и хороший брат! В его представлении Митя жил все тем же тринадцатилетним мальчишкой, каким он видел его в последний раз через иллюминатор парохода на пристани.
— Ешь, Митя! — сказал Петр, придвигая остатки пайковых сухарей, полученных в Петрограде. — Голодно небось и у вас?
Брат благодарно улыбнулся, потянулся было к сухарям, потом помедлил и сказал:
— Ничего, жить можно. Красногвардейцам паек дают в день дежурства.
До сухарей он так и не дотронулся. Доел суп, выпил кружку чаю и встал из–за стола.
— Мам, я пойду. Мне сегодня на пост.
— Ты же вчера дежурил? — удивилась мать. — Неужто ради приезда брата отпроситься не можешь?
— Кабы знал, отпросился бы… Погода сегодня видишь какая? Сдвоенные посты велено выставить. Суханов приказал, чтоб к девяти вечера все на казарменном положении были.
Эти слова явно предназначались вместо извинения для Петра, но Дмитрий, еще не решив, как ему теперь называть старшего брата, произносил их, ни к кому не обращаясь. Петр понял это и помог:
— Ты, мать, не серчай на него. Служба — есть служба. Я провожу тебя немного, Митя.
Дмитрий протер отпотевшую винтовку, попрощался, и они вышли. Штаб Красной гвардии помещался в театре «Триумф», который был построен уже в отсутствие Петра напротив Гостиного двора. Выйдя за калитку, Дмитрий повернул налево. Молча дошли до Полевой улицы и остановились.
— Кто у вас Красной гвардией командует? — спросил Петр.
— Комиссар Дубровский.
— Военный человек?
— Да. Бывший прапорщик.
— Большевик?
— Да.
— В отряде много большевиков?
— Много. Вчера почти все записались.
— Как это записались?
— А так. Пришел вчера Илья Печерин и говорит: «Товарищи красногвардейцы! Кто желает записаться в партию большевиков–коммунистов, подходи ко мне в порядке очереди!» И тут же всем желающим партийные билеты выписал.
— Просто у вас, однако. Ты тоже записался?
— Я записался в сочувствующие.
— Это почему же?
— Не знаю. Так просто. — Дмитрий помолчал, потом улыбнулся: — По–настоящему я и есть сочувствующий… Сочувствую революции и партии коммунистов–большевиков.
— Только сочувствуешь?
— А тебе этого мало? — насупился Дмитрий.
— Смотри, какой ты у нас! — покачал головой Петр. — Решил, значит, посочувствовать, а остальное про запас оставить. Ну–ну, не обижайся. Я пошутил. По–моему тоже — лучше из сочувствующих в члены партии переходить, чем наоборот.
Стоять было холодно. Как Петр ни прятал подбородок в поднятый воротник демисезонного пальто, но укрыться от леденящего ветра никак не удавалось. Они медленно двинулись по Полевой к губернаторскому парку.
— Ты знаешь, — сказал Дмитрий. — Меня многие про тебя спрашивают.
— Кто именно? — заинтересовался Петр.
— А почти все. Как узнают, что я твой брат, так и спрашивают: где ты, что ты? До революции на улицах гимназисты и студенты останавливали. Недавно один наш петрозаводский из Петрограда приезжал, я на посту стоял — так тоже интересовался… Ты чего в Петрограде так долго задержался? Служил там где, что ли?
— Служил.
— Где?
— Потом расскажу. Ну и погодка! Как только ты на посту стоять будешь?
— Сегодня мне повезло. На телеграфной станции дежурить. А другим — беда! Хорошо, хоть тулупы достали. Ну, мне торопиться надо, а то опоздаю.
— Счастливо тебе, Митя!
На крыльце дома Петр встретил мать. Ему показалось, что она поджидала его, лишь для вида выметая набившийся в сени снег.
— Проводил братца? — ласково спросила она. — Спасибо тебе, сынок!
— За что, мама? — удивился Петр.
— За радость спасибо. Что не забыл нас, приехал… А потом… Посмотрела я, как вы дружка за дружкой — взрослые да самостоятельные — из избы выходите, и, видит бог, слеза прошибла. Не было у меня в жизни другой такой радости.
— Ну что ты, мама! Тебе спасибо.
Петр взял из ее рук голик и, хотя работа была явно бессмысленной, так как пурга нисколько не утихала, старательно вымел крыльцо.
— Петенька, сынок… Я вот спросить тебя хочу!
— Да, мама.
— Правду ль ты мне тогда в письме написал? Помнишь, о семье–то своей?
— Помню.
— Давно ль вы поженились?
— Третий год идет.
— Вот то–то я и гляжу! — вздохнула мать. — Мальчик–то и впрямь не твой вроде. А Оленька — вся в нашу породу. Как развязала платок да глянула — сразу увидела.
— Мама, можно тебя попросить?
— Говори, сынок, говори.
— Об одном хочу просить тебя, мама. В нашу ли, не в нашу породу ребята — но нет в доме чужих детей. Наши они теперь, родные! Спасибо, что ты сразу завела разговор. Я весь вечер ждал. И Берта ждала — сидела на себя не похожая. Нам с тобой говорить об этом нелегко, а ей каково! Она ведь, мама, добрейшей души человек! И то, что она и ее покойный муж сделали для меня, никто не мог бы сделать!
— По любви ль вы поженились, Петенька! — И сама почувствовав неловкую прямоту своего вопроса, сразу поправилась: — Может, ты по доброте своей решился? Я не осуждаю, не думай, а просто знать хочу.
Петр усмехнулся:
— Боишься, что ловкая латышка хитростью завлекла твоего сына? Не волнуйся, мать. Все было как надо. Ты ее полюбишь, и все будет хорошо.
— Давай–то бог, сыночек! Об этом я только–то и забочусь. Другого ничего и не надо!
— Николай Тимофеевич Григорьев все там же на Большой Голиковской живет? — спросил вдруг Петр.
— Там. Никак ты к нему идти надумал? Поздно ведь, сынок, да и пуржисто.
— Схожу. А то завтра некогда будет. Скажи Берте, что часика через два вернусь. Пусть она отдыхает. Намаялась в дороге с ребятишками!
3
Поблуждав по узким полутемным коридорам бывшей губернской управы, Петр наткнулся на дверь с бумажкой: «Комиссариат труда».
В комнате три стола. Вокруг каждого — люди. Все они говорят, спорят, занимаются своим делом, не обращая внимания на соседей.
— Пиши, Маркелыч, дальше… Пункт шестой: «Все сделки и контракты, заключенные без ведома…»
— Я утверждаю, что инженер Крутов — явный саботажник и подлец!
— Без согласия! Какое еще тебе «ведомо».
— Подросток — наше будущее! Все мы были подростками!
— Хорошо, хорошо — «…без согласия заводского комитета считать недействительными».
— Крутова, Черткова и других гнать с завода!
— Квалифицированного от себя оттолкнем. Нельзя мастерового с подростком равнять!
— «Пункт седьмой. По первому требованию заводского комитета администрация обязана…»
С минуту Петр стоит у порога, сквозь плотную дымовую завесу разглядывая присутствующих. Григорьев здесь, он сидит за центральным столом у противоположной стены — сутулый, кряжистый, накрепко вросший в кресло с высокой резной спинкой. Над головой — светлый прямоугольник невыцветших обоев, где еще недавно висел портрет кого–то из царской фамилии.
Вокруг бушуют страсти. Двое пожилых, незнакомых Петру рабочих с разных сторон давят на комиссарское кресло, предупреждающе стучат по столу костяшками пальцев, потом отскакивают и начинают с такой же горячностью атаковать третьего, молодого, который стоит напротив Григорьева и растерянно отбивается. Как видно, у молодого был лишь один довод, и он без конца повторяет его:
— Все мы были подростками и знаем почем на заводе фунт лиха!
Григорьев молчит, словно чего–то выжидая. Раз–другой он пробует всмотреться в Петра, но не узнает его. Петр находит свободный стул, задвигает его в угол и присаживается, с интересом наблюдая.
Картина знакомая. В Петрограде доводилось и не таков видеть. Здесь хоть спорят, а там случалось — стена против стены на собрании поднималась. И тогда в семьдесят пятой комнате Смольного раздавался звонок: «Товарищи! Приезжайте!» Ехали, выступали, спорили, срывали голоса, держались на самом краю пропасти и все–таки побеждали. Спорит, бушует, неистовствует в поисках правды вся Россия. Лампы гаснут от крика. Сначала даже страшно: неразбериха, сумятица, черт знает что! А приглядишься, подумаешь — без этого нельзя. Люди жизнь себе выбирают, каждому своим умом до правды дойти хочется. Комиссары тоже не святые. Им такие споры на пользу. Слушай, вникай, оценивай…
Посидев немного, Петр уже начал разбираться, что к чему. Шло заседание комиссии рабочего контроля за деятельностью администрации на Александровском заводе. Уже начали составлять резолюцию, когда возник спор, надо ли оплачивать подросткам сокращенный рабочий день как полный или следует платить за шесть часов.
«И впрямь, есть из–за чего спорить! — думает Петр. — Начни платить полностью — усачам обида. Подросток станет получать в расчете на час больше, чем рабочий с квалификацией! Если платить за шесть часов — какая же это будет льгота для подростка! А ведь декрет Совета Народных Комиссаров ясно говорит — ввести для подростков сокращенный шестичасовой рабочий день!»
Наконец Григорьев тяжело поднимается, нависает, опершись на обе руки, над столом, несколько секунд молчит и спрашивает через головы спорщиков:
— У тебя, Маликов, готова резолюция?
«Маликов, Маликов… — пытается припомнить Петр. — Нет, это не тот Маликов, что на пароходе служил. Того я помню. Этот с завода, наверное — брат…»
— Сейчас, Тимофеич, еще два пункта осталось. Пиши, Маркелыч! «Прием на работу и увольнение должно производиться только с ведома заводского комитета…»
Спорщики наконец затихают. Григорьев разглаживает усы, откашливается. Что он скажет, чью сторону примет?
— Стало быть, так, товарищи… Смысл закона о сокращенном рабочем дне заключается в том, что заработок должен оставаться неизменным. Труд несовершеннолетних — для нас, стало быть, гнусное наследие царизма. И если мы, взяв власть в свои руки, вынуждены мириться с ним, то уж давайте, стало быть, и оплачивать его на льготных условиях, как полный, стало быть, рабочий день. Давайте лучше позаботимся, чтоб эти два оплачиваемых, стало быть, часа были использованы юношеством на его физическое, культурное и умственное развитие.
— Этак каждый мальчонка теперь на завод ринется, — явно сдавая позиции, возразил один из усачей. — Виданное ли дело — задаром деньги получать?
— А вот ты, Федор, и разберись. Тяжелое дело в семье — возьми! Терпимое — пусть учится, нам скоро теперь свои, стало быть, ученые люди понадобятся! Завод для подростка — не мед с сахаром, сам знаешь! Но и революцию, стало быть, мы не для того делали, чтоб детский труд эксплуатировать! Читай, стало быть, Маликов, резолюцию. Время позднее, заканчивать пора!
Резолюцию приняли без голосования. Договорились, что с ней ознакомят всех рабочих, утвердят на общем собрании, а для администрации она вступит в силу с завтрашнего дня.
Заседание закрывается, но расходятся без охоты. Долго сидят, курят, переговариваются о том, о сем. Маликов прощается первым, за ним тянутся к выходу остальные.
Дождавшись, пока за последним закроется дверь, Григорьев вновь внимательно смотрит на Анохина и спрашивает:
— Вы, товарищ, ко мне?
— К тебе, Николай Тимофеевич.
— Присаживайтесь, пожалуйста, поближе.
Анохин подходит к столу и, глядя на дядю Николая, молча улыбается. Тот тоже не сводит глаз — вот–вот готов признать, но что–то мешает ему.
— Не узнаешь, дядя Николай? — спрашивает Петр.
— Постой, постой! — Григорьев вскакивает, обегает вокруг стола, становится чуть ли не носом к носу и все еще — или не узнает, или глазам своим не верит. Потом тихо, как бы самого себя, спрашивает: — Петька? Петька Анохин! Вот разрази меня, если это не Петька?
— Я, дядя Николай, я! Кто ж еще!
— Да откуда ты взялся, дьявол ты этакий! — Он тискает Петра в объятиях, словно бы ощупывает его крепкими руками. — Да мы же тебя, стало быть, и ждать–то уж перестали! В Питере, говорят, комиссарит! А он тут как тут, взял, стало быть, и приехал.
— Приехал, Николай Тимофеевич, как видишь, приехал.
— Ну, садись, браток! Садись, стало быть, и рассказывай! Фу–ты, черт! Ну кто бы подумал, что вот этот человек Петька Анохин. Сидит себе спокойно в углу. А я смотрю — не узнаю. Вроде бы не наш, не из городских. Ну, уполномоченный, стало быть, думаю, из Питера. Когда приехал?
— Сегодня.
— А может, ты и вправду уполномоченный какой?
— Нет, — смеется Петр. — Работать направлен.
— Куда? К нам?
— На Мурманку. На станции буду.
— Молодец! С железнодорожниками у нас беда. Республику в республике устраивают. Ну, давай, браток, рассказывай! Как жил, стало быть, что поделывал?
— Всего, дядя Николай, и не расскажешь.
— Все и не надо. По выбору. Кое–что, стало быть, от матери знаю, кое–что слухи донесли. Из большевиков–политкаторжан ты, стало быть, у нас единственный в Петрозаводске. Ты, браток, учти это. Просто ссыльных — много, а каторгу, стало быть, не каждому испытать пришлось.
— Ну, в этом не велика моя заслуга.
— В Питере где служил?
— При Смольном.
— Где там?
— В семьдесят пятой комнате.
— Постой, постой. Я ведь тоже недавно из Питера. На съезд Советов, стало быть, делегатом избрали. Две недели заседали. Как же мы с тобой не встретились, а?
— Я как раз в командировке был, в Псков с поручением ездил.
— А на транспорт как попал?
— Вызвали и направили… Не одного меня — многих. Ты правду сказал, что если не отвоюем железных дорог у ВИКЖЕЛя, то беды не оберемся. В Питере за Николаевскую знаешь какая борьба идет! Служащие чуть ли не поголовно сторонники Учредительного собрания, за правыми эсерами тянутся. Дело до применения оружия доходит. А теперь и на Мурманке неизбежно обострение.
— Почему? У нас вроде пока, стало быть, все спокойно.
— Тут опасность с другой стороны. Союзнички наши на Мурман целятся. Пока выжидают, а если удастся в Бресте мирный договор подписать, то без конфликта с ними не обойтись. Не будет мира в Бресте — все равно конфликт. Начнут наступать немцы, так и союзники опять к нам полезут, якобы со своей, помощью. И так плохо, и этак.
— Ну и как в Петрограде думают? Никаких перемен после съезда Советов не намечается?
— Нет. Мир с немцами любой ценой… Армии–то по существу нет у нас. На вокзалах тысячи демобилизованных. Ждут отправки домой. С оружием. Чуть ли не пулеметы с собой тащат… Дело дошло до того, что в Питере буржуазная сволочь, которая недавно кричала «война до победного конца», теперь в открытую прихода немцев ждет. Думают их штыками с революцией расправиться. На Знаменской площади демонстрации у памятника Александру III устраивают. А тут еще правые эсеры да меньшевики из–за угла гадят, спекулируют на разгоне Учредительного собрания. В общем, обстановка страшно тяжелая, и по всему видать, что гражданской войны нам не миновать.
— Сам так думаешь или слышал от кого?
— От умных людей слышал. Надо свою революционную армию создавать. Без неё пропадем.
— Что, приказ такой есть?
— Пока нет, но скоро, по–видимому, будет… Ну, а у вас как дела? Ты уж введи меня, Николай Тимофеевич, в обстановку.
— У нас — что? У нас — провинция, — невесело пошутил Григорьев. — Как в Питере аукнется, так у нас, стало быть, и откликнется.
— Откликается–то, я слышал, с запозданием. Больше двух месяцев меньшевики да правые эсеры у власти держались. Совет Народных Комиссаров не признавали.
— Лучше поздно, чем никогда. Было и это. У нас, браток, свои тут трудности. В городе и губернии мы власть, стало быть, взяли. А в уездах? Там везде засилье эсеров. С правыми эсерами, стало быть, вопрос ясен. Им мы уже не дадим подняться. А левые? Пока они работают с нами и в губисполкоме, и в комиссариатах. Но ведь они, черти, на этом не успокоятся. Вот скоро будет губернский съезд, так уж, поверь мне, они обязательно драку, стало быть, за власть устроят. А тут еще голод надвигается. Запасов в губернии никаких, подвоз резко сократился. По деревням правые эсеры шуруют, за учредиловку агитацию ведут. Воюем с ними пока на словах, силу применять воздерживаемся.. А они, стало быть, этим и пользуются, чуть ли не ежедневно митинги устраивают. Знаешь что! Приходи–ка завтра на завод. Бывший депутат учредиловки меньшевик Шишкин перед рабочими выступать собирается. Послушаешь этого краснобая, да и самому не грех выступить.
— Во сколько?
— В половине четвертого, в механическом цехе. У нас тут представитель ВЦИКа Алексеев приехал, тоже будет.
— Приду. Постараюсь управиться со своими делами и приду.
— Жить у матери будешь?
— Пока да. А потом квартиру искать придется. Тесно в доме, а у меня ведь семья.
— Женился? Молодец! И дети есть?
— Двое.
— Вот это по–нашему, по–рабочему! А у меня дочки, знаешь, уже какие выросли?! Невесты!
— Видел. Я ведь заходил к тебе домой. Елизавета Степановна меня не узнала. Я промолчал, так и ушел неопознанным.
— Зря. Она тебя хорошо помнит. Мы часто о тебе вспоминали. В Кадникове, когда узнали, стало быть, про твою эту историю с жандармом, знаешь, как Лиза расстроилась. Она мне житья не давала — погубили, говорит, парнишку. А о том, что тебя к смертной казни приговаривали, я узнал, стало быть, только в Петрограде, перед самой февральской, когда на «Лесснере» служил. Встретил там наших — Колю Дорофеева, Христю — они и рассказали.
— Давай не будем сейчас об этом…
— Ну–ну. Жена у тебя партийная?
— Старая подпольщица, — уклончиво улыбнулся Петр. — Тоже в ссылке была, вместе с первым мужем.
— Понятно… Ну что ж, браток. Время–то позднее. Может, ко мне пойдем, чаем угощу, посидим, стало быть, потолкуем?
— Полночь уже, в другой раз…
— Ну смотри! Мне завтра до свету в Соломенное попадать надо. Там на лесопилке дело с рабочим контролем никак не идет. Хозяин чуть ли не закрывать завод собирается. Так придешь завтра на митинг?
— Постараюсь.
Разошлись на Круглой площади. Григорьев по переметенной тропке начал спускаться в заводскую ямку, а Анохин некоторое время стоял напротив памятника Петру I, оглядывая знакомые каменные здания, двумя подковами охватывающие площадь. Мало что переменилось здесь за эти девять лет. Лишь не горели уличные фонари, не светились окна губернаторского дома, да не было у центрального подъезда одетого в теплую шинель с меховым воротником рослого откормленного городового,
Вместо него по огромному кругу площади медленно пробирались, увязая в снегу, двое красногвардейцев, в тулупах и с винтовками на ремне.
II Два фронта
«Он умел выступать и его любили слушать… Особенно мне запомнилось одно из первых его выступлений на митинге перед рабочими Александровского завода в феврале 1918 года».
Из воспоминаний старого большевика X. Г. Дорошина.1
На середине основного пролета механического цеха стоял широкий обитый жестью верстак, на котором производилась разметка токарных и сверлильных работ. Здесь почти год назад, когда в Петрозаводск дошли вести о февральской революции, открылся первый, свободный рабочий митинг, который вылился затем в общезаводскую уличную манифестацию. С тех пор стало традицией все важные заводские собрания проводить у этого верстака, особенно в холодную или ненастную пору.
Ни лозунгов, ни знамен, ни стола для президиума. Вытершийся до блеска верстак, и вокруг него, чуть в отдалении — плотная стена людей между остановленными станками.
Сегодня митинг начался не совсем обычно.
Рабочие других цехов еще подходили, и Григорьев, по поручению объединенного комитета РСДРП (б), уже готовился объявить митинг открытым, когда стоявший в окружении своих единомышленников меньшевик Шишкин неожиданно вскочил на верстак и звонко выкрикнул: — Товарищи рабочие! Как избранный вами депутат Всероссийского Учредительного собрания я считаю своим долгом честно и открыто рассказать вам, что произошло в Таврическом дворце 5 января текущего года.
Рядом с Григорьевым стояли председатель губисполкома Парфенов, заводские большевики, группа представителей петрозаводской левоэсеровской организации, уполномоченный ВЦИКа по Олонецкой губернии Алексеев. Выходка Шишкина удивила всех.
— Сгони его! — вполголоса произнес Маликов, обращаясь к Григорьеву. — Кто дал ему право!
— Пусть выступает! — успокоил товарищей Алексеев. — Может, так даже лучше…
Шишкин был опытным оратором. Прижимая к груди ушанку и медленно поворачиваясь из стороны в сторону, он словно бы обращался к каждому о отдельности, показывая, что сердце его полно невыразимой горечи, глубокой обиды.
— Вы знаете меня, и я знаю многих из вас. Три с половиной месяца назад доверили вы своим избранникам собраться в истерзанном, раздираемом противоречиями Петрограде, чтобы в добром мире и согласна решить вопросы дальнейшего государственного устройства революционной России… С трепетом и волнением вступил я под своды Таврического дворца, который, как думалось тогда всем, станет в будущем колыбелью русской демократии и социализма. Такое же чувство переживали, я думаю, и все другие депутаты социалистических партий. Такое же чувство переживал и весь народ, включая пролетариат Петрограда, который в этот день собирался выйти на улицы, чтобы отметить его праздничной демонстрацией.
— Ложь! — не выдержал кто–то из большевиков, стоявших возле верстака. — Вы готовили заговор против революции!
Шишкин даже не повернулся на голос.
— Я не стану отвечать на эти инсинуации. Я обращаюсь не к вам, погрязшим и запутавшимся в узурпации власти, товарищи большевики! Сегодня я обращаюсь к тем, кто единственный имеет право судить и решать — к рабочему пролетариату, от имени которого вы пытаетесь совершать свои пагубные для революции дела. Пусть они выслушают нас и рассудят! Многих, я вижу, удивило, почему я стал выступать без предоставления мне слова. Я это сделал не от невоздержанности характера, не от нетерпеливости, а вполне обдуманно. Даже здесь, на нашем демократическом внепартийном митинге большевики подготовились узурпировать власть председателя, и я считал бы недостойным для себя получать слово с их разрешения.
Где–то слева от верстака зааплодировали. Кое–кто из рабочих поддержал аплодисменты.
— Подобным образом, как настоящие узурпаторы, вели себя большевики и в тот день в Таврическом дворце. Они держались там не как представители одной из социалистических партий России, а примерно так же, как Николай II держал себя по отношению к Государственной думе. Захотел — собрал, не понравилось — разогнал! От членов Учредительного собрание они потребовали, по существу, присяги на верность Совету Народных Комиссаров, так же как в свое время Николай требовал такой присяги от Государственной думы. Это ли не издевательство над демократией! Это ли не кощунство перед революцией!
К началу митинга Анохин опоздал. Он стоял теперь в задних рядах, и отсюда было особенно хорошо видно, как реагируют рабочие на слова оратора. Безучастных не было, все слушали с большим интересом. Вначале это насторожило Петра. Казалось, оратору удалось завоевать не только внимание, но и сочувствие толпы. Удивляло и спокойствие петрозаводских большевиков, которые тесной кучкой стояли у верстака и молча слушали явно провокационные выпады Шишкина. Что это — уверенность в своих силах или растерянность перед напором красноречия меньшевистского говоруна? Петр издали всматривался в лица товарищей, но ничего на них прочесть не мог. Григорьев, стоявший с листком в руке ближе других к оратору, выжидающе поглядывал то на рабочих, то на Шишкина. Председатель губисполкома Парфенов (его Петр как–то сразу угадал по интеллигентному виду) тихо переговаривался с молодым солдатом в шинели и папахе, веселое, слегка самоуверенное лицо которого показалось Анохину знакомым, где–то уже виденным.
— Солдат у трибуны — кто это? — шепотом спросил Петр у стоявшего впереди него рабочего.
— А кто его знает! Вроде представитель из Петрограда, — ответил тот, не без подозрительности оглядев самого Анохина.
«Алексеев!» — подумал Петр, вспомнив слова Григорьева, что в губернии находится представитель ВЦИКа.
Ободренный вниманием Шишкин разошелся вовсю. С жалобно–доверительного тона, каким он начал свою речь, он перешел на обличающий, размахивал рукой и указывал пальцем на стоявших внизу большевиков.
— Вы взяли власть! Нет, вы не получили ее из рук народа, а сами узурпировали ее! И как всякие узурпаторы вы немедленно обратили ее против воли, против интересов народа! Неужели ради этого тысячи и тысячи революционеров в борьбе с самодержавием шли на смерть на каторгу, в ссылку! Имейте мужество вот перед ними, перед пролетариатом, именем которого вы клянетесь, признать, что с властью в стране вы не справились, что вы запутались… Только этим можно объяснить позорный факт разгона Учредительного собрания… Я заканчиваю, товарищи! По поручению комитета партии, представителем которой я по вашей воле был избран в Учредительной собрание, я вношу следующий проект резолюции: «Рабочие Александровского завода с гневом протестуют против позорного, акта разгона большевиками Учредительного собрания и вновь ясно и решительно подтверждают, что власть в стране должна принадлежать правительству, избранному путем самого широкого и свободного волеизъявления народа».
Под аплодисменты и ободряющие выкрики своих сторонников Шишкин провозгласил:
— Да здравствует истинно пролетарская революция! Да здравствует социализм!
— У вас все? — Григорьев уже стоял на верстаке рядом с Шишкиным.
— Все. Прошу, товарищи, голосовать!
— Э–э! Голосовать, стало быть, потом будем… Что же это вы? Столько о демократии говорили, о свободе и равенстве, а сами, стало быть, хотите место председателя на нашем митинге узурпировать. Нет уж, мы вас терпеливо слушали, теперь товарищи рабочие, стало быть, пусть нас послушают. Слово имеет председатель губисполкома товарищ Парфенов!
Пока Парфенов взбирался на верстак, в цехе стояла напряженная тишина. На заводе новый председатель губисполкома выступал в первый раз, говорили, что он и вообще не большой любитель ораторствовать, и все поэтому ждали его речи с любопытством. Учитель гимназии, зять бывшего горного начальника генерала Яхонтова — и вдруг большевик! Тут было чему удивляться.
Вот Парфенов снял шапку, сощурился.
— Не знаю, товарищи, имеет ли смысл отвечать на все те недостойные выпады, которые позволил себе предыдущий оратор. Лично для меня он не сказал ничего нового или неожиданного. Все это мы уже много раз слышали: и обиды, и оскорбления, и угрозы. Да и можно ли было ждать чего–то иного от представителя партии, которая вместе с Керенским продала дело революции, вступив в сговор, с международными империалистами. Партия, которая, входя в правительство Керенского, не захотела дать народу ни мира, ни земли, которая давно уже погрязла в революционной демагогии… Меньшевики и правые эсеры стояли у власти в Олонецкой губернии более полугода. Разрешили ли они хоть один, из коренных вопросов революции? Нет, нет и нет. Они лишь уповали на Учредительное собрание — дескать, оно разрешит все наболевшие вопросы. Возьмем ваш завод. Даже введение рабочего контроля на заводе проходило при таком сдерживающем влиянии их губернского исполкома, что по–настоящему так и не смогло развернуться. А ведь для этого никакого Учредительного собрания не требовалось. Для этого лишь нужно быть революционером не на словах, а на деле. Вот почему, когда большевики стали во главе октябрьского переворота и одним решительным ударом разрубили все запутанные узлы русской революции, то меньшевики и эсеры завопили — «это, дескать, узурпация власти». Давайте посмотрим, что представляло собой Учредительное собрание. Да, в подавляющем большинстве оно состояло из представителей социалистических партий. Но у этого большинства лишь оболочка была социалистической, Ведь это собрание отказалось даже обсуждать «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа», декреты о земле и о мире… И теперь об этом собрании тоскует «революционер» Шишкин! Вот. товарищи, и судите сами, кто предает дело революции! Об этом можно бы говорить много, но я не хочу отнимать у вас времени.
— Вы позорно уклонились от существа, вопроса! — выждав, пока Парфенов сойдет с верстака, закричал кто–то из сторонников Шишкина, и сразу возник шум.
Собрание разделилось. Одни, выкрикивая обвинения в адрес большевиков, требовали объяснения их действий, другие пытались утихомирить крикунов.
Выступление заводского большевика Христофора Дорошина лишь подлило масла в огонь. Невысокий, подвижный и горячий по характеру, он не стеснялся в выражениях и так разозлил немногочисленных, но весьма упорных своих противников, что казалось, вот–вот начнется свалка. Дорошин заканчивал свою речь под несмолкаемый гвалт, и Анохин не разобрал его последних слов.
На трибуне представитель ВЦИКа Алексеев. Он долго стоит, выжидая внимания, внешне спокойный, невозмутимый. Алексеев молод. Он, пожалуй, моложе всех других, стоявших вблизи верстака. Но в его веселых глазах светится такая уверенность в себе и в благополучном исходе бушующих внизу страстей, что это невольно привлекает, заставляет думать, что все это им не один раз уже пережито и испытано.
Говорит он спокойно, непринужденно, но ему намеренно мешают. Как только толпа начинает стихать, вновь и вновь раздаются провокационные выкрики, и слова оратора тонут в нахлынувшем шуме. Алексеев опять выжидает тишины и, не обращая на выкрики внимания, продолжает речь с повторения прерванной фразы.
Тщетно Григорьев призывает к порядку. Меньшевики то один, то другой пытаются без разрешения председателя взобраться на верстак с тыла, но рабочие, выстроившись плотной стеной, задерживают их, не пускают.
Алексеев заканчивает речь под аплодисменты, свист и улюлюканье.
Список ораторов исчерпан, Григорьев выжидает тишины, спрашивает:
— Кто еще желает высказаться?
— Хватит! Голосуй! — несется в ответ.
Один из меньшевиков без предоставления слова прорывается на трибуну и начинает говорить. Его совеем уже не слушают, но он продолжает речь, говорит что–то долго, возбужденно и заканчивает неожиданным выкриком:
— История рассудит нас!
И на этот раз аплодисменты тонут в дружном свисте и улюлюканье.
— Есть еще желающие? — Григорьев медлит, обводит взглядом всех и задерживается на Анохине. Секунду–другую они молча смотрят друг на друга. И Петр резко поднимает вверх руку.
— Слово имеет товарищ Анохин!
Пока Петр протискивается вперед, Григорьев поясняет:
— Вы все знаете товарища Анохина. Он сын бывшего столяра из литейки Федора Анохина. Царским судам был приговорен к смертной казни, отбывал каторгу и недавно вернулся домой. Давайте, товарищи, послушаем, что скажет нам бывший политкаторжанин, наш земляк.
Люди расступаются, с любопытством смотрят на молодого, невысокого человека с усиками, в ушанке, в демисезонном пальто, в яловых сапогах, пробирающегося к верстаку. Многие припоминают и Федора из литейки, и его сына — рассыльного из типографии — но где ж теперь признаешь его, ведь столько лет прошло. Завод за эти годы вырос вдвое, появилось много приезжих — им–то и совсем неведома эта давняя петрозаводская история.
Петр взбирается на верстак, снимает шапку, и первым, кого он замечает —– это Абрама Рыбака, который стоит в стихшей толпе совсем близко, в нескольких шагах — все такой же сухощавый, рослый, с прежней печальной улыбкой на заметно постаревшем лице. Они обрадованно кивают друг другу. Абрам сутулится, словно бы прячется за чужие спины, его голова уже не возвышается над всеми, как в первый момент, но ощущение его внимательного взгляда не покидает Петра на протяжении всей речи.
— Товарищи! Первый оратор очень картинно говорил о том, что произошло в Таврическом дворце 5 января. Настолько картинно, что если бы мне самому не довелось быть там в этот день, то, ей–богу, и я бы, пожалуй, поверил ему. Да и как же тут не поверить, если собрались там паиньки, беззащитные и безобидные овцы, а злые волки взяли да и обидели их. Ведь мы же знаем, еще по детским басням знаем, что волки завсегда обижают, овец. Вот, примерно, такую басенку и рассказал нам сегодня уважаемый товарищ Шишкин. Хорошо рассказал, со слезой в голосе! Только умолчал при этом, что овцы–то были там не настоящие! Что из–под их овечьей шкуры выпирали хищные зубы, направленные против Советской власти. Что эту шкуру они сразу и скинули с себя, как только уселись в таврические кресла и стали ждать–поджидать, пока явится к ним красная шапочка, за которую они почитали наше рабоче–крестьянское правительство. Тут уж другая сказочка началась, товарищи, конец которой вы тоже знаете.
Я не был в зале, как товарищ Шишкин. Я весь день провел на улицах Петрограда. И у Смольного, и у Таврического, и на Знаменской площади… Скажу одно — эсеровско–меньшевистское большинство в Учредительном собрании готовило в этот день контрреволюционный переворот и, если бы пролетариат Питера не проявил революционной бдительности, то имели бы мы сейчас худший вариант корниловщины. Иным Учредительное собрание и не могло быть, — оно ведь выбиралось при Керенском. За день своего существования оно успело отвергнуть декреты о мире, о земле, о правах трудящегося и эксплуатируемого народа. Тем самым оно доказало, что в условиях социалистической революции оно является мертвым, контрреволюционным, ненужным народу! И как бы ни шумели контрреволюционеры, им не воскресить мертвеца! Власть будет принадлежать рабочим и крестьянам, в лице Советов!
— Вы тоже позорно уклоняетесь от существа вопроса! — выкрикнул тот же голос, который перебил речь Парфенова.
— Нет, я не уклоняюсь, — повысил голос Анохин, — а лишь подхожу к существу вопроса. Даже младенцу теперь ясно, что судьба социалистической революции зависит не от Учредительного собрания, а от того, насколько успешно сможем мы справиться с войной, разрухой и голодом. Вот тут давайте, если хотите, и поспорим!
— Это демагогия!
— С вашей точки зрения, возможно, и демагогия. А для нас это вопрос жизни или смерти! Мы не боимся честно и открыто сказать, что положение в стране страшно тяжелое. Рабочий класс Олонецкой губернии должен знать это. Ему и только ему придется, в первую голову, испытать это на себе.
Сказав это, Петр остановился. Подумалось, что, может быть, напрасно он коснулся этой темы. Ведь положение республики было таким, что накаленная атмосфера митинга могла легко разрядиться не в пользу Советской власти. Что утешительного может сказать он этим людям, у каждого из которых дома голодная семья, а впереди — еще столько месяцев тяжкой изнурительной зимы? В городах запасов продовольствия нет… Денежных знаков не хватает… Крестьяне испытывают острый недостаток орудий производства, а заводы не обеспечены сырьем и заказами… Транспорт расстроен… Чиновники, служащие и городские обыватели в своем большинстве враждебно относятся к Совету Народных Комиссаров… Факты саботажа не прекращаются, а спекуляция приняла прямо–таки катастрофические размеры.
Но первое слово уже произнесено, и отступа назад не должно быть.
На глазах происходила удивительная вещь! Чем откровеннее, доверительнее говорил Анохин о трудностях, переживаемых революцией и страной, тем внимательнее слушали его. Нет, эта тишина уже не походила на ту угрожающую настороженность толпы, когда достаточно одного враждебного выкрика, и все смешается. Кстати, Шишкин попробовал сделать это. Во время одной из пауз он насмешливо выкрикнул:
— Дожили! Довластвовались!
Но в ответ по цеху прокатился неодобрительный гул, и никто из меньшевиков в дальнейшем уже не осмелился прерывать оратора.
— Таково, товарищи, положение… Есть ли у нас выход из него? Да, есть! В хлебородных губерниях центральной России и Сибири есть огромные запасы хлеба, и, если мы наладим работу железнодорожного транспорта, мы успешно справимся с голодом. У нас есть заводы, которые могут обеспечить крестьян плугами, боронами, косами, серпами и мануфактурой. Но для этого они должны сбросить с себя обременительный груз военных заказов, а для этого, в свою очередь, необходимо во что бы то ни стало, любой ценой добиться мира с немцами. Наконец, у нас есть самое главное — Советская власть, которая в состоянии наладить управление на местах, борьбу с саботажем и спекуляцией. Нужно лишь, чтоб каждый рабочий, каждый трудовой крестьянин понял, что нынешняя власть — это его власть, что он в ответе за все дела в стране, что нельзя медлить и уповать на кого–то, кто, дескать, придет и наладит нашу жизнь. Так ставит вопрос наша большевистская партия и Совет Народных Комиссаров.
Анохин закончил свою речь не совсем обычно — без лозунгов и здравиц. Он просто чуть отступил назад и надел шапку. Несколько секунд все чего–то ждали, а потом в цехе раздался такой гром аплодисментов, что, казалось, в один миг сразу включились, заработали, зашелестели и загрохотали все трансмиссий и станки.
Добродушно щурясь, хлопал огрубелыми ладонями Григорьев, одобрительно улыбаясь, аплодировали Парфенов, Алексеев, Маликов, Дорошин, в толпе тут и там Петр вдруг впервые стал примечать заводских мастеровых, которых он сейчас мог легко спутать по фамилиям, но лица которых все яснее выплывали теперь из памяти давних юношеских лет…
Это было первое выступление Анохина в родном городе, и в душе Петр ликовал. Нет, не только потому что его небольшая речь была так тепло воспринята. В эти минуты он сделал для себя важное открытие, которым руководствовался затем всю жизнь: где бы ты ни выступал, каким бы трудным ни было твое положение, но обязательно доверься слушателям, будь откровенен до конца, и ты всегда найдешь сочувствие и поддержку.
В последующие четыре года Анохин произнес многие десятки речей и докладов на митингах, заседаниях и съездах. Бывали случаи, когда в итоге большинство оказывалось все–таки не за ним. Но ни разу он не изменил этому своему принципу.
2
У проходной Парфенов, Григорьев и Анохин простились с заводскими комитетчиками и направились к центру города.
Начинало смеркаться. Основная масса рабочих, участвовавших в митинге, уже разошлась по домам, и огромная, бугрившаяся суметами заводская ямка была пустынна и безлюдна. Лишь возле мостка через Лососинку на тропе одиноко темнела сутулая фигура.
Это был Абрам Рыбак. Петр был очень удивлен, когда сразу же после митинга Абрам куда–то пропал, даже не подойдя и не поздоровавшись.
— Ну, как впечатление, товарищ Рыбак? — поравнявшись, весело опросил Парфенов.
— Поздравляю с победой! — улыбнулся тот.
— Надеюсь, вы расскажете своему комитету о настроениях на заводе?
— За этим и приходил…
То ли Абрама стесняло присутствие посторонних, то ли он вообще считал излишним всякое проявление чувств, но встретились они с Петром сдержанно: молча улыбнулись друг другу, обменялись крепким рукопожатием и пошли рядом. Расспрашивая о каких–то пустяках, Рыбак понемногу замедлял шаги, и Петр понял, что он хочет остаться с ним наедине.
Парфенов и Григорьев, догадавшись об этом, ушли вперед.
— Я знал, что ты приехал, — сказал Абрам. — Вчера из Питера вернулся председатель нашего комитета Балашов. Он сказал мне об этом.
Петр недоуменно посмотрел, на товарища. Он не знал Балашова и не понимал, о каком комитете идет речь.
— Балашов, — пояснил Абрам, — председатель комитета партии левых социал–революционеров. Вчера вы ехали в одном вагоне, разговаривали и даже, кажется, поспорили по поводу брестских переговоров.
— А–а, — протянул Петр и растерянно замолк.
Там, вдали отсюда, он часто вспоминал своих петрозаводских друзей, особенно, когда началась война, а затем — и революция. Чем чаще он думал о них, тем тверже верил почему–то, что и Абрам, и Лева, и Давид обязательно станут большевиками. Почему же так ему казалось? Уж не потому ли, что свои собственные взгляды, и весь нелегкий путь постижения большевизма он невольно, переносил и на друзей? Ведь каждый из них был грамотней, начитанней и умнее его. Им легче во всем разобраться и выбрать единственно правильный путь. Петр на всю жизнь запомнил слова, услышанные шесть лет назад в иркутской пересылке от одного из старых подпольщиков: «У честного революционера заблуждения никогда не превратятся в окончательные убеждения. Рано или поздно он обязательно станет марксистом!»
А ведь такими честными, ищущими, преданными революции — и жили в представлении Петра его друзья юности!
— Я специально пришел на этот митинг, — продолжал Рыбак, — чтоб повидать тебя. Григорьев сказал утром, что ты собираешься выступать… Знаешь, твоя речь мне понравилась… Честно скажу, я и не предполагал, что из тебя получится такой opaтop! Не хотелось бы мне оказаться на месте Шишкина…
Петр и сам еще не утратил чувства волнующего удовлетворения и исходом митингами успехом своей первой в родном городе публичной речи. Однако похвала Абрама ничего не добавила к этой его радости. В ней почудилось ему что–то расчетливое, даже льстивое, совсем не свойственное прежнему, сдержанному и скупому на одобрения Абраму.
— Додик… он тоже левый эсер?
— Ты хочешь сказать левый социал–революционер? — с улыбкой поправил его Абрам. — Нет, пожалуй… Давид живет в Петрограде и как–то отошел от политики… Да он, по существу, и не был к ней близок. Так, мальчишеское увлечение…
— А Лева Левин?
— Лева — да. Он член нашей партии, функционер в типографии… А Иван Новожилов? Помнишь его? Теперь он товарищ комиссара земледелия в губисполкоме… Ты, я вижу, чем–то огорчен?
— Слушай, Абрам…
— Да, я слушаю…
— Я не умею хитрить… Особенно с друзьями… Ты прав, я очень огорчен.
— Чем?
— Как бы тебе сказать… Скорей всего, своей наивностью. Или тем, что мы оказались не вместе. Я был уверен, что встречу тебя, Додика, Леву среди большевиков… Конечно, это наивно, но я почему–то верил.
— Представь себе, улыбнулся Рыбак, — я ведь тоже не думал, что встречу тебя таким правоверным большевиком. Вчера я даже не поверил Балашову… Но в конце концов разве это главное? Мы делаем одно общее дело. Рука об руку боремся и работаем. Нас многое связывает в прошлом, а еще большее в настоящем. В чем–то мы расходимся, критикуем друг друга, но в нашем сотрудничестве залог успеха революции. Это признают и ваши, и наши партийные вожди. Неужели мы с тобой порвем старую дружбу?
— Да нет… Разве об этом речь…
— Ты не очень спешишь? — остановился Рыбак.
— Нет, а что?
— Знаешь, давай навестим Леву Левина. Он, кажется, хворает и будет рад повидать тебя. Посидим, потолкуем.
— Может быть, в другой раз… Сам понимаешь, вчера только приехал, дел по горло.
— Э–э, друг! Другого раза может и не быть. Обстановка такая — закрутит, завертит, не до встреч потом будет. Уж решайся, Петр, пожертвуй вечерок для друзей.
— Ладно, пойдем.
Лева Левин жил в том же доме на углу Святонаволоцкой и Жуковского, где Петру не один раз доводилось бывать в прежние годы. Казалось, с тех пор ничто здесь не изменилось. Та же загроможденная сундуками полутемная прихожая, те же три небольших комнаты, забитых угловатой, темного дерева мебелью, сохранившейся еще с времен, когда покойный Илья Левин прибыл со своим многочисленным семейством из Петербурга и был назначен фактором губернской типографии. Все в квартире было таким старым, поблекшим, пропахшим нафталином, что, казалось, утратило всякую способность стареть еще больше.
Гостей встретила седенькая, легонькая, трясущаяся к старушка, в которой Петр не сразу признал некогда шуструю, суетливую мать Левы, умевшую раньше так вести разговор, что гостю и слово вставить было трудно. От прежнего осталась лишь манера всплескивать словно в испуге руками и тянуться подслеповатыми глазами к лицу собеседника. Но по части разговора тетя Фаня явно сдала.
— Это Абраша, — тихо как бы для себя удовлетворенно произнесла она, чуть ли не ощупав Рыбака, и потянулась к Анохину. — А это кто же? Вы наверное к Левушке… Он дома, дома, проходите.
Так и не признав Анохина, она всплеснула руками и засеменила по узкому проходу.
— Левушка, Левушка… Где же ты? К тебе пришли. Абраша пришел и еще господин какой–то.
— Тетя Фаня, это никакой не господин, теперь господ нету, а это пришел Петя Анохин, друг Левы, помните? — сказал Рыбак, раздеваясь и жестом приглашая Петра сделать то же.
Старушка, взмахивая руками, уже успела прилететь обратно.
— Как же не помню? Чтоб все так помнили, как я. Петю Анохина казнили в то лето, когда Левушку забрали жандармы… Помню, помню. Беленький был, светлоглазый и Левушку очень любил. Не дай бог, каково было его матери?!
— Тетя Фаня, вы ошибаетесь, — мягко улыбаясь, объяснил Абрам. — Петю не казнили. Вот он, перед вами. Казнили другого, Сашу Кузьмина.
— Как же другого? Я хорошо помню, что в городе про Анохина говорили. Зачем же ты, Абраша, меня перебиваешь? Мы с Левушкой на его могилу ходили. На Неглинском кладбище… Чтоб все такими порядочными были, как этот самый юноша, мир его праху. Левушка говорил, что если бы он его от жандармов не скрыл, то и Левушку тоже казнили бы. А за что? Глупенькие они были, молоденькие…
— Мама, вы все перепутали, не надоедайте гостям, — с легким раздражением сказал Лева, появляясь из дверей комнаты.
— Левушка, не волнуйся! Тебе вредно! — всплеснула руками мать.
— Смотри, кого я к тебе привел! — закричал Абрам, подталкивая вперед Анохина.
Лева — заметно располневший, полысевший и даже как–то обрюзгший — долго и растерянно щурился сквозь очки, потом вдруг расплылся в счастливой улыбке и, вытянув вперед руки, как слепой, пошел навстречу Анохину. Не находя слов, они тискали друг друга, терлись небритыми щеками до тех пор, пока почувствовали неловкость, и оба разом отстранились.
Петр вдруг отметил, что его неожиданно постаревший друг до удивления похож на своего покойного отца, каким тот был в дни, когда Анохин впервые переступил порог губернской типографии. Не хватало лишь окладистой седой бороды и строгости в пристально–неспокойном взгляде.
— А я, понимаешь, хвораю, — как бы извиняясь, сказал Лева. — Простыл, что ли… Это так здорово, что ты пришел! Чего мы стоим? Идемте ко мне, в комнату! Мама, Соня, сделайте нам поскорей чаю… Черт побери, это так здорово! Соня, иди сюда и познакомься с моим другим Анохиным! — закричал он и тихо пояснил: — Соня — это моя жена… Ты, наверное, помнишь ее — она иногда бывала у нас. Ну, какой ты, Петр, молодец, что пришел, я так рад!
Петр не помнил никакой Сони, но тем не менее кивал и улыбался.
— А я, думаешь, не рад?! Да ты не суетись и не волнуйся. Мать вон говорит — тебе вредно!
— A–а, — махнул Лева рукой. — Разве ты не знаешь матерей! Ты извини ее… Она крепко сдала памятью.
В квартире все пришло в движение. В прихожей застучали быстрые каблучки, зашаркали старушечьи туфли, из кухни донеслось позвякиванье посуды. Абрам незаметно куда–то исчез и минут через двадцать явился довольный, улыбающийся, с флаконом аптекарского спирта.
— Панина разорил — нашего деятеля по здравоохранению, — подмигнул он. — Кто поверит, что у медика спирта дома не водится… Еле уговорил ради такого случая.
Скромную закуску собрали на письменном столе в комнате Левы, где среди книжных стеллажей, дивана, кровати едва хватило места для троих мужчин. Со стены строго и осуждающе смотрел на новое поколение крупно увеличенный портрет старого фактора, изготовленный в фотографии Иогансона.
Разговора, которого ждали все трое, долго не получалось. Не помогли в этом и несколько глотков щедро разведенного водой спирта, доставшихся на долю каждому. Неловкость и скованность не проходила. Ощущая это, Абрам попробовал шутить.
— А знаешь ли ты, Петр, — сказал он, — что мы сейчас совершаем преступление.
— Какое?
— Пьем спиртное. Согласно постановлению губисполкома у нас введен сухой закон. Появление на улицах в нетрезвом виде карается тюремным заключением до одного месяца, если не влечет по действиям более тяжкого наказания.
— Надеюсь, ты не поэтому ограничил нашу встречу пузырьком медицинского спирта?
— Нет, не поэтому, — засмеялся Абрам. — О твоем нравственном облике, я вижу, беспокоиться никому не надо… А жалкие запасы спирта у нас, в Петрозаводске, стали чем–то вроде меры материального поощрения. Других возможностей нет, вот губисполком специальным решением и выдает спирт особо нуждающимся, чтобы те могли продать его на рынке и купить что–то из продуктов. Единственный устойчивый эквивалент рыночного обмена между городом и деревней. Других, к сожалению, не имеем и неизвестно, когда они будут! Мужик ждет от города мануфактуры, плугов, керосину и еще черт знает чего, а мы, кроме остатков царского спирта, ничего на рынок выбросить не можем, хотя и говорим о товарообмене, о спайке города и деревни.
— Смешного тут ничего нет, — сказал Анохин. — Иронизировать тоже вряд ли стоит… В Петрограде это отлично понимают и потому так настойчиво добиваются мира с немцами.
Абрам словно ожидал этого и сразу же цепко ухватился:
— Скажи, Петр! Ты действительно веришь, что Брестский мир будет для нас спасением? Именно Брестский… Этот оскорбительный, унижающий нас жалкий мир?
— Верю. Брестский или любой другой, это значения не имеет. Но только мир, чтобы мы могли хоть немного передохнуть, справиться с внутренними трудностями. Без этого революция погибнет, она будет раздавлена.
— Постой, постой! Ты сказал — революция погибнет. Ты марксист. Я тоже исповедую Маркса. Разве истинная, созревшая в обществе социальная революция может погибнуть? Тут какое–то противоречие. Тут вы, большевики, или пугаете и себя и нас напрасными страхами, или сами ревизуете Маркса, считаете нашу революцию не исторической неизбежностью, а чем–то вроде преждевременного выкидыша?
— Насчет выкидышей истории мы уже слышали! Недалеко же ты, Абрам, ушел от господ Черновых, Церетели и им подобных…
— Погоди обобщать. Ты ответь мне на вопрос!
— Хорошо, я обязательно отвечу. Хотя ты сам отлично догадываешься о моей толке зрения. Но коль ты выдвинул такую альтернативу, то будь любезен первым и сказать, какой ты сам считаешь нашу революцию — истинной или недоноском?
— Я полностью разделяю взгляды своей партии левых социалистов–революционеров, которая считает Октябрьскую революцию истинной, своевременной и исторически необходимой.
— Зачем же ты тогда пытаешься набросить тень на нас, большевиков, инициаторов и руководителей этой революции? В чем ты хочешь обвинить нас? В Брестском мире?
— Да. Кому нужна она — эта позорная уступка немецкому империализму? Вы говорите о мировой революции, о солидарности, а сами на деле предаете не только интересы немецких трудящихся, но и интересы собственных русских рабочих и крестьян.
— Каким образом? — стараясь быть хладнокровным, спросил Анохин, хотя уже предчувствовал, что скажет сейчас Рыбак: с этим не один раз приходилось сталкиваться еще в Петрограде.
— Каким? Очень просто. Ваш Ленин, еще находясь в эмиграции, писал, что ничто не приближает нас к мировой революции так быстро и стремительно, как развязанная империалистами мировая война. И это, на мой взгляд, справедливое, исторически обоснованное утверждение, применимое не только к России, но и к другим странам. Почему же большевики, как только захватили власть, изменили точку зрения, перестали верить в возможность мировой революции, замкнулись в рамках только России и готовы идти на любую сделку с германскими империалистами в попытках удержаться? Разве Брестский мир не укрепляет позиции немецких империалистов и тем самым не ослабляет международные революционные силы? Разве это достойно интернационалистов, какими вы считаете себя? А положение России? Вы со спокойной душой готовы отдать на поругание немцам миллионы и миллионы русских крестьян и рабочих, хотя отлично знаете, что они никогда не примирятся с германской оккупацией, будут сами вести кровопролитную партизанскую войну… Говорят, вы готовы отдать немцам и Питер, лишь бы сохранить власть в своих руках… Неужели возможно и это?
Петр уже едва сдерживался. Он понимал, что Абрам не сказал ничего нового или неожиданного, что он лишь изложил перед ним официальную позицию своей партии левых эсеров, а если в чем–то и заострил ее, то сделал это в пылу полемики… Петр и сам предпочитал в спорах ясность, остроту и даже крайности. Но тем больнее было слушать все это из уст человека, который еще вчера жил в его представлении как умный, дальновидный и все понимающий друг.
— Ты кончил? — спросил Петр, внутренне дрожа от нетерпения. — Тогда разреши сказать мне.
— Пожалуйста, — удивленно посмотрел на него Рыбак. — Можно подумать, что мы на дипломатической конференции…
— Не знаю, от кого ты слышал о Питере и власти и с какой целью это говорилось… Скорей всего от контрреволюционных крикунов, которые больше всего озабочены тем, чтоб вновь столкнуть лбами Советскую республику с немцами и таким образом немецкими штыками задушить нашу революцию. Если хочешь знать мою точку зрения, то я тебе скажу прямо. Для меня судьба нашей революции дороже временной уступки Петрограда немцам, хотя, к счастью, вопрос так не стоит.
— Лева, ты слышишь? — торжествующе повернулся Рыбак к своему другу. — Боже мой, какой авантюризм, какая политическая слепота?!
Лева ничего не ответил. Он сосредоточенно курил, свертывая одну за другой самокрутки и, казалось, совсем не интересовался разговором.
— Да, да, дороже! — все больше распаляясь, продолжал Петр. — Революция, уцелев и окрепнув, справившись с внутренней буржуазией, вернет себе и Петроград, и все иные оккупированные земли… А если она будет раздавлена немецкой военщиной, то мировая буржуазия будет праздновать свою победу. Наш интернациональный долг перед международным пролетариатом состоит не в том, чтобы обескровить и погубить только что зародившуюся русскую революцию, а в том, чтоб сохранить ее, не дать погибнуть, сделать ее плацдармом для международной классовой борьбы. Как ни странно, но это отлично понимает сама международная буржуазия — и немецкая, и английская, и французская, а наши некоторые революционеры никак не хотят понять этого.
— Смотри–ка! — засмеялся Рыбак. — По–моему, ты кроешь меня прямо цитатами из Ленина!
— Не знаю — цитатами или не цитатами, а я говорю тебе то, что думаю. Это мое убеждение. Оно досталось мне слишком дорогой ценой. И за него я буду драться. А с тобой, Абрам, в особенности.
— Почему именно со мной?
— Сам сегодня говорил — почему… Нас многое связывало в прошлом, мы старые друзья, мы делаем теперь одно общее дело… Трудно определить, Абрам, думаешь ли ты так в действительности, как говорил сейчас, но, честное слово, слушать тебя мне было больнее, чем краснобая и учредиловца Шишкина. Тот открытый враг, а ты?..
— Ну–ну, договаривай, не стесняйся…
— Что договаривать? Ты и сам все отлично понимаешь.
Рыбак промолчал, потянулся к банке с махоркой, стал неумело свертывать цигарку. В это время тетя Фаня начала подавать чай, и разговор надолго прервался.
Чай пили для вида. И каждый думал о своем. Несколько кусочков сахара так и остались на столе нетронутыми. Молчание тяготило всех троих, и первым не выдержал Абрам.
— Не знаю, Петр, — сказал он, — как у тебя, а у меня такое чувство, словно знакомимся мы с тобой заново. Переменился ты, совсем непохожим стал… Смотрю вот, знаю, что ты, а даже как–то и не верится…
— Что ж тут удивительного? Девять лет прошло.
— Да–a, девять лет! — задумчиво произнес Рыбак. — И каких лет! Помнишь, как мы мечтали когда–то… Каким далеким казалось тогда это время. Революция, восстание, власть народа… И вот оно — совершилось. И только теперь понимаешь — какими мы были наивными. У тебя нет такого чувства, а?
— Почему нет? Тогда я, можно сказать, совсем еще ничего не понимал.
— А я, думаешь, понимал? — оживился Рыбак, обрадованный этим признанием. — Черта с два! Революция представлялась мне одним днем, одним всеобщим праздником, чем–то вроде штурма Бастилии. Порыв, натиск — и полное торжество сбросивших оковы рабства масс. Разве думалось тогда, что революция — это не только падение самодержавия или штурм Зимнего, что революция — это долгие унылые месяцы разрухи и нищеты, внутренних распрей и позорных просьб мира у империалистов. А тут еще надвигается война — если не с немцами, то своя, внутренняя, гражданская.
— Абрам, ты забыл, что все это было и после штурма Бастилии, — робко возразил ему Левин. — И голод был, и разруха, и войны.
— Ничего я не забыл, — вновь загорячился Рыбак. — Все помню. Действительно, все это было и там. Даже помню, чем все это кончилось… Наполеоновской диктатурой, возвращением Бурбонов… И понадобились новые революции, чтоб трудовой народ Франции встал на путь демократии…
Петр резко отодвинул недопитый стакан, поднялся, сверху вниз в упор посмотрел на склонившегося к столу Рыбака:
— Ты что? Никак от чая захмелел? Зачем ты городишь чепуху?
— Какую чепуху? — холодно сощурился Абрам. — Тебе что–то, я смотрю, изменяет выдержка…
— Да, чепуху… Ты отлично все понимаешь, а зачем–то намекаешь на какие–то параллели, пытаешься уподоблять нашу революцию французской… Это же похоже на провокацию! Не стану же я сейчас повторять тебе то что ты сам девять лет назад объяснял нам — и мне, и Давиду, и Леве — о социальных корнях Великой французской революции. Уж теперь–то мы отлично понимаем разницу между буржуазно–демократической и пролетарской революцией. На своей шкуре испытали!
— Каким ты, Петр, стал нетерпимым, колким и даже… самонадеянным, — с горечью медленно произнес Абрам. — С тобой трудно стало разговаривать. Я понимаю, конечно… Каторга, ссылка — тебе досталось больше, чем нам…
— Каторгу и ссылку прошу тебя, Абрам, не трогать!
— Ну вот, видишь, даже в этом ты…
— Да–да. Меня упрекай и вини, как хочешь, а каторгу не трогай! Для меня она значит совсем не то, что думаешь ты.
— Друзья! — неожиданно вмешался Лева. — Не хватит ли вам цапаться? Ни к чему это. Давайте–ка лучше поговорим о другом. Столько лет не виделись, а сошлись — и сразу спорить! Мы ведь даже не знаем, кто как жил эти годы. Честное слово, даже нехорошо как–то! Петя, рассказал бы ты о себе — о Шлиссельбурге, о Сибири. А ты, Абрам, не задирайся, прошу тебя!
— Хорошо, я умолкаю и буду с удовольствием слушать Петра! Это, действительно, весьма интересно!
Такой поворот смутил Анохина. Он уже привык к тому, что даже малознакомые люди считают нужным расспрашивать его о каторге, о загадочном и таинственном для них Шлиссельбурге. Петр не любил рассказывать об этом и чаще всего отделывался шуткой: «Да что вы! Разве Шлиссельбург — это каторга? Нет, это самый настоящий университет, ей–богу! Вот спросите любого — вам скажут!» Отшучиваться подобным образом было тем легче, что в этой шутке заключалась немалая доля правды.
Идя сюда, Петр ждал расспросов и думал о том, что на сей раз он изменит привычке, поговорит о прожитом и пережитом так, как давно хотелось. Где же и поговорить, как не в кругу давних друзей, общение с которыми столь круто повернуло когда–то его жизнь? Нет, он не собирался высказывать им ни единого слова упрека. Они ни в чем не виноваты перед ним — тогда все были наивны и беспомощны так же, как и он сам. Да и в чем упрекать? Его жизнь в конце концов сложилась удивительно счастливо, — может быть, даже удачнее, чем у них. Он благодарен судьбе, которая уготовила ему хотя и нелегкую, но зато теперь ясную и прямую дорогу!
Однако как говорить обо всем пережитом и передуманном теперь? Самое лучшее, конечно, — отшутиться. Глупо откровенничать, когда каждое твое слово будет тщательно взвешиваться на весах иного политического убеждения, а любое признание прозвучит как признак слабости. Ведь нити взаимного доверия порваны —– это теперь уже ясно!
Но и шутить что–то не было настроения. Слишком серьезным был разговор до этого.
Петр оглядел молча ждавших его товарищей и вдруг понял, что сегодня он уже не способен ничего им рассказывать.
— Прости, Лева! Сегодня поздно, — произнес он и поискал глазами на стене часы. — Я зайду к тебе в другой раз. Мне пора идти. Спасибо за угощение.
Все трое, каждый по–своему, ощутили вынужденность этой никому не обидной отговорки. Лева с укором кинул взгляд на Рыбака. Тот, словно спохватившись, взглянул на часы и тоже заторопился:
— Уже девять? Как быстро летит время! Мне тоже пора. Петр, погоди, я провожу тебя!
Подгоняемые холодным ветром с озера, они быстро поднимались вверх по старой Святонаволоцкой улице. Шли молча, хотя оба понимали, что без объяснений им не расстаться. В местах, где сугробы вплотную прижимали тропу к заборам, Рыбак, чтобы не тесниться, уступал Петру дорогу, затем снова догонял и шагал рядом.
Пересекли Повенецкую улицу. Идти стало свободнее.
Впереди справа уже смутно белел оштукатуренными стенами дом бывшего жандармского управления. Как и в прежние годы, два окна в нем тускло светились, словно два недремлющих ока, взирающих на темноту улицы.
— Что теперь там? — спросил Петр, замедляя шаги.
Абрам понял все с полунамека,
— Финансовый отдел управления достройки Мурманской дороги… Я бывал там. Странно теперь видеть эти кабинеты… Ты знаешь, я совсем недавно встретил бывшего начальника тюрьмы Кацеблина. Долго стояли. Занятная метаморфоза произошла с ним… Он удивительно много знает и теперь охотно откровенничает. Морозов уговорил его написать воспоминания об Александре Кузьмине. Кадеблин ведь присутствовал при его казни, сохранились какие–то письма и даже стихи, якобы написанные Кузьминым…
Разговор на этом оборвался. Сверху, торопливо прихрамывая, почти бежал им навстречу человек в нагольном полушубке. Узнав Рыбака, он остановился, замахал руками.
—– Абрам Аркадьевич, где ты пропадаешь?
— Что случилось? — спросил Рыбак.
— Потрясающая новость! — сверкая очками, закричал человек, потом вдруг замолк, подозрительно уставился на Анохина.
— Кто этот товарищ?
— Петр Анохин, мой друг, вчера приехал…
— А–а, — сразу сбавил тон незнакомец. — Приветствую вас… Будем знакомы. Садиков, — кивнул он в сторону Петра и снова радостно заторопился: — Потрясающая новость… Из Петрограда получено сообщение, что немцы разорвали позорное для нас Брестское перемирие и перешли в наступление по всему фронту. Ситуация в корне переменилась. В десять назначено заседание нашего комитета! Как можно было иметь дело с империалистами! Пусть большевики убедятся теперь сами, кто был прав!
— Чему ж вы радуетесь? Это же беда! — оборвал его Петр, уловив на себе взгляд Рыбака, в котором тот не смог скрыть своего торжества.
— Да, но только такая беда способна дать революции естественный ход развития, — захлебываясь, кричал Садиков. — Вероломство немцев всколыхнет все революционные силы. Не сегодня–завтра поднимется трудовой народ Германии.
— Какая наивность! — Анохин, не попрощавшись, резко повернулся и зашагал к губисполкому.
У подъезда бывшего губернаторского дома стоял усиленный караул и тщательно проверял документы. Этого вчера еще не было. В коридорах озабоченно курили вооруженные люди. В комнате большевистской фракции шла регистрация вызванных по тревоге коммунистов.
Стоя за спиной машинистки, Парфенов в своем кабинете медленно и четко заканчивал диктовать проект воззвания для завтрашней губернской газеты:
«Только организованность, только сплоченность всего трудового народа может остановить вооруженные полчища германского империализма. Все силы и средства губернии целиком и полностью передаются на дело революционной обороны республики Советов. Объявляется запись в добровольческие революционные отряды.
Германские шпионы, саботажники, распространители всяческих панических слухов будут расстреливаться на месте.
Все на защиту революции и Советской власти!»
III «На путях монаршего милосердия»
Вопрос: Не пользовался ли особою милостию на путях монаршего милосердия?
Ответ: Не пользовался.
Из сведений о ссыльном П. Ф. Анохине, полученных Иркутской тюремной инспекцией 25 сентября 1914 г.«Среди заключенных нашей камеры в Шлиссельбургской крепости нельзя было не обратить внимания на бледного, совсем еще молодого Анохина… Достаточно было обидеть одного заключенного, чтобы вся «бастилия» поднялась с протестом. Анохин при этом делался неузнаваемым. Он способен был любого тюремщика задушить собственными руками, и удержать его было очень трудно. Не раз ему за это приходилось сидеть в темных карцерах, сырых крепостных, башнях».
Из воспоминаний политкаторжанина Р. 3. Марголина.1
О порядках и режиме в Шлиссельбурге Петр многое знал до того, как в январе 1910 года он в составе небольшого этапа перешел по льду русло Невы и по команде конвойного офицера остановился перед запертыми главными воротами, над которыми устрашающе возвышалась глухая стена башни.
Ждали долго, коченея на ветру и тупо разглядывая странную надпись под расправившим крылья двуглавым орлом — «Государева».
Все было до удивления знакомо. Словно бы Петр уже бывал здесь. Вот сейчас откроются ворота, и по команде «Бегом, парами!» они, гремя кандалами, побегут под глубокие своды, потом круто повернут вправо и остановятся в приемном дворе.
Даже теперь, через восемь лет, Петр отлично помнит охватившее его тогда чувство радостного облегчения, когда все действительно так и произошло: бег, громыхание кандалов, поворот, остановка. И так все двадцать, пара за парой, с равными интервалами…
Рядом, в одной с ним паре стоял Абрам Фейгин — молодой еврей с курчавыми волосами и большими черными, слегка выпученными глазами. Абрам тоже в Шлиссельбурге впервые, но благодаря ему Петр получил возможность многое узнать о крепости.
Произошло это так.
Фейгин — социалист–сионист, из Чернигова. Он приговорен к четырем годам каторги за причастность к тайному сообществу и вооруженное сопротивление погромщикам.
В общей камере Петербургской пересыльной тюрьмы не было человека неугомонней и восторженней. О своем идеале — о полном и законченном возрождении еврейской нации на собственной территории, — Фейгин мог говорить часами. Он приставал к каждому, пронзительно вглядывался горящими фанатизмом глазами и, чуть заикаясь, спрашивал:
— Разве не довольно нам блуждать в изгнании, вызывая презрение у одних и обидную жалость у других? Пусть гений еврейства — все эти Спинозы, Марксы, Гейне, Антокольские — расцветают у себя дома… Вот вы увидели бы тогда, как далеко пошли бы евреи по части социального творчества, научной изобретательности, литературы и искусства…
Никаких разработанных теорий или планов у него не было. У него были лишь идеалы — такие пылкие, странные и несбыточные, что они делали Фейгина похожим на помешанного.
В камере к нему и относились как к больному. Терпеливо выслушивали, вначале даже пытались спорить, стараясь доказать абсурдность его надежд и реакционность сионистских убеждений. Но Фейгин был непоколебим, каждое возражение воспринимал как проявление антисемитизма, удрученно кивал головой и в любую минуту готов был расплакаться.
Однажды произошел взрыв. Спорили о чем–то другие, но Фейгин вмешался и произнес слова, которые возмутили всех политических:
— Вот вы все считаете себя революционерами, а не понимаете одной самой важной вещи. Любой социальный строй, какой бы вы ни установили, будет чреват новой революцией, пока не будет разрешен еврейский вопрос.
Камера притихла. Потом дружно, вся враз загремела кандалами, сдвигаясь к стене, где стоял Фейгин. Иосиф Генкин, вот уже четвертый год кочевавший по тюрьмам и этапам за участие в севастопольском вооруженном восстании, был ближе других к Фейгину и первым начал разговор.
— Ты хотел сказать — национальный вопрос?
— Я хотел сказать — еврейский вопрос, — улыбнулся Фейгин.
— Не считаешь ли ты, молодой человек, что еврейская проблема является главным двигателем революции?
— Не я считаю, а так есть на самом деле, — спокойно ответил Фейгин.
— И после этого ты называешь себя социалистом? Позор! Так поступают не друзья, а враги еврейской нации. Я перестаю вас считать своим товарищем и прекращаю с этого момента всякие с вами отношения.
Генкин повернулся и отошел. Другие молчали, не зная, как им поступить. Фейгин все еще улыбался, но по всему было видно, что он вот–вот расплачется. И все же он нашел в себе силы повторить вполголоса свое любимое:
— Чтобы понять еврея, надо самому родиться евреем.
Тут Анохин не выдержал. Они были ровесниками, и Петр чувствовал за собой особое право говорить Фейгину резко:
— Ты сказал чепуху… Ты о революции сказал так, как говорил мне на допросах жандармский подполковник Самойленко–Манджаро. Это он втолковывал мне, что революция придумана жидами, что только им она нужна, чтоб натравить русских друг на друга, а самим оказаться наверху, У меня в Петрозаводске полно друзей евреев. Они настоящие революционеры, не тебе чета. И если ты не откажешься от своих слов, я тоже перестану с тобой знаться.
Через два дня Иосифа Генкина увезли в Псковский централ. Он даже не попрощался с Фейгиным, который все это время держался в одиночестве, ни с кем не разговаривал и даже прятал взгляд. Ему старались не мешать — пусть парень попереживает. Потом состояние Фейгина стало беспокоить товарищей. Его пытались втянуть в общие разговоры, даже рады были придать случившемуся характер шутки, но прежнего неугомонного, общительного и наивного Абрама уже не было.
Лишь когда затихала камера, Фейгин в темноте ощупью отыскивал Анохина, садился рядом и начинал, один и тот же тихий разговор:
— Скажи, Петр! Ты это не выдумал? Твой жандарм действительно говорил тебе так?
Наивные вопросы Фейгина повергали Петра в изумление. Все черносотенные газеты России в открытую писали об этом, а он спрашивает, словно слышит такое впервые.
— Да, конечно, он говорил именно это, — отвечал Петр.
Бессмысленная назойливость Фейгина начинала уже раздражать.
Фейгин умолкал, задумывался, потом спрашивал снова:
— И он говорил это искренне, как ты думаешь?
— Ну какое это имеет значение — искренне или неискренне говорил жандарм? Важно, что он говорил это!
Фейгин вновь молчит, думает о чем–то и пристает опять:
— Нет, ты ошибаешься. Это очень важно — верит ли он сам в то, что говорит. Газеты это одно. Те, кто их пишет, могут и не верить. Им выгодно писать так против евреев, вот они и пишут. Твой жандарм — это совсем другое. Если он действительно так думает, то мне не хотелось бы думать так же, как и он.
— Чего проще — возьми и не думай!
— Это легко сказать, — тяжело вздыхал Фейгин. Казалось, вот–вот он отступит, признает свои заблуждения. Но когда Петр, чувствуя свое превосходство, начал объяснять ему все, что знал о классовой борьбе и революции, Фейгин терпеливо выслушивал его и снисходительно усмехнулся:
— Прости, Петр. Я читал все это… Это так неполно… А главное — моего вопроса это так и не разрешает… Тут надо думать и думать.
— Ну и думай, черт с тобой! — рассердился Петр. — «Моего», «твоего»… Нет у революции моего и твоего. Есть наше, общее, понятно?!
В оставшиеся до отъезда дни севастополец Генкин проявил особый интерес к Анохину. Он–то и познакомил Петра с порядками и режимом Шлиссельбургской каторги, в которой сам провел около двух лет. Ему довелось сидеть во всех трех тюремных корпусах крепости — в народовольческом, в «Зверинце» и на «Сахалине» — побывать в пяти карцерах, и он отлично знал не только каждого надзирателя, но и большинство заключенных. Знакомы Генкину были Смоленский и Вологодский централы, и поэтому он мог сравнивать.
Шлиссельбург имел свою особенность. В отличие от других каторжных тюрем, в нем заключенных почти не подвергали телесным наказаниям. Но это не мешало каменному острову на Неве носить славу самой ужасной из всех тюрем Российской империи. Слава шла из глубины веков — ведь где–то под стенами крепости покоились останки десятков казненных и сотен не выдержавших страшного режима «государевой темницы». Это — старая слава. Она закончилась в декабре 1905 года, когда царь, под влиянием нарастающей революционной волны, подписал указ о конце Шлиссельбургской государственной тюрьмы.
Но уже в начале 1907 года над Шлиссельбургом стала всходить новая мрачная слава, когда крепость была переименована во временную каторжную тюрьму.
Эта новая слава ни в чем не уступала прежней. И даже более того — она сделалась как бы официальной. Спешно возводимые и надстраиваемые здания шлиссельбургских тюрем уже не прятались, как раньше, за глухими стенами древней крепости, а возвышались над ними, долженствуя приводить в содрогание каждого, кто плыл пароходом по Неве. Новый Шлиссельбург рассматривался царским правительством как своеобразный памятник в честь победы, одержанной над революцией 1905 года.
Вторая мрачная слава Шлиссельбурга была во многом связана с именем начальника тюрьмы Зимберга — тридцатипятилетнего белобрысого остзейца, служившего до этого в Петербургском доме предварительного заключения. Если в других тюрьмах избиения и надругательства были основной мерой воздействия на политических противников царизма, то хитрый Зимберг учел особенности Шлиссельбурга и избрал другой метод. Ведь остров был расположен слишком близко к столице, и факты рукоприкладства быстро станут достоянием широких кругов. Иное дело — карцер. В крепости их, слава богу, хватает. В каждой из семи башен столько холодных каменных мешков, что одновременно можно отправлять туда десятки заключенных.
Именно Зимберг разработал целую систему использования светлых и темных карцеров для перевоспитания вверенных ему государственных преступников и с немецкой педантичностью проводил ее в жизнь.
Каждого прибывшего в крепость он первым делом пропускал сквозь темный карцер. Срок — неделя, две, четыре. В зависимости от характеристики, от статьи приговора, от поведения при встрече, от настроения начальника тюрьмы… Причина? Ты спрашиваешь о причине? Ты дерзишь начальнику? Вот это и есть вполне достаточная причина…
В темном карцере через три дня на четвертый зажигался свет, чтоб провинившийся мог уже не на ощупь познакомиться с грязными стенами, с надписями на них, увидеть и оценить всю безысходность своего положения. В «светлые дни» полагалась и горячая пища, но для заключенных в башенных карцерах такие «льготы» считались необязательными.
Если ты не выдержишь, впадешь в отчаяние и тебе надоест жить, то у Зимберга предусмотрено и это. Для отчета ему нужны живые, а не мертвые. Ни кандального ремня или подкандальников, ни портянок или носового платка, ни полотенца или очков — ничего этого в карцере не полагалось. Если хочешь умереть, разбегайся в кромешной тьме и бейся головой в глухую стену, как сделал это севастопольский матрос Агафон Глотов во время шестой отсидки чуть ли не подряд.
Вот когда посидишь в таком карцере раз, другой, третий, схватишь куриную слепоту или чахотку, то и возвращение в одиночный корпус, по мысли Зимберга, за счастье почитать станешь. А мало покажется тебе — на столе начальника снова появится дисциплинарный листок, на котором он аккуратно выведет три слова «утверждаю тридцать суток» и поставит свою подпись…
— Вы–то сами в крепости отсиживаться намерены или бороться? — спросил Генкин Анохина, когда рассказ о карцерах подошел к концу. Заметив недоумение на лице молодого каторжанина, он пояснил:
— На каторге люди по–разному сидят. Даже политические… Все свободы ждут, но одни — отсиживаются, дни считают, другие — борются. Зачем — спросишь? Чтоб еще хуже не стало, чтоб облик человеческий не потерять, чтоб интерес к жизни не утратить. У вас срок малый, вы и без борьбы можете выдержать. А тем, кто по первому или по второму разряду, без борьбы нельзя. Десять лет в отсидке не вытянуть, духа не хватит.
— Я тоже отсиживаться не собираюсь, — с обидой произнес Петр, уловив в словах Генкина оттенок скрытого упрека.
— Погодите, не торопитесь… Мне было бы приятней услышать это, когда вы недельки две в карцере у Зимберга проведете…
— Выдержу, не бойтесь…
— Ну–ну… А теперь — рассмотрим вторую особенность Шлиссельбурга. Это будет уже приятный разговор… Книги, книги… Наверное, даже ученый человек не имеет большего права на благодарность книгам, чем наш брат, каторжанин. Через два года и восемь месяцев вы, молодой человек, вспомните эти мои слова и будете их вспоминать не один раз. Даже если вы неграмотный! Даже если вы не любите читать!
— Я люблю читать.
— Тогда тем более…
…Да, это было великое счастье, что еще со времен узников–народовольцев, за каменными стенами, куда слабые отзвуки жизни проникали с огромным запозданием, выросла, постепенно накапливаясь, отличная библиотека. Нет, не за счет казны, не из смет главного тюремного управления пополнялось это удивительное собрание книг, где под благонамеренными титулами и переплетами таились сочинения Герцена и Плеханова, Салтыкова–Щедрина и Кропоткина. Ведь в российских тюрьмах того времени даже беллетристика считалась запретной. Право читать было куплено народовольцами долгой изнуряющей борьбой, ценой мучительных голодовок, истязаний и карцеров. Поэтому для каторжан нового Шлиссельбурга не было более священной обязанности, чем беречь это завоевание от посягательств администрации. Тюремная библиотека стала ареной постоянной политической борьбы, символом свободы и непокорности, тем общим делом, которое объединяло политических заключенных всех мастей и оттенков в единую силу, поддерживало у каждого чувство солидарности и товарищества.
Как и сама тюрьма, библиотека в Шлиссельбурге переживала второе рождение. Значительная часть книг, собранных народовольцами, в 1906 году, при ликвидации старой тюрьмы, оказалась в руках департамента полиции и пропала безвозвратно.
Начинать приходилось с малого. Несколько десятков оставшихся книг при создании новой тюрьмы размещались на лестничной площадке одиночного корпуса, под придирчивым и неусыпным оком старшего надзирателя. Настойчивость и самоотверженная борьба политических каторжан привели к тому, что администрация вынуждена была выделить под библиотеку одну из камер нижнего этажа и передать заведывание самим заключенным.
Началось бурное, удивительное по находчивости возрождение шлиссельбургской библиотеки. Оно продолжалось и во время пребывания в крепости Петра Анохина.
Когда в июле 1912 года Петр, просидевший в крепости более двух с половиной лет, вышел за ворота Государевой башни, чтоб отправиться на вечное поселение в Сибирь, вместе с охватившим его чувством радости, что наконец–то страшная каторга позади, что он выдержал, что ждет его пусть относительная, скованная пока кандалами и ограничениями, но все–таки большая свобода, он пережил и горечь утраты того ценного и незаменимого, что давали ему новые друзья и книги. Пока пароход пересекал Неву, он глаз не сводил с удалявшейся крепости и думал лишь о них — о друзьях и книгах. Друзей он вынужден был покидать в большой беде — в дни самого длительного и массового протеста, когда триста заключенных одновременно были переведены на карцерное положение.
А книги он оставлял непрочитанными — из нескольких тысяч томов он едва ли прочел три сотни!
…Все это было потом. А когда в пересыльной тюрьме Петр слушал рассказы Генкина, он верил и не верил услышанному. Многое тогда казалось невероятным, и ему больше всего хотелось, чтоб все было правдой. Пусть будут жуткие карцеры, пусть! Но пусть будет и право читать, и книги, и «камерные коммуны», и кружки́, и непоколебимая солидарность всех узников.
Вот почему Петр до сих пор запомнил испытанное им чувство облегчения, когда по команде «Бегом, парами!» они с Фейгиным бросились в глубину темного свода и все подтвердилось: бег, громыхание кандалов, крутой поворот и цепкие руки стражи, подхватившие их по другую сторону стены.
2
Даже у педантичного Зимберга бывали исключения из правил.
Одно из них выпало на долю Петра, которого не повели к начальнику, не бросили в карцер, а после перековки кандалов и заполнения бумаг доставили в одиночную камеру третьего корпуса.
Вызвано это было тем, что в крепости вторую неделю работала комиссия из Петербурга, ведшая расследование по доносу о готовящемся массовом побеге.
Донос оказался ложным. Вообще, хотя мысль о побеге никогда не перестает будоражить сознание каторжанина, бежать из Шлиссельбурга представлялось почти невозможным. Строжайшая внутренняя и наружная охрана, шестиметровые глухие стены крепости, широкая река, омывавшая остров, делали любой, даже самый дерзкий план трудно выполнимым.
И все же попытки побегов были. Одну из них можно назвать даже удачной, так как беглецов поймали лишь через три месяца. Это стоило им двух лет тщательной подготовки к побегу и в итоге — вечная каторга, сочетавшаяся с безудержной местью со стороны надзирателей за убитого беглецами охранника!
Страх перед возможностью побегов был в Петербурге сильнее, чем в самой крепости. Поэтому каждый сигнал проверяли долго и тщательно. Приезжали высокие чины, и Зимбергу волей–неволей приходилось сдерживать на время свой метод карцерного воспитания.
Естественно, ничего этого не мог знать Петр. В том, что его не направили сразу в карцер, он усмотрел прежде всего отступление от того, что рассказал ему Генкин, и это заставило его нервничать. Опять же и обед дали заметно лучший, чем он ожидал. Не собираются ли здешние тюремщики подкупить его этим, оторвать от всей остальной «бастилии»?.. Ну–ка, проверим!
Петр отчаянно замолотил в дверь.
— Стучать у нас запрещено! Что тебе? — сквозь окошко в двери спросил надзиратель.
— Мне нужны книги.
— Книги выдаются только по субботам.
— До субботы еще три дня. Мне сейчас нужны книги. Если не дадите мне книг, я стану стучать.
Надзиратель, захлопывая окошко, так выразительно поджал губы, что Петр не сомневался — сейчас он откроет дверь камеры и попробует кулаками закончить разговор.
Но дверь отворилась минут через десять, и вошел не надзиратель, а обрюзгший, лысоватый пожилой человек с офицерскими погонами. Петр по наивности принял его за Зимберга, однако это был его помощник — кавказский князь Гурамов, пьяница и несчастливец, ненадолго оказавшийся в должности ему совершенно неподходящей.
— Что вам угодно? — тихо и даже робко произнес он.
— Мне нужны книги.
— Но позвольте… У вас есть книги… Вот на столе.
На столике действительно лежали две книги духовного содержания из тех, что поставлял в крепость нравственно–богословский кружок мадам Вороновой.
— А вы стучите, будоражите весь корпус… Совершенно излишне… Полагаю, вам известно, что у нас работает комиссия, а вы мешаете… Никаких оснований для этого не вижу.
— Мне нужны настоящие книги.
— Других вновь прибывшим не полагается. Таков у нас порядок.
— Эти книги я уже читал в пересылке. Если вы не дадите мне других, я выйду из повиновения, — настойчиво повторил Петр, решив сразу заявить о своем характере.
Последние слова дали совсем неожиданный результат. Гурамов неловко поежился, оглянулся на дверь, потом сожалеюще покачал головой:
— Напрасно вы произнесли свою угрозу… Весьма напрасно… О ней я должен доложить господину начальнику… Вы пользуетесь моментом, но будете весьма сожалеть об этом.
Гурамов ушел. Через несколько минут явился злой, как черт, надзиратель и, грубо подталкивая сзади, повел Петра вниз. Петр еще не знал, куда его ведут — в карцер или в библиотеку, но это его мало теперь беспокоило. Важно, что в первой стычке с тюремщиками он все–таки не сдался. Пусть не думают, что он намерен здесь отсиживаться и покорно сносить все посягательства на свой законные права.
К счастью, привели в библиотеку, и это еще более окрылило его.
Библиотека помещалась в одной из самых просторных камер нижнего этажа, где находилась и переплетная мастерская. Петр угадал это сразу же, как только открылось окошко в двери — по знакомому запаху клея, по стопкам плотного картона у стены и по ручному прессу, какими еще недавно пользовались у них в губернской типографии.
Работающих никого не было видно. Из–за книжной полки вышел невысокий тихий каторжанин в кандалах. Благодаря бороде, очкам и неторопливой внимательности взгляда он походил на ученого старца, какими представлял их себе Анохин.
— Выдай ему книги! — резко произнес надзиратель, уступая место у окошка Петру и отходя к сослуживцу, дежурившему неподалеку.
— Вам нужны книги? — спросил ученый.
— Да.
— Кого вы хотели бы?
Петр смещался. Он и сам не знал, что ему нужно. Назвал первое, пришедшее в голову, — сочинения Льва Толстого.
Ученый улыбнулся, и тут Петр увидел, что он далеко еще не старец, а совсем молодой человек — бледный, измученный, но без единой морщинки на исхудавшем лице.
— Льва Толстого не держим. Могу предложить его однофамильца графа Алексея Константиновича Толстого. Роман «Князь Серебряный» популярная книга. Вы — политический?
— Да.
— Какая статья?
— Двести семьдесят девятая с помилованием.
— Здесь по какому разряду?
— По третьему. Два года восемь месяцев.
— Давно прибыли?
— Сегодня.
— О! И вам сразу разрешили книги! — Библиотекарь с любопытством оглядел Анохина. — Если не читали, рекомендую «Князя Серебряного»… Имеем много научной литературы по географии, астрономии, биологии и даже истории. Есть словари иностранных языков.
Петр выбрал «Князя Серебряного» и «Популярную астрономию» Фламмариона. Вот сейчас библиотекарь снимет с полки книги, запишет их и все кончится. Хоть бы еще минутку–другую постоять у окошка, перекинуться парой слов с этим милым, судя по всему, очень умным человеком. Но нет, не удастся. Надзиратель уже остановился на полдороге между Анохиным и сослуживцем, заканчивая свой разговор.
— На воле я служил в типографии, — торопливо произнес Петр, и сразу же покраснел от прозрачности своего намека.
Библиотекарь заинтересованно посмотрел на него|
— С переплетным делом знакомы?
— Да, приходилось…
— Хорошо, учтем. Скоро переплетной работы должно прибавиться.
Книги были выданы на руки надзирателю. Тот тщательно осмотрел их, полистал, потряс и лишь потом передал заключённому.
— Читай! Наслаждайся! Только дорого тебе это обойдется! Иди–иди, чего бычишься. Руки вперед, кандалами не греметь, смотреть только перед собой! Развелось тут вас, книжников!
…Так Петр Анохин, пока еще сам того не зная, впервые встретился с каторжанином Владимиром Лихтенштадтом — человеком удивительной судьбы, огромных познаний и неукротимой энергии, знакомство с которым не прошло бесследно для многих из шлиссельбургских узников.
Сын состоятельных, родителей и племянник царского сенатора, Владимир Осипович был схвачен в 1907 году по делу «Об экспроприации в Фонарном переулке» через две недели после того, как восемь других максималистов–террористов были осуждены и повешены. Это, видимо, и спасло молодого ученого от участи своих товарищей, вместе с которыми он готовил взрыв на даче Столыпина. Петербургский военно–окружной суд вынес ему смертный приговор, который был заменен пожизненной каторгой.
Несколько месяцев Владимир Лихтенштадт провел в одиночных казематах Петропавловской крепости, ожидая исполнения казни и ни на минуту не прекращая работы по переводу на русский язык научной книги.
Потом — Шлиссельбург… Это он воспринял, как праздник, как возвращение к жизни, к людям. Неслучайно, с мая 1908 года не было в крепости ни одного коллективного начинания или дела, активным участником которого не являлся бы Владимир Лихтенштадт. Мягкий характером, чуткий и отзывчивый на каждую просьбу товарищей — он пользовался авторитетом не только у политических, но и у уголовников, За это ему мстили надзиратели — холодно, расчетливо и жестоко. Отчаявшись сломить его непреклонный дух, делали все, чтобы подорвать в темных карцерах его здоровье. Если бы не активное вмешательство матери, добившейся приема в самых высоких сферах Петербурга, Владимир Лихтенштадт, ставший позднее последовательным марксистом–большевиком, навряд ли дожил бы до дня освобождения в феврале 1917 года.
Венцом его жизни была героическая гибель в боях с Юденичем в 1918 году на посту комиссара 6‑й дивизий Красной Армии.
Жизнь Владимира Лихтенштадта — необыкновенна и поучительна. Но она не представляла собой какое–то исключение. Ведь рядом и одновременно с ним томились в шлиссельбургских застенках такие люди как Серго Орджоникидзе, Борис Жадановский, Павлин Виноградов, Федор Петров, жизненный путь которых — это цепь героизма, самоотверженности и революционной непреклонности. А десятки других менее известных?
Сказать обо всех невозможно. Но каждый из бывших узников, вспоминая потом о шлиссельбургской каторге, рассказывая о той школе революции и борьбы, которую, он там прошел, с особой благодарностью говорит о книгах, о тюремной библиотеке и об одном из ее организаторов — Владимире Лихтенштадте.
Через полвека, прежде чем начать рассказ о своем пребывании в Шлиссельбурге, старейший член коммунистической партии профессор Ф. Н. Петров писал:
«Много хороших слов о книге сказано. Ее благодарят великие писатели и мыслители, прославленные полководцы и музыканты, всемирно известные живописцы и политические деятели, ученые всех отраслей. Ее горячо благодарят сотни миллионов людей.
Присоединяю к ним свой голос и я.
— Спасибо вам, умные книги. Как хорошо, что вы есть на свете!»
В те годы шлиссельбургской библиотекой пользовались сотни заключенных, но лишь узкий круг политических каторжан знал о том, каким образом пополняется она запрещенными не только в тюрьме, но и на воле изданиями.
К этому делу Владимир Лихтенштадт привлек свою мать — энергичную и предприимчивую Марину Львовну, которая после осуждения сына на пожизненную каторгу посвятила свою жизнь тому, чтобы хоть как–то облегчить его участь.
Тюремное управление постоянно ломало голову над тем, чем занять сотни бесплатных рабочих рук, без пользы пропадающих на острове. Строительство новых тюремных зданий в Шлиссельбурге, предпринятое в 1908–1911 годах, было делом временным, и оно, главное, не давало прямого дохода царской казне. Выхода искали в развитии ремесел — брали подряды на столярные, жестяные и скорняжные работы.
Тогда–то и пришлось по сердцу тюремному управлению предложение широко наладить переплетное дело. Благо нашлась выгодная и постоянная заказчица.
Марина Львовна не жалела денег и времени. Она разъезжала до Петербургу, собирала заказы у книгоиздательских фирм и букинистов, уговаривала, упрашивала, не стояла за ценой и добилась своего. Переплетная мастерская в крепости начала разрастаться, а заказы ей были столь выгодны, что кое–что стало перепадать и в карман Зимбергу.
Так были открыты возможности для проникновения на остров запрещенных книг, список которых по согласованию с товарищами составлял Владимир Лихтенштадт. Для вида тюремная библиотека пополнялась новыми ворохами самых благонамеренных изданий, проходивших без труда строгую цензуру. Через месяц–другой под их обложкой, узаконенной штампом дозволения, уже скрывались сочинения европейских философов, русских революционных демократов и современных партийных публицистов. На каждой из таких книг появлялся свой знак — бубновый туз, предупреждающий библиотекаря, что этот том можно давать лишь проверенным товарищам.
Конспирация была налажена так ловко, что держалась почти десять лет. Лишь в феврале 1917 года одна из «переодетых» книг случайно попала в руки уголовнику де Ласси, который тут же донес об этом по начальству. Администрация была потрясена, но принять каких–либо крутых мер она не успела — 28 февраля 1917 года ворота Шлиссельбурга были распахнуты, и страшная каторжная тюрьма была уничтожена навечно.
Однако в те далекие теперь времена, когда Петр Анохин только что поступил в Шлиссельбургскую крепость, ничто для каторжан не проходило в ней безнаказанно.
Через три дня, как только с острова отбыла следственная комиссия, в камеру к Анохину явился надзиратель и приказал следовать за ним. Они спустились во двор третьего корпуса, через узкую калитку в каменной стене вошли на территорию старой тюрьмы — цитадели, с которой собственно когда–то и зачиналась крепость, миновали ее и остановились у входа в круглую Светличную башню.
Арестантский халат плохо укрывал от жгучего январского мороза. Петр успел озябнуть до дрожи в зубах, и в те минуты ему больше всего на свете хотелось поскорее войти за эти мрачные башенные стены, чтоб укрыться от знобящего ветра.
Тогда он шел в карцер впервые и не знал еще, что зябнуть, дрожать и лязгать зубами ему придется все тридцать суток… Генкин, наверное, сиживал в карцерах в летнее время, и поэтому не рассказал о самом главном карцерном испытании — о холоде. Сама процедура водворения в карцер не заняла и пяти минут. Явился карцерный надзиратель, открыл дверь, и последовали один за другим приказы:
— Вынуть подкандальники!
— Отвязать кандальный ремень!
— Снять портянки!
Короткий для вида обыск, толчок в спину, скрип запираемой двери и — кромешная тьма вокруг.
Двигаясь на ощупь вдоль сырых осклизлых стен, Петр установил, что карцер представлял собой выгороженную в цилиндрической башне площадку неправильной формы, одна стена которой была прямой, а вторая — полукруглой. Пол каменный, и ничего на нем, кроме низкого дощатого помоста для спанья, не было. Пахло сыростью, плесенью и грибами.
В первую минуту показалось, что в карцере тепло, но озноб не проходил. Не кончился он и через час, и через два. Желание хоть как–то согреться преследовало неотступно. Сначала заставляло кутаться в успевшую отсыреть одежду, а потом, когда стала очевидной безрезультатность этого, вынуждало день и ночь двигаться по камере, до крови растирая кандалами ноги.
«День и ночь» — это условно. Дня там никогда не было. Была ночь — долгая и кошмарная, когда хочешь очнуться и не можешь.
Тьма и тишина доводили до исступления. Перед глазами плавают, расползаясь в стороны, желтые круги, и все время кажется, что вот сейчас они действительно разойдутся и впереди замаячит свет. Потом этот призрачный свет рождал галлюцинации, которые уже не оставляли человека до конца его пребывания в карцере.
Каждые четвертые сутки высоко под потолком загоралась лампочка, и надзиратель приносил горячую пищу. Лампочка была совсем тусклой, а пища успевала остыть, пока несли ее по морозу, но все это воспринималось, как чудо, как продолжение галлюцинаций. Узник ошалело озирал глухие грязные стены, радуясь и не веря в реальность происходящего.
В один из таких «светлых» дней Петр подумал о том, насколько относительно представление человека о счастье, если лампочка под потолком и остывший суп с куском черного хлеба могут приносить такую радость.
Подумал, и сам испугался своих мыслей. Надзиратель стоял у двери и наблюдал. Неужели он заметил, с какой жадностью набросился Петр на еду? Ведь все эти карцеры и были придуманы, чтоб каторжане смогли оценить прелести теплой и светлой камеры в корпусе. А разве сама каторга существует не для того, чтобы люди тосковали по воле?
Покончив с едой, Петр поднялся с помоста и решительно потребовал вывести его на прогулку, которая, как он знал, полагалась в «светлые» дни.
Надзиратель был удивлен до крайности.
— На дворе мороз, — пояснил он, не обратив внимания на недозволенную категоричность требования.
— Все равно, я требую прогулки.
Если бы не пришла в голову постыдная мысль об относительности счастья, Петр и сам не стал бы проситься на мороз. Хватало холоду и здесь. Но теперь — иное дело.
Пусть эти сатрапы не думают, что их темные карцеры могут смирить его…
Вероятно, в другую погоду и надзиратель повел бы себя по–иному. Ведь в башенных карцерах прогулки зависели от его желания. Но коль этому дерзкому мальчишке хочется прогулки, он ее получит, только пусть потом не жалуется. Не пятнадцать минут, а целые полчаса медленно, водил надзиратель Петра по заснеженному прогулочному двору, ожидая, пока тот совсем окоченеет и сам попросится снова в карцер. Ведь заключенный был и без верхней одежды и без подкандальников, а в просторные тюремные коты напробоску доверху набилось снегу.
Это было молчаливое единоборство, и Петр решил во что бы то ни стало его выиграть. Он уже не чувствовал ни рук, ни ног, его колотила такая дрожь, что хотелось ткнуться головой в сугроб, свернуться калачом и хоть как–то укрыться от леденящего ветра.
Он слабо помнил, как добрел до двери карцера, как опустился на помост, чтобы вытрясти снег из котов, как захотелось ему лечь, и он уже не мог совладать с этой непозволительной слабостью. В попытках согреться, он ежился, задирал на лицо рубаху, дышал в нее и впервые за трое суток дрожь вроде бы прошла, даже сделалось как–то жарко и душно. Он еще успел обрадоваться этому и решил заснуть, а дальнейшее он уже не помнит.
Очнулся Петр в тюремном лазарете с тяжелым воспалением легких, когда кризис уже миновал, а полупьяный лазаретный фельдшер был крайне озадачен таким исходом, так как успел послать в столярную мастерскую заказ на гроб.
Так для Петра Анохина началась вторая каторжная школа — наука ненависти, непримиримости и стойкости. Ее он проходил долго — два с половиной года там, пять лет в ссылке, да собственно, не будет у нее, видно, конца до тех пор, пока не победит мировая революция.
…Нет, не пользовался Петр Анохин «особой милостью на путях монаршего милосердия». Совсем не пользовался. Никогда.
И если каторга и ссылка не ожесточили до крайности его сердце, не подавили то хорошее, что жило в нем с мальчишеских лет, а наоборот — развили и укрепили веру в добрые начала жизни, дали знания, опыт, сноровку, то обязан он этим своим товарищам по борьбе и несчастью.
Среди нескольких сотен каторжан Шлиссельбургской крепости их было совсем не много. На каждого политического приходилось по семь–восемь уголовников. Но именно «политики» определяли весь тонус жизни каторжного острова.
Их разъединяли по корпусам, сортировали по разным камерам, прятали по одиночкам, но «бастилия», как в шутку называли они свое тюремное сообщество, жила. Более того, даже отъявленные бандиты и убийцы из уголовников вынуждены были смирить свои нравы и уступить руководство камерной жизнью «политикам».
Мужество и непреклонность политиков приводила в изумление самих тюремщиков. Офицер Борис Жадановский, приговоренный к вечной каторге за участие в восстании киевских саперов, пробыл в Шлиссельбурге пять лет и провел в карцере 118 суток. От него надзиратели добивались немногого — чтоб при входе начальства в камеру он вставал и приветствовал его традиционным «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!». Жадановский в ответ требовал, чтоб со всеми политическими заключенными надзиратели обращались вежливо, только на «вы», и не унижали их человеческого достоинства. В итоге — карцер, карцер, карцер…
Борьба продолжалась не месяцы, а годы. Тюремщики никак не могли поверить, что им не удастся сломить этого малорослого, хилого здоровьем и совсем еще юного подпоручика. Из карцера его бросали в камеры, где содержались самые отпетые типы из уголовников, которых специально науськивали проучить «бывшего офицерика». Через неделю и в этой камере надзиратели могли наблюдать знакомую картину — окруженный плотным кольцом узников Жадановский страстно и горячо рассказывал о революции или читал им какую–нибудь книгу. В Шлиссельбурге сам Борис Петрович стал убежденным марксистом и одним из лучших пропагандистов.
Все чаще карцеры заканчивались для него лазаретом.
В тот день, когда подвыпивший фельдшер горько сетовал на свою оплошность с Анохиным, лазарет посетил Зимберг, Как всегда, он явился неожиданно, не успели даже вызвать доктора. Начальник оглядел все восемь коек и каждому больному задал один и тот же вопрос!
— Как чувствуешь себя?
Большинство не находило сил для разговора и лишь слабо кивало головами. За всех отвечал фельдшер, державшийся на почтительном расстоянии:
— Крепок, ваше высокоблагородие! Жив будет!
У последней койки начальнику пришлось задержаться.
— A–а, господин Жадановский! Ну как ты? Не пора ли снова в карцер?
Больной даже не посмотрел на Зимберга.
— Я тебя спрашиваю! — повысил тон начальник.
— Он крепок, ваше высокоблагородие! — подал голос фельдшер, с трудом подавляя икоту.
— Молчи! Я не с тобой разговариваю!
— Простите, — повернулся к начальнику Жадановский, — вы спрашиваете меня?
— Кого же еще?
— Тогда будьте любезны обращаться на «вы».
— Это почему еще? Почему я должен делать тебе исключение?
— Потому что я не считаю вас своим столь близким другом, чтоб позволить называть себя на «ты».
— Ах, вот как! Опять за старое… Фельдшер! Немедленно — дисциплинарный рапорт. Две недели карцера после выписки!
— Слушаюсь!
Жадановский, как будто это его не касалось, продолжал смотреть вверх, и ни один мускул не дрогнул на его измученном курносом, но полном внутреннего достоинства лице.
Анохин после выписки из лазарета был направлен к уголовникам, в общую камеру второго корпуса. Вскоре из карцера туда же на короткое время был доставлен и Жадановский. Там они познакомились, сдружились и уже не теряли из вида друг друга до последних дней пребывания в Шлиссельбурге.
Потом встречались они не часто — лишь на общих работах по достройке четвертой тюрьмы или изредка в переплетной мастерской, куда бунтарей назначали не очень охотно, несмотря на все старания Лихтенштадта. Однако было у шлиссельбургских каторжан два заветных места, к которым они прибегали в тех случаях, когда надолго оказывались оторванными друг от друга.
Первое — крепостная церковь. Попасть туда по субботам было совсем не трудно, стоило лишь изъявить желание. Во время богослужения там всегда можно перекинуться несколькими фразами с нужным тебе человеком. И все же к этой мере общения «политики» прибегали крайне редко, считая ее унизительной.
Другое дело — тюремная баня. Туда водили партиями. И если тебе посчастливилось встретиться там с нужным товарищем, то можешь наговориться с ним всласть. А если и не повезло, то в тайном «почтовом ящике» смело оставляй записку, — она обязательно попадет адресату.
Записки были короткими, всего несколько фраз, иногда ничего не сообщающих и лишь подбадривающих — «держись, дескать, друг». Но какую радость доставлял сам факт их получения! Особенно, если пишет тебе такой известный всей «тюремной братии» человек, как Борис Жадановский или уважаемый всеми доктор Петров из третьего корпуса.
13 июля 1912 года для Анохина истекал срок пребывания на каторге. С этого дня он перечислялся в разряд ссыльно–поселенцев. А за две недели начались события, которые надолго всколыхнули весь Шлиссельбург.
«Бастилия» забастовала.
Поводом послужили усилившиеся надругательства над человеческим достоинством заключенных. Во время одной из проверок помощник начальника тюрьмы обозвал одного из политиков «коровой» и в ответ на коллективное требование извиниться разразился потоком брани.
Камера дружно поднялась с протестом. Тут же она вся целиком была объявлена на карцерном положении.
В ответ грянула песня.
Песня «Нас давит, товарищи, власть капитала» вырвалась в тюремные коридоры. Ее подхватили в других камерах, и вскоре пел уже весь корпус. Одна песня сменяла другую, их звуки донеслись до соседних корпусов, и, хотя там еще ничего не знали, чувство солидарности сделало свое дело. Вскоре пела вся тюрьма, весь остров. Звуки неистового хора разносились в тишине белой ночи над Невой, будоража население маленького обывательского городка на левом берегу реки и рабочих пороховых заводов — на правом.
Администрация бесновалась. Все карцеры давно уже забиты до отказа, триста заключенных переведены на карцерное положение в своих камерах, а пение не прекращалось.
Это был самый массовый и самый дружный протест за всю историю шлиссельбургской каторги. О его истинных причинах начальство не догадывалось. А ведь тюрьма в своей незримой глубине бурлила уже не первую неделю.
Еще в конце мая — начале июня в крепость из разных источников просочились слухи о Ленском расстреле. Через почтовый тайник подробности массового убийства рабочих были сообщены в каждую камеру, и они потрясли даже уголовников. О протесте пока не сговаривались, не назначали сроков, но он зрел — это чувствовалось по всему.
Незадолго Петр, вновь сидевший с уголовниками в «зверинце», получил сразу две записки. Первую от «доктора».
«События в Сибири всколыхнули всю Россию. Даже правительство вынуждено начать расследование этого преступления. Газеты пишут о непрекращающихся рабочих волнениях. Поднимается новая волна… Подробности в «зверинце» у Марголина, в «сарае» у Балабина, в четвертом корпусе у Петровича».
Такие записки «доктор» отправил, наверное, во многие адреса.
Жадановский и Лихтенштадт писали Петру вместе:
«Твой срок скоро заканчивается. Остерегайся и помни — на воле каждый из нас нужней. Хорошо бы увидеться в эти дни. Если нет — счастья тебе и удачи».
Увидеться им больше не довелось. В самом начале протеста Жадановский и Лихтендшадт были заключены в общий карцер второго корпуса, где, несмотря на угрозы порки, вместе с товарищами не прекращали пения. Это длилось целую неделю — в темноте, на воде и хлебе, пока не осипли их голоса, пока голод не обессилил протестующих, а страшная духота и спертый воздух не привели их в лазарет.
Петр протестовал вместе с уголовниками. Долго петь им не пришлось — уголовникам быстро надоела эта канитель, но они с удовольствием избрали свою форму протеста. Пользуясь жарой, разделись донага и при входе надзирателя дружно ложились на пол.
К счастью, карцеры были переполнены политическими, и у начальства не оставалось ничего другого, как не замечать этих вольностей.
Да, в трудную пору покидал Петр Анохин своих товарищей по каторге, которые продолжали борьбу и после его отъезда. Уже в Сибири, через несколько лет, он узнал, что «песенный протест» вскоре сменился более организованным, что тюремному начальству были предъявлены требования из 17 пунктов, в результате чего четырнадцать политических были спешно переброшены в Орловский централ, славившийся на всю Россию жестокими порками, избиением и издевательствами.
Среди переведенных был и Борис Жадановский. Где–то он сейчас?
Два месяца назад в Петрограде Анохин неожиданно встретил Лихтенштадта. Во главе отряда красногвардейцев он шел по Суворовскому проспекту в сторону Смольного. Долго говорить не пришлось — оба спешили. Но Владимир — все такой же мягкий, искренний, душевный — успел сообщить, что Жадановский жив, что он выдержал все муки и истязания, но опасно болен и теперь лечится где–то в Крыму.
Для обоих это была огромная радость. Они стояли, смотрели друг на друга и улыбались тому; что и они вот тоже живы, что довелось им и свидеться, что встретились они хотя и в тревожные, но в общем–то счастливые дни, а то, что было там, в прошлом, то о нем и вспоминать им не к чему — оно и так никогда не забудется.
IV Доверие
«Настоящим свидетельствуется, что предъявитель сего тов. Анохин Петр Федорович с начала 1918 года по май месяц 1921 года действительно состоял на посту Председателя Олонецкого Губернского Исполнительного Комитета.
Самым ярким и верным показателем его неоценимых заслуг делу революции, интересов рабочих и крестьян служит тот факт, что на протяжении этих трех лет, во время восьми состоявшихся Губернских съездов Советов его кандидатура первой и единогласно проводилась в состав членов Губисполкома…»
(Партархив Карельского ОК КПСС, ф. 3, св. 860, д.2, л. 3.)1
В конце февраля железнодорожники станции Петрозаводск избрали Петра Анохина депутатом Олонецкого губернского Совета, в составе которого к тому времени начала резко обостряться политическая борьба между большевиками и левыми эсерами.
Камнем преткновения служил вопрос о войне и мире.
В октябре 1917 года левые эсеры, выделившись в самостоятельную партию, пошли на соглашение с большевиками. Они входили в состав ВЦИКа, Совета Народных Комиссаров, в местные Советы. В начале они даже поддерживали ленинскую политику скорейшего окончания войны. Однако, когда на переговорах в Бресте выяснились захватнические аппетиты милитаристских кругов Германии, левые эсеры заколебались, стали хитрить, уклоняться, искать каких–то третьих путей в войне и мире и в конце концов решительно выступили против подписания Брестского договора.
Обстановка осложнялась тем, что в составе Центрального Комитета большевистской партии не было полного единодушия по вопросам войны и мира. Группа «левых коммунистов» во главе с Бухариным выдвинула авантюристический лозунг ведения против Германии «революционной войны» с расчетом на интернациональную помощь международного и, в первую очередь, немецкого пролетариата. Троцкий в нарушение инструкций Совета Народных Комиссаров и ЦК партии сорвал переговоры в Брест–Литовске.
18 февраля немцы возобновили наступление. Авантюристическая политика «левых» привела к тому, что условия нового мирного договора, подписанного в Бресте 3 марта 1918 года, оказались еще более тяжкими, позорными и унизительными для России.
Ленин понимал, что Брестский договор не может быть долговечным, но мир, как воздух, необходим был молодой советской республике, чтобы создать рабоче–крестьянскую армию, наладить государственный аппарат, справиться с разрухой и голодом, охватившим всю страну.
Брестский мир дал передышку, значение которой было очевидно для всех. Однако и это не помешало политическим противникам большевиков внутри страны и в составе Советов использовать его для обострения противоречий, для враждебной агитации и даже попыток открытых контрреволюционных мятежей…
В Олонецкой губернии, как и в большинстве слаборазвитых в промышленном отношении губерний, левые эсеры представляли собой немалую силу. Спекулируя своей аграрной программой и выдавая себя за единственную выразительницу интересов трудового крестьянства, их партия, внешне сотрудничавшая с большевиками и поддерживающая на словах политику Советской власти, добилась в деревнях большой популярности.
Левые эсеры возглавляли многие уездные Советы, входили в состав каждого комиссариата при губисполкоме. Из тактических соображений они до поры до времени мирились с своим положением на «вторых ролях», выжидая удобного момента и лишь позволяя себе критиковать большевиков со все возрастающим напором.
Заключение Брестского мира подстегнуло их к активным действиям. Они поняли, что декреты Совнаркома, направленные на скорейшую организацию и упорядочение власти на местах, с каждым днем укрепляют позицию большевиков, завоевывают им авторитет и поддержку со стороны рабочих и крестьян.
Первую попытку захватить власть в Олонецкой губернии левые эсеры предпринимают 22 апреля 1918 года, когда по рекомендации Петрозаводского комитета РСДРП (б) большевистская фракция вместо В. М. Парфенова, которого предлагалось оставить губернским комиссаром по народному образованию, выдвинула на пост председателя губисполкома Петра Федоровича Анохина.
2
Валентина Михайловича Парфенова в петрозаводской, большевистской организации любили.
На памяти у многих — тусклый декабрьский день 1917 года, когда на заседание только что созданного объединенного комитета РСДРП (б), вслед за Н. Г. Григорьевым, в комнату вошел неожиданный гость.
— Вот, товарищи, к нам пришел Валентин Михайлович Парфенов. Давно он искал нас, чтобы вступить в нашу организацию…
Тут было чему удивляться. Преподаватель гимназии, зять бывшего горного начальника, интеллигент до мозга костей, окончивший Петербургский университет и охотно принимаемый до революции в самых высших кругах Петрозаводска — и вдруг просит принять его в большевистскую партию.
Парфенов рассказал о себе. Родился в 1884 году. В студенческие годы участвовал в митингах, много читал политической литературы. После окончания университета служил в Петербурге. Неоднократно подвергался обыскам по подозрению в неблагонадежности, в результате чего был переведен на службу в провинцию. После Февральской революции вступил в социал–демократическую организацию, но еще летом разуверился в проводимой меньшевиками политике, пытался выступить против и в результата оказался у них в изоляции… С июля состоит членом Губсовета…
Товарищи выслушали рассказ Парфенова настороженно. Потом депутаты–коммунисты подтвердили, что Парфенов действительно много раз голосовал в Губсовете вместе с большевистской фракцией.
Это решило дело.
Так в Петрозаводской организации большевиков появился первый ее член, имеющий высшее образование.
Ум, образованность и принципиальность Валентина Михайловича проявились после 4 января 1918 года, когда он был выдвинут на пост председателя губисполкома. Умело и самозабвенно занимался он налаживавшем административного и хозяйственного аппарата губернии, особое внимание уделяя своему любимому делу — народному образованию.
В середине марта, когда в Петрозаводске стало известно о соглашении Мурманского Совдепа с военным командованием Антанты, Парфенов сразу разгадал предательскую сущность этой сделки и возглавляемый им губисполком занял твердую ленинскую позицию. При его активном участии в эти же дни в Петрозаводске был ликвидирован контрреволюционный офицерский заговор, во главе которого стоял командир конно–сводного инженерного батальона бывший штабс–капитан Скачков, присланный из Петрограда.
И все же, как это явствует из архивных документов, полного доверия В. М. Парфенову не было. Некоторые коммунисты, особенно из числа левых, никак не могли примириться с мыслью, что бывший представитель привилегированного класса стоит во главе революционной власти.
Однажды Анохин после заседания губисполкома возвращался домой вместе с Егором Поповым. Жили они в разных концах города, но Егор вызвался проводить Петра.
После революции Читарь преобразился, расцвел, во всю мощь развернул свою кипучую неугомонную натуру. На заседаниях в Губсовете брал слово по каждому вопросу, выступал горячо, даже яростно, и в любой проект резолюции считал нужный вносить дополнения. В заводской организации его уважали и считали теоретиком, так как Егор много читал, следил за печатью и усиленно занимался политическим самообразованием.
Была глухая ночь. Неожиданная оттепель разлила по улицам огромные лужи, которые и обходить–то было не просто, так как они подмывали края высоких сугробов. Шли медленно, не торопясь. Читарь не умолкал ни на минуту. Вспомнил он и их последнюю встречу, в мае 1909 года. Вместе посмеялись над наивностью тогдашних суждений, и Егор вдруг сказал:
— Много мусора у тебя в голове было. Хорошо, что ты от него избавился.
Петр и сам отлично понимал это. Но в том, что Читарь счел возможным сейчас говорить об этом не только серьезно, но и назидательно, звучало что–то настораживающее.
Опять поговорили о том, о сем, а при прощании Егор спросил словно бы между делом:
— Да, а как ты, Анохин, относишься к Парфенову?
— Хорошо отношусь… А что?
— Да так… Тебя, Анохин, не удивляет, что такому человеку мы доверили самую высшую власть в губернии?
Если бы Петр ответил, что сам он никогда не задумывался над этим, он сказал бы неправду. Он думал об этом не раз, внимательно наблюдал за Валентином Михайловичем и всегда в итоге радовался, что во главе губисполкома стоит такой умный, образованный, обладающий большой выдержкой и настойчивостью человек.
Пока Анохин раздумывал, собирался с мыслями, Читарь вновь удивил его вопросом:
— Вот ты, Анохин, как живешь? Сколько комнат занимаешь?
— Да ты что, Егор Васильевич? — засмеялся Петр. — Будто не знаешь?
— Вот–вот, — вполне серьезно ответил Читарь и даже глубокомысленно поднял кверху палец. — Ты, бывший политкаторжанин, в одной комнатке с семьей и родственниками ютишься, чуть ли не на полу спишь. А он… Три комнаты имеет. Библиотека, гостиная, рояль, картины на стенах… К лицу ли это советскому руководителю, если он настоящий коммунист? А знаешь ли ты, что он даже старорежимных знакомств не порвал — с этими врачами, учителями, адвокатами? Раскланивается да за ручку здоровкается с этими кадетскими подпевалами прямо на улице…
— Может, это и хорошо, что прямо на улице, — улыбнулся Анохин. — Что ж ему теперь — нос задравши ходить, что ли?
— Ты все шутишь, Анохин. А я вот боюсь, как бы нам гнилую дулю не проглотить… Не зря в народе говорят: «сколь волка не корми…» За такими глаз да глаз нужен. Ну, это я так, к слову… Прощай! Заглядывай в Губсовет почаще, кому и активничать, как не тебе!
Эту настороженность в отношении себя чувствовал и сам Валентин Михайлович. Она ощущалась не только снизу, но и сверху.
В дни переезда Совета Народных Комиссаров в Москву в Петрозаводске была получена телеграмма, в которой Мурманский Совет извещал, что в целях защиты железной дороги от немцев он вошел в соглашение с англо–французами, и требовал беспрекословного ему подчинения со стороны всех комитетов и Советов, расположенных в полосе железной дороги от Мурманска до Званки.
Неожиданная телеграмма из Мурманска поставила Олонецкий Губсовет в трудное положение. Распорядившись о срочном созыве заседания губисполкома, Парфенов попробовал связаться с Москвой, но вызвать к прямому проводу В. И. Ленина не удалось. Не теряя времени, он попытался соединиться с Н. И. Подвойским в Петрограде. Подвойского тоже не оказалось на месте. К аппарату подошел его секретарь Лурье.
Изложив суть дела, Парфенов в самом срочном порядке попросил подтвердить — даны ли Советом Народных Комиссаров столь широкие полномочия Мурманскому Совету?
Ничего определенного секретарь Подвойского ответить не мог.
— В таком случае, — продиктовал Парфенов, — просим немедленно же снестись по этому вопросу с товарищем Лениным и ответ его передать нам, ибо от этого зависит дальнейшая наша судьба, и ответ дайте до десяти, в крайнем случае до одиннадцати часов вечера сегодня. Он будет иметь решающее значение.
— Постараюсь все сделать. Если к одиннадцати ответа не будет, то полагаю, что выход вам подскажут ваш революционный опыт и обстоятельства на месте, — закончил разговор секретарь.
До глубокой полночи сидели члены Олонецкого губисполкома, ожидая ответа и строя различные предположения о причинах его задержки.
Медлить было нельзя. На повторные запросы в Петров град комиссар штаба Петроградского военного округа Б. П. Позерн неожиданно передал: «Мурманский Совет правильно ссылается на распоряжение Троцкого». И как личное замечание Парфенову, добавил: «Прекратите паниковать».
И все же Олонецкий губисполком поступил так, как подсказывал ему «революционный опыт».
В ту ночь он принял постановление.
«Признать, что заключение Мурманским Советом соглашения с правительственными агентами англо–французов противоречит общему направлению политики рабоче–крестьянской России». «Революционный опыт» не подвел. Через некоторое время предательская роль Мурманского совдепа стала очевидна.
Но не прошло и месяца, как Парфенов был вынужден обратиться в губисполком с официальным заявлением, в котором просил разобраться с возводимым на него обвинением со стороны Б. П. Позерна в том, что он, Парфенов, якобы состоял при выборах в Учредительное собрание в списках кадетов.
12 апреля 1918 года Олонецкий губисполком рассматривал это заявление. Для большинства оно прозвучало словно гром среди ясного неба. Весь 1917 год Парфенов провел в Петрозаводске, никуда не выезжал, выборы в Учредительное собрание проходили у всех на глазах и никаких компрометирующих председателя губисполкома данных не имелось.
Заседание постановило: «Затребовать в 48 часов от т. Позерна объяснения о фактических данных».
Трудно сказать, сам ли Позерн явился источником этих слухов о Парфенове или они исходили от кого–либо из Петрозаводска?
Никаких документальных объяснений из Петрограда не последовало, но тем не менее через десять дней состоялось решение о замене Парфенова на посту председателя губисполкома более сильным товарищем.
К счастью, это совпало с желанием самого Валентина Михайловича, который давно хотел сосредоточиться на работе в губернском и городском комиссариатах народного образования.
Смену председателя левые эсеры и решили использовать для того, чтоб дать первый открытый бой петрозаводским большевикам.
22 апреля на пленарном заседании губисполкома рассматривалось много вопросов, в том числе и доклад инженера Аржанова «О южном варианте соединения Мурманской ж. д. с Архангельской и Котласской линией с продолжением ее далее на г. Пермь».
С редким единодушием и большевики и левые эсеры без долгого обсуждения принимали в тот день резолюции.
Все ждали главного.
Наконец объявлен шестой вопрос. Он сформулирован как «выборы постоянного президиума Олонецкого губисполкома».
Сразу же левые эсеры выдвигают предложение, чтобы на пост председателя были выставлены кандидатуры от обеих ведущих фракций.
Большевики предлагают не менять достигнутой в январе договоренности о распределении постов в губисполкоме, подождать до очередного губернского съезда Советов, который должен состояться через два месяца.
Левые эсеры непримиримы. Они настаивают на своем и, используя поддержку беспартийных членов исполкома, при голосований добиваются большинства. Торжествуя победу, они объявляют своего кандидата на пост председателя. Это — фельдшер П. П. Панин, исполнявший обязанности комиссара по внутренним делам.
Некоторые члены большевистской фракции находились в командировках и на заседании не присутствовали. Взвесив обстоятельства и не выставляя своего кандидата, большевики внесли предложение отложить голосование хотя бы до завтра. В противном случае, объявили они, фракция большевиков покинет заседание и снимает с себя всякую ответственность за положение дел в губернии.
Ввиду несогласия левых эсеров, так и пришлось поступить.
Недолго довелось Панину посидеть в председательском кресле. Ровно через сутки собралось второе пленарное заседание, на которое успели вернуться из командировок кое–кто из членов большевистской фракции.
Как только большевики объявили свою кандидатуру, судьба председательского места была решена. За Анохина проголосовали и беспартийные. По решению фракции Григорьев должен был рассказать поподробнее о кандидате чтоб привлечь на свою сторону беспартийных, но выступать ему почти не довелось — сразу раздались голоса: «Знаем! Слышали!»
В напряженной тишине подошел Петр Федорович к председательскому столу, за которым в дальнейшем ему пришлось сидеть в течение трех лет, медленно, с волнением произнес:
— Заседание объявляется продолженным… Переходим к выборам членов президиума исполкома.
Это была победа. Но все чувствовали, что борьба только начиналась и основная схватка еще впереди.
3
Все уже спали, когда глубокой ночью Анохин вернулся домой. Мать, не очень–то довольная его постоянными поздними возвращениями, молча зажгла лампу, подала еду и, как всегда, присела напротив.
— Ты ложись, спи, — привычно произнес он, хорошо зная, что мать и на этот раз ни за что не послушается и не отойдет от стола, пока он не поужинает.
— Ладно уж тебе…
Он хорошо понимал ее. Он даже знал, о чем она каждый раз думает, утомленно глядя на него и с трудом преодолевая дремоту. Она, наверное, ждет. Ждет, когда кончатся и эти неурочные ужины, и его полуночные приходы и вообще вся эта неустроенная жизнь. Приехал, привез семью, а сам и дома не бывает. Уходит чуть свет, а когда явится — никто и не знает… Пора бы и за ум браться, семейную жизнь налаживать — не юноша, поди, двадцать семь скоро. Дети без отца растут. Уходит — спят, приходит — опять спят. А о том, чтоб по хозяйству помочь — и думать не приходится. Хорошо, хоть Дмитрий да дядья близко — все мужские дела на их плечах.
Она, конечно, думает об этом, а сама еще и не знает, что теперь ему, может, и ночевать не всякий раз дома придется, — ведь положение губернии с каждым днем все ухудшается.
— Мать, меня ведь председателем губисполкома выбрали, — тихо сказал Петр, глядя в ее грустные глаза.
Нет, не обрадовал он ее этим, совсем не обрадовал. Она даже не удивилась, лишь покачала головой и тяжко вздохнула, будто заранее готовила себя к худому.
— Да не печалься ты, мать! Не в тюрьму же меня запирают, чего ты? Товарищи доверие оказали.
— А Парфенов что ж? Чем он не угодил вам?
— Парфенов в наробразе работать станет. Сам попросился.
Последние слова совсем встревожили ее. Она посмотрела на сына даже с каким–то глубоким состраданием.
— А другие–то чего? Неужто побойчей никого не нашлось? Опять один ты подходящим вышел…
— Что ты говоришь, мать? Почему «опять»?
— Разве при старом режиме не тебя выбрали тогда этого жандарма убивать? Все были не подходящи — один ты годен!
— Да не выбирал меня никто. Сам я тогда. Что ты выдумала?
— Ладно уж тебе, — сказала она с таким видом, словно истинная правда никому, кроме их двоих, неведома. — Ты, сынок, не обижайся, а только радоваться тут нечему. Видать, нет по нонешним временам никакой радости в этой самой власти, коль Парфенов сам уволился. Парфенов–то ведь мужик умный, ученый… Худого слова про нашу нынешнюю власть не скажу, греха не стану на душу брать. А только надолго ли это, Петенька? Заходила я сегодня в бакалейку к Селиверстову — солью хоть думала разжиться. А там в открытую говорят… С немцами, говорят, удалось замириться, а вот с англичанами да французами войны не миновать. На Мурмане те столько понавезли всего — и солдат, и пушек, и продуктов — что скоро, говорят, вся Россия у них будет. Правда ль это, сынок?
— Что — правда?
— Что воевать с ними станете?
— Ну, до этого дело, может, и не дойдет… А понадобиться — станем. Не для того мы, мать, своих царя да буржуев сбрасывали, чтобы чужим покоряться.
Петр вдруг замолчал. Было как–то обидно и непривычно вполголоса повторять в родном доме те самые слова, которые он часто произносил на митингах. Мать ведь она все понимает, все чувствует — наслушалась и от него, и от Берты, и от Дмитрия. Не в первый раз разговор затевается. Просто хочется человеку знать — долго ль ждать еще жизни спокойной и надежной, чтоб и сыновья при доме, и внуки, чтоб и обед был сытным и всё честь но чести, как мечталось ей… Вот тут бы и найти для нее слова — ласковые, утешительные, которых, видно, и ждет она каждый раз, когда с показным недовольством встречает совсем отбившегося от семьи сына. Пообещай ей, что завтра на весь день дома, что никуда идти не надо и то, вероятно, была бы счастлива! А как пообещаешь? Не лгать же ей, как тогда на пароходе, при расставании перед каторгой…
— Выходит, паек в городе теперь с тебя спрашивать будут?
— С меня.
— И ругать последними словами тоже тебя? За те восемь фунтов муки на едока в месяц?
— Меня, кого же еще.
— Хорошую должность подобрал ты себе. Не мне, сынок, учить тебя, только дети твои без отца растут. Сережка тот совсем тебя перестал «папой» называть. Просыпается и первым делом: «Что, Анохин опять дома не ночевал?» Веришь ли, услышала я и чуть не расплакалась… Уж не знаю от кого манеру взял — отца по фамилии…
Это уже было примирение. И обрадованный Петр решил рискнуть — сказать то, что еще две минуты назад казалось невозможным.
— Не печалься, мать! Вот скоро вытряхнем остатки буржуев, наладим нашу рабоче–крестьянскую власть и — вот увидишь — буду целыми днями дома сидеть, с ребятишками играть.
Хитрость не удалась. Мать усмехнулась, махнула рукой:
— Ладно уж тебе… Лампу–то гасить или сидеть станешь? Керосину–то совсем, поди, не осталось…
— Ты, мать, ложись. Я сам погашу.
Каждую ночь тесное жилище Анохиных становилось похожим на ночлежку. Спали везде — Берта Яковлевна с Оленькой на кровати, бабушка с Сережкой на печке, Дуняшка на лавке, а то и на полу. Стеснительный Дмитрий старался вообще не ночевать дома — брал свой полушубок и уходил или к дяде Михаилу или к кому–либо из знакомых. Петр, когда доводилось приметить это, испытывал всякий раз угрызения совести, давал себе твердый зарок завтра же заняться поисками собственного жилья. Но наступало утро, и вместе с ним ночные заботы становились такими мелкими и несущественными, что и думать о них было попросту некогда. Так и проходили неделя за неделей.
Глядя, как мать, покряхтывая и вздыхая, неторопливо взбирается на печь, Петр опять–таки подумал о собственном жилье. До каких пор он будет мучить семью и родных?! Завтра же надо поговорить с Даниловым. Неужели в исполкомовских домах на бывшей Екатерининской улице не найдется комнаты?
Он подумал об этом и вдруг понял, что ни завтра, ни послезавтра ничего не изменится. И не потому, что Данилов откажет ему. Нет, он, конечно, найдет ему квартиру, стоит лишь попросить. В крайнем случае реквизирует ее в пользу губисполкома у кого–либо из частных домовладельцев. Все это не так уж и сложно. Просто сам Анохин ни завтра, ни послезавтра не заведет об этом разговора. Особенно теперь, когда его избрали на такую должность… Нечего сказать, хорош был бы председатель губисполкома?! Еще и палец о палец не ударил на новой работе, а о жилье для себя позаботился. Столько дел в губернии, столько мучительных вопросов — судьба Советской власти на волоске висит, — а он о квартире?! Нет уж, он готов жить так и год, и два, и столько, сколько потребуется — лишь бы все шло, как надо…
Каким–то будет завтрашний день?
Петр приспосабливает к стеклу лампы лист бумаги, чтобы свет не мешал спящим, чуть вкручивает фитиль, достает блокнот и задумывается.
Да, каким–то будет он, завтрашний день? С чего начинать, за что браться в первую очередь?..
Петр понимает, что сколько бы сейчас он ни думал, ему навряд ли удастся наметить или предугадать что–либо существенное. Жизнь на поверку всегда выходит сложнее любых задумок и прикидок, особенно в таком деле, как работа губисполкома. Вероятно, имело бы смысл подождать до завтра, детально познакомиться с делами, посоветоваться с Парфеновым, Григорьевым, Дубровским, узнать, как намерены вести себя левые эсеры… Да, конечно, он все это сделает! Сделает обязательно! Может быть, сейчас лучше бы не терять понапрасну время, а лечь спать, чтоб утром явиться в губисполком со свежей, отдохнувшей головой?
Но разве сумеет он заснуть? Хочется сразу, немедленно разобраться хотя бы в главном. Чтоб прийти завтра не только со свежей, но и не с пустой головой,
Петр придвигает поближе к лампе блокнот, слегка слюнявит палец, проводит им по тому месту, где должна лечь первая строка, и химическим карандашом пишет:
«Военный вопрос. Все внимание организации отрядов Красной Армии. Изыскать денег и паек. Петрозаводску — на 500 человек. Уездам — на 2000 человек. Поручить Тарасову, Дубровскому, Матвееву».
Почерк у Анохина ровный, разборчивый и красивый. Петр с улыбкой вспоминает, как понравился однажды его почерк попечителю Черемховского уездного училища, и это решило дело с устройством на службу в годы ссылки. На должности делопроизводителя им хотелось иметь человека с законченным гимназическим образованием, а у Анохина таких документов естественно не было. Попечитель — процветающий, лысый промышленник — лишь заглянул в прошение и сразу разрешил все сомнения директора училища: «Такой почерк и грамотность может выработать только хорошая гимназия. Анохина принять, а документы затребовать».
Через два месяца пришлось уйти, но голодное время было позади…
«Продовольственный вопрос. Тихомиров — получиновник, полуторговец. Укрепить коллегию двумя–тремя энергичными партийными товарищами (Гурьев — из Повенца, Петров — из Спасопреображенской волости). Заводу и уездам — самим направить людей за хлебом. Тоже — Мурманской дороге. Заново провести учет продовольствия в городе».
«Экономический вопрос. Финансы и промышленность…»
Написав это, Петр откидывается к стене и задумывается. Он знает, насколько тяжело сейчас на Александровском заводе. Заказов и снабжения нет. Цеха простаивают, митингуют, требуют. Но что можно сделать, чем помочь? С финансами еще трудней — нет денег даже для закупки хлеба. Через десять дней откроется сплав. Для лесного промысла центр выделил небольшое ассигнование, но доход можно получить не раньше осени. Реки еще подо льдом, а когда удастся сплавить и запродать лес, чтоб можно было прижать лесопромышленников налогом…
…А все–таки — как хорошо бы сейчас выспаться.
Петр закрывает глаза, и сразу же, вместе с долгожданной, приятной для тела расслабленностью, откуда–то из темноты, одна за другой накатываются беспокойно–резкие картины виденного, слышанного, перечувствованного. И самому трудно разобраться — то ли это уже настоящий сон, то ли утомленная память пытается и не может справиться с возбуждением. Перед глазами, как живые, бесконечно, раз от разу все тревожнее, плывут и плывут бессвязные картины. Знакомое переплетается с незнакомым, случившееся — с тем, что могло бы произойти, и все настолько отчетливое и реальное, что он лишь запоздалым, слабеющим усилием отделяет одно от другого.
…Зал заседаний губисполкома. Рядом со снисходительно усмехавшимся Абрамом Рыбаком почему–то бурно неистовствует другой Абрам — Фейгин. Он что–то кричит с места, тянет вверх руку, требуя слова, но никто не обращает на него внимания. И Анохин нисколько этому не удивляется, так как он–то точно знает, что Фейгин давно уже умер, что он похоронен неподалеку от Шлиссельбургской крепости…
Слово берет левоэсеровский лидер Балашов. Высокий, подтянутый, в аккуратно подогнанном офицерском френче без погон, он выходит к столу, поскрипывая начищенными хромовыми сапогами… Скрип–скрип–скрип… Он начинает говорить. Скрип–скрип–скрип… Нет–нет, это уже не сапоги скрипят, а плотный, холодный сибирский снег — там, на льду замерзшей таежной речки Уда. Балашов шагает рядом с Анохиным и во весь голос втолковывает значение крестьянской общины, которая якобы сама по себе является зачатком социализма. Петру холодно, болят натертые кандалами ноги, хочется есть. Он проклинает того самого мужика Мингалева, который заплатил ему за три дня работы по двадцать копеек и выпустил больного в далекий двухсотверстный путь: «Иди в Усть–Уду, там ссыльных политиков много, помогут… Мне ты, больной, не нужен!» Балашов почему–то шагает налегке, в одном френче, и ему не холодно, но Петр не удивлен этим. Далеким слабым сознанием он отдает себе отчет, что никакого Балашова в те годы с ним не было, что все это ему чудится во сне. Но все равно заново переживает это так, как будто еще и не знает — доберется ли он сам до Усть–Уды живым… Нет, и это он знает. Он понимает, что обязательно доберется, только странно, почему Балашов оказывается там раньше. Ему уступают место у теплой печки, а Анохину говорят: — «У него больше прав, он наш, а на тебе чужой армяк…» Напрасно Петр пытается объяснить, что весь путь он прошел один. Ему не верят. Даже сам Балашов с язвительным упреком говорит: «Вот всегда вы, большевики, такие! Везде хотите первыми быть!» Петр чувствует, как коченеет, но в это время слышит голос Григорьева:
— Петя, проснись! Проснись, Петя!
Он открывает глаза, в темноте не сразу угадывает встревоженное лицо жены и с радостью, теперь уже окончательно, убеждается, что это был самый настоящий сон.
— Ты почему–то так страшно стонал, — говорит Берта Яковлевна. — Здоров ли ты?
— Все нормально. Спи, пожалуйста…
— За тобой пришли.
— Кто?
— Там, на крыльце.
Керосин в лампе кончился. Красноватый уголек сгоревшего фитиля еще слабо тлеет, потрескивая и выбрасывая искорки, но свет больше уже не нужен. За окном уже утро.
Петр пальцами гасит фитиль, надевает кожанку, кладет в карман револьвер и выходит на улицу.
У крыльца — Дубровский. На дороге — военкомовская запряженная парой коляска.
— Прости, Петр Федорович, что разбудил. На станцию прибыл эшелон с инвалидами. Союзники через Мурманск неожиданно и спешно эвакуируют из Франции раненых солдат русского экспедиционного корпуса. Положение, говорят, у них отчаянное… Надо ехать! Надо что–то делать!
— Едем!
«Вот и начался твой первый день, товарищ председатель!» — подумал Анохин, садясь в коляску и вспомнив ночные размышления.
V Срочный заказ
«Отец первым в Петрозаводске рисовал портрет В. И. Ленина. Однажды я пришла домой и увидела отца, сидящего у мольберта и внимательно рассматривающего небольшую фотографию в увеличительное стекло…
«Это Ленин, — сказал отец и, подумав, добавил: — Как будто я его где–то видел… А вот цвет глаз никак не могу понять».
Отец сказал, что этот снимок единственный и другого ему не дали. Заказ был сделан от Исполкома…»
— Из письма И. К. Авдеевой–Собакиной от 2 мая 1966 года.1
Куча дел — больших и малых, политических, военных и хозяйственных — сразу же свалилась на нового председателя Олонецкого губисполкома.
В течение дня от вопросов комплектования отрядов Красной Армии приходилось перебрасываться на борьбу с голодом, надвигавшимся на губернию, от расследования актов саботажа, спровоцированных на Александровском заводе старыми специалистами, к созданию военного заслона на Мурманской железной дороге, на которую угрожающе целились войска бывших союзников.
Сам председатель был малоопытен, да и органы Советской власти на местах еще только начинали набирать силу, — вот и приходилось ему, как, впрочем, и всем членам губисполкома, вертеться, словно белка в колесе.
А поздно вечером, как всегда — ежедневное заседание с такой повесткой дня, что голова пухла от обилия и неразрешимости всех накопившихся вопросов.
Среди множества забот была и такая, которая кое–кому теперь может показаться незначительной. Однако с каждым днем и часом она тревожила Анохина все сильнее. Меньше недели оставалось до 1 Мая, а отпраздновать его в этом году хотелось по–особому торжественно. Ведь это был первый пролетарский праздник после победы Октябрьской революции.
Но как подготовиться к нему, если и дух перевести некогда?
Все же в ночь на 27 апреля выкроили время. Посовещавшись, назначили праздничную комиссию и председателем ее опять–таки Анохина выбрали. Учитывая обстановку, решили на многое не замахиваться — провести уличную манифестацию, украсить город красными флагами, а в театре «Триумф» организовать несколько митингов–концертов. Выделили ораторов: от большевиков — Анохина и Парфенова, от левых эсеров — Балашова и Рыбака.
Подытожили — уж слишком скромно получается. Опечаленно притихли — откуда что взять? Комиссар по продовольствию покряхтел, поерзал в мягком губернаторском кресле и махнул рукой — «давайте уж выдадим ради светлого пролетарского дня по фунту муки на едока сверх нормы».
Оживились, от всей души порадовались, а потом опять задумались: все–таки не хватает чего–то. Нового, истинно–революционного маловато. Митинги, флаги, манифестация — были и в прошлом году. А что касается продуктов — с ними тогда вообще такой беды еще не знали. Конечно, два только что сформированных отряда Красной Армии и прибывший из Петрограда батальон железнодорожной охраны — это оставит впечатление! Особенно если они пройдут по улицам под оркестр. А пятьсот коммунистов в городе — разве это не сила! Год назад даже маленькой большевистской ячейки не было.
И все же хотелось еще чего–то. Посидели, поломали головы, ничего не придумали. Время было за полночь, и решили — пусть комиссия сама пошевелит мозгами.
С тем и разошлись.
У подъезда недолго постояли и уже начали прощаться, когда Анохину пришла в голову неожиданная мысль:
— А знаете, товарищи! Нам надо обязательно достать большой портрет Ленина. Обязательно! Пусть–ка петрозаводские пролетарии посмотрят на своего вождя. Ведь у нас никто почти и не видел его.
— Придумал же ты, Петр Федорович! — засмеялся заведующий отделом управления Губсовета Данилов. — Большой портрет Ленина! Да где ж его взять? У нас и маленьких раз–два, и обчелся, а ты — большой!
— Найти, достать, сделать, наконец! — загорелся Анохин. — Валентин Михайлович! — кинулся он к Парфенову, призывая того в союзники. — Ведь может же художник нарисовать большой портрет с фотографии?
— Конечно, может, — подтвердил Парфенов. — Только поздно мы спохватились. Осталось каких–то три дня. Вряд ли кто возьмется.
Анохин спорить не стал. Ненадолго вернулся в свой кабинет, а минут через десять уже шагал по Полевой улице, держа путь к дому, где жил художник Собакин.
Этот дом он знал давно, еще с тех времен, когда служил рассыльным в губернской типографии. Три раза в неделю приносил он учителю рисования «Олонецкие губернские ведомости» и всегда искал повод, чтоб подольше задержаться в его необычной, совсем не похожей на другие, квартире, где вся мебель, с затейливой резьбой, была сделана руками хозяина, а стены увешаны картинами, рисунками по эмали, чеканкой по бронзе.
Когда в 1909 году Анохин сидел в тюремной одиночке и ждал военного суда за покушение на жандарма, Константин Васильевич, рассказывают, безуспешно пытался помочь ему. Да и что мог сделать учитель рисования, если высшая воля российского монарха давала одно лишь толкование поступку Анохина — смертная казнь через повешение.
Давно это было, девять лет прошло. Постарел за это время Константин Васильевич, заметно сдал. Бороду отпустил и, говорят, выпивать стал часто.
Возьмется ли он теперь за эту работу? Сможет ли сделать?
Вот и знакомый с детства дом!
Анохин очень обрадовался, когда увидел в одном из окон слабый свет. «Хорошо, хоть с постели поднимать не придется», — подумал он, отворяя калитку.
2
Дверь открыла жена художника. Она с испугом и удивлением отступила назад, увидев человека в кожаной куртке.
— Не узнаете, Варвара Васильевна?
— Н–нет.
— А я, Варвара Васильевна, всегда вас помнил.
— Простите… Темновато… Проходите, пожалуйста.
— Не беспокойтесь, прошу вас. — Анохин прошел в комнату и спросил с улыбкой: — Неужели вы не помните Петю Анохина?
— Варя, кто там?
На пороге появился сам хозяин — бородатый, взъерошенный, в накинутой на плечи куртке.
— Петр Федорович! — закричал он. — Товарищ Анохин! Варя, ведь это сам товарищ Анохин к нам! Как же ты не узнала его?
Варвара Васильевна совсем смутилась.
— Простите, ради бога… Не ждали… В такой час… Раздевайтесь, проходите, пожалуйста. Я сейчас… Хотя бы чаю… У нас, знаете ли, рядом военные стоят… Я думала, снова по поводу уплотнения.
Анохин пожал обоим руки, отказался от чаю, сославшись на позднее время, и сообщил, что пришел он по важному делу.
— Прошу ко мне! — сразу посерьезнел хозяин и показал на распахнутую дверь кабинета.
Анохин вошел в знакомую комнатку, огляделся и про себя отметил, что постарел, к сожалению, не только хозяин. Одряхлел и кабинет, вроде бы и размерами меньше стал. Видно, не находят сбыта загромождающие углы кабинета скульптуры и висевшие на стенах картины, — время не то. И все же для Анохина, так давно не приходившего сюда, это было возвращение в один из самых приятных уголков его юности.
Анохин достал из внутреннего кармана куртки фотографию, размером с открытку, и протянул ее Собакину:
— Скажите, Константин Васильевич, могли бы вы нарисовать большой портрет этого человека?
Художник осторожно взял карточку, положил на мольберт, придвинул лампу и принялся внимательно вглядываться в изображение.
Молчание длилось минуту–другую–третью. Карточка на мольберте казалась удивительно маленькой, и Анохин с каждой секундой все больше опасался, как бы художник своим отказом не положил конец всей его затее. Он очень дорожил этой фотографией. Досталась она ему по счастливой случайности, когда он встретил в Петрограде одного из товарищей по Шлиссельбургской каторге. Не зная, что подарить Петру на память, тот не без сожаления вынул из бумажника эту фотографию и на обороте написал: «Анохину от друга–каторжанина…»
— Это, вероятно, Ленин? — тихо произнес Собакин.
— Да.
Художник прошел к письменному столу, разыскал лупу и снова вернулся к мольберту.
…Говорят, в Москве и Петрограде уже появились цветные литографии — портреты Ильича. Если бы не эта затянувшаяся свара с эсерами, давно уже следовало достать их для Петрозаводска…
— Какого цвета у него костюм?
— Вероятно, черный.
— А может, коричневый?
— Возможно.
Снова долгое молчание и очередной вопрос:
— Борода ведь, кажется, у него рыжая?
— Да. Не совсем. Если чуть–чуть с рыжинкой. А скорее всего темно–русая.
Художник поднял взгляд на Анохина и впервые улыбнулся:
— По–моему, вы явно хотите приукрасить своего вождя.
«Скорее бы он говорил что–нибудь определенное», — уже с досадой подумал Анохин.
Наконец Собакин откинулся в кресле, потер ладонью уставшие глаза и произнес:
— Попробовать можно… Вам, конечно, это нужно очень срочно?
— Да, конечно.
— Значит, сухая кисть. Тон сепии.
— Только нам нужен очень большой размер.
— Какой?
— Аршина полтора, лучше — два, а то и три.
— Размер значения не имеет. Так и быть, попробую. Работа не из легких.
— Мы хорошо заплатим. Дадим хороший паек.
— Я не об этом, — поморщился Собакин. — Просто я не уверен, что удастся сделать что–либо стоящее, что–то внести в портрет свое, оригинальное. Ведь фотография — она фотография и есть.
— Нет уж, Константин Васильевич. Прошу вас об одном — ничего не вносить. Сделайте точно таким, как на фотографии.
Художник удивленно посмотрел на Анохина, но ничего не сказал.
Едва за Анохиным захлопнулась калитка, Собакин бросился к жене.
— Варя! Ты слышишь! Он заказал мне портрет, большой портрет Ленина.
Он расхаживал по кабинету, время от времени подходил к мольберту, внимательно рассматривал фотографию, бормоча что–то вполголоса, пока жена не остановила его:
— Подожди–ка! Ты не договорился о холсте. Ведь у тебя не осталось ни аршина.
— Да, черт возьми! Ведь верно!
— Беги скорей, догоняй.
— Ну, нет, дорогая. До этого я не унижусь. Жалкий кусок холста никогда не был предметом заботы заказчика. Во все времена и эпохи даже у самых нищих, даже у уличных художников.
— Значит, снова скатерть или простыня? — с грустной улыбкой спросила Варвара Васильевна. Конечно, ей жалко было очередную льняную скатерть, на которую можно было при случае выменять несколько кружек молока для детей. Но дороже всего для нее сейчас — неожиданно пробудившееся у мужа хорошее настроение, хоть чем–то напоминавшее дни его прежнего творческого горения.
3
После столь удачного посещения Собакина Анохин вернулся в губисполком, чтоб в тишине и покое посидеть, собраться с мыслями, а заодно и разделаться с ворохом бумаг, старательно подкладываемых ему секретарями каждый вечер.
Так он поступал вчера, позавчера… В общем, все три дня, как избран председателем. После заседания исполкома заглянет домой, объявится, что жив–здоров, посмотрит на спящих детишек и снова сюда, где и поработать можно и подремать на кожаном диване с высокой резной спинкой.
Спал он мало и плохо, — отвык за тяжелые каторжные годы. Там бессонница доводила людей чуть ли не до могилы. Звякнет сосед кандалами — отлетел сон. Лежишь с открытыми глазами — и думать не думается, и смутная тревога заснуть не дает. Там не засыпали, а постепенно погружались в тягучее полузабытье, в котором не было границ между сном и реальностью.
Часы в стоячем футляре медленно и тяжело пробили три раза. И словно по их сигналу приоткрылась дверь.
Дежурный не вошел, а прокричал откуда–то из темноты: — Товарищ Анохин! Вас тут какой–то гражданин добивается. Важное дело, говорит.
— Пропусти!
К этому, тоже, видно, надо привыкать. Ночи не прошло, чтоб кто–то не явился… Но меньше всего рассчитывал Днохин увидеть снова Собакина.
— Константин Васильевич, что такое?
— Фу, наконец–то, — перевел дыхание тот. — Слава богу! Я уж и надежду потерял найти вас. Прибегаю домой — нет, говорят, дома. Сами, говорят, беспокоимся… А тут еще этот стражник — талдычит свое, нет никого, и все.
— Что случилось, Константин Васильевич?
— Ведь я у вас главного не спросил! Вот память какая стала! Работать–то я начал. Подрамник нашел, холст натянул, разметку сделал, а главного у вас не спросил. Скажите, Петр Федорович, вам доводилось встречаться с Лениным? Разговаривать с ним?
— Нет, не доводилось.
— Может быть, вы хотя бы видели его?
Да, Анохин, конечно, видел Ленина, и однажды — совсем близко. Это было в январе, в день открытия Учредительного собрания, когда Анохин в числе других комиссаров–большевиков стоял в вестибюле Таврического дворца. Ленин в сопровождении Бонч–Бруевича и трех женщин быстро прошел мимо, на ходу поприветствовав товарищей.
— Да, я видел Ленина. Но зачем это вам, Константин Васильевич?
— Отлично. Тогда скажите же мне поскорее, какого цвета у него глаза? Вначале я определил, что карие, но Варвара Васильевна заронила во мне сомнение.
— Глаза, глаза… — Анохин напряг память. Он отлично, как сейчас, видел перед собой драповое пальто с барашковым воротником, такую же ушанку, короткую острую бородку — действительно рыжеватую, — широкий нос, скулы, усы. Все это промелькнуло быстро, в течение двух–трех секунд. Но какие же у Ленина глаза — почему же он не запомнил их? Ведь, войдя, Ленин посмотрел сначала вправо, потом влево — должны же были они с ним встретиться взглядами? Как же это он, Анохин, не обратил внимания на цвет его глаз?
— Действительно, — продолжал Собакин, — если судить по этой фотографии, то они могут оказаться и карими, и темно–серыми, и вообще черными.
— Константин Васильевич, я не помню, какого цвета глаза у Ленина.
— Как это не помните? Вы же говорите, что видели его!
— Видел, но не запомнил. Вернее, не заметил, не обратил внимания.
— Это не делает вам чести.
— Разве это так важно? Сделайте их точно такими, как на фотографии.
— Вы представляете, что говорите?! У настоящего художника даже в карандашном наброске точно угадываешь цвет глаз. А мне вы предлагаете рисовать всем известного человека в натуральную величину, и я решительно ничего не знаю о нем! Если я не буду точно знать цвета глаз, я отказываюсь от работы.
— Завтра я скажу вам это точно.
— Не завтра, а сегодня, сейчас. Поймите, что без этого я даже думать не могу о работе. С точки зрения портретиста — это просто кощунственно.
Минута тягостного для обоих молчания, как видно, остудила пыл художника, и он продолжил разговор в более спокойном тоне.
— Возможно, среди вас есть еще кто–либо, кто видел Ленина?
— Конечно, есть. Григорьев, Гижицкий.
— Могу я узнать их адреса?
— Хорошо. Идемте.
— Куда?
— К Григорьеву. Гижицкий, к сожалению, в Пудоже.
Уже брезжила слабая полоска занимающейся за озером зари, когда они вышли на Круглую площадь, спустились в заводскую ямку, перешли Лососинку и оказались на другой, уже Зарецкой части города. Они шагали вдоль глухого забора, и Анохину было особенно обидно ощущать за ним непривычную тишину. Завод молчал. Вот уже несколько месяцев заказов и материалов с трудом доставало для работы в одну смену, и из всех болей и забот губисполкома эта была едва ли не самая горькая. Ведь завод составлял основу города, с ним всегда были связаны надежды обитателей вот этих рабочих домиков — и здесь, и в Закаменном, и на Голиковке. Разве не обидно, что теперь, когда власть действительно перешла в руки революционного пролетариата, завод вынужден перебиваться случайными заказами на ремонтные работы? Конечно, трудности эти временные. Анохин твердо верил, что Анисимов и Эрихман, командированные два дня назад в Петроград, привезут добрые вести. На исполкоме им так и было сказано — без обеспечения завода заказами и материалами назад не возвращаться. Ремонт паровозов для Мурманки, которым занимаются цеха, дело временное, непривычное и не очень–то верное. Оно лишь расхолаживает заводской коллектив…
— Петр Федорович, будьте любезны подождать меня! — послышался голос Собакина.
Анохин остановился. Вот черт, и не заметил, что оставил художника далеко сзади.
—– Жду, Константин Васильевич, жду…
4
Приходу Анохина Григорьев нисколько не удивился. Он еще не знал, кто пришел и зачем, но пока жена Елизавета Степановна открывала дверь, успел встать с постели, наспех одеться и принялся было натягивать сапоги.
— Погоди, Николай Тимофеевич, — остановил его Анохин. — Мы ненадолго. Скажи, ты видел Ленина?
Григорьев с удивлением посмотрел на Анохина, на неизвестно зачем появившегося здесь учителя гимназии, снова на Анохина, и пожал плечами: дескать, сам же знаешь, что видел, зачем спрашиваешь?
— Не помните ли вы, товарищ Григорьев, — заторопился Собакин, — какого цвета глаза у Ленина?
Григорьев нахмурился… Черт те знает что? Если бы в городе не был бы введен строгий сухой закон, то можно невесть что подумать.
Николай Тимофеевич не спеша натянул сапоги, встал и лишь затем в упор поглядел на Собакина.
— Зачем вам это?
Узнав в чем дело, широко заулыбался. «Хорошо. Ладно придумали», — в душе одобрил он, но ни слова не сказал. Так и стоял, улыбаясь и довольно разглаживая усы. Даже забыл, о чем его спрашивают. А когда Собакин напомнил он явно растерялся.
— Стало быть, так… Роста он небольшого. Пожалуй, вот поменьше Анохина будет. В кости широкий. Живой такой. Говорит с трибуны и все время то влево, то вправо поворачивается. Я, стало быть, три раза слушал его на съезде и каждый раз в другом месте сидеть пришлось… Стало быть, сидишь, слушаешь, а он вроде бы все время на тебя смотрит… Вроде, стало быть, к тебе обращается… Живые глаза у него, видно, зоркие… А улыбнется — хитрые такие делаются. А когда о переговорах с немцами говорил, так они гневом сверкали. И голос как бы дрожал от обиды. Медленно говорил, с болью, стало быть… И все время в сторону «левых» головой кивал, даже иногда пальцем показывал.
По тому, с какой готовностью Григорьев рассказывал о подробностях III Всероссийского съезда Советов и с каким старанием уклонялся от ответа на прямо поставленный вопрос, Анохин уже понял, что и Николай Тимофеевич тоже не помнит, какого цвета глаза у Владимира Ильича. Неужели это непонятно Собакину? Слушает он вроде бы с интересом, но так и кажется, что въедливый художник вот–вот снова задаст свой каверзный вопрос и поставит дядю Николая в такое же неловкое положение, в каком до сих пор находится сам Анохин.
К счастью, этого не случилось.
Николай Тимофеевич охотно рассказал не только о съезде, но и о том, как в апреле они с Елизаветой Степановной ходили в колонне завода «Новый Лесснер» к Финляндскому вокзалу, но народу там было столько, что Ленина видеть им не довелось и речь его они слышали в передаче других.
— Ой, да у нас же есть фотография! — воскликнула вдруг Елизавета Степановна. — Коля из Питера привез, со съезда. Где она у тебя? Чего ж ты людям не покажешь?
Достали фотографию. Она была такой же, как и та, что принадлежала Анохину. Долго рассматривали ее.
— Большое спасибо вам! — поднялся наконец Собакин. — Вы мне рассказали очень много важного и интересного.
— Не стоит! Вы уж извините! — улыбнулся Григорьев.
Он вышел проводить гостей. На крыльце вдруг сказал смущенно:
— Сдается мне, что глаза у Ильича вроде бы карие.
— Вы так считаете? — оживился Собакин.
— Утверждать не возьмусь… Близко–то видеть мне, стало быть, его не пришлось… Другие в перерывах так и лезли на сцену — толпа целая, разве, стало быть, пробьешься. Да и неловко вроде… Если каждый надоедать станет… Вот так, стало быть…
На обратном пути Анохин и Собакин оживленно переговаривались. Собакин принялся развивать мысль о том, что если в исполкоме есть умные головы, то они должны подумать об открытии в Петрозаводске художественной школы или, на худой конец, небольшой студии, где молодые способные юноши могли бы готовить себя к поступлению в Академию художеств, что вообще–то такие умные головы в исполкоме есть — вот хотя бы Парфенов, с ним уже был разговор, но все дело упирается в денежный вопрос, а это не должно служить препоной, так как школа или студия в дальнейшем и сама могла бы кое–что зарабатывать, выполняя заказы, подобные сегодняшнему.
— Будет у нас, Константин Васильевич, школа! — успокоил его Анохин. — Вот увидите, будет! Дайте хоть чуть–чуть очухаться, разобраться — что к чему… Только бы не началась заваруха с англо–французами…
На Круглой площади они молча минуту–другую постояли, глядя как первые оранжевые лучи солнца ложатся на крыши и как голубеет высокое ясное небо. Начиналось тихое безветренное утро — одно из тех, которые почему–то всегда рисовались Анохину, когда вдали отсюда он вспоминал родной город. Вероятно потому, что была какая–то своя неповторимая прелесть в этой короткой поре, когда озеро еще покрыто льдом, а здесь на площади — тепло, сухо, солнечно, и сверкающая белизной озерная даль вызывает и чувство печали по уходящему, и волнующее ожидание чего–то радостного.
На минуту показалось, что и не было этих девяти лет. Ничего не было — ни тюрьмы, ни каторги, ни ссылки. Вот сейчас его окликнут, и он, прижимая кипу газет, снова помчится по тихим, залитым солнцем улицам, будет бегать долго, легко и радостно, так как пришла наконец весна, а кому не сулит она радости.
Было странно и даже нелепо ловить в себе это мальчишеское чувство. Особенно теперь, после всего пережитого. После бессонной ночи. После многих других бессонных ночей. Перед наступающим днем, который наверняка преподнесет такое, о чем и не догадываешься…
Да, странно и непривычно стоять, глядя бесцельно на город, на озеро, на занимающееся совсем обыкновенное утро. Вот даже дежурный вышел на крыльцо губисполкома и обеспокоенно смотрит на них. Он наверняка раздумывает — не заметил ли новый председатель что–либо подозрительное. Нет–нет, дорогой товарищ, не беспокойся! Все в порядке — ничего не случилось! А если что и произошло — то только радостное, но его, пожалуй, никому не объяснишь. Просто выдалась какая–то удивительная ночь, и теперь, когда она кончилась, как–то трудно с ней расставаться.
— Ну, Константин Васильевич, значит, через два дня?
— Да, да, конечно, — поспешно ответил тот.
5
Портрет был готов к сроку.
Собакин сам, с большими предосторожностями, внес его в кабинет председателя, где находились едва ли не все члены президиума исполкома. У каждого из них было множество своих неотложных дел, и они не без недовольства смотрели на художника, который зачем–то возится с большой рамой, обернутой старыми газетами.
Наконец Собакин установил портрет у стены, поправка его так, чтобы свет падал прямо, сорвал обертку и отошел в сторону.
— Прошу принять заказ.
Анохин посмотрел и чуть не ахнул. Портрет был совсем не похож на тот, который он ожидал увидеть. Пиджак, галстук, высокий лоб, лысина, короткие волосы, бородка и усы — все было как надо. Но лицо!
На портрете Ленин почему–то улыбался. Нет, даже не улыбался, а хитровато щурился и чуть–чуть лукаво усмехался, и это делало его непохожим на того Ильича, которого довелось Анохину видеть в жизни и к которому он так привык по фотографии.
Петр Федорович растерянно молчал. Наверное, следовало объяснить товарищам, что происходит и откуда взялся этот портрет, но как объяснить, что сказать? Большинство из них знают Ленина но фотографии и, конечно, дружно забракуют работу Собакина… Еще бы! Зачем–то и одну бровь нарисовал выше другой, выгнул ее вопросительно. А глаза почему–то блестят и щурятся. Тут уж не усомнишься, какого они цвета, — явно карие.
Эх, Константин Васильевич, не можешь ты без чудинки! Что мешало тебе сделать в точности, как на фотографии, чтоб уж наверняка? Вот забракуют товарищи, и будет обоим конфуз: тебе — как художнику, мне — как зачинателю этого дела.
— Ну, как, товарищи? — громко спросил Анохин.
— Что как? — повернулся к нему Парфенов.
— Принимаем портрет? Похож он на настоящего Ленина?
— Мне нравится, — ответил Парфенов. — По крайней мере, оригинально, и с настроением… Молодец, Константин Васильевич! А что касается схожести, тут уж судить надо тем, кто видел Владимира Ильича в жизни. Можно посмотреть фотографию, с которой делался портрет?
— Пожалуйста, Валентин Михайлович! — с готовностью подал ему карточку Собакин.
С полминуты Парфенов рассматривал фотографию, сличал ее с портретом, потом сказал:
— Скажу одно: мне приятно видеть товарища Ленина таким… Веселым, жизнерадостным… Да, по–моему, портрет довольно точен.
К фотографии потянулись все. Тоже молча разглядывали, тоже. сличали, передавая друг другу, но понять, нравится ли остальным товарищам работа художника, пока было невозможно.
Мнение Парфенова чрезвычайно обрадовало Анохина. Он–то уж понимает в таких делах. Человек с высшим образованием, университет закончил, в гимназии преподавал… Если и есть в исполкоме кто–нибудь разбирающийся в вопросах искусства — то это, конечно, Валентин Михайлович.
Но тут — дело особое. И не случайно другие молчат. Ждут, наверное, что скажет Григорьев.
А Григорьев молча сидел, думал, навалившись локтем на стол и машинально покручивая левый ус. Он был ближе других к портрету, и никто не видел, что выражает его взгляд.
Наконец, почувствовав, что все ждут его, он повернулся к товарищам:
— Стало быть, так…
И не найдя сразу нужных слов, опустил взгляд, снова задумался:
— Портрет хороший… Как живой… Он и таким бывает… Говорит, говорит, потом и усмехнется вроде… и прищурится. Тут уж и все в зале заулыбаются.
— Это–то мне и хотелось схватить с ваших слов. Помните, позавчера? — не выдержав, подал голос Собакин. — Я очень рад, что именно вам понравилось.
— Похож, похож, — подтвердил Григорьев.
— Значит, одобряем! Нет ни у кого возражений? — спросил Анохин с таким счастливым настроением, словно удалось сделать что–то поистине большое и важное. — Ну, Константин Васильевич, от лица исполкома огромная вам благодарность.
— Не за что. Вам спасибо.
— А нам за что? — удивился Анохин.
— Что одобрили, не забраковали.
Все засмеялись. Собакин тоже улыбнулся, но потом вполне серьезно пояснил:
— Знаете, тут под портретом шесть карандашных набросков загрунтованы. А на седьмой, скажу честно, у меня уже нет ни сил, ни времени.
Портрет до праздника так и остался стоять в кабинете председателя губисполкома. Анохин настолько привык к нему, что уже не представлял себе Ленина иным. И все же, оставаясь наедине, Петр Федорович ловил себя на странном желании взглянуть на портрет как–нибудь сбоку, чтоб увидеть Ленина в профиль — так же, как видел он его в тот памятный день, когда Ильич проходил совсем рядом. Анохин знал, что это невозможно, но все–таки отходил и вправо, и влево, останавливался, подолгу смотрел на портрет. И всякий раз зоркие, с хитроватым прищуром карие глаза смотрели в ответ прямо на него.
VI Обстановка накаляется
«Летом 1918 года были ранние заморозки, хлеба померзли.
Год был неурожайный. Беднота во всех волостях голодала. Кулаки развернули бешеную спекуляцию хлебом. Кулачество пыталось натравливать голодающих на Советы и раздувать национальную рознь.»
Из воспоминаний старого большевика Ф. С. Поттоева.1
С невеселыми думами возвращался Петр Анохин из Повенца, с уездного съезда Советов. Повенецкий уезд был, пожалуй, самым трудным. Он простирался на сотни верст от границы с Финляндией, где совсем недавно буржуазия потопила в крови рабочую революцию, до глухих староверческих русских селений на востоке, вплотную примыкавших к Архангельской губернии.
Мурманская железная дорога делила уезд на две части — русскую и Корелу. И хотя беда у них была общая — страшный голод, обстановка складывалась по–разному.
В Реболах, Ругозере, Поросозере и Паданах то и дело появлялись зарубежные лазутчики, агитировавшие за присоединение этих волостей к Финляндии. Следом за ними шли вооруженные белофинские банды. Для самообороны в каждом селе приходилось организовывать отряды и дружины, отрывать крестьян–бедняков от работы, что еще более отягощало и без того бедственное положение с продовольствием. Едва развернувшаяся в карельских деревнях классовая борьба была с самого начала усложнена подогреваемым извне национальным вопросом.
На востоке, в русских волостях — не меньшие трудности.
Потерпев в апреле поражение в Петрозаводске, левые эсеры все свои усилия сосредоточили на агитации в деревнях. Декрет ВЦИКа об организации комбедов обострил борьбу и вызвал отчаянное сопротивление со стороны левых эсеров. К сожалению, их агитация на первых порах находила поддержку не только у зажиточной части крестьянства, но нередко оказывала воздействие и на бедняков. Голодный, малограмотный мужик, озабоченный тем, как завтра накормить семью, ошалевал от долгих ожесточенных споров, робел, терялся и, глядя на «самостоятельных» деревенских хозяев, тянул вслед за ними руку, голосуя «за Советскую власть без комбедов и продотрядов».
Организация комбедов давалась всякий раз в жестокой схватке с кулаками, и как бывало порой обидно, когда в результате уловок и хитростей в его состав проникали богатеи, против которых комитет и должен быть направлен…
С севера нависала новая угроза — войска Антанты. Пока что южнее Кандалакши они не спускались. Но было уже ясно, что союзники лишь выжидают удобного момента для продвижения к Петрограду и Москве.
Случись такое — и Олонецкой губернии придется держать оборону на три фронта: против англо–французов — с севера, белофиннов — с запада и сил контрреволюции — внутри.
Поезд от Медвежки до Петрозаводска шел долго — шесть часов по расписанию. Анохину хватало времени все обдумать, взвесить и оценить, чтобы по приезде доложить губисполкому о повенецких делах. В одном купе с Анохиным ехал председатель Повенецкого уездного исполкома Василий Тимофеевич Гурьев. Всю дорогу они тихо беседовали, облокотившись на вагонный столик и глядя на проплывающие за окном безмолвно застывшие в белой ночи пейзажи.
Гурьев — паданский карел, бывший учитель, человек большого упорства и бесстрашия. Совсем недавно он вернулся из долгого путешествия по западным волостям, которые уже были оккупированы белофиннами. Там он проводил сходы и организовывал партизанские отряды. Бандиты дорого, наверное, заплатили бы за голову «большевистского прихвостня» и противника «соплеменных интересов», если бы кто–либо выдал Гурьева. Однако среди трудовых крестьян в карельских селах не нашлось ни одного предателя, кто рискнул бы поднять руку на Василия Тимофеевича. И это было самым верным доказательством того, что идея присоединения к Финляндии не находит у населения поддержки.
— Был у меня наган, — задумчиво, вполголоса говорил Гурьев, зная, что Анохин внимательно слушает его. — Так взял, на всякий случай. Чтоб не с голыми руками, если что… Всю дорогу наган пролежал в кармане. Не понадобился. Весной направили мы в эти волости полтысячи винтовок. Проверил чуть ли не каждую. Все налицо и в надежных руках… Одна беда — голод. На этом белофинны и спекулируют. Если бы мы сумели помочь партизанским отрядам хлебом!
Анохин промолчал. Что можно было ответить сейчас, когда со всех сторон только и слышишь «хлеба, хлеба». Василий Тимофеевич и сам знает положение с продовольствием. Конечно, говорит он об этом не в надежде выпросить у председателя губисполкома лишнюю сотню пудов, а потому, что положение действительно аховое и не говорить об этом нельзя…. Да, как это ни удивительно, но судьба революции в России во многом упирается в вопрос, который раньше не представлялся таким важным… А ведь есть хлеб в России, есть! Никуда он не мог деться! Не может быть, чтобы страна, которая кормила половину Европы, вдруг не смогла бы теперь прокормить худо–бедно себя. Весь вопрос — как взять его? Выход один — встряхнуть деревню, особенно в богатых хлебородных губерниях… Но отсюда–то и начинаются главные, трудности. Делать это надо сейчас, немедленно, пока городской пролетариат не задохнулся в тисках голода. Начнешь трясти мироеда–кулака, а по всей крестьянской России покатится: «Братцы, мужика грабят!» Так уж заведено в деревне, где голос богатея веками был слышнее на миру голоса бедняка. И вот мужики через неделю приедут в Петрозаводск, на IV губернский съезд Советов, где должны будут высказать свое отношение к комбедам и продотрядам. Левые эсеры наверняка навяжут дискуссию и по Брестскому миру. Ради своих узкопартийных тактических целей они станут подогревать мужика против политики ВЦИКа и Совета Народных Комиссаров.
Так было на уездных съездах — в Повенце, Пудоже, Вытегре, Олонце. Теперь предстоит второй круг борьбы — самый важный. Если левые эсеры получат в губисполкоме большинство, то рано или поздно англо–французским интервентам будет открыта дорога на Питер. Выхода из трудностей они станут искать за счет помощи от богатых союзников.
— Как думаешь, Василий Тимофеевич? — спросил Анохин. — Найдем мы поддержку у мужиков на губернском съезде?
Гурьев подумал, покачал головой:
— Боюсь, нелегко будет. А сам ты как считаешь, Петр Федорович?
— Я вот все думаю, думаю. Ведь за нами же, черт побери, правда! Большинство делегатов на съезде будут составлять крестьяне. Кое–кто из членов губисполкома советовал провести съезд как можно раньше, в самый разгар полевых работ, чтобы поменьше мужиков присутствовало. С тактикой эсеров, говорят, нужно бороться их методами.
— Нет, Петр Федорович. Вы правильно поступили. В конце концов мы не в политику играем, а революцию делаем. И делать ее надо в честной борьбе. Поверь мне, я мужиков неплохо знаю, сам в деревне вырос, в деревенской школе учительствовал. Рано или поздно они поймут, за кем правда.
— Поздно не годится, — усмехнулся Анохин. — Если поздно, то эсеры все наши завоевания на тормозах спустят и революцию на сторону продадут.
— А поспешишь — тоже людей насмешишь! Мужик нетороплив, ему время нужно, чтоб понять, разобраться, что к чему.
— А где его взять, время–то? В том–то и дело, что ждать некогда, да и нельзя! Революция — это как крутой поворот: промедлишь, упустишь момент — из колеи выбросит!
2
Две недели подряд олонецкие «Известия» ежедневно оповещали на первых полосах, что 25 июня 1918 года в Петрозаводске откроется IV Чрезвычайный губернский съезд Советов.
Как всегда, перед бурей наступило затишье. Предчувствуя свою победу на съезде, левые эсеры вели себя покладисто, на заседаниях губисполкома не вносили встречных резолюций и заботились лишь о том, чтобы все представители от уездов прибыли в Петрозаводск к сроку. Их лидеры Балашов, Садиков, Алмазов, Панин и Рыбак поочередно дежурили в комнате, где сотрудники отдела управления губисполкома производили регистрацию и проверку полномочий делегатов. Тут же оформлялась запись по фракциям. На заборах и афишных тумбах блекли под июньским солнцем совместные прокламации большевиков и левых эсеров, в которых крупными буквами было напечатано:
«Обе партии, высоко держа красное знамя социализма, уже более полугода совместными усилиями защищают интересы деревенской и городской бедноты, ведя в то же время ожесточенную борьбу с империализмом».
Казалось бы, все идет как надо: коалиция между партиями продолжает в губернии жить и действовать. Накануне открытия съезда стал ясен его фракционный состав: большевики 62 делегата, левые эсеры 47, а остальные 80 человек были беспартийными.
24 июня революционный Петроград торжественно и многолюдно проводил в последний путь Володарского, павшего жертвой правоэсеровского террора.
В этот же день в Петрозаводске состоялись предсъездовские партийные собрания большевиков и левых эсеров. Они проходили одновременно. Из раскрытых окон зала губисполкома, где собрались большевики, и из дома Кипрушкина на Екатерининской улице, где помещался штаб левоэсеровской организации, в один и тот же час неслись над городом торжественно–траурные звуки «Варшавянки», исполняемой как память павшему революционеру и как гневный протест против происков контрреволюционеров.
Да, все внешне пока шло так, как и должна идти у двух истинно революционных партий, решивших рука об руку довести до конца дело освобождения трудящихся от ига эксплуатации. По крайней мере, так могло казаться неискушенному в политике человеку.
Поздно вечером Анохин решил посетить общежитие для приезжих делегатов. Оно было оборудовано в здании бывшего епархиального училища на Зареке. Просторные светлые комнаты. У каждого металлическая кровать, белые простыни, шкафчики для еды. Молодец Данилов, постарался на совесть!
Жили здесь в основном делегаты–крестьяне.
Когда пришел Анохин, большинство уже отдыхало. Спали не раздеваясь, прямо на одеялах, упрятав в головы котомки и закрыв из предосторожности окна. Клубы плотного махорочного дыма медленно плавали в оранжевых столбах предзакатного солнца. Видно, совсем недавно были здесь и споры, и разговоры, которые так хотелось бы послушать Анохину, но теперь усталые с дороги крестьяне лишь сладко похрапывали на непривычно мягких койках.
Петр Федорович переходил от комнаты к комнате, бесшумно открывая и закрывая двери. Да, многое завтра будет зависать от того, с какими думами засыпали эти мужики на чистых городских постелях.
Не спали одни каргополы. Притихшие, молчаливые, они сидели каждый на своей койке, и Анохин, открыв дверь в их комнату, даже удивился этому странному безмолвию.
— Здравствуйте, товарищи!
— Доброго здоровья! — отозвались два–три голоса.
— Не спится на новом месте? — спросил Анохин, входя и присаживаясь к столу, стоявшему посреди комнаты,
— На старом, на новом — тут все одно не до сна! — вздохнул мужик в ситцевой косоворотке, подпоясанной широким военным ремнем. — Беда у нас, гражданин… Домой бы нам надо.
— В чем дело? Какая беда?
— А вы кто, извиняюсь, будете?
Анохин назвался, и сразу один за другим делегаты потянулись поближе, окружили его плотным кольцом.
— Какая же беда, рассказывайте! — обратился Анохин к мужику, который первым вступил в разговор.
— Пущай он говорит! — ткнул тот рукой в сторону молодого парня в солдатской гимнастерке, а сам дрожащими от волнения пальцами принялся свертывать цигарку. Свернул, попросил одолжить огонька, затянулся и продолжал: — Мы–то, считай, семь ден как из дому. В уезде выбирались, в Пудоже парохода ждали, да и тут третий день кормимся. А он сейчас появился. В Каргополе еще позавчера был. Вот ты его и послушай, коль наша беда тебе интересна.
— Говори, товарищ! — повернулся Анохин к парню.
Беда, действительно, оказалась немалая. Пять дней назад разразившийся над Каргопольем град начисто положил все озимые. С этой вестью и прислали парня из уезда к своим делегатам.
— А на яровые ныне и вовсе надежды малые! — добавил мужик в косоворотке. — Сколь времени с голодухи пухнем, нови ждем и — на тебе! Вот сидим и гадаем — то ли домой подаваться, то ли у съезда помощи просить?
И сразу заговорили в несколько голосов:
— Бабы–то одни вон как, поди, убиваются!
— Убивайся — не убивайся! Рук теперь не подставишь.
— У власти подмоги просить надо. Стихийное бедствие все–таки, страховку–то пусть выдадут, да не деньгами — хлебом… Власть–то народная теперь, наша, по справедливости удовлетворить должна.
Последний голос не понравился Анохину. Был он какой–то уж очень вкрадчивый и до подозрительного расчетливый. Петр Федорович, обернувшись, выхватил взглядом низенького, благодушного на вид мужичка.
— А ведь власть сама хлеба не сеет, — сказал он. — Откуда же ей взять хлеба.
— Как это откуда? Будет же урожай в других местах. Не везде же напасть, как у нас.
— Кое у кого и сейчас хлеба много. Но не дают его. Просим — умоляем, а не дают.
— Что же это за власть, если распорядиться не умеет? В прежние времена и то властей слушались.
— Раньше силой слушаться заставляли. Урядник, исправник, стражник. Чуть что и в Сибирь недолго. А мы силой не хотим, по–доброму, на сознательность стараемся воздействовать. Да вот не у всех она, эта сознательность, имеется. Правду говорят — сытый голодного не разумеет.
— А ты заставь, чтоб разумел, чтоб по справедливости, если ты народная власть.
— Чем заставить — силой?
— А понадобится — и силой! Неужто уезд в беде оставишь?! Не пойдете на помощь, мы своих представителей в губернии заменим. И Капустина, и Часовенного… Что это за власть, если порядка навести не может.
Анохин улыбнулся.
— Ну что ж, товарищ! Мне очень приятно, что ты так активно поддерживаешь политику Советской власти о продотрядах и комбедах.
— Какие еще продотряды? — встревожился мужик, бегая взглядом по лицам земляков. — Никаких продотрядов и комбедов! У нас наказ имеется.
— А ведь, дорогой товарищ, продотряды и комбеды и создаются для того, чтобы заставить несознательных сытых разуметь голодного, поделиться с ним хлебом. В городе и в деревне. Ты же сам меня только что так рьяно призывал к этому!
— Ловко же ты, однако, мои слова–то перевернул! — покачал головой мужичок и оробело огляделся — не осуждают ли земляки его за скользкий разговор. — Нет уж, уважаемый, ты это брось! Нам в волости продотряды не нужны!
— Никто к вам продотряды посылать и не собирается! — повысил голос и Анохин, заметив, что, привлеченные их спором, в дверь заглядывают заспанные мужики из других комнат. — Вам самим хлебная помощь нужна.
— Вот это другая статья! Так бы прямо и говорил. — Мужичок даже просиял.
— Но ты–то вообще против продотрядов, как я понимаю? — в упор спросил Анохин.
— Против. Мы все против. Наказ такой имеем от общества.
— А хлеб–то тебе нужен?
— Нужон. Сам видишь, беда какая…
— Ну так вот. У Советской, власти своего хлеба нет. В городах дело потяжелее вашего. В Питере мрут люди.
— Ты на город не кивай. Город, известное дело, вы в накладе не оставите. Ты вот лучше скажи, как нашей беде помочь думаешь?
— А ты сам сообрази, умная голова! Чтоб тебе помочь, нужно взять этот хлеб у кого–то другого, у кого его побольше вашего. Много ль найдется охотников среди богатеев отдать его добровольно? В земле сгноят, скоту скормят, а за свое держаться будут… Вот теперь и соображай, для чего понадобились комбеды и продотряды, против которых ты так рьяно выступаешь.
— Выходит, комбеды нужны, чтоб чужое добро считать, а продотряды, чтоб силой его забирать? — усмехнулся стоявший у двери высокий человек в холщовой толстовке. Был он худощав, по–военному строен, лицом интеллигентен, и по тому, с каким почтением мужики повернулись в его сторону, можно было понять, что здесь этот человек — далеко не последняя спица…
— Да, в том числе и это! — согласился Анохин, хотя почувствовал в его тоне недоброе намерение. — Считать, перераспределять, платить по твердой цене. Если не дают добром, забирать, спасать страну и революцию от голода! Что ж в этом плохого? И напрасно вы, товарищ, насмехаетесь!
— Фамилия моя — Катугин! — Человек в толстовке, не переставая усмехаться и не спуская глаз с Анохина, приблизился почти вплотную. — Я самый рядовой волостной фельдшер, если вам угодно. Объясните нам, товарищ Анохин, одну вещь. Почему большевики так круто отвернулись от Советов? Кричали, призывали — «вся власть Советам», а теперь вроде бы на попятную! Теперь комбеды понадобились. В чем здесь причина? Советы у большевиков из доверия вышли или большевики у Советов — трудно это мужику в толк взять.
— Какому мужику?
— Как какому? — деланно удивился Катугин. — Самому обыкновенному, который в деревне живет, землю пашет, хлеб сеет, город кормит.
— Так. Понятно. А ведь вы, товарищ Катугин, меня спрашиваете, а сами отлично знаете, что в деревне нет обыкновенного мужика. Есть бедняк, есть середняк, а есть и кулаки. И к каждому из них у революции свой подход. Обыкновенного, мужика эсеры выдумали, чтоб столкнуть интересы рабочего и крестьянина. Кого, какого мужика бы имеете в виду?
— Затрудняюсь ответить, — развел руками Катугин. — Я, знаете ли, привык считать мужика мужиком, ибо всех их объединяет общность интересов, условий жизни, мышления и психологии. Коль применять вашу терминологию, то, на мой взгляд, бедняк и кулак отличаются лишь тем, что одному удалось разбогатеть, а другому пока не повезло. Дай этому самому бедняку возможность, он станет точно таким же богатеем. Уж не собираетесь ли вы поменять их местами при помощи этих самых комбедов? Боюсь, ничего из этого не выйдет — только окончательно разорите деревню.
— Вы, конечно, к партии эсеров принадлежите? — спросил Анохин.
— Не принадлежу, а просто разделяю их взгляды на деревню.
— Это сразу и видно. Когда подобные взгляды высказывает городская интеллигенция, я их еще могу как–то понимать. От деревни они далеки, жизнь там рисуется им в розовом свете, через какие–то литературные образы писателей–народников… Но вы–то, товарищ Катугин, постоянно живете в деревне?
— Да. Родился, вырос и служу в земской больнице пятнадцатый год.
— Так разве вы не видите, что реально происходит там? Я всего каких–то три года жил в Сибири, во время ссылки, и прямо скажу — глаза открылись. Деревни в Сибири богатые, а идет в них самая настоящая классовая борьба, только каждый борется против эксплуатации в одиночку. И все это под видом долгов, отработок, аренды и черт знает чего. Одни наживаются, другие голодают.
— Так было, товарищ Анохин, и так долго будет.
— Но надо же покончить с этой несправедливостью!
— При помощи комбедов с этим не покончить.
— А как?
— При помощи крестьянской общины…
— …В которой опять главенствовать будут кулаки! — подхватил Анохин. — Это утопия! А в конце концов она приведет к настоящей контрреволюции и в городе, и в деревне.
— Предложите другой план, — улыбнулся Катугин.
— У нас есть твердый план. Вы читали письмо Ленина питерским рабочим «О голоде»? Читали его работу «Очередные задачи Советской власти»?
— Читал. Этим вы оттолкнете от себя мужика и ничего не добьетесь.
— Трудовое крестьянство нас поддержит, а в поддержке кулаков мы не нуждаемся.
— Поддержит ли вас крестьянство, это выяснится завтра, на съезде… Как, мужики? — повернулся Катугин к молчаливо слушавшим делегатам. — Станете вы завтра голосовать за комбеды и продотряды? Чего молчите? Скажите председателю губернской власти, что вы думаете! Ведь он за этим, поди, и пришел.
Мужики в ответ хмуро и нерешительно переминались, отводили глаза и тянулись за кисетами. Не случись в уезде беды — все для них было бы проще. А тут попробуй разберись, как оно лучше? Ляпнешь не то, и без помощи от губернии останешься…
— Ну что же вы? Языки, что ль, проглотили? — Сквозь насмешливый тон Катугина уже пробивалось явное раздражение. — Вот ты, Агеев! — ткнул Катугин пальцем в грудь мужика, первым начавшего разговор с Анохиным. — Какой тебе наказ от общины дан?
— Голосовать за Советскую власть без комбедов и продотрядов, — неохотно ответил тот.
— Ну так чего ж ты молчишь? Не говоришь об этом прямо?
— Погоди, товарищ Катугин! — вмешался Анохин, — Зачем неволишь? Да и вопрос ты поставил неправильно. Разве наша политика в деревне только к этому сводится? Нет, вовсе нет! Комбеды и продотряды — мера временная и вынужденная… Из–за саботажа кулачества, из–за спекуляции хлебом и открытой контрреволюции в деревне. Пусть мужики завтра доклады послушают, обмозгуют их, а уж потом и решают.
— Дело это у них давно решенное, — усмехнулся Катугин.
— А ты все–таки за них не решай… Им на земле жить, пусть сами думают. Ну, мужики, время позднее, пора и отдыхать, поди. Откройте–ка окна да проветрите комнату перед сном — вон накурили сколько. А мы с Калугиным пойдем. Он ведь, как я понимаю, не здесь остановился, а у кого–то в городе. По дороге и доспорим.
— Нет уж. Спорить завтра будем, на съезде…
— Ну, как угодно. Можно и на съезде…
Анохин попрощался и уже подошел к двери, когда позади раздался голос:
— А с нашей бедой–то как же быть?
Анохин обернулся. Не менее полутора десятка мужиков выжидающе и настороженно глядели на него.
…Потом, через неделю, когда при выборах губернского Совета левые эсеры получат преимущество перед большевиками всего в несколько голосов, Анохин будет часто вспоминать эти напряженные секунды, которые станут казаться ему в чем–то решающими и с его стороны ошибочными. Анализируя случившееся, он будет корить себя тем, что в тот момент зря не поддался соблазну слукавить, схитрить, подкупить каргополов обещанием оказать им немедленную помощь хлебом, запасов которого, как он знал, нет в губернии: схитри, пообещай сразу — и, возможно, каргопольские крестьяне проголосовали бы за большевиков. Тем болей что и хитрость–то тут не ахти какая. Как ни крути, а каргополам помогать все равно придется, на голодную смерть уезд не оставишь. Хлеба в губернии нет — это правда! Но добывать его все равно надо! Тут вопрос жизни и смерти для всей революции! Нет, Анохин и в те томительные секунды твердо верил, что хлеб для губернии будет добыт готовящимися к отъезду на юг олонецкими продотрядами.
И все же Петр Федорович не пошел тогда на эту хитрость. Не пошел потому, что ему казалось обидным и несправедливым по–купечески широко обещать еще не добытый продотрядами хлеб тем, кто, хотя и несознательно, тянет эсеровскую линию, выступает против организации самих продотрядов.
Анохин сказал то, что думал. Обведя взглядом хмурые мужицкие лица, он произнес — решительно и беспрекословно:
— Уезд в беде мы не оставим… Но хлеба в губернии нет. Добудут его продотряды — дадим его и вам! Не добудут — вместе голодать придется. О вашей беде я доложу исполкому и съезду.
Все было бы хорошо и правильно, если бы растерявшиеся перед своей бедой каргополы верили в продотряды так же, как и он, если бы продотряды не казались им чем–то страшным, ненужным и вредным, если бы эсеровские шептуны не рисовали их голодному воображению молочные реки и кисельные берега, которые вот–вот хлынут в Россию из Мурмана, где союзнические корабли якобы день и ночь выгружают продовольствие для спасения русского народа.
VII Поражение
«Помнится, как мы, группа делегатов большевистской фракции IV губернского съезда, беседовали о ходе его. Петр Федорович был бодрым и уверенно говорил:
— Ничего, товарищи. Это временная победа левых эсеров.
Им не верят рабочие в городе, скоро и в глазах крестьянства они разоблачат себя…»
Из воспоминаний X. Г. Дорошина.1
До открытия съезда остается полчаса.
Делегаты, позавтракав в исполкомовской столовой, большими и малыми группами степенно шествуют к зданию бывшей земской управы на Онежской набережной. Многие с котомками — ведь редко кто из крестьян рискнул оставить в общежитии недельный делегатский паек, основную ценность которого составляют полфунта сахара и две осьмушки махорки.
Губсоветовский фордик, дребезжа и отплевываясь газолиновой копотью, в нарастающей лихорадке мечется вверх и вниз по Соборной улице. В тишине и свежести солнечного июньского утра будоражат город звуки невидимого духового оркестра, беспрерывно исполняющего «Смело, товарищи, в ногу!». Чем ближе набережная, тем слышнее музыка и бодрее под нее шагается делегатам.
Над фронтоном двухэтажного здания — кумачовый лозунг: «Да здравствует Советская республика и мировая революция!» Чуть ниже — другой: «Привет делегатам IV Олонецкого губернского съезда Советов». Перед входом, где два постовых проверяют мандаты, большая толпа. Стоят, курят даровую фабричную махорку, греются на ярком солнышке и смотрят, как весело поблескивают в руках военных оркестрантов причудливо изогнутые трубы. Напрасно бородатый сторож трясет медным колокольчиком, призывая делегатов входить в зал. Время еще есть, и никому не хочется расставаться до срока с праздничным настроением.
В дальней, до синевы накуренной комнате второй час заседает большевистская фракция губсовета. Уже выступил представитель центра Александр Копяткевич, уже заслушали Данилова, который сообщил окончательные итоги регистрации делегатов по фракциям, уже всем было ясно, что без схватки с левыми эсерами на этот раз не обойтись, и все же трудно было решить — самим ли начинать ее первыми или ждать пока это сделают противники.
Дорошин, Копнин и Попов рвались в бой.
— В жмурки играть нечего! — горячился Егор Попов. — Надо захватить инициативу! Первыми! При выборах председателя съезда! Вчера на собрании они решили выдвинуть в председатели съезда Балашова.
Все понимали, что левые эсеры настроены получить в свои руки председательствование на съезде. Возможно, они его и получат. По надо ли большевикам вступать с ними в открытый бой до обсуждения главных резолюций — по военному и продовольственному вопросам? Не лучше ли поберечь силы и постараться докладами и выступлениями привлечь на свою сторону беспартийных? Ведь широкий бой за место председателя, в случае его проигрыша, может сделать левых эсеров вообще хозяевами положения на съезде.
Такой точки зрения придерживаются Анохин, Григорьев, Парфенов и Данилов.
Спор иногда утихает, и наступает тягостная тишина…
— Пора бы и начинать съезд! — напоминает Данилов. — Десять минут осталось… Решай, Петр Федорович! Тебе открывать съезд! Надо ли нам во вступительном слове давать бой или не надо!
Коротко выступили по второму разу. Дорошин и Копнин уже не настаивали на своем, но Попов был непоколебим.
— Мы отказываемся от большевистской принципиальности! — воскликнул он, уязвленный тем, что остался в одиночестве.
— Нет, мы отказываемся от прямолинейности, которая может стать пагубной, — возразил ему Анохин. — Конечно, пост председателя съезда важный рычаг. Мы должны и будем за него бороться, если окажутся шансы получить его. Все выяснится в первые минуты… Но для нас гораздо важнее победить в конце, при голосовании резолюций и при выборах. Мы руководящая партия и пусть первыми междупартийный бой начинают они. Так будет для нас выгоднее — тем самым они сами разоблачат себя в глазах беспартийных.
— Пора, товарищи, пора! — тревожится Данилов.
— Абсолютно согласен с большинством! — заявляет Копяткевич.
В эти минуты в такой же прокуренной комнате первого этажа заседает руководящее ядро фракций левых эсеров. Настроение у них отличное. Хотя сама фракция составляет на Съезде лишь четверть зарегистрировавшихся делегатов, однако, как удалось выяснить, поддержка беспартийного крестьянского большинства им обеспечена. По важнейшим вопросам — об аннулировании Брестского мира, об отказе от комбедов и продовольственных отрядов — на их стороне будут представители меньшевиков, интернационалистов и эсеров–центристов.
Обсуждается все тот же вопрос — как быть? Сразу ли заявить свое право на главенство, что неизбежно приведет к разрыву с большевиками, или формально продолжать линию коалиции, добиваясь своего внесением фракционных поправок к большевистским резолюциям.
У левых эсеров — свои энтузиасты. Садиков, Родичев, Алмазов тоже рвутся в бой. Им не терпится поскорее оттеснить большевиков на второй план, стать на съезде полными и единовластными хозяевами. Тихомиров, Хрисанфов и Рыбак придерживаются более гибкой тактики.
— Большевики могут покинуть съезд! — предостерегает Рыбак.
— Ну и отлично! — улыбается Садиков. — Лично мне надоели их капризы. Не подчинившись воле большинства съезда, они разоблачат себя.
— Вы забыли историю с разгоном Учредительного собрания! На их стороне армия, Чека, рабочие. — Рыбак нервно встает, принимается размашисто шагать по комнате, потом — долговязый, сутулый и возбужденный — нависает над развалившимся в мягком кресле Садиковым:
—– В конце концов, кто мы? Политические враги или союзники по революционной борьбе? Надо решить этот кардинальный вопрос! Вы, как я вижу, исходите из первого… Лично я не хочу опять попасть в объятия Чернова и его компании.
— Зачем же, Абрам Аркадьевич, так нервничать! — улыбается Садиков.
— Товарищи, товарищи! — постукивает ладонью по столу Балашов. — Прошу вас не заходить в разговорах так далеко. Это излишне! Что касается Учредительного собрания, то ты, Абрам Аркадьевич, отлично знаешь, что наша партия полностью поддерживала его разгон и не к чему сейчас такие двусмысленные намеки. С другой стороны, и тебя, — кивок в сторону Садикова, — прошу понять, что не в наших интересах на глазах у крестьянства устраивать открытую драку за власть. Мы должны действовать умнее. Пусть мужик сам сделает выбор, кто ему ближе. Я считаю, что у нас есть полная возможность обойтись без взаимных с большевиками резкостей и все решить истинно демократическим путем. Не забывайте, что наших распрей ждут господа меньшевики и правые социалисты. Я уверен, что они вновь затянут свою песню про учредиловку — тут мы должны быть принципиальны и выступить единым фронтом с большевиками. Наше дело настолько правое, что нам нет нужды идти на обострения. Все, товарищи! Идемте!
2
Зал полон. В дальнем углу тесной кучкой сидят меньшевики и интернационалисты: Куджиев, Ягодкин, Комаров и рядом с ними — Шишкин. «Как он оказался тут?» — шагая к столу президиума, подумал Анохин, отлично помнивший, что бывшего члена Учредительного собрания никто делегатом не выбирал.
Анохин подходит к столу, кладет бумаги, тянется рукой к серебристому колокольчику.
Звонок, затихающий говор, наконец — тишина. Едва Анохин объявил съезд открытым и зал загремел дружными аплодисментами, как к столу председателя выскочил пунцовый от возбуждения вытегорский большевик и крестьянский поэт Метелкин. Вскинув вверх руку, он ждет пока стихнут последние хлопки. Потом резко запрокидывает голову, устремляет взгляд в какую–то точку на лепном земском потолке и громко, во всю силу голоса, декламирует:
Из дальних уголков Олонии холодной Сошлась богатырей великая семья. Иных ладья пустыней многоводной К нам принесла из древнего селья. В тревожный час, покинув милый кров, Иные пилигримами явилися на зов, Чтоб поделиться думами своими…Тишина такая, что слышно каждое поскрипывание стула и отрывистое шуршание карандаша под торопливой рукой стенографистки. Недоуменное любопытство на лицах мужиков сменяется восхищением: «Вот смотри ж ты, свой вроде мужик, а какую штуку может!» Снисходительно улыбаются городские интеллигенты. Им стихи Метелкина не в диковинку, чуть ли не каждый день в газете читают. Волнуются, переживают большевики из редакции и губнаробраза — Гершанович, Данилов, Парфенов, Кунаев. Только бы Метелкин не сбился, только бы до конца дотянул — такая аудитория промашки не простит, прямо в лицо засмеют и на возраст не посмотрят: не можешь — не лезь, дескать…
А Метелкин разошелся не на шутку. Он уже лихо размахивал рукой и последние слова, не хуже артиста, обратил непосредственно к сидящим в первых рядах:
— Привет вам, мудрые вожди, Потомки вольного могучего народа! Отриньте злые плевелы вражды, В вашей власти есть и рабство, и свобода!Последняя строка не очень–то складно вышла, да уж где тут разбирать! Метелкина проводили с трибуны так, как не провожали потом ни одного оратора. Хлопали так долго, что в вестибюле не выдержал оркестр, ударил марш и снова «Смело, товарищи, в ногу!». Зал поднялся и запел.
Глядя на воодушевленные песней лица, Анохин невольно слегка дирижировал, и ему уже как–то не хотелось верить, что через десять — пятнадцать минут этот дружный зал резко расколется на две непримиримые половины.
«Неужели мы едины лишь в песне? — подумалось ему. — Почему же, как только доходит дело до практического осуществления тех же самых идей, о которых поем сейчас, начинаются оговорки, разногласия, противоречия и вражда! Ведь есть же, наверняка есть слова, которые могут дойти до самого сердца всех собравшихся здесь. Ну, если не всех, то, по крайней мере, большинства из них, дойти и взволновать так же, как доходит и волнует эта песня!»
А потом он подумал о том, что эту истину отлично усвоили эсеры! Речь их ораторов — этих присяжных краснобаев, польется так плавно, с такими переходами от язвительности к трагизму, с такими заклинаниями и поклонами в сторону святого русского мужика, что у того же самого мужика душу захолонет и слезы из глаз выжмет. Так говорить им легко. Ведь не на их плечах висит вся тяжесть ответственности за то великое и малое, что вобрало в себя единственное слово — революция. Не за их спиной стоят миллионы голодных ртов городской бедноты, не на них нацелены штыки и ненависть мировой буржуазия. Не им, а большевикам отвечать перед народом за голод, разруху, спекуляцию, за безработицу на Онежском заводе или стихийное бедствие в Каргополье.
Песня кончилась.
Уже при выборах мандатной комиссии стало ясно, что беспартийное крестьянство отдает предпочтение левым эсерам. Но мандатную комиссию удалось без споров и разногласий сформировать на основе равного представительства. Сложнее оказалось с постом председателя съезда. Как только было объявлено о выдвижении кандидатур, Александр Копяткевич от имени фракции большевиков внес предложение избрать Анохина. Сразу же представитель Петроградской боевой организации левых эсеров Самохвалов выдвинул кандидатуру Балашова.
Зал напряженно загудел, грозя тут же расколоться на непримиримые части. Тогда левый эсер Тихомиров внес предложение, чтобы обе фракции договорились о председателе до голосования. Но тут свою провокационную роль сыграли петрозаводские меньшевики.
Из задних рядов к трибуне рванулся Василий Куджиев, возглавлявший Олонецкий эсеро–меньшевистский губсовет до 4 января 1918 года. Он не дошел даже до трибуны и остановился посреди зала:
— Считаю последнее предложение по меньшей мере странным. Опять важный вопрос хотят решать не по воле собравшихся здесь полномочных представителей губернии, а где–то заглазно. Это нарушение демократии, недоверие съезду. Съезд должен сам избирать своего председателя. Кандидатуры выдвинуты, и надо голосовать!
Крики «Просим!» и «Долой!» покрыли слова довольного Куджиева.
Дело было сделано, пришлось голосовать. Кандидатура левых эсеров собрала на 26 голосов больше, и польщенный, но тщательно скрывавший это Балашов двинулся к председательскому столу. Шел он неторопливо, словно бы нехотя. С подчеркнутым дружеским расположением пожал руку сходившему в зал Анохину, и это вызвало новую бурю аплодисментов. Балашов произнес краткую вступительную речь, суть которой сводилась к тому, что оказанное ему доверие он намерен обратить на пользу избравшего его собрания и постарается не столько руководить съездом, сколько руководствоваться его волей.
Копяткевич тихо шепнул сидевшему рядом Анохину:
— Сейчас станет ясно их истинное намерение…
Как только Балашов закончил свою речь, Копяткевич попросил слова и предложил послать от имени съезда приветственную телеграмму Совету Народных Комиссаров в Москву, Союзу Коммун Северной области в Петроград и всем уездным исполкомам Олонецкой губернии,
В первую минуту Балашов заметно растерялся. Не зная, как поступить, он вопросительно посмотрел на Самохвалова, но тут опять вмешался Куджиев.
— Здесь собрались, — начал он, сдерживая возмущение, — полномочные представители трудового народа губернии, чтобы определить свое отношение к самым кардинальным вопросам нашей революции и в том числе к политике Совета Народных Комиссаров. И что же получается? Большевики предлагают нам без всякого обсуждения выразить верноподданнические чувства их руководству в Москве. Это недопустимо. Это такая же провокация, какую мы уже видели в отношении Учредительного собрания. Я считаю, мы должны отвергнуть эти посягательства на свободу и волю нашего съезда.
Выступление Куджиева было явно рассчитано на то, чтобы вбить еще один клин между большевиками и левыми эсерами. Однако на этот раз расчет привел к обратному результату. Ссылка на Учредительное собрание сделала для левых эсеров невозможным присоединение к голосу Куджиева. Сначала Балашов, потом Самохвалов дали резкую отповедь меньшевикам и предложили принять приветственную телеграмму без обсуждения и голосования.
Этот эпизод приглушил остроту междупартийной борьбы на съезде, дал возможность без споров и разногласий избрать состав президиума, утвердить регламент и повестку дня. Предстояло заслушать доклады от уездов и отчеты всех губернских комиссаров, обсудить текущий момент, продовольственный, военный и финансовый вопросы, избрать делегатов на V Всероссийский съезд Советов и произвести перевыборы состава губисполкома. Регламент усложнялся тем, что каждый доклад (а их было полтора десятка) дополнялся двумя содокладами от фракций. Таким образом, четверть присутствующих на съезде были официальными ораторами, и времени на широкие дебаты почти не оставалось. Впрочем, никто, кроме меньшевиков, на них и не настаивал. Крестьяне, озабоченные приближающейся сенокосной порой, дружно просили ограничить время для выступлений в прениях десятью минутами,
До поздней ночи слушали доклады с мест. Один за другим поднимались на трибуны представители уездов, коротко рассказывали о первых шагах Советской власти в деревнях и все дружно требовали хлеба. Продовольственный кризис был настолько тяжким, что уездные ораторы отодвигали в сторону листки с тезисами и били в одну точку — хлеба, хлеба, хлеба. Шло вынужденное и печальное состязание в крестьянском красноречии. Только бы ни в чем не уступить соседу, только бы еще сильнее разжалобить слушателей своими горестями и бедами. Стоило олонецкому представителю Чубриеву, выступавшему первым, заявить, что «грамота у него невелика, что свою грамоту он купил у деревенского попа за мешок картошки», как повенецкий докладчик Фролов не упустил случая посоперничать с ним даже в этом:
— У олонецких мужиков была хоть картошка для попа. А у нас, у повенецких, попы–то были, а картошки на грамоту отродясь не хватало. Вот и судите–ка сами о нашей теперешней бедности… Как выйти из нее, мы не знаем. Как все исправить, чтоб поддержать и Советскую власть, и свой желудок? И когда он будет полон, мы прекрасно заработаем и пойдем, куда угодно. Только одни трусы боятся смерти, но смерть хороша, когда я знаю, за что иду… Иду твердо и спокойно… Вот, товарищи, какое печальное положение в нашем уезде.
Жалоб на беды и недостатки было так много, что к вечеру с ними заметно пообвыклись, ораторов провожали сдержанными вежливыми хлопками, и усталые делегаты ждали конца заседания.
И все же, когда каргопольский представитель Белобородов с болью и слезами на глазах стал говорить о стихийном бедствии, обрушившемся на уезд, ровный шелестящий шумок в зале постепенно смолк. Сколь ни тяжело было нынешнее положение в других уездах, но оно все–таки воспринималось как временное. Вот через месяц–другой созреет новый урожай и станет полегче — этой надеждой жили все. А тут — дело иное. Кому, коль не мужику, сидящему в зале, понимать истинные размеры несчастья, свалившегося на каргополов. Тут нельзя не посочувствовать. Да к тому же, по нынешним временам, одним сочувствием, пожалуй, не обойдешься. Не пришлось бы своим малым хлебушком с каргополами делиться? Было с чего притихнуть и вновь с выжиданием и опаской тянуть головы в сторону президиума.
Белобородову не аплодировали. В напряженной тишине вышел он из–за трибуны и направился в зал. Зашушукались левые эсеры, сидевшие вокруг своего петроградского представителя Самохвалова. Не торопился предоставлять слово следующему оратору и Балашов. Все чего–то ждали.
Анохин понял, что левые эсеры, окружившие Самохвалова, готовятся внести какое–то предложение, и решил опередить их. Он попросил слова для внеочередного заявления и, выйдя к трибуне, сказал:
— Ввиду чрезвычайности фактов, сообщенных товарищем Белобородовым, от имени губисполкома вношу предложение, чтобы съезд не оставил их без внимания и, как высшая власть в губернии, принял специальное постановление: объявить особенно пострадавшие от града Лепшинскую и Калитинскую волости Каргопольского уезда местами стихийного бедствия, выслать туда комиссию для определения истинных размеров потерь, и, как только в губернию поступит хлеб, заготовленный нашими продотрядами, выделить комитетам бедноты этих волостей дополнительную хлебную помощь.
— Опять продотряды и комбеды! — взревели голоса из задних рядов, где сидели меньшевики и эсеры. — Это же провокация!
— Прощу прекратить выкрики! — энергично затряс колокольчиком Балашов. — Считаю внесенное предложение вполне своевременным и приемлемым! — Уловив одобрительный кивок Самохвалова, он продолжал: — Ставлю его на голосование по пунктам.
— Прошу голосовать предложение целиком! — прервал его Анохин.
— Вы настаиваете? — деланно удивился Балашов. — Но ведь оно состоит из трех самостоятельных пунктов?
— Фракция большевиков настаивает на голосовании предложения целиком! — с места потребовал Копяткевич.
— Хорошо. Ставлю предложение товарища Анохина на голосование целиком. Кто за — прошу поднять руку!
Предложение было принято значительным большинством. Когда поздно вечером заседание было закрыто и делегаты густой толпой повалили к выходу, к Анохину подошел Балашов.
— Ну, Петр Федорович, — с улыбкой произнес он, — ты настойчиво, как добрый хозяин норовистую лошадь к кнуту, хочешь приучить мужика к мысли о необходимости продотрядов и комбедов?
— Насчет необходимости ты правильно, Иван Владимирович, понял. Только продотряды — не кнут. Поищи других сравнений!
— Но и овсом их тоже не назовешь. Особенно в отношении деревни.
— А мы и самого мужика с лошадью не сравниваем.
— Вот это верно! — засмеялся Балашов. — В этом мы всегда найдем общий язык… Ну, а как — ты доволен началом съезда? — Он испытующе посмотрел в глаза Анохину.
— Начало нормальное… Только сам понимаешь, что конец — всему делу венец!
3
Домой возвращались вчетвером: Копяткевич, Анохип, Парфенов и комиссар юстиции Копнин. На город спустилась тихая белая ночь, в мягком полусумраке которой дома и деревья казались преисполненными какой–то особой таинственности. Любительский симфонический оркестр в Летнем саду заканчивал свой ежедневный концерт, к городским причалам подплывали последние запоздалые лодки, и размеренный скрип уключин как бы отбивал ритм замедленному штраусовскому вальсу. Это было удивительно, но в то страшно тяжелое лето, когда на едока выдавалось по пять — восемь фунтов муки в месяц, полуголодный Петрозаводск переживал непонятное увлечение музыкой. Такого город не знавал в прежние, более благополучные времена. По инициативе губнаробраза возникали любительские квартеты, трио или даже оркестры, с неизменным успехом игравшие в Летнем саду или кинотеатре перед началом сеанса. Они исполняли наспех подготовленную программу, но чтобы собрать благодарных слушателей, достаточно было одной скромной афиши на весь город.
Когда свернули на Соборную улицу и начали подниматься вверх, Копяткевич стал вполголоса анализировать итоги первого дня съезда.
— Главное — мы ни в чем не отступили от своих принципов и не позволили втянуть себя в ненужные сейчас распри по мелким вопросам, — говорил он молча слушавшим товарищам. — Ведь в глазах простого крестьянина и мы, и левые эсеры представляем единую силу, которую он называет Советской властью. Вы думаете он придает какое–то особое значение тому, что председателем съезда избран Балашов, а не Анохин?
— Наверное, придает, если большинство крестьян голосовало за Балашова, — заметил Анохин. — Ты нас, Александр Антонович, не утешай! Мы ведь понимаем, что к чему.
— А я и не утешаю. Наоборот, хочу настроить вас на боевой дух в дальнейшем. Что касается Балашова, то для крестьянина — он свой мужик, сам выходец из деревни.
— Он ведь, кажется, откуда–то из–под Тивдии? Вроде у его отца и сейчас хозяйство там есть?
— Не у отца, а у тестя, — поправил Парфенов. — Сам Балашов типичный интеллигент. Просто он удачно под мужика рядится.
— У отца ли, у тестя, — мужику все равно. Для крестьянина сейчас он все–таки ближе, понятней, чем вы, я или Анохин. На этом Балашов пока и выиграл. Но дело это недолгое. Классовая борьба в деревне только еще начинается.
— Опять ты успокаиваешь нас, Александр Антонович, — усмехнулся Анохин. — Не надо этого, не нытики мы, не бойся! Но правде в глаза надо смотреть. Резолюцию о комбедах и продотрядах нам навряд ли удастся провести.
— Но отдельной такой резолюции мы и не выдвигаем. Предложим единую по всему продовольственному вопросу. У тебя же вот удачно сегодня получилось с каргополами.
— Да, ловко ты их поддел, Петр Федорович, — засмеялся довольный Копнин.
Сам Анохин не разделял такого оптимизма.
— Боюсь, не сделал ли я ошибки, — в раздумье сказал он. — Ведь второй раз левые эсеры такого не допустят. Теперь Балашов настоит на раздельном голосовании резолюции по продовольственному вопросу. Хотя, с другой стороны, не в кошки–мышки же мы играем! Не в том же наша задача, чтобы перехитрить эсеров, а в том, чтоб вырвать из–под их влияния крестьянское большинство.
— Правильно рассуждаешь, — одобрил Копяткевич. — Только действовать нам нужно осмотрительно. Как показал сегодняшний день, эсеры не хотят идти на полный разрыв с нами. Они боятся остаться один на один со всей сложностью обстановки в губернии. Да и понимают, что мы не допустим этого. Разрыв не выгоден и нам, особенно сейчас, накануне Всероссийского съезда. Конечно, мы должны и будем вскрывать ошибочную, капитулянтскую сущность их политики в деревне, их авантюристский курс в вопросе войны и мира, но пока, мне думается, надо делать это, не переходя к прямому разрыву с ними. Ты, Петр Федорович, с этой толки зрения еще раз просмотри свой завтрашний доклад по текущему моменту. Завтра первым выступает Самохвалов. Если он захочет навязать нам открытый бой, то мы должны быть готовы к нему.
4
Открытый бой все же грянул назавтра и продолжался до конца съезда.
Начался он на дальних подступах, с артиллерийской подготовки, каковой явился доклад Самохвалова по текущему моменту. Тяжелые снаряды левоэсеровской критики долго молотили по беспомощным и уже разбитым позициям петрозаводских меньшевиков, а потом вдруг обрушились на узловые пункты политики ВЦИКа и Совета Народных Комиссаров.
Сделано это было чисто спекулятивным приемом. Указывая пальцем в сторону меньшевиков, Самохвалов патетически восклицал:
— Их не было с нами, когда мы поднимали трудовые массы города и деревни на совершение Октябрьского переворота! Их не было с нами, когда мы противостояли открытому контрреволюционному гнезду Учредительного собрания! Вот почему они не имеют сейчас никакого права на критику Брестского мира! Критиковать Брестский мир имеем право мы, и мы критикуем его! Мы будем критиковать его, так как он продает немецким банкирам завоевания нашей русской революции, за которые наша партия заплатила кровью своих лучших сынов!
Дальше покатилось–поехало. Под флагом товарищеской критики Самохвалов всю вину за тяжелое положение в стране взвалил на большевиков, на их нежелание прислушаться «к чаяниям и интересам крестьянства, волю которых может выражать лишь партия левых социалистов–революционеров, выросшая и окрепшая в борьбе за эти самые интересы и чаяния». Естественно, он начисто отверг продовольственную политику ВЦИКа и Совета Народных Комиссаров, потребовал немедленной отмены декретов о комбедах и продотрядах, в качестве якоря спасения от голода провозгласил свободный товарообмен между городом и деревней.
Масла в огонь подлили интернационалисты.
Собрав в перерыве пятнадцать подписей крестьян, Куджиев в записке председателю съезда потребовал, чтоб ему было предоставлено полчаса для содоклада от имени якобы только что созданной фракции беспартийных. Уловка была тут же разоблачена. Куджиев получил обычные десять минут для выступления в прениях. Он взошел на трибуну и заявил, что и большевики и левые эсеры обманывают съезд, пытаются ввести его в заблуждение.
Зал настороженно затих.
Куджиев поправил пенсне, демонстративно достал из кармана часы, заметил время и начал прямо с вопроса:
— Что же объединяет теперь большевиков и левых эсеров? Они разошлись в разные стороны по Брестскому миру. Они разошлись в вопросе о продотрядах. Они разошлись в вопросе о комбедах. Так что же объединяет их, спрашиваю я вас? Ничто. Нет у них общей платформы. И та и другая партия ведут обманную, авантюристскую политику, совершая преступление перед демократией и свободой.
По залу прокатился гул недовольства. С трудом установив порядок, Балашов обратился к оратору:
— Продолжайте. Только воздерживайтесь от оскорбления партий, коль вы ратуете за демократию.
Куджиев говорил ровно десять минут. Спасение революции и страны он видел в немедленном созыве нового общероссийского Учредительного собрания, в объединении всех под лозунгом демократии и свободы и на доказательстве этого тезиса сосредоточил все свои усилия.
Под дружный неистовый топот и крики «Долой!» Куджиев сошел с трибуны и невозмутимо направился в конец зала, где сидел довольный Шишкин.
— Господин Шишкин, — громко обратился Балашов к бывшему депутату Учредительного собрания. — В президиум поступила записка, где просят вас предъявить пригласительный билет, на основании которого вы присутствуете на съезде.
— Билет у меня есть.
— Предъявите его президиуму.
— Я это сделаю в перерыве. А сейчас прошу разрешить мне быть хотя бы немым свидетелем ваших преступных деяний.
— Вон! Долой! У него нет билета! — понеслись по залу возмущенные голоса.
— Неужели я так опасен вам даже молчаливый! — выкрикнул Шишкин.
Слово к порядку ведения съезда взял член президиума Парфенов.
— Вы не опасны нам ни молчаливый, ни говорящий! Вы такой же политический мертвец, как и явление вас породившее. Вы напрасно переоцениваете значение своей личности, вы просто мешаете работе съезда. Чтобы вы поняли, насколько вы не опасны для нас, вношу предложение — пусть сидит со своим дружком Куджиевым, пусть они смотрят и видят, как представители трудового народа решают без них судьбы революции. Может быть, это пойдет на пользу!
Неожиданное предложение понравилось делегатам, и они с веселым смехом проголосовали за него: «Пусть учится! Пусть! Просим!» В те дни ни сам Парфенов, ни другие участники съезда и не предполагали, что это решение окажется пророческим хотя бы в отношении Куджиева. Вскоре Василий Михайлович Куджиев бесповоротно перейдет на большевистские позиции и станет одним из организаторов Карельской Трудовой Коммуны [1].
Поздно вечером слово для доклада по текущему моменту от фракции большевиков было предоставлено Петру Анохину. Текст доклада был им написан заранее и перепечатан на машинке. Его обсуждали и утвердили на совместном заседании окружкома партии и большевистской фракции Губсовета.
Однако, взойдя на трибуну, Петр Федорович глянул в зал и, встретив напряженные выжидающие взгляды сотен людей, он вдруг понял, что говорить только по написанному сейчас просто недопустимо.
— Товарищи! — тихо, как бы пробуя голос, произнес Анохин и выждал, пока смолкнут в рядах последние шепотки. — Я выступаю сейчас не с отчетом о деятельности губисполкома. Это будет позднее. Это сделают наши губернские комиссары. Я буду говорить как член партии коммунистов–большевиков, как докладчик от большевистской фракции съезда и представитель Петрозаводского окружного комитета нашей партии. Это не значит, что я стану высказывать вам чьи–то чужие мысли, которые меня лишь обязали высказать. Нет, я буду говорить о том, что думаю, что исповедую и разделяю я сам. Тем самым я нисколько не нарушу волю своей фракции, так как у нас существует полное единодушие по всем вопросам.
Зал внимательно слушал, и это придало Анохину — нет, не спокойствие, он уже привык преодолевать волнение на трибуне, — а то ощущение уверенности в себе и свободы, когда знаешь, что тебя слушают и ты можешь говорить легко и без напряжения.
Анохин начал издалека. Проанализировав ход развития революции и линию поведения политических партий, он одно за другим опроверг обвинения и притязания левых эсеров. Делал он это мягко, не прибегая к оскорбительным выпадам, а полагаясь на силу и убедительность самих фактов.
— Нам говорят: долой Брестский мир! Хорошо, давайте прислушаемся и подумаем, что это — демагогия или реальность? Долой мир — это значит опять война, это значит — опять два–три миллиона человек, которых нужно одеть в солдатские шинели и направить против немцев. Их нужно не только одеть, обуть, вооружить, их нужно кормить. А где взять хлеба, если мы и сейчас задыхаемся в тисках голода? Я уже не говорю о том, как трудно теперь измученного четырехлетней бессмысленной войной солдата заставить пойти в опостылевшие ему окопы. Разве тот же мужик не рад полугодовой передышке, которую дал ему Брестский мир? Чем занимаются сейчас эти два–три миллиона рабочих рук? Они пашут землю и сеют хлеб, который и спасет нашу революцию от голода. Теперь, товарищи, и судите, кто понимает интересы крестьянства, а кто лишь кричит об этом?
Эти слова были встречены аплодисментами крестьянских делегатов.
— Нам говорят — «долой продотряды! Только свободный товарообмен в сочетании с углублением классового самосознания крестьянства!» Правильные, хорошие слова. Мы за товарообмен между городом и деревней. Но разве кому–нибудь не ясно, что это дело завтрашнего дня. А продовольственный вопрос — дело сегодняшнего дня. Голод не дает никакой отсрочки, он не станет ждать, пока мы поднимем классовое самосознание в деревне до такой степени, что богатые крестьяне сами добровольно дадут излишки хлеба! В Петрограде малые дети пухнут и умирают от голода! В Петрограде обезумевшие от отчаяния матери поднимают голодные бунты! А в хлебородных губерниях в закромах богачей гниют миллионы и миллионы пудов! Неужели сейчас, в такую минуту, городской и деревенский пролетариат должен ждать, пока кулак и спекулянт смилостивятся, перевоспитаются и соблаговолят дать ему хлеба! Нет, товарищи, нужны срочные и самые решительные меры! Нам говорят, что продотряды — это грабеж деревни. Так могут утверждать лишь те, кто не читал декретов правительства по продовольственному вопросу. Хлеб заготавливается продотрядами не бесплатно, а по твердой государственной цене в обмен на городские товары. Продотряды — это срочная, крайняя и временная мера, необходимая для спасения страны и революции! Так понимает этот вопрос наша партия большевиков! И так она ставит его перед всем трудовым народом!
Доклад Анохина слушали так, что лед недоверия, казалось, уже сломлен, что крестьяне, составлявшие большинство делегатов, поняли, наконец, неизбежность твердой продовольственной политики, тем более что сами они приехали сюда с наказом от обществ добиться хлебной помощи от центра.
Вместе с большевиками они охотно аплодировали Анохину в самых ярких местах его речи, горячо проводили его, когда он закончил свое выступление.
Однако, когда две резолюции по текущему моменту, предложенные фракциями большевиков и левых эсеров, были поставлены на голосование, преимущество оказалось за той, где осуждался. Брестский мир, где отвергалась политика комбедов и продотрядов. Шестьдесят три делегата проголосовали за резолюцию большевиков и семьдесят три за резолюцию левых эсеров.
В значительной мере это объяснялось тем, что левоэсеровская резолюция внешне была одета в оболочку самой горячей поддержки идей революции и Советской власти, содержала такую спекулятивно высокую оценку революционных возможностей русского крестьянства, что все попытки большевиков доказать ошибочную, авантюристическую сущность целого ряда ее практических положений никак не доходили до сознания большинства делегатов из деревни.
Такое соотношение голосов сохранилось до конца съезда. Оно обеспечило левым эсерам победу при выборах губисполкома, в состав которого вошли восемнадцать левых эсеров и двенадцать большевиков.
5
В том, насколько революционная фразеология левых эсеров запутала делегатов из крестьян, Анохин имел случай убедиться в самом конце съезда.
Смолкли звуки «Интернационала», отгремели последние овации. Радостные, возбужденные делегаты покидали душный, уже задымленный самокрутками зал.
К Анохину подошел сияющий, немного смущенный, пожилой мужик с пышными фельдфебельскими усами и с пустым, заправленным под ремень рукавом солдатской гимнастерки.
— Товарищ Анохин! Здравия желаю!
— Здравствуйте.
— Вы меня не признаете?
— Простите… Не припомню…
— А ить мы с вами, товарищ Анохин, вместях кандалами позванивали, доброхотные подаяния принимали… Не забыли, как до Петербурга в одном этапе нас везли на пароходе?
— Барышев?! — воскликнул обрадованный Анохин. — Солдат Барышев, из–под Пудожа…
— Точно. Он самый, — счастливо заулыбался мужик. — А я тебя, товарищ Анохин, сразу признал–от, хоть ты и мальчонкой–то был тогда. Фамилию–то не упомнил, а как стал ты говорить — голос–то знакомый… Лицом–то, однако, ты здорово переменился. В большое начальство вышел. Много раз подойду — и сумление берет. А вдруг–от и не ты вовсе — в конфуз–то как бы не ввести. Сегодня–от, перед отъездом, решился.
— Я, я это, товарищ Барышев! И очень рад я, что встретились… Ну, как жил ты эти годы? Судили тебя тогда или обошлось? Отойдем–ка в сторонку, посидим минутку, расскажи!
Барышев сильно переменился. В ту ненастную ночь, когда плыли они в тюремной каюте, был он молодым и здоровым, но, подавленный своим несчастьем, впечатление производил жалкое. Теперь же перед Анохиным сидел однорукий инвалид — беда для крестьянина такая, что страшнее вроде бы и не придумаешь, а у Барышева лицо бодрое, сияющее, широкая улыбка так и топорщит густые, прокуренные усы, под которыми желтовато поблескивают крепкие зубы. Даже и не верится, что это тот самый солдат, который был когда–то настолько погружен в свое отчаяние, что Благосветову приходилось уговаривать его, словно малого ребенка. О своей дореволюционной беде он говорил охотно, даже с гордостью.
Военный суд приговорил его и еще восемнадцать солдат к разным срокам каторги и дисциплинарного батальона.
Причитавшийся ему год Барышев отбыл в Псковском централе, потом — ссылка на поселение, но помогла война. Был мобилизован, дослужился до унтерских лычек, двух Георгиев получил, а перед самым замирением, осенью прошлого года, лишился руки.
— И войны–то уж никакой не было. В окопах ночи коротали, а днем–то сплошь митинговали. Покидает немец снаряды — и ладно! Один–от дурацкий осколок и на мою долю пришелся — начисто обрубил! Докторам только зашить и осталось. Домой как раз к переделу подоспел. Пятнадцать годков, почитай, не был дома–то. Хозяйство в такой вид пришло, что…
При этих словах Барышев весело улыбнулся и махнул своей одинокой рукой, словно речь шла о чем–то совершенно пустяшном или, по крайней мере, постороннем для него.
— Как же жить думаешь? — спросил Анохин.
— Как жить? — пожал плечами Барышев, — А так вот и придется… с одной рукой–от… Крестьянское дело, сам видишь, мне не подходит. Мужики, как грамотного да идейного, в Совет выдвинули… В делегаты вот попал.
— В деревне у вас как, голодно?
— И не говори! Нови ждем — не дождемся.
— Ты сказал — «идейного»… Ты что, в партии состоишь?
— Нет. Не записан. Только революцию я стойко провожу, ты не думай! С фронта это у меня. Против эксплуататоров вот как борюсь! С нами, с фронтовиками–то, считаются на деревне. И вот, как фронтовик–от, я хочу сказать тебе… По старому знакомству вроде… Есть у нас, у крестьян сила, есть. Мы без этих комбедов так тряхнем кулаков и спекулянтов! Мы найдем этих капиталистов, они еще запрыгают у нас в небо, вот увидишь! В этом я вроде бы тебе возразить хочу…
Анохину давно не терпелось узнать, за какую резолюцию отдал Барышев свой голос. Теперь надобность спрашивать отпала сама собой. Ясно, что и он проголосовал за левоэсеровскую…
— Много у вас фронтовиков в деревне?
— Шестеро нас.
— И все думают так же, как ты?
— Ну, может, и не все такие активисты... Но мужики нас слушаются.
— Много вы хлеба у кулаков реквизировали, чтоб помочь бедноте, накормить голодных.
— Так ведь говорю, товарищ Анохин! — загорячился Барышев. — Не занимались мы этим… А теперь, раз постановили браться за это дело, возьмемся. Приеду и первым делом так и скажу в Совете.
— В Совете, думаешь, тебя поддержат?
— Кто его знает? Кто победней поддержит…
— Много ли таких в Совете?
— Человек пять наберется.
— А остальные будут против?
— Могут.
— Вот теперь, Барышев, ты и объясни мне, почему ты голосовал против комбедов? Ты же сам собираешься продовольственный вопрос в своей деревне решать, опираясь на бедняков, избранных в Совет. ВЦИК дает тебе законные и полномочные права, а ты голосуешь против.
— Товарищ Анохин! Ей–богу, не нужны нам никакие комбеды. Вот увидишь, сами справимся. Все дело в фронтовике. Захочет фронтовик — сообща все сделаем. Мы ведь с оружием. Мы и так возьмем эксплуататоров за горло!
— Ну что ж, Барышев! Желаю успеха! Однако скажу! Если будешь делать то, что сейчас обещаешь, то без комбедов да без помощи городского пролетариата тебе не обойтись. Понадобится помощь — пиши, поможем!
— Сделаем. Сами все сделаем. Обещаю!
В его голосе было столько уверенности, что Анохин, пожимая на прощание руку, грустно улыбнулся:
— Оптимист ты, Барышев! Удивительный оптимист! И когда ты стал таким?!
Барышев принял замечание за упрек, неожиданно обиделся:
— Зря вы, товарищ Анохин, обзываете меня. Я за революцию всей душой–от.
Анохин засмеялся, похлопал его дружески по плечу.
— Не обижайся. Слово это хорошее. Я сам такой.
6
Поражение на выборах не было неожиданным, однако от этого не становилось менее горьким. Оно до чрезвычайности осложнило всю обстановку в губернии и поставило перед большевистской фракцией трудные проблемы. Левые эсеры, без сомнения, захотят теперь многое повернуть по–своему. Они, конечно, будут потрясать своими резолюциями, одобренными большинством съезда. Как им противостоять? Сейчас, пока руководящие посты в важнейших комиссариатах и отделах губисполкома принадлежат большевикам, им, левым эсерам, практически навряд ли удастся что–либо сделать. Но так долго продолжаться не может. Пользуясь большинством в Губсовете, они, конечно, захотят получить эти посты в свои руки. Как удержать их?
Не менее огорчительна была и другая сторона в случившемся — политическая. Завтра в Москве откроется V Всероссийский чрезвычайный съезд Советов. Что и говорить — хороший подарок съезду преподнесли петрозаводские большевики? Стыд, позор — да и только!
Как ни старались товарищи скрывать это друг перед другом, но уныние и растерянность угадывались, на их лицах, когда собралось совместное заседание большевистской фракции губисполкома и Петрозаводского окружного комитета РКП (б).
Пока ждали Анохина и Игошкина, которые вот уже более часа по прямому проводу связывались с центром, каждый мысленно анализировал ход губернского съезда, искал каких–то ошибок у себя или у товарищей, и самым мучительным было то, что никаких явных просчетов или упущений не находилось.
Держались по–разному. Одни хмуро курили в тягостном раздумье, другие с напускной бодростью расхаживали по комнате, беспрестанно разговаривая и пробуя даже шутить. Егор Попов сидел с таким многозначительным видом, словно ему одному дано было понимать истинные причины происшедшего. Поскольку такое поведение Читаря повторялось не в первый раз, беспокойный, язвительный Христофор Дорошин не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над ним:
— Не мучай нас, Егор Петрович! — подмигивая товарищам, умолял он. — Скажи, о чем молчишь? Не таись, открой глаза нам!
— Балаболка ты, Христя! — печально качая головой, отругивался Читарь. — И как только тебе серьезное дело доверили?
— Будто не знаешь как? — лукаво щурился Дорошин. — Так прямо и сказали — если что, Егор Петрович поможет! Он всегда наперед все знает. А ты вот сидишь и молчишь! Знаешь, а сказать не хочешь!
— Придет время — скажу! — мрачно пообещал Читарь.
Как только явились Анохин и Игошкин, Читарь взял слово первым и принялся горячо доказывать, что напрасно не послушались его в начале съезда, напрасно не пошли на открытый бой и полный разрыв с левыми эсерами, что интеллигентская мягкотелость привела фракцию к невольному оппортунизму, так как теперь сотрудничество с левыми эсерами в губисполкоме будет означать отход от генеральной линии партии.
— Еще три часа назад можно было исправить положение, — заявил Попов.
— Как? — спросил Анохин.
— Покинуть съезд!
— Твоя позиция ясна. У тебя есть конкретное предложение?
— Да. Фракция большевиков должна полностью выйти из состава губисполкома, где большинство принадлежит левым эсерам.
— Кто еще желает высказаться? — спросил Анохин. — Возможно, есть другие предложения?
— Есть. Разрешите мне.
Военный комиссар Дубровский подошел к председательскому столу, встал рядом с Анохиным.
— Уйти из губисполкома — это значит добровольно отдать всю власть в губернии в руки эсеров. Это предложение считаю крайне ошибочным. Сейчас мы должны остаться в губисполкоме. И пока мы там будем, хотя бы в меньшинстве, мы не позволим левым эсерам проводить их резолюции, направленные к срыву Брестского мира или к затуханию классовой борьбы в деревне. Уйти и стоять в стороне — это тоже не принципиальность, а черт знает что! Если нам и придется хлопнуть дверью, то лишь затем, чтобы назавтра же поднять рабочий класс города и изгнать левых эсеров из губисполкома, как сделали мы это в январе с меньшевиками. Однако сейчас, накануне Всероссийского съезда, делать это считаю преждевременным.
Дубровского поддержали Парфенов, Григорьев, Данилов, Игошкин. Голос Егора Попова Остался вновь в одиночестве, но Читарь не сдавался:
— Рано или поздно вы признаете мою правоту! Принципиальность — это такая вещь, с которой шутить не подложено. Она жестоко мстит за себя.
— Да мы разве шутим, Егор Петрович! — воскликнул Дорошин. — Мы все очень ценим ее, твою принципиальность.
— Ладно, ладно, Христя! Ты и сам не знаешь, когда ты шутишь, а когда всерьез говоришь.
Анохин Коротко сообщил о переговорах с центром, подчеркнул, что рекомендации оттуда не расходятся с мнением товарищей, что в настоящее время нельзя ни на час оставить власть в губернии в руках одних левых эсеров, что перед фракцией стоит нелегкая задача добиваться через губисполком проведения в жизнь декретов ВЦИКа и Совнаркома.
— Что касается принципиальности, — сказал Анохин, — то тут Егор Петрович, пожалуй, прав. Теперь она потребуется от нас особенно, чтоб своевременно разгадывать и предупреждать маневры левых эсеров в губисполкоме. Я уверен, что левые эсеры очень быстро разоблачат себя в глазах тех самых крестьян, благодаря которым они получили большинство на съезде. Сложившееся положение мы должны воспринимать как временное и недолгое!
VIII Время действовать
«Вчера Всероссийский съезд Советов подавляющим большинством голосов одобрил внешнюю и внутреннюю политику Совета Народных Комиссаров. Так называемые левые эсеры, которые за последние недели целиком перешли на позицию правых эсеров, решили сорвать Всероссийский съезд. Они решили вовлечь Советскую Республику в войну против воли подавляющего большинства рабочих и крестьян. С этой целью вчера, в 3 часа дня, был убит членом партии левых эсеров германский посол. Одновременно левые эсеры попытались развернуть план восстания…»
Из правительственного сообщения Совета Народных Комиссаров от 7 июля 1918 года. «Декреты Советской власти», т. 2, стр.532.1
Когда петрозаводские большевики обсуждали итоги только что закончившегося губернского съезда, они еще не знали, что на севере уже развернулись события, которые до предела обострили положение не только Олонецкой губернии, но и всей Советской республики. Англо–французские войска, дислоцированные на Мурмане, перешли к активным военным действиям. Они заняли северную часть Мурманской железной дороги, установили свой контроль в поездах, на телеграфе, разоружили охрану, арестовали местных советских руководителей.
2 июля быстрым продвижением к югу интервенты захватили город Кемь, арестовали и на глазах изумленных жителей расстреляли членов уездного Совета Каменева, Вицупа, Малышева.
Это было началом большой войны, которая с первых же дней придвинулась вплотную к границам Олонецкой губернии.
5 июля военный комиссар Олонецкой губернии Арсений Васильевич Дубровский получил приказ чрезвычайного комиссара Мурманско–Беломорского края С. П. Нацаренуса о введении военного положения во всем районе Мурманской железной дороги до станции Званка включительно.
В тот же день Олонецкий губвоенкомат принял ряд срочных мер по обороне губерний. Все части Красной Армии были немедленно приведены в боевую готовность.
В городе объявлялось чрезвычайное положение. Некоренные жители Петрозаводска, не состоящие на службе у Советской власти, подлежали высылке из города в течение 48 часов. Бывшим офицерам было предложено немедленно поступить на службу в Красную Армию, а учреждениям приготовиться к возможной эвакуации. На специально сформированный рабочий отряд возлагалась охрана в городе порядка, проверка документов, изъятие нарезного и холодного оружия, учет продовольствия.
Вечером 6 июля, когда стало известно о захвате интервентами Сороки, из Москвы, где уже третий день заседал V Всероссийский съезд Советов, поступила путаная телеграмма, намекавшая о каких–то чрезвычайных событиях и требующая от всех совдепов «безусловного подчинения воле трудового народа города и деревни». Телеграмма была без подписи. О ее поступлении сразу же сообщил Анохину и Дубровскому один из большевиков, служивший на телеграфе. Всю ночь они втроем просидели у аппарата прямой связи, пытаясь добиться разъяснений. Аппарат молчал. Линия связи с Москвой оказалась прерванной.
Из Петрограда тоже не могли дать никаких определенных сведений.
В Петрозаводске еще не знали о том, что левые эсеры в Москве убили германского посла Мирбаха, подняли мятеж, ненадолго захватили центральный телеграф и разослали по стране несколько провокационных сообщений.
Подробности этих событий стали известны в Петрозаводске тогда, когда левоэсеровское восстание было окончательно подавлено.
Члены большевистской фракции Анохин, Дубровский, Данилов, Парфенов, Капустин, Анисимов и Зуев сразу же явились в кабинет председателя губисполкома и потребовали экстренного созыва заседания.
— Это невозможно. Мы же вместе с вами решили дать членам губисполкома отпуск и не проводить заседаний до 16 июля.
— Обстановка не терпит никаких отлагательств, — заявил Анохин. — Мы не покинем помещения губисполкома до тех пор, пока не будет созвано заседание. Рассаживайтесь, товарищи!
— Но многие члены исполкома в отъезде. Давайте назначим заседание хотя бы на завтра, — сопротивлялся Балашов, поглядывая на своих товарищей по партии Садикова и Рыбака, сумрачно сидевших у председательского стола.
— Соберите тех, кто на месте!
— Это возмутительно! — неожиданно вскипел Садиков. — Подобное требование, Петр Федорович, недопустимо. Ваша фракция составляет меньшинство, а ведете вы себя, как диктаторы! Почему мы должны подчиняться?
— Мы не требуем никакого подчинения, товарищ Садиков, — спокойно пояснил Анохин. — Мы лишь просим собрать заседание губисполкома для обсуждения важных и срочных вопросов. Это требование не мое, а всей фракции большевиков. А фракция может потребовать созыва заседания в любое время.
— Но почему сейчас? Немедленно? — Садиков вскочил и забегал по кабинету. — Это же черт знает что? Я протестую! У нас есть решение!
— Прошу спокойствия! — постучал карандашом по столу Балашов. — Заседание назначаю ровно через час.
Ждать долго не пришлось. Члены губисполкома от партии левых эсеров оказались поблизости, и заседание было открыто раньше намеченного срока.
— Слово предоставляется фракции коммунистов–большевиков! — объявил Балашов. — Кто от вас будет говорить? — обратился он к Анохину.
— Товарищ Парфенов.
— Хорошо. Мы слушаем.
Парфенов начал с вопроса:
— Было ли известно Петрозаводскому комитету партии левых социалистов–революционеров о действиях, происходивших в центре?
— Вы спрашиваете нашу фракцию? — удивился Балашов.
— Да. Вашу фракцию и ваш партийный комитет.
Балашов пожал плечами:
— Ввиду малого количества присутствующих на заседании левых социалистов–революционеров и ввиду экстренности самого заседания я ничего не могу сказать ни от имени фракции, ни от имени комитета.
— Ответ по меньшей мере странный, — вмешался Анохин. — Здесь я вижу весь руководящий состав и комитета, и фракции… Неужели вы так и не определили своего отношения к событиям в Москве?
— Представьте себе, не успели, — пожал плечами Балашов.
— А события на Севере, в Кеми? Как оценивает их ваша фракция?
— Ввиду недостаточности информации, мы не имели сейчас возможности определить к ним свое отношение.
— Странно. Надеюсь, вам известно, что один из троих совдеповцев, расстрелянных в Кеми, принадлежал к вашей партии?
— Да. Известно. События там загадочны и непонятны. Вероятно, следует послать туда комиссию для расследования.
— Комиссию?! — усмехнулся Парфенов. — Может быть, вы намерены послать туда делегацию для установления контакта с представителями Антанты?
— Вы пытаетесь приписать нам то, что мы не собираемся делать.
— В таком случае нам хотелось бы знать, что вы собираетесь делать? Мы просим вас определенно заявить о характере действий вашей фракции и партийного комитета на будущее.
— Что за допрос? — вскочил возмущенный Садиков. — Вы не имеете права!
— Это не допрос, а взаимное выяснение позиций. Вы знаете, насколько изменилось в последние дни положение в стране. От имени фракции большевиков я предлагаю, чтобы фракция левых социалистов–революционеров, имеющая большинство в губисполкоме, четко определила свое отношение к текущему моменту.
— Прошу слова! — поднялся Рыбак. — Я хочу напомнить фракции большевиков, что характер нашей политики полностью одобрен на IV губернском съезде Советов.
— Да, да, — поспешно поддержал его Садиков. — Наша партия всегда стояла на платформе Советской власти, всегда будет бороться за таковую и работать на ее пользу.
Слова попросил Анохин.
— «Работать», «борешься», «на пользу»… Это все слова. А из заявления товарища Рыбака видно, что события в Москве, убийство германского посла и попытка срыва Брестского мира находятся в русле политики вашей фракции и вами одобряются.
— Мы этого не заявляли, — возразил Балашов.
— Поэтому мы и просим вас сделать четкое и определенное заявление о вашей политике и об отношении к московским событиям.
— Вы хотите это услышать сейчас?
— Да, конечно.
— Тогда объявляю перерыв для фракционного совещания.
После получасового перерыва Садиков огласил пространную уклончивую декларацию из четырех пунктов, в которой утверждалось, что их партия «всегда стояла на позиции беспощадной классовой борьбы во имя социальной революции», что «сведения из Москвы односторонни и не освещают в необходимой ясности происшедших там событий», что «фракция протестует против возводимых на ее партию обвинений», что «фракция предлагает своим членам оставаться на местах, вверенных им трудовым крестьянством Олонецкого края». Вместе с тем в декларации говорилось, что «волю фракции левых социалистов–революционеров может выявить лишь полный ее состав в лице делегатов–крестьян, которые в настоящее время разъехались по домам». Как только Садиков, упиваясь торжественно–скорбными переливами своего голоса, закончил чтение декларации, Анохин от имени фракции большевиков попросил сделать перерыв.
Удалившись в соседнюю комнату, большевики недолго посовещались. Всем было ясно, что левых эсеров нужно устранять от руководства губисполкома, но когда и каким путем это сделать лучше — требовалось обдумать. На сегодняшнем заседании присутствовала лишь половина членов губисполкома. По существу, заседание было не правомочным, и если предъявить сейчас левым эсерам ультиматум о немедленном их выходе из губисполкома, то это может вызвать неблагоприятный политический резонанс в губернии, особенно среди крестьянства, делегаты которого в заседании не участвуют. Да и в городе партия эсеров насчитывает более двухсот членов, располагает оружием и, если начать действовать сейчас, то не исключена вооруженная схватка, которая неизбежно перекинется в уезды и лишь подстегнет англо–французских интервентов к быстрейшему продвижению на юг. В то же время нельзя было терять ни одного дня.
Взвесив все, большевики составили свое заявление, и Парфенов зачитал его на заседании:
— «Считая, что декларация, оглашенная группой левых социалистов–революционеров губисполкома, выражает мнение не всей фракции, а лишь части ее, фракция коммунистов, считая вопрос об отношении Олонецкой партии левых социалистов–революционеров к происходящим событиям в Москве открытым, предлагает фракции социалистов–революционеров исполкома экстренно созвать общее собрание партии и вынести на нем вполне ясное и точное отношение к создавшемуся положению, для возможности дальнейшей совместной работы двух партий в губисполкоме».
Заявление было выслушано в напряженной тишине.
Парфенов передал листок секретарю губисполкома Смелкову и сказал, обращаясь к Балашову:
— Я полагаю, мы можем надеяться, что все это будет сделано безотлагательно?
— Да, да, конечно, — с плохо скрытым облегчением произнес Балашов и тут же счел нужным поправиться, чтоб его согласие не было истолковано, как слабость: — Мы сделаем это так скоро, как представится возможным.
2
Несмотря на заверение Балашова, собрание петрозаводской левоэсеровской организации откладывалось со дня на день. Становилось очевидным, что левые эсеры решили дотянуть до 16 июля, когда в Петрозаводск возвратятся из отпуска члены губисполкома от крестьян и должно будет состояться пленарное заседание.
Формально аппаратом губисполкома руководил Балашов. Похудевший, осунувшийся, он ежедневно являлся на службу, до поздней ночи просиживал в председательском кабинете, однако и ему и всем другим уже было ясно, что никакого влияния на ход дела в губернии он не имеет.
Важнейшие комиссариаты находились в руках большевиков, которые непосредственно выполняли указания своей фракции и центра.
Каждый раз при встрече с Анохиным Балашов виновато повторял:
— Завтра мы соберем собрание. Завтра обязательно.
Смотреть на него в такие минуты было жалко и противно. До недавнего времени лично к Балашову Анохин не испытывал каких–либо неприязненных чувств. Как и Абрама Рыбака, он считал его честным и порядочным человеком, который по нелепой случайности или злой иронии судьбы оказался совсем не в том лагере, где ему полагалось бы быть. Теперь Петр Федорович понимал, что за спиной Балашова скрываются иные, враждебные Советской власти силы, и то, что Балашов, сам сознавая это, неумело путался и хитрил, особенно злило Анохина.
— Сколько же можно тянуть? — не скрывая раздражения, спрашивал он.
— Завтра обязательно!
Собрание эсеров состоялось 11 июля. Оно было строго закрытым, но вечером того же дня большевикам стало известно, что хотя прежнего единства среди левых эсеров в оценке текущего момента уже не оказалось, победила все же линия, одобряющая авантюристскую политику их московского центра.
В полночь Анохин пришел в губвоенкомат.
— Ну, Арсений Васильевич, — сказал он Дубровскому, — теперь слово за тобой! Ждать больше нечего. У тебя все готово?
— Да.
— Тогда начинай!
Дубровский по телефону связался со штабом недавно сформированного в Петрозаводске Коммунистического полка, вызвал в распоряжение губвоенкомата вооруженный взвод, приказал ему выдвинуться к зданию милиции и ждать дальнейших распоряжений.
План операции был разработан заранее. На этот счет уже имелось постановление окружкома и большевистской фракции губисполкома. Отряд красноармейцев окружает штаб левых эсеров в доме Кипрушкина на Екатерининской улице, производит обыск, изъятие всего оружия и конфискацию документов. Тем временем сотрудники ЧК и милиции проводят разоружение левых эсеров на квартирах. Юридическим основанием для обыска и разоружения является то, что губерния объявлена на чрезвычайном военном положении. Аресты и применение силы производить лишь в случае сопротивления. Вся операция должна быть закончена к шести часам утра.
Анохин и Дубровский подошли к зданию милиции одновременно со взводом красноармейцев. Три десятка бойцов с примкнутыми штыками ускоренным маршем двигались по Мариинской улице, неся на плечах два станковых пулемета. Тишина и полумрак белой ночи, мерный приглушенный топот строя, отрывистые команды, важность предстоящего дела — все это возбуждающе действовало не только на бывшего офицера Дубровского, но и на такого штатского человека, каким считал себя Анохин.
Взвод вошел во двор милиции, по команде колыхнулся в последний раз и замер. Молодой командир сделал четкий полуоборот и приблизился к Дубровскому:
— Взвод Коммунистического полка прибыл в ваше распоряжение!
Как видно, в армии он был недавно и ему пока доставляло немалое удовольствие и командовать, и подчиняться.
Дубровский, конечно, понял это. Поздоровавшись, он обошел строй, бегло для вида осмотрел оружие и снаряжение бойцов, поблагодарил командира за оперативность, и все втроем они поднялись в кабинет начальника милиции, где уже сидело несколько ответственных работников ЧК.
Командир, так лихо распоряжавшийся во дворе, оказался из заводских. Конечно же это Володя Усов! Как Анохин не узнал его сразу? Откуда у парня взялась такая военная выправка?
Здороваясь с Усовым за руку, Анохин сказал!
— В строю взвод у тебя хорош! А как в бою? Не подведет?
Зардевшийся от похвалы командир спросил:
— А что, разве предвидится?
— Нет. Пожалуй, сейчас нет. Однако все может случиться.
— Справимся, товарищ Анохин… Ребята у нас хорошие. Все будет сделано.
Дубровский каждому поставил задачу, спросил — всем ли ясно — и объявил:
— Я иду с отрядом красноармейцев на Екатерининскую. Товарищ Анохин остается здесь. Связь держать с ним. О выполнении задания докладывать ему!
В два часа ночи красноармейский отряд бесшумно окружил штаб левоэсеровской организации на Екатерининской улице.
Двухэтажный деревянный дом, с большими частыми окнами и с нависшей над крыльцом верандой, загадочно и настороженно поблескивал темными стеклами, и в первую минуту Дубровскому подумалось, что эсерам уже все известно и они приготовились к обороне. Потом со стороны Бородинской улицы он увидел освещенное окно и понял, что ошибся в своем предположении.
В сопровождении четырех бойцов Дубровский поднялся на крыльцо, где у входной двери коротал свои часы ничего не подозревавший наружный постовой.
— Я губернский военный комиссар. Приказываю сдать оружие! — тихо приказал он и шагнул в глубь коридора, уже веря и радуясь тому, что все, кажется, пройдет без каких–либо осложнений.
Находившиеся в дежурной комнате два вооруженных револьверами и бомбами левоэсеровских боевика никакого сопротивления не оказали. В ответ на требование губвоенкома открыть комнаты для обыска, они лишь попросили разрешения связаться по телефону с Балашовым, но когда им было отказано в этом, покорно сдали и свое личное оружие и ключи.
Вскоре полсотни винтовок, два пулемета, несколько ящиков с патронами и гранатами уже были погружены на подводы. Дубровский составлял акт, когда прибежал посыльный от Анохина и сообщил, что сотрудниками ЧК при обыске одной из квартир арестованы два бывших офицера царской армии — полковники Петров и Поленов, которые, судя по документам, проживают в городе нелегально, и нужно срочное подтверждение этого военкоматом. Дубровский отлично помнил, что названные офицеры в военкомате не регистрировались. Он по телефону сообщил об этом Анохину, сказал, что минут через двадцать зайдет в военкомат и проверит еще раз, а сейчас просит совета — как быть с разоруженными левоэсеровскими боевиками, нужно ли их арестовывать?
— Сопротивления не было? — спросил Анохин.
— Нет.
— Тогда задержи их до конца операции, чтоб не было лишнего шума, и отпусти.
— Хорошо.
Но шум все–таки произошел.
Трудно сказать, каким образом узнал Балашов о том, что происходит в их штабе.
Когда Дубровский, закончив оформление акта, вышел на крыльцо, он увидел, что красноармеец с трудом сдерживает напор председателя губисполкома, пытающегося пройти в помещение. Балашов был не один, сзади него стоял невесть откуда взявшийся левоэсеровский сотрудник редакции губернских «Известий».
— Товарищ Дубровский! — закричал Балашов, заметив военкома. — Это же дикое самоуправство! Я требую объяснений! Немедленно скажите, чтоб пропустили меня!
— Пропустите! — приказал Дубровский постовому.
Они вернулись в дежурную комнату. Балашов сел за стол, в волнении расстегнул ворот френча, загнанно огляделся и вдруг закричал:
— Что здесь происходит? Я требую объяснений!
Дубровский, не отвечая, прошел к столу, сел чуть в отдалении и спокойно попросил:
— Если можно, не кричите! Я готов объяснить все и без крика. Происходит изъятие оружия!
— На каком основании? Почему я, как председатель губисполкома, не поставлен в известность?
— В данном случае я действую на основании приказа о введении в городе военного положения, который вам хорошо известен.
— У большевиков вы тоже изымаете оружие?
— Никакого оружия в комитете большевиков не хранится. Вы это тоже знаете.
— Но ведь оружие организация левых социалистов–революционеров имеет с разрешения военных властей?
— До сих пор — да. С сегодняшнего дня — нет. Разрешение военкомата аннулировано.
— Ловко. Весьма ловко. Но, может быть, вы объясните — почему? Я полагаю, что у вас нет оснований считать, что мы использовали это оружие во вред Советской власти?
— Пока, к счастью, таких данных нет.
— Тогда почему же вы это делаете ночью, тайком?
Дубровский выразительно посмотрел на журналиста.
Следовало бы, конечно, попросить его отсюда, но стоит сделать это — и назавтра по городу поползут черт знает какие слухи. Лучше уж не связываться, пусть слушает и что–то строчит в своем блокноте.
— Пока, к счастью, никаких данных по Петрозаводску нет! — повторил Дубровский. — Но у нас есть данные о действиях левых эсеров в других городах… В Москве, например… Это одна сторона дела. А есть и вторая. Так хранить оружие, как это делаете вы, — преступление. Я с четырьмя красноармейцами легко занял дом, где хранится два пулемета, пятьдесят винтовок и много патронов. В городе, вы знаете, проживает несколько сот бывших офицеров. А если бы вместо нас сюда явились они и захватили оружие? Надеюсь, теперь вы понимаете, почему мы сделали это?
— Мне давно все понятно. Очень давно. Может быть, вы объясните, почему же в таком случае на квартирах членов нашей партии производятся незаконные обыски и даже, кажется, аресты? Я не ночевал дома. Но, говорят, и ко мне делали попытку вломиться, выкрикивая оскорбительные слова.
— Кто вам сказал это?
По мимолетному взгляду, который бросил Балашов в сторону журналиста, Дубровский понял, откуда дует ветер. Это было тем более странно, что никакого обыска в квартире Балашова и других членов губисполкома делать не предполагалось.
Сурово посмотрев на журналиста, Дубровский спросил:
— Вы видели это?
— Я видел, как трое чекистов приближались к дому, где живет Иван Владимирович, — заметно оробев, ответил тот.
— И вы слышали оскорбительные слова?
— Не знаю… Возможно, мне показалось…
— К чему эти ненужные мелочи? — поднялся Балашов. — Мне все понятно. Давно все понятно. Я хочу осмотреть помещение, увидеть, что вы здесь натворили.
— Пожалуйста. Только я очень сейчас тороплюсь, а двери должен до завтрашнего дня оставить запломбированными. Прошу не задержать.
Балашов переходил из комнаты в комнату, зажигал свет, осматривался и, хотя обыск производился со всей осторожностью, вполголоса бормотал: «Вандализм! Настоящий вандализм!»
Дубровский стоял в коридоре.
Вдруг в одной из комнат раздался истошный балашовский крик: .
— Это же дикость! Это же вандализм!
Дубровский метнулся туда и увидел председателя губисполкома, благоговейно державшего перед собой фотографию в рамке с разбитым стеклом.
Это был портрет Марии Спиридоновой.
Дубровский отлично помнил, что во время обыска фотография висела на стене над письменным столом. Возможно, кто–то из красноармейцев в нарушение приказа и сорвал ее в последнюю минуту, но этого единичного факта оказалось достаточно, чтоб потом в газете «Известия Олонецкого Губсовета» появилось сообщение, что «обыск проводился дико и разнузданно», что «красноармейцы топтали сапогами портреты таких заслуженных революционеров, как Мария Спиридонова».
К утру все было закончено.
Конфискованное оружие передали штабу Красной Армии, следственный отдел ЧК начал распутывать клубок контрреволюционной офицерской организации, открывшейся в связи с задержанием Поленова и Петрова, а во все воинские части и учреждения был направлен официальный приказ Олонецкого военного комиссара не исполнять никаких распоряжений должностных лиц, принадлежавших к партии левых эсеров.
IX Вся полнота ответственности...
«В силу сложившихся обстоятельств вся ответственность и тяжесть работы легла в настоящее время на одну партию коммунистов–большевиков; при наличии слишком небольших сил приходится выполнять колоссальную работу, занимая одновременно по несколько постов».
Из доклада П. Ф. Анохина в Народный Комиссариат внутренних дел 5 сентября 1918 года, (ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 3, д.265, лл. 249–251.)1
Шестнадцатого июля истек срок отпуска, который был предоставлен членам губисполкома от крестьян, и в этот день было назначено пленарное заседание.
По–разному ждали его в обеих фракциях. И большевики, и левые эсеры понимали, что это их совместное заседание будет последним, что логика политической борьбы развела обе партии далеко в разные стороны, что одной из фракций придется покинуть Губсовет, но позиции теперь переменились. Большевики ждали заседания с окрепшей уверенностью в его исходе. Среди левых эсеров царили смятение и полная утрата перспективы. Причин для растерянности у них было более чем достаточно. На недавно закончившемся в Петрозаводске делегатском съезде Советов Мурманской железной дороги двадцать пять левых эсеров осудили мятежнические действия своего ЦК и заявили о выходе из партии. Неутешительные для левых эсеров вести шли из уездов, где, несмотря на их бурную агитацию, крестьянская масса никак не могла понять, зачем понадобилось бросать бомбу в немецкого посла и призывать к новой войне с Германией.
Незадолго до открытия пленарного заседания председателю большевистской фракции Губсовета Анохину вручили правительственную телеграмму из Москвы, от Народного комиссара внутренних дел Г. И. Петровского:
«Немедленно устранить всех левых социалистов–революционеров со всех руководящих постов, отделов управления и комиссий по борьбе с контрреволюцией как губернских, так и уездных Советов, заменив их коммунистами».
Телеграмма вносила полную ясность и окончательно закрепляла план действий, разработанный фракцией совместно с окружным комитетом РСДРП. Заседание губисполкома можно было начинать прямо с оглашения этой директивы. Однако Анохин, посоветовавшись с Парфеновым и Дубровским, внес на обсуждение фракции иное предложение.
— Поскольку телеграмма товарища Петровского, — сказал он, — не определяет, каким путем мы должны добиваться удаления левых эсеров, я считаю, нет смысла менять намеченной нами программы действий. Если мы начнем с оглашения полученной директивы, то дадим в руки враждебных агитаторов лишний козырь. Опять поднимутся вопли об узурпации власти, о применении силы… По–моему, у нас достаточно сил и возможностей, не ссылаясь на телеграмму, заставить левых эсеров уйти из губисполкома.
— Уж не думаешь ли ты открывать дискуссию? — удивился Егор Попов.
— А что? Если понадобится, мы готовы и поспорить. Но сегодня, именно сегодня мы окончательно и бесповоротно возьмем в свои руки всю полноту власти в губернии! Есть ли другие мнения?
— Можно, конечно, и так, — неопределенно высказался Попов. — Только я не пойму, зачем нам самим усложнять это дело? По–моему, коль есть директива, то надо не мудрить, а прямо выполнять ее! Вызвать взвод красноармейцев и дело с концом.
— Говори яснее: ты против, что ли?
— Да нет, не против… Раз большинство «за», то и я не против. Только я имею на этот счет свое особое мнение.
— А на какой счет у тебя, Егор, нет «особого мнения»? — спросил Дорошин и рассмеялся довольный своим вопросом.
— Свое мнение, Христя, неплохо бы иметь и тебе! — не остался в долгу Попов, по привычке настраиваясь на препирательства, но товарищи запротестовали:
— Хватит вам! Нашли время.
Предложение Анохина было принято единогласно, и после перекура члены губисполкома отправились на закрытое пленарное заседание.
2
Балашов медлит. Двадцать четыре члена губисполкома из тридцати молча сидят в ожидании. Секретарь Смелков, пристроившийся сбоку у председательского стола, пошелестел бумагами и замер с карандашом наготове, а Балашов словно не замечает ни собравшихся людей, ни этого вежливого намека. Он упорно смотрит на тяжелую, плотно закрытую дверь…
— Пора, — вполголоса напоминает Смелков. — Больше никого не будет…
— Да–да, — торопливо спохватывается Балашов, окидывает взглядом кабинет и поднимается. Секунду–другую он смотрит на лежащий перед ним листок бумаги, потом глухим, сдавленным голосом объявляет:
— Пленарное заседание разрешите считать открытым…
Многим из левых эсеров явно не по нраву такое поведение их лидера. Особенно — Садикову, который исподлобья мрачно следит за председателем и досадливо сопит.
Пора бы объявить повестку дня, а Балашов снова медлит. Большевики терпеливо ждут. Абрам Рыбак, не зная, чем заполнить неловкую паузу, лихорадочно шарит по карманам, достает какие–то бумажки, перебирает их и снова рассовывает по местам.
Но в следующую минуту всем становятся понятными причины столь странного поведения Балашова. Медленно и подчеркнуто скорбно он произносит:
— На днях мы проводили в последний путь славного товарища, видного функционера нашей партии, неожиданно скончавшегося члена губисполкома Алмазова… Предлагаю почтить его память вставанием.
Левые эсеры дружно и даже как–то обрадованно встают. Садиков уже не скрывает своего удовлетворения артистической находчивостью Балашова, с вызовом посматривает на большевиков.
Те тоже поднимаются, несколько секунд стоят в молчании.
— Прошу садиться!
Балашов делает легкий жест рукой и продолжает:
— Наша фракция предлагает вместо покойного товарища Алмазова включить в члены губисполкома присутствующего здесь члена нашей партии товарища Хрисанфова.
Он испытующе смотрит в глаза Анохину, ожидая возражений. Петр Федорович, слегка усмехнувшись столь тщательно разыгранной сцене, тут же заявляет, что фракция большевиков возражений не имеет.
— Одновременно мы предлагаем решить вопрос о выделении пособия семье покойного, — добавляет Балашов.
— Да–да, — неожиданно вскакивает Садиков и, словно бы предвидя возражения, восклицает: — Товарищ Алмазов всю жизнь честно и преданно отдал делу революции, интересам трудовых классов. Он был поэтом, истинным глашатаем свободы, борцом против самодержавия. Его стихи будили народ, звали…
Этого Анохин уже не смог выдержать.
— Вы имеете в виду его книгу «Живые цветы»? — перебил он, с усмешкой глядя на Садикова.
— Какую книгу? При чем здесь книга? — оскорбленно закричал тот. — Почему вы не даете говорить?
— Стоит ли говорить так долго? — Анохин поднялся и пояснил: — Против полагающегося в таких случаях пособия никто не возражает. А что касается «глашатая свободы» и «борьбы против самодержавия», то тут покойный действительно ни при чем. Может, поэт он был и неплохой, а революционер явно никудышный. Два года назад выпустил здесь же в губернской типографии свою единственную книгу с посвящением великому князю Николаю Николаевичу…
— Эта книга пронизана патриотическим чувством! — не унимался Садиков. — Надо отличать поэзию от лозунгов!
— Если патриотизм и верноподданнические излияния, но вашему мнению, одно и то же, то не лучше ли последовать поговорке — о покойном или хорошее, или ничего. Я — за последнее. Повторяю, против пособия мы не возражаем. Не пора ли перейти к делу.
Балашов доволен примирительным тоном Анохина и согласно кивает головой.
На повестке дня три вопроса: утверждение протоколов предыдущих заседаний, формирование Совета народного хозяйства губернии и текущий момент.
Протоколы единогласно утвердили, вопрос о совнархозе, по предложению большевиков, перенесли на следующее заседание, и Балашов объявил обсуждение последнего пункта повестки дня…
И тут произошла новая сцена.
В кабинете было душно, Как только Балашов объявил третий вопрос, большевик Иван Данилов, без всякой задней мысли, встал и, подойдя к окну, распахнул его.
— Закройте окно! — словно ужаленный, закричал Садиков. — Вы ведь знаете, что я не выношу сквозняков.
Данилов принял это за шутку. День стоял изнуряюще жаркий. Круглая площадь и сейчас была залита предзакатным солнцем, в комнату снаружи повеяло не столько прохладой, сколько приятной вечерней свежестью.
— Я прошу немедленно закрыть окно! — Садиков чуть ли не дрожал от гнева. — Вы нарочно хотите, чтоб я покинул заседание. Вы все делаете во вред! Товарищ Балашов! Если сейчас же окно не будет закрыто, я немедленно уйду! Вы видите, что я даже летом вынужден ходить в валенках, а они нарочно создают сквозняки.
Данилов недоуменно пожал плечами и затворил окно, но и это не успокоило Садикова. Он продолжал что–то ворчать об уважении к людям, о том, что отсутствие навыков истинного демократизма сказывается и в таких вот мелочах, когда некоторые, не считаясь с мнением других, позволяют себе делать все, что им заблагорассудится…
Слушать подобную болтовню было стыдно, но большевики терпеливо и молча ждали, когда же Балашов прервет наконец своего соратника.
Кое–как Садиков угомонился, и председатель объявил, что слово предоставляется фракции большевиков. Твердо убежденный, что выступать будет Анохин, он прямо обратился к нему:
— Пожалуйста. Мы слушаем вас, Петр Федорович…
— Почему меня? — спросил Анохин. — От фракции будет выступать товарищ Парфенов.
— Ах, прошу прощения. Пожалуйста, Валентин Михайлович…
Парфенов встал:
— Как было решено на прошлом заседании губисполкома, мы ждем от фракции левых социалистов–революционеров объяснений об отношении фракции к событиям а Москве, к событиям на Мурмане и к линии поведения их ЦК.
— Вы кончили? — не поднимая глаз от стола, спросил Балашов.
— Да.
— От имени нашей фракции выступит товарищ Рыбак.
Абрам Рыбак считался среди левых эсеров одним из лучших партийных ораторов в городе. Еще в дореволюционные годы Анохин с упоением и завистью слушал страстные, речи своего бывшего друга, который о сложных вещах умел говорить удивительно задушевно, доходчиво и убедительно. В последние месяцы Рыбак выступал крайне редко, и Петр Федорович не один раз задумывался — почему бы это так? До него доходили слухи, что у Рыбака и Балашова есть какие–то серьезные разногласия с другими членами левоэсеровского комитета, но понять и разобраться, в чем их суть, не было никакой возможности. За пределы своей организации эти разногласия левые эсеры не выносили, перед большевиками держались подчеркнуто солидарно, а после того февральского разговора на квартире у Левы Левина Рыбак уже не делал попыток сблизиться с Анохиным. Встречались они часто, чуть ли не ежедневно, но их отношения носили лишь служебный характер. В последнее время Абрам работал редактором «Известий Олонецкого Губсовета», с делами неплохо справлялся, политическую линию в газете вел вполне приемлемую как для левых эсеров, так и для большевиков, пытаясь сглаживать остроту их противоречий. Такая линия ставила его в положение некоего буфера в отношениях между фракциями.
Сейчас, услышав фамилию Рыбака, Анохин подумал, что левые эсеры, как видно, не случайно избрали Абрама своим первым выступающим. Наверное, они решили взять курс на примирение.
Рыбак поднялся, сделал два широких шага к председательскому столу и — долговязый, мрачный, сутулый тяжело навис над ним. В медлительности его движений было что–то неестественное, вроде бы вымученное…
— Товарищи! тихо и как–то неуверенно начал он. — Нашей фракции вторично задан вопрос, правомерность которого нами отвергается. Имеет ли право одна фракция требовать от другой отчета о ее действиях? Мы представляем в губисполкоме две разных революционных партии. Если бы наши взгляды и действия, проистекающие из наших программ, были одинаковы, то, вероятно, и не было бы двух различных партий. Была бы одна партия… Бы же требуете от нас невозможного… Вы требуете, чтоб мы давали вам отчет об отношении нашей фракции к нашему центральному органу, чтоб мы отчитывались перед вами о правильности или неправильности действии нашего Центрального Комитета… Ваше право критиковать нашу партию, наш ЦК… Пожалуйста, критикуйте! Но не делайте попытки вмешиваться во внутреннюю жизнь другой, сотрудничающей с вами партии… Это одна сторона вопроса. Вторая состоит в том, что судить нашу фракцию надо только по ее действиям. За свои действия наша фракция готова отчитываться, отвечать и нести ответственность… Что касается действий в Москве, то никакого ответа за них наша фракция нести не может. В силу сложившихся обстоятельств мы до сих пор еще не имеем объективной информации о том, какие действия вообще были, предприняты нашим Цека и чем они были вызваны.
— Разве вы не читаете газетных отчетов, правительственных сообщений и документов? — с места спросил Дубровский.
— Эта информация для нас односторонняя, — ответил Рыбак. — Я кончил…
Не успел он отойти к своему месту, как вскочил Садиков:
— Прошу слова!
— Погодите, — остановил его Балашов. — У нас установлена очередность ораторов. Теперь очередь фракции большевиков.
— Пожалуйста, пусть выступает Садиков, — сказал Анохин, посчитавший за лучшее выслушать сразу все доводы противников.
Шаркая валенками, Садиков вышел к столу, оперся на него руками и обвел присутствующих гневным взглядом. На его желчном, измученном лице перекатывались желваки.
— Я полностью присоединяюсь к первой части речи товарища Рыбака и считаю совершенно недостаточной ее вторую часть. К чему нам эти недомолвки? Надо прямо сказать, что никакого восстания в Москве против власти Советов нашей партией не предпринималось… Все события в Москве были вызваны недопустимыми действиями представителей власти, называющейся Рабоче–Крестьянской, против Центрального Комитета и фракции левых социалистов–революционеров на V Всероссийском въезде Советов, где мы составляли почти половину съезда. Поэтому наша фракция требует немедленного прекращения всяких репрессий против организаций и отдельных членов нашей партии, восстановления партийной печати и свободного созыва нашего партийного съезда… Фракция не оправдывается, фракция обвиняет и протестует против насилия над представителями трудового крестьянства! Да здравствует трудовое крестьянство и рабочие! Да здравствуют Советы крестьянских и рабочих депутатов! Да здравствует их защитница — партия левых социалистов–революционеров–интернационалистов!
Выпалив единым духом все это, Садиков выпрямился, вытер со лба пот и обратился прямо к Анохину.
— А теперь, если угодно, можете вызывать чекистов и отправлять меня в тюрьму.
Анохин с трудом сдержал в себе вспыхнувшее негодование.
— Прекратите паясничать, Садиков! Вы же знаете, что вам ничего не угрожает, поэтому и позволяете себе подобную браваду!
— Товарищи, товарищи! — застучал карандашом по столу Балашов. — Призываю к порядку… Считаю нужным пояснить. Товарищу Садикову было поручено сделать заявление от фракции. Он правильно передал его суть, но нарушил форму изложения… Фракция осуждает это нарушение. Товарищ Садиков, вручите секретарю письменный текст заявления фракции. Есть смысл огласить его.
— Не нужно! — поднялся Парфенов. — Вы же сами сказали, что суть его передана правильно, а форму и разного рода домыслы, допущенные Садиковым, мы оставляем на совести вашей фракции.. Нас интересует главный вопрос: будет ли фракция левых эсеров при работе в исполкоме руководствоваться и проводить в жизнь в Олонецкой губернии постановления V Всероссийского съезда Советов или будет руководствоваться указаниями своего Цека? Мы ставим этот вопрос и требуем четкого, недвусмысленного ответа.
— Перерыв, перерыв! — закричал Садиков, опередив собиравшегося что–то сказать Балашова. — Мы требуем перерыва для фракционного совещания.
Был объявлен перерыв. Большевики и левые эсеры разошлись по своим комнатам, посовещались и вновь собрались в кабинете председателя.
Слово взял Абрам Рыбак.
— Из Москвы только что приехал председатель губернской продовольственной управы Тихомиров. Как очевидец московских событий он может рассказать нам многие подробности. Мы предлагаем пригласить и заслушать товарища Тихомирова.
Большевики сразу же отсекли новую попытку левых эсеров уклониться от прямого ответа на главный вопрос.
— Мы против! — возразил Парфенов. — Тихомиров является членом партии левых социалистов–революционеров и даст одностороннее толкование фактов. Его мы можем заслушать по приезде из Москвы представителя партии большевиков, комиссара юстиции Копнина, который участвовал в работе V съезда. А сейчас мы требуем ответа на поставленный нами вопрос!
Слова неожиданно попросил член губисполкома от Петрозаводского уезда левый эсер Попов, тихий, покладистый мужик, всегда молча сидевший на всех заседаниях. Запинаясь и краснея, он не без труда прочел, резолюцию, вносимую якобы от имени крестьянской секции:
— «Крестьянская секция губисполкома… Не считаясь ни с какими… партийными раздорами… убийством графа… Мирбаха и беспорядками в Москва постановила… Всем членам исполкома оставаться на своих местах… работать так, как и раньше… для блага трудового народа и поддержки Советской власти».
Крестьянская секция губисполкома была межпартийной, и большевики, входившие в нее, ничего не знали о вносимой резолюции. Федор Капустин, делегат от Каргопольского уезда, сразу же заявил:
— Это ложь. Крестьянская секция не уполномочивала товарища Попова вносить резолюцию… Скажи, товарищ Попов, где и когда собиралась она и почему нас не позвали?
Попов растерянно молчал, поглядывая на Балашова, который в свою очередь бросил укоряющий взгляд на Садикова и даже не решился поставить липовую резолюцию на обсуждение.
С минуту длилась неловкая пауза, пока председательствующий собрался с духом и объявил:
— От имени фракции социалистов–революционеров–интернационалистов слово имеет товарищ Садиков.
На этот раз Садиков не стал импровизировать. Он демонстративно достал из кармана бумажку и принялся читать — медленно, четко, выделяя каждое слово:
— «Фракция левых социалистов–революционеров в ответ на вопрос фракции большевиков — признает ли партия левых социалистов–революционеров постановления V Всероссийского съезда, заявляет, что никогда ни фракция левых социалистов–революционеров, ни партия не вносили дезорганизации в ряды рабочих и крестьян, и всегда подчинялись воле верховного органа — решениям Всероссийского съезда Советов, и теперь так же будет подчиняться всем полномочным решениям V съезда, вынесенным всеми правомочными представителями крестьян и рабочих, а не одной только фракцией. Вместе с тем фракция протестует против приемов фракции большевиков в высшем органе Олонецкой губернии, выразившихся в оглашении только части принятой резолюции и замалчивании уже готового решения…»
Садиков все же не выдержал, оторвался от бумаги и, с нескрываемой злобой глядя в глаза Анохину, произнес:
— Мы ведь знаем, что у вас в кармане лежит решение насильственно захватить власть в губернии… Вы все–таки хотите погубить нашу революцию!
— У вас все? — спросил Анохин.
— Нет, не все… «В связи со всем сказанным фракция предлагает потребовать от имени Олонецкого ГИКа у Всероссийского ЦИКа оглашения в печати всех работ мандатной комиссии V Всероссийского съезда, не исключая и возражений ее членов, ныне арестованных в Москве, но избранных и уполномоченных тем же съездом, для полного выяснения перед всеми крестьянами и рабочими истинного представительства на съезде».
Садиков положил перед секретарем текст оглашенной декларации и сел.
— Просим сделать пятиминутный перерыв! — предложил Анохин, поднимаясь.
Как только большевики собрались в помещении своей фракции, Анохин сказал:
— Ну что ж, товарищи… Все ясно и надо кончать. Давайте решим, кому мы поручим огласить нашу резолюцию.
— Может, тебе, Петр Федорович, — предложил Дубровский.
— Могу, конечно, и я. Но лучше бы, мне думается, кому–то другому.
— Тогда Парфенову. Ему это не впервые, — засмеялся Дубровский. — Меньшевиков изгонял, пусть и левых эсеров туда же. Дело почетное.
— Я смотрю, Арсений Васильевич, ты меня в какого–то вышибалу превратить хочешь, — улыбнулся Парфенов.,
— Голос у тебя архиерейский… Уж больно мне он нравится!
В гробовой тишине вошли большевики в зал и расселись по своим местам. Выждав секунду–другую, Парфенов встал и попросил слова.
— «Франция коммунистов, — спокойно начал он густым басом, — ясно учитывая всю пагубность и недопустимость действий левых социалистов–революционеров по отношению к нашей Советской республике и революции в вопросах внешней и внутренней политики на заседании Олонецкого ГИКа 16 июля 1918 года, вынесла следующую резолюцию…»
Валентин Михайлович сделал паузу, и в это время часы в углу зашипели и пробили длинно–тягучих ударов. Была уже полночь, но навряд ли кто–либо из присутствующих, кроме секретаря Смелкова, посмотревшего на часы, отметил это. Все сидели в неподвижно замерших позах. Даже кривая усмешки на лице Садикова казалась застывшей и ничего не выражающей.
— «Ввиду того, — вновь раздался голос Парфенова, — что фракция левых социалистов–революционеров считает постановление V Всероссийского съезда Советов не решением всего съезда, а решением только фракции коммунистов–большевиков и уклоняется от прямого ответа на вопрос — будет ли она при работах исполкома руководствоваться и проводить в жизнь постановление V Всероссийского съезда, фракция Коммунистической партии ГИКа от имени Окружного комитета партии коммунистов, Военного Комиссариата и Петрозаводского Военно–Революционного Комитета объявляет, что все члены фракции левых социалистов–революционеров, одобряющие политику своего ЦК, должны немедленно покинуть места в ГИКе, который объявляется с настоящего момента Олонецким Губернским Революционным Исполнительным комитетом, к каковому и переходит вся власть в пределах губернии».
Закончив чтение, Парфонов надвое сложил листок и тихо сказал:
— Мы требуем немедленно поставить эту резолюцию на голосование.
Некто не шелохнулся. Эсеры, конечно, ждали такого исхода, даже, наверное, готовили себя к нему, но теперь, когда то случилось, ни один из них не смог в первую минуту преодолеть своей растерянности. Особенно — Балашов.
Склонившись к столу и сдавив ладонями виски, он загнанным, напряженным взглядом смотрел на дверь, как бы ожидая, что она вот–вот отворится и в кабинет беглым шагом войдут вооруженные красноармейцы. Невольно подчиняясь этому ожиданию председателя, к двери один за другим устремили взгляды и все остальные левые эсеры. Так длилось три, пять, десять секунд…
Наконец Балашов выпрямился, шумно перевел дыхание,
— Голосование излишне, — тихо, как бы советуясь, произнес он. — Голосовать такие вещи, мне кажется, не имеет смысла.
— Нет, имеет! — опомнился теперь и Садиков. — Голосовать обязательно нужно. Если не для нас, то для истории. А перед этим наша фракция требует объявить пятиминутный перерыв.
Левые эсеры без большого энтузиазма удалились на свое последнее фракционное совещание.
Вместо пяти минут перерыв длился более часа. Большевики уже начали сожалеть, что согласились на него. Кто–то высказал предположение, что левые эсеры не вернутся вообще и надо, не ожидая их, приступать к делу. Дважды Дубровский выходил в аппаратную узнать, нет ли срочных сообщений, и, возвращаясь, с улыбкой говорил, имея в виду эсеров:
— Спорят… По–моему, даже ругаются… Шум даже в коридоре слышен.
Наконец, разгоряченные, с красными от возбуждения лицами левые эсеры появились в кабинете и столпились у порога. Даже Балашов не занял своего председательского места. К столу вышел один Садиков, державший в руке бумажку. Со снисходительной усмешкой он оглядел спокойно сидевших на своих местах большевиков и принялся читать:
— «Фракция левых социалистов–революционеров заявляет, что она никогда не стояла и не будет стоять на рельсах узкой межпартийной борьбы и вся ее существующая тактика вызывается попиранием отдельными лицами и центральной властью интересов трудового крестьянства в продовольственных и других вопросах и в сведении к нулю власти Советов рабочих и крестьян, что подтверждается и в Олонецкой губернии, как видно из постановления фракции большевиков, взявшей на себя роль уполномоченного Военного Комиссариата и иных партийных органов, осмелившейся посягать на волю крестьян и рабочих всего Олонецкого края, выраженную им на своем Чрезвычайном съезде, и подчинять его решения стремлениям партии большевиков. Фракция сознает, что в настоящий ответственный момент каждый социалист не будет даже задумываться — нужно работать или нет, в частности, члены фракции, как избранные крестьянством Олонецкого края на Чрезвычайном съезде, ответственны только перед крестьянством Олонии и уходят из исполкома и комиссариатов по требованию большевиков, только подчиняясь грубой силе, основанной на штыках».
Садиков гордо вскинул голову и, шаркая по полу валенками, медленно направился к выходу. Он шествовал так, как будто всходил на эшафот и его со всех сторон подпирали острия штыков. Если бы момент не был столь ответственен, то подобное позерство впору было бы провожать веселым смехом. Все эсеры молча один за другим оставили помещение. Но не таков был Садиков. Прежде чем уйти, он, обернувшись, с пафосом произнес:
— За вами сила, но не правда!
— Ступай, ступай! — не выдержал Дубровский, приподнимаясь. — Ишь, праведник нашелся!
3
…Дверь с шумом захлопывается.
Секретарь Смелков дописывает, последние строки протокола:
«…Фракция левых эсеров в полном составе в два часа ночи покидает заседание».
Парфенов идет к председательскому столу, по пути расставляя в порядок стулья левых эсеров.
Данилов вдруг широко улыбается:
— Теперь–то, я полагаю, у нас есть наконец право открыть окна и впустить свежего воздуха.
Все смеются, и сразу становится радостно и легко, хотя чуть–чуть и непривычно.
Парфенов просит пригласить из комнаты фракции всех находившихся там членов большевистской партии.
Первое заседание губернского революционного исполнительного комитета объявляется открытым.
Секретарь Смелков берет чистый лист бумаги и начинает новый протокол.
Вопросов много, а времени для записи протокола мало — ведь решаются все вопросы без долгих словопрений, перерывов и деклараций. Быстро–быстро скользит привычная секретарская рука по гладкой бумаге, а и то успевает записывать лишь самую суть.
«1. Выборы председателя Губревисполкома: Анохин П. Ф.
2. Выборы Президиума: Товарищ председателя — Подгорных. Секретарь — Смелков.
3. Охрана города Петрозаводска: Усилить караулы и патрули (Дубровский).
4. Замещение комиссаров левых эсеров комиссарами большевиками. Временно назначить: Продовольственная коллегия — Петров, Мартынов, Власков. Земледелия — Николаев. Финансов — Пичурин (Вызвать из уезда Яковлева). Казначей — Филиппов. Внутренних дел — Дорофеев. Почт и телеграфа — Игошкин. Редколлегия газеты — Данилов, Богданов. Учетно–контрольная комиссия — Капустин. Ревтрибунал — Зуев».
Вновь назначенным комиссарам тут же оформляются мандаты и предлагается немедленно приступить к исполнению обязанностей. Данилов составляет текст официального оповещения для публикации в губернской газете. Тем временем Дубровский по телефону связывается с командирами воинских частей, коротко информирует их и договаривается об усилении караулов и патрулей. Через час заспанный телеграфист начинает отстукивать на аппарате срочное сообщение:
«Москва. Совнарком. Ленину.
Петроград. Трудовая коммуна.
Копия Северному Областному Комитету коммунистов. и Центральному Комитету Коммунистической партии.
Окружной комитет коммунистов, Петрозаводский Революционный комитет, Военный комиссариат предложил левым эсерам оставить места в губернском исполкоме. Образован Олонецкий Губернский Революционный Исполнительный Комитет составом фракции коммунистов.
Председатель Анохин».Около шести утра наконец–то выдается свободная минута. Комиссары губревисполкома разошлись и разъехались, чтобы первыми встретить на своих постах начало нового дня.
Тихо, непривычно тихо стало в кабинете председателям. Словно бы и не было этой бурной ночи! О ней напоминает лишь едва слышное, сбивчивое и поспешное, стрекотание машинки; за стеной печатается первый протокол вновь созданного органа революционной власти.
Анохин закуривает, подходит к раскрытому окну, долго в задумчивости стоит перед ним…
Он глядит на залитый солнцем, еще не пробудившийся родной город и вперемежку с радостью в душе поднимается и крепнет тревога.
В ту минуту он твердо знал лишь одно — Советской власти еще предстоят суровые и, быть может, самые грозные испытания. Какими они будут — об этом он не мог даже и догадываться.
Он не знал, что не один раз прозвучит над страной тревожное предостережение: «Социалистическая революция в опасности!» Что и в Олонии через год белофинские отряды подойдут к стенам Петрозаводска, и только мужество и стойкость всего населения спасут город от захватчиков!
Что английские интервенты и белогвардейцы будут полтора года терзать Север боями, кулацкими восстаниями, карательными экспедициями и расстрелами! Наступят недели и месяцы, когда смертельная угроза вынудит ревком начать эвакуацию Петрозаводска. Но вслед за тем вновь придет радость одержанной победы. Будут поражения. Но будет и Сулажгорский бой, и десанты в Видлице, в Лижме, которые войдут в историю как славные страницы гражданской войны.
Будет трудно, иногда невыносимо трудно! Но даже в самые опасные моменты, когда исход борьбы зависел от каждого отмобилизованного рабочего или крестьянского штыка, олонецкие большевики не раз вспомнят это июльское утро и порадуются тому, что левоэсеровская демагогия не путается больше в ногах пролетарской революции.
К тому времени и от самой партии левых эсеров останется лишь воспоминание. Честное большинство под влиянием событий пересмотрит свои идейные позиции и примкнет к коммунистам. Их олонецкий лидер И. В. Балашов вступит в 1919 году в члены РКП (б) и погибнет на крупном военно–политическом посту в Закавказье. В том же году вступит в коммунистическую партию и Абрам Рыбак, который пройдет в ее рядах тридцатипятилетний путь служения народу и революции. Анохин с радостью узнает об этом и искренне поздравит своего старого друга.
Все это будет потом…
А сейчас, в тихую минуту передышки, Анохин стоит у окна, курит и чувствует, как вместе с раздумьями приходит тревожное, давящее и волнующее ощущение всей полноты ответственности за совершенное и предстоящее.
1966 г.
Сноски
1
В. М. Куджиев с октября 1918 года работал в Наркомате путей сообщения в Москве. В мае 1919 г. был принят в члены РКП (б). Вся его дальнейшая жизнь — путь честного служения делу революции, партии и Советской власти. Декретом ВЦИКа от 8 июня 1920 г. В. М. Куджиев был назначен членом ревкома по созданию Карельской Трудовой Коммуны. В последующие годы находился на руководящей работе в Петрозаводске, Архангельске, Ленинграде, с 1956 г. — персональный пенсионер. (Примечание автора.)
(обратно)




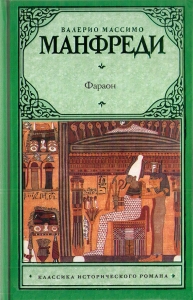

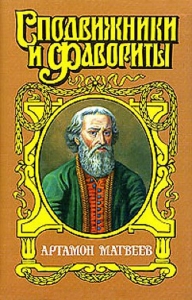


Комментарии к книге «Гусаров Д. Я. Избранные сочинения. (Цена человеку. Вызов. Вся полнота ответственности)», Дмитрий Яковлевич Гусаров
Всего 0 комментариев