За землю русскую. Век XIII
Времена, о которых пойдёт речь в этой книге, кажутся нам бесконечно далёкими, едва различимыми в тумане прошлого. Чтобы попасть туда, мы должны, как терпеливые паломники, пройти путь длиною в семь столетий.
Этот век называют «тёмным периодом» русской истории. Однако начало его было светлым и спокойным. Громадная страна, превосходившая по размерам любое европейское государство, было полно молодой созидательной силы. Населявшие её гордые и сильные люди ещё не знали гнетущей тяжести иноземного ига, не педали унизительной бесчеловечности крепостного права.
Мир в их глазах был простым и цельным. Они ещё не знали разрушительной силы пороха. Расстояние измеряли размахом рук или полётом стрелы, а время — сменой зимы и лета. Ритм их жизни был неторопливым и размеренным.
В начале XIII века по всей Руси стучали топоры, росли новые города и сёла. Русь была страной мастеров. Здесь умели плести тончайшее кружево и возводить устремлённые ввысь соборы, ковать надёжные, острые мечи и рисовать небесной красоты ангелов.
Русь была великим перекрёстком народов. На площадях русских городов можно было встретить немцев и венгров, поляков и чехов, итальянцев и греков, половцев и шведов... Многие удивлялись тому, как быстро усваивали «русичи» достижения соседних народов, применяли их к своим нуждам, обогащали свою собственную древнюю и своеобразную культуру.
В начале XIII века Русь была одним из виднейших государств Кароны. Начавшаяся с 30-х годов XII века феодальная раздробленность не означала распада Древнерусского государства. Она были лишь новой политической структурой. Сохранялось этническое и культурное единство страны. За первые сто лёт раздробленности русские князья не отдали врагу ни одной русской области, ни одного города. Их могущество и богатство были известны по всей Европе. Владимирский князь Андрей Боголюбский нанимал в Германии мастеров для украшения своих белокаменных соборов, а галицкий князь Роман спасал Византию от нашествия половцев.
Чувство единства Русской земли, сохранявшееся вопреки разъедавшей его ржавчине политической раздробленности, удельных привычек и понятий, отчётливо выражено в «Слове о полку Игореве»: «О, Русская земля, ты уже за холмом!»
Гроза надвинулась внезапно. В 1223 году лучшие русские витязи «в земле незнаемой» у реки Калки сложили головы в отчаянной схватке с неведомым доселе страшным врагом, пришедшим через «железные врата» Кавказа — с отрядами «покорителя мира» Чингисхана.
На Руси пришельцев обобщённо называли «татарами». С научной точки зрения это не совсем правильное название: «татарами» в конце XII века называлось одно из монголоязычных кочевых племён Центральной Азии. Татары искони враждовали с собственно монголами и были почти полностью уничтожены Чингисханом.
Имя татар пережило сам народ. Этим именем называли всю разноплеменную массу кочевников, пришедших из заволжских степей в 30-е годы XIII века.
Что касается современных татар, то они, унаследовав имя древнего народа, в этническом отношении не имеют ничего общего ни с татарами, уничтоженными Чингисханом, ни с «татарами», которых привёл на Русь Батый. Да и современные монголы едва ли имеют какие-либо прямые родственные связи с монголами, ходившими в походы под знамёнами Чингисхана и Батыя. Не следует забывать, что, во-первых, собственно монголы составляли лишь небольшую часть огромной армии завоевателей; во-вторых, большинство монголов не вернулось из дальних походов. Они погибли в бою либо, оставшись в завоёванных странах, постепенно смешались с местным населением. Известно, например, что уже в XIV веке основную массу населения Золотой Орды составляли потомки половцев и других кочевых народов причерноморских степей.
Современные историки, говоря о завоевателях XIII столетия, называют их по-разному: «монголо-татары», «татаро-монголы», просто «монголы» или «татары». Под этим названием они подразумевают не какой-то определённый народ, а возникшее в начале XIII века государственное объединение десятков кочевых племён.
Удивительна и во многом до сих пор неясна история монгольской империи. В начале XIII века разноязычные кочевые племена Центральной Азии пришли в движение. Словно притянутые магнитом алчности и страха, они соединились вокруг племени монголов, во главе которого в 1206 году встал сын одного из родовых вождей — Тэмуджин, принявший имя Чингисхана, то есть Великого хана.
Чингисхан построил государство и войско на принципах слепого подчинения и жесточайшей дисциплины. Монгольская знать стремилась превратить свой народ в послушное орудие для завоеваний и грабежей. Используя монголов в качестве стержня своей разноплеменной армии, Чингисхан заставлял участвовать в походах и воинов покорённых народов.
Завоевательные походы монголов во многом объяснялись уровнем их общественного развития, особенностями ведения хозяйства. И монгольском обществе сохранялись глубокие следы первобытнообщинных и рабовладельческих отношений, однако в целом и начале XIII века оно было уже раннефеодальным. Основой экономического и политического могущества монгольской знатью была собственность на землю.
Земля нужна была кочевникам-монголам не как поле, а как пастбище для скота. Поэтому общественный строй монголов иногда называют «кочевым феодализмом».
Переход к феодализму у всех народов отмечен повышенной военной активностью, стремлением растущей феодальной знати к быстрому обогащению за счёт ограбления соседних земель. И в этом монголы не составляли исключения...
Крепнущая от похода к походу, от битвы к битве армия Чингисхана, покорив соседние кочевые племена, в 1211 году обрушилась на Северный Китай. Постепенно большая часть страны оказалась под властью завоевателей. Осенью 1219 года монголы в вторглись в Среднюю Азию. Сильнейшим государством в этом районе была держава хорезмшаха Мухаммеда. Однако и она быстро распалась под ударами степняков. Завоевав в 1221 году всю Среднюю Азию, монголы двинулись дальше, на территорию нынешнего Афганистана, Ирана и Индии. Одновременно Чингисхан направил большой отряд для завоевания Северного Ирана, Кавказа и причерноморских степей.
Этому походу Чингисхан придавал особое значение. Командовать отрядом он поручил своим лучшим полководцам — Джэбэ я Субэдэю. Действуя где силой, а где хитростью и коварством, они пробились на Северный Кавказ, разгромили аланов, предков современных осетин, и столкнулись с половцами. Потерпев несколько поражений, половцы обратились за помощью к русским князьям.
Русско-половецкое войско действовало неорганизованно, разобщённо, и 31 мая 1223 года на берегах речки Калки, недалеко от Азовского моря, было наголову разбито. После этого сражения ослабевший от долгих переходов и тяжёлых боёв отряд Джэбэ и Субэдэя повернул на восток и ушёл за Волгу.
Шли годы. На Руси стали забывать о татарах. Казалось, они бесследно растворились в бескрайних степях за Волгой. Однако за первым валом степного прибоя поднимался второй, ещё более грозный и сокрушительный.
В 1235 году состоялся курилтай (съезд) монгольской знати, на котором было решено начать большой поход на запад. Командование войсками было поручено внуку Чингисхана Вату. Монгольское имя Вату (в русском произношении — Батый) означало «крепкий», «твёрдый», «несокрушимый». Бату был способным, удачливым полководцем. Недаром его впоследствии называли «Саин-хан», то есть «Счастливый». Беспощадно и последовательно шёл он к цели.
Осенью 1236 года монголы вторглись на территорию Волжской Болгарии и вскоре «всю землю их плениша». Весной и летом 1237 года полчища Батыя прошли по степям от Каспия до Дона, уничтожая половцев и другие кочевавшие там народы. Теперь они стояли на самом пороге Руси.
В 1229 и 1232 годах летописи отметили нападение «татар» на земли волжских болгар. Это было первое европейское государство, ставшее их жертвой. Сложилось оно в X веке в Среднем Поволжье, а населяли эту цветущую ко времени прихода завоевателей страну потомки тюркоязычных болгарских племён, пришедших сюда из Приазовья в VII веке. Другая часть болгарских племён двинулась в это же время на Балканы, где, полностью растворившись среди местного населения, дала, однако, имя формировавшейся здесь славянской народности. К XIII веку на территории Европы существовало две Болгарии, но, если страну на берегу Дуная ожидала долгая и богатая история, то Волжской Болгарии суждено было исчезнуть под копытами монгольских коней. Историк середины XVIII века Василий Никитич Татищев, имевший под руками некоторые не сохранившиеся до нашего времени летописи, сообщает, что князь Юрий Владимирский поселил в своих восточных крепостях тысячи беженцев из Волжской Болгарии. Опасаясь союза между восточными и западными врагами Руси, Юрий перехватил послов, отправленных ханом к венгерскому королю, задержал католических монахов, посланных на Русь папским престолом с целью разведки. Как и князья Южной Руси, Юрий стремился к объединению сил восточноевропейских государств для борьбы с татарами. Он пытался начать переговоры с венгерским королём Белой IV, сообщал ему о планах татар.
Узнав о нападении татар на Волжскую Болгарию, Юрий распорядился усилить укрепления некоторых поволжских городов.
В народе ходило множество полуфантастических рассказов и слухов о страшных завоевателях. Книжники выискивали в Священном писании и древних хронографах известия о татарах. Литературные произведения той поры полны предчувствием надвигающейся беды. «Не дай, господи, земли нашей в полон народам, не знающим бога!» — восклицал накануне нашествия неизвестный автор «Моления Даниила Заточника».
В Киеве люди запасались «оберегами» — маленькими нагрудными иконками с отчаянным призывом: «Святая Богородица, помогай!»
И всё же главное, единственное, что могло спасти Русь, — объединение — оставалось неосуществимой мечтой. Даже временный военный союз нескольких князей не смог организовать великий князь владимирский: слишком тяжёлым оказалось бремя недоверии и застарелой вражды между русскими князьями. Да к тому же и татарские лазутчики усердно сеяли по Руси слухи о том, что войска Батыя двинутся одновременно с четырёх сторон. Кому охота уходить от родного дома, когда на него в любой момент могут напасть враги. Так и сидели русские князья по своим феодальным гнёздам, дожидаясь, пока беда сама постучит в ворота.
В конце 1237 года Батый двинулся на Северо-Восточную Русь. Одни за другим исчезали в огне пожаров деревянные русские города — Рязань, Коломна, Москва... Вскоре пришёл черёд стольного Владимира. 7 февраля 1238 года после ожесточённого сражения город был взят татарами.
Не задолго до подхода Батыя князь Юрий Владимирский с дружиной покинул Владимир и ушёл на северо-запад, в сторону Углича. Там, в глухих лесах за Волгой, он надеялся соединиться с братьями Ярославом и Святославом и вместе ударить на врага. Однако татары опередили его: 4 марта 1238 года они уничтожили дружины Юрия и Святослава в отчаянной схватке на берегах лесной речки Сить. Теперь перед ними открывался путь на Новгород.
В марте 1238 года Батый направил свои отряды на северо-запад, взял Торжок — южные ворота новгородской земли. Однако приступить к степам великого города он так и не решился. Батый понимал, что его ослабевшая, потерявшая десятки тысяч воинов армия едва ли сумеет завоевать сильные, густонаселённые северо-западные области Руси. К тому же и весенняя распутица со дня на день могла превратить новгородские леса и болота в западню для отяжелевшей от добычи монгольской армии.
Уходя на юг, Батый, как на степной облавной охоте, раскинул свои отряды в виде огромной петли, стремясь захватить этим арканом всё живое, что оставалось на Руси. Завоевателям ещё не раз пришлось испытать на себе силу русского оружия. Семь недель бились с врагом жители Козельска, пока не полегли все до единого в последней рукопашной схватке под стенами родного города.
Прогнали незваных гостей жители Смоленска. В народе родилась красивая легенда о том, что победил татар и спас Смоленск всего один воин — прекрасный юноша по имени Меркурий.
Лето 1238 года Батый провёл в Половецких степях. После тяжёлых боёв войскам необходим был отдых и пополнение. Лишь в 1239 году татары смогли возобновить активные действия против Руси. Оли вновь вторглись во владимирские земли, разорили Муром и Гороховец, воевали по Клязьме. В Южной Руси отряды, посланные Батыем, захватили Чернигов и Переяславль, опустошили многие области по левому берегу Днепра.
Новое большое наступление монголо-татар началось в 1240 году. Перейдя Днепр, они поздней осенью осадили Киев. По словам летописца, даже в городе скрип тележных колёс, рёв верблюдов, ржание коней заглушали голоса людей.
Целые сутки длился решающий штурм. 19 ноября 1240 года татары взяли Киев.
Пройдя через Галицко-Волынское княжество, Батый двинулся дальше, на Венгрию, Чехию и Польшу. И апреля 1241 года в битве при Шайо монголы разгромили 60-тысячную армию венгерского короля Белы IV. А за два дня до этого отдельный монгольский корпус, под командованием Бурундая действовавший в юго-западной Польше, уничтожил объединённые польские силы в битве при Легнице.
Путь на запад был открыт. Однако весной 1242 года Батый повернул войска обратно на восток.
Историков давно интересовали причины, заставившие внука Чингисхана прекратить поход на запад. При всём множестве больших и малых препятствий на пути Батыя главной причиной, затормозившей и остановившей продвижение монгольской армии, было героическое сопротивление народов Восточной Европы, и в первую очередь русского народа. Потеряв лучших воинов, Батый не имел сил двигаться дальше.
Именно на это указывал ещё А. С. Пушкин: «России, — писал он, — определено было высокое предназначение... Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощённую Русь и возвратились в степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»
Сама же «растерзанная и издыхающая» Русь с середины XIII века становится «русским улусом», провинцией громадной монгольской империи, раскинувшейся от Чёрного моря до Тихого океана.
Нападение монголов на Русь возбудило большие надежды у её хищных и сильных северо-западных соседей. Ослабленная, обескровленная русская земля казалась лёгкой добычей немцам и шведам.
Уже летом 1240 года, когда монгольские войска разоряли Южную Русь и готовились напасть на Киев, шведы попытались захватить новгородские земли, но были разбиты в битве на Неве. Через два года ледяная вода Чудского озера охладила воинственный пыл немецких рыцарей. Невское и чудское «крещение» надолго осталось в памяти у недругов Руси. Однако лишь постоянная боевая готовность новгородцев и псковичей оберегала их землю от новых посягательств западных соседей.
Тяжким бременем легло на плечи русского народа монголо-татарское иго. Эксплуатация покорённых народов монгольскими ханами была безжалостной и всесторонней. Русские земли должны были выплачивать огромную дань правителям образовавшегося во второй половине XIII века на территории Половецких степей хищного и сильного государства — Золотой Орды. Размеры дани, состоявшей из драгоценных металлов, пушнины, определялись соответственно численности населения той или иной земли. В 50-е годы XIII века монгольские чиновники с помощью русских князей провели перепись населения Руси. Даже гордые новгородцы, не желавшие признавать своей зависимости от Орды, после долгого сопротивления «яшася по число», позволили монголам провести перепись на берегах Волхова.
Поначалу сбор дани в русских городах монголы передали в руки откупщиков, вербовавшихся в основном из мусульманских купцов. Эти «бесермены» (то есть «мусульмане»), как называет их русская летопись, опутали своими долговыми сетями множество людей разных сословий. Засилье «бесерменов», быстро снискавших всеобщую ненависть, было одной из главных причин восстания 1262 года в Северо-Восточной Руси.
Наряду с обычной данью, выплачивавшейся ежегодно, монголы периодически взимали чрезвычайные, вызванные какими-то особыми обстоятельствами поборы — «чёрный бор». Тягостной повинностью было содержание ордынских послов и чиновников.
Общий контроль за положением дел в «русском улусе» осуществляли особые ханские чиновники — баскаки. Во главе их стоял «великий баскак владимирский». Иногда баскаки одновременно были и сборщиками дани.
Экономическое развитие Руси резко замедлилось. Причиной этого была не только ордынская дань и всяческие поборы, разорявшие население и подрывавшие развитие товарно-денежных отношений, но и постоянное опустошение русских земель частыми «ратями» — карательными походами ордынцев. Подсчитано, что только в последней четверти XIII века монголы совершили около 15 походов на Русь. Крупнейшие русские города — Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский — по нескольку раз были разгромлены ордынцами. Упадок городов — центров ремесла и торговли — приводил к общему замедлению экономического и политического развития страны. Невосполнимый урон наносили ордынские «рати» и русской культуре.
Велика была и политическая власть Орды над Русью. Ханы судили князей, распоряжались великими и местными княжениями: жаловали «ярлыки» — грамоты, дающие право на княжение.
Ордынцы контролировали внешнюю политику Руси. Целью ханской дипломатии была политическая изоляция Руси от враждебных Орде восточноевропейских государств — Венгрии, Польши, Литвы, Чехии.
Основная тяжесть монголо-татарского ига легла на крестьян и ремесленников. Несладко приходилось и князьям, привыкшим к независимости и самовластию. Едва ли один из десяти князей сумел в эту тяжёлую пору сохранить достоинство, защитить своих людей от татарской сабли, от произвола баскаков.
В отношениях с Ордой осторожность и вкрадчивость, выдержка и прозорливость были для князей гораздо важнее, чем ратное искусство и личная храбрость. Те, кто не сумел вовремя понять этого, расплачивались своими и чужими жизнями.
По-разному складывались отношения русских князей с ханами. Многие князья, подчиняясь обстоятельствам, сносили унижения, платили дань и думали лишь о том, как бы не потерять своё княжество.
Однако находились и такие, кто не желал плыть по течению. Одни видели цель борьбы в собственном возвышении, в приобретении новых владений и большей власти с помощью «поганых». Стремясь получить поддержку хана, они годами жили в Орде, ходили вместе с татарами в походы, женились на ханских дочерях. Так поступали Глеб Белозерский, Фёдор Чёрный, Андрей Городецкий. Таких князей летописец презрительно называет «служебниками ордынскими».
Другие — Андрей Суздальский, Ярослав Тверской — готовы были рисковать всем ради призрака былой независимости, ради ничтожно малой, но такой заманчивой надежды на немедленное освобождение. Их было немного. Они гибли и в падении своём увлекали в пропасть тысячи людей.
Но нашлись среди русских князей того трагического века и такие, кто бесстрашно и непоколебимо встречал удары судьбы. Даниил Галицкий и его брат Василько — на юге, Александр Невский — на севере устояли в эпоху испытаний. За ними шли, им подчинялись даже и тогда, когда по приказу монголов Василько разрушал стены собственных крепостей, а Александр сопровождал татарских «численников» по улицам русских городов.
И всё же Александру было тяжелее, чем Даниилу. Не было рядом свободных, сильных государств, от которых могла наконец прийти помощь, не было каменных замков, неприступных для монголов, не было даже брата-единомышленника, на которого можно было во всём положиться. Была только «светло светлая и украсно украшенная» земля Русская, которая и давала силы в минуты отчаяния.
Но словам английского историка Карлейля, «мужество, геройство — это прежде всего способность делать». Этой способностью Александр Невский был наделён сполна.
Словно желая ещё и ещё раз испытать Александра, судьба то гнала его за Урал, туда, где люди терялись как песчинки в пустыне, то бросала в литовские и чудские болота. Но повсюду, на берегах Невы и Керулена, он «честно и грозно», как заповедано было дедами и прадедами, делал своё княжеское дело: отстаивал интересы своей земли, своего народа.
Александр Невский умел быть одновременно грозным и покорным, отчаянно храбрым и бесконечно смиренным, грозно хмурился на запад и учтиво улыбался на восток.
Ужо современники удивлялись сложному, противоречивому характеру князя, подчас даже упрекали его в сердцах за то, что он «татар паче меры возлюбил».
Русские летописцы, изображая людей, следовали тем правилам, которые академик Д. С. Лихачёв назвал «литературным этикетом». Они рисовали человека не таким, каким он был в жизни, а таким, каким должен был быть согласно его общественному положению и принятым нормам поведения. Всё личное, индивидуальное, по мнению летописца, не заслуживало особого внимания. Александр Невский в летописях получился бледным и схематичным. Мы не знаем, как он выглядел и как держался, что говорил и что таил на дне души.
Летописи сохранили лишь самые общие черты биографии Александра. Он родился в 1220 году в семье князя Ярослава Всеволодовича, четвёртого из восьми сыновей знаменитого Всеволода Большое Гнездо. Отец с детских лет готовил Александра к новгородскому княжению. Это была сложная и для многих непосильная роль. Положение князя в новгородской республике было двойственным. Воюя, он пользовался всей полнотой власти. В мирное же время новгородцы ревниво следили за тем, чтобы князь ни в чём не посягнул на традиционные новгородские вольности. Малейшая неловкость князя обычно приводила к его изгнанию. Редко кому из князей удавалось подолгу занимать новгородский «стол». Для этого требовалась не только отменная воинская доблесть, но и осмотрительность, умение предвидеть и предупреждать удары враждебных боярских группировок.
Александр вырос среди буйной и своевольной новгородской толпы. Ему доводилось слышать от новгородцев и крики приветствий, и горькие слова: «Поиди, княже, прочь: ты нам еси не надобен». Новгородская «школа» очень много дала Александру. Она развила его природный ум, воспитала в нём тонкого политика и дипломата.
За долгие годы жизни в Новгороде Александр сроднился с этими суровыми и непокорными людьми. На новгородской земле, в Торопце, он в 1239 году сыграл свадьбу с дочерью полоцкого князя Александрой. С новгородцами пережил он страшную зиму 1237/3S года, когда татарские полчища остановились всего за сто вёрст от Волхова. С ними же «изгоном», смелой атакой опрокинул шведов на Неве и получил за эту блестящую победу почётное прозвище «Невский». Два года спустя во главе новгородских полков он гнал немцев по чудскому льду.
Встреченный с триумфом по всей новгородской земле после Ледового побоища, он вскоре пошёл с новгородцами на осмелевших литовских князей и нагнал на них такой страх, что они, по выражению летописи, «имени его стали блюстися».
Новые, неотступные заботы прервали блестящие военные успехи, да и весь новгородский период жизни Александра. Его отец, князь Ярослав Всеволодович, занявший после гибели брата Юрия великое владимирское княжение, в 1245 году вместе с братьями и племянниками был вызван к Батыю, кочевавшему в низовьях Волги, а оттуда послан к великому хану в Монголию. Там Ярослав был отравлен татарами. Ходили слухи, что причиной гибели князя был донос одного из бояр.
Вслед за Ярославом в Монголию были вызваны его старшие сыновья, Александр и Андрей. Настало время и невскому герою узнать «честь татарскую». В 1247 году он отправился через безводные, усеянные человеческими костями степи в Каракорум — легендарную столицу бескрайней монгольской империи. Лишь через два года, счастливо избежав участи отца, Ярославичи вернулись на Русь. Младший, Андрей, получил от великого хана ярлык на великое владимирское княжение, Александр — ярлык на Киев.
«Раздел между Ярославичами не был мирен», — отметил ещё историк прошлого столетия С. М. Соловьёв. Теперь, когда Андрей и Александр оказались на вершинах власти, между ними начались разногласия, со временем приведшие к открытому разрыву.
В политической борьбе начала 50-х годов XIII века заметно противостояние двух княжеских группировок. С одной стороны, всё ещё по-владимирски гордый, самоуверенный Андрей Ярославич и его брат Ярослав Тверской. На юге Руси их поддерживает многоопытный могущественный тесть Андрея — Даниил Галицкий. Вдохновляемые митрополитом Кириллом, эти князья явно тяготится зависимостью от Орды, готовы, когда наступит час, попытать счастья в открытой борьбе.
Александр Невский же и ростовские князья, реально оценивая обстановку, видят пока лишь один путь борьбы — путь медленного собирания сил, путь умиротворения Орды любой ценой.
Не случайно именно этот, наиболее сложный и драматический период жизни Невского привлёк внимание писателя А. Югова. В политической борьбе начала 50-х годов Невский проявил себя не только как отважный воин, но и как крупный государственный деятель, проницательный политик, глубоко понимающий интересы и нужды своего народа.
В 1252 году Батый лишил князя Андрея Ярославича владимирского престола. Предвидя сопротивление, хан послал против Андрея и Ярослава большое войско под предводительством воеводы Неврюя. Опустошительной «Неврюевой ратью» обернулась для русской земли опрометчивая политика князя Андрея.
После свержения Андрея Батый передаёт ярлык на великое княжение владимирское Александру Невскому. И вот с приходом Александра во Владимир наступают десять лет «тишины», той самой спасительной для страны тишины, которой так радовался летописец, писавший о временах другого миротворца — Ивана Калиты.
С 1252 по 1263 год, пока Александр был великим князем, не было ни одного набега татар на его владения, ни одной кровавой «рати».
Едва ли антиордынское восстание 1262 года в Северо-Восточной Руси было организовано Александром Невским, как это представляется автору романа. Слишком безоглядным, бесперспективным было это выступление в эпоху расцвета военного могущества Орды. Слишком дорого могло обойтись это восстание русской земле, да и самому Невскому. Однако нет сомнения в том, что Александр разделял гнев владимирцев и ярославцев, суздальцев и ростовцев и, наверное, остро завидовал тем, кто мог, не таясь, восстать против ненавистных поработителей.
Восстание 1262 года могло стоить Александру не только княжения, но и жизни. Но не только над ним — над всей Северо-Восточной Русью нависла страшная угроза. Ордынцы не прощали малейшего сопротивления. Ответом на восстание должен был стать большой поход на русские земли. И тогда Александр решает идти навстречу опасности. Собрав богатые дары, он отправляется в ханскую ставку.
Долго размышлял хан Берке, как ему поступить со взбунтовавшимся «русским улусом». Наконец, озабоченный надвигавшейся войной с племянником, владыкой Ирана ханом Хулагу, Берке сменил гнев на милость. Александр был отпущен на Русь. Он сумел «отмолить беду», отвести занесённую над Русью кривую татарскую саблю. Однако этот последний бескровный подвиг Невского стоил ему жизни. Из Орды он выехал больным и, так и не увидев державных владимирских высот, скончался глубокой ночью 14 ноября 1263 года в маленькой пограничной крепости Городце на Волге.
Тело его встречали в Боголюбове, за несколько вёрст от Владимира. «Стояли вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогалась. Люди толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его», — рассказывает современник, автор «Жития» Александра. Оплакав всем городом, Невского погребли в придворном Рождественском монастыре. Он умер всего 43 лет.
Мысль о том, в чьи руки перейдёт власть, должно быть, сильно беспокоила умиравшего Александра. Сыновья — Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил — были ещё очень молоды и не имели достаточно сил и опыта, чтобы управлять страной. Оставались братья, старые политические соперники Александра, Андрей и Ярослав Ярославичи, и медлительный, слабовольный костромской князь Василий Квашня.
Около десяти лет великим князем был Ярослав Ярославич Тверской. Время изменило его взгляды. Он уже не пытался, как в 1252 году, воевать с татарами. Подобно Александру, Ярослав уделял большое внимание делам северо-западной Руси. Там вновь подняли голову «псы-рыцари». В 1268 году Ярослав во главе новгородских полков одержал большую победу над немцами в битве под Раковором. Тяжёлой руки Ярослава побаивались и подраставшие сыновья Невского.
Дмитрий и Андрей Александровичи как бы разделили между собой те качества, которые столь удачно совмещал их отец. Дмитрий, выросший ещё при жизни отца, унаследовал от Невского любовь к Новгороду, и вместе с ней ту гордость, независимость и силу, которыми, казалось, был пропитан самый воздух великого города. Уже в 18 лет Дмитрий отличился смелыми и самостоятельными действиями в походе на немцев. Позднее он выстроил в новгородской земле, на берегу Финского залива, мощную крепость Копорье. Здесь он мог выдержать длительную осаду любого врага.
Став великим князем в 1276 году, Дмитрий почти не ездил в Орду. Крепкая рука сына Невского держала в узде всех больших и малых русских князей. И лишь один из них сумел после долгой борьбы победить Дмитрия. То был его родной брат Андрей.
Андрей Александрович не помнил отца. Он был совсем младенцем, когда умер Невский. Самым ярким впечатлением отрочества Андрея было путешествие в Орду вместе с ростовскими и ярославскими князьями. Там они провели около двух лет, ходили вместе с татарами в поход на Северный Кавказ. Увидев воочию могущество Орды, перезнакомившись с ордынскими «царевичами», Андрей постепенно становится сторонником полного подчинения Орде, удовлетворения всех её притязаний. Его политическим идеалом становится союз, пусть даже и не совсем равноправный, с ордынскими правителями.
Года через два по возвращении домой 18-летний Андрей зовёт на Русь татарский отряд и с его помощью прогоняет Дмитрия с великого княжения. Однако Дмитрий был не из тех, кого можно свалить одним ударом. Завязавшаяся усобица длилась до 1294 года, когда любимый сын Невского, ограбленный, преследуемый татарами, умер где-то на пути между Тверью и Волоколамском.
Ни одного из старших сыновей Невского нельзя назвать прямым продолжателем его дела.
И лишь младшая линия потомков Невского — его сын Даниил Московский, внуки Юрий и Иван Даниловичи хорошо усвоили политические уроки деда.
Популярность Невского возрастала из века в век. Горячим почитателем его памяти был Пётр I. Неподалёку от места, где в 1210 году Александр разгромил шведов, по приказанию Петра была выстроена Александро-Невская лавра — первый монастырь новой столицы Российского государства. Вскоре после победы над шведами в Северной войне Пётр повелел перенести прах Невского из Владимира в Петербург и поместить его в соборе Александро-Невской лавры.
Александра Невского помним и мы, его далёкие потомки. Имя Невского носит один из высших военных орденов нашей Родины. Его именем называют улицы и корабли. На родине Невского, в Переславле-Залесском и в Новгороде, на Ярославовом дворище, где шумело когда-то новгородское вече, установлены памятники замечательному патриоту и полководцу. О нём пишут художественные произведения и научные труды.
* * *
Русская история в XIII столетии была необычайно богата событиями. В эту тяжёлую историческую эпоху с особой силой проявился героизм, свободолюбие нашего народа, возвысились люди, имена которых навсегда сохранились в памяти потомков. Этим объясняется большой интерес к событиям XIII века со стороны не только историков, но и писателей. Среди произведений, посвящённых этому времени, выделяются романы В. Яна «Чингисхан», «Батый», «К «последнему морю». Большой популярностью у читателей пользуется роман И. Калашникова «Жестокий век», рассказывающий о возвышении Чингисхана, о том, как создавалась и крепла страшная завоевательная сила Орды.
Героизму русских воинов, светлому образу Александра Невского посвящён роман А. Субботина «За землю русскую» и книга историка В. Пашуто «Александр Невский», изданная в серии «Жизнь замечательных людей». Событиям XIII столетия посвящён исторический роман Д. Балашова «Младший сын».
В ряду этих произведений советской литературы видное место занимает и эпопея А. Югова «Ратоборцы», состоящая из романов «Даниил Галицкий» и «Александр Невский».
В настоящий том входят роман А. Югова «Александр Невский», записки очевидцев, современников Невского, памятники древнерусской литературы, отрывки из сочинений историков.
Исторические документы позволяют глубже понять важнейшие события отечественной истории и, как мы надеемся, помогут читателю увидеть в истории не простую сумму фактов, а сложнейшую науку, достижения которой играют важную роль в развитии общества.
Н.С. БОРИСОВ
Алексей Югов Александр Невский
ЧАСТЬ 1
И от сего князя Александра
пошло великое княжение
Московское.
ЛетописьАлександр Ярославич спешил на свадьбу брата Андрея.
Стояла звонкая осень. Бабье паутинное лето: Симеоны-летопроводцы[1]. Снятые хлеба стояли в суслонах. Их было неисчислимое множество.
Когда ехали луговой стороной Клязьмы, то с седла глазам Александра и его спутников во все стороны, доколе только хватал взгляд, открывалось это бесчисленное, расставленное вприслон друг к другу сноповьё.
Налёгшие друг на друга колосом, бородою, далеко отставившие комель, перехваченные в поясе перевяслом, снопы эти напоминали Невскому схватившихся в обнимку — бороться на опоясках — добрых борцов.
Сколько раз, бывало, ещё в детстве, когда во главе со своим покойным отцом всё княжеское семейство выезжало о празднике за город, в рощи, на народное гулянье, созерцал с трепетом эти могучие пары русских единоборцев княжич Александр!
Вот так же, бывало, рассыпаны были они по всей луговине.
Вот они — рослые мужики и парни, каждый неся на себе надежды и честь либо своего сословия, либо своей улицы, конца, слободы, посада, — плотник, токарь, краснодеревец, а либо каменщик, камнетёс, или же кузнец по сребру и меди; бронник, панцирник, золотарь, алмазник или же рудоплавец; или же калачники, огородники, кожевники, дегтяри; а то прасолы-хмельники, льняники; но страшнее же всех дрягиль — грузчик, — вот они все, окружённые зрителями, болеющими кто за кого, упёрлись бородами, подбородками в плечо один другому и ходят-ходят — то отступая, то наступая, — настороженные, трудно дышащие, обхаживая один другого, взрыхляя тяжёлым, с подковою, сапогом зелёную дерновину луга.
Иные из них будто застыли. Только вздувшиеся, толстые, как верёвка, жилы на их могучих, засученных по локоть руках, да тяжёлое, с присвистом, дыханье, да крупный пот, застилающий им глаза, пот, которого не смеют стряхнуть, — только это всё показывает чудовищное напряжение борьбы...
Нет-нет да и попробует один другого рвануть на взъём, на стегно. Да нет, где там! — не вдруг! — иной ведь будто корни пустил!
...Александр Ярославич и по сие время любил потешать взор свой и кулачным добрым боем — вал против вала, — да и этим единоборством на опоясках.
А впрочем, и до сей поры выхаживал на круг и сам. Да только не было ему супротивника. Боялись. Всегда уносил круг.
Правда, супруга сердилась на него теперь за эту борьбу — княгиня Васса-Александра Брячиславовна[2]: «Ты ведь, Саша, уже не холостой!» — говаривала она. «Да и они же не все холостые, а борются же! — возражал он ей. — Эта борьба князя не соромит. Отнюдь!»
И ежели княгиня Васса и после того не утихала, Александр Ярославич ссылался на то, что и великий предок его Мстислав в этаком же единоборстве Редедю одолел[3], великана косожского. И тем прославлен.
Княгиня отмалчивалась.
«Да ведь ей угодить, Вассе! Святым быть, да и то — не знаю!..» — подумалось Александру.
Порою уставал он от неё.
«Ей, Вассе, в первохристианские времена диакониссой бы... блюсти благолепие службы церковной, да верховодить братством, да трапезы устроить для нищей братии.
Как побываешь у неё в хоромах, так одежда вся пропахнет ладаном... А, бог с нею, с княгинюшкой! Отцы женили — нас не спрашивали. Да и разве нас женили? Новгород с Полоцком бракосочетали!..»
...Александр поспешил отхмахнуться от этих надоевших ему мыслей о нелюбимой жене. Что ж, перед народом, перед сынами он всячески чтит её, Вассу. Брак свой держит честно и целомудренно. Не в чем ей укорить его, даже и перед господом...
Князь пришпорил коня.
Караковый, с жёлтыми подпалинами в пахах и на морде, рослый жеребец наддал так, что ветром чуть не содрало плащ с князя.
Александр оглянулся: далеко позади, на лоснящейся от солнца холмовине, словно бусы порвавшихся и рассыпавшихся чёток, чернелись и багрянели поспешавшие за ним дружинники и бояре свиты.
Копь словно бы подминал под себя пространство. Дорога мутною полосою текла ему под копыта...
Ярославич дышал. Да нет — не вдыхать бы, а пить этот насыщенный запахами цветени и сена чудесный воздух, в котором уже чуть сквозила едва ощутимая свежинка начала осени...
«А чудак же у меня этот Андрейка! — подумал вдруг старший Ярославич о брате своём. — Кажись, какое тут вино, когда конь да ветер?! Ну, авось женится — переменится: этакому повесе долго вдоветь гибель! Скорей бы княжна Дубравка приезжала... Ждут, видно, санного пути... Да, осенью наши дороги...»
И Александр Ярославич с чувством искренней жалости и состраданья подумал о митрополите Кирилле[4]:
«Каких только мытарств, каких терзаний не натерпится пастырь, пробираясь сквозь непролазные грязи, сквозь непродираемые леса, сквозь неминучие болота!.. Ведь Галич — на Днестре, Владимир — на Клязьме, — пожалуй, поболе двух тысяч вёрст будет. Когда-то ещё дотянутся!.. Как-то ещё поладит владыка с баскаками татарскими в пути? Ведь непривычен он с ними...»
Однако надлежало владыке по целому ряду причин предварить приезд невесты. Первое — хотя бы и то, что Ярославичи и Дубравка были двоюродные: покойные матери их — княгиня Анна и княгиня Феодосия — обе Мстиславовны; в таком родстве венчать не полагается... Тут нужно изволенье самого верховного иерарха. А ещё лучше, как сам и повенчает.
Да и не обо всём они уладились тогда — Александр с Даниилом, когда пять годов назад, в тёплом возке, мчавшемся по льду Волги, произошло между ними рукобитье о Дубравке и об Андрее. Александр, как старший, был «в отца место».
Александру из последнего письма Даниила уже было известно, что князь Галиции и Волыни преодолел-таки сопротивленье коломыйских бояр-вотчинников и что владыка Кирилл везёт в своём нагрудном кармане, под парамандом[5], неслыханное по своей щедрости приданое. Вскоре о том приданом заговорят послы иностранных государей: десятую часть всех своих коломыйских соляных копей и варниц[6], без всякой пошлины на вывозимую соль, отдавал Даниил Романович в приданое за Дубравкой-Аглаей.
Огромное богатство приносила супругу своему — да и всей земле его Владимирской — княжна Дубравка.
...Невский подъезжал к городу. Дружина отстала. Князь близился к городу из Заречья, с луговой стороны. Отсюда вот — столь недавно — наваливался на город Батый...
Извилистая, вся испетлявшаяся, временами как бы сама себя теряющая Клязьма, далеко видимая с седла, поблескивала под солнцем среди поймы.
Зелёная эта луговина несла на себе вдоль реки столь же извилистую дорожку. По ней сейчас, взглядывая на город, и мчался на своём сильном коне Александр.
Мелкая, курчавенькая придорожная травка русских просёлков, над которой безвредно протекают и века и тысячелетия, которую бессильны стереть и гунны и татары, глушила топот копыт...
Выдался один из тех чудесных первоосенних дней, когда солнце, всё сбавляя и сбавляя тепло, словно бы ущедряет сверканье.
Оно как бы хочет этим осенним блистаньем вознаградить сердце землепашца, придать ему радости на его большую, благодатную, но и тяжкую страду урожая.
Плывут в воздухе, оседают на кустах, на жниве сверкающие паутинки бабьего лета.
— Бабье лето летит! — звонко кричат на лугу ребятишки и подпрыгивают, пытаясь изловить паутинку.
Скоро день Симеона-летопроводца — и каждому своё!
Пора боярину да князю в отъезжее поле, на зайцев: в полях просторно, зычно — конь скачи куда хочешь, и звонко отдастся рог.
Да и княжичу — дитяти трёх- или четырёхлетнему — и тому на Симеона-осеннего сесть на коня! Так издревле повелось: первого сентября бывают княжичам постриги.
Епископ в храме, совершив молебствие, остригнет у княжича прядку светлых волос, и, закатанную в воск, будет отныне мать-княгиня хранить её как зеницу ока в заветной драгоценной шкатулке, позади благословенной, родительской иконы.
А это, пожалуй, и всё, что оставлено ей теперь от сыночка. Он же, трёхлеток, четырёхлеток, он отныне уже мужчина. Теперь возьмут его с женской половины, из-под опеки матери, от всех этих тётушек, мамушек, нянек и приживалок, и переведут на мужскую половину.
И отныне у него свой будет конь, и свой меч, по его силам, и тугой лук будет, сделанный княжичу в рост, и такой, чтобы под силу напрячь, и стрелы в колчане малиновом будут орлиным пером перенные — такие же, как государю-отцу!
А там, глядишь, и за аз, за буки посадят...
Прощай, прощай, сыночек, — к другой ты матери отошёл, к державе!..
...А своё — осеннее — прилежит и пахарю, смерду.
Об эту пору у мужиков три заботы: первая забота — жать да косить, вторая — пахать-боронить, а третья — сеять...
На первое сентября, на Симеона, пора дань готовить, оброк. Господарю, на чьей земле страдуешь, — первый сноп. Однако не один сноп волоки, а и то, что к снопу к тому положено, — на ключника, на дворецкого: всяк Федос любит принос!..
Да и попу с пономарём, со дьячком пора уже оси у телег смазывать: скоро по новину ехать — ругу собирать с людей тяглых, с хрестьянина, со смерда...
Осенью и у воробья пиво!..
Пора и девкам-бабам класть зачин своим осенним работам: пора льны расстилать.
Да вот уже и видно — то там, то сям на лугу рдеют они на солнце своим девьим, бабьим нарядом, словно рябиновый куст.
Любит русская женщина весёлый платок!..
...Симеоны-летопроводцы — журавль на тёплые воды! Тишь да синь... И на синем в не́досинь небе, словно бы острия огромных стрел, плывут и плывут их тоскливые косяки...
Жалко, видно, им с нами расставаться, со светлой Русской Землёй... «На Киев, на Киев летим!» — жалобно курлыкают. И особенно — если мальчуганов завидят внизу.
А мальчишкам — тем и подавно жаль отпускать их: «Журавли тепло уносят...» А ведь можно их и возвратить. Только знать надо, что кричать им. А кричать надо вот что: «Колесом дорога, колесом дорога!..» Услышат — вернутся. А теплынь — с ними.
И уж который строй журавлиный проплыл сегодня над головою князя! Ярославич то и дело подымал голову, — сощурясь, вглядывался, считал...
Тоскою отдавался прощальный этот крик журавлиный у него на сердце.
Только нельзя было очень-то засматриваться: чем ближе к берегу Клязьмы, к городу, тем всё чаще и чаще приходилось враз натягивать повод — стайки мальчишек то и дело перепархивали дорогу под самыми копытами коня. Александр тихонько поругивался.
А город всё близился, всё раздвигался, крупнел. На противоположной стороне реки, под крутым, овражистым берегом, у подошвы откоса, на зелёной кайме приречья, хорошо стали различимы сизые кочаны капусты, раскормленные белые гуси и яркие разводы и узоры на платках и на сарафанах тех, что работали на огороде.
Через узенькую речушку, к тому же и сильно усохшую за лето, слышны стали звонкие, окающие и, словно бы в лесу где-то, перекликавшиеся голоса разговаривающих между собою огородниц.
Теперь всадник — да и вместе с могучим конём со своим — стал казаться меньше маковой росинки против огромного города, что ширился и ширился перед ним на холмисто-обрывистом берегу речки Клязьмы.
Владимир простёрся на том берегу очертаньями как бы огромного, частью белого, частью золотого утюга, испещрённого разноцветными — и синими, и алыми, и зелёными — пятнами.
Белою и золотою была широкая часть утюга, примерно до половины, а узкий конец был гораздо темнее и почти совсем был лишён белых и золотых пятен.
Белое — то были стены, башни кремля, палат, храмов, монастырей. Золотое — купола храмов и золочёною медью обитые гребенчатые верхи боярских и княжеских теремов.
Бело-золотым показывался издали так называемый княжой, Верхний Город, или Гора, — город великих прадедов и дедов Александра, город Владимира Мономаха, Юрья Долгие Руки, Андрея Гордого и Всеволода Большое Гнездо.
А тёмным углом того утюга показывался посад, где обитал бесчисленный ремесленник владимирский да огородник.
Однако отсюда, а не от Горы, положен был зачин городу. Мономах пришёл на готовое. Он лишь имя своё княжеское наложил на уже разворачивавшийся город.
Выходцы, откольники из Ростова и Суздаля, расторопные искусники и умельцы некогда, в старые времена, не захотели более задыхаться под тучным гузном боярского Ростова и вдруг снялись да и утекли...
Здесь, на крутояром берегу Клязьмы, не только речка одна осадила их, но и поистине околдовала крепкая и высокорослая боровая сосна, звонкая под топором. Кремлёвое, рудовое дерево.
Кремль и воздвигнул из него Мономах, едва только прибыл сюда, на свою Залесскую отчину, насилу продравшись с невеликой дружиной сквозь вятичские[7], даже и солнцем самим не пробиваемые леса.
Сперва — топор и тесло, а потом уже — скипетр!..
Ещё Ярослав Всеволодич, отец Невского, сдал на откуп владимирскому купцу-льнянику Акиндину Чернобаю все четыре деревянных моста через Клязьму, которыми въезжали с луговой стороны в город.
Прежде мостовое брали для князя. Брали милостиво. И даже не на каждом мосту стоял мытник. Если возы, что проходили через мост, были тяжёлые, с товаром укладистым, — тогда с каждого возу мостовщик — мытник — взимал мостовое, а также и мыт с товара — не больше одной беличьей мордки, обеушной, с коготками[8].
С лёгкого же возу, с товара пухлого, неукладистого — ну хотя бы с хмелевого, — брали и того меньше: одна мордка беличья от трёх возов.
И уже совсем милостиво — со льготою, что объявлена была ещё от Мономаха, — брали со смордьего возу, с хрестьян, с деревни. Правда, если только ехали они в город не так просто, по своим каким-либо долам, а везли обилье, хлеб на торг, на продажу.
Возле сторожки мытника стоял столб; на нём прибита доска, а на доске исписано всё перечисленье. Хочешь — плати новгородками, хочешь — смоленскими, а хочешь — и немецкими пфеннигами, да хотя бы ты и диргемы достал арабские из кошеля, то всё равно мытник тебе всё перечислит, и скажет, и сдачу вынесет.
А грамотный — тогда посмотри сам: на доске всё увидишь. Ну, неграмотному — тому, конечно, похуже!
А впрочем, пропускали и так. Особенно мужиков: расторгуется в городе, добудет себе кун или там сребреников[9] — и́но, дескать, на обратном пути расплатится. Ну, а нет в нём совести — пускай так проедет: князь великий Владимирский от того не обеднеет!
Так рассуждали в старину! А теперь, как придумал Ярослав Всеволодич — не тем будь помянут покойник — отдать мостовое купцу на откуп, — теперь совсем не то стало!.. Да и мостовое ли только?..
Там, глядишь, хмельники общественные князь купцу запродал: народу приходит пора хмель драть, ан нет! — сперва пойди к купцу заплати. Там — бобровые гоны запродал князь купчине. Там — ловлю рыбную. Там — покос. А там — леса бортные, да и со пчёлами вместе... Ну и мало ли их — всяческих было угодий у народа, промыслов вольных?.. Раньше, бывало, если под боярином земля, под князем или под монастырём, то знал ты, смерд, либо тиуна одного княжеского, либо приказчика, а либо ключника монастырского, отца эконома, — ну, ему одному чем бог послал и поклонишься. А теперь не только под князя, не только под боярина залегло всё приволье, а ещё и под купца!.. И народ сильно негодовал на старого князя!..
Отец Невского, Ярослав Всеволодич, прослыл в народе скупым.
— Это хозяин! И ест над горсточкой!.. — насмехаясь над князем, говорили в народе.
Для Александра — в дни первой юности, да и теперь тоже — не было горшей обиды, как где-либо, ненароком, услыхать это несправедливое — он-то понимал это — сужденье про отца своего. Слёзы закипали на сердце.
«Ничего не зачлося бедному родителю моему! — думал скорбно Ярославич. — Ни что добрый страж был для Земли Русской, что немало ратного поту утёр за отечество, да и от татарина, от сатаны, заградил!.. А чем заградил? — подумали бы об этом! Только серебра слитками, да соболями, да чёрно-бурыми, поклоном, данью, тамгою!.. Но князю где ж взять, если не с хлебороба да с промыслов? Ведь не старое время, когда меч сокровищницу полнил! Теперь сколько дозволит татарин, столько и повоюешь!.. А ведь татарин не станет ждать, — ему подай да и подай! Смерды же, земледельцы, дотла разорены: что с них взять! А тем временем и самого князя великого Владимирского ханский даруга[10] за глотку возьмёт.
Купец же — ежели сдать ему на откуп — он ведь неплательщика и из-под земли выкорчует!..
Кто спорит — тяжело землепашцу, тяжело!.. Ну а князю, родителю моему, — или не тяжело ему было, когда там, в Орде, зельем, отравою поила его ханша Туракына[11]? Разве не тяжко ему было, когда, корчась от яда, внутренности свои на землю вывергнул?!
Да разве народу нашему ведомо это? А кто народу — учители? Другого — случись над ним эдакое от поганых — другого давно бы уже и к лику святых причислили!»
И, угрюмо затаивая в душе свой давний упрёк духовенству, Александр сильно негодовал на епископов за то, что в забвении остаётся среди народа, а не святочтимой, как должно, память покойного отца.
Невский убеждён был, что это месть иерархов церковных покойному князю за епископа ростовского. Отец Невского отнял у епископа — тяжбою — неисчислимые богатства неправедные, такие, которых никогда и ни у кого из епископов не было на Русской Земле.
Отнял сёла, деревни, угодья и пажити. И стада конские, и рабов, и рабынь. И книг такое количество, что при дворце сего владыки, словно бы поленницы дров, были до самого верху, до полатей церковных, намётаны. Отнял куны, и серебро, и сосуды златые, и бесценную меховую, пушную рухлядь.
Епископ от того заболел. Затворился в келью и вскоре скончался.
Вот этого — так полагал Александр — и не могли простить князю покойному иерархи.
Александр Ярославич хорошо знал иерархов своих. «Византийцы!» — говаривал он раздражённо наедине с братом.
Александр Ярославич подъезжал к мосту. Это был самый большой из мостов через Клязьму — он вёл к так называемому детинцу, или кремлю.
Именно тут, изредка — в будни, а наичаще — по воскресеньям, словно бы распяливший над рекою свою огромную паутину ненасытимый жирный мизгирь, выстораживающий очередную жертву, — именно тут и сидел под ветлою, возле самой воды, мостовщик Чернобай.
Весь берег возле него утыкан был удилищами... Шустрый, худенький, белобрысый мальчуган, на вид лет восьми, но уже с измождённым лицом, однако не унывающий и сметливый, именем Гринька, день-деньской служил здесь Чернобаю — за кусок калача да за огурец. Босоногий, одетый в рваную, выцветшую рубашку с пояском и жёсткие штаны из синеполосой пестряди, он сновал — подобно тому, как снуёт птичка поползень вдоль древесного ствола, — то вверх, то вниз.
Вот он сидит верхом на поперечном жердяном затворе, заграждающем мост, болтает голыми ногами и греется на солнышке. Время от времени встаёт на жердину и всматривается.
— Дяденька Акиндин, возы едут! — кричит он вниз, Чернобаю.
— Принимай куны! — коротко приказывает купец.
И мальчуган взимает с проезжих и мостовщику, и товарное мыто.
— Отдали! — кричит мальчик.
И тогда Акиндин Чернобай, всё так же сидя под ветлою, внизу плотины, и не отрывая заплывшие, узенькие глазки от своих поплавков, лениво поднимает правую руку и тянет за верёвку, что другим своим концом укреплена на мостовом затворе.
Жердь медленно подымается, словно колодезный журавель, — и возы проезжают.
Гринька мчится вниз, к Чернобаю, и передаёт ему проездное.
Тот прячет выручку в большую кожаную сумку с застёжкой, надетую у него сбоку на ремне. И вновь, полусонно щурясь, принимается глядеть на поплавки...
Гринька карабкается по откосу мостового быка и вновь занимает свой пост...
Но иногда случается, что у мальчика там, наверху, вдруг затеется спор с проезжающим — кто-либо упрётся платить, — и тогда чёрный жирный мизгирь сам выбегает из сырого, тёмного угла.
И тогда горе жертве!..
Простые владимирские горожане — те и не пытались спорить с Чернобаем. Они боялись его.
— Змий! Чисто змий! — сокрушённо говорили они.
Безмолвно, только тяжко вздохнув, отдавали они ему, если Чернобай не хотел брать кунами, из любого товара, и отдавали с лихвой. И, проехав мост и не вдруг надев снятую перед мостом шапку, нет-нет да и оглядывались и хлестали кнутом изребрившиеся, тёмные от пота бока своих лошадей.
Тех, кто пытался миновать мост и проехать бродом, Чернобай останавливал и возвращал. С багровым, потным лицом, поклёванным оспой, вразвалку приближался он к возу и, опершись о грядку телеги, тонким, нечистым, словно у молодого петушка, голосом кричал:
— Промыт с тебя! Промытился, друг!..
Тут ему своя рука владыка... А не захочет смерд платить, сколь затребовал Чернобай, потащит к мытному. Да ещё кулаком в рыло насуёт.
Но так как сиживал он тут лишь по воскресеньям да в большие праздники, то, чтобы в прочие дни, без него, никто бродом не переехал, приказал он рабам своим да работникам всё дно заострёнными кольями утыкать да обломками кос и серпов.
Сколько лошадей перепортили из-за него православные!..
Один раз его сбросили с моста. Он выплыл.
Пьяный, бахвалился Чернобай:
— У меня княжеской дворецкой дитя крестил... А коли и с князем не поладим — я не гордый: подамся в Новгород. Там меня, убогого, знают! Меня и в пошлые[12] купцы, в иванские, запишут[13]: пятьдесят гривен серебришка уж как-нибудь наскребу!
Но не от мостовщины богател Чернобай... «Русский шёлк», как звали в Индийском царстве псковский, да новгородский, да владимирский лён-долгунец, — это он обогатил Чернобая.
Посчитать бы, во скольких сёлах-погостах, во скольких деревнях жёнки-мастерицы ткали да пряли, трудились на Чернобая! Не только во Пскове, в Новгороде, но и немецкое зарубежье — Гамбург, Бремен и Любек — добре ведали льны и полотна Чернобая. На острове Готланде посажен был у него свой доверенный человек. Индийские города Дели и Бенарес одевались в новгородский да владимирский лён.
Однако отыми князь торговлю льняную у Чернобая — и тем не погубил бы его! Чернобай резоимствовал[14]. Награбленные куны свои отдавал в рост. А лихвы брал и по два, и по три раза[15].
Не только смерды, ремесленники, но и сынки боярские и купцы незадачливые бились в паутине мизгиря.
Проиграется боярчонок в зернь, пропьётся или девки, жёнки повытрясут у него калигу — к кому бежать? К Чернобаю.
Погорел купец, разбойники товары пограбили или худой оборот сделал, сплошал — кому поклонишься? Чернобаю!..
Многим душам человеческим, кои в пагубу впали, словно бы единственный мост на берег спасенья, показывалась эта ссуда от Чернобая. Но то не мост был — то была липкая, да и нераздираемая паутина...
Не уплатил в срок — иди к нему в за́купы, а то и в полные, обельные холопы. Случалось, что, поработив простолюдье через эти проклятые резы, купец перепродавал православных на невольничьих рынках — то в Суроже, то в Самарканде, а то и в Сарае ордынском[16].
Тут и сам князь был бессилен: тут уже по всей «правде» сотворено, по Ярославлей, — придраться не к чему. А без купца как существовать князю? — всё равно как без пахаря!.. И богател, богател Чернобай...
Невский, далеко опередив дружину и свиту свою, близился к городу. В расчёты князя входило въехать на сей раз во Владимир без обычной народной встречи: великим князем сидел Андрей, да и не хотелось татар будоражить торжественным въездом.
Ещё издали, с коня, Александру Ярославичу стало видно, что мост неисправен.
«Распустил, распустил их Андрей! — хмурясь, подумал Невский. — Чего тиун мостовой смотрит? Мост ж, как раз супротив дворца! Нет, этак он не покняжит долго!.. Мимоходный», — вспомнилось ему сквозь досаду то язвительное прозванье, которое успели дать владимирцы князю Андрею Ярославичу, едва он с год прокняжил у них. Правда, в той кличке сильно сказалось и раздраженье владимирцев, наступившее сразу, как только в прошлом году из Великой орды стольным князем Владимирским вернулся не старший Ярославич — Александр, а младший — Андрей[17].
Правда, между самими братьями это дело было заранее решённое. Александр знал, что ему лучше быть в Новгороде: и от Орды подальше, да и вовремя было бы кому грозной рукой осадить в Прибалтике и немцев и шведов.
Андрей же над гробом родителя клялся: и на великом княжении будучи, во всём слушаться старшего брата, и целовал в том крест.
Однако же Александру и с берегов Волхова видно было, что небрежёт делами Андрей. Бесхитростное, но и беспечно-буйное сердце!..
«Мимоходный», — с досадою повторял про себя Невский, въезжая на зияющий пробоинами, зыбящийся мост. Пришлось вести коня под уздцы.
Тотчас вспомнилось, что этим именно мостом со дня на день должны будут въехать во Владимир и княжна Дубравка, и митрополит Кирилл...
...Мостовой поперечный затвор был опущен. Никого не было. Александр Ярославич огляделся.
А меж тем в это время внизу, под плотиною, происходило вот что. Завидев хотя и одинокого, без свиты, однако, несомненно, знатного всадника, а затем вскоре и признав Невского — ибо столько раз глазел на него, уцепясь где-либо за конёк теремной крыши или с дерева, — Гринька ринулся сломя голову вниз, к хозяину, сидевшему над своими удочками, — ринулся так, что едва не сшиб Чернобая в воду.
— Дяденька... Акиндин... отворяй!.. — задыхаясь, выкрикнул он.
— Ох ты, лешак проклятый! — рыкнул купец. — Ты мне рыбу всю распугал!..
Он грузно привстал, ухватясь за плечо мальчугана, да ему же, бедняге, и сунул кулаком в лицо.
Гринька дёрнул головою, всхлипнул и облился кровью. Кричать он не закричал: ему же хуже будет, у него ещё хватило соображенья отступить подальше, чтобы не обкапать кровью песок близ хозяина. Он отступил к воде и склонился над речкой. Вода побурела.
Чернобай неторопливо охлопал штаны, поправил поясок длинной чесучовой рубахи и сцапал руку мальчугана, разжимая её: выручки в ней не оказалось. Хозяин рассвирепел.
Но едва он раскрыл рот для ругани, как с моста послышался треск ломаемой жерди и над самой головою купца со свистом прорезала воздух огромная жердь мостового затвора, сорванная в гневе князем Александром, и плеснула в Клязьму, раздав во все стороны брызги.
Купца охлестнуло водою.
Чернобай с грозно-невнятным рёвом: «A-а! A-а!» кинулся вверх, на плотину.
Невский был уже на коне.
Не видя всадника в лицо, остервеневший Чернобай дорвался до стремени Александра и рванул к себе стремяной ремень.
Рванул — и тотчас же оцепенел, увидев лицо князя. Долгие навыки прожитой в пресмыкании жизни мигом подсказали его рукам другое движенье: он уже не стремя схватил, а якобы обнял ногу Александра.
— Князь!.. Олександр Ярославич!.. Прости... обознался!.. — забормотал он, елозя и прижимаясь потной, красной рожей к запылённому сафьяну княжеского сапога.
Александр молчал.
Ощутив щекою лёгкое движение ноги Александра — как бы движенье освободиться, — Чернобай выпустил из своих объятий сапог князя и отёр лицо.
— Подойди! — приказал Невский.
Этот голос, который многие знали, голос, ничуть не поднятый, но, однако, как бы тысячепудною глыбой раздавливающий всякую мыслишку не повиноваться, заставил купца подскочить к самой гриве и стать пред очами князя.
Обрубистые пальцы Чернобая засуетились, оправляя тканый поясок и чесучовую длинную рубаху.
— Что же ты, голубок, мосты городские столь бесчинно содержишь? — спросил Александр Ярославич, чуть додав в голос холодку.
— Я... я... — начал было, заикаясь, Акиндин и вдруг ощутил с трудом переносимый позыв на низ.
Александр указал ему глазами на изъяны моста:
— Проломы в мосту... Тебя что, губить народ здесь поставили?! А?
Голос князя всё нарастал.
Чернобай, всё ещё не в силах совладать со своим языком, бормотал всё одно и то же:
— Сваи, князь... сваи не везут... сваи...
— Сваи?! — вдруг налёг на него всем голосом Александр. — Паршивец! Дармоед! Да ежели завтра же всё не будет, как должно... я тебя самого, утроба, по самые уши в землю вобью... как сваю...
Невский слегка покачнул над передней лукою седла крепко стиснутым кулаком, и Чернобаю, снова до самой кишки похолодевшему от страха, подумалось, что, пожалуй, этого князя кулак и впрямь способен вогнать его в землю, как сваю.
Лицо у купца ещё больше побагровело. Губы стали синими. Он храпнул. Оторвал пуговицы воротника, и в тот же миг густыми тёмными каплями кровь закапала у него из ноздрей на грудь рубахи...
Не глядя больше в его сторону, Ярославич позвал к себе мальчика. Гринька уже успел унять кровь из расшибленного носа, заткнув обе ноздри кусками тут же сорванного лопуха. Он выскочил из-под берега. Вид его был жалок и забавен.
Невский улыбнулся.
— Ты чей? — спросил мальчика Александр.
— Настасьин, — глухо, ибо мешали лопухи, отвечал мальчуган.
Невский изумился:
— Да как же так, Настасьин? Этакого и не бывает!.. Отца у тебя как звали?
— Отца не было.
— Ну, знаешь!.. — И Невский поостерёгся расспрашивать далее об этом обстоятельстве. — А звать тебя Григорий?
— Гринька.
— А сколько тебе лет?
Мальчуган не понял.
Тогда Невский переспросил иначе:
— По которой весне?
— По десятой.
— А я думал, тебе лет семь, от силы — восемь. Что ж ты так лениво рос? Да и худой какой!..
Гринька молчал.
— Ну, вот что, Григорий, — проговорил князь, — а воевать ты любишь?
— Люблю.
— А умеешь?
— Умею.
Лицо мальчугана повеселело.
— Это хорошо, продолжал Невский, рассматривая его. — Только знаешь: кто, воевать умеет, тот так, ладит, чтобы не у него из носу кровь капала, а, у другого!..
Мальчик покраснел.
— Дак ведь он — хозяин... — смущённо и угрюмо ответил он.
Невский, улыбаясь, передразнил его:
— Вот то-то и беда, что хозяин!.. Доброму ты здесь не научишься. Ко мне пойдёшь, Настасьин?.. — добродушно-грозным голосом спросил он.
— К тебе пойду!..
— Да ты что же — знаешь меня?
— Знаю.
— Ну, а кто я?
Лицо мальчугана расплылось в блаженной улыбке.
— Ты — Невшкой.
Ярославич расхохотался.
— Ах ты, опёнок! — воскликнул он, довольный ответом мальчугана. И вдруг решительно приказал: — А ну садись!
Вздрогнув от внезапности, Гринька спросил растерянно:
— Куда — садись?
— Куда? Да на коня, за седло! А ну, дай помогу...
И Александр Ярославич протянул было вниз левую руку. Однако опоздал. Быстрее, чем белка на ствол ели, Настасьин, слегка только ухватясь за голенище княжого сапога, мигом очутился на лошади, за спиной князя.
— Удержишься? — спросил вполоборота Невский.
Но у того уж и голосишко перехватило, и отвечал он только утвердительным нечленораздельным мыком.
Александр тронул коня.
Когда уже прогремел под копытами мост и всадник был далеко, Чернобай, стоявший с расстёгнутым воротом и запрокинутой головой, дабы унять кровь, распрямился, обтёр усы ладонью и, сбрасывая с неё брызги крови, с неистовой злобой глянул вслед Александру.
— Ужо сочтёмся за кровушку! — прогундел Чернобай. — Доведёт бог и твоей крови, княжеской, повыцедить!..
Великий князь Владимирский, Андрей Ярославич, стоял на солнышке, посреди огромного псарного двора,. весьма добротно обстроенного и бревенчатыми, и кирпичными, и глинобитными, известью беленными сараями.
Это был ещё молодой человек, не достигший и тридцати. Снеговой белизны сорочка, с распахнутым на смуглой крепкой груди воротом и с засученными выше локтей рукавами, заправленная под синие узорные шаровары, с лёгкими, лимонного цвета сапожками, — весь наряд этот ещё больше молодил князя. От его тщательно выбритого, за исключением небольших чёрных вислых усиков, смуглого и резко очерченного лица веяло удалью и стремительностью. Князь был коротко острижен.
Андрей Ярославич неистовствовал. Перед ним навытяжку стоял старик ловчий, без шапки, прижав её к бедру. Старый хитряга старался изобразить на своём лице и страх, и полное пониманье сыпавшихся на него укоризн, и готовность исправиться. Однако и преувеличенно выпрямленная осанка его согбенного годами тела, и вся постановка его плешивой тыквообразной головы в лёгкой оторочке белых, ещё не побитых временем волос, и особое выражение выцветших, с кровавыми жилками, стариковских глаз, и, наконец, та торжественность, с которой покоилась на персях его белая, большая, рассоховатая борода, — всё это указывало, что смиренье вынужденное.
— Присваривать собаку надо голодную! — орал князь.
Ловчий даже и не оправдывался.
— Проступился, княже, прости. Впредь поостерегусь, — повторял он уж, должно быть, и ему самому надоевшие слова.
И эта вынужденная покорность нравилась князю. Гнев его остывал.
— «Проступился»! — передразнил Андрей. — А ты кто? Ты — ловчий! Ты запись в тетради должен вести, когда бережена сука, и с каким кобелём она бережена, и когда щенцов пометала...
Ловчий всякий раз подтверждал правоту замечаний князя.
Однако великий князь Владимирский сегодня что-то долго не унимался. Глаза его хватко обегали весь обширный двор. Они останавливались на миг то на лице стремянного, то на лице кого-нибудь из доезжачих или псарей, а то на которой-либо из борзых или гончих, которых множество, гнездовьями, и лающих и молчащих — стояло, расхаживало или лежало по всему псарному двору.
Андрей Ярославич гордился тем, что у себя на псарном дворе он и сам был как добрый ловчий: разбуди его в ночь, в полночь — князь всегда мог назвать всех своих борзых, гончих, а также сказать, сколь у него числом кобелей и сук и каких они шерстей, осеней и кличек.
Да и сокольничий путь знал он отлично.
Лютой радостью пламенел он, когда любимый кречет его раздирал напрочь пронзительно плачущего зайца или, метнутый с соколка хозяйской руки, одна сымут с него клобучок, взвивался свечою на высоченную высоту и оттуда враз бил громоздко летящую цаплю. Случалось, он ударял её столь сильно, что вся утроба этой немалой птицы оказывалась распластана, словно ножом, и кишки повисали на кустах.
Любимейшею утехою князя была охота с беркутом — на сайгу, на лисицу, на волка, на оленя, на диких лошадей.
Восторгом наполняла его душу страшная и хваткая емь беркута — большого камского орла. Одной ногой вкогтится волку в башку, другою — в пах, и тотчас же черева волчьи кровавые из зверя вон.
А коню дикому вкогтится в глаза, ослепит его, и мечись сколько хочешь слепоокий, кровью заливаемый копытный зверь, мечись, падай наземь, катайся, ничто тебе не поможет!..
Но такой же вот беркут закогтил для князя Андрея в Коренном улусе, за Байкалом, — когда охотились вместе с великим ханом, — и княженье великое, Владимирское[18].
Высокая, премудрая птица!..
От сокольей охоты душа светлее, просторнее. Псовая же горячит сердце!
Знает он, князь стольный Владимирский, что людишки иные ни во что поставляют эти утехи рыцарские, эту радость царей! Надсмеиваются тишком — якобы державе в ущерб! Что ж, пускай так думают! С престола-то Владимирского повиднее! Дед Мономах поэмы слагал сему упоенью витязей и богатырей...
Оставя наконец ловчего, князь Андрей нетвёрдой походкой направился к воротам сокольего двора.
Безмолвно ступала за князем свита: двое мальчиков — меченосцы, затем княжой скорописец и, наконец, пять-шесть светлейших бояр, младых возрастом, из числа тех, что согласно злым слухам никому другому и доступа не давали ко князю.
Все они ведали и стан, и перо, и когда мытеет сокол, и, пожалуй, смогли бы заменить подсокольничего. Да и по псарному пути иной сошёл бы за доезжачего, другой за псаря.
Таких жаловал князь.
Перешёптывались во дворце, во всё горло кричал на торжищах и в посадах никого не боящийся, разбитной володимирский ремесленник, знающий себе цену, якобы здесь, на псарном да на сокольничем дворах, а не с думой боярской и не с дружиною вершатся державные дела.
...Князь шествовал.
Доезжачие, и выжлятники, и псари застывали на мгновенье — так требовал чин — и затем опять обращались каждый к своему занятию.
Собаки — борзые и гончие, старые и молодь — одни лежали, другие расхаживали, третьи почасту приподымались и, осклабясь, клацали зубами над шерстью, улавливая блох.
Слышалось лаканье и чавканье. Плескал разливаемый по корытам корм.
Князь внезапно остановился. Ему почудилось, что от полужидкой болтушки, что вливал в большое корыто молодой корытничий, исходит лёгкий парок.
Великий князь Владимирский опустил палец в самое месиво кормушки. И тотчас же отдёрнул. Лицо его даже и сквозь смуглоту побагровело.
— Что творите? — выкрикнул он голосом, вдруг сорвавшимся в тонкий провизг.
Один из отроков подскочил и поспешно, но бережненько отёр шёлковым платком великокняжеский палец.
Князь накинулся на корытника.
— Я велю тебе носа урезать, мерзавец!.. — заорал он. Затем оборотился на ловчего и на доезжачих: — Что же вы... али не знаете, что от горячей пищи у собаки желудок портится?.. Ты! Боян Софроныч! — с горьким попрёком обратился он опять к старику ловчему. — А тебе стыдно, старичище! Ведь ты с пелёнок здесь... Да и ты!.. — начал он, напускаясь на стремянного.
Но не договорил: у того — в широко расставленных руках и как раз перед самым-то взором князя — поскрипывала, слегка покачиваясь, большая отлогая корзина, обтянутая белым полотном поверх толстой сенной подстилки, на которой громоздились, играючи и перебарахтываясь один через другого, брыластые, упитанные, с лоснящеюся шерстью, крупнопятнастые щенки нового помёту.
При взгляде на такое подношение у великого князя Владимирского сердце мгновенно истаяло.
— Ox! — воскликнул он.
Старый ловчий еле заметно подмигнул стремянному. И уже в следующий миг, забыв обо всём, князь присел на ременчатый раскладной стулец возле корзинки со щенками, поставленной на траву, и — то подсвистывая и подщёлкивая пальцами, а то запуская обе руки до самого дна корзины, вороша и переваливая повизгивающих щенков или же опрокидывая на ладони одного-другого кверху жемчужно-розовым пузом — принялся рассматривать, и расценивать, и распределять их.
Вдруг над самым ухом Андрея послышался испуганный, громкий шёпот одного из отроков:
— Князь!.. Князь!..
Андрей Ярославич поднял голову — шагах в десяти перед ним, ярко освещённый солнцем, высился брат Александр.
Невский улыбался.
Словно дуновенье испуга пробежало вдруг по лицам всех тех, кто предстоял Андрею Ярославичу или же теснился за его спиною. Оробел слегка и сам великий князь Владимирский: Андрей Ярославич побаивался-таки старшего брата!
— Саша! — растерянно, но в то же время и радостно воскликнул он, откачнувшись и разводя руками.
Выроненный им на дно корзины щенок испуганно пискнул.
Князь поднялся и подставил одному из отроков левое плечо, дабы тот накинул княжеский плащ — корзно. Отрок сделал это; синий, окаймлённый золотою тесьмою плащ, брошенный на левое плечо князя, скрыл домашнюю простоту наряда, в котором пребывал Андрей, и дрожащая с перепою княжеская рука принялась нащупывать застёжку на правом плече в виде золотой головы барса.
Застегнуть плащ никак не удавалось.
Увидев это и сразу угадав, что Андрей под хмельком, Невский произнёс добродушно и снисходительно:
— Да полно тебе!.. На работе ж застаю, на деле!..
Последние слова были сказаны так, что Андрей Ярославич, достаточно хорошо знавший брата, заподозрил в них затаённую насмешку. Он слегка закусил вислый ус и метнул взор на окружавшую его челядь. Нет, явно было, что лишь ему одному почудилась в словах Александра какая-то затаённость.
И Андрей успокоился.
Тем более что и старший Ярославич продолжал бесхитростно и дружелюбно:
— Ты ведь видишь: я и сам к тебе по-домашнему, по-простому.
Александр Ярославич на сей раз был одет в светло-коричневую бархатную свиту на полный рост, с нешироким отложным, из золотого бархата воротом и с наложенным поверх свиты златошёлковым поясом. На ногах вытяжные сапоги зелёного, с узорами, сафьяна, с чуть загнутыми носками. Он был без шапки и без плаща.
Чтобы окончательно рассеять неловкость этой неожиданной встречи, Невский прервал молчание шуткою, которая должна была напомнить брату их недавнее совместное пребыванье за Байкалом, куда они ездили на поклон к императору всех монголов — Менгу.
Там, усовершенствуя своё знанье монгольского языка, братья усердно и подолгу упражнялись в составлении выспренних и велеречивых выражений, которых требовал обычай монгольского императорского двора.
Улыбнувшись, Невский обратил к брату рассчитанно-торжественное слово:
— О великолепный и мужественный брат мой, — сказал Александр по-русски, — брат, чьё дыханье заставляет распускаться цветы и засыхать недругов! Я, недостойный сподвижник твой, с прискорбием вижу, что ныне ты не слишком торопишься открыть перед нами позлащённые двери своего гостеприимства!..
Андрей смутился. Вскинув руками, он бросился навстречу Александру. Незастёгнутый плащ свалился с плеча на траву. Юный меченосец тотчас поднял плащ, а затем быстро отступил с ним поодаль — туда, где теснилась почтительно раболепная свита и псарня Андрея.
— Саша, милый мой! — вскричал Андрей Ярославич. — Свет ты очей моих!.. Прости, что не в хоромах принимаю тебя!..
— Давно бы так! — отвечал Невский. — Давай же наконец поцелуемся!
Братья обнялись и крепко троекратно поцеловались.
Однако и того мгновенья, когда Андрей приближался, было достаточно Невскому, чтобы заметить, что шаг брата нетвёрд и от Андрея пахнет вином.
Нахмурясь и понижая голос, хотя стояли они глаза в глаза и никого поблизости не было, Александр сурово сказал:
— Но чуется мною, что цветы от дыханья твоего вряд ли расцветут! Да и ногами опять мыслете выводишь.
Андрей впал в смущенье от этих слов брата.
— Ну-ну, Сашок, полно! — набормотал он. — Ничего худого не было. За обедом стопочка кардамонной, да выспаться не дали — вот и всё... Да пойдём же в хоромы... Тут, на людях, неудобно.
Александру стало жаль брата.
— Эх, Андрей, Андрей!.. Ну и чем бы не государь?! Доблестен, соображением быстр, верен, неустрашим... Да и с народом умеешь... Губит тебя вино! — сказал он вполголоса.
Но Андрей Ярославич, едва лишь коснулась его слуха похвала брата из этих суровых и редко кого похваляющих уст, выпрямился, повеселел и уж плохо дослышал остальное.
В этот миг он сам стал словно малый сокол.
Но тогда не беркуту ли подобный — огромному камскому орлу — высился перед ним Александр?
Можно было полюбоваться братьями. Оба — красавцы, оба — исполненные высокой, резкой и мужественной красоты.
Андрей — порывист, строен, молодцеват.
Александр — стремителен, статен, могуч.
От одного веет заносчивой удалью. От другого — грозным мужеством.
...Взор князя Андрея остановился на Гриньке. Мальчик, оробевший, растерянный, стоял позади Александра Ярославича.
— А это что у тебя за оруженосец новый? — удивлённо и с явной насмешкой над жалким видом Гриньки спросил князь Андрей.
— А! — И Александр на мгновение оборотился к мальчугану и ободряюще глянул на него: не трусь, дескать!
Жалобная улыбка появилась на лице у Настасьина.
— Ещё и какой будет оруженосец! — ответил, рассмеявшись, Невский. — Он воевать любит.
Андрей расхохотался.
— Воевать — дело доброе, мужское, — сказал он. — А только что ж ты этого витязя столь худо одел?
От этой грубой шутки князя Гринька чуть не заплакал. Княжеская челядь так и воззрилась на него. Настасьин потупил голову. Ещё немного — и слёзы хлынули бы из его глаз.
Вдруг он почувствовал, как отечески-ласково на его голову легла сильная, мужественная рука. Гринька глянул вверх из-под этой ладони, не смея шевельнуть головой, и увидел, что это Александр Ярославич. Вслед за тем послышался добродушно-густой голос Александра:
— Да, пожалуй, одет мой воин небогато. Ну ничего: одёжу богатую он в боях добудет!..
Тем временем Андрей Ярославич подозвал к себе одного из пышно одетых своих отроков, того, что был ростом поменьше, и что-то негромко сказал ему. Отрок отошёл в сторонку, а вскоре уже стоял перед Настасьиным, держа на вытянутых руках свои золотом расшитый кафтанчик. Настасьин отодвинулся от него. Тот, однако, нахмурился и требовательно новел головой, показывая, что надо, дескать, надеть кафтан, что такова воля князя Андрея.
Гринька вскинулся, сверкнул глазами.
— Не хочу я ходить в чужой одёже! — выкрикнул он, закрыл ручонками лицо и заревел...
Александр вступился.
— Оставь его, Андрюша, — негромко сказал он брату и ласково коснулся плеча Гриньки.
Далеко опередив свиту, братья подходили к высокому белокаменному крыльцу с точёными пузатыми балясинами и грозною парою обращённых головами друг к другу каменных львов, которые, словно два стража, бдительных, но притворно дремлющих, жмурясь, пропускали меж собою каждого входящего. Они были похожи на рязанских мужиков. Гривы их не дыбились, но благонравно, слегка разделённые надо лбом, а сзади остриженные в кружок, гладко прилегали к голове, словно маслом умащённые ради праздника.
Дворец был из белого тёсаного камня, с преизбыточной резьбою и прилепами, и со множеством цветных стёкол — красных, синих и жёлтых — в узких, симметрично расположенных окнах.
Пока они шли, князю Владимирскому крепко-таки досталось от брата за чрезмерное упоенье охотою.
Андрей вздумал было отшутиться.
— Да ведь, Саша, — возразил он, смеясь, — припомни деда нашего Мономаха. Не Владимир ли Всеволодич поучает: «Всё же то дал бог на угодье человеку, на снедь, на веселье»?
Невский сурово оборвал брата:
— Всякое дело мера красит! — сказал он.
На другое утро в покоях Андрея, которые, сколь ни противился тому Александр, а уступил-таки ему радушный хозяин, Невский проснулся, сильно проспав с дороги против обычного: солнце уже успело подняться над землёю в треть копья. Даже Александра Ярославича вымотал этот тысячевёрстный, сквозь болота и дебри, то лошадьми, то водою, и чрезвычайно быстро свершённый им путь: из Новгорода во Владимир на Клязьме он ехал всего двадцать дней.
Невский успел уже выкупаться в большом мраморном, вделанном в пол водоёме, который ещё дедом их, Всеволодом, был устроен тут же, рядом с великокняжеской спальней, и теперь отдыхал в глубоком кожаном кресле, облачённый в просторный цветастый халат с золотыми драконами и химерами. Невский сидел, установив ноги в шагреневых красных туфлях на подножную расшитую подушку, брошенную поверх дубового кладеного пола, и, обдумывая очередное, неотложное, занимался лёгкой отделкой ногтей с помощью ногтечистки из слоновой кости и выдёргиванием заусениц на руках своих, сильно обветренных за дорогу и пошорхлых от повода: путевых перчаток Александр не любил.
...Вошёл Андрей — светел как стёклышко. Вчерашнего в нём и следа не было. Только чрезмерно кроток был его взгляд, вскидываемый на брата.
Александр Ярославич встретил его ласково: Александру приятно было, что Андрей встал рано и, не опохмеляясь (это чувствовалось по его дыханью), тотчас поспешил к старшему. Это означало раскаянье.
— Пришёл в меру? — произнёс Александр, не то спрашивая, не то одобряя.
Андрей Ярославич смущённо усмехнулся и промолчал.
Однако, опасаясь возобновления вчерашних, не очень-то радостных ему разговоров, он поторопился завладеть разговором сам.
Беседуя, коснулись многого — и внутри страны и за рубежом. И всякий раз, в ответ на пространно и страстно излагаемые Андреем намеренья и предначертанья, сетованья и жалобы, старший, выслушав молча, внимательно, отвечал ясно и сжато.
Жаловался брату Андрей на непрерывные происки в Орде согнанного с великого княженья престарелого их дяди — Святослава[19].
Впрочем, не только старый Святослав с сыном своим Владимиром, но и углицкий Владимир, Константинович, да и родной братец Ярославушка — так назвал его сейчас Андрей — копают под ним в Орде.
Все четверо они сидят невылазно у Сартака, в Донской его ставке. А до того у Батыя сидели. Обозы подарков поволокли...
Александр с большим вниманием слушал Андрея. Кроме происков дяди Святослава, имевшего, в силу старшинства, законные права на великокняжеский стол, потуги и замахиванья прочих родичей на брата Андрея нисколько его не волновали.
Правда, горько ему, едва приехал из Новгорода, сызнова разбираться в этой волчьей грызне братьев, дядьёв, племянников — всего этого «большого гнезда», которое оставил по себе покойный дед Всеволод[20]. Горько, но придётся! А то ведь врозь раздерут, растащат Землю!
Андрей, сидящий во Владимире, пока он под рукою ходит, — это ещё исправимое зло!.. Хуже будет, если Святослав Всеволодич себе ярлык на великое княженье охлопочет! Этот на всё пойдёт! Обезумел старый от обид, честолюбием разжигаем!.. Да, впрочем, и прежде умом не перегружен был!..
Так думалось Александру.
— А ты виделся с ним перед Ордою? — спросил он Андрея, откладывая в раскрытый ящичек чёрного дерева ногтечистку.
Андрей, то сидевший насупротив его в перильчатом, без спинки, кресле, то вскакивавший и начинавший стремительно расхаживать по ковру, остановился, услыша вопрос.
— А как же! — воскликнул он. — Трое суток то пировали с ним, то рядились! Охрип аж от него... Так лапа моя к бородище его и тянулась...
Александр в сердцах захлопнул крышку ларца.
— Ну-ну-ну! — оборвал он брата. — Стыжусь и слышать такое!
Андрей смутился.
— Что же он говорит? — спросил после тяжёлого вздоха Невский.
Андрей презрительно рассмеялся:
— Да то же всё долдонит, что и обычно: я-де старей всех вас в Володимирове племени — мой престол!..
— Ну а ты?
— Я... — Андрей Ярославич дёрнул плечом. — А я ему — и добром и худом. А потом не стерпел: «Ведь ты, говорю, дядя, тупой ко княженью! Как ты, говорю, дядюшка, не поймёшь того?..»
Как ни старался Ярославич-старший сдержаться, блюдя уважение к старейшине их рода, но смех всё же прорвался у него.
— А он что тебе? — снова принимая спокойно-суровый вид, спросил Александр.
— А он мне и говорит: «Вячеслав Владимирович Белгородский, тот, говорит, и потупее меня был ко княженью, а как его почтил Изяслав, дядю своего, племянник? Рядом с собою на великое княженье посадил! Так бы вот и вы меня, племяннички, почтили!.. То было бы по-божески!»
Александр презрительно вздёрнул головой.
— Княженье великое Владимирское не богадельня! Особливо теперь... И не всё ж слепцы в певцы!.. — сурово отозвался Невский.
Княжой отрок, светловолосый, с чёрными, опущенными долу ресницами, одетый в шёлковый кафтанчик с золотой отделкой, неслышно вступил в комнату, неся на расставленных врозь перстах серебряный поднос, отягощённый яствами на хрустальных, серебряных и фарфоровых блюдах.
Расставив блюда на круглом столе, застланном белой скатертью, отрок в пояс поклонился князьям.
— Ступай, — коротко распорядился, не глядя в его сторону, Андрей.
Продолжая беседу, братья уселись за стол.
Подана была жареная тетёрка с шафранной подливою и черносливом; затем — большой фарфоровый кувшин с красным грузинским вином и, сверх того, тарелка с белыми маленькими хлебцами; тарелка с нарезанным русским сыром — ноздреватым и как бы с крупною росою; да в довершенье — два блюда с заедками и усладенькими: блюдо пупырчатых, сочных груш, которые были до уродливости крупны, и ещё блюдо гнетённого инжира.
На особых маленьких тарелочках поданы были — изюм, миндальные очищенные ядра, пряники ц греческие и венецианские конфеты.
— Кто же у нас за хозяина будет? — спросил, улыбаясь, Андрей. — Как будто ведь я у тебя в гостях.
— Ну уж нет, — сказал, засмеявшись, Александр. — В Новгород пожалуешь ко мне али в Переславль, тогда иное дело, а теперь хозяйничай ты.
— Что ж, и́но ладно, старшому не стану перечить: старшой брат — в отца место! — весело согласился Андрей.
Блистая из-под чёрных вислых усиков ослепительно белой дугою зубов и что-то, в знак вожделения к вкусной еде, приборматывая, он встал, поднял с фаянсовой жаровни зазвеневшую крышку, отложил её на подсобный столик и, слегка склонясь, принялся орудовать над жарким с помощью острого ножа и большой двузубой вилки.
Такие же большие серебряные двузубые вилки лежали возле каждого прибора. Уже во многих княжеских семьях полагалось подавать этот византийский прибор, которому псе ещё сильно дивились и немецкие, и английские, и датские послы, и купцы, посещавшие Русь.
Андрей, закусив губы, едва успел донести до тарелки Александра большой, сочащийся жиром, золотисто-поджаренный кусок птицы, полил жаркое шафранно-черносливным соусом из серебряного уполовника и положил черносливу.
Затем стал накладывать себе.
Во всех его ловких, умелых движениях виден был опытный застольщик и водитель пиров.
Александр, опершись на руку, дав себе отдых, отечески любовался им.
С болью Александр Ярославич подумал о том, что только от одного Андрея, из числа всех братьев, дядьёв, племянников, он мог так вот спокойно, не боясь быть отравленным, не держа близ себя на всякий случай отцовского старого лекаря, доктора Абрагама, принять блюдо или же кубок вина. Ну, ещё — Васильковичи Ростовские и Белозерские: Глеб и Борис[21] — чудесные племяши — и матерь их — воистину святая! — вдовствующая Мария Михайловна, — у них любил отдыхать: там его любят, чтут, радостно повинуются... Но у прочих родичей так вот потрапезовать с глазу на глаз! Нет! Уже давно Александр Ярославич счёл за благо избавить и уветливых и приветливых родственников своих от греха и соблазна!.. И сколь ни обижались они на него, он, ничему не внимая, туго отзывался на пиршественные их приглашения.
«Некогда мне! — отговаривался он. — А понадобился я вам — милости просим ко мне, в Переславль мой, в Залесский!»
Они пили неторопливо и малою мерою, больше беседуя. Александр был доволен: ещё никогда брат Андрей, с тех пор как возрос, не внимал ему столь беспрекословно и, по-видимому, столь искренне.
Вот он вскакивает — от пыла отваги и от негодованья — и, взмахивая рукою, словно бы уже рубя саблей восставших и обнаглевших данников, восклицает:
— Да я сам на них полки поведу, этою же зимою: вот как только реки смёрзнутся!
Александр охлаждает его кратким иносказательным словом:
— Орел мух не ловит!.. Эка подумаешь: туземцы восстали — мордва, черемись! Да они каждый год восстают. Стольному князю Владимирскому ходить на них самому — не много ли чести будет?! Разве послать тебе некого стало?.. А ты бы на псарном своём дворе поискал: целый полк там у тебя топчется, или на соколином.
Андрей, угрюмо посапывая, склоняется над кубком. Смотрит туда, как в колодец, обиженный новым намёком на его охотничьи увлечения.
— Напрасно ты, Саша, над моими соколами насмехаешься! Иная птица многого стоит! — говорит он, подымаясь из-за стола.
Отодвинув скользящее по ковру кресло, он быстро подходит к стене, простенки которой облицованы чёрным морёным дубом. Поводит по стенке, кое-где тычет рукой, и стена вдруг расступается на две стороны, открывая тайнохранилище.
Андрей Ярославич достаёт из тайника большую медную шкатулку и несёт её к своему креслу. Здесь ставит её на подлокотник, отмыкает её потаённые затворы. Оттуда, из шкатулки, он достаёт свиток белого пергамента с серебряной, висящей на красном шёлковом шнурке монгольской печатью.
Андрей Ярославич с лёгким поклоном передаёт свиток Александру.
Невский почти выхватывает этот ханский дефтерь и, развернув, быстро просматривает его глазами. Лицо его озаряется радостью.
— Пойди сюда, ко мне, дай я тебя поцелую! — говорит он растроганным голосом Андрею.
И тот, вне себя от гордости, приближается к брату. Они крепко целуются.
Когда успокоилось волнение обоих и снова взялись они за кубки, Александр Ярославич спросил брата, какими судьбами добыл он такое от Орды, чего и ему,
Александру, никак не удавалось охлопотать и купить, — сию тарханную грамоту, в силу которой всё владимирское крестьянство — смерды, хлеборобы — на три года освобождалось от выплаты какой бы то ни было дани татарской, за исключением только содержанья в должном порядке ордынских военных путей и мостов на Русской Земле.
— Глазам своим не верю! — проговорил Александр, любуясь братом. — Но кто выдал тебе этакое?
— Бицик-Берке, что от великого хана приезжал.
— А что тебе это стоило?
Андрей помолчал. Затем, сощурясь и как бы простовато улыбаясь, сказал:
— А белого кречета своего, когда охотились, подарил ему.
Византийские полукружия чёрных бровей Александра так и пошли кверху.
Но Андрей, делая вид, что и не замечает ничего, потянувшись опять за фарфоровым кувшином, сказал с притворным сокрушением:
— Доселе скорблю!.. Такого мне кречета и не сыскать более! Почитай, полгода все гнездари-сокольники мои по всей Каме рыщут, а этакой птицы найти не могут.
Александр расхохотался до слёз.
— Ах ты, повеса! — воскликнул он. — Я вижу: мне в науку к тебе поступить придётся!..
Невский поднял свой кубок и протянул к брату.
— Будем здоровы! — провозгласил Александр, и они, не отрываясь, осушили бокалы.
Уже сильно снизилась в молочно-прозрачном сосуде колышущаяся тень, означавшая верхнюю границу вина.
Андрей взялся было за серебряный колокольчик, чтобы позвать слугу. Но Александр покачал головою и слегка призащитил согнутой ладонью края своего бокала.
— Хватит, хватит! — проговорил он.
Андрей знал брата и потому не стал его приневоливать. Но, однако, звонко расхохотался.
— Ты чего? — спросил Александр.
— Старика Геродота вспомнил.
— Что там у него?
— Когда он у нас по Днепру проезжал, его больше всего, чудака этакого, то удивило, что народ Росс пьёт вино, не разбавляя его водою!..
— Пожалуй, и нам сегодня не худо бы водой разбавлять! — пошутил Невский,
Андрей даже подскочил на кресле.
— Этакое святотатство совершить!.. Да ты знаешь ли, что́ мы с тобой пьём?
— Нет.
— Ну так вот! Это винцо ещё к деду Всеволоду пришло — вместе с грузинкой его, с княгиней Марией... Вину этому уже за полсотни годов... Хорош внучек, почтил нектар дедовский...
— Нектар нектаром, а безумье одинаков!..
— Какое безумье?
— Неужто не знаешь? Ну, хмель. Не мною сказано — дедами же: «Пьяному мужу и море — за лужу, а лужа — по уши».
— Однако же и это деды сказали: «Лучше дубинное битье, чем бесхмельное питьё».
— Как, как? — переспросил Александр, и, когда Андрей повторил ему пословицу, он от всего сердца расхохотался. — Ну, силён в обороне! — сказал он. — А ну, померяемся!
И между братьями начался как бы некий застольный поединок — словами народной мудрости, речениями великих мужей и государей — касательно вина, хмеля и пьянства.
— «Питва — не битва!» — бросил Александр неосторожное слово.
Андрей вспыхнул и вскочил с места.
— Или я в битвах захребетник?.. — вскричал он.
Александр быстро подошёл к нему, ласково налёг руками на оба плеча его и втиснул вглубь кресла.
— Полно, полно!.. Да разве я к тому?.. Витязь! Всё это говорят. Да и мне ли не помнить?! В сорок втором — на льдах на Чудском — без тебя я погиб бы!..
Андрей быстро успокоился, и поединок продолжался.
— Дед наш Владимир, тот понимал: «Веселье Руси есть нити!» Оттого и к мухометанам не пошёл[22], в ихнюю веру! — сказал он, вызывая брата на ответ.
Александр Ярославич попробовал поразить брата ссылкою на отцов церкви, но Андрей искусно отвёл удар:
— А это не святые ли отцы сказали: «Ино дело — пьянство злое, а ино дело — питьё в меру, и в подобное время, и во славу божию»?
— Что ж!.. — воскликнул, смеясь, Александр. — Коли святые отцы не помогают, так я тебе от старика Чингисхана скажу нечто!..
И Александр Ярославич на память, по-монгольски, привёл из книги запретов и поучений великого императора Азии. По-русски это звучало бы так: «В вине и водке нет пользы для ума и художеств. Государь, жадный к водке и к вину, не может произвести великих дел, мыслен и великих учреждений».
Но Андрей напомнил ему тоже из «Ясы»[23] Чингисхана:
— «Если уж нет средства от пьянства, то должно напиваться в месяц три раза. Если — один раз, то это ещё лучше. Если совсем не пить, что может быть почтеннее? Однако где ж мы найдём такое существо?!»
Он считал уже себя победителем. Однако не так думал Александр. Он поднялся и, рассекая ребром ладони воздух, закончил Чингисханово изречение, конец которого нарочно был утаён Андреем:
— «Но когда бы нашлось такое существо, то оно достойно всякого почтенья...»
Признавая себя побеждённым, Андрей склонил голову и развёл руками.
Упоминанье о Чингисхане повлекло к разговору о татарах. Прежде чем приступить к нему, Андрей Ярославич подошёл к двери, проверил её и широко раздвинул в обе стороны тяжёлую, на кольцах завесу, дабы хорошо, была видна дверь. Затем, взявшись за оконные скобы, закрыл вдвижную оконную раму, которая вся, словно соты, состояла из множества свинцовых угловато-округлых ячеек со вставленными в них стёклами.
И только тогда, вернувшись к столу, заговорил с братом. Лицо его стало угрюмым.
Александр, расположась в кресле, с тревогой наблюдал за всеми его мероприятиями, которые явно должны были предшествовать некой тайной беседе.
Однако сперва Андрей Ярославич коснулся дел на западных рубежах. Смерть Фридриха Гогенштауфена; наступившая за нею смута, в Германии; самозванцы там, выдававшие себя за покойного императора, один из которых добрался аж до Владимира на Клязьме, ища себе помощи; прекращенье притока свежих сил из Vaterland’a рижским рыцарям; предстоящая смена магистра;, наконец, союз и родство Даниила с Миндовгом — всё это служило как бы только подступом к главному, разговору — о татарах.
А его-то и не состоялось!..
— Уж тебе ль не ведать, что́ и как там, на Западе! — начал было свой главный разговор Андрей Ярославич. — Тогда дозволь же прямо спросить: а не лепо ли ны бяшеть, братие[24]?.. — Он усмехнулся. — Не пора ли нам схватить сего Батыя, схватить сего Сартака за их поганые пятки, да и об землю башкой?!
Невский, едва с уст брата Андрея сорвалось имя татарского хана, с шумом отодвинулся в кресле и опрокинул хрустальный бокал с ещё не допитым вином; бокал, загремев о посуду, покатился к краю стола, красное пятно расплылось по скатерти. Донельзя огорчённый Александр вскочил и, поморщась, покачал головой.
— Вот видишь, Геродот-то и прав, — сказал он, — лучше бы разбавлять вино водичкою! Ну ладно, пока без хозяйки живёшь... Говорят, солью надо скатерть посыпать...
Взяв из судка солонку, он отсыпал на большую ладонь немного соли и принялся посыпать ею пятно.
— Ух, до чего же у тебя жарко! — проговорил он, отодвигаясь от стола вместе с креслом. — Или то от вина? И пошто ты окна закрыл?
Не дожидаясь ответа, Александр Ярославич подошёл к окну и опустил раму.
Свежий утренний воздух с запахом сена хлынул в комнату. Повернувшись спиною к брату, слегка прислонясь к косяку и слегка пригнувшись, Александр дышал...
Андрей Ярославич, болезненно сведя брови, смотрел в спину брата. Ему стало понятно всё...
Ни с кем, никогда ещё Александр Ярославич не говаривал дурного слова о татарах! Даже иголки, вгоняемые под ногти, что так любили в Орде, добыли бы у него только ту подноготную правду, что ни с братом, ни с женою, ни с сыном и уж подавно ни с советником не произносил он, князь Новгорода, ни единого хулящего слова против ли великого хана или же держателя Поволжского улуса — Батыя.
...Невский повернулся к брату. Теперь лицо его, против стремящих Андрею в глаза утренних лучей, показывалось в чёрной тени, и Андрею трудно было судить, что за выраженье было на лице брата. Вероятно, весёлое, судя по голосу и по словам, которые он произнёс.
— До чего же бабы хороши у тебя по двору ходят, Андрюша! — сказал Александр. — У меня в Новгороде не вижу таких!.. Стало быть, не всех же татарин угнал!.. Али подрасти успели?..
Невский снова оборотился лицом в окно и, как бы всё более и более изумляясь, проговорил:
— Одна... другая... третья!.. Да тут у тебя целый питомник!.. Я думаю, тут уж ты сам за ловчего!..
Расхаживая по комнате, Александр Ярославич давно уже заметил плетённую из красных ремешков опрокинутую женскую сандалию, носок которой высовывался из-под широкой, тисового дерева кровати Андрея.
Александр знал, что Андрей не отягощает себя бременем рано постигшего его вдовства[25]. Однако сейчас, перед скорым приездом невесты Андрея, эта красная сандалия в спальне вдовевшего князя раздражала его.
Искоса взглядывая на сандалию, Александр Ярославич заговорил с братом о скором приезде княжны Дубравки и митрополита. Помянул кстати и о плохом содержанье главного моста через Клязьму, через который они должны будут проехать, если только не решат дожидаться санного пути.
Только что вернулась из Галича к нему, в Новгород, ездившая смотреть невесту и отвозить ей дары княгиня Марья, вдова покойного Василька Константиновича, того самого, что замучен был татарами в Шеренском лесу.
Сужденья княгини Марьи Михайловны не только о невесте, но и о многом другом всегда были весомы в душе Александра.
Невский стал передавать брату — который даже и не догадался, что ему самому надо бы полюбопытствовать о том! — всё, что рассказала ему о невесте Андрея, вернувшись из Галича, княгиня Марья.
А она была очарована княжной.
«Но только ведь робёночек совсем! — так говорила княгиня-сваха Александру. — Уж только бы берёг её наш Андрюша!.. Ей бы в куклы ещё!.. А умок светлый!.. Грех, грех нам будет, ежели что!..»
Почти то же самое и передал сейчас брату Александр. Он даже заранее пригрозил Андрею.
— Смотри, — сказал он ему, — за каждую слезинку её в семье нашей ты мне ответишь!.. Ведь четырнадцать лет девчурке всего исполнилось! Сам подумай!..
— Тётку нашу, Верху славу, — ту и восьми лет замуж повели! — возразил Андрей.
Александр начинал уже входить в гнев.
— Да ты слушай, что тебе говорят, а не тётка!.. Вижу: не только Вакху без удержу служишь, но и Афродите!..
При этих словах Невский выпнул носком своей туфли красную сандалию на ковёр.
Только теперь понял Андрей, сколь беспечен оказался он и неосмотрителен, предоставив свои покои Александру.
— За каждую обиду спрошу! — грозно заключил Александр.
Андрей несколько оробел:
— Да что ты, что ты, Саша? Да уж не такой же я зверь!
— Знаю я тебя, замотая! Позволь тебе — так ты и на войну харем свой возил бы!..
Андрея задело за живое.
— Батый тоже возит!.. А воевать... воюет не худо!
Мгновенье Невский находился в замешательстве, не находя ответа, затем произнёс:
— Чему другому, доброму, у татар не выучился?..
— Пошто — татары? — возразил Андрей. — У нашего с тобой деда, у Юрья Андреевича, в каждом сельце была боярыня!
Долго подавляемый гнев Александра полыхнул, как прорывается сквозь ворох сухого хвороста пламя костра.
— Да что ты мне сегодня? — загремел он. — То на одного деда ссылка, то на другого! То у тебя Мономах, то Юрий. А тут уже вдруг Батый!.. А ты будь сперва как дед Владимир! А ты будь сперва как дед Юрий!.. А ты будь сперва как Батый!..
А та, из-за которой весь сыр-бор загорелся, которую ни тот, ни другой из братьев ещё не видали, — хрупкий русоголовый недозрелыш, с едва наклюнувшимися персями, девчонка, и впрямь ещё вскакивавшая ночью босыми ногами ради того, чтобы натянуть на озябших кукол сползшее с них одеяло, — словом, княжна Аглая-Дубравка уже приближалась к городу, дабы сделаться великой княгиней Владимирской, Суздальской и всея Руси!
С нею был и митрополит.
Несмотря на все его старанья, даже выехав из Галича на целый месяц раньше княжны, митрополит Кирилл так и не смог предварить её приезда. Многолюдный и многоконный поезд галицкой княжны, обременённый к тому же немалым обозом, всё ж таки нагнал где-то у верховьев Ворсклы[26] поезд владыки.
Главной причиной тому, как, впрочем, и предполагал Невский, были не столько дебри и болота двухтысячевёрстного пути, сколь препоны и каверзы, которые то на одном, то на другом перегоне учиняли митрополиту татары.
Ордынцев не так-то легко было обмануть!
У одряхлевшего Батыя, только что испытавшего мозговой удар, после которого у него заметно волочилась правая нога, всё ж таки, вопреки всему, оставался непритупленным хваткий и далеко досягающий взор степного крылатого хищника, от которого и на полвёрстной глуби тщетно думает укрыться припавший к самой земле жаворонок.
От Урала до Рима, от берегов Волги до берегов Сены явственно и своевременно различал золотоордынский владыка малейшее политическое шевеленье за рубежом — как в странах, уже покорённых, так и среди государей и народов, чья выя ещё не понесла ярма!
Да и сын Батыя — Сартак, и брат Батыя — Берке — эти двое, хотя и тая друг от друга до поры до времени кривой нож в рукаве халата, — они тоже разделяли с Батыем заботу неусыпного дозора за побеждёнными и непобеждёнными на Востоке и на Западе.
Лазутчики, доносчики, соглядатаи Батыя рассыпаны были повсюду.
Были они и среди кардиналов Иннокентия; были и среди колчаноносцев и бесчисленных супруг великого хана там, на Амуре. Шпионы Батыя своевременно доносили ему, что замышляют предпринять франки, захватившие Константинополь, и что собирается им противопоставить изгнанный из Царьграда в Никею император Византии. Через соглядатаев, через бродячих рыцарей Европы, из коих многие совсем недурно пристраивались на Волге и за Байкалом, через несметное количество изгнанных императорами Византии несториан-еретиков[27], не порвавших, однако, связи с родиною, через папских легатов и миссионеров, через венецианских и генуэзских купцов Батыю ведомо было всё, что творится: и в Лондоне — у Генриха, и в Париже — у Людовика, и в Мадриде — у Фердинанда, и в Страсбурге — у Гогенштауфена, и в Пеште — у короля Бэлы, и в Риге — у прецептора Ливонии, и, наконец, в Грузинском царстве — у того и у другого Давида.
Даже и самому Миндовгу, в его недосягаемых дебрях и топях, с его легко перебрасываемой, а иногда и потаённой столицей, — Миндовгу, чья душа была ещё темнее и непроходимее, чем дремучие леса, среди которых он гнездился, — даже и ему не всякое своё замышленье удавалось утаить от этого далече хватающего ока хозяина Поволжского улуса.
Что же тогда говорить о Руси, которая была рядом!..
Совсем недавно, разгневавшись на Андрея Ярославича за то, что тот без его ведома вступил в непосредственное общенье с Бицик-Берке, полномочным баскаком великого хана Менгу, и успел охлопотать на три года тарханный ярлык для всех землепашцев Владимиро-Суздальского княженья, Батый сказал, презрительно рассмеявшись:
— До его столицы, что на этом ручье... напомните мне его названье... я своим малахаем могу докинуть!
Десятки услужливых уст поспешили шепнуть, что ручей, над которым стоит столица Андрея, называется Клязьмой.
Батый качнул головой. Заколыхалась и долго раскачивалась драгоценная тяжёлая серьга в его левом ухе.
— Да, Клязьма! — будто бы вспомнил он. — Что же он думает, этот князь Андрей? Или рука моя коротка, чтобы достать его на том берегу этого ручья? Я велю Неврюю напоить своих коней из этой Клязьмы, — и вот уже и курица, перебродя через эту речку, не замочит своих ног!..
На Руси глаза и уши Батыя могли и слушать и высматривать невозбранно, даже и не таясь. Любой баскак; любой даруга, любой начальник ямского, почтового стана или же смотритель дорог — а дорог этих и широченных просек множество пролагали татары и во время и после вторженья, — любой из этих чиновников ордынских был и глазом и ухом Батыя.
Предавали и свои — из бояр. Наушничали и обойдённые при дележе уделов князья. Да разве бы отравила ханша Туракына отца Ярославичей, если бы не выложил перед нею все, даже и затаённейшие, помыслы князя своего ближний боярин и советник его — Ярунович Фёдор?
И на восток, к Байкалу, в Коренной улус, в кочующую ставку самого великого хана, немало засылалось Батыем шпионов и соглядатаев.
Однако Батый прекрасно знал, что и оттуда, с верховьев Амура, из ставки Менгу, насквозь и неусыпно просматривается и его Поволжский улус. И о любом его послаблении русским тотчас было бы вложено в уши великого хана.
То и дело которая-либо из бесчисленных жён Бату, зашитая в мешок вместе с грузом камней и разъярённой кошкой — ибо так подобает поступать с женою, предавшей мужа! — опускалась на дно реки или степного водоёма. То и дело кто-либо из его сановников-нойонов или же из людей придворной стражи и слуг — а случалось, кто-либо и из числа царевичей, — получал повеленье хана: «Умереть, не показав своей крови», что означало — быть удавленным тетивою лука.
...Ордынцев нелегко было обмануть!..
Едва только до ушей Батыя достигнул слух, что дочь Даниила — Дубравка-хатунь — помолвлена за ильбеги[28] Владимирского, за князя Андрея, и скоро станет великой княгиней Владимирской, как старому хану сделалось худо. Подавленная перед сановниками ярость его, искусно растравляемая братом Берке, едва не уложила старого хана в могилу. Придворный врач, тангут, кинул Батыю кровь. Грозивший ему повторный мозговой удар был избегнут.
Однако трудно и страшно дышал властелин полумира! И это страшное, клокочущее дыханье его подземной дрожью отдавалось в соседних царствах, будто землетрясенье. Но всё-таки старый хан поднялся. Сын — Сартак, брат — Берке, слетевшиеся было к одру его болезни, — племянник против дяди, христианин против магометанина, — опять принуждены были до поры до времени спрятать свои кривые ножи в рукава халатов.
Батый поправился. Но под напором происшедшего не устояло на сей раз даже и для всех очевидное, вызывавшее злобную зависть среди государей расположенье Батыя к Невскому — некий вид слабости, за которую брат Берке, лютый враг русских и в особенности враг Александра, то и дело язвительно попрекал Батыя.
Батый любил плакать. Он любил сетовать на чёрную неблагодарность людей. Он любил изливать эти жалобы в заунывных стихах, которые без каких-либо заметных усилий он слагал, зажмурившись, скорбно покачивая головой и слегка подыгрывая на двухструнной маленькой домбре, именуемой «хур».
Так поступил он и сейчас.
Подпёртый подушками, на широкой тугой тахте, сложенной из войлоков и покрытой коврами, он сидел, роняя слёзы на халат, перебирал струны инструмента и тонким, горловым голосом, замыкая как бы трелью вдруг смыкавшегося горла всякий стих, изливал свои жалобы на Александра.
Песня, которую приказано было занести на свитки ханским стенографам, была, по обычаю, длинна и охватывала множество событий. Главным же её предметом было коварство Невского.
Именно его, Искандера Грозные Очи, ещё более, чем Даниила, винили в Золотой Орде за предполагавшийся брак Дубравки и Андрея — брак, истинное политическое назначенье которого было хорошо ведомо Батыю.
На Даниила — на того уже махнули рукой. Это произошло тогда, когда Батыю, Берке, а потом и великому хану Менгу стало известно, что чрезвычайный легат Иннокентия, францисканец-поляк Иоанн де Плано-Карпини[29], на обратном пути из Монголии и Золотоордынского улуса заезжал к Даниилу, и что его чествовали там, и что с тех пор между Римом и Галичем ведутся, то ослабевая, то вновь разгораясь, переговоры о принятии Даниилом королевской короны и о вселенском соборе касательно воссоединения церквей.
Но Александр, Александр?! Хотя насчёт истинных чувств Невского к завоевателям даже благоволивший к нему Батый нисколько не обольщался, однако ханы были убеждены, что Александр по крайней мере не отважится пойти на сближенье с князем, чьё одно имя уже вздымало чёрную желчь в крови Батыя.
Зачем было это делать? Разве не предлагал Александру он, Батый, отдать за Андрея Ярославича любую монгольскую принцессу из дома Борджегинь, то есть из того самого дома, к которому принадлежал он, Батый? Разве не заверял его, что татарской царевне, когда она станет женою великого князя Владимирского, не станут возбранять даже переход в христианство? Что ж тут такого? Ведь христианин у него, у Батыя, и сын Сартак.
Разве в своей «Ясе» Потрясатель вселенной, великий дед его, Батыя, не завещал, чтобы одинаково чтили все веры, не отдавая преимущества ни одной?!
За что же так обидел его Александр?
Вот о чём была заунывная песня Батыя, сопровождаемая слезами и подыгрыванием на двухструнной домбре — хур.
Закончил же старый воитель горестное пенье своё такими словами:
«О мир, что за дурной дар! Только взаимное пожиранье видишь, да истребленье, да спину неблагодарного!..
Я думал, — жалобно пел Батый, — что в стае чёрных, как ночь, воронов — а таковы все люди! — я нашёл одного человека белого, белого, как русская берёза, и что это ты, Александр...
Но ты, Искандер, — очи твои я называю ныне вероломными! — ты взял все бесчисленные благодеянья мои — и тебе, и народу русских, и высыпал их в чёрный костёр неблагодарности.
Так озябшие на осенней пастьбе пастухи высыпают в костёр сухой верблюжий помёт — куски аргала!..
И вот сердце моё стеснилось, и я заплакал...»
Так закончил Батый, пустив горловую, пронзительную трель в завершение своей песни, в которую со скорбно-раболепными лицами неподвижно вслушивались, время от времени отирая глаза полою халата, и царевичи, и советники, и полководцы, и звездочёты. Затем он положил на тахту близ себя отзвучавшую хур.
Шеи ближайших вельмож вытянулись, чтобы видеть, в каком именно положении оставлена старым ханом его домбра.
Она лежала вниз струнами, опрокинутая. Брат Батыя, старый Берке, увидев это, скрипнул зубами и стал пощипывать свою реденькую, кустиковую бородку-метёлочку: такое положение домбры означало для всех, что всё дело должно остаться сокровенным до поры до времени, что вопрос о самочинном браке Дубравки и Андрея не будет вынесен на обсуждение царевичей и нойонов.
Опрокинутая вниз струнами домбра означала, что великие полки — многочисленная армия, вверенная князьям правой руки Алабуге и Неврюю и кочевавшая близ границ Владимирского княженья, — она так и останется на месте.
Батый решил выжидать.
Но едва ли не большею виною и Даниила и Александра в глазах Батыя, Берке и даже в глазах Сартака — этого самого благоприятствующего русским из всех золотоордынских ханов и к тому же христианина — было то, что посредником в этой свадьбе выступал митрополит Галича, Киева и всея Руси. Правда, в Поволжском улусе знали, что Дубравка и жених её, князь Андрей[30], — двоюродные и что у этих русских, вместо того чтобы радоваться, если муж и жена не чужие, напротив, требуется благословенье и разрешенье подобного брака со стороны «главного попа» — так называли в Татарах митрополита; знали, что «главный поп» волен разъезжать по своей стране куда хочет и никто из баскаков и наместников хана воспретить этого не может, ибо церковь была тархан, митрополит был тархан, и каждый поп, дьякон, и пономарь, и просвирня — все они были тархан, все церковные люди! Больше того — «Ясою» Чингисхана, да и его, Батыя, грамотой последний монастырский раб, если только он пахал на монастырской, на церковной земле, был в большей безопасности от меча и казни, чем любой из князей.
Что ж было говорить о митрополите!
Но, с другой стороны, татары, хитрейшие из всех политиков своего века, хорошо понимали, что не только сватом и благословляющим родственный брак иерархом едет на Клязьму митрополит Кирилл, но и потаённым послом Даниила при Александре, как бы чрезвычайным легатом.
— Этот главный поп русских, — сказал по этому случаю Батый, — он не то ли же самое есть, что от Иннокентия-папы к нам приходивший Карпин, этот гнусный лукавец в красной шляпе, который утаил или продал в пути для нас предназначенный его господином подарок, а потом прикинулся нищим? Но далеко ему, этому рымлянину попу, до главного попа русских, далеко он отстанет от него: как змея от сайги!..
И все согласились.
Ордынцы своевременно успели узнать, что это митрополит Кирилл устроил женитьбу Льва Даниловича на дочери короля венгерского Бэлы — Кунигунде; что это он примирил Ольговичей Черниговских с Мономашичами Владимиро-Суздальскими, — а вражда между ними и была как раз краеугольным камнем, на коем зиждилась вся политика ханов в России!
Знал, наконец, Батый, что сей «главный поп» свершил недавно такое, чему не вдруг поверили и у него, у Батыя, в Поволжском улусе, да и там, на Западе, — послы и государи румов, и франков, и картвелов. А именно: когда из-за борьбы герцога Болдуина с прогнанным в Никею императором византийским митрополиту Кириллу никак нельзя стало проехать на посвящение через Царьград, то он вернулся обратно в Русскую Землю, а затем, под видом простого паломника, через Грузию и Армению, не страшась ни высот, ни бездны, ни лихого человека, ни зверя, достиг-таки своей цели и побывал-таки у патриарха на посвященье в Никее.
Так вот, этот человек теперь ехал впереди карпатской княжны — устраивать её брак с братом Александра!
Что предпринять? Убить? Но это значит — навеки осрамить «Ясу» Величайшего, да и свои собственные тарханные ярлыки, под охраной которых жила русская церковь.
Запретить переезд митрополита во Владимир? Но «главный поп» русских имеет право всюду навещать свою паству!
Нет, ни убить, ни грубо задержать русского митрополита в пути никак нельзя. Но попридержать можно.
Так и было сделано. Всем баскакам Батыя, от Южного Буга до Клязьмы, велено было, сколько возможно, задерживать русского митрополита. Если же рассердится слишком, то пропускать.
И вот митрополиту Галича, Киева и всея Руси, несмотря на пайцзу, правда без тигра на ней, а простую серебряную, на всех ордынских дорогах совсем не давали лошадей, а на просёлках, по деревням и сёлам, где можно было добыть подставы, там лошади крестьянские вдруг оказывались угнанными в ночное или на какую-либо гужевую повинность татарскую, и владыке приходилось дожидаться лошадей днями, а где и неделями. И всюду встречало митрополита неистовое, лютое вымогательство татар.
И вышло так, что многоконный и многолюдный, да ещё и обременённый обозами поезд Дубравки, ведомый Андреем-дворским, нагнал владыку где-то восточнее Чернигова.
Тут всё переменилось!
Понаторевший в обращенье с татарами — и в Орде, и во время пути, располагавший тигроголовою золотой пайцзою, которую дал некогда Батый Даниилу, дворский Андрей круто и оборотисто обходился с чиновниками Орды, то приустрашая их, то подкупая их деньгами и подарками.
Иногда Андрею Ивановичу приходилось прибегать и к третьему способу продвиженья: к побратимству, и кумовству, и даже к совместным попойкам. И это последнее для благонравного и непьющего дворского было тошней всего.
Он уже и счёт потерял своим кунакам да побратимам — аньдам, которых позаводил он почитай что в каждом большом аиле татарском во время двухтысячевёрстного пути.
Но зато мчались!
Владыка всея Руси вошёл со своим поездом в поезд Дубравки и следовал как бы тайно, не объявляясь в пути.
Помимо свиты, женскую половину которой возглавляла тётка Олёна Юрьевна, супруга Василька, помимо разной женской прислуги и рабынь, княжну Дубравку-Аглаю сопровождала ещё её личная охранная дружина в составе трёхсот человек добрых конников.
Помогало и это.
Мучаясь необходимостью напиваться кобыльим молоком, пить сей «чёрный кумыз», и полагая, что над ним за это все тайно посмеиваются, а быть может, и брезгуют, бедняга дворский, оправдываясь, говорил:
— Что делать, что делать с проклятыми? Пей, да и не поморщись! А посмей-ка выплесни али не допей — тут же тебе на колодке, как всё равно петуху, голову оттяпают!.. А то и жилою бычьей задавят! У них это недолго!.. Ведь у них, у татар, кумыз этот отца-матери святее!.. А мы что же теперь стали, русские-то? Мы уже и в своём отечестве не хозяева!.. Ханскими какими-то заклятьями едем! — скорбно восклицал он, указывая на золотую дощечку с головой тигра.
По ободку золотой пайцзы сперва шла китайская надпись, гласившая: «Объявленье тридцатое», а далее было начертано тангутскими буквами следующее: «Силою неба: Батыя-хана имя да свято будет! Как бы я сам путешествовал!..»
Невский премного обрадовался Андрею-дворскому, когда тот предстал перед ним, предварительно благоустроив княжну Дубравку.
Галицкие разместились во дворце покойного дяди Ярославичей — Константина Всеволодича. Теперь, вплоть до самого дня венчанья, невесте с женихом не полагалось видеться: дворец Андрея и дворец Дубравки отныне оживлённо сносились между собою — и послами, и посольствами, и гонцами, — подобно двум державам, хотя расстоянье от дворца до дворца было не больше какой-нибудь сотни сажен.
— Андрей Иванович!.. Да тебя ли я вижу, дружище? — с движеньем радости воскликнул Невский, вставая из-за большого, карельской берёзы, слегка, наклонённого стола, за которым работал он над целым ворохом грамот и донесений.
Приветственно простирая к дворскому широко раскрытые длани, Александр приблизился к нему и обнял. У Андрея Ивановича хрустнули кости.
Выпустив его из своих объятий и слегка отшатнув от себя, Александр, как бы полюбовавшись дворским, произнёс:
— Услышал господь молитвы мои: прислал человека!..
Прослезившись, дворский ответил:
— Ох, Александра Ярославич! Да уж у какого государя столько людей — советных и ратных, как у тебя?
— Людей много. Да человека нет! — многозначительно отвечал Невский и, полуобняв дворского за плечо, дружески подвёл его к боковому у стола креслу.
Но Андрей Иванович не вдруг сел: он сперва, с поясным поклоном, предъявил очам князя, держа на двух вытянутых руках и не подымая глаз, свиток пергамента, бывший у него на груди, под кафтаном, окутанный куском золотистого шёлка.
Невский взял грамоту. Затем, ещё раз безмолвным жестом указав дворскому на кресло, сам снова уселся в своё, неторопливо освободил свиток от шёлковой его защиты, снял серебряную вислую печать, замыкавшую в себе оба конца кручёной алой тесьмы, связующей свиток, и принялся читать.
Вот что писал Невскому Даниил — в той части письма, которая была писана обычными буквами, без затаенья.
«Брату Александру — радоваться!
И мне, брат, и радостно, а, однако, и горько, что ныне приспел час, — и се — отдаю тебе три великие сокровища свои, вынув из крови сердца.
Одно из них тамо и созрело, в горячей крови родительского моего сердца! Так жемчуг созревает гурмыжский — потаённо, в раковине своей, доколе не придёт пора и безжалостный жемчуга ловец перстами своими не отдерёт — пускай и с болью и с кровью! — великую ту жемчужину, дотоле тайно хранимую и лелеемую. И се: опустела уже кровоточащая и тоскующая раковина моего сердца. Нет сиротки моей со мною... А и доведёт ли господь увидеться?! Знаешь сам: чёрное лихолетье... Вот даже и сопроводить не смог до пределов твоих...
Князь... брат... в своё сердце прими её. Я уже и тем утешен, что под твоим крылом дитя моё, Дубравка моя, возрастать и крепнуть будет!.. Буди ей в отца место!..
Прости, брат! Но и доволе про то...
А теперь и другое сокровище от души своей отдираю и тебе же, возлюбленному брату моему, отдаю. То — Андрей Иванович мой. Помнишь, как стояли на Волге, на льдах, когда от Батыя ехали, и ты ещё молвил: «О, когда бы, деи, не твой он был слуга, брат Данило, то и переманул бы его к себе». Ныне же сам отдаю к тебе его, — и скорбя, но и радуясь, ибо, когда близ тебя станет сей человек, то ни змея, ни аспид, ниже злоумышленник не докоснутся и до одежд твоих, доколе жив будет сей доблестный, и верный, и себя не щадящий для господина своего и для отечества своего!
Да и соображеньем быстр!..
А княжне моей, да нет уж — княгине скоро, — ей легче станет, горлинке, на чужой ветке, когда тех будет видати слуг отца своего, которых сызмальства знала, — умрёт за неё!..
Теперь — и третье сокровище души и ума моего. Мне ли, не имеющему Духа Свята и помазания святительского, дерзнути что-либо молвить о владыке?! Русь добре знает его. Да и ты, брат... Свят житием — то сам знаешь, но и державным разуменьем преизобилен... Мне он — советник был мудрый и споспешник неутомимый... А и ты доверься ему, брат милый и всевышнего рукою ведомый и сохраняемый...
Вот и опустело сердце!.. Говорить ли мне, сколько люблю тебя, и чту, и вверяюсь!..
Прощай, брат! Прими лобзанья мои. Благодать да будет с тобою. Аминь».
Письмо было собственноручное. Внизу стояла большая, угловатым уставом состроенная подпись: «Даниил».
Так заканчивалась первая, лично-семейная, часть письма. Дальше шло затаенье.
Александр, слегка нахмурясь, вгляделся в него. Затем спокойно, неторопливо отстегнул крупную жемчужину, на которую застегнут был ворот его шёлковой голубой длинной рубахи, достал из-под сорочки широкий кипарисовый крест, величиною с ладонь, раскрыл с нательной стороны его потаённые створки и, успокоительно придержав дворского в кресле лёгким мановеньем руки, вынул из выдолбленной, полой пластины креста сложенный вчетверо небольшой лоскуток выбеленной телячьей кожи, на которой нанесены были киноварью, нарочно для него Даниилом изготовленные, условные знаки их переписки.
Приёмов затаенья у князей было много. Каждый выбирал свой. По мере надобности шифры менялись.
Государственная, тайная часть письма Даниила Александру была начертана так: сотни означались кружками, десятки — палочками, а единицы — точками.
Однако грамота, которую привёз с собой дворский Андрей и над которою склонился сейчас Александр, — она была написана лишь с самым поверхностным затаеньем, ибо не в том ей была защита, а в том, что, прежде чем вынуть её из нагрудной ладанки дворского, врагу пришлось бы сперва вырезать, взять на нож то простое русское сердце, что билось под этой ладанкой!..
С давних пор среди владимирского народа прошёл слух, что Александр Ярославич «просил дочери» у Даниила Романовича Галицкого за брата своего Андрея.
Истомились горожанки владимирские, дожидаючи княжеской свадьбы. А она вдруг и грянула!
— Едут!.. — истошным голосом закричал вдруг на торжище в ясный сентябрьский полдень босоногий, вихрастый мальчонка в полосатых посконных штанах на косой лямке.
И все вдруг побежали и потекли.
— Тройка княжеска! Невесту в церковь везут!.. — докричал паренёк и сам сломя голову, покинув дело тоже немаловажное: пойманного с покражей мужика, ведомого ревущей толпой, — кинулся опередить всех.
— Татя ведём пятнать! Ремённые вожжи украл! — кричали мальчишки.
Укравший был могучий, хотя и шибко отощавший, русобородый мужик с печальными глазами, обутый в лапти, одетый в изодранную холщовую рубаху и в синие посконные штаны. Давно уже успел заметить он исподлобья начавшееся вокруг и расходящееся кругами по всему торжищу шевеленье и враз поднявшийся гомон всего народа. Незаметно принялся он, не умедляя шагов, слегка поёрзывать связанными над крестцом кистями рук — сперва исподволь, а там всё смелее и смелее, пока наконец расслабевшие узы его совсем перестали связывать, а там и свалились.
Миг — и его уже не было. Он ввертелся в толпу, и толпища эта подхватила и понесла его, подобно тому как взбушевавшееся море подхватывает и песет утлый рыбачий чёлн, отторгнутый с цепи.
Сопровождавшие вора двое дверников судебной палаты переглянулися между собою, укоризненно ахнули и вдруг, махнув рукою, кинулись вместе со всем народом туда же, куда качнулся весь народ, то есть вверх, на Княжую гору.
Склону кишащего муравейника подобны сделались склоны, тропинки и большой въезд, что вели с Торговой площади на гору кремля.
В торговых палатках своих, под навесами, метались торговцы: товар, словно цепь, не отпускал их из лавки.
А в это время там, наверху, по самому краю обрыва, вдоль земляного вала, проплыла, погромыхивая золотыми звонцами, рыжая тройка княжны Галицкой. То было благословенье родительское Дубравке от Даниила Романовича.
— Невесту, невесту везут! — снова раздались крики.
Кто-то из женщин запричитал вслед княжне добрые напутствия.
Как было не встречать светлым словом ту, которая от самого страшного голода — от соляного — одним только приездом своим уже избавила землю Владимирскую?!
Дубравка принесла в приданое соль. Десяток коломыйских солеварен приписан был княжне Галицкой. И ещё до приезда Дубравки прибыли во Владимир целые обозы добротной, белой как снег коломыйской соли.
А то ведь и огурцов на зиму засолить было нечем. Прасолы, купчишки соляные, только того и ждали! Воз соли до полугривны доходил — вымолвить страшно! А за полугривну-то лето целое надо страдовать в наймах, когда — и с женою вместе.
Как же было отцам-матерям не залюбить её, княжну Дубравку?!
Вот мимо лавки дородного купчины-сластёнщика, вдоль рядов лавочных — частью тесовых, частью палаточных, — проносится ватага ребятишек.
Купчище, словно пёс на цепи, мечется возле ящиков с пряниками да рожками да возле долблёнок с мёдом. Медовый, неодолимый — что для пчелы, что для ребятишек! — райский дух одолел их. Подняли головы — потянули воздух.
— Ух, добро пахнет! — сказал один.
Купец к нему так и кинулся.
— Стёпка! — крикнул он мальчугану. — А опнись-ко маленько, остановись!
— Некогда мне: свадьба!
— Дак не твоя же! — пошутил купец. — Обожди!..
Не доискавшись слова, Стенка покраснел и только рукой отмахнулся.
— Стёпка, мёду дам... ложку! — кричит купец.
Степан и не думает остановиться.
Купец надбавляет:
— Мёду ложку и пряник... вот побожусь!..
У Стёпки — видать по горлышку его, как он глотнул слюнки, — босые ноги сами замедлились и остановились.
— Чего тебе?.. Да скорее!..
— Стёпка, сбегай к Федосье Кирилловне... Знаешь Федосью Кирилловну... жену мою?
— Знаю.
— Беги скажи ей, что, мол, хозяин велит бежать к нему в лавку — посидеть у товару.
— А ты что, на свадьбу пойдёшь?
— Ага.
— А тебе чего торопиться, не твоя ведь!
— Стёпка! — кричит сластёнщик. — Рожков дам... два!..
Ух, тяжело Степану! Мотнулся вперед-назад, сглотнул ещё разок слюнки — и вдруг по-злому:
— Сам угощайся... с толстой со своей!..
— Ох ты, дрянь этакая! — закричал купец и кинулся догонять мальчишек.
Но... где ж их догнать!
— Погоди, пострел... облезьяна!.. — кричал купец. — Уши оторву!..
Каменная библия Руси, тёсаная наша «Илиада», «Слово о полку Игореве», пропетое камнем! Вот они высятся на голубизне неба, белокаменные соборы Владимира — и Георгиевский, и Успенья, и Дмитрия Солунского, покровителя всех славян, и адриатических и поволжских.
Никому не зазорно на тёсаных этих ступенях склонить колена свои, дабы воздать сыновнюю дань гению русских зодчих, величию народа, страданиям и подвигам предков! Вот он преклоняет колена свои на ступенях дедовского собора, перед тем как вступить в самый храм, старший Ярославич — Александр, — тот, кто ещё в пору первой юности своей уже был проименован от народа Невский.
Александр сегодня в серебряном полупанцире, в нагрудном зерцале, которое сверкает из-под княжой багряницы — просторного и длинного сзади алого бархатного плаща, отороченного горностаем. Князь без шлема. Высокий, блистающий шлем покоится на вишнёвого цвета подушке, несомой мальчиком-шлемоносцем. В руках другого, такого же светловолосого отрока, — другая бархатная подушка, на которой покоится меч.
Оба мальчика, ступающие вслед за князем в двух шагах от него, тотчас повторяют движенья Александра, едва он на краткий миг опускается на колена.
Тесниною, справа и слева, удержанный живым тыном телохранителей — рынд, стоял народ владимирский, созерцая витязя.
Белоголовые ребятишки, вездесущие и ни для какой стражи неодолимые, вскарабкались на кровлю обеих башен собора — южной и северной. Они угнездились там, хотя всячески вначале противились тому и Андрей-дворский и стража, то и дело стаскивавшая их оттуда и теперь уже вконец изнемогшая.
В конце концов Андрей Иванович махнул на ребятишек рукой, оставил их на крыше и за водосточными трубами, но только принял от них клятвенное обещанье, что они будут сидеть неподвижно и безмолвно, не станут спихивать друг друга, драться из-за мест и орать.
— Дяденька, а когда все закричат, тогда и нам можно? — спросил его один из мальчуганов.
Андрей Иванович не мог удержаться от улыбки.
— Ну, уж коли все закричат, тогда и вы кричите, — разрешил он.
И, вне себя от радости, ребятишки ещё раз повторили клятву не кричать, доколе не закричит весь народ внизу, и сидеть неподвижно. Теперь они и впрямь неподвижные и безмолвные сидели, выставя там и сям свои светло-русые головёнки с многосаженной высоты собора. И гроздья этих голов, они как бы дополняли собою изваяния-прилепы, резанные в половину плоти, из белого камня.
Вот на одной из стен — царь Давид-псалмопевец, а на другой стене — родной дедушка Александра Ярославича Всеволод Юрьич, зиждитель собора, сидя на открытом престоле, приемлет преклоненье не только людей, но и каких-то неправдоподобных зверей, в которых ещё можно было бы, пожалуй, признать львов, если бы только хвост, закинувшийся до половины хребта, не разворачивался вдруг в пальму, если бы не столь подобострастно припадали к земле эти львы, подползая к престолу.
Вот крылатые полужирафы, полуверблюды с головою страуса; вот львы — с одной головой для двух туловищ; толстоногие чудные птицы, словно бы в валенки обутые, вышагивающие совсем по-людски; да и мало ли ещё каких неправдоподобных зверей и птиц являлось взору народа на стенах Дмитриевского собора, где происходило венчанье!
Хотя и облеглось как бы драгоценною тканью с преизбыточной бахромой кубическое, плечистое, сверкающее белизною тело огромнообъёмного храма, хотя и окуталось оно звериными и человеческими ликами, а также и лианоподобным плетеньем, и сухими перьями папоротника, и как бы вот-вот готовой зашевелиться листвою, — однако и сквозь эту преизбыточную резьбу непомрачёнными остались простота и спокойствие первых русских храмов — храмов Киева, храмов Новгорода Великого.
Только свету прибавилось в них! Только под наитием некой силы, ещё не постигнутой византийскими зодчими, иссякла косность и тяжесть камня. Не из каменных плит, а из белосверкающих, тёсаных облаков сложены были эти храмы!
Русь победила Византию! Дерево претворило камень по образу и подобию своему. Звонкая сосна, кремню не уступающий дуб достойно завершили вековое единоборство с мрамором Аттики, Рима и Царьграда! Они вдохнули живую, русскую душу в косную и твёрдую плоть цареградского камня. И даже самый мрамор был здесь отринут. Отвергнут был и кирпич — сухой, угловатый и жёсткий!
Испытующий глаз владимирского плотника-древодела, резчика по дереву, усмотрел на родимой земле известный каждому пастушонку камень, который с презреньем был отброшен заезжими греческими строителями, — камень белый и уступчиво-твёрдый, в меру податливый резцу.
Его-то и принудили владимирские мастера зажить жизнью дерева.
Необхватные глыбы этого белого камня — тёсаные — клались почти что насухо, и оттого ещё ослепительнее была белизна исполинских стен. На этих-то белокаменных полотнах и торжествовало свою победу искусство русского резца.
Число и мера во всём! Отойди поодаль — и вот все эти чудища — и звери, и лианы, и лики мучеников, князей и апостолов, львы и змеи-горынычи, — всё это резное, как будто преизбыточное убранство вдруг представится не то вышивками дивноперстых владимирских кружевниц, не то как бы хартиями древних письмён-иероглифов.
Русская красавица изба с её резными из дерева полотенцами, серьгами, подвесками, и боярские бревенчатые хоромы с их балясинами, крылечками, коньками, драконами, и, наконец, княжой златоверхий терем — всё это не погибло — отнюдь нет! — под тяжестью мраморной Византии, но дивно сочеталось и с цареградской Софией, и с храмами Индии!
«И не искали мастеров от немцев, — так писал летописец, — но свои пришли делатели и камнездатели, и одни умели лить олово и медь, другие — крыть кровлю и белить известью стены, и дивному каменному резанью и рыхленью, а ещё и преизлиха искусны были иконному писанию».
Взирают очи: «Как всё это сделано?» Пытает разум: «Кто это сделал?» Имена сих зиждителей безвестны.
Однако деянья их зримы, незабвенны и радостны — и для веков и для тысячелетий. И на каждом из этих творений пылает как бы соборная бессмертная подпись: «Народ... Народ русский».
...Венчанье подходило к концу. Обручал князя и княгиню и венчал их сам Кирилл-митрополит. Сослужал ему епископ ростовский и, сверх того, протоиереи, попы и диаконы.
Пело два хора — на двух клиросах: один — по-русски, другой — по-гречески. Так заведено было, в особо торжественных службах, ещё от Андрея Юрьевича Боголюбского.
В храме — огромном и просторном — стало тесно, жарко и душно. И нельзя было вынуть платок — отереть лицо. Нельзя было перекреститься: изнеможешь, покуда персты дотянешь до лба.
Главные, западные двери — огромные, литые, с львами — были распахнуты во всю ширь. Обвешался народ и на них. И уж тут ничего нельзя было поделать: не рушить же благочиние свадьбы, отгоняя и отжимая народ на площадь. Да и самих князей-бояр, со всеми присными, было несусветное множество.
Зво́нок и отдатлив на пенье был выстроен храм Дмитрия Солунского: огромные полые голосники — горшки вкладены были в стены, а и то сегодня глухо, будто бы под тулупом, звучало двухклиросное, многоголосное пенье — глохнул звук, некуда было ему податься.
Андрей-дворский изнемогал. Тиуны, мечники, стража и вся прочая гридь — все, кто под его начало был отдан сегодня, — уже и с ног сбились, ан пролез-таки и простой народ в церковь — что будешь делать?..
Ему, Андрею Ивановичу, сколько людей, поди, завидовало из толпы: вот, мол, этот уж всю свадьбу высмотрит невозбранно, а он, бедняга, даже и глазом не успел глянуть на то, как стояла под венцом брачным Дубравка — та, которую, младенцем ещё, на руках нашивал, та, для которой — ох, ведь словно бы вчерась это было! — он зайчонка серого словил, да и подарил ей, и пуще всех игрушек любила того зайчонка княжна.
«А теперь вот венчают!..» И Андрей Иванович, распоряжаясь и орудуя, нет-нет да и стряхивал туманившую очи слезу на свой малиновый парчовый, с золотыми разводами, кафтан.
...Трепетало и потрескивало многоязычное пламя неисчислимого количества свечей — больших и малых, унизывавших огненными кругами и созвездиями как стоячие пристенные и предыконные свещники, так и висячие на золочёных цепях, многообхватные, серебряные хоросы и паникадила.
Слюдяным блеском отсвечивала мозаика исполинских икон.
Господь Саваоф из недосягаемой златозвёздной голубизны купола как бы простирал над врачующимися багряные воскрылия сверкавших одежд своих.
Сурово взирали с престолов седобородые могучие старцы, окружённые сонмом белокрылых юношей, что теснились позади их престолов, поставленные в строгом порядке, так что взирающему на них белокрылый их строй мнился уходящим в бесконечность.
Выведенные из мрака могил пред грозные очи тех старцев, поднятые трубой Страшного суда жалкие грешники, озябшие, щурясь от непривычного света, прикрывая наготу свою остатками истлевших одежд, трепеща перед последним судилищем, стояли растерянною толпой.
Старики говорили, что среди этой толпы воскресших грешников можно было признать и одного, и другого, и третьего из числа именитых владимирцев — купцов, градских старост и пресветлых бояр покойного Всеволода Юрьевича.
...Венчанье приближалось к концу. Да и хорошо! А то, пожалуй, и не выстоять бы Дубравке!
В белом атласном платье с серебряным кружевом, в золотом зубчатом налобнике, усаженном жемчугами, с туго затянутыми под него волосами, так туго, что даже стучало в висках, Дубравка никла под тяжестью своего подвенечного убранства, уже измождённая и до этого всем тем, что вот уже неделю совершалось над нею всеми этими людьми, из которых каждый — так по крайней мере ей думалось — любил и жалел её.
«Зачем, зачем это они надо мной делают?»
Временами она как бы просыпалась и начинала оживлённо смотреть на то, что совершалось пред нею митрополитом и иереями, и вслушиваться в слова песнопений, но затем сознанье неотвратимого и всё надвигавшегося ужаса обдавало её всю, сердце бросало несколько жарких ударов, и венчальная, белого воску, свеча, обвитая золотой ленточкой, начинала дрожать и клониться в её руке.
Рядом с нею, с такой же точно свечою в руках, гордо, но в то же время сурово и истово стоял, весь в серебряном, парчовом одеянье, князь Андрей Ярославич. Она глянула на его большую, сжатую в кулак вокруг подтаявшей свечи, волосатую, чужую руку — и вдруг ощутила такую смертную тоску, такое отчаянье, что, если бы хоть одно дорогое, близкое ей с детства лицо мелькнуло сейчас в толпе, она бы не выдержала, она с криками и рыданьем кинулась бы из-под венца.
Но никого не увидела она перед собою из близких ей людей.
И она поникла, словно белого, ярого воску свечечка, размягчённая от жаркой, стиснувшей её мужской руки.
Близко перед глазами её сверкала золото-жемчужная, с крупными рубинами митра; белел с детства страшивший её лик владыки, благоухала смоляно-чёрная борода; шурша парчою своих златотканых риз, привычным движением перстов заправляя за ухо длинную прядь умащённых волос, митрополит, ласково улыбаясь, говорил ей что-то, но она лишь с трудом поняла, что это он произносит ей назиданье и поздравленье: что вот, дескать, сподобил его господь сочетать ученицу свою законным браком с благоверным и великим князем русским Андреем, по апостольскому преданию и святых отцов правилам.
Затем возле уст своих она ощутила почти насильно раздвигавший ей губы холодный край хрустального стакана, но, вдохнув запах вина, она невольно сомкнула губы. Однако в это время: «Надпей, надпей!.. Отпить надо!..» — послышался за её спиною шёпот тётки Олёны, и Дубравка, повинуясь, проглотила глоток вина.
Андрей Ярославич взял из её руки кубок, выпил всё и бросил скляницу об пол. Раздался резкий звон тонкого хрусталя, раздробившегося о плитчатый пол. Князь-жених — нет, князь супруг уже, — наступил сапогом на обломки и безжалостно раздавил их.
Так полагалось издревле.
И едва только разнёсся по храму этот хруст раздавливаемой скляницы, как сейчас же радостный и облегчённый вздох прошёл по церкви, и все, дотоле недвижные и молчавшие, подвигнулись, и зашумели, и заговорили.
Брак был свершён.
Первым после владыки подошёл поздравить новобрачных князь Александр.
Дубравка стояла, оглушённая, отдав свою ладонь в крепкую руку Андрея, и смотрела на приближавшегося к ним Александра.
Ярославич-старший приветственным жестом, как бы собираясь заговорить, вскинул раскрытую левую ладонь, улыбнулся и замедлил шаг.
— Брат Андрей, и ты, княгиня... — начал было Невский, но вдруг смолк и кинулся к поникшей и падавшей Дубравке.
Но его опередил Андрей.
Дубравка успела только увидеть и удивиться тому, как беззвучно замелькали стены, купол, столпы — в какой-то белёсой и пёстрой карусели, — и затем вдруг как чугунной заслонкой отсекло всё, и она потеряла сознанье.
Очнувшись, она увидела, что сидит, прислонённая к стене, на скамье для новобрачных, на пышном и мягком ворохе собольих мехов, и что вкруг неё стоят княгиня Олёна и сенные боярыни.
Княгиня Олёна, озабоченно всматриваясь в лицо Дубравки, время от времени опускала свои персты в чашу с водою, которую держала перед нею сенная девушка, побрызгивала с перстов водою лицо княжны...
— Ох, касатка ты моя!.. Льняной ты мой цветочек! — обрадованно воскликнула княгиня Олёна, увидав, что сознанье возвратилось к Дубравке, и принялась отирать ей платком забрызганное лицо.
На свадьбе верховенствовал Александр Ярославич, ибо он был старшим из всех братьев жениха. Однако братья решили просить в посажёные отцы своего дядю, старейшину рода, князя Суздальского, Святослава Всеволодича.
Решено было пренебречь тем весьма неблаговидным обстоятельством, что старик только что вернулся из Донской ставки Сартака, где кляузил на племянников и домогался возврата ему великого княженья Владимирского, когда-то отнятого у него покойным Михаилом Ярославичем.
— Бог с ним, Андрюша! — говорил накануне свадьбы брату своему Невский. — Не только мы его знаем добре, а и Орда. Нет им расчёту в такие руки область отдать! Ничего им тогда не собрать с народа. Весь по лесам укроется. Так что зря он только дары свои истратил в Орде. А нам старика обойти — и свои осудят, да и те же татары занадеются на распри наши... Давай-ка съезди, поклонись: буди, мол, мне в отца место!..
Андрей вспылил:
— Он отца нашего в Орде погубил, брата своего родного! Да что я, не знаю, что ли? Кто Фёдора Яруновича подослал, чтобы на отца нашего насочить хану? И он у меня за отца на свадьбе будет? Да никогда!
Невский гневно прищурился:
— Видно, он твоего отца только погубил, а моего — нет! Да и не столь дядя Святослав, как легат папский Плано-Карпини сгубил отца нашего в Великой орде, когда нарочно суседился к нему, чтобы татары подозревали. Или не знаешь?
И Андрей смирился. Во главе целого посольства он съездил в Суздаль к дяде — бить челом, чтобы тот соизволил не только приехать на свадьбу, но и согласился быть у него посажёным отцом.
Кичливый старик втайне был очень доволен. Любочестие всю жизнь одолевало его! Выслушав Андрея, он долго доил перстами свою могучую седую бороду и молчал.
— Да ведь как же мне, племянничек ты мой дорогой, на этакое великое дело потягнуть? — сказал он. — Ты ведь великой князь ныне!.. — Тут, сквозь слезу, глаза старика блеснули ненавистью, однако от попрёков за отнятое у него княженье он сдержался и продолжал источать ядовитый елей самоуничиженья: — Я ведь вот и ко княженью тупой!.. А тут, шутка ли сказать, двадцать князей съедутся!.. Да и послы из чужих земель...
— Послов не зовём, — угрюмо прервал его Андрей.
Старик был этим обстоятельством разочарован. Однако он продолжил свою витиевато-уклончивую речь: что, дескать, не только одних князей да бояр, но ведь и горожан владимирских употчевать надо будет бесчисленное множество.
— Как бы и здесь мне, старику, не оказаться туну! — ехидно закончил он.
Андрей, с трудом сдерживая гнев, сызнова принялся упрашивать.
Наконец спесивый и злопамятный старец сказал:
— Ну, ин ладно!.. Пожалуешь ко мне завтра со своими... в посольскую палату... А я с боярами со своими подумаю...
А наутро в престольной палате, сидя на престоле своём, в присутствии бояр, сидевших по лавкам, крытым зелёным сукном, Святослав Всеволодич торжественно принял племянника, стоявшего во главе целого посольства.
Андрей без труда разгадал тайный замысел старика. По обычаю, ему, Андрею, надлежало, прося старейшину рода в посажёные отцы, бить ему челом, то есть поклониться земным поклоном. Но, с другой стороны, он, Андрей, был теперь князем стольным Владимирским великим, и ему никак не след было бить челом перед князем подручным, каким являлся теперь Святослав Всеволодич, снова сидевший на своём старом, Суздальском княженье.
Введённый дворецким в престольную палату, Андрей, не останавливаясь, двинулся прямо к престолу под балдахином, где восседал дядя, и ещё мгновенье — ступил бы на ступеньки трона.
Старик побагровел. Он кинул гневный взгляд на советников. Но никто не нашёлся помочь ему.
Тогда Святослав Всеволодич, многоопытный в таких делах, сам нашёлся, как предотвратить неудобное. Он поспешно встал с престола и пошёл навстречу Андрею.
На дорожке красного сукна они встретились и троекратно расцеловались. А тогда и князю Владимирскому не поносно стало завершить свою почтительно-родственную речь родственным челобитьем.
Досадуя, что не удался его замысел, кичливый старик всё же был растроган и, отерев выжатую слезу, перевёл всё дело на сугубо родственную задушевность.
— Что ж, Андрюша... — сказал он, привсхлипнув. — Не пощажу сил, не пощажу сил!.. Али я брату не брат? Мне Ярослав покойный, бывало, говаривал: «Уж ты, Славушка, моих-то не оставляй — Сашу да Андрия, руководствуй ими!»
И старик обнял голову племянника.
Разное говорили в народе, глядя на свадьбу. Когда Дубравка выходила из церкви и шла к своей карете, женщины причитали:
— Ой да словно бы из милости следочком до травки дотрагивается!..
— Да уж и где такая краса родилася?
Хвалили и жениха. Однако вскоре присоединилось и осуждение. Прикрываясь углом головного ярчайшего платка, одна из стоявших на поленнице соседок говорила другой:
— А князь-то у её, Андрей-то, слышь ты, по-за ворогами охочь! Верь! Пьяница. Шальной. Хотя и князь.
Соседка вздыхала:
— Ну, тогда не видать ей счастья! Как, видно, в песне поётся: соболиное одеяльце в ногах, да потонула подушка во слезах! Это уж горькое замужество, когда мужик от тебя на́ сторону смотрит!
— И не говори! Одна, видно, жена будет у него водимая да десять меньшиц!
— Ну и у нас есть которые по́ две жены водят. А он тем более князь!
Среди мужчин слыхать было и другие речи.
— Гляди, как бы за нами не прибежали — на свадьбу княжескую позвать!.. — сказал с издёвкой один из ремесленников.
— Позовут, — ответил другой, — только кого — пиво пить, а нас — печи бить!..
Один старик стоял-стоял перед воротами, опершись на костыль, но потом, видно, разожгло ему сердце — смотреть на всё это княжое да боярское богатство, — он плюнул себе под ноги и хотел уйти.
Другой старик окликнул его:
— Кум, ты куда?
Тот обернулся, глянул и, долго покачивая седой, лысой головой, налаживаясь говорить, вымолвил наконец такое:
— Нет, видно, правда на небо взлетела, а кривда по земле ходит!
И ткнул костылём почти в самое окно проезжавшей мимо раззолоченной кареты так, что боярин, выставивший оттуда красное, толстое лицо, откачнулся в тёмную глубь возка.
Другой старик, не то более осторожный, не то более благодушный, отвечал:
— А я вот на богатство не завидливый. Только сна с ним лишиться!.. Во гроб с собою и князья и бояре ничего не возьмут.
В это время без шапки, словно на пожар, пробился к ним некий ремесленник и, запыхавшись, крикнул во всю мочь:
— Ставят!
— Полно!
— Ей-богу, ставят!
И все вместе, гурьбой, кинулись — проулками, огородами — к ближайшей соборной площади.
И впрямь ставили. Целый обоз телег, нагруженных бочонками и пока ещё замкнутыми деревянными жбанами, тянулся вдоль улицы. Возле него шла сбоку охрана, в малиновых кафтанах и плоских суконных шапках, с длинными топорами на плечах.
Слегка осторонь от них шёл Андрей-дворский. Против каждого десятого дома, по его знаку, возы останавливались, и на травку, возле ворот, сгружался бочонок. на десяток таких бочонков ставился один сторож — чтобы православные не разбили их до поры до времени.
В бочонках тех, в жбанах и в лагуна́х поплёскивали и меды́, и пива́, и самогонное хлебное вино. То делалось и во исполнение слова, произнесённого Невским:
— Народ наш гуляния любит!
Добрая свадьба — неделю! А загул положили в первый же вечер, как прибыли от венца. Гулял весь Владимир.
А хмель-батюшка — богатырь, — он ведь не разбирает, князь ли, боярин ли, ремесленник ли, или же смерд-землепашец: валит с ног — кого наземь, на травку, а кого — на ковры да на расписной, кладеный пол, — только и разницы!
Озаряя, как на пожаре, ярким, с чёрной продымью, светом и дворцы, и терема, и лачуги, по всему Владимиру пылали всю ночь непрерывно сменяемые берестяные светочи. Чтобы самоуправцы не сотворили пожару, ведал сменою факелов особый слуга. Рядом с ним стояла кадушка с водой — гасить догоревший факел.
На улицах свет, так и в душе светлее. И владимирцы загуляли. Забыты были на этот час и земское неустроенье, и татары, и нужда, и недоимки, и насилие немилостивое от князей и от бояр. Били бочки. Черпали кто чем способен. И уже многие полегли.
Изредка не смогший заснуть из-за рёва и хохота какой-либо ветхий старец выходил из калитки, накинув тулупчик, глядел вдоль улицы и, махнув рукой, опять удалялся.
— Такая гудьба идёт! — сообщал он в избе старухе своей, тоже растревоженной.
Вот, озаряемый светом факела, лежит на брюхе в луже вина достойно одетый молодой горожанин. Он отмахивает саженками: якобы плывёт. Он даже поматывает головой и встряхивает русой чёлкой волос из стороны в сторону, как взаправду плывущий.
Окрест стоящие поощряют и подбадривают его:
— Ну, ну, Ваня, плыви, плыви!.. Уж до бережку недалеко...
Парень как бы и впрямь начинает верить.
— Ох, братцы, устал!.. — восклицает он, приподымая красное дурашливое лицо. — Клязьму переплываю!..
...Плясали на улицах под свист, и прихлопыванье, и под пенье плясовых песен, и под звук пастушьей волынки, и восьмиструнной, с тонкими жиляными струнами, кобзы, вроде округлой балалайки.
Играли игры.
Успели подраться — и один на один, и стенка на стенку, и улица на улицу, и цех против цеха[31], и ремесленник на купца!
Однако надзор, учреждённый от князя, был настолько бдителен и суров, что изувеченных и убитых под утро оказалось всего какой-нибудь десяток.
Дворский в ту же ночь побежал доложиться о такой беде самому Александру Ярославичу.
Невский сперва нахмурился. А потом вздохнул и промолвил:
— Ну что ж!.. У меня, в Новгороде, редкое вече без того обходится!..
Всю ночь, как новобрачные прибыли от венца, во дворце великого князя гремел пир. Одних князей, не считая княжичей, было за двадцать. Никто не пренебрёг приглашеньем — все приехали: и Полоцкий, и Смоленский, и Ростовский, и Белозерский, и Рязанский, и Муромский, и Пронский, и Стародубский, и Углицкий, и Ярославский, и прочие.
Обширные гридницы переполнены были орущими и ноющими дружинниками князей, съехавшихся на свадьбу. На сей раз не звоном мечей, а звоном серебряных чаш да заздравных кубков, не кличем битвы, а пиршественными возгласами тешили они княжеский слух. «Выпьем на князя такого-то да на князя такого!» — одна здравица за другой, и уж до того начокались, что дорогими кипрскими, лангедокскими, бургундскими и кахетинскими винами на широком дворе принялись, словно бы студёной водой, приводить в чувство не в меру упившихся товарищей своих, обливая им затылок прямо из горлышка замшелых, с запахом земли, тёмных больших бутылей — из стекла и глины.
Близко этого творилось и в самой пиршественной палате — в самом застолье князей, с их пресветлым боярством. Сперва, в начале пира, господа-бояре, хотя и по росписи было сказано наперёд, кому где сидеть, повздорили малость из-за мест. Дворецкий со стольниками зорко смотрели за благочинием и, чуть что, спешили погасить загоревшуюся ссору. А всё ж таки Гаврило Мирошкинич, из свиты Невского, собою сед, взлысоват, брада невеличка, курчевата, диранул-таки за бороду, белую, густую, на оба плеча распахнутую, другого боярина, из свиты Святослава Всеволодича, — Никиту Бояновича. А тот встал из-за стола да и заплакал.
Вмешался Невский. Слово его было кратко, но вразумительно. И обидчик немедля земным поклоном испросил прощенья у оскорблённого.
А сейчас многие уже упились до того, что иной охотнее занял бы место не в застолье, а под столом.
Убранство палат, застольная утварь, светлые ризы князей и княгинь, бояр и боярынь — всё это, облитое светом тысяч свечей, расставленных и в настольных, и в настенных, и в подвесных свещниках, заставляло время от времени жмуриться: пускай же отдохнёт глаз!..
Расточительная пышность убранства ошеломляла каждого, кто впервые вступал в эти белокаменные палаты, воздвигнутые ещё дедами Невского. Стены и своды были невысоки: Александр — тот при весьма высоком росте своём мог легко дотянуться перстами до расписного погодка; фрески, лианоподобные плетенья, зеркальный камень, резная мамонтовая кость, цветная выкладка — всё это дивно изукрашало стены.
В каждой из палат в породном углу — богато украшенный, неширокий, двухъярусный иконостас. Пред иконами в цветных хрусталях теплились лампады. Окна были невелики, стёкла маленькие, во множестве, в свинцовых переплётах.
Столы огромного чертога были расставлены буквою П — покоем. Крышке этой буквы соответствовал большой, главный стол. Во главе сего стола, на открытом, без балдахина, престоле из чёрного дерева, с прокладкою золотых пластин и моржовых клыков, восседал князь-супруг. Рядом с ним, на таком же, но чуть поменьше престоле по левую руку сидела молодая княгиня.
Первым по правую руку от жениха сидел Александр, рядом с ним — дядя, Святослав Всеволодович, как бы тысяцкий. Затем — митрополит Кирилл во главе высокого духовенства. А ещё далее вправо — званные на свадьбу князья.
Влево от Дубравки сидели княгини. Больше за этим главным столом никому не полагалось сидеть.
Правый боковой стол — «косой» стол, как именовался он в росписи, был усажен боярством. Чем ближе сидел боярин к великому князю, тем, стало быть, сановитей.
Левый «косой» стол был для женщин. Чем ближе сидела боярыня к великой княгине, тем знатнее.
Перед князьями, перед каждым в особицу, вино стояло не в стопе, не в стакане, не в кубке, но в большом турьем роге, оправленном в золото, на золотой же четырёхногой подстанове.
Китайский фарфор, вывезенный Андреем и Александром из Великой орды, — подарок великого хана; фарфор византийский и новгородский отягощал столы вперемежку с хрусталём и огромными золотыми и серебряными блюдами, жаровнями, мисами, которые на первый взгляд показывались как бы тяжёлой и неуклюжей ковки, — словно бы некий исполин пальцами слегка, небрежно обмял, — однако зрелому глазу раскрыто было, что в том-то как раз и затаена была истинная краса всей этой пиршественной посуды, призванной поддерживать на себе иной раз целого жареного вепря или же лебедей.
До сотни достигало количество яств, подаваемых на пиру. Необозрим и неисчерпаем был питейный княжеский поставец; и бургундское, и рейнское, и Канарское, и аликант, и мальвазия, и французское белое, и грузинское красное, и множество других вин зарубежных.
По иному боярину всего этого и даром не ладо, а подай ему зелена вина, русского, своего, — чтобы с груздочком его; другой же гость крепкое и с благоуханием любит, — такому настойки: вот тебе — померанцевая, анисовая, гвоздичная, двойная, тройная, кишенцовая, полынная, кардамонная. Господи, да разве переберёшь все!
Зачин столу всегда полагали закуской. Сперва — рыбное. И в первую очередь — к водке — многоцветная русская икра — это вечное вожделение чужеземцев! На пирах и обедах и немецкие и прочие гости прежде всего кидалися на икру. Дар вожделенный и многовесомый в политике была эта русская икра: черпая и красная, разных засолов — и осетровая, и белужья, и щучья, и лицевая, и стерляжья, и севрюжья. Многое мог сделать бочонок чёрной икры в гостинец и у императоров византийских, и у патриарха константинопольского, и у короля Латинской империи, и у императора Германии, да и у самого Батыя!
Рядом с икрою, столь же прославленные и на чужбине, ставились рыбьи пластины, пруты — осетровые, белужьи, стерляжьи, иначе говоря — балыки.
Для митрополита, лично, — ибо строгий и неуклонный был постник — было сверх того приказано изготовить: горох тёртый под ореховым маслом, грибы с лимоном и с миндальным молоком да грибы в тесте с изюмом да с мёдом цежёным.
Для князей, для бояр, для княгинь и боярынь подавали горячие, богатые щи и всевозможные жаркие. Этих тоже было невперечёт: и говядина, и баранина, и гусь, и индейка, и заяц, и тетерев, и рябчики, и утки, и куропатки, и всё это под всевозможными взварами — из всех пряностей земных. Однако же начался к ним приступ с испечённых лебедей. На каждое из трёх застолий было подано по лебедю. Исполинские птицы испечены были так, что якобы осталась нетленной вся белизна и красота оперенья. Двое слуг, клонясь набок под большим золотым поддоном, на котором высился лебедь, сперва обносили его перед глазами гостей, а затем ставили в соседней передаточной палате на стол перед главным поваром. Тот с помощью ножниц снимал оперенье, раскладывал уже заранее расчленённую на приказанное число кусков изжаренную птицу, и тотчас же целая стая одетых как бы в золототканые подрясники поварят-подавальщиков, ловко изгибаясь перед всяким встречным препятствием, стремительно обносила всех гостей лебедятиной.
Невесте с женихом полагался, по древним обычаям, «царский кус» — лебединые папоротки, то есть локтевой сустав лебяжья крыла, тот, что в две косточки.
Тут, по знаку Святослава Всеволодича, все повставали со своих мест и подняли кверху кубки, полные до краёв, и надпил каждый, а затем, оборотясь к невесте, заорали: «Горько, горько!..»
Дубравка, зардевшись и потупя ресницы, позволила князю-супругу поцеловать её в никем, кроме отца с матерью, не целованные уста.
Тут ещё больше все закричали, опорожнили стаканы, чаши и кубки, и тотчас же бдительно следивший за своим делом виночерпий — боярин, поставленный наряжать вино, — приказал сызнова их наполнить.
Всё шло размеренно и чинно, подобно теченью планет.
Пресветлый тысяцкий и водитель свадьбы Святослав Всеволодич сидел бок о бок с митрополитом Кириллом. Владыка всея Руси, и в самом деле довольный исполнением давних мечтаний — своих и Даниила Романовича: Дубравка — в замужестве за великим князем Владимиро-Суздальской земли, и отныне уж никакая сила не сможет этого повернуть вспять, а кроме того, и желая сказать приятное нечто старому князю, вражду коего с Невским ему уже давно хотелось чем бы то ни было затушить, произнёс довольно громко, чтобы и сидевшие поблизости тоже слышали:
— И весьма счастлив аз, недостойный, что на сём торжестве бракосочетанной мною питомицы моей так всё течёт достойно, благолепно и выспренне!..
Святослав Всеволодич гордо откинулся, заправил левую ладонь под свою обширную тупую бороду, погладил её снизу вверх и многозначительно отвечал:
— Справедливо изрёк, владыко!.. Что ж, молодость плечами покрепче, а старость — головою!..
И сам, своей собственной рукой, направил в хрустальный стакан владыки багряную благовонную струю.
...Уж подали груши, виноград и всевозможные усладеньки и заедки: груды цветных сахаров, леденцов, винных ягод, изюму, коринки, фиников, лущёных грецких орехов, миндальных ядер и арбузные и дынные полосы, сваренные в мёду.
Застолье длилось от полудня и до полуночи! Почти непрерывно на хорах гремела музыка: били в серебряные и медные трубы; свиристели малые, одним человеком надуваемые через мехи, серебряные органы; бряцали арфисты и гусляры; восклицали тимпаны...
Пировали не в один приступ, но с передышкою, подобно тому как не одним приступом берут широкотвердынный город. Уже многие из тех, кто ещё недавно готов был драть бороду из-за места, уступили сейчас это своё драгоценное место, правда не без борьбы, всепобеждающему боярину — Хмелю: тихо опустились под стол и там похрапывали, укрытые скатертью от всех взоров.
Но ещё много ратовало доблестных седобородых борцов.
Гриньку Настасьина это и смешило и удивляло. «Вот ведь чудно! — думал он, стоя позади кресла Александра Ярославича с серебряным топориком на плече, как полагалось меченоше. — Ведь уж старые, седые, а напились-то как!»
Однако он и бровью не повёл и стоял чинно и строго, как его учил старый княжеский дворецкий. Гринька исполнен был гордости. Как же! Сам Невский сказал ему: «Ну, Настасьин, будь моим телохранителем, охраняй меня: времена ныне опасные!»
Издали Гринька напоминал сахарное изваяние: он весь был белый. На голове его высилась горностаевая шапка, похожая по очертаниям на опрокинутое белое и узкое ведёрко. Кафтан со стоячим воротом тоже был из белого бархата.
И за креслом Андрея Ярославича тоже стоял свой мальчик-меченоша. Но разве же сравнить его с Гринькой!
Вдруг от внешнего входа, из сеней, послышались глухие голоса ссоры, как бы попытка некой борьбы, топот, жалобный вскрик. Затем, покрывая весь шум, донёсся гортанный, с провизгом, голос, кричавший что-то на чужом языке.
Бороды так и позастывали над столом.
Невский вслушался. Он глянул на брата и в гневном недоуменье развёл руками.
— Татарин крычит!.. — проговорил он.
Дубравка выпрямилась и застыла. У неё даже губы сделались белыми...
Стремительно пройдя до середины пиршественной палаты — так стремительно, что даже слышен был свистящий шелест цветастого шёлкового халата, — молодой, высокого роста монгол с высокомерным смуглым лицом, на котором справа белел длинный шрам от сабли, надменно и вызывающе остановился перед большим столом, как раз насупротив жениха и невесты.
— Здравствуй! — по-татарски произнёс он, с озорной наглостью обращаясь к Андрею Ярославичу.
Меховые уши треухой шапки татарина были полуспущены и торчали в стороны, слегка покачиваясь, словно чёрные крылья летучей мыши.
Александр и Андрей — оба сразу же узнали его: это был татарский царевич Чаган, богатырь и военачальник, прославленный в битвах, но злейший враг русских, так же как дядя его, хан Берке.
«Ну, видно, не с добром послан!» — подумалось Невскому. И, ничем не обнаруживая своей суровой настороженности, Александр приготовился ко всему.
Всеобщее молчание было первым ответом татарину.
Гринька Настасьин кипел гневом. «Вот погоди! — в мыслях грозился он Чагану. — Как сейчас подымется Александр Ярославич да как полыснет тебя мечом, так и раскроит до седла!»
Правда, никакого седла не было. Гринька знал это, но так уж всегда говорилось в народе про Александра Ярославича: «Бил без промаха, до седла!» «А может быть, он мне велит, Александр Ярославич, обнажить меч? Ну, тогда держись, татарская морда!..» — подумал Гринька и стиснул длинную рукоять своего серебряного топорика, готовясь ринуться на Чагана.
А тот, немного подождав ответа, продолжал с ещё более наглым видом:
— Кто я, о том вы знаете. У нас, у татар, так повелено законом «Ясы»: когда проезжаешь мимо и видишь — едят, то и ты слезай с коня и, не спрашивая, садись и ешь. И да будет тому худо, кто вздумает отлучить тебя от котла!
И тут вдруг, к изумлению и обиде Настасьина, не Александр Ярославич выступил с гневной отповедью татарину, а Андрей. Он порывисто встал со своего трона и с налитыми кровью глазами, задыхаясь от гнева, крикнул Чагану:
— А у нас... у народа русского, с тех пор как вы, поганые, стали на нашей земле, такое слово живёт: «Незваный гость хуже татарина!..»
Рука Андрея сжалась в кулак. Ещё мгновенье — и князь ринулся бы на Чагана. Тот видел это. Однако стоял всё так же надменно, бесстыдным взглядом озирая Дубравку. Рослые, могучие телохранители его — хорчи — теснились у косяков двери, ожидая только знака, чтобы броситься на русских.
Андрей Ярославич, намеревавшийся миновать кресло брата, ощутил, как вкруг запястья его левой руки словно бы сомкнулся тесный стальной наручник: это Александр схватил его за руку.
Он понял этот незримый для всех приказ старшего брата и подчинился. Вернулся на своё кресло и сел.
Тогда спокойно и величественно поднялся Невский.
Благозвучным голосом, заполнившим всю палату, он обратился по-татарски к царевичу.
— Я вижу, — сказал Александр, — что ты далёк, царевич, от пути мягкости и скромности. И я о том сожалею... Проложи путь дружбы и согласия!.. В тебе мы чтим имя царёво, и кровь, и кость царскую... Ты сказал, что «Яса» Великого Воителя, который оставил по себе непроизносимое имя, повелевала тебе совершить то, что ты сейчас совершил. Но и у нас, русских, существует своя «Яса». И там есть также мудрые речения. И одно из них я полностью могу приложить к тебе. Оно гласит: «Годами молод, зато ранами стар!..»
Невский остановился и движеньем поднятой руки указал на белевший на щеке царевича рубец.
И словно преобразилось лицо юного хана. Уже и следа не было в нём той похотливой наглости, с какою он глядел на Дубравку, и того вызывающего высокомерия, с которым он озирал остальных.
Ропот одобрения донёсся из толпы стоявших у входа телохранителей Чагана.
А Невский после молчанья закончил слово своё так:
— Ты сказал, войдя, что мы знаем тебя. Да, мы знаем тебя. Юная рука, что от плеча до седла рассекла великого богатыря тангутов — Мухур-Хурана, — эта рука способна сделать чашу, которую она примет, чашею почести для других... Прими же от нас эту чашу дружбы и испей из неё!..
Александр поднял серебряный, полный до краёв кубок, отпил из него сам и протянул царевичу, сам в то же время сходя со своего места, дабы уступить его гостю.
Взволнованный, как видно это было и по лицу его, ордынский царевич склонился в поясном поклоне, приложа руки к груди.
Потом, распрямившись и вновь обведя взором весь пиршественный чертог, он сказал по-татарски:
— Русские — народ великий, многочисленный, сильный и высокорослый. Однако наш народ господь несёт на руках, подобно тому как сына своего единственного отец носит. И только потому мы взяли над вами победу... Но ты, Искандер, — кто не почтит тебя?! Имя твоё уважается между четырёх морей. Рука твоя — это берег и седалище сокола!.. Батый — да будет имя его благословенно — недаром держит тебя возле сердца своего...
Сказав это, он двинулся в обход боковых столов к предназначаемому для него месту, от которого уже шёл ему навстречу Александр.
Проходя мимо телохранителей своих, царевич Чаган на мгновенье остановился и позвал:
— Иргамыш!.. Бурултай!..
Двое луконосцев немедленно подошли к нему. Он сказал им несколько отрывистых слов, затем отвернулся и пошёл, улыбаясь, навстречу Александру.
Дубравка как бы мгновенье колебалась, но затем решительно встала и покинула свадебное застолье. Княгиня Олёна последовала за ней.
Невский видел всё это, и тень тревоги и неудовольствия прошла по его лицу. Но он сдержался и рука об руку с царевичем прошёл в застолье большого стола.
Царевич осведомился у Александра: куда исчезла молодая княгиня и не испугалась ли она его прихода? Александр заверил, что княгиня слабого здоровья, к тому же только что свершила великий путь, и сейчас ей стало дурно, и та, что ей вместо матери, увела её отдыхать.
Чаган показал вид, что поверил словам Невского, но про себя подумал:
«Нет, слишком рано эта старая баба Батый одряхлел и оставил путь войны и непременного добивания врага — путь, завещанный дедом. Этот князь обошёл его! С таким вот, как этот, — подумал он, искоса глянув на Невского, — разве так следует обходиться? Барс, но со всею хитростью лисицы!..»
Однако вслух он, вежливо улыбаясь, сказал, нагибаясь в сторону Александра:
— Ты прикажи ей, Искандер, пить кумыс!..
...Дверь распахнулась, и телохранители ордынца, уже успевшие переоблачиться в халаты поновее и поярче, внесли свадебные подарки для невесты от царевича Чагана.
Подарками этими были: толстый, тяжёлый свёрток тёмно-вишнёвого шёлка, резная костяная шкатулка, полна я жемчужных зёрен, и, наконец, серебряная колыбель под парчовым одеялом.
Это были поистине царственные дары! Несмотря на строгое соблюденье благочиния придворных застолий, на этот раз многие из княгинь и боярынь привстали со своих мест, дабы лучше рассмотреть подарки ордынского царевича.
Эти три подарка давно уже предназначались Чаганом не кому другому, как самой ханше Кототе, старшей супруге великого хана Менгу. Царевич знал: это даренье могло бы вознести его на ступени, ближайшие к престолу Менгу. Он дышал бы тогда, быть может, в самое ухо императора!.. И вдруг, не то опьянившись лестью русского князя-богатыря, не то красотой Дубравки, он совершил явное неразумие!..
«Но ничего, ничего!.. Быть может, эту самую серебряную колыбель ты вскоре станешь качать в моей кибитке, Дубравка-хатунь!.. Быть может, склоняясь над этой колыбелью, ты к губам моего сына, рождённого тобою на войлоке моей кибитки, будешь приближать рубины своих сосцов, источающих молоко».
Так прозвучали бы на языке русском потаённые помыслы юного хана, если бы толмач смог заглянуть в его мозг.
Внезапно он поднялся со своего места и торопливо обернулся к удивлённому Александру.
— Прости, Искандер-князь, — сказал он. — Я должен уйти. Не обижайся. Прошу тебя, передай Дубравке-хатунь, что мы весьма сожалели, что не смогли дождаться восхождения луны лица её над этой палатою, где стало так темно без неё. Скажи ей, что я буду присылать для неё лучший кумыс от лучших кобылиц своих... Прощай!..
Уж первые петухи голосили, а в хоромах не переставал пир. Уж многие, кто послабже, постарше, успели поотоспаться в дальних покоях и теперь снова, как будто молодильного яблочка отведав, начинали второй загул: добрая свадьба — неделю!..
Пир передвинулся теперь в соседнюю, свободную от столов палату. Молодёжь рвалась к пляске! Да и старики тоже не сплоховали: добрый медок поубавит годок!
Сама невестина сваха, княгиня Олёна Волынская, и та прошлась павою, помахивая аленьким платочком вокруг позвавшего её тысяцкого — князя Святослава Всеволодича. Старик притопывал неплохо, хотя — что греха таить! — у дебелого и седовласого старца плясали больше бровь да плечо.
Вдруг среди народа, сгрудившегося по-за кругом, в толще людской, словно ветром передохнуло из уст в уста:
— Ярославич пошёл!
А когда говорили: «Ярославич», то каждый понимал, что это об Александре.
И впрямь это он, Александр, вывел на круг невесту...
Дивно были одеты они!
На Дубравке жемчужный налобничек и длинное, из белого атласа, лёгким полукругом чуть приподнятое впереди платье. Одежда как бы обтекала её стройное девическое тело.
Невский, перед тем как выступить в круг, отдал свой торжественный княжой плащ и теперь шёл в пляске одетый в лиловую, высокого покроя рубаху тяжёлых шелков, с поясом, усаженным драгоценным камением.
Синего тончайшего сукна шаровары, в меру уширенные над коленом, красиво сочетались с высокими голенищами сине-сафьяновых сапог.
...Как кружится камень в праще, вращаемой богатырской рукою, так стремительно и плавно неслась Дубравка вкруг, казалось бы, недвижного Александра.
Высокий, статный, вот он снисходительно протягивает к ней могучие свои руки и, усмехаясь, чуть приоткрывая в улыбке белые зубы, как бы приманивает её, зная, что не устоять ей, что придёт. И она шла!..
И тогда как бы ужас осознанного им святотатства веял ему в лицо, исчезала улыбка, и он, казалось, уже готов был отступиться от той, которую так страстно только что называл на себя. Но в краткий миг улыбка лукаво-победоносного торжества перепархивала на её алые, словно угорская черешня, рдяные губы, и, обманув Александра, она снова от него удалялась.
Словно взаимное притяженье боролось в этой пляске с вращательным центробежным стремлением, грозившим оторвать их друг от друга, и то одно из них побеждало, то другое.
Ещё не остывший от пляски, когда не утихли ещё восторженные возгласы и плесканье ладоней, Александр заметил, что владыка всея Руси мерной, величественной поступью, шурша васильковым шёлком своих до самого полу ниспадающих риз, идёт, высясь белым клобуком, прямо к сидящей на своём полукресле-полупрестоле Дубравке.
«Что это? — мелькнуло в душе Ярославича. — Быть может, я неладное сотворил, невесту позвав плясати? Но ужели он, умница этот, тут же, при всех, сделает ей пастырское назиданье?»
И, желая быть наготове, Александр Ярославич подошёл поближе к митрополиту и к Дубравке.
Обеспокоился и Андрей.
Да и князья, и бояре, и супруги их, и все, кто присутствовал сейчас в палате, тоже повернулись в их сторону.
Когда митрополит был уже в двух шагах от неё, Дубравка, вспомнив затверженное с детства, встала и подошла мод благословение.
Митрополит благословил её.
— Благословенна буди в невестах, чадо моё! — громко сказал он. — Однако об одном недоумеваю. Мы читывали с тобою Гомера, и Феокрита, и Прокопия Кесарийского, и Пселла-философа, и многих-многих других. Различным наукам обучал я тебя в меру худого разумения моего... Но ответствуй: кто же учил тебя этому дивному искусству плясания?
— Терпсихора, свитый владыко, — с чуть заметной улыбкой отвечала Дубравка.
Меж тем приближалось отдаванье невесты. Свершить его надлежало Александру.
Невеста с немногими своими и жених с немногими своими, в последний раз испрося благословения у владыки, прошли по изрядно опустевшим покоям, где ещё пировали иные неукротимые бражники, другие же, уже поверженные хмелем, почивали бесчувственным сном прямо на полу, кто где упал.
Шествие, предваряемое протопопом, который волосяною кистью большого кропила окроплял путь, приблизилось наконец к порогу постельных хором, так называемому сеннику. Здесь надлежало расстаться, отдать невесту.
...Александр Ярославич остановился спиною к двери, лицом к молодым. И тишина вдруг стала. Лишь потрескивали в больших золочёных свещниках, держимых дружками, большие, ярого воску свечи.
Невский принял из рук иерея большой тёмный образ, наследственный в их семье, — образ Спаса — ярое око[32], и поднял икону.
Андрей и Дубравка опустились перед ним на колени. Он истово благословил их... Отдал икону. Новобрачные поднялись. Они стояли перед ним, потупя взоры.
Тогда Александр глубоко вздохнул, уставя на брате властный взор, и произнёс:
— Брат Андрей! Божиим изволением и нашим, в отца место, благословением велел бог тебе ожениться, взять за себя княгиню Аглаю. И ты, брат Андрей, свою жену, княгиню Аглаю, держи по всему тому святому ряду и обычаю, как то господь устроил!..
Он поклонился им обоим, и взял её, княгиню, за руку, и стал отдавать ему, брату Андрею, княгиню его...
И тогда только, глянув в его синие очи, поняла Дубравка, что всё, что до сих пор творили вокруг неё эти старшие, — это они не над кем-то другим творили, а над нею.
Глаза её — очи в очи — встретились с глазами Александра. Он внутренне дрогнул: в этих детских злато-карих глазах стоял вопль!.. «Помоги, да помоги же мне, — ты такой сильный!..»
Ей чудилось в этот миг, Дубравке, что белёсо-мутный поток половодья несёт, захлёстывает её, колотит головой обо что ни попало, и вот уже захлёбывается, и вот уже утонуть!..
Проносимая мимо берега, видит она: стоит у самого края, озарённый солнцем, тот человек, которому, едва услыхав его имя, уже молилась она. Он увидел её, заметил, несомую потоком, увидел, узнал... Он склоняется над рекою... протягивает к ней свою мощную длань. Она тянется руками к нему... И вдруг своею тяжкой десницей, опущенной на её голову, он погружает её и топит...
Всё это увидел, глянув в душу её, Александр...
А что же в его душе? А в его душе было то, что в ней было бы, если бы и впрямь, некиим сатанинским наитием, над каким бы то ни было тонущим ребёнком он, Александр, только что совершил такое!..
На перстневом, безымянном пальце князя Александра сиял голубым пламенем драгоценный камень. Шуршали пергаменты, то стремительно разворачиваемые Невским, то вновь им сворачиваемые.
Поодаль, слева, так, чтобы легко дотянуться, высится стопка размягчённой бересты — для простого письма: по хозяйству и для разных поручений.
В двух больших стоячих бронзовых свещниках — справа и слева от огромного, чуть наклонного стола, с которого вплоть до самого полу ниспадало красное сукно, — горели шестерики свечей. Они горели ярко, спокойно, не встрескивая, пламя стояло. За этим неусыпно следил тихо ступавший по ковру мальчик. Был он светловолос, острижен, с чёлкой; в песочного цвета кафтанчике, украшенном золотою тесьмою, в сапожках. В руках у отрока были свечные щипцы — съёмцы, — ими он и орудовал, бережно и бесшумно.
Вот он стоит в тени (чтобы не мешать князю), слегка прислонился спиною к выступу изразцовой печи и смотрит за пламенем всех двенадцати свеч. Вот как будто фитилёк одной из них, нагорев, пошёл книзу чёрною закорючкою. У мальчика расширяются глаза, он как бы впадает в охотничью стойку, и — ещё мгновенье — он, став на цыпочки и закусив губу, начинает красться к тому шестисвещнику, словно бы к дичи. Он заранее вытягивает руку со щипцами и начинает ступать ещё бережнее, ещё настороженнее.
Невский, несмотря на всю свою занятость спешной работой, взглядывает на паренька, улыбается и покачивает головой. Затем вновь принимается за работу. В правой руке Александра толстая свинцовая палочка. Просматривая очередной свиток, князь время от времени кладёт этой заострённой палочкой на выбеленной коже свитка черту, иногда же ставит условный знак для княжего дьяка и для писца.
Время от времени он берёт тщательно обровненный кусок размягчённой бересты и костяной палочкой с острым концом пишет на бересте, выдавливая буквы. Затем откладывает в сторону и вновь углубляется в свитки пергамента...
Работа закончена. Александр откидывается на спинку дубового кресла и смотрит на тяжёлую, темно-красного сукна завесу окон: посредине завесы начали уже обозначаться переплёты скрытых за нею оконниц. Светает. Александр Ярославич нахмурился и покачал головой.
Мальчик случайно заметил это, и рука его, только что занесённая над чёрным крючком нагара, так и застыла над свечкой. Он подумал, что работа его обеспокоила князя.
— Ничего, ничего, Настасьин, — успокаивает его
Александр, мешая в голосе притворную строгость с шуткой, дабы ободрить своего маленького свечника.
Тот понял это, улыбается с блаженством на лице снимает щипцами вожделенную головку нагара.
— Подойди-ка сюда! — приказывает ему князь.
Мальчуган так, со щипцами в руке, и подходит.
— Ещё, ещё подойди, — говорит Невский, видя его несмелость.
Гринька подступает поближе и становится возле подлокотника кресла, с левой стороны. Александр кладёт свою большую руку на его худенькое плечо.
— Ну, млад-месяц, как дела? — спрашивает князь. — Давненько мы с тобой не беседовали!.. Нравится тебе у меня, Настасьин?
— Ндравится, — отвечает Гринька и весело смотрит на князя.
Тут Невский решительно не знает, как ему продолжать дальнейший разговор: он что-то смущён. Кашлянул, слегка нахмурился и продолжал так:
— Пойми, млад-месяц... Вот я покидаю Владимир: надо к новгородцам моим ехать опять... Думал о тебе: кто ты у меня? Не то мечник, не то свечник! — пошутил он. — Надо тебя на доброе дело поставить, и чтоб ты от него весь век свой сыт-питанен был!.. Так-то я думаю... А?
Гринька молчит.
Тогда Невский говорит уже более определённо и решительно:
— Вот что, Григорий, ты на коне ездить любишь?
Тот радостно кивает головой.
— Я так и думал. Радуйся: скоро поездишь вволю. на новую службу тебя ставлю.
У мальчика колесом грудь. «Вот оно, счастье-то, пришло! — думает он. — Везде с Невским самим буду ездить!..» И в воображении своём Гринька уже сжимает рукоять меча и кроит от плеча до седла врагов Русской Земли, летя на коне на выручку Невскому. «Спасибо тебе, Настасьин! — благостным, могучим голосом скажет ему тут же, на поле битвы, Александр Ярославич. — Когда бы не ты, млад-месяц, одолели бы меня нынче поганые...»
Так мечтается мальчугану.
Но вот слышится настоящий голос Невского:
— Я уж поговорил о тебе с князем Андреем. Он берёт тебя к себе. Будешь служить по сокольничему пути: целыми днями будешь на коне!.. Ну, служи князю своему верно, рачительно, как мне начинал служить...
Голос Невского дрогнул. Он и не думал, что ему так жаль будет расставаться с этим белобрысым мальчонкой.
Белизна пошла по лицу Гриньки. Он заплакал.
Больше всего на свете Невский боялся слёз — ребячьих и женских. Он растерялся.
— Вот те на!.. — вырвалось у него. — Настасьин?.. Ты чего же, не рад?
Мальчик, разбрызгивая слёзы, резко мотает головой.
— Да ведь и свой конь у тебя будет. Толково будешь служить — то князь Андрей Ярославич сокольничим тебя сделает!..
Гринька приоткрывает один глаз — исподтишка вглядывается в лицо Невского.
— Я с тобой хочу!.. — протяжно гудит он сквозь слёзы и на всякий случай приготовляется зареветь.
Невский отмахивается от него:
— Да куда ж я тебя возьму с собою? В Новгород путь дальний, тяжкий. А ты мал ещё. Да и как тебя от матери увозить?
Увещевания не действуют на Гриньку.
— Большой я, — упорно и насупясь возражает Настасьин. — А мать умерла в голодный год. Я у дяди жил. А он меня опять к Чернобаю отдаст. А нет — так в куски пошлёт!..
— Это где ж — Куски? Деревня, что ли? — спрашивает Александр.
Даже сквозь слёзы Гриньку рассмешило такое неведение князя.
— Да нет, пошлёт куски собирать — милостыню просить, — объясняет он.
— Вот что... — говорит Невский. — Но ведь я же тебя ко князю Андрею...
— Убегу я! — решительно заявляет Гринька. — Не хочу я ко князю Андрею.
— Ну, это даже невежливо, — пытается ещё раз убедить упрямца Александр. — Ведь князь Андрей Ярославич родной брат мне!
— Мало что! А я от тебя никуда не пойду! — уже решительно, по-видимому заметив, что сопротивление князя слабеет, говорит Настасьин.
— Только смотри, Григорий, — с притворной строгостью предупреждает Невский, — у меня в Новгороде люто! Не то что здесь у вас, во Владимире. Чуть что сгрубишь на улице какому-нибудь новгородцу, он сейчас тебя в мешок с камнями — и прямо в Волхов.
— А и пущай! — выкрикнул с какой-то даже отчаянностью в голосе Гринька. — А зато там, в Новгороде, воли татарам не дают! Не то что здесь!
И, сказав это, Гринька Настасьин опустил длинные ресницы, и голосишко у него перехватило.
Невский вздрогнул. Выпрямился. Брови его сошлись. Он бросил испытующий взгляд на мальчика, встал и большими шагами прошёлся по комнате.
Когда же в душе его отбушевала потаённая, подавленная гроза, поднятая бесхитростными словами деревенского мальчика, Александр Ярославич остановился возле Настасьина и, слегка касаясь левой рукой его покрасневшего уха, ворчливо-отцовски сказал:
— Вот ты каков, Настасьин! Своим умом дошёл?
— А чего тут доходить, когда сам видел! Татарин здесь не то что в избу, а и ко князю в хоромы влез, и ему никто ничего!
Князь попытался свести всё к шутке:
— Ну, а ты чего ж смотрел, телохранитель?!
Мальчик принял этот шутливый попрёк за правду.
Глаза его сверкнули.
— А что бы я посмел, когда ты сам этого татарина к себе в застолье позвал?! — запальчиво воскликнул Гринька. — А пусть бы только он сам к тебе сунулся, я бы его так пластанул!..
И, вскинув голову, словно молодой петушок, изготовившийся к драке, Гринька Настасьин стиснул рукоять воображаемой секиры.
«А пожалуй, и впрямь добрый воин станет, как подрастёт!» — подумалось в этот миг Александру.
— Ну что ж, — молвил он с гордой благосклонностью, — молодец! Когда бы весь народ так судил...
— А народ весь так и судит!
— Ого! — изумился Александр Ярославич. — А как же это он судит, народ?
— Не смею я сказать... ругают тебя в народе... — Гринька увёл глаза в сторону и покраснел.
Ярославич приподнял его подбородок и глянул в глаза.
— Что ж ты оробел? Князю твоему знать надлежит — говори!.. Какой же это народ?
— А всякий народ, — отвечает, осмелев, Настасьин. — И который у нас на селе. И который в городе. И кто по мосту проезжал. Так говорят: «Им, князьям да боярам, что! Они от татар откупятся. Вот, говорят, один только из князей путный и есть — князь Невский, Александр Ярославич, он и шведов на Неве разбил, и немцев на озере, а вот с татарами пачкается, кумысничает с ними, дань в Татары возит!..»
Невский не смог сдержать глухого, подавленного стона. Стой этот был похож на отдалённый рёв льва, который рванулся из-под рухнувшей на него тяжёлой глыбы. Что из того, что обрушилась эта глыба от лёгкого касания ласточкина крыла? Что из того, что в слове отрока, в слове почти ребёнка, прозвучало сейчас это страшное и оскорбительное суждение народа?!
Александр, тихо ступая по ковру, подошёл к Настасьину и остановился.
— Вот что, Григорий, — сурово произнёс он. — Довольно про то! И никогда, — слышишь ты, — никогда не смей заговаривать со мной про такое!.. Нашествие Батыево!.. — вырвался у Невского горестный возглас. — Да разве тебе понять, что творилось тогда на Русской Земле?! Одни ли татары вторглись!.. То была вся Азия на коне!.. Да что я с тобой говорю об этом! Мал ты ещё, но только одно велю тебе помнить: немало твой князь утёр кровавого поту за Землю Русскую!..
Окончив укладку грамот в дорожный, с хитрым затвором сундучок, Александр Ярославич вновь садится в кресло и, понуря голову, устало, озабоченным движением перстов потирает нахмуренное межбровье. Затем взгляд его обращается на поставленные на особом стольце большие песочные часы. Песок из верхней воронки уже весь пересыпался в нижнюю, — значит, прошли сутки. Теперь следует перевернуть прибор — нижняя, наполненная песком воронка теперь станет верхней, а верхняя, опустевшая, станет нижней, и всё пойдёт сызнова.
«Когда бы так вот и жизнь паша, человеческая...» — думает Александр, глядя на эти часы, по образцу коих он и в Новгороде приказал стекляннику выдуть в точности такие же. Уставшая мысль князя созерцает как бы текущие вспять видения. Знойные, жёлтые пески Гоби... караван двугорбых верблюдов... бедствия многотысячевёрстного пути в Китай, через Самарканд и Монголию, в свите Сартака, вместе с братом Андреем... Поклонение великому хану Менгу... Каракорум... Почти полугодовое путешествие по неизмеримому Китайскому государству, которое только что отъято монголами у немощных императоров китайских. Встреча в Бейпине с Ели-Чуцаем, мудрым последователем Конфуция, с человеком, которому монгольская держава обязана существованьем своим едва ли не более, чем Чингисхану, ибо если бы не этот пленный китайский сановник, приведённый сперва к Чингису с волосяной петлёй на шее, то что же бы сделать мог далее дикарь Чингисхан! Сгрудив под собою обломки разрушенных его кочевыми ордами государств, он так бы и погибнул на этих обломках, зарезанный или удавленный кем-либо из подросших сыновей, оставя по себе лишь чёрную славу молота, раздробившего империю китаев. Без Ели-Чуцая не завоевать бы Чингису и Хорезма!
Но тем был велик гонитель народов, что в жалком пленном китайце, в рабе с верёвкой на шее, которого нукеры уже собирались повесить, он, Чингис, прозрел обширный ум державостроителя, законоведа и возлюбил паче всех этого бескорыстного, и чистого совестью, и бесстрашного, как Сократ, китайского мудреца. И не постыдился Потрясатель вселенной, и не устрашился ропщущих — и сделал пленника и раба почти соправителем своим!.. И тот созидал ему державу, тем временем как сам Чингис ширил пределы её!.. А вот уже сыны Чингиса[33] прогнали и унизили китайского мудреца, которому столь многим обязаны... Внуки же — этот оплывший кумысный турсук Менгу, подручник Батыя, — хотя и платят былому соправителю деда жалкое пособие и время от времени шлют к нему сановников своих за советом в Бейпин, однако вовсе не понимают, что, оттолкнув Ели-Чуцая, никто из них, будь он трижды великий полководец, не повторит собой Чингисхана.
Александр Ярославич тогда, два года тому назад, нарочно посетил опального старца в Бейпине.
И Ели-Чуцай подарил Невскому эти песочные часы.
— Помни, князь, — сказал при этом старый китаец, — хотя бы ты и разбил это хрупкое мерило времени, но перестанет течь лишь песок, а не время!..
И Александр никогда не забывал этих слов мудрого конфуцианца.
Вот и сейчас Невский, которого взгляд остановился на стеклянных вместилищах песка, отсчитывающих жизнь, вдруг как бы вздрогнул и спохватился.
— Худо... — пробормотал он с досадой, потирая лоб. — Пожалуй, опять не засну!.. Уж не захворал ли я?.. А ведь выспаться ох как надо!..
Он обернулся к мальчику:
— Вот что, Настасьин, пойди к лекарю Абрагаму и скажи, что я зову его.
Мальчик просиял и подобрался.
— Разбудить? — спросил он решительно.
— Не спит он. Ступай! — с некоторым раздражением отвечал Невский.
Вошёл доктор Абрагам — высокий и худощавый старец лет семидесяти. У него было красивое тонкое лицо, очень удлинённое узкой и длинной, словно клинок кинжала, белой бородой. И борода, и редкие седые кудри, прикрытые на затылке угловатой шапочкой, казались особенно белыми от чёрной бархатной мантии и огромных чёрных глаз еврея.
Белый полотняный воротничок, как бы сбегая на грудь двумя бахромчатыми струйками, сходился в острый угол. На строгой одежде старика не виднелось никаких украшений, лишь на левой руке блистал золотой перстень с большим рубином.
Александр Ярославич встал и приветливо повёл рукою на кресло, стоявшее обок стола.
Доктор Абрагам был врачом их семьи уже свыше двадцати лет. Когда-то он по доброй воле сопровождал князя Ярослава Всеволодича в страшный, доселе памятный на Руси, да и в норвежских сагах воспеваемый зимний победоносный поход в страну финнов — Суоми[34]. В чёрный год Новгорода, когда люди мёрли «железо́ю»[35] — так, что даже всех скудельниц города не хватило, чтобы вместить все трупы, — доктор Абрагам отпросился у Ярослава Всеволодича не уезжать с князем во Владимир, но остаться в чумном городе и помогать народу. Он любил этот великий город, вечно в самом себе мутящийся, город всемирной торговли, на чьих торжищах обитатели Британского острова сталкивались с купцами Индии и Китая, где встречались испанец и финн, араб и норвежец, хорезмийский хлопок и псковский леи. Он любил этот город вольного, но и неистового самоуправления, возведённого как бы в некое божество, — эти Афины Севера, город-республику!
Он любил этот город, где никого не преследовали за веру, где суровые заколы охраняли и жизнь, и свободу, и достояние вверившегося городу чужеземца.
Это ничуть не мешало тому, что доктор Абрагам из только запирал наглухо все двери в своей лаборатории, закладывал подушками окна, но ещё и влагал в слуховые свои проходы куски хлопчатника, пропитанного расплавленным воском, в те особенно грозные дни, когда улицы Новгорода полнились до краёв народом, текущим двумя встречными враждебными полчищами; когда конец подымался против конца, улица против улицы, Софийская сторона против торговой, купцы и ремесленники на бояр; когда созванивали сразу два веча, а потом то и другое, каждое под боевым стягом, и не с дрекольем только одним, но и с мечами, и с копьями, и в кольчугах, разнося попутно по брёвнышкам дворы и хоромы бояр, валили на Волховский Большой мост, чтобы там — без всяких дьяков и писцов — разрешить затянувшиеся разногласия по вопросам городского самоуправления.
...Год, который доктор Абрагам оставался в Новгороде, был поистине страшный год! Чума, голод, мятеж вырывали друг у друга верёвку вечевого колокола. Скоро осталось только двое — чума и голод, ибо стало некому творить мятежи. Некому стало и сходиться на вече. Некому стало и хоронить мёртвых. Работу могильщиков приняли на себя псы и волки. Обжиравшиеся мертвечиною псы на глазах людей лениво волочили вдоль бревенчатых мостовых, поросших бурьяном, руки и ноги, оторванные от трупов... Все чужеземцы бежали. Ни один из-за моря парус не опускался, заполоскав вдоль мачты, возле просмолённых свай пристани! И тогда-то вот и запомнили оставшиеся в живых новгородцы, надолго запомнили «чёрного доктора», «княжого еврея», как прозвали Абрагама.
Безотказно, и по зову и без всякого зова, появлялся он в зачумлённых домах, в теремах и лачугах, возле одра умирающих или же только заболевших, — всегда в сопровождении немого, хотя и все слышавшего слуги, нёсшего в заплечном окованном сундучке медикаменты доктора.
Что́ он делал с больными: какими средствами поил их — осталось безвестным. Но только могли засвидетельствовать оставшиеся в живых, что «чёрный доктор» не только не боялся подойти к умирающему, но и возле каждого садился на табурет, и подолгу сидел так, глядя страдающему в лицо, и — по словам летописца, — «вземши его за руку» и что-то шепча при этом, словно бы отсчитывая. Этим его странным действиям и приписывали в Новгороде некоторые исцеленья, совершенные доктором Абрагамом. Если же больному умереть, то, подержав его за руку, княжеский доктор вставал и уходил. Да ещё рассказывали о нём, что это по его наущенью посадник объявил гражданам, что ежели кто не хочет впускать злое поветрие к себе, тот пореже бы ходил по соседям и держал бы свой дом, и двор, и амбар в чистоте; каждодневно бы мыли полы, натирали всё тело чесноком, и не валялось бы ни в коем углу остатков пищи, дабы не прикармливать смерть. А когда подают пить болящему, то повязывали бы себе платком рот и нос.
По совету доктора Абрагама, от посадника и от тысяцкого вышло воспрещение складывать тела умерших по церквам и скудельницам, и понапряглись, и потщились, и стали предавать умерших земле на дальнем кладбище.
Как бы там ни было, но, в меру знаний своих и воззрений своего века, быть может, во многом и опережая их, главное же — не щадя сил и жизни, доктор Абрагам пробыл весь чумной год в Новгороде, предаваясь уходу за больными, творя над ними и над собой всё, что повелевала ему Александрийская школа Эразистрата, ученью которого в медицине он убеждённо следовал.
И новгородцы полюбили его! Когда наконец Ярослав Всеволодич, худо ли, хорошо ли, а кой-как помирился с господином Великим Новгородом и они вновь позвали его на княжение, доктор Абрагам, которого князь считал уже заведомо погибшим, спокойно, с приветливостью, но и с достоинством встретил князя, как, бывало, встречал и прежде, — на княжеской малой пристани, близ кремля.
Со времени чёрного года отец Александра взирал на своего медика как на человека, для которого существует иная мерка, чем для прочих людей. И горе было тому, кто попытался бы копать яму под его доктором на основании только того, что он «жидовин»! Впрочем, отец Невского, следуя в том примеру великих предков своих — Владимира Мономаха, Юрья Долгие Руки, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, — резко выделялся среди государей Европы своей предельной веротерпимостью и радушием к чужеземцам, какой бы они ни были крови, если только с чистой совестью, без камня за пазухой они приходили служить Руси, Этой веротерпимостью его подчас недовольны были иные из иерархов церкви.
Епископ новгородский Спиридон вскоре после чумного года повёл как-то однажды с доктором Абрагамом откровенную беседу о том, какая завидная участь досталась бы ему здесь, на Руси, — участь, которой позавидовал бы любой прославленный медик и кесарей Византии, и государей Европы, — если бы только доктор Абрагам принял святое крещенье и переменил веру!
Доктор Абрагам слегка склонил голову перед верховным иерархом господина Великого Новгорода и отвечал укоризненным полувопросом:
— Разве вера — рубашка, что ос следует менять?
...Таков-то был человек, с которым сейчас беседовал Невский.
— Я вижу, ты также не смежал очей своих в эту ночь, дорогой мой медик? — начал Александр, дождавшись, пока доктор Абрагам уселся в кресло.
— Ограничивая сои старцев, господь через это самое как бы возвращает им для труда время, погубленное в юности: в молодости я слишком много спал, ел и празднословил! — ответил Абрагам.
— Полно! — возразил ему Александр. — Те великие знания, коими ты обладаешь, они не спаньём добываются, не чревоугодием, не праздностью!
Абрагам укоризненно покачал головою.
— Твоё величество хочет испортить раба твоего!.. Мои знанья!.. — воскликнул он с горечью. — Нет, государь, во прахе простирается раб твой перед необъятностью непостигнутого!..
Наступило молчанье.
— Что́ больной наш? — спросил Невский.
Глаза старика блеснули.
— Сухость и чистота... сухость и чистота, государь! — убеждённо воскликнул старик. — Ежели полгода проводить на сыром ложе, тут заболеет и здоровый!.. Надо провеивать семена! Нельзя хранить их в сыром вместилище... Я... — да простит меня государь! — память стала мне изменять: я забыл, как называют наши русские земледельцы это вместилище — для семян и муки?
— Сусек, — подсказал Александр.
— Сусек, сусек!.. — обрадованно подхватил доктор. — Сусек, старая моя голова! — ещё раз повторил он и, как бы укоряя себя, постучал пальцами о свой лоб. — И ещё, государь, — продолжал он, — бдительно следует наблюдать, чтобы и самые семена были сухи...
Невский, в знак своего одобрения и вниманья, время от времени наклонял голову.
— И ты ручаешься, что мы одержим полную победу над блошкою и над червём?
— Полную, государь! Пусть не увидеть мне детей своих! — поклялся еврей.
Чем дальше продвигался их разговор, тем яснее становилось, что разговор идёт обо льне.
Льняное хозяйство Невского, то есть, вернее сказать, хозяйство его крестьян, сидевших на оброке, в последние годы шло из рук вон плохо. Много было к тому причин, и главная причина — татары, батыевщина, неизбытое и доселе опустошение земли, умерщвление и угон землепашцев. Кто погибнул, обороняя Рязань, Москву, Суздаль, Переславль, Владимир, кто — в кровавой битве на реке Сити, вместе с великим князем Юрьем Всеволодичем, а кто сгноён в работе татарской, в пустынях Монголии. Те же, кто уцелел, укрылись в тёмные леса, боры великие, где ветру запутаться, змее не проползти!
Народ уцелел. Но рухнуло земледелие! Земля, вожделеющая плуга, лежала впусте, порастая лядиною и чертополохом. Гнили опустевшие, без призора, овины, избы, амбары, пригоны, став прибежищем диких зверей.
Из Владимирщины в Новгородскую землю Батый прошёл великим Селигерским путём. Сто вёрст лишь оставалось до Новгорода. Вырезай и сожжён был Торжок. Обширнейшая полоса издревле сущего здесь льноводства легла под копыта татарского коня.
А тут, как нарочно, да и нарочно же — год в год с Батыем пущена была рукой Ватикана, пришла в неукоснительное движенье на восток другая, западная, немецкая половина тех чудовищных, многотысячевёрстных чёрных клещей, которыми враг думал сокрушить сотрясаемое изнутри распрями князей государство русского народа.
Злейший враг Невского, папа Григорий, как раз в год Батыева нашествия спешно благословил слиянье двух орденов немецких — Тевтонов и Меченосцев. С высоты апостолического престола преданы были анафеме и новгородцы и Александр. От магистра, от императора, от герцогов и государей Швеции, Дании, Германии папская булла требовала — привести к повиновенью апостолическому престолу Землю русских — «terram Ruthenorum», поход на Новгород приравнен был папою ко взятию Иерусалима, к освобождению гроба господня от мусульман. Хладеющая рука этого злобного старца щедро разбрасывала по всей Европе буллы и райские венцы. Эти последние он сулил и рыцарям и ландскнехтам — всем, кто под знаменем католического креста двинется на восток, на «землю рутенов», которые, дескать, суть такие же язычники, как татары, и подлежат обращению.
И навстречу татарскому союзнику своему двинулся кованою стопою — на Псков, на Новгород — алчущий земель рабов и добычи «miles germanicus», германский воин, «дыша угрозами и убийством».
Все отозвались на призывы святейшего отца: и датчане, и англичане, и шведы, и финны. Соревнуя немецкому воину и по участи райских венцов, и по части серебристого псковского льна, и новгородской пушнины, и многого другого, в одно время с немецким воином ринулись на Россию и Вольдемар датский, дотоле прозывавшийся Победоносным, презрев кипящую в его жилах русскую кровь — кровь родной матери, и великий ярл Швеции — ненасытимый славою Биргер Фольконунг, «пыхая духом ратным». Да и суровые народы ямь и сумь — те, что обитают в Финнмарке, — финны двинулись, гонимые папским легатом, английским епископом Томасом, засевшим в крепости Або. Правда, ещё до начала похода, разъярённые бичом, которым загонял он их в купели с крестильной водой, финны растерзали англичанина.
Другой легат апостолического престола, Вильгельм Моденский, лично возглавлял немецкую армию, осаждавшую Псков.
Да и как же им всем было не использовать чудовищный таран батыевщииы, который громил в ту пору самые устои русской державы?..
И вот уже, как писал негодующий летописец, «окаянные немцы прошибошася великой свиньёю» — излюбленным в ту пору немецким бронированным строем кованой рати — поперёк всей Псковской земли. Ещё немного — и вот железное рыло чудовищной свиньи этой вплотную соткнулось бы где-то в пределах новгородских с косматой, злой мордой татарской лошади.
Но тут с челобитьем слёзным послали новгородцы к великому князю, к Ярославу Всеволодичу: «Дай нам сына своего на княженье опять!» Но он младшего дал им сына своего, Андрея. И вновь зашумело над Волховом, будто тёмные боры в бурю, у белокаменных степ Софии, всевластное вече Новгородское и уж владыке своему, епископу Спиридону, «с боярами лучшими» велело идти с челобитьем новым: «Не младшего, но старшего дай нам сына твоего, Олександра, — Олександра дай нам!»
И сжалился князь великий Ярослав и не вспомянул им непрестанные их неправды и крамолы, ибо уж не один тут Псков, не один Новгород, а всю Землю Русскую пришло время заградить рукой крепкою и мышцей высокою, и дал-таки им сына своего старшего Александра, который столь недавно был изгнан из Новгорода боярами новгородскими — теми, что держали торговлю с немецкими городами и Готским берегом.
Юноша Александр — тогда всего лишь двадцати двух годов — с новгородцами да с владимирцами своими на Чудском, у Вороньего камня, расхлестал бронированное рыло вражеского чудовища, этого тысячеголового железного кабана, и кровь его хлынула чёрным потоком, разъедая апрельский хрупкий лёд. И была тут сеча — злая и великая — и немцам, и чуди, и датчанам; гром стоял от ломлений копий, и звук от панцирного и мечного сеченья — будто льды двинулись! И не видать стало льду — залило кровью...
Дали немцы плечи свои! А наши гнали их, иссекая этих рыцарей-гладиферов, то есть меченосцев, — гнали на протяжении семи вёрст по льду, вплоть до Суболического берега, и не было им куда убежать, укрыться на ледяной ладони, на гладкой, на многовёрстной! Пало их бесчисленное множество. Взошло солнце — и вот стальные туши убитых рыцарей там и сям сверкают на льду. Так, когда в апреле приходит пора погреба набивать льдом на лето, и примутся мужики ломами, пешнями колоть и взламывать лёд на озере или на реке, и засверкают по всей площадке наваленные в груды льдяные глыбы, матёрые кабаны льда, доколе не погрузят их на телеги и не повезут в сырую, тёмную ямищу, — так вот и рыцари лежали — застывшие — в холодных, сверкающих панцирях своих.
И вот отгремела великая Ледовая битва, и сам процептор ордена, утупя очи, с высыпавшей на бледные щёки рыжей щетиной, с верёвкой на шее, с заброшенными на крестец и связанными руками, идёт, по-волчьи выбуривая очами на псковитян, за хвостом белоснежного коня, на коем высится отрадно дышащий Александр.
А позади и остальные ступают, проходя тесниною псковичей, — пятьдесят знатнейших, верховных рыцарей отныне в веки и в веки посрамлённого ордена!..
И того же лета уже присылают немцы послов именитых с поклоном: «Всё вернём Великому Новгороду, что заяли мечом, — ото всего отступаем. Дайте нам мир!..»
И «даша им мир, на всей воле своей, на Новгородской». И успокоилась Земля от войны. И принялася врачевать свои лютые рапы и великую свою кровавую наготу, ибо и татары не грабили так, не наготили, как грабили — и людей, и землю, и дома, и овины — эти окаянные.
Скорбя и негодуя, писал во время самой осады псковский летописец, инок Спасо-Мирожского монастыря, быть может за эти-то как раз строки и умерщвлённый немцами: «Окаяннии же немчи льны со стлища посымаша, и из овинов лён выгребоша, даже и до ко́стры. И тако на возы поклаша к собе».
Знал великий магистр, не хуже, чем купцы Любека и Гамбурга, что этот «шёлк русский» оборачивается для Руси и серебром, и золотом, и корабельною снастью, и дамасскою сталью мечей и кольчуг, и медью, и оловом, и свинцом, и многим, многим другим, что ввозилось из-за моря.
Но и внутренний враг губил льны: год за годом истреблял лён лютый льняной червь, который сжирал всё дотла: и лист, и цветок, и даже стебель. Так было и в прошлом и в позапрошлом году. Посаженные на льняное хозяйство крестьяне, делавшие из доли княжескую землю, — смерды — принялись разбегаться. Хлеба они не сеяли, только лён, а уж в княжеских житницах не хватало зерна — помогать им.
Потом присунулась ржавчина и тоже много попортила волокна. Купцы новгородские печаловались князю Александру: уж другой сбор волокна пришлось отдать немецким купцам за ничто! Сперва думали, что промеж всеми немцами стачка: в торговле дело обычное. Нет! То же самое и ольдерман Готского двора сказал, опробовав лён. Да и ту же цену дал: пошло всё по третьему разбору. Многие разорились.
Желая помочь своим мужикам, да и купцам тоже, Александр Ярославич решил безотлагательно заняться досмотром льняного хозяйства самолично и всё доискивал и присматривал человека — честного, и рачительного, и льновода, — а меж тем подумалось ему, что уж кто-кто, а доктор Абрагам (великий знаток всяких трав и зелий) сможет же чем-либо помочь против этих лютых врагов — против льняного червя, блошки и ржавчины.
Доктор Абрагам (это было весною) близко к сердцу принял горе своего князя. Он пожалел только, что Александр Ярославич не говорил ему ничего об этом раньше. Старик обещался клятвенно отныне все помыслы и труды свои направить на поиски надёжных средств для защиты льна от врагов. И то, что сейчас он поведал Невскому, — это было итогом полугодовых раздумий, поисков и скитаний по льняным нивам, стлищам, амбарам, итогом многих безвестных ночей, проведённых старым доктором в его тайной лаборатории.
— И ещё, государь, — говорил старый доктор, — мнится мне, помогло бы и это...
Доктор Абрагам достал из нагрудного кармашка чёрной мантии кусочек выбеленной под бумагу телячьей кожи, развернул его и вынул засохший цветок с жёлтой, как солнце, сердцевиной, с белыми, как снег, узенькими лепестками.
Александр принял на свою ладонь цветок. Понюхал его. Узнал. Улыбнулся.
— Ребятишками звали — пупавник, — сказал он, возвращая цветок.
Доктор Абрагам кивнул головою.
— Так, государь. И думается мне, ежели начать с порошком сего цветка смешивать семя льняное, уготованное для сева, то и добрая будет защита от гусеницы, поедающей цветок льняной и стебель.
— Добро! — знаменуя этим окоп чаи не беседы о льне, произнёс Александр. — Всё, что доложил ты мне сегодня, скажу волостелям своим исполнить. Взыщу сам. Строго.
Тут по лицу Ярославича прошла вдруг усмешка, и, поразив неожиданностью доктора, он спросил:
— А скажи, нет ли у тебя порошков таких, доктор, от коих бы сгинула не та, что цветок льняной сжирает, гусеница, но та, что сердце человеческое точит?
И, сказав это, он остановил взор свой на белом, как гипс, лице медика.
Тот так и не доискался слова: настолько это было необычно в устах этого гордого и скрытного человека, которого он таковым знал с детства.
— Государь... — начал было он, тяжело вздохнув и разведя руками.
Однако Александр не дал ему договорить.
— Знаю, знаю, — сказал он, как бы торопясь придать своим словам оттенок шутки, — медицина ваша бессильна в этом. Однако иные обходятся и без вас: червя, сосущего сердце, они другим, ещё большим лихом изживают — змием зелёным!.. То не про меня!..
Он угрюмо постучал пальцами о крышку стола. Наступило молчание.
— Снотворного чего-либо дай мне, — произнёс Невский. И, увидя, сколь поражён этим требованием его старый медик, пояснил: — Боюсь, не остановлю разгон мысленный!.. А надо как следует выспаться: путь дальний, тяжкий... Мы же завтра... да пет, сегодня уже, — поправился князь, взглянув на пророзовевшие завесы окон, — выезжаем. Сперва — ко мне, в Переславль. Оттуда — в Новгород.
Доктор Абрагам задумался. Эта просьба государя о снотворном! Этот отъезд на другой день после свадьбы брата!..
Однако, воспитанный четвертьвековою придворною жизнью и дисциплиной, он не позволил себе хоть чем-либо означить своё удивление.
— Какого же снотворного прикажет государь?
Невский откинулся в кресле, чуть насмешливо и удивлённо посмотрел на врача:
— Тебе ли, о доктор Абрагам, спрашивать меня об этом?
— Прости, государь! Я хотел спросить только: на краткое время ты хочешь забыться сном или же хотел бы погрузиться в сонный покой надолго?
Невский вздохнул.
— Мужу покой — одна только смерть! — сказал оп. — А вздремнуть часок-другой не худо: путь дальний.
На этот раз всегда сдержанный и краткий в своих суждениях доктор Абрагам хотел было впасть в некоторое учёное многоречие.
— Так, государь, — сказал оп. — Когда прибегающий к врачебному пособию для обретения сна жаждет сна ненадолго, но крепкого, то в таком случае Гиппократ Косский предпочитает молоко мака... Но уже сын его...
— Не сын, не отец, — чуть раздражённо перебил его Невский, — а что предпочитает доктор Абрагам?
Старик наклонил голову.
— Когда мы хотим добиться, чтобы человек уснул близко здоровому обычному сиу, то, искрошив с помощью резала корень валерианы...
Но ему не пришлось договорить: чей-то мальчишеский голос из тёмного угла палаты вдруг перебил его.
— А у нас вот, — сказал голос, — деданька мой, мамкин отец, когда кто не спит, придут к нему за лекарством, — он мяун-корень[36] взварит и тем поил...
И князь и доктор в равной степени были поражены этим голосом, столь неожиданно вступившим в их беседу.
Потом Невский громко рассмеялся и, обратясь в ту сторону, откуда послышался голос, произнёс полушутя-полусердито:
— Ах ты!.. Ну как же ты напугал меня, Настасьин... А ну-ка ты, лекарь, подойди сюда...
Григорий Настасьин, потупясь, выступил из своего угла и остановился перед Александром.
Невский созерцал его новый наряд с чувством явного удовлетворения. Доктор Абрагам смотрел на мальчугана с любопытством.
— Да какой же ты у меня красавец стал, Настасьин! — сказал Невский. — Всех девушек поведёшь за собой!
Гринька потупился.
— Стань сюда, поближе... вот так, — сказал Ярославич и, взяв Гриньку за складки просторного кафтана мел? лопаток, переставил его, словно шахматного конька, между собою и доктором Абрагамом.
Озорные искорки сверкнули в глазах старого Абрагама.
— А ну, друг мой, — обратился он к мальчику, — повтори: как твой дед именовал эту траву, что даёт сон?
— Мяун, — не смущаясь, ответил Гринька. — Потому что от неё кошки мявкают.
Князь и доктор расхохотались. Затем старый врач важно произнёс:
— Да, ты правильно сказал. Но от Плиния мы, врачи, привыкли именовать это растение «валериана», ибо она, как гласит глагол «валёре», подлинно оздоровляет человека. Она даёт здоровый сон!
— А я много трав знаю! — похвастался обрадованный Гринька. — И кореньев! Дедушка уж когда и одного посылал... Бывало, скажет: «Гринька, беги-кось, ты помоложе меня: у Марьи парнишечка руку порезал...» А чего тут бежать? Эта кашка тут же возле избы растёт. И порезником зовут её... Скоро кровь останавливает!..
— А ещё какие целебные травы ты знаешь, отрок? — вопрошал старый доктор.
Гринька, не робея, назвал ему ещё до десятка трав и кореньев. И всякий раз старик от его ответов всё более и более веселел.
— А ещё и вредные растут травы, ядовитые! — воскликнул в заключение Настасьин. — У-у! Ребятишки думают, это пучки, сорвут — и в рот. А это сикавка, свистуля! От неё помереть можно! И помирают!
Тут он живо описал доктору Абрагаму ядовитое растение пёстрый болиголов. Старик не мог скрыть ужаса на своём лице.
— О-о! — воскликнул он, обращаясь к Невскому. — Вот, государь, этим как раз растением, о котором в такой простоте говорит этот мальчик, отравлен был некогда в Афинах величайший мудрец древности...
— Сократ? — произнёс Невский.
— Да, государь...
Наступило молчание. Оно длилось несколько мгновений. Затем Абрагам снова пришёл в необычайное оживление и воскликнул:
— Этот чудесный отрок — поистине дар небес для меня, государь! О, если бы только... Но я не смею, государь...
— Что? Говори, доктор Абрагам.
— У меня была давняя мечта — узнать, какие целебные травы известны русским простолюдинам. Ведь вот даже знаменитый Гален пишет, что он многие травы и коренья узнал от старых женщин из простого народа... Когда бы ты соизволил, государь...
Старик не договорил и посмотрел на Гриньку. Невский догадался о его желании. Тут они перешли с доктором на немецкую речь. Настасьин с тревогой и любопытством вслушивался. Понимал, понимал он, что это говорят о нём!
А если бы ему понятен был язык, на котором беседовали сейчас князь и лекарь, то он бы узнал, что старик выпрашивает его, Гриньку, к себе в ученики и что Невский согласен.
— Григорий, — обратился к Настасьину Александр, — вот доктор Абрагам просит тебя в помощники. Будешь помогать ему в травах. А потом сам станешь врачом. Согласен?..
Гринька от неожиданности растерялся.
— Я с тобой хочу!.. — сказал мальчуган, и слёзы показались у него на глазах.
Невский поспешил утешить его:
— Полно, глупый! Ведь доктор Абрагам при мне, ну стало быть, и ты будешь при мне!.. Ладно. Ступай, спи. Утре нам путь предстоит дальний!..
Тысячевёрстный длительный путь между Владимиром на Клязьме и Новгородом Великим совершали в ту пору Частью по рекам Тверце и Мете, а частью конями. И немало на том пути приходилось привалов, днёвок, ночёвок!..
...Чёрная осенняя ночь. Тёмный, дремучий бор — бор, от веку не хоженный, но ломанный. Разве что хозяином лесным кое-где ломанный — медведем. В таком бору, если и днём из него глянуть в небо, то как из сырого колодца, глубокого.
Огромный костёр из двух цельных, от комля до вершины, громадных выворотней, пластает, гудёт на большой поляне. В такой костёр и подбрасывать не надо: на всю ночь! На этаком бы кострище быков только жарить на вертеле великану какому-нибудь — Волоту Волотовичу или же Святогору-богатырю. Да и жарят баранов, хотя и не великаны, зато целая дружина расселася — до сотни воинов — по окружию, поодаль костра.
Видно, как от сухого жара, идущего во все стороны от костра, отскакивают с треском большие пластины розовой кожицы на стволах сосен. Хвоя одного бока пожелтела и посохла.
С багровыми от жара лицами, воины — и бородатые и безусые — то и дело блаженно покрякивают, стонут и тянут ладони к костру. Другие же оборотились к бушующему пламени спиною, задрали рубахи по самый затылок и калят могучие голые спины, красные как кумач.
Время от времени то одному, то другому из богатырей становится всё ж таки невтерпёж, и тогда, испустив некий блаженный рёв, как бывает, когда парни купаются, обожжённый исчезает во тьме бора, где сырой мрак и прохлада обдают его и врачуют ему спину.
Сверкают сложенные позади каждого кольчужные рубахи, островерхие шлемы — чечаки, мечи и сабли: не любит Александр Ярославич давать поблажки. «Ты — дружинник, помни это. Не ополченец, не ратник, — говаривал он. — Доспех, оружие тебе не для того даны, чтобы ты их на возы поклал да в обозе волочил за собою, а всегда имей при себе...»
От кострища в сторону отгребена малиновая россыпь пышущих жаром угольев. Над нею, на стальных вертелах, жарятся целиком два барашка, сочась и румянея.
Тут же, в трёх изрядных котлах, что подвешены железными крюками на треногах, клокочет ключом жидкая просяная кашица — кулеш.
У одного из воинов, который слишком близко придвинулся к костру, да и задремал, упёршись подбородком о могучие кулаки, сложенные на коленях, вмиг посохла и принялась закручиваться колечком борода.
Его толкнул в плечо товарищ:
— Михайло! Мишук, очнись! Бороду сгубил...
И все подхватили, и зашумели, и захохотали:
— Сгубил... Сгубил... Ну, теперь баба не примет тебя, скажет: «Это не мой мужик, а безбородая какая-то некресть!..» И впрямь загубил бороду... будь ты неладен...
Так, соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой едва ли не все соратники его: и Еска Лисица, и Олиско Звездочёт, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитров Зелёный, и Савица Обломай, и Позвизд, и Милонег, и Бонн Федотыч, и даже Карл какой-то, хотя заведомый рязанец. Здесь и греческие — «крещёные», насильно внедряемые в народ, — и древние, языческие, «мирские» имена мешались с какими только ни пришлось прозвищами и с начавшими уже слагаться фамилиями.
— Ведь экую в самом деле красу муськую потратил!.. Бить тебя мало, полоротый! — с горьким прискорбием, без всякой насмешки, проговорил старый благообразный воин.
Л подпаливший бороду, ражий большеглазый мужик, словно бы и впрямь чувствовал себя перед всеми виноватым за погубление некой общественной собственности: улыбаясь и помаргивая, объяснял он чуть не каждому, кто приседал перед ним и засматривал ему в лицо:
— Да как-то сам не знаю... замечтал... домачних своих воспомнил!..
А его не переставали поддразнивать:
— Эх, Миша, Миша!.. «Домачних»! Шинка твоя не посмотрит, кого ты там «воспомнил», а бороду, скажет, изнахратил — быть тебе в вине: и остатки выдерет!.. Ты в Новгород теперь не возвращайся!
Сотник Таврило Олексич опасливо оглянулся в дальний угол поляны, где виднелся островерхий белого войлока шатёр, крытый алым шёлком, с кистями, и рядом с ним — другой, поменьше и попроще первого.
— Лешаки, — сказал он, — князя ржаньем своим разбудите!..
Все стихли. Немного погодя дружина разбилась вся по кружкам, и в котором пошли негромкие разговоры промеж собою о том да о сём, а в котором — тут и народу прилегло побольше — загудел неторопливый говор сказочника-повествователя.
Сказка, Сказка!.. Да скорее без хлеба уж как-нибудь пробьётся русский человек, а отыми у него Сказку — и затоскует, и свет ему станет не мил, и засмотрит на сторону! Да ведь и как её полюбить — Сказку? Пускай хоть ноги у тебя в колодках, и в порубе сидишь в земляном, к стене на день приковал, и заутра на правёж тебе, на дыбу, под палача, а коли не один ты в темнице и есть во тьме той кромешной рядом с тобою умудрённые Сказкою уста, то, излетев из уст этих, расширит она могучие крылья свои, и подхватит тебя на них — держись только, — и проломит крылами сырые, грузные своды, даже и стражу не разбудив, — вынесет тебя на простор!..
И вот уж — под небесами ты голубыми, и плывёт глубоко под тобою всё Светорусье — и города, и леса, и горы, и моря, и озёра, и реки, и речушки родные, и монастыри, — и вот уже Индия наплывает богатая, и камень Ала́тырь, и светлым город Иерусалим!..
Ковш тебе подадут в тюрьме — напиться — берестяной, — а ты в него — ныр! — всплеснул, да и нет тебя! Только тебя и выдели!.. А разве ж не бывало таких людей? Конечно, в старые годы!.. Только чёрную книгу достань! По ней выучишься!..
Уголёк никудышный нашарил в тюрьме али извёстки кусок, и ты им возьми да и начерти на иолу ладью невелику, с парусом, — как сумеешь — и прямо садись на неё, — только веруй, не сомневайся! — и Сказка дохнет в паруса твои, и пуще ветра, кораблям вожделенного, дыхание то, и рванётся ладья, и степы расступятся — плыви!..
Тюремщик рогожку бросил никудышную под склизкий от грязи порожек, а ты ей не побрезгуй, рогожкой, — только: «Сказка! Сказка!» — взмолись шепотком пожарче — и услышит! Ведь это ж не рогожку, дураки, бросили, а ковёр самолётный: отвёл им очи господь, твоего ради спасенья!.. Теперь садись только на него поскорее, не мешкая, покудова не вошли, — да заветное словечко шепнуть не забудь, которое Сказка тебе шепнула, — и полетел, полетел... держись покрепче за ворсу ковра, держись, а то ветром так и сдирает!..
Очередная сказка пришла к концу, и наступило молчанье.
— Да-а... — произнёс, поскребя лукаво в затылке, молодой дружинник, — и чего-чего только не наслышишь в этих сказках! Вот уж и о двух головах!.. А?..
И тогда тот, кто рассказывал, многозначительно произнёс:
— В старые времена ещё и не то бывало!
А другой молодой воин, как бы пылая душой за сказку и готовый чуть не в драку с тем, кто усомнился, громко и заносчиво произнёс:
— А что такого, что о двух головах?.. Да у нас вот в Барышове телок с двумя головами был же!..
Слова его были встречены сочувственно.
Он ободрился:
— И, может бы, корова выросла бы о двух головах, да только что поп велел его утопить!..
И тут пошло!
— То ещё не диво! — вскричал один. — Вот у нас под Смоленском панья одна, или, просто сказать, боярыня, принесла ребёнка. И при нём все зубы. Да это ещё что, — младенец сам себе имя провещал: «Назовите, говорит, меня Иваном!..» Дак поп его чуть в купель не выронил!..
— То к войне!..
— А у нас в Медвежьем бабка рапы сшивает! Князь хотел её к себе взять — не поохала: «Где, говорит, родилась, тут и умру!»
— А под Тверью у нас два года земля горела. Аж вся рыба в воде дымом пропахла!
— А у нас осенесь буря сделалась на Волге. И одного хрестьянина, и с телегой и с конём вместе, перенесло через Волгу... Ну, телега с лошадью потом нашлися, на сосну их закинуло... А человек — без вести!
— Всё может быть, всё может быть!..
— Эх, робята, — произнёс один из воинов мечтательно, ложа на спине поверх разостланной епанчи и глядя в чёрное, как котёл, небо, — хотел бы я в тех землях пожить, где темьян-ладан родится... в этом самом Ерусалиме!... Про Ерусалим у нас рассказывал один богомол, странник: близко, дескать, его, где обитал он в гостинице, тут же, говорит, возле стены, в пещерке, пуп земной!..
Помолчали.
— Нам вот тоже поп рассказывал: на море-де, на Андреантическом, на окияне, этот ладан-темьян прямо с неба надаёт.
— Ну, эко диво! — не сдался другой. — У нас вот на Кидекше, как раз на успеньев день, облако на луг упало, и сделался из его кисель!..
На этот раз молчанье было необыкновенно длительно. Кто-то вздохнул... Кто-то проглотил слюнки.
— Всё может быть, всё может быть! — произнёс в раздумье старый воин.
— Да-а... — вырвалось от всей души у другого.
— Почаще бы нам, хрестьянам, да по всем бы по деревням такие облака падали!..
— Ну а что толку? — возразил кто-то с горькой насмешкой. — Всё равно, покуда наш брат хрестьянин ложку из-за голенища выпет, князья-бояре весь кисель расхватают.
Послышался общий хохот.
— Это уж так!..
— Это истинно! Работному люду ничего не достанется!
И сам собою разговор свернулся на надвигающийся голод.
— Да-а! Ещё урожай обмолотить не успели православные, а купцы уже по восьми кун за одну кадь ржи берут! Как дальше жить будем?
Эти последние слова произнёс дородный дружинник — светлобородый силач, пышущий здоровьем. Несоответствие его внешности со словами о голоде вызвало у некоторых невольную шутку:
— Гляди, Иван, как бы ты от голоду не отощал вовсе: уж и так одни кости да кожа!
Воины засмеялись.
Однако дородный воин отнюдь не смутился этим и скоро заставил замолчать насмешников.
— Правильно, — спокойно возразил он. — Я-то не жалуюсь: сыт-питанен. Мы, дружинные, на княжеских хлебах живём, нам и горя мало! Ну а старики твои, Митрий, или там сёстры, братья, суседи?! А?! Замолк, нечего тебе сказать! А вот мне об этих днях из нашей деревни весть прислали: пишут, что сильно голодают в нашей округе. Уж траву-лебеду стали к мучке-то примешивать. Ребятишки пухнут от голоду. Старики мрут...
Его поддержали:
— Что говорить! Худо простому люду живётся: и под боярами и под татарами! А хуже нет голода!
Разговор пошёл горестный, тяжёлый.
Говорили и о чуме, которая нет-нет да и наведывалась в Новгород:
— Харкнет человек кровью — и по третьему дню готов!..
— Княжеский доктор говорит: этот, дескать, мор чёрный, его из-за моря привозят. Купцы.
— Да уж он знает, Аврам!.. Все, поди, черны книги прочёл!.. Он многих в народе вылечил.
— Добрый лекарь! А только — голод да нищета, дак и лекарства — тщета!..
— Нет, в стары времена куда легче жили!.. Нынче богаты бедных поесть хотят, ровно бы волки, живоядцы!..
После голода и чумы заговорили о татарах:
— Слышь ты, окаянны хочут всю молодёжь с собой на войну погнать... Да Олександр Ярославич, дай ему бог веку, он заступил: не дал!
— Авось и опять съездит — отмолит!
— Ох, Орда, ох, Орда немилостивая!.. Ханы эти да баскаки наскакивают!.. И все — господин на господине!..
— Ну и у них не все одинаки: всякого жита по лопате, есть и у них черна кость, бела кость!..
— Побывал я, братцы, у ихнего хана, у Менгуя, и во дворце... ну, как же? — когда Ярославича своего сопровождал... Ох, дворец, ох, дворец! Ум меркнет!.. Не хочется и вон идти!..
— На нашей же всё на кровушке строено!
— Это точно!..
— Вот мне матерь моя Пономарёвой рукой пишет: чегой-то на ихнего князя, на Пронского, осерчал багадур ихний, баскак этот самый. И вот поехал со своими, с татарами, саморуком дани собирать с хрестьян. Ну вот, матушка моя и пишет: всё наше рухло пограбили! «Теперь, говорит, нету тебе, Саввушка, и наследия отцовского!..» Ну кто ж я теперь — всему лишенец?.. Теперь уж и не вздумай отойти от князя!..
— Не горюй, — утешал его товарищ, — было бы жито, а то — прожито!..
А тем временем тот, кто побывал с Невским у великого хана, вёл свой неторопливый рассказ о татарах:
— Замков на анбарах они действительно не знают: воровство наказуют люто. Ежели ты, к примеру, одного коня украл, то отдай девять...
— Ой-ой!..
— Так-то вот! А то просто голову рубают — и всё... Но живут грязно. Немыслимо! Им Чингисхан мыться запретил, одёжу стирать запретил.
— Неужели бань нету? — почти в ужасе спросил кто-то.
Рассказчик рассмеялся:
— Да ежели кто у них начнёт воду на себя плескать, обмываться, дак они сейчас неё ему голову отрубят: вода, говорят, она святая, не смей её грязнить!..
Раздался хохот.
— Есть же дурачья на белом свете!..
— Рубахи свои, и всю одёжу, и чепаны дотоле носит не сымая, покуда не изветшает и само не свалится! И чего скупятся, не знаю: ведь когда мы с Александром Ярославичем были у того ихнего царя, так ведь, кроме нас, на поклон к ему три тыщи царей съехалось!
Раздался гул ужаса и изумленья.
— И вот ты с ними и поборись — с татарами!..
— А у нас-то, у русских, чего нету?! Оружия ли? Хлеба ли? Скота ли?.. Необъятная сила!.. Когда бы наши князья за одно сердце все стали, так этот бы Менгуй-Батый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон!..
— Ну, какой там — за одно сердце! Друг друга губят!.. Вон родной дядя, Святослав Всеволодич, под нашего-то подыскивается в Орде!..
— Нашему трудно!.. У прочих князей и понятия нет, чтобы помочь, поддержать! Один Ярославич, один!..
— Какой там — помочь, поддержать! Другой князёк приедет к нашему-то, чело клонит перед ним, а ты стоишь, и у тебя сердце трепещет: а как да у него нож в сапоге, за голенищем? Так глаза с него и не спущаешь!..
— Да и бояре наши — тоже господа пресветлые! — им бы только мамой свой набить да всячески гортань свой услаждают!.. Об отечестве мало кто думает!..
В те разговоры — об Орде, о князьях и боярах — вструился рядом текущий разговор о божественном. Кто-то чинно и книжно повествовал о чудесах святителя Николая, епископа Мирр Ликийских. Рассказ подходил к концу. И надо же было напоследок этак промолвиться!..
— Ну и вот, стало быть, говорит ему Никола-угодник, пленнику этому, греку... ну, понятно, на своём языке, по-гречески...
— Полно! Не говори несусветицу! — закричал вдруг один из слушателей. — Про святого рассказываешь — про Миколу-угодника! — и как же это он у тебя не по-русски заговорил?.. Да святые, они все русского народу были! А как же?..
И возмутившийся слушатель обвёл ярым оком всех окружающих и, доказуя, начал считать, пригибая пальцы:
— Петро-апостол. Ну? Иван-богословец! Ну? — Он торжествующе посмотрел на всех.
Дружинника, что вёл рассказ про святителя Николая, затюкали.
Но он, выжидая свой миг, молчал и хитро улыбался. А когда наступил миг молчанья, он спросил у своего противника, заранее торжествуя победу:
— Ну а Христос?
Но лучше бы ему не спрашивать. Возмутившийся ересями его, старый дружинник повёл руками, как бы всех призывая в свидетели:
— Нет, вы послушайте, послушайте, православные! У него уж и Христос нерусской стал! А?.. Нет, что-то ты заговариваться начинаешь, парень!.. Слушать тебя и то грешно!..
Он поднялся с кошмы, на которой лежал, и, возмущённый, отошёл к другому кругу — к тому, где беседовали о татарщине, о князьях, о боярах.
Гринька Настасьин тоже среди воинов у костра. Думал ли он когда, что доживёт до такого счастья! Вот он сидит у костра, а рядом с ним, локоть к локтю, совсем как простой человек, сидит русобородый богатырь начальник всей путевой дружины Невского. И зовут этого витязя Таврило Олексич! Да ведь это он самый, что в битве на Неве богатырствовал и навеки себя прославил в народе. О нём и сам Александр Ярославич рассказывал Гриньке.
Олексич и Гринька дружат. Богатырь сделал ему деревянный меч, как настоящий!..
— Ничего, Григорий, — сказал ему Олексич, — нога деревянный; вырастешь — так настоящим пластать будешь... Может, и на татарах свой меч испытать придётся!..
...Воинам поспел ужин. Все принялись сперва за горячий кулеш, а потом за баранину.
Таврило Олексич положил на большую лепёшку, как на блюдо, сочно-румяный большой кусок жаркого и подал Гриньке.
— Кушай, кушай, отрок! — ласково сказал он, погладив его по голове. — Уж больно ты худ, набирайся сил, кушай!..
Сам он тоже взял добрый кус барашка, сел рядом с Гринькой под сосну и принялся есть.
— Ешь! — ещё раз сказал он мальчику. — Хочешь воином быть добрым — ешь побольше! От еды сила! — наставительно пояснил он и ласково подмигнул Гриньке.
Увидав своего витязя-друга в таком светлом расположении духа, Гринька вполголоса сказал ему:
— Дяденька Таврило, а потом расскажи мне про Невску битву.
Олексич хмыкнул и усмехнулся:
— Да ведь уж который раз я тебе про неё рассказывал. Поди уж, затвердил всё наизусть. Ну ладно, отужинаем — там видно будет...
Такой ответ означал согласие. Сердце Гриньки трепетало от радостного ожидания, хотя и впрямь уже который раз носился он мысленным взором над Невским побоищем, слушая рассказы своего друга.
Едва только задружил Гринька Настасьин с Гаврилой Олексичем и едва узнал от людей, что это тот самый Олексич, так покою не стало витязю от настойчивых просьб мальчика: расскажи да расскажи, как били шведских рыцарей на Неве.
Сперва богатырь больше отшучивался. И всё-то выходило у него до чрезвычайности просто, будто и рассказывать не о чем.
— А что ж тут такого? — добродушно отвечал он Гриньке. — Знамо, что побили их крепко. Уложили их там, на болоте, немало, рыцарей этих. А и сам ихний герцог Биргер насилу утёк от Ярославича: живо коня заворотил! А всё-таки Александр Ярославич большую ему отметину положил копьём на лицо — до веку не износить!
И, сказав это, Таврило Олексич вдруг ожесточился и суровым голосом произнёс:
— Да и как их было не бить? Пошто вы в чужую землю пришли кровь человеческую проливать? Пошто у нас, у Новгорода Великого, водный путь хотите отнять?! Зачем море закрываете? Задушить, стало быть, хотите! Русский народ сам кровопролития не затевает, это уж нет! Ну а если незваны гости к нам ломятся — тут руке нашей от сохи до меча дотянуться недолго! Я ра́тай[37], я и ратник!
Он замолк. Но тут снова и снова Гринька в нетерпении принимается теребить Олексича за рукав:
— Дядя Таврило, а расскажи, как ты на шведский корабль по доскам въехал, ну расскажи!
— На коне взъехал. И што тут рассказывать!
Гринька не унимался:
— Нет, а как чуть королевича шведского не захватил?
— А вот же не захватил! — мрачновато ответствовал Олексич. Но тут, видно, неудержимые поднялись в его памяти воспоминания, и, уступая им, неразговорчивый богатырь рассмеялся и добавил: — Худоногий он был у них, королевич-то. Вроде как расслабленный. Привезли они его с собой из-за моря нарочно: на новгородский престол сажать. Ишь ты ведь! — воскликнул в негодовании Олексич, как будто всё это сейчас происходило, а не десять лет тому назад. Рассказ его продолжался: — Ну, пришли мы, сам знаешь, на реку Неву, устье Ижоры, речка такая впала в Неву. Ино там они и вылезли, шведы, из кораблей на сушу. Видимо их невидимо! Девять тысяч кованой рати. Девять тысяч!.. — повторил Олексич, потрясая рукой. — Ну, а нас-то всех вместе и с ладожанами и карелой — и до тысячи не дотягивало! Ну, да ведь где же Александру Ярославичу было воинов собирать! Кто с ним был, с теми и ударил... Грянули мы на них внезапно. Они думали: мы рекой Волховом поплывём, а мы прямиком через леса, через болота — прямо на устье Ижоры. Возов с собой не брали. Александр Ярославич нам даже и щитов не велел с собою брать: «Меч верней щита!»
Подошли мы к их стану, солнышко взошло уж высоко. Ну, вот этак... — Олексич показал рукою. — Словом, бойцу с коня копьём достать... Но уж всё ихнее войско на ногах, гудит!.. Трубы поют, сурны, в медные тарелки бьют, в бубны великие колотят! Мы смотрим. А из бору ещё не выходим... Но вот Александр Ярославич расставил нас всех — и дружину свою, и полк весь: кому откуда ударить. Сам он на белом коне боевом... Вот, вижу, поднял он меч свой... Слышу, крикнул: «Вздымайте знамя! — и враз опускает меч: — Вперёд, за отечество!» Ну, тут уж и ринулись мы все из тёмного бору! Бурей!
Олексич зажмурился: должно быть, так, с закрытыми глазами, ещё явственнее подымались в его душе образы великой битвы, ещё слышнее становились ратные крики, ржание коней, шум и звон давно минувшей сечи...
Гринька слушал, не смея дыхание перевести, боясь пошевелиться. И только тогда, когда нестерпимо длинным показалось ему молчание друга, мальчуган охрипшим от волнения голосом спросил:
— А отчего у них трубы трубили?
— А! Трубы-то? — отвечал, как очнувшись, Таврило Олексич. — А это, видишь ли, паренёк, как раз королевич ихний на берегу обход войску делал. Сановники с ним, свита, сам герцог. Рыцари вокруг него — как за стальной стеной идёт! А мне с коня-то всё видать как на ладони... И со мной молодцов немало новгородских. Дружина добрая подобралась! Молодцы — не выдавцы! Все мы из одной братчины были — кожевники, чеботари! Костя Луготинич, Юрага, Намест, Гнездило... Как железным утюгом раскалённым в сугроб, так и мы в гущу в самую этих шведов вломились. Даром что кованая рать зовутся, в панцири закованы с головы до ног; и шеломы-то у них не людские, а как ведёрко глухое, железное на голове, а против рта решётка. Поди-ка дойми такого! А ничего, секира прорубит! Ломим прямо на королевича... Тут дворяне его переполошились, хотят на руки его вскинуть — да и на корабль. А он им не даётся: зазорно ему. Однако испугался... Герцога, видать, нету уже при нём. Вот уж он, герцог, на вороном коне мчится наперерез Ярославичу. Тоже в панцире весь. Только решётка на лице откинута, усы, как рога, в стороны топорщатся... Нет-нет да и осадит коня, да и зычно этак крикнет по-своему, по-латынски, воинам своим... И те заорут ему вослед... Опамятовались: бьются крепко.
Но, однако, одолеваем мы их, ломим. Грудим их к воде, к воде! Нам Ярославича нашего отовсюду видать: островерхий шлем золочёный на нём сверкает на солнце, кольчуга, красный плащ на ветру реет, меч, как молния, блистает, разит! Вот видим: привстал наш богатырь на стременах, вздынул руками меч свой, опустил — и валится шведский рыцарь под конское копыто! А Ярославич наш уж на другого всадника наринул, глядишь — и этому смерть!.. Бьётся. Сечёт мечом нещадно. Конём топчет. Но всю как есть битву своим орлиным оком облетает. Видит всё. И знаем: каждого из нас видит. Злой смертью погибнуть не даст: видит, кому уж тесно станет от врагов, одолевают, — туда и бросит помощь. Правит боем! Голос у него, знаешь сам, как серебряная труба боевая! Ведь стон кругом стоит, гул; щиты — в щепки, шлемы — вдребезги; обе рати орут; раненых коней ржание; трубы трубят, бубны бьют... А князь наш кинет свой клич боевой — и мы его везде слышим!.. Мимо нас, новгородцев, промчится и во весь свой голос: «За господина Великий Новгород! За святую Софию!»... И мы ему отзовёмся. И того пуще ломим!..
На кораблях у шведов, на ладьях, на лодках невесть что началось! Заторопились, паруса поднимают. А ветра нету: не море ведь! Вздуется пузом парус, да тут же и опадёт, заполощет... Крику, шуму, ругани! А толку нет никакого: отплыть не могут. Шестами в дно стали упираться, вёслами гребут — ни с места! Лодки перегрузили, те опрокинулись. Тонет народ, барахтается в Неве: в панцире много ли поплаваешь!
Наш народ русский знаешь ведь какой: ему, когда раскалится в битве, что огонь, что вода! Миша был такой, тоже новгородец... Ну, этот из боярских детей, с ним дружина своя пришла... И богатырь был, богатырь... Нынче уж такого редко встретишь! Так вот этот Миша с дружиной прямо в Неву кинулся, где бродом по грудь, где вплавь, и давай топором корабли и ладьи рубить. Три корабля утопил. Сильно похвалил его Александр Ярославич!
...Дальше вскользь упомянул Таврило Олексич, как увидал он — волокут под руки шведского королевича по сходне на корабль — и ринулся на коне вслед за ним. Но опоздал: шведы успели втащить королевича, а когда Олексич взъезжал на сходни, враги столкнули сходни в воду. Упал вместе с конём и Олексич. Однако выплыл и вновь кинулся в битву...
— Э-эх! — воскликнул тут с горечью сожаления рассказчик. — Ну, за малым я не настиг его! Ну, да ведь с разгону-то не вдруг проломишься, хотя бы и на коне. Уж больно густо их, шведов, было вокруг него. Люди ведь с оружием — не шелуха, не мякина!.. — добавил он как бы в оправдание...
Рассказал он Гриньке и о том, как юный воин Савва пробился к самому шатру герцога Биргера, уничтожил охрану, а затем подрубил позолоченный столб, на котором держался весь шатёр. Шатёр с шумом рухнул на глазах всего войска. И это послужило знаком к повальному бегству шведов...
Рассказал он и о гибели другого юноши — Ратмира.
— Дяденька Таврило! А ты видел, как его зарубили? — спросил Настасьин.
Олексич тяжело вздохнул. Понурился. Сурово смахнул слезу.
— Видал... — ответил он сумрачно. — Сильно он шёл среди врагов. Бежали они перед ним! А только нога у него поскользнулась — упал... Тут они его и прикончили. Да! — добавил он, гордо вскидывая голову. — Хоть совсем ещё мальчишечко был — годков семнадцати, не боле, — а воистину витязь! Любил его Ярославич. Плакал над ним!
Так закончил свой рассказ о гибели Ратмира Таврило Олексич. И вновь погрузился в думу, как бы созерцая давно минувшую битву.
— И вот как сейчас вижу: кончили мы кровавую свою жатву. Отшумело побоище... И вот подымается на стременах Александр Ярославич наш, снял перед войском шлем свой и этак, с головой непокрытой, возгласил во все стороны, ко всем бойцам: «Спасибо вам, русские витязи! — кликнул. — Спасибо вам, доблестными явили себя все: и новгородцы, и владимирцы, и суздальцы, и дружинник, и ополченец!.. Слава вам! — говорит. — Постояли за господина Великий Новгород. Постояли и за всю Русскую Землю!.. Слава и вечная память тем, кто жизнь свою сложил в этой сече за отечество! Из века в век не забудет их народ русский!..» Вот как он сказал, Ярославич... Да!.. — убеждённо заключил Таврило Олексич. — Заслужил он своё прозвание от народа — Невской!..
Произнеся эти слова, Таврило Олексич вдруг сурово свёл брови. На лице его изобразилась душевная борьба. Казалось, он раздумывает, можно ли перед мальчишкой, перед отроком, сказать то, о чём он сейчас подумал... Наконец он решился.
— Да! — сказал он жёстко и горестно. — Невской зовём. Всех врагов победитель!.. Мы же за ним и в огонь и в воду пошли бы... Так пошто же он перед татарами голову клонит?!
Эти слова Олексича долго были для Гриньки словно заноза в сердце.
Ночной ужин воинов в самом разгаре. Лесной костёр гудит и ревёт. Спать никому не хочется. Затевают борьбу. Тянутся на палке. Хохот. Шутки.
Вот подымается с земли молодой могучий дружинник. Потягивается после сытного ужина и говорит:
— Эх, мёду бы крепкого, стоялого ковшик мне поднести!
В ответ ему слышатся шутливые возгласы.
— А эвон в ручеёчке мёд для тебя журчит. Медведь тебе поднесёт: он здесь хозяин, в этакой глухомани!.. — слышится чей-то совет.
Тот, кто пожелал мёду, ничуть не обижается на эти шутки. Напротив, он подхватывает их. Вот подошёл к большому деревянному бочонку-лагуну с длинным носком. Лагун полон ключевой студёной воды. Парень, красуясь своей силой, одной рукой поднимает лагун в уровень рта и принимается пить из носка, закинув голову. Он пьёт долго. Утолив жажду, он расправляет плечи и стучит кулаком в богатырскую грудь.
— Ого-го-го! — весело орёт он на весь бор. — Ну, давай мне теперь десяток татаринов, всех голыми руками раздеру!.. Даже и меча не выну...
— Храбёр больно! — ехидно осадил его другой воин. — Которые побольше тебя в Русской Земле — князья-государи, да и то перед татарами голову клонят!..
— Ну, да то ведь князья!
— Им попы велят!.. Попы в церквах за татарского хана молятся! — послышались голоса, исполненные горестной издёвки.
Молодой воин, что похвалялся управиться с десятью татарами, гордо вздёрнул голову, презрительно хмыкнул и сказал:
— То правильно! Старшаки наши, князья, все врозь. Оттого и гибель Земле. Дерутся меж собой. Народ губят. А когда бы да за одно сердце все поднялись, тогда бы Батый этот самый хрипанул бы одного разу, да и пар из него вон!
— Дожидайся, как же! — послышался тот же язвительный голос, что осадил пария. — Станут тебе князья против татарина за едино сердце! Им бы только в покое да в холе пожить. Уж все города под татарскую дань подклонили!.. Больше всех наш Александр Ярославич старается. Что ни год — всё в Орду с данью ездит, ханам подарки возит. Татар богатит, а своего народа не жалко!
При этих словах, сказанных громко и открыто, у Настасьина кусок застрял в горле. От горькой обиды за князя слёзы навернулись на глаза. Гринька с жалобным ожиданием глянул на Гаврилу Олексича: чего же он-то на них не прикрикнет, не устыдит их, не заступится за Александра Ярославича?!
Олексич сидел неподвижно. Оп, правда, нахмурился, однако в разговор не вмешался.
За князя Александра заступился один старый воин, богатырского вида, с большой седой бородой, распахнутой на оба плеча.
— Полноте вам, ребята! — укоризненно и вразумляюще произнёс он. — Вы Батыева приходу не помните: маленьки в ту пору были. А я воевал с ним!.. Так я вам вот что скажу. Александр Ярославич мудро строит: с татарами — мир! Крови хрестьянской жалеет!.. Куда же нам сейчас с этакой силой схватиться, что вы!.. Когда бы одни татары, а то ведь они сорок племён, сорок народов с собой привели! Помню, где хан Батый прошёл со своими ордами конными, там и лесочков зелёных не стало: всё как есть татарские кони сожрали. Где, бывало, берёзовый лесок стоял-красовался, там после орды словно бы голые прутья из веника торчат понатыканы!.. На одного на нашего десять татаринов наваливалось!.. Да что говорить: ужели воитель такой победоносный, Александр наш Ярославич, да не знает, когда нам подняться на татар? Знает! Погодите, придёт наш час: ударим мы на Орду...
Молодые воины горьким смехом ответили на эти вразумляющие слова.
— Дождёмся, когда наши косточки в могиле истлеют!.. — сказал один.
— Дань в Орду возить — оно куда спокойнее!..
— Дорогу туда князь затвердил: ему виднее! — выкрикнул третий.
И тогда, как стрела, прыгнувшая с тугой тетивы, вскочил Гринька. Он швырнул наземь кусок жаркого и лепёшку, данную ему Олексичем. Голос мальчика зазвенел.
— Стыдно вам! — гневно выкрикнул он сквозь слёзы. — Да разве мало Александр Ярославич поту кровавого утёр за Землю Русскую?! Эх вы!
Голос ему перехватило. Он махнул рукой и кинулся прочь от костра — в глухую тьму бора.
Александр сидел на завалинке избы — большой, двухъярусной избы хозяйственного, не делённого с сынами северянина — и, опахнув плечи просторною и лёгкой шубою, крытой жёлтым атласом, прислонясь затылком к толстому избяному бревну, смотрел прямо перед собою в синее небо.
Светоносные толпища облаков — недвижные, словно бы с ночи застигнутые в небесной синеве, — были объёмны и резко отъяты от воздуха, словно глыбь мрамора.
Синь... тишь... Ласточки вереницами кружатся над озером. Где-то булькал ручей. Завалинка, на которой сидел Невский, была обращена к огороду, и едва не у самых ног князя лежали валуны капустных кочанов: до ноздрей его доходил их свежий запах. Дальше видны были жёлтые плети уже пустых огуречных гряд. А ещё дальше, под самым тыном, — большой малинник и долблёные колоды ульев.
Солнце, пронизывая затуманенный лес, раскладывало рядком, по косогору опушки, длинные светлые полосы: словно бы холсты собралось белить! Быстрый луч пронёсся по обширной поляне перед огородом, на которой высились войлочные шатры воинов, — пронёсся — и как бы спутал, расшевелил пряди тумана, подобные прядям льна. Туман медленно, нехотя, словно невыспавшийся седой пастух, растолканный мальчиком-подпаском, подымался с зелёной, обрызганной росою луговины, цепляясь за всё — за траву, за войлок шатров, за косматый лапник елей.
А далее, за поляной, в глубине леса, словно бы зелёные округлые фонари, сквозь плотный мрак елей светлелись кусты. Но уже не было слышно из этих кустов подлесника радостного чиликанья, посвиста и перепархиванья пташек. Бор уже дышал погребом.
Косые, наполненные туманом столбы солнечного света прошиблись там и сям, между чёрными стволами елей, и упёрлись нижними ширящимися концами в землю, подобные жёлтым, свежевытесанным брусьям, которые ещё народ не успел вывезти из бора, и так вот поприслоняли по всему лесу к деревьям.
Гулкий звук, подобный выхлопыванью палкой тугой перины, раздавшийся в тишине лесного утра, привлёк снимание Александра.
Князь прислушался. Звук исходил из-за угла избы, справа, то есть со двора. Двор старика был как добрая крепостца: крытый со всех сторон, образованный стенами амбаров и завозен, и только по самой середине его четырёхугольный просвет в небо.
Александр Ярославич поднялся на ноги, оставя шубу на завалинке, и осторожно прошёл из огорода во двор. Когда он присмотрелся со свету к полумраку крытого двора, он увидел вот что.
Как раз по светлому четырёхугольнику середины ходили чинно и неторопливо — по кругу, один чуть позади другого, — двое хозяев: сам Мирон Фёдорович, матерой старичище, и старший сын его Тимофей — покрупнее отца, русобородый богатырь, который уже года три-четыре как был женат и уже имел двоих ребятишек, хотя и жил всё ещё при отце.
Мирон Фёдорович, придерживая Тимофея за рукав белой длинной рубахи, легонько подталкивая его перед собою, не торопясь хлестал его по спине верёвочными вожжами.
А сын Тимофей гудящим басом, так же мерно, как мерно хлестал его отец, приговаривал всё одно и то же:
— Тятя, прости!.. Тятя, прости!..
Отхлестав Тимофея, сколько он счёл нужным, суровый родитель перехлестнул вожжи и повесил их на деревянный гвоздь в столбе навеса.
— Нехорошо, Тима, неладно, — увещательно произнёс он в завершенье, — ты ведь у меня большак!..
Сын Тимофей произнёс ещё раз: «Тятя, прости!» — и положил перед отцом земной поклон.
Стоявший всё время незаметно в тени, Александр Ярославич осторожно раскрыл калитку и, слегка покачивая головою, вышел снова на огород.
Спустя немного времени старик Мирон тоже вошёл с железною лопатой на огород и, в пояс поклонясь князю, проговорил:
— Дозволь, Олександра Ярославич, потрудиться малость по-стариковски: земельку пошевырять.
— В час добрый, в час добрый, — благосклонно отвечал Александр.
Старик принялся за работу — вскапывать грядки.
День становился всё теплее и теплее. Солнце сияло щедро, и если бы не жёлтые космы в тёмной зелени бора да если бы не эта щедрость и яркость лучей, словно бы воздух был промыт чисто-начисто, то можно было бы подумать, что вернулось лето.
От серых брёвен избы, нагретых солнцем, затылку Александра было тепло, словно прислонился к лежанке. Князь спустил с плеч шубу и сидел, наблюдая, как работает Мирон.
— А под чего же это ты, Мирон Фёдорович, земельку готовишь? — спросил Александр.
Старик поднял седую благообразную голову с не очень длинными, под горшок стриженными волосами, схваченными вкруг головы узким ремешком, и, взглянув на князя, неторопливо всадил лопату в грядку. Обведя загорелой и жилистой рукой свою большую, впродымь, бороду, он без торопливости отвечал:
— А лук-сеянец побросаю... Под снежок пойдёт. Зато весною лучок мой, что татарин: как снег сошёл, так и он тут!.. У соседей ещё ничевым-ничего, а мы уж лучок едим. Зато не цинжели ни одну зиму! А сосед Петро, в мои же годы, цингою помер!..
— Да какие ж тут у тебя соседи? — изумился Александр. — Медведи одни?..
Старик улыбнулся:
— Есть и медведи. Без них тоже хрестьянину не жизнь! Ходим и на них, зверуем... Вот коли дозволишь, то окороком угощу сегодня медвежьим... Ну и шкурка ведь тоже! Полезной, полезной зверь! А только и настоящие соседи есть: вот тут Захарьино — сельцо обо двух дворах, — вёрст пять, боле не будет. Закомалдино — в том пять дворов... две версты всего. Общаемся, как же!..
Он поплевал слегка и вежливенько на ладони и опять принялся за лопату. На полувкопе старик снял ногу с лопаты, нагнулся, поднял и отшвырнул червяка. Затем снова продолжал копать.
Дождавшись, когда он проделал это вдругорядь, Невский спросил:
— А зачем ты это, старина, нянчишься с ними, с червяками? Жалко, что ли?
Старик вздрогнул, поднял глаза на князя, воткнул заступ в землю и неторопливо ответил:
— Да ведь оно и жалко. Червь земляной — он земледельцу не враг. В особенности в огородном деле. Польза: земельку рыхлит, продухи в ней кладёт. Тогда пошто его губить, ползущего?
И, сказав это, он с удесятерённым рвением принялся за работу и орудовал своим заступом, доколе пот не закапал с его чела. Сгребая его крупные капли краем ладони и поправляя ремешок, сдерживающий волосы, он время от времени растирал рукою натруженную поясницу и, смущаясь от этого перед князем и как бы сам на себя лукаво подмигивал, говорил:
— У ленивого болит в хребте!
— Когда бы у меня все были такие ленивые! — сказал Александр.
Князю становилось хорошо и просторно на душе — не то от близости этого матерого, прозрачного духом старика-трудолюба, не то от вступающего в душу великого покоя окрестных лесов и холмов, осиянных щедрым солнышком последних тихих дней осени.
Слышалось звонкое шорханье железа лопаты о землю. Старик, извернув заступ боковой гранью, ловко и быстро мельчил комья вскопанной земли.
— Э-эх, не земелька, а пуховая колыбелька! — радуясь добротной вскопке своей, проговорил Мирон. — Да-а... скоро уже и мне земляную постельку постелют!.. — произнёс он в раздумье. — Пора, пора и мне под заступ — зажился.
Невский остановил его.
— Полно, — сказал он ему, — да ты ещё у меня повоюешь!
— Нет, уж отвоевал... где там!.. На воспожинки шестьдесят и один стукнуло... Сынов да внуков моих зови с собою, а я уж не воин!.. И то сказать: с покойным родителем с твоим, с государем Ярославом Всеволодичем, на Ригу и на Колывань ходил! До самого моря дошли. Ещё немного — и Рига наша! Тряслись они в ней, немцы, запёршись... Но только что батюшко твой согласился выкуп с них взять. А и не осудили мы его — год был тоже тяжкой: мох ели, кору, лебеду в Новгородской-то области — кто что измыслит... А серебро, и пушное рухло всякое, литьё — ну, словом, всё, что вздумал князь, то и взяли с них. Оси горели у телег — до того мы всякой всячины от них повезли!.. И мир взяли на всей воле нашей... Кажному так своевать бы!.. Строительной был государь... А чтобы зря это ему крови пролитие делать — это он недолюбливал...
Оказалось, что старик даже и Всеволода Большое Гнездо, деда Невского, видывал и запомнил.
— Слыхать было, что воитель был тоже добрый дедушко твой, царство ему небесное, Всеволод-то Юрьич. Да и государству строитель. Слава ходила об нём. Словутной был государь, словутной!..
Невский расспрашивал его, каков был собой Всеволод Юрьич.
Мирон задумался, словно бы всматриваясь куда-то далеко-далеко.
— Проезжал он мимо нас на буртасцев... Ну... В трубы бьют. Войско... Кони все... в ряд!.. И вот, самого как сейчас вижу: лицом тонок... благолепен... нос тонкой... борода простая, невеличка… Волосы — по-хрестьянски... Но... грозо-ок!
И это было почти всё, что мог припомнить старик о великом деде Ярославичей... Но и тем Александр был чрезвычайно доволен.
— А ну-ка, старина, — сказал Невский, вставая с завалинки, — дай-ка я тебе копану грядку! Давай, давай!
И, пресекая все возражения старика, он взял у него из рук заступ и принялся копать.
Мирон Фёдорович стоял некоторое время в какой-то оторопи и словно бы глазам своим не верил, что вот на его огороде, своей высокой рукой, одну из грядок, где будет посажен обыкновенный деревенский овощ, вскапывает ему сам Невокой!.. Да нет уж! И молчать придётся про то перед людьми! Совсем, скажут, спятил старый Мирон: уж ему и князь Невской гряду на огороде вскопал!
Несколько раз пытался старик молвить какое-то заветное слово, но всё не хватало духу.
Наконец сквозь слёзы растроганности произнёс, кивая головой:
— Да где же, в каком же раю небесном, цветы мне те добыть, чтобы теперь на этой гряде посадить?..
Александр, не подымая головы, рассмеялся:
— Лучком, лучком меня угости с этой грядки о будущу весну, как проезжать стану... Ну, и ещё кое-чем, что от веку положено военным людям...
Ярославич в кою пору управился со всеми оставшимися грядами, но зато от непривычки натёр себе мозоли.
— Отвык, отвык, — произнёс он, разглядывая ладонь. — А ведь вот от меча — никогда! А бывало, ведь от утренней зари пластаешь и до вечерней!..
Старик осмелел:
— Да ведь вот какое дело, Олександра Ярославич: на ладошки вперёд поплевать надо, — ты уж не огневись за такое грубое слово! Этак вот...
И старик, взяв заступ из рук Невского, показал, как полагается обходиться с лопатой, чтобы не натирать мозолей.
— Ведь где тут причина? — продолжал Мирон. — А причина в том, что чёрен-то лопатный — он ведь ходит в ладони взад-вперёд... ёрзает... — Старик улыбнулся и глянул на Александра: — Ну, а меч-то ведь, поди, в твоей руке не заёрзает?
Невский сквозь негромкий смешок в тот же голос ответил ему:
— Да нет, кто отведал, те не жалуются!..
Александр со светлой лукавинкой в синих глазах глянул на стоявшую на столе, поверх белой скатерти, большую деревянную чашку с золотыми разводами, полную янтарным пахучим мёдом, среди которого, погрузясь в него, обломки сотов торчали, словно бы крыги взломавшегося льда в ледоход.
И старик понял.
— Милава! — позвал оп.
И тотчас же смуглая, полная и рослая красавица невестка — жена того самого старшака Тимофея, по чьей спине утречком гулко прошлись вожжи, — вступила в горницу походкой упругой и лёгкой, но от которой, однако, позыбились чуть-чуть половицы крытого яркими половиками пола, когда она остановилась перед свёкром-батюшкой и перед его высоким гостем, ожидая приказаний.
Трудно было не залюбоваться большухой. Благословенна земля, по которой ступают такие матери! Добрых породят они, добрых и воскормят сынов!
Вспыхивая зарницей румянца на смуглых яблоках щёк, с чёрной родинкой на правой, покоя на них большущие ресницы, стояла Милава сама не своя, потупя очи, и видно было по отрывистому вздрагиванию её красивых больших рук, смиренно приведённых ко грудям, как шибко бьёт у неё сердце!..
По лицу Невского видно было, что князь хотя бы и не хотел, да полюбовался-таки старшею невесткою. И от этого, гордый за сына, Мирон Фёдорович обратился к невестке уже не таким строгим голосом, как вначале, а куда ласковее и задушевнее.
— Милавушка! — сказал он. — А слазь-ка ты, доченька, в подпольице да посмотри тамо: нету ли чего... на муськой полк?
Милава вскоре внесла на деревянном резном блюде глиняный обливной, с запотевшими стенками кувшинок и при нём одну серебряную стопку и одну простую, зелёного толстого стекла. Помимо того, на подносе стояли миска солёных рыжиков, блюдо с пластами медвежьего окорока и другое — с хлебом. С поклоном поставя это всё на стол перед князем, сидевшим в переднем углу, под образами, она вышла.
Мирон Фёдорович бережненько и дополна налил зеленоватым домашним серебряную чару и на блюде поднёс её с глубоким поклоном князю. Он стоял так, доколе Невский не принял стопки.
Держа её в руке, Александр молча повёл глазами на другую — что зелёного стекла. Старик не заупрямился.
— Ну, ино и я изопью стопку, твоим изволеньем, княже! — сказал он и налил себе.
— Ну вот и добро! — сказал Невский.
Они выпили и тотчас же закусили кусочком хлеба с солёным рыжиком. Никто не обеспокоил их за трапезой. Они неторопливо беседовали.
— Вот, Олександра Ярославич, — сказал Мирон, — слыхать было по народу, что ты дале-еко в Татарах побывал в дальнем царстве... И якобы два года там прожил?
— Полгода ехал туда. Полгода — обратно. Год прожил, — отвечал Александр.
— Ой-ой!.. Нам даже и невдомёк, что этакие дальние державы существуют...
Александр помолчал.
— А что, Олександра Ярославич, — продолжал расспрашивать старик, — правду ли говорят, что эти татары... сусликов жрут?
Невский улыбнулся:
— Правда.
Старик пришёл в ужас.
— Эго што же будет?.. — воскликнул он. — Микола милостивый!.. — Он полуобернулся к тёмным образам. — И этакому народу покоряться пришлося?.. За грехи, видно, наказует господь!
Выпили по второй — закусили медвежатиной.
— А в какую же они веру веруют, эти татары? — спросил Мирон, когда разговор возобновился.
— Во всех богов! — ответил Александр. — Старшая ханша у них — та христианка... Приносят её в церковь.
— Как?.. Ужели и церкви у поганых у них есть?..
Мирон Фёдорович долго не мог оправиться от изумления. Видно было, что он хочет, но и не знает, как спросить князя о волнующем его предмете.
— Давай, давай... — ободряя его, сказал Невский.
— Ты вот говоришь, государь, что ходит-де и в церковь эта самая ихняя царица, или как сказать... Так вот и подумалось мне худым моим умом, что нельзя ли через это самое льготу какую-нибудь хрестьянам... А то ведь чисто задавили пахаря: десятую часть от всего отдай на татарина! Как дальше жить станем? А тут бы он, священник, ей бы, царице татарской, укоризненное слово сказал бы: «Вот что, мол: и ты во Христа веруешь, и они, русские, тоже во Христа веруют!.. Тогда дай же ты им льготу каку-нибудь!.. Ведь ограбили, мол, уж дальше и некуда! Прямо как к жиле припали — и сосут, и сосут!.. Уж на ногах народ не стоит!.. Ты, мол, христианка, скажи своему-то мужу, царю!..»
Печально усмехнувшись, Невский растолковал старику, как смог, что ничего, кроме вражды, эти живущие у татар греческие попы-еретики к русскому народу не питают.
Мирон восскорбел:
— Прости, Олександра Ярославич, прости!.. Не во гнев буди сказано!.. От худого разума молвил... но сердце кровью подплывает — смотреть на православных... Тяжко живут, тяжко... Думаешь, чем бы помочь…
— Видишь ли, какое дело, старина, — как бы в раздумье произнёс Невский. — Вот мы с тобой тут думаем, что они там, в Каракоруме в своём, только о нашем, о русском народе и помышляют. А они ведь, татары, сорок народов, сорок царей под себя подмяли. Иные тамошние вельможи даже и не ведают; где и какая такая Русская Земля... И откуда она, от каких мест и по каких мест...
Старик вдруг побагровел, глава его валились кровью, борода затряслась. Расплёскивая, он поставил стопку на стол. Оборотясь лицом ко князю, протянул перед собой большую, искорёженную полувековой работой руку и, потрясая ею, сказал:
— А ты им вот что скажи, Олександра Ярославич, поганцам таким: «Наша, мол, Русская Земля — но тех мест, куда плуг ходил да соха, куда топор ходил да коса... по тех, мол, пор и Русская Земля!..»
Говорили и о семейном. Старик расчувствовался и позволил себе слегка даже похвастаться домашними:
— Да-а... троих своих дочек из-под крыла в чужие люди выпустил — и не слыхать от сватов жалобы на нашу кровь! А и я двоих чужих дочек под своё крыло принял — и мы со старухой, с Дарьюшкой, тоже на чужое воспитаннице не жалуемся!.. Одноё-то невестушку видал, государь, — Милаву.
— А как другую зовут у тебя? — полюбопытствовал Невский.
— Другую невестоньку зовут у нас Анастасея. А мирски опять же — Светлана, — пояснил Мирон Фёдорович. — Вот погости у нас — покажем и ату... Авось не охаешь... Правда, не без норова бабочка, — прибавил батюшко-свёкор и даже слегка поскрёб бороду и поморщился. — Милава — та поспокойнее.
— Да-а, — сказал Александр, — норов, видно, у неё одинакий с Тимофеем.
— Вот-вот, — обрадованно подтвердил Мирон.
— Норов у Тимофея твоего смиреннее некуда, — продолжал Невский. — Сам с бородой, с усами, у самого детишки, — ты его бьёшь, а он: «Тятя, прости!» Нынче не каждый сын такое стерпит.
У Мирона как бы и речь отнялась! Опомнясь, он с возмущением отверг то, что он бил Тимофея:
— Что ты, что ты, Олександра Ярославич?.. Что ты, свет-государь мой?.. Мыслимое ли такое дело — бить?! Да у нас и в по́быте этого нету в семействе!.. Ведь мало ли какое поврежденье можно сделать... В запале ежели по уху ударишь, то и навек глухой!.. Но что действительно я его, Тимофея, малость поучил, отцовски, — от того не отрекаюсь!.. А и поделом, Олександра Ярославич, а и поделом!.. Тем семья стоит!..
Александр с большим усилием удержался от улыбки и пожелал узнать, в чём это провинился старшой.
— Нет уж, Олександра Ярославич, будь до меня доброй: пускай уж лучше не скажу я твоей светлости!
— Я с тебя воли не снимаю. Бывают художества, что лучше никому чужому и не знать.
— Господи боже милостивый! — воскликнул старик. — Да разве от тебя што может быть в добром семействе тайное? Ты же и над отцами отец!.. Ради бога, не подумай, что в татьбе попался али в другом в каком нехорошем... Однако всё же стыдно сказать в княжеское ухо...
Тут Мирон Фёдорович, понизя голос, прикрыв рот ладонью, шепнул князю:
— От жены от своей да на́ сторону стал посматривать!..
Сказав это, грозный старик отшатнулся и глянул на князя, как бы желая увидеть, сколь потрясён будет князь этакими бесчинствами Тимофея.
По-видимому, ему показалось, что вид у Александра Ярославича довольно-таки суровый.
Тогда, несколько успокоенный, что стыдное признанье как-никак сделано, Мирон Фёдорович продолжал:
— Да ведь мыслимо ли такое дело в хрестьянском семействе? Да ведь он же у меня старшак. На него весь добыток свой оставлю. Он у меня как всё равно верея у ворот!». На нём всё держится!..
И старик гневно засверкал очами.
День начался осмотром льняного обихода у Мирона Фёдоровича. Сперва Александру казалось, что займёт это час-другой, не больше, а потому, когда Андрей-дворский утром пришёл из стана получить приказанья, то ему было сказано держать коней под седлом. Но вот уже и солнце стало близко обеда, и лошади истомились под седлом, а и конца-краю не видать было льноводческим премудростям, которые сыпались на голову князя. А старик Мирон ещё только входил в раж.
Упоённо он рассказывал и показывал князю всю премудрость льноводства. Он объяснял ему и сушку в поле, и вязку, и обмолот, и расстил, и подъём льна, и опять — вязку, и возку, и сушку на стлище, и в сушилке, и подготовку горстей, и мятьё...
— А подыми ты его вовремя, — строго помахивая пальцем, внушал он Александру, — не дай ему перележать! А то волокно будет короткое!.. За такое большую цену не возьмёшь!..
— Погоди, старина, погоди маленько! — остановил князь Мирона. — Скорописца! — молвил он вполголоса.
Через краткое время вприбежку, к тому самому изволоку, на котором стояли Невский с Мироном, возле озерка, заспешил молодой дьяк, в песчаного цвета кафтане, с каким-то странным прибором, наподобие тех лотков, с которыми на шее расхаживают по торжищу пирожники да сластёнщики.
Пока он поспешал ко князю, скорописная доска на ремне висела у него под мышкой. Подойдя же, он быстро наладил её так, что теперь она висела у него откинутая на груди, перед глазами, и можно было писать. Слева в доску врезана была бутылка с чернилами, завинченная медной крышкой, а рядом, в прорезе, вставлена была связка гусиных, тщательно очиненных перьев.
— Пиши! — приказал Невский. — Говори, говори, старина! — обратился он к Мирону. — Велю записать для памяти.
Старик поклонился и, преисполнясь необыкновенной важности, заговорил медленно и с отбором:
— Теперь: где его вылёживать лучше? — задал он как бы вопрос Александру и сам же на него и ответил: — А вылежка ему — возле озерка где-нибудь... на лугу... Постилка — не густо, ровно... чтобы путаницы не было. Хорошее росенье — льну спасенье!.. Лён дважды родится: на поле, а и на стлище...
Сперва старик, приноровляясь к скорописцу и время от времени на него оглядываясь, повествовал размеренно и спокойно. Но потом его стало разбирать, и вскоре он забыл обо всём, кроме льна. Он забыл, что говорит с князем. Сейчас это был учитель, наставляющий ученика, мастер, назидающий подмастерья!..
— А суши, как надо! — воскликнул он сурово, почти крича на Невского. — Чтобы в бабках у тебя лён стоял как надо! Плохо поставишь бабки — ветер повалит али скот, — тогда снопок не сохнет, а гниёт. Ну, а уж ежели да дождь прихватит, тогда ты не льноводец!.. Нет, тогда ты не льноводец! — грозно повторил он.
Александр слушал безмолвно, боясь проронить хоть единое слово, как бы и впрямь назидающийся ученик. Он вспомнил, сколько, по его недосмотру, гниёт и мокнет поваленного в бабках льна. Насмотрелся он этого безобразия досыта в вотчине своей — в Переславле-Залесском.
Меж тем перешли уже в овин, и Мирон тут же показал трепанье льна:
— А по́весьму на трепале клади вот эдак.
Потом заставил поорудовать на псковской льномялке и самого Ярославича. Старик остался доволен его работой.
— Вот-вот, — говорил он, — мни лён боле — волокно будет доле!.. Ну а я ведь ещё и пальцами прочешу... вот так. Эдак вот не пожалей спинушки, да рук, да перстов, то будешь со льном! И крепкой, и тонкой, и маслянистой, а и мягкой будет ленок... Да вперёд подборку сделай волокну, перед тем как на продажу везти, — без барыша не будешь!.. Да и в обновке походишь — и ты, и домачние твои!..
Уже третий день на заимке Мирона Александр Ярославич творил проезжий княжеский суд. А люди всё шли и шли, и откуда шли — неведомо! Прослышав, что князь остановился в сельце у Мирона, иные приволоклись и за сто вёрст с тяжбами добатыевской давности. У иного лет двадцать назад сосед на пирушке подрал малость бороду или зуб выбил; с тех пор всеобщий обидчик, на которого — увы! — и челобитья-то некому подать, — беспощадное время и все зубы до единого выкрошило у бедного истца, — ан нет! — он всё ж таки тот зуб припомнил, который у него сосед отъял, и набрал-таки, выставил должное число послухов — очевидцев, и подаёт жалобу князю! Главное — в том, что «сам Невской судить будет!». Да пускай хоть и прогонит Ярославич или велит помириться, что он и делал в таких случаях, а всё ж таки: «Перед самим Невским мы с ним на тяжбе стояли!» — будет чем похвастаться отныне и тому и другому и перед дальним соседом, да и внукам будет что порассказать...
Приведены были на этот безотменный суд иные дела и пострашнее! И душегубство, и церковная кража, и поджог, или — холоп убежит, а его поймали; или — от податей бегает, или же — конокрадство! Таких злодеев приводили «всем обчеством» или же со старостой и с понятыми.
Кто приплыл на лодке, кто конём приехал, а кто и пешком пришли — с жёнами, с детьми; иные даже и коровку пригнали: не загубить бы дитя!
На опушке, под лохматыми елями, которые и дождь не пробьёт, раскидывали просмолённые палатки; вешали на сучках зыбки; расстилали войлоки; ставили треноги с котлами — варили «юху». Замелькали кой-где и торговцы — кто чем. Цыган пригнал лошадей. Словно бы другой стан — побольше дружинного — раскинулся возле Миронова двора.
Не успели дружинники обрядить коврами амбарное крылечко и установить на нём кресло, с которого должен был судить Александр, как жалобщики уж заприметили князя, когда он возвращался от дружинного стана, и с поклонами и жалобным гулом обступили его.
— Князь, с докукой к тебе! — заголосили смерды.
— Ну, докучайте, коли пришли, — сдерживая раздражение, ответил Александр.
И чего-чего только не пришлось ему услышать за эти каких-нибудь полчаса, что стоял он, высясь над толпою, под сенью огромной, как бы венценосной сосны!
Слушая их и нарочно не перебивая, Александр в ужас пришёл. «Да уж если у меня под носом, в моём именье, на вотчине, этакое творят бояре да тиуны мои, то что же в остальной области?» — подумал он.
Кричали и женщины и мужчины:
— Что такое, княже? Ягод не велят в лесах брать, лык не драть, тонь не ловить, с лучом не плавать, и перевесища не ставить, и леса не рубить... Скоро не жить, скажут, хрестьянам?..
— А всё — игумну, да иконому, да братии: им — и земля, им — и вода, им — и ловища вовек!..
— Межника пришли, землемерца: пускай размежует он нас с ними! А то отойти остаётся от тебя, всё побросать, да и только!
— Мы на твоей земле, считали, сидим. Ты — хозяин.
А они пускай не встревают. Уйми их! А то все подымемся и уйдём. Только и делов!
Александр понял, что и впрямь недалеко до беды. «А что? И подымутся, и уйдут. Не к другому князю — то в дебри забьются куда-нибудь, к лешему. Хозяйство мне порушат, скот загубят».
Надо было и пристрожить, и ввести эти жалобы и вопли в какое-то русло.
— Ну? — грозным окликом остановил князь разошедшуюся толпу. — Что же это вы целой помочью пришли? Кто у вас от народа докладчик?
Толпа стихла, и начались толчки, переговоры и поиски.
— Докладчика, докладчика ставьте... Зубец! Зубец где?..
Угомонившаяся толпа вытолкнула перед князем небольшого, редкобородого, разбитного мужичонку в белом холщовом азяме, в лаптях и в тёплой шапке в виде отвислого назад колпака.
Он сдёрнул с головы шапку и в землю поклонился Александру.
Звонким голосом Зубец начал излагать мирские жалобы.
— Огосподствовали земли наши, освоили, — говорил Зубец. — Просторно, а податься некуда: тут тебе боярин, тут тебе монастырь. Иконом себе грамоты на рыбную ловлю вылгал, а то искони мирское... Стариков спроси.
Зубец оглянулся вполоборота.
— Правильно! — послышались возгласы.
— Не успеешь притеребить пашню, лес извести, пни покорчевать, а уж к тебе монастырской ключник приходит: «На монастырской земле сидите: несите нам пятый сноп!»
— О-ох! — послышался из толпы скорбный голос худощавой женщины в платке. И всякий раз, стоило только Зубцу перечислить ряд податей, повинностей и налогов, как женщина скрепляла это перечисление своим скорбным возгласом.
— Тяжкую налогу несём, князь, смилуйся, — говорил Зубец. — Сам рассуди: и поплужное берут с нас, и мостовщику, да ежели скота пятнать — опять же за пятно плати; да подводы, да волостелю твоему — и подъездно́е подай, и корма́, и прощальное...
— О-ох!
— Да с возу, да передмеру, как продавать станешь, да потом весчее, да...
И снова тот же жалобный возглас женщины в толпе. Александр с досадой глянул в ту сторону. Женщину заслонили от него. Но она всё так же продолжала стоять, пригорюнясь на руку, и время от времени подводила итог безрадостному перечислению крестьянских невзгод.
Зубец перешёл к перечисленью ордынских даней:
— Да десятина татарская, да ловитва ханская, да запрос, да поминки, да дары, да тамга...
— О-ох!
Это причитанье взорвало князя.
— А вот что, мужики! — громко произнёс он. — Что же вы думаете? Я не знаю, чего и сколько Орда берёт с вас?.. Меня они зорят тошнее вашего!..
Княжеский окрик осадил жалобщиков.
— Чего ты понёс не в ту сторону? — крикнули из толпы на Зубца. — Не к тому тебя ставили перед князем!
— Ты про боярина Генздрилу расскажи...
С правой руки от князя стал мирской истец, с левой — ответчик Генздрило.
Достаточно было взглянуть Невскому на хорьковое, обтёкшее жиром лицо управителя, как всё для него стало ясно.
— ...Все дани-подати подай ему: и гостиное, и весчее, и пудовое, и резанку, и побережное, и сторожевое, и медовое, и ездовое... — докладывал всё тот же Зубец.
И снова после его слов раздалось в толпе неизменное:
— О-ох!
Александр приказал удалить охавшую женщину.
За нею печально побрёл её муж.
— Доохалась? — укорял он её дорогою.
Суд продолжался.
— Истинно говорит? — обратился Александр к толпе, останавливая мирского докладчика.
— Истинно! — загудели все враз.
— Что скажешь? — спросил Невский Генздрилу.
Тот молчал.
— Продолжай, — сказал князь Зубцу.
И тот продолжал:
— Ну, ничем сыт не живёт! Наедут, наедут... со своими и корму спросят, сколько их чрево возьмёт! И чтобы не в зачёт им! Как где заслышит — престольный ли праздник, али у кого свадьба, али братчиной пируют, — и сейчас он тут!.. И полного требует угощенья!.. Ну, это бы ещё терпели! Но вот он сам дитё родит, — а мы же ему праздник подымай! А если к нему с челобитьем стукнешься или хоть только в писцовую избу, то изволочат до смерти, измытарят! Берут с обеих сторон — и от правого и от виноватого. Судиться у него — не приведи господь! Виноватого оправит, правого обвинит!..
Невский прервал Зубца и опять спросил: верно ли говорит он? Все подтвердили. Генздрило молчал.
— В железа его! — стиснув брови, гаркнул Александр.
Воевода заплакал. Стал подгибать колени, но ему не дали упасть в поклон двое мечников, подхвативших его под локти.
— Отдай, государь, вину, не серчай! — всхлипнув, прокричал боярин.
Невский только махнул рукой, чтобы уводили.
— Правильно! Давно пора его ссадить!
— Поплачь, поплачь! — кричали боярину злорадно.
Невский обратился к Зубцу:
— Ты грамотный?
— Аз-буки прошёл, — отвечал он.
— В дьяки к новому воеводе пойдёшь? — спросил Александр и, не дожидаясь ответа, обратился ко всем: — Каков он у вас на счету, а, миряны?
Толпа одобрительно загудела:
— Мужик хорошой!
— Бесстрашной!
— За мирское дело ни спины, ни жизни не пожалеет!..
Зубец, взволнованный, растерянно разводил руками.
— Да какой же я дьяк?
— Мне такие люди нужны! — сказал Александр. — Будь же и на высоком месте таков!.. А заодно вам и воеводу нового ставлю... Меркурий! — позвал Ярославич.
— Я тут, княжо! — послышался сильный голос из среды стоявших у помоста дружинников.
— Подойди!
На крылечке, рядом с креслом князя, вырос могучий, ещё не старый дружинник.
— Вот вам волостель новый и воевода! — сказал Александр. — Этот на пиры да на братчины незван не пойдёт... Он за вас, за хрестьян, со мною в другом пиру пировал, в Ледовом!.. Чай, слыхали?..
— Слыхали, Олександра Ярославич!.. Ну как же не слышать! — раздались голоса.
— Думаю, тот, кто крови своей за родного за пахаря не пощадил, тот на трудовой его добыток не пожадует!.. Верно, Меркурий? — обратился он к новому воеводе.
Дружинник долго не мог произнести ответного слова. Наконец, совладав с собою, словно бы клятву давая, проговорил:
— Да ежели, государь... да ежели только, Александр Ярославич, я твою за меня поруку хоть чем-либо оскверню перед народом, то пускай же от родителя мне проклятье, от сынов поношенье!..
Вторым предстал перед князем пойманный в лесах беглец из числа его собственных тяглых людей — в изодранной одежде, с волосами как перекати-поле. Звали его Онуфрий Неудача-Шишкин.
Невский долго всматривался в смерда, опершись рукою о колено. Наконец спросил хмуро:
— От пашни бегаешь, от тягла?
Неудача-Шишкин метнул на князя взгляд из-под белёсых бровей, вздохнул и что-то принялся шептать, покачивая головой.
— Что шепчешь? — повышая голос, спросил Александр.
— А с сумою шепчусь, государь. Богат шепчется с кумою, а бедный — с сумою.
Кое-кто рассмеялся в толпе. Ярославич гневно рванул складку рубахи на плечо.
— Перед князем стоишь, смерд! Довольно тебе скоморошить! В последнее говорю — пусть все слышат: когда не сядешь на пашню, как все соседи твои, — в земляном по́рубе велю сгноить тебя, захребетника, не́тяга!..
— Воля твоя, князь, — отвечал смерд, — что ж... не привыкать... нашему Мине начёсано в спине!.. Вот говорят: дважды и бог не мучит, а селянину сколько от всех мук — и от боярина, и от татарина, и от князя!.. Уж лучше в порубе сдохнуть...
Александр поднялся на ноги.
— Доброго от тебя и не ждал услышать, — сказал он. — От худыя птицы — худые и вести! В железа его!..
Двое десятских поволокли мужика в сторону завозни, в которую до поры до времени приказано было дворским сажать всех, кого князь велит заключить под стражу.
Мужики негромко сострадали.
— Эх, Онуфрий, Онуфрий! — говорилось ему вслед. — Ну, и впрямь же ты Шишкин, да и Неудача!
Один молодой мужик, со светлым, соколиным взором, тронул беднягу за рукав рубахи и, не особенно даже и таясь от десятских, проговорил:
— Не бойся, Онуфрий: не в поруб сажают, ночью жерди вынем с крыши — выпустим.
Ярославич вот-вот должен был отъехать. Уж пересудил всех, кто жаждал княжого суда. В последний раз, как бы прощаясь, проходил осенней опушкой. Почему — он и сам не знал, жалко ему было расставаться со светлой этой поляной на холме. И невольно вспомнилось: «Этак вот дед Юрий присохнул сердцем к безвестному лесному сельцу — на стрелке между Яузой и Москвой, — а ныне, гляди ж ты, как ширится городок! Проезжая на сей раз через Москву, диву дался. Давно ль, кажется, после Батыева нашествия одна только гарь осталась, уголья да трупы, — думалось, что и место быльём порастёт, — ан, смотри ты, едва прохлынула татарва, а уж набежал, набежал народ, и опять поднялся городок... Видно, быть здесь доброму городу!.. Дед Юрий далеко видел! Ключ ко многим путям — что из Киева, что из Новгорода — отовсюду через неё, через Москву. Купец никакой не минует: ни царьградский, ни гамбургский, ни готяне, ни шведы!.. Да и кремль дедом Юрьем срублен где надо. А ежели камню наломать да как следует стены скласть, то и крепость будет не из слабых...»
...На изгибе опушки Невский заметил доктора Абрагама — в чёрном всегдашнем одеянье и в чёрной шапочке. Седые кудри еврея отблёскивали на солнце словно ковыль, шевелимый ветерком.
Ветерок донёс голос Гриши Настасьина.
— Вот он, мяун-то корень! — кричал он, подбегая к старику и помахивая в воздухе какой-то длинной травой, вырванной с корнем.
«Травы собирают, — догадался Александр. — Ну вот и хорошо! Приставил парня к месту...»
— Настасьин! — позвал он.
Мальчуган повернулся в сторону Невского и кинулся было на его голос. Однако тотчас же вернулся к доктору и что-то сказал ему, очевидно отпрашиваясь. Абрагам кивнул головой. И Настасьин, нагнув голову, по-видимому воображая себя на коне, понёсся навстречу Александру.
— Здравствуй, государь! — приветствовал он князя, сияя лицом и придерживая расколыхавшуюся плетёную корзину, что висела у него через плечо.
— Здорово, здорово! Ну как, по душе тебе у доктора Абрагама?
— Всё равно как с деданькой. Я ведь с тем тоже травы собирал, корешки рыл. И этот тоже нагибаться-то уж не может...
Приблизившийся Абрагам приветствовал князя. Невский протянул ему руку для рукопожатия.
— Довольны вы, доктор Абрагам, своим юным помощником? — по-немецки спросил Невский.
— О государь! — отвечал тот, тоже по-немецки. — Я чрезвычайно благодарен вашему величеству. Гиппократ Косский был, несомненно, прав, когда говорил своим ученикам, что он многим обязан в познании целебного могущества трав старым женщинам из простого народа. У этого отрока его покойный дед, оказывается, был таким именно врачевателем от натуры. Этот мальчик знает многие травы, которыми не пренебрегаем и мы, медики. И часто мы только разными именами означаем одно и то же.
Доктор Абрагам ласково положил свою руку на голову Гриши Настасьина.
Александр шёл к коню. Мирон провожал его до седла, но вдруг Ярославич замедлил шаг, оглянулся и многозначительно произнёс:
— Хорошо, светло здесь у вас — ничего не скажешь! Но только, знаешь ли... уж очень ты на путях живёшь... Отодвинь заимку свою куда-либо вглубь! Места есть добрые. Я прикажу тебе пособие выдать и подъём. Людьми помогу... Времена шаткие!..
Старик с одного взгляда понял всё, чего не договорил князь.
— Нет, Олександра Ярославич! Ввек этой ласки твоей не забуду, но только никак того нельзя: тут родитель у меня похоронен!..
Он посмотрел испытующе в лицо князя из-под седых кустистых бровей и сказал:
— А может быть, ещё и переменит бог Орду?
Невский ничего не ответил.
Они проходили мимо бревенчатой стены кладовой, которая в летнее время служила местом ночлега для младшей четы в семье Мирона: для младшего сына Олёши и для жены его Настасьи.
Эти оба только что успели вместе с матерью-свекровью вернуться с пашни. Старуха сама не осмелилась выйти проводить князя, а сыну и невестке не позволил Мирон: сын, дескать, в трудовом одеянье, а невестка лица на пашне от солнца не берегла и, как цыган, загорела!
Александр приостановился и вслушался: за бревенчатой стеной плакал и причитал молодой женский голос:
— До чего ж я несчастная!.. Этой толстухе Ми лавке вашей... корове... ей вечно всё выпадает доброе: из своих рук его угощала... А я... вот окаянна-то моя головушка... проездила... проездила!..
— Кто у тебя рыдает? — спросил Александр.
Мирон Фёдорович только рукой махнул.
— Ох, и не знаю, как сказать тебе, государь: младшая невестка Настя... как сдурела!.. Горе её, вишь, взяло, что не довелося ей из своих рук тебя угостить...
Невский улыбнулся.
— Ах, кваску твоего, с искрой, выпил бы я на дорожку! — сказал он громко.
Старик кивнул князю и подморгнул.
— Настя! — подал он зычный голос: — Настя! — повторил он грознее, когда не последовало ответа.
— Чево? — отозвался из амбара набухший от слёз голос.
— Подь сюда! — позвал батюшко-свёкор.
В распахнувшейся двери амбара показалась юная светловолосая босоногая женщина с красивым, резким и загорелым лицом — этакая «нескладень-девка», как говорится в народе, но именно с той нескладностью, которая подчас бывает страшнее молодецкому сердцу всяких вальяжных, лебедь-белых красот.
Увидав Невского, она хотела было скрыться.
— Куда? Вот сайга дикая! — прикрикнул на неё свёкор. — Для князя кваску... на дорожку... Живым духом... В бочонке, что в углу!..
Настя мгновенно исчезла.
Они подошли к громадному вороному жеребцу князя, и Александр собирался уже принять повод из рук дворского, когда, запыхавшись, не успев даже вытереть с лица следы слёз, с туесом в руках и с чашкой примчалась Настя.
Она поклонилась князю и решительным движеньем всунула чашку в руки свёкра и приготовилась наливать квас из туеса.
— Ох нет, — сказал, улыбнувшись, Александр. — Люблю прямо из туеса — совсем аромат другой!
Он взял у неё берестяной туесок и с наслажденьем принялся пить. В тёмном квасе отразилось его лицо: словно бы когда в детстве заглядывал в колодец.
Возвратив туесок, Александр Ярославич только что успел повести глазами, отыскивая дворского, как тот уже стоял возле него, держа раскрытый ларец.
Князь глянул внимательно в ларец и извлёк оттуда жемчужные серьги. Он положил их на ладонь и ещё раз посмотрел, хороши ли они.
Настя стояла, не смея поднять глаз.
Невский протянул руку к её заалевшему ушку — сначала к одному, потом к другому — и, разжав золотые зажимания серёжек, нацепил ту и другую.
— Носи! Не теряй! — сказал он.
Настя закрыла широким вышитым рукавом глаза. Видно было, что она не знает, что надлежит ей сделать, чтобы поблагодарить князя. Вдруг решительно отняла руку от глаз и, привстав на цыпочки, поцеловала Невского прямо в губы.
Вспыхнул Ярославич.
А она, уже отбежав немного, остановилась и, оборотясь на прощанье, выкрикнула сквозь радость и слёзы:
— Уж когда мне головушку сымут, тогда только и серёжки эти отымут!
Ярый конь бил копытом в землю. Распахивал ветру тонкие ноздри: «Хозяин, пора, пора!..»
Александр стоял, положа руку на гриву коня, готовясь вдеть ногу в стремя, когда детский восхищенный голосок произнёс очень громко в наступившей тишине:
— Ой, мама, мама, гляди-ко — государь голубой!..
На Невском был в час отъезда шёлковый голубой зипун, отделанный чёрного шёлка кружевом с серебром.
Князь обернулся.
В толпе женщин и ребятишек, глядевших на сборы и на отъезд, он сразу отыскал ближе всех к нему стоявшую белоголовую девчонку лет пяти, с красными бантиками в льняных косичках. Мать, смутившаяся до крайности, стояла позади неё.
Невский сделал шаг по направлению к ним и слегка докоснулся ласково до головы девочки.
— Ну... красавица... — только и нашёлся сказать он.
Лицо матери как полымем взялось.
— Ох, теперь оздоровеет! — вырвался у неё радостный возглас.
И ещё не успел уразуметь Ярославич что к чему, а уж и другая мать, с лицом исступлённым и словно бы истаявшими глазами, вся в поту и тяжко дыша, стремительно подсунула ему под самую руку уж большенького, лет шести-семи, сынишку, который пластом, по-видимому уж в полубессознательном состоянии, лежал поперёк её распростёртых рук.
Лицо у мальчика было непомерно большое, отёкшее и лоснилось. Он дышал трудно.
И с такой властью матери в голосе выкрикнула она: «Ой, да и до моего-то докоснися, государь!.. И до моего-то докоснись, Олександра Ярославич!» — что Александр невольно повиновался и тронул рукою плечо больного.
Потом только сообразил:
— Да что я, святой вам дался, что ли?! — гневно воскликнул он, резко повернулся и пошёл снова к коню.
Но женщина его и не слушала больше! Ей уж ничего от него и не надо было теперь. Лицо её просветлело непоколебимой верой. Оборачиваясь к соседним ей женщинам, она говорила — и одной, и другой, и третьей:
— Уж теперь оздоровеет!.. Сойдёт с него!.. Змея ведь его у меня уклюнула в пятку... Грибы собирал...
А меж тем остальные матери, уже приготовившие каждая своего ребёнка и не успевшие подсунуть их под руку Ярославича, с грустью, почти с отчаяньем, смотрели, как разгневанный князь садился в седло.
Конь рванулся.
Один только дворский поспел вскочить на своего ретивого и помчаться за князем. Вскоре на тесной, перешибленной корнями лесной дороге он догнал князя и теперь следовал чуть поодаль.
Так проехали с полверсты.
Вдруг Невский осадил коня и, дав поравняться дворскому, приказал:
— Скачи вспять, Андрей Иваныч, да моим именем прикажи доктору Абрагаму: занялся бы он этим мальчонком, которого укусила змея... помирает малец. Вином, говорят, хорошо отпаивать — выдай из погребца... Да что это они вздумали в самом деле: «докоснися, докоснися»?
Дворский вздохнул и, несмело улыбнувшись, ответил:
— Да уж не осерчай, Александр Ярославич, а мне говорили, будто давненько в народе поверье пошло: что ежели который мальчонко да худо растёт и ты до него дотронешься — тогда зачнёт шибче расти... С ночи тебя дожидались: огорченье будет матерям...
Ярославич только плечами пожал.
— Ведь эких суеверии исполнен народ! — проговорил он. — Вот что... Вели лекарю Абрагаму до конца оставаться при мальчике, что змеёю ужален. И чтобы прочим пособие оказал, кто попросит. Сам останься. А я дождусь вас в Берложьем.
Дворский повернул коня и поскакал к заимке Мирона. Однако прошло совсем немного времени — он и на полтора перестрела не успел отъехать, — как сзади послышался топот коня. Андрей Иванович обернулся и осадил своего скакуна: его догонял князь.
Они поехали стремя в стремя.
По лицу Александра блуждала с трудом сдерживаемая улыбка. Наконец он сказал, рассмеявшись:
— Передумал. Добрую веру пошто разрушать в народе? А ратники мне надобны добророслые...
...Радостное смятенье обвеяло лица всех матерей, что угрюмо и понуро сидели близ опустевшей дороги, когда Невский враз осадил своего вороного как раз насупротив них.
Каждая ринулась со своим.
А он величественно, а и вместе с тем просто, мерным шагом близился к ним. Выискав очами в полукруге выставленных перед ним ребятишек самого худенького, самого заморыша, он вдруг, напустив на себя озорную строгость, густым, грозным голосом спросил, ероша ему светлые волосёнки:
— А ну... который тут у меня худо растёт?
ЧАСТЬ 2
Юная княгиня Владимирская день ото дня хирела и таяла. Люд придворный перешёптывался:
— Испортили, испортили княгиню, не иначе! И какая же это сатана могла сотворить такое дело?!
— Какая?! — воскликнула матушка Анфиса, попадья дворцового протопопа Василья, дивясь недогадливости людской. Тут она оглянулась вправо, влево, как будто тот, кто был у неё на уме, мог подслушать, и когда обе высокие гостьи её — Маргарита, постельничья княгини Дубравки, а другая — Марфа, милостница княгини, поняв, что сейчас последует некое тайное имя, придвинулись к попадье, она вполушепот сказала: — Чегодаш!.. Егор Чегодаш. Он. Боле некому!..
Горстью обобрала роточек, и подняла кверху красивое узкое лицо, и застыла. Только золотые обручи её дутых серёг, оттянувшие мочки и без того длинных ушей, покачивались.
В тишине тяжкосводчатой комнаты слышно стало, как та и другая, задушевные подружки попадьи Анфисы, сглотнули слюнки зависти. Да и как же было не позавидовать — ведь и они обе видели знахаря сего в церкви на венчании князя Андрея, а вот не догадались же!..
«Он, он, Егор Чегодаш, больше некому!»
Постельничья и бельевая боярыня Маргарита опомнилась первая.
Живая норовом, быстроокая, всюду поспевающая — не ногами, так глазом, боярыня Маргарита сейчас не только попадью Анфису, а и саму себя готова была на куски разорвать — от досады.
«Ведь эк прохлопала, эк проморгала! — корила она себя внутренне. — И до чего ж проныра эта востроносая трясея, лихоманка, кутейница! — честила она в мыслях попадью. — Ведь в кою пору и догадалася!.. А и чего тут не догадаться? Этого Чегодаша и с простых свадеб стараются отвести — не приходил чтоб! — а тут нате вам: на великого князя свадьбу в самый собор был допущен!.. Нет, не обошлось тут и без Василья-попа!.. Да он же и её надоумил, свою попадью!.. Чёрные книги читает поп. Сам-то не колдует — страшится, а небось четвергову соль, освяченную, из-под полы продаёт лекарям да волшбитам разным!.. А теперь, гляди, ещё и в добрые ко князю войдут!..»
И боярыня Маргарита, словно бы они уже давно с попадьёй Анфисой обсудили, кто именно навёл порчу на княгиню, вдруг набросилась на боярыню Марфу, раздатчицу милостыни. А та сидела — полусонный, в золото затканный идол — и только изредка кивала головою в жемчужной кике да время от времени брала пухлыми белыми пальцами в перстнях горсть калёных волошских орехов, винную ягоду или ломтик засахаренного фрукта.
— Да как же это не он? — возмущённо кричала на неё боярыня Маргарита. — А кто в церкви на неё, на княгиню-то, глазищи свои пялил? Да нет, ты уж и не говори, Марфа Кирилловна, все, все призороки от него, от Чегодаша!.. Да ведь и до чего силён! Узнать может у тебя все мысли и все дела твои выскажет — и твои, и отцовы, и дедовы!.. Он у меня Славика моего обрызгивал — от родимца!.. А только лечит он редко, уж разве за большой подарок... А больше всё урочит да портит!.. Его уж и убивали посадские... Да разве таких людей убьёшь!
— А кто он такой, что и убить не могут? — спросила боярыня Марфа сонным, густым голосом.
Боярыня Маргарита только усилила презрительный поджим губ и промолчала, и дождалась-таки, что надменная милостница — словно самой судьбой назначенная раздавать княжую милостыню — Марфа обратила к ней набелённое лицо раскормленной красавицы и переспросила:
— Что уж, говорю, железный он, что ли, Чегодаш твой, что и убить не могут?
Боярыня Маргарита испуганно перекрестилась и сплюнула в сторону.
— Что ты, что ты, матушка моя! — сердито проговорила она. — «Твой»... Нет уж, пускай он лучше твой будет!..
— Я не к тому, — лениво возразила ей Марфа.
Боярыня Маргарита, успокоясь, пояснила, переходя на полушёпот:
— Не железный, а невидимый...
— Вот те на, уж и невидимый!..
— Невидимый, невидимый, коли захочет! — повторила Маргарита. — Да он, может, и ныне тут, возле нас, стоит, — произнесла она, содрогнувшись, и, словно бы ей холодно вдруг сделалось, укутала плечи персидским полушалком.
Боярыне Марфе, должно быть, зазорно стало признать, что Маргарита с попадьёю правы.
— А он кто, этот Чегодаш? — ещё раз спросила она. — Чем он хлеб свой добывает?
— Коневой лекарь, кровепуск!..
— Ну, вот и выходит нескладица. Стал ли бы он коновалить, когда у него этакая сила была — людей портить, людей лечить?!
Маргарита на сей раз не нашлась что ответить.
И тогда, торжествуя над нею да и над попадьёю Анфисою победу, боярыня Марфа важным распевом произнесла:
— Не-ет, девоньки, нет!.. Не Чегодаш, а сушит княгинюшку огненный змий.
Не прошла и неделя с той беседы трёх подружек, как месячной апрельской ночью, звонко ступая по хрупкому ледку, застеклившему лужи, шла, спускаясь под гору, где обитали ремесленники да купцы, попадья Анфиса в сопровождении мальчика-слуги.
Вот уже и кузницы прошла, раскиданные за околицею посада, словно чёрные шапки, а всё шла и шла. В лунном свете чернела кругом земля. В засохшем, ещё от осени уцелевшем былье просвистывал ветер. Месяц, большой и чистый, плыл над бором, над Клязьмой, чеканил каждую травинку, каждый кусток, каждый комочек земли, даже и от него клал длинные тени — и отблёскивал в стёклышках бесчисленных льдинок луговины.
Тоску, тоску какую сочит в сердце человеку этот весенний свет месяца! Старому человеку, когда уж могила близка, лучше не выходить в поле в такой месяц...
А отчего молодым тоскливо?..
Смолкли и Анфиса и парубок — оба, как только вышли за околицу, под свет месяца, — и пошли промежду редко разбросанных кузниц.
А вот и чёрное гнездовье Чегодаша!
На бугре, невдалеке от кузниц, — ибо конскому лекарю где и селиться, как не возле кузницы? — и почти над самой рекой: ведь рыбак да колдуй мри реке обитают, — стояла, будто чёрный маленький острожек, со всех сторон глухим частоколом обнесённая усадьба Егора Чегодаша.
А и впрямь колдун знал, видно, слово, уж если сам Батый в тридцать восьмом году, иол-Владимира сожегши, эту усадебку обошёл.
— Я им глаза отвёл, татарам, — бахвалился перед кузнецами Чегодаш. — Ведь коневой мордой ко мне в стену тыкались, а двора моего не видали!.. Вы не глядите, что слово — звук: оно звук-то звук, а и на том свете достанет!..
Попадье и сопровождавшему её тихому парубку сделалось страшно, когда они подошли и остановились у больших, с нахлобученным шатровым верхом ворот Чегодаша, собираясь постучаться.
На голубизне обветшавших тесовых полотнищ, озарённых светом полного месяца, чётко чернело железное толстое кольцо.
Попадья Анфиса подняла руку надо лбом, дабы перекреститься, как вдруг:
— Что ты тут закрестилась? — откуда-то сверху, из воздуха, послышался угрюмый окрик. — Что ты, в церкву пришла?
Попадья охнула и стала оседать, в своей шубейке колоколом, и уж у самой земли подхватил её под мышки провожатый и поставил на ноги. У парня и у самого зубы чакали от страха...
А меж тем тот же голос, неведомо откуда, провещал:
— Иохим! Гелловуй! Али не слышите? Стучат! Откройте!
А никто ещё не стукнул. Калитка сама собою отпахнулась вовнутрь двора. Подталкиваемый попадьёю, отрок ступил во двор. Нигде ни души.
— Матушка, не бойся, — сказал он Анфисе. — Иди.
Точно так же, сама собою, раскрылась пред ними и дверь в сени, и дверь в избу. Ступив через порог, попадья глянула в передний угол: на божнице было некое подобие образов, и она опять отважилась было сотворить крестное знаменье, но в этот миг из-под стола, за которым над книгою сидел Чегодаш, раздалось рычанье. Огромная чёрная собака с глазами, глядящими сквозь шерсть, словно бы сквозь кустарник, с рыканьем шла на неё.
— Цимберко! — крикнул на собаку Чегодаш.
Пёс повернул обратно и снова улёгся под столом, возле ног хозяина.
Чегодаш меж тем всё ещё не отрывал глаз от книги. Он как бы продолжал вслух чтение, от которого его отвлекли:
— «Аще у кого будут волосы желты, тому журавлиные яйца мешати с вином, и будут черны...» У тебя каки волосы, попадья? — спросил он. — Жёлтые?.. Нет, у тебя седые. Тогда слушай: «Аще у кого волосы седы, то поймай ворона, да положи его живого в гной конский, да лежит пятнадцать дён, да изожги его, живого, на огне, да тем пеплом мажь волосы седые — будут опять черны...» Вот, — сказал он, закрыв бережно доски переплёта. — Есть у твоего попа такая книга? Нету!.. Ну? — спросил он испытующе и глумливо. — Хворает ваша княгиня? Хворает! — ответил он сам. — Хворает и не перестанет хворать, доколе я не сыму с неё!..
«Он, он!..» — прозвучало в сердце Анфисы.
Чегодаш поднялся из-за стола, положил книгу на полку в переднем углу, оправил свой чёрный азям, пошевеливая угловатыми плечами, и вышел к попадье.
Она упала ему в ноги. И в то самое время, как прикасалась лбом к грязному полу, ей подумалось: «Ох, будет мне от бати моего!.. Что же это я делаю?»
Она поднялась. Егор Чегодаш, подбоченясь левой рукой, презрительно и лукаво смотрел на неё.
Попадья жалобно проголосила:
— Ой, да смилуйся ты над нами, Егорушко!.. Исцели ты нам её, нашу звёздочку ерусалимскую!
— А чего дашь? — угрюмо спросил волшбит.
Выгнав на улицу отрока и приготовляя всё, что надо для ворожбы, Егор Чегодаш изредка бросал попадье отрывистое, резкое слово, требовавшее безотлагательного ответа.
— Худо живут промеж собой? — спросил он, поправляя фитилёк, плававший в чашке с деревянным маслом, что стояла на угловой полке.
Попадья Анфиса замедлилась было ответить: ей казалось как-то неладно говорить здесь, перед мужиком, о супружеской жизни великого князя и молодой княгини его.
Чегодаш гневно обернулся.
— Молчишь, стервь? — обругал он супругу дворцового протопопа. — Ну и молчи! Да и убирайся отсюда!.. Ты думаешь, я для знатья спрашиваю?.. Я и без того всё знаю. А тово дело требует. Без того не будет пользы!.. Я и сам вперёд всё тебе расскажу. Вчера ездил князь Андрей к Палашке своей в Боголюбово? — спросил он.
— Ездил, — вынуждена была согласиться Анфиса.
— Так. А велела ему княгиня Дубравка боярынь всех его... ну, одним словом, наложниц, убрать из дворца?
— Велела, — уж поистине вострепетавшая перед прозорливостью чародея, ответствовала попадья.
— Ну вот видишь, — удовлетворённо произнёс Чегодаш. — А ты ещё таишься!
— Не буду, отец, не буду!..
Но, как бы желая довершить своё торжество, знахарь сказал:
— Пригрозила ему княгиня, что уйдёт от него к отцу, в Галич уедет?
— Ой, да правильно всё... всё правильно!.. — взмолилась Анфиса.
И с этого мига она уж ничего больше не скрывала от Чегодаша. А знала она отнюдь немало, супруга придворного протоиерея и первая вестовщица во всём Владимире.
Меж тем угрюмый волшбит приготовил на столе деревянную мису с водой и стал растоплять над ней тонкий прут олова с помощью огарка восковой свечки. Над чашею поднялся пар.
Знахарь вынул из воды причудливо очерченную, бугроватую пластинку олова. Держа её меж расставленных пальцев, он приказал попадье приблизить свечу. На степе избы появилась тень.
— Видишь? — спросил Чегодаш.
— Вижу, Егорушко, вижу...
— Тень указует, тень указует! — грозно вскричал волшбит. — Теперь представь мне на очи самое молодую княгиню.
— Батюшко! — воскликнула попадья. — Уж чего хочешь другого проси, а только не это!.. Чтобы я это — с речью к ней, когда не спрошена, — да уж лучше живую меня в землю заройте!
Нечто вроде любопытства блеснуло в чёрных глазах мужика.
— Ну, коли так, — снизошёл Чегодаш, — то предоставьте мне откуда-либо в затылок ей глянуть... из закрытия. У человека кость тонкая. А я ведь и сквозь жёрнов вижу!..
— Чем ты её поил, мерзавец, княгиню великую? — кричал Невский на Чегодаша.
Колдун сперва отпирался:
— Я? Да, Олександр...
Однако при первой же его попытке назвать князя по имени и отчеству Александр таким взглядом обдал колдуна, что тот осёкся и стал наименовывать его князем.
— Князь-батюшко, прости! — вскричал он, мотая головой. — Ничем, ничем не поил. Да разве меня допустят, мужика худого, пред светлые княжецкие очи?
Невский молчал и, не по-доброму наклони голову, начал подыматься из-за стола. Они были только вдвоём в комнате, в той самой, в которой останавливался Невский и в первый свой приезд из Новгорода, на свадьбу брата.
Александр только что прибыл во Владимир кратчайшим путём, через Москву, в сопровождении Андрея-дворского и всего лишь десятка отборных дружинников, сильно встревоженный недобрыми известиями о неладах между молодыми, и о намерении Дубравки оставить Андрея, и, наконец, о болезни молодой княгини.
Приехав и вызвав немедленно для доклада верных людей, оставленных им в городе и во дворце брата, Александр Ярославич узнал и о волхованьях вокруг Дубравки, и что замешаны тут попадья Анфиса и кое-кто из более высокостоящих. Однако не волшба и заклинанья этого чёрного проходимца беспокоили князя, — его ужаснуло известие, что Дубравку, неведомо для неё, поили каким-то зельем. У Александра тотчас же возникло подозрение, что это сделано не только по злому умыслу врагов — ибо чего только не бывало в княжеских семьях! — но и по тайному приказу Берке. Что Батый не пойдёт на это, а стало быть, и Сартак, который давно уже был аньда ему, Александру, то есть побратим, — в этом Александр был уверен. От Батыя можно было ожидать, что сгоряча он прикажет опустошить Владимирщину, прикажет вырезать «всех, кто дорос до чеки тележной», но Александр поручился бы чем угодно, что старый хан не пойдёт на отравленье никого из членов его, Александра, семьи, и тем более на отравленье Дубравки, этой невинной отроковицы. Но Берке, этот шакал, прикидывающийся львом, этот сквернавец, заждавшийся смерти своего старшего брата, — этот пойдёт на всё!
— Сказывай, мерзавец, чем ты поил княгиню?
Лицо колдуна дрогнуло.
«Эх, — подумал он, рухнув перед князем на колени, — спустил бы я тебе ножик в брюхо! Жалко, засапожник в хомуте остался: врасплох меня захватили!»
— Прости, князь, прости! Поил... не из своих только рук... а и одним добрым поил...
— Чем?
— А ничем, ну, просто, ничем... так — корешишко давал от гнетишныя скорби...
— Где оно у тебя, это зелье?
— А всё изошло, истратил.
— Прикажу людей послать — обыск сделать!
— Ох, запамятовал, княже, я, окаянный: вот, завалялся один корешишко за пазухой.
Колдун достал из-за пазухи красный узелок с корнем.
Невский швырнул узелок на стол и продолжал допрос Чего дата:
— От какой же ты болезни поил княгиню?
— От гнетишныя скорби... ну, от тоски, словом.
— Откуда тебе про то было ведомо?
— А от госпожи попадьи.
— А что же она тебе говорила?
— А, дескать, тоскует шибко княгиня... Утром, говорит, подушка от слёз не успевает просохнуть...
Невский нахмурился.
— А что ты ещё вытворял?
— А доброе слово шептал над тем над питьём: во здравие, во исцеление...
— Скажи.
Колдун развёл руками.
— А ведь воды пот, над чем шептать...
Невский поискал взглядом. Друза самородного хрусталя, которым он прижимал при чтении концы пергаментных свитков, попалась ему на глаза. Он взял хрусталь и всунул в руку Чегодаша.
— Вот пускай вода тебе будет. А если дознаюсь, что хоть одно слово утаил, землю будешь глодать вместе с червями земными!..
— Что ты, князь, что ты? Да пускай век свой трястись мне, как осинову листу!..
— Ну! — поторопил его Александр.
Егор Чегодаш, враз приосанясь, подобно коннику, которого спе́шили, заставили пройти вёрсты, а потом сызнова пустили на коня, принялся шептать заговор над друзою хрусталя, словно бы и впрямь над чашкой с водою.
«А ночью ведь его страшновато слушать!» — подумалось Александру.
Колдун забылся. Он как бы выступил душою за эти каменные степы княжой палаты, он как бы не существовал здесь. Глаза горели, сивая борода грозно сотрясалась, голос то становился похож на некое угрожающее кому-то пенье, то переходил в свистящий шёпот.
Александр хмуро слушал его.
— ...От чёрного волоса, от тёмного волоса, от белого волоса, от русого волоса, от всякого нечистого взгляду!.. — гудел в низких сводах комнаты голос колдуна.
Обезопасив доверившегося ему человека от порчи, от сглаза, колдун перешёл к расправе над наносной тоской, застращивая её и изгоняя. Он двигался, шаг за шагом, прямо на степу, наступая и крича на Тоску. И Александру казалось, что и впрямь некое проклятое богом существо — Тоска — кинется сейчас от этого высокого мужика в чёрном азяме и, окровавленная, станет биться о камни стен, о решётку оконницы, ища выхода и спасенья от истязующего её и настигающего слова!..
— ...Кидма кидалась Тоска от востока до запада, от реки до моря, от дороги до перепутья, от села до погоста, — нигде Тоску не укрыли! Кинулась Тоска на остров на Буян, на море на окиян, под дуб мокрецкой... Заговариваю я, раб... — Тут колдун на мгновенье запнулся, как бы выпиная какое-то слово, ему неприятное, но вскоре же и продолжал: — ...раб Егорий свою ненаглядную детушку Аглаю... Даниловну от наносной тоски по сей день, по сей миг!.. Слово моё никто не превозможёт ни воздухом, ни аером!..[38] Кто камень Алатырь изгложет, тот мой заговор переможёт!..
Колдун окончил. Он стоял, тяжело переводя дух. На лбу у него блестели капли пота.
Мало-помалу выражение власти и требовательного упорства сошло с лица Чегодаша, он снова стоял перед князем, покорно ждя уготованной ому участи.
— А более ты ничего не говорил? — насмешливо спросил Невский, глядя на колдуна.
И в первый раз за всю свою жизнь, с тех пор как покойный родитель перед смертью научил его волхвованью и обрызгиванию и передал ему, под страшною клятвою, слово, Чегодаш побожился.
— Ладно. Придётся на сей раз поверить. В чужое сердце окна нет, — сказал сурово Александр.
Чегодаш кинулся перед ним на колени. Стукнувшись лбом об пол, он воздел обе руки пред Александром:
— Княже, прости!.. Закаиваюсь волхвовать!
Суровая усмешка тронула уста Невского.
— Ладно, — сказал он, — отпускаю.
Вне себя от счастья, Чегодаш на карачках, пятясь задом и время от времени стукаясь лбом об пол, выполз из комнаты.
...В тот же вечер он пировал, на радостях, вдвоём со старинным дружком своим, Акиндином Чернобаем, мостовщиком. Бутыль доброго вина стояла перед закадычными дружками. Рядом — тарелка с ломтями чёрного хлеба, блюдо с балыком и другое — с солёными груздями.
Прислуживала хозяйка Чегодаша, унылая, замордованная мужем, недоброго взгляда женщина.
Чегодаш хвастался. Акиндин Чернобай, время от времени похохатывая и подливая самогонное винцо, внимал приятелю.
— Ну што они со мной могут, хотя и князья? — восклицал Чегодаш. — Я его, Олександра, вокруг перста обвёл!.. Нет, молод ты ещё против Егория Чегодаша, хотя ты и Невской!.. Слышь ты, — говорил он, тыча перстом в толстое чрево Акиндина, — ну, схватили они меня, заковали в железо, привели к ему... Глядит он на меня... А я и пошевельнуться не могу: руки скованы, ноги скованы... ведь колодку набили на ноги, окаянные... Ну, наверно, думает про себя князь-от: «Теперь он — мой!» А я от него... как вода промеж пальцев протёк!..
— Да как же это ты, кум? А? — спросил Чернобай. — От этакого зверя уйти?..
— Ха!.. — бахвалясь, произнёс Чегодаш. — Да ему ли со мной тягаться, Олександру! Есть у меня... — начал было он, приглушая голос, но тотчас же и спохватился и даже отодвинулся от Чернобая. — Ох нет, помолчу лучше: неравно пронесёшь в чужие уши!..
Купец обиделся.
— Ну что ты, кум, что ты! — восклицал он. — Во мне — как во гробе!..
И несколько раз начинал и всякий раз сдерживал Чегодаш готовое сорваться с языка тайное своё признанье. Наконец он решился:
— Лукерья, выйди отсюда! — приказал он своей бабе. Та, не прекословя, хотя и злобно сверкнув глазами на собутыльников, вышла в сенки.
Тогда, придвинувшись к самому уху Акиндина, колдун прошептал:
— Есть у меня из змеиного сала свеча!..
Александр круто повёл следствие. Он подозревал, что «корешишко от гнетишныя скорби», отваром коего поили Дубравку, отнюдь не столь был безвреден, как пытался это представить Чегодаш.
Попадья Анфиса была допрошена и во всём созналась.
Была очная ставка и с боярыней Марфой, и с боярыней Маргаритой. Итогом этой очной ставки для той и другой было то, что они обе изъяты были из двора княгини. Дальше судьба их была различна. Шустрая Маргарита выпросила себе пощаду: Андрей Ярославич внял большим заслугам её покойного мужа, ещё отцовского стольника, который погиб с князем Юрьем на реке Сити. Боярыне Маргарите пришлось только выехать из Владимира в своё дальнее сельцо. Боярыне же Марфе была объявлена ссылка в Белозерск.
Легче всех отделалась попадья Анфиса. Сперва Александр и Андрей решили было её отпустить: «зане скудоумна и суетна». Однако донесли на неё вовсе уже неладное: когда Дубравка стала недомогать, попадья Анфиса, которая сразу возненавидела юную княгиню, якобы за гордыню её и недоступность, стала будто бы пророчить ей скорую смерть. «Южное солнышко закатчивее северного!» — будто бы напевала попадья то одному, то другому из придворных.
— А и впрямь глупа! — покачав головою, сказал Александр.
— На псарню суку! — закричал Андрей Ярославич, весь багровея. — Батожьём её до полусмерти!.. Ну! — притопнув ногою на двоих дверников, стоявших позади попадьи, крикнул он.
Они подхватили воющую и оседавшую на ноги Анфису и поволокли.
Александр Ярославич поморщился.
— Напрасно... напрасно, брат! — сказал он, когда они остались вдвоём в комнате. — Огласка большая... да и не нашего суда её провинность. На то митрополия суд: зане церковный она человек — попадья.
Андрей вспылил.
— Поп Василий не приходской священник, а мне служит! — возразил он. — А впрочем, ведайся ты с ними, как знаешь... В твои руки передаю всё это дело...
Вечером к Александру прибыл митрополит Кирилл.
Уже из того, что владыка, обычно посещавший его запросто — в скуфейке и в простой монашеской ряске, хотя и с панагиею на груди, — на этот раз был одет в полное владычное одеяние, Александр понял, что предстоит беседа о злополучной попадье.
Однако митрополит начал не о том. После обычных расспросов о тяжком, только что свершённом пути, о здравии князя, Кирилл стал жаловаться на нечестие и многобуйные утехи владимирских граждан.
— Разве то христианские праздники правят? — горестно восклицал он. — В божественные праздники позоры бесовские творят, с свистаньем, с кличем и с воплем. И скоморохам плещут в долони свои. И за медведем водимым текут по улицам, и за цыганками-ворожеями влекутся!.. А церкви пустуют!.. Мало этого. Близ самых стен церковных сберутся скаредные пьяницы и станут биться меж собою дрекольем. И даже до смерти... И слову пастырскому не внемлют, и салу духовного не чтут!.. Не повелел ли бы ты, князь, — тебя послушают! — прекратить побоища эти... и пьянство?
— Оставь их, владыка святый, — отвечал Александр, — христиане они! А в том, что дрекольем бьются, не вижу большой беды. Иначе вовсе отвыкнут воевать. Но... вот на что прошу тебя обратить высокое внимание твоё: ходят по сёлам некие странники и смущают народ: якобы грешно в пятницу работать. И заклятье с людей берут, чтоб не работать. Ущерб великий. Осенесь у меня добрая треть женщин всех по пятницам не выходила лён дёргать... Управители мои жалуются...
— О суеверие!.. — сказал владыка. — Хорошо, князь, будет предложено мною, чтобы в пастырских своих увещаньях не забывали того иереи... Но во многом другом унижено ещё от власти мирской духовенство. Оттого и в глазах людских падает...
— По мере сил своих или брат мой стараемся блюсти и честь и власть духовную тех, кто алтарю предстоит, — отвечал Александр. — Да, кстати! — как бы внезапно вспомнив, воскликнул он. — Тут ждёт твоего решения дело одно...
И Александр Ярославич вкратце рассказал митрополиту всё касательно попадьи.
— Так вот, владыка, — заключил он, — бери уж ты на свой суд сию Пифониссу Фессалийскую!..
Кирилл наклонил голову.
— «Волхвам живым быти не попустите... и ворожеи не оставляй в живых... Математики, волхвы и прогностики да не будут между вамп!..» — произнёс он, цитируя тексты. — Что ж, — сказал он затем сурово, — я прикажу усекнуть ей главу!
Этого Александр никак не ожидал.
— Полно, владыко!.. — сказал он. — Боюсь, как бы такая мера не превысила преступление!.. Баба она глупая. А вообще же ты сам знаешь: простые люди падки на волхвованье!..
Кирилл рассмеялся. Лучики морщинок сделали его лицо весёлым и добрым.
— О, сколь истинно молвил, государь! — сказал он. — Всё тайноведие да звездочётие!.. А всё это книги худые: все эти «Рафли», да «Врата Аристотелевы», да «Хождения по мукам», да «Звездочётец», да «Астролог»!.. Отрыжка еретика Богу мила и нечестия эллинского... Тянет православных приподнять завесу судеб господних...
Улыбнулся и Александр.
— Это так!.. — сказал он, слегка поглаживая светлую бородку. — Мне Абрагам жаловался: едва он успел приехать сюда, во Владимир, как бояра здешние прямо-таки одолели его: «Составь мне гороскоп!»
...Итогом этой беседы Невского с владыкой было то, что попадью Анфису лишь подвергли церковному покаянию.
Уж третью неделю и Андрей Ярославич и Дубравка отдыхали у Александра, в Переславле-Залесском, в его вотчинном именье — Берендееве.
Дубравка поправилась, пополнела и выросла.
И уж не бледный золотистый колосок напоминала она теперь. Она была теперь как берёзка, — юная, свежая, крепкая, не совсем очнувшаяся, но уже готовая ринуться в бушующий вкруг неё зелёный кипень весны, — берёзка, едва приблизясь к которой начинаешь вдыхать запах первых клейких листочков-брызг — листочков ещё чуть-чуть в сборочках, оттого, что им тесно, что стиснуты, оттого, что ещё не успели расправиться.
Пьянеет от этого запаха и крепкий, суровый муж, словно бы нестойкий отрок, впервые вкусивший сока виноградной лозы, пьянеет не ведавший в битвах ни пощады, ни страха витязь! — и вот уже обнесло ему голову, захмелел, и вот уже едва держится на ногах!..
Но ещё велит себе: стой!..
Александр Ярославич, да и Андрей Ярославич тоже мальчишками почувствовали себя здесь, на родине, на сочно-зелёных берегах Ярилина озера. Они резвились и озорничали. Играли в бабки, в городки, в свайку. Метали ножи в дерево, состязались; стреляли из лука в мишень. А когда подымался ветер, катались под парусом по огромному округлому озеру — чаще все трое вместе, а иногда Александр в разных лодках с Андреем — наперегонки. Дубравка тогда, сидя на берегу, на любимом холмике под берёзкой, следила за их состязаньями.
— Хорошо, только тесно, — сказал как-то после такого плаванья Александр. — Это тебе не Ильмень, не море!.. А ведь как будто есть где наплаваться — озерцо слава тебе господи! В бурю с серёдки и краёв не видать! А всё будто в ложке... Моря, моря нам не дают, проклятые! От обоих морей отбили!
Однажды на прогулке в лесу Александр испугал Дубравку своим внезапным исчезновением прямо со средины просеки, по которой они шли, — словно бы взят был на небо! На мгновенье только отвела она глаза, и вдруг его не стало перед ней. Меж тем не слышно было даже и шороха шагов, если бы он перебежал в чащу, да и не было времени перебежать.
— Где он? — спрашивала Дубравка у Андрея, поворачиваясь во все стороны и оглядываясь.
— Не знаю, — лукаво отвечал Андрей.
— Ну, правда, где он? — протяжно, сквозь смех и досаду, словно ребёнок, восклицала Дубравка.
И вдруг над самой её головой послышалось зловещее гуканье филина. Это среди бела дня-то! Вслед за тем в густой кроне кряковистого дуба, чей огромный сук перекидывался над самой просекой, послышался смех Александра, а через мгновение и сам он, слегка только разрумянившийся и несколько учащённо дыша, стоял перед Дубравкой. Прыжок его на землю был упруг и почти бесшумен, и это, при исполинском росте его и могучем сложении, было даже страшно. Холодок обдал плечи Дубравки. «Словно барс прыгнул!..» — подумалось ей, и как раз в это время Андрей Ярославич, благоговевший перед братом и старавшийся, чтобы и Дубравка полюбила его, торжественно и напевно, как читают стихи, произнёс, поведя рукою в сторону Александра:
— Легко ходяй, словно пардус, войны многи творяй!..
Дубравка хотела узнать, когда это он успел и как вскарабкаться на дуб.
— Александр, ну скажи! — допытывалась она.
— Да не карабкался я совсем! — возразил он. — Что я — маленький, чтоб карабкаться! Ну вот, смотри же, княгиня великая Владимирская...
Сказав это, он ухватился за ветвь дуба обеими руками и без всякого видимого усилия взметнулся на закачавшуюся под его тяжестью ветвь.
— Хочешь — взлезай! — сказал он и, смеясь, протянул к ней руку.
Когда они затем шли опять по просеке, Дубравка, искоса поглядев на его плечо, сказала:
— Боже... Какой же ты всё-таки сильный, Александр!
— Не в кого нам хилыми быть! — ответил он, тряхнув кудрями. — Дед наш Всеволодич Владимир диких лошадей руками имал...
Здесь всё напоминало Александру незабвенные времена отрочества. Вот здесь, на этой уже оползающей белой башне, ещё дедом Мономахом строенной, поймали они вдвоём с Андрейкой сову. Уклюнула так, что и сейчас, через двадцать три года, виден, если отодвинуть рукав, белый рубец чуть повыше кисти. Там, наложенная на тетиву перстами дядьки-пестуна Якима, свистнула, пущенная из игрушечного лука рукой шестилетнего княжича, первая стрела. Она и теперь, поди, хранится здесь, в алтаре Спаса... Да нет, где ж там, — забыл, что и здесь безобразничали татары...
...Там вот, на бугорке, размахивая деревянным посеребрённым мечом, расквасил он нос старшему братану Феде, и потом долго прятался в камышах, боялся прийти домой, я всё уплывал в мечтах на ту сторону озера, где уже мнился край света... А вот и та расщепина в берёзе от первой его стрелы, уже заплывшая, уже исцелённая всесильным временем. И вспомнились Александру слова китайского мудреца: «Помни, князь: если ты и разобьёшь этот хрупкий стеклянный сосуд, который текущим песком измеряет время, то остановится лишь песок».
Первый лук. Первый парус. Первый конь... Только вот любви первой не было... А старшему сыну, Василию, уже одиннадцать лет... на престол сажать скоро!..
Детство, детство!.. Сколько побоищ здесь учинили, сколько крепостей понастроили из дёрна!.. Ну и поколачивал же он сверстников!.. Матери — те, что из простого люда, — те не смели жаловаться княгине. Боярыни — те печаловались, приходили в княжой терем: «Княгинюшка-свет, Федосья Мстиславовна, уйми ты Сашеньку-светика: увечит-калечит парнишек, сладу с ним никакого нет!..»
Сумрачный отец, вечно занятый державными делами, да и усадьбой своей, иногда, для острастки, тоже вмешивался: чуть кося византийским оком, навивая на палец копчик длинной бороды, скажет, бывало, и не поймёшь, с каким умыслом:
— Что ж ты, сынок? Словно Васенька Буслаевич: кого схватил за руку — тому руку прочь, кого схватил за ногу — тому ногу выдернул!.. Ведь этак с тобой, когда вырастешь, и на войну будет некому пойти: всех перекалечишь!
Вспомнилось Александру, как тёмной осенней ночью злой памяти двадцать восьмого года вот здесь, по тропинке озёрного косогора, едут они вчетвером — беглецы из бушующего Новгорода, обливаемые тяжким, вислым дождём, — он, брат его Фёдор, да боярин Фёдор Данилович, старый кормилец-воевода, да ещё неизменный Яким.
Сумрачный, неласковый отец заметно был рад в тот вечер, что из этакой замятии и крамолы, поднятой врагами его в Новгороде, оба сына его, малолетки, вывезены целы и невредимы; некое подобие родительской ласки оказывал он в ту ночь любимцу своему Александру и соизволял даже и пошутить в присутствии дядьки Якима. Положа свою жёсткую руку на голову сына, Ярослав Всеволодич говорил:
— Ну что, Ярославиць? (Дело в том, что маленький Саша научился от новгородцев мягчить концы слов и «цякать»). Не поладил со своим вецем? Путь показали от себя? Это у них в ходу, у негодяев, — князей прогонять!..
Княжич Александр гордо поднял голову:
— Я от них сам уехал!
Отец остался несказанно доволен этаким ответом восьмилетнего мальчугана.
— Ох, ты, Ярославиць! — ласково говорит он. — Ну ничего, ничего, поживи у отца. А уж совсем ихний стал, новгородский... и цякаешь по-ихнему. Может быть, оно и лучше, что сызмалетства узнаешь этот народ. Тебя же ведь посажу у них, как подрастёшь. Только, Сашка, смотри, чтобы не плясать под их дудку да погудку!.. С новгородцем надо так, как вот медведя учат: на цепи его придерживай одною рукой, а и вилами отсаживай чуть что!..
«...Вот уж и отца нет! Этакого мужа сгубили татары проклятые! Рано скончался родитель! Куда было бы легче с ним вдвоём обдумывать Землю... да и постоять за неё. Бывало, оберучь управляешься там, у себя, — и с немцем, и со шведом, и с финном, да и с литвою, и не оглянешься на Восток ни разу: знаешь, что родитель там государит, во Владимире, и с татарами будет у старика всё как надо, и народ пообережет, да и полки Низовские[39] пришлёт в час тяжёлый!.. А что Андрей?! Ну, храбр, ну, расторопен, и верен, и всё прочее, а непутёвый какой-то! И когда образумится? Женится, говорят, — переменится. А не видать что-то!.. Полтора года каких-нибудь пожил с женой — и с какою! — девчонка, а уж государыней смотрит! А успел уже и её оскорбить!.. Уходить собирается. Данило Романович горд. И она единственная у него дочь; пожалуй, не станет долго терпеть, коли вести эти дойдут до него: как раз и отберёт Дубравку! Ведь и матерь мою, княгиню Феодосию, отбирал же батя её, Мстислав Мстиславич, у отца у нашего, как повздорили. Два года не отдавал. Насилу вымолил отец супругу свою у сердитого тестя. Вот так же может и с тобою, Андрей свет Ярославич, случиться!.. — как бы обращаясь к отсутствующему Андрею, подумал Невский. — Придётся, видно, ещё раз, и как следует, побеседовать с ним. А то эти его милашки-палашки дорого могут нам обойтись... Не на то было строено! Не им было обмозговано — не ему и рушить!..»
Невский и не заметил в раздумьях, как вдоль старого вала, по берегу Трубежа, он вышел к собору Спаса. Это был их родовой, семейный храм. Суровый, приземистый, белокаменный куб, как бы даже немного разлатый книзу, казалось, попирал землю: «Здесь стою!..» Объёмистый золотой шлем одноглавья блистал над богатырскою колонною шеи.
«Крепко строили деды!.. Вот она расстилается кругом — залесская вотчина деда Юрья!.. Не сюда ль впервые, по синим просекам рек, приплыли из Киева и крест, и скипетр, и посох епископа?
Христос, пришедший из Византии, шутить не любил. Он был страшен. Однако долго ещё в мещёрских и вятичских дебрях, хотя и ниспровергнутый в городах, ощерясь, отгрызался — и от князя и от духовных — златоусый деревянный Перун! Народ постоял-таки за старика своего — и здесь, и в Новгороде, что греха таить!.. Растерзан же был вот здесь, неподалёку язычниками святый Леонтий[40]!.. Не здесь ли, на этой вот горе, не столь давно водили хороводы в честь бога Ярилы? И ждали и веровали: вот сейчас-де появится он из леса — юный, золотокудрый, на белом коне, в белой одежде, босой, в правой руке — человечья голова, в левой — горсть ржаных колосьев...»
Невский в раздумье остановился у портала. «Да, — думалось ему, — время, время! Какой мудрец постигнет тебя и расскажет людям?..» Давно ли, кажется, а уж почти тридцать лет протекло с тех пор, как в этом родовом храме большие холодные ножницы блеснули в руке епископа и срезали у трёхлетнего княжича Александра прядку светлых волос!.. И вот — постриг свершён! И здесь же, около грубо вытесанного входа в храм, тридцать годов назад всажен был он на коня, да с тех пор почти и не слезал!..
Лоснились на солнце сосны. Шумела хвоя. Синее гладкое озеро, круглое, в сочно-зелёных берегах, было подобно бирюзовому глазку золотого перстня.
Защитив от солнца глаза ладонью, Александр вглядывался. Вдруг сердце его колыхнулось могучими, жаркими ударами. Так никогда ещё не было! И не думал даже, что так может быть. Под берёзкой, на самом обрыве озера, он увидел белое платьице Дубравки...
— Что это ты читаешь, княгиня? Что за книга? — заставив вздрогнуть Дубравку, спросил Александр.
Она обернулась и подняла лицо. Большая книга в кожаном переплёте, разогнутая у неё на приподнятых коленках, прикрытых вишнёвого цвета плащом, стала съезжать на травку.
Дубравка подхватила её левой рукой.
— Как же ты напугал меня, Александр! — сказала она, вся просияв. — Нечего сказать, хорошего же сторожа ты мне дал. Я и не слыхала, как ты подошёл. А он не тявкнул.
При этих словах она повела головою в сторону огромной стремоухой собаки, всеми статями почти неотличимо похожей на волка, только гораздо крупнее. Это был охранный пёс Александра, которого он здесь приручил к Дубравке — сопровождать её на озеро, где она любила часами сидеть одна. Этого пса года два назад щенком привезли ему в Новгород в числе прочих даров старейшины племени самоядь, из Страны Мрака, за тысячу вёрст прибывшие на оленях к посаднику новгородскому жаловаться на утесненья.
Александр по совету их приказал опытному псарю своей охоты тщательно воспитать, а затем присварить пса к его личной особе. В том явилась нужда — особенно после одного из покушений на его жизнь: однажды здесь же, в Переславле-Залесском, во время обычной его одинокой прогулки в лесу, стрела, пущенная с большой ветлы, вырвала у него прядь волос над виском. Отклонившись за дерево, Александр успел тогда разглядеть лишь какую-то образину, которая, мелькнув средь листвы и, словно рысь, перемётываясь с одного дерева на другое, исчезла во тьме леса.
С тех пор Волк — так назвал князь собаку — обычно сопровождал его на прогулках.
Александр возразил Дубравке:
— Это ничего не означает! Ты знаешь, что на меня он и языком не пошевельнёт!.. А вот другой если кто...
В это время, как бы желая подтвердить слова хозяина, огромный пёс насторожился и уж готов был кинуться в лес на хруст валежника, но из лесу показался телёнок, и тотчас же Волк успокоился и, положив снова на лапы угловатую могучую башку с шатёрчиками острых ушей, непрерывно старавшихся уловить малейший шорох, предался снисходительному созерцанию телка..
Александр и Дубравка сидели теперь бок о бок. Она попыталась подостлать для него на траву угол своего красного плаща, но он отвёл её руку.
— Полно! — сказал он. — К тому ли ещё привык в походах!
И сел на траву.
— Так что же ты читаешь? — снова спросил он, заглядывая в книгу, лежащую у неё на коленях, написанную латинскими крупными литерами с разрисованными киноварью и золотом заглавными буквами.
Он готов был уже сам прочесть вслух строчку, бросившуюся ему в глаза, но тотчас же убедился, что это на языке, для него незнакомом.
Дубравка поняла его смущенье и улыбнулась.
— Это «Тристан и Изо», — по-французски произнесла она.
Сидя плечом к плечу, они рассматривали красные, синие, жёлтые, золотые и разных прочих цветов витиеватые заставки, буквицы и рисунки, украшавшие страницы книги.
— Я это знаю! — словно бы оправдываясь перед нею, говорил Александр. — Но только французскому нас не учили — да и зачем он нам? Я на немецком это читал, и мне что-то не поправилось.
Дубравка с недоуменьем и укоризной глянула на него своими золотисто-карими большими глазами.
Он поспешил загладить свой проступок:
— Да ведь это давно было: я ещё и не женат был... Ещё до татар... Да и потом не радостен моему уху говор немецкий: Der Hund. Hundert. Латынь люблю... Я думал сперва, что это у тебя латинское. Потом смотрю: что-то чудно́ выходит, как стал читать...
Дубравка рассмеялась:
— У них не все буквы надо читать, у французов.
— А вот прочти: хочу послушать, как это звучит.
Он указал ей веточкой ивы на одно из мест на странице.
Дубравка всмотрелась и сперва прочла беззвучно, про себя. Щёки её тронул румянец.
— Ты обманул меня, — сказала она, покачав головою, — ты сам знаешь по-французски.
— Дубрава, что ты! — укоризненно возразил он. — Побожиться, что ли?
Волнуясь, словно перед учителем, она прочла нараспев, как читают стихи:
Isot, та drue, Isot, m’amie, En vos та mort, en vos та vie!..— Хорошо, — сказал Александр. — Только вот что оно значит — не знаю. Переведи.
Ещё больше покраснев, она принялась за перевод. Он сложился у неё так:
Изольда, любовь моя, Изольда, моя подруга, В тебе моя жизнь, в тебе моя смерть!..Александр молча наклонил голову. Теперь уже сама Дубравка, осмелев, предложила продолжать чтение.
— Вот это ещё хорошо... — сказала она и заранее вздохнула, ибо ей хорошо была известна горестная история Тристана и Изольды.
Она принялась читать по-французски, тут же и переводя:
— «И вот «пришло время отдать Изольду Златокудрую рыцарям Корнуолским. Мать Изольды собрала тайные травы и сварила их в вине. Потом свершила над напитком магические обряды и отдала скляницу с волшебным питьём верной Бранжен. «Смотри, Бранжен! — сказала она. — Только одни супруги — только король Марк и королева Изольда, лишь они одни должны испить этого вина из общей чаши! Иначе будет худо для тех несчастных, которые, не будучи супругами, выпьют этот волшебный напиток, несущий заклятие: любовь обретут они и смерть...»
Дубравка, смутившись, перестала читать и перевернула тяжёлую пергаментную страницу.
— Ну, потом, ты знаешь, — сказала она Александру скороговоркой, — было знойно, они захотели пить и ошибкою выпили этого вина... Вот тут дальше...
Она быстро обегала глазами одну страницу, другую... начинала читать, но, увидав раньше, чем успевала прочесть, что-либо такое, о чём стыдилась читать, вдруг останавливалась. Голос её то дрожал и срывался, то переходил в напускное равнодушие чтицы.
— «Любовь влекла их друг к другу, как жажда влечёт оленя, истекающего кровью, к воде перед смертью», — прочла она и стала замыкать створы тяжёлой книги.
Александр помог ей, приподняв свою половину разгиба.
Оба долго молчали. Перед ними расстилалось озеро. Солнце поднялось уже над вершинами бора. Тишина стояла полная. Остекленевшая гладь, как бы объявшая под собою бездонную глубь, была столь недокасаемо-прозрачной, что когда ласточка чиркала её остриём крыла, то делалось страшно: не разбила бы!
Далеко-далеко виднелся одинокий парус: он был как белое крыло бабочки...
Невский повернулся спиною к озеру. Берёзка, осенявшая Дубравку, стояла в синем небе как фарфоровая.
Александр не отрываясь смотрел на Дубравку — на изумительной чистоты обвод её милого, но и строгого лица, дивно изваянного, и не мог отвести глаз. Девичье-детское розовое ушко и слегка просвечивающие от солнца светло-алые лепестки её мочек, ещё не испорченных проколами для серёжек, трогали и умиляли сердце. Гладко и очень туго забранные на висках зелёного золота волосы её и чистый белок глаз причиняли сердцу явно ощутимую сладостную боль.
Вспомнился ему тот миг, когда ему, отдавая невесту, надлежало своей, вот этой рукой вложить её руку в руку Андрея, — тот миг, когда он благословил их на пороге их спальни...
Тени сосен всё укорачивались: солнце сияло уже над вершинами деревьев; становилось жарко.
— Александр, — протяжно, в шутливом изнеможенье произнесла Дубравка, — как пить хочется!.. Можно — из озера?
Александр вскочил на ноги.
— Прости, княгиня, — я совсем забыл!..
Он быстро подошёл к берёзке и вернулся оттуда с маленьким берестяным туеском, в котором обычно он или Андрей приносили Дубравке берёзовый сок, когда приходили попроведовать её у озера.
Она привстала на коленки, и, немножко озорничая, взглядывая поверх кромки туеска, принялась пить.
— Хочешь? — спросила она, протягивая к нему туесок. — Не бойся: не наколдовано, — добавила она и рассмеялась.
Александр смутился.
— Да я и не боюсь... — сказал он.
Он принял из её рук берестяной сосуд и тоже напился. Затем, возвращая ей туесок, он ради шутки спросил:
— Что, лучше кумыса... который Чаган тебе присылал?
Дубравка повела плечом.
— Не знаю! — сказал она и поморщилась. — Это ты знаешь: пьёшь с ними этот вонючий кумыс.
— Княгиня!.. — с укоризной проговорил он. — Стыдно тебе... тебе-то уж стыдно так говорить...
Ей стало жалко его и впрямь стыдно своих слов.
— А ты не говори так! — сказала она. — А я его никогда не пила и не буду пить! Андрей велел его на псарный двор щенкам относить.
— Да что он, с ума сошёл? — вскричал Невский.
Дубравка промолчала.
— А ты знаешь, княгиня? — приступил он к ней грозно. — Знаешь, что у них там, в Орде, за одну каплю кумыса, ежели по злому умыслу она упала на землю, тут же приказывают убить человека?
— Знаю! — вскинув голову, отвечала Дубравка. — Знаю! — повторила она. — Но только я того не знала, что за татарского раба выхожу замуж!
Как только унялся гнев, поднятый в душе Александра словами Дубравки, так сейчас же ему сделалось ясно, что это ветер с Карпат. Ведь и Данило Романович судил так же, ведь и родитель её такой же был нетерпеливей; к татарам! Насилу уломал его тогда, на льдах Волги, по крайней мере не начинать ничего, не снесшись предварительно с ним. Чудно, что столь светлый разумом политик и государь столь излишне уповает и на свои родственные узы с Миндовгом, и на крепости свои, и на новую свою конницу, и на крестоносное ополченье всей Европы, которого, дескать, главою непременно его, Даниила, поставят, лишь стоит ему изъявить согласие на унию церквей. «Вот и дочка с этим приехала, — подумалось Александру, — считает себя здесь, на Владимирщине, как бы легатом отца... Что ж, и пускай бы считала. Да то беда, что и Андрей тоже кипит на татар! Ведь экое безрассудство: кумыс, от самого царевича присланный, — и вдруг псам скармливать!.. Хорошо, если не дойдёт это до татар! Да где ж там, — уж, поди, донёс кто-нибудь на Андрея: не любят его, да и продажных тварей немало среди бояр — во дворце в каждой стене татарское ухо...»
Сдержав гнев, Александр Ярославич спросил невестку:
— Скажи: чужой знает кто, что Андрей... это самое сделал над кумысом?
Даже и наедине с нею он поопасался обозначить полностью злополучное деянье Андрея.
Дубравка нахмурила лоб, стараясь вспомнить.
— Не-е-ет... — отвечала она, однако в голосе её не было уверенности. — Ты сам посуди: когда бы донёс кто, то разве бы стал Чагаи и дальше посылать этот кумыс?
Неведомо было княгине, что каждую ночь в шатёр Чагана, разбитый среди прочих кибиток на луговине за Клязьмой, стража впускала некоего человека, предварительно обшарив его, и что этот человек был Егор Чегодаш.
Дубравка нежно коснулась руки Александра.
— Не сердись на меня! Я глупая: мне не надо было говорить тебе этого. Ты не беспокойся...
Невский сумрачно пошутил:
— Ну да: «Ты не беспокойся, Саша: нам с Андреем завтра головы отрубят!..» Ох, Дубрава, Дубрава, плохо ещё ты знаешь их!.. И не дай тебе бог узнать!
Голос его прозвучал так, что Дубравка невольно вытянулась вся и брови её страдальчески надломились.
— Боже, боже! — воскликнула она в отчаянии. — Да когда же это кончится? Пусть один какой-нибудь конец будет!.. Пускай рубят голову!.. И Андрей так же думает... Хватит, досыта наглотались мы этого срама! — выкрикнула она в каком-то грозном неистовстве. — А ты... а ты... да если и нас с Андреем казнят... так тебе всё равно капелька их кумыса дороже всей крови нашей!..
— Перестань! — крикнул вне себя Невский, весь пылая.
От его крика собака, отдыхавшая под кустом, стремглав кинулась к своему хозяину.
Слёзы полились из глаз Дубравки, она упала ничком и зарыдала...
Невский растерялся. Не зная, что делать, он неуверенною рукой дотрагивался до её плеч, затылка и тотчас же отымал руку. Дубравка продолжала рыдать.
— Милая девочка моя... полно... — бормотал Александр, подсовывая ладонь под её лоб, чтобы не лежала лицом на траве.
Дубравка охватила его руку, подобно тому как тонущий в море схватывает подплывшую к нему мачту. Внезапно для себя, не успев даже и воспротивиться этому, Александр склонился к ней иш бережно поцеловал её в затылок — в нагретую солнцем золотистую ямку, откуда расходились, поднятые в стороны, туго заплетённые её косички.
Утешая её, он изредка гладил её по голове, по плечу, но уже не смел и думать снова прикоснуться к ней устами, хотя, даже и перед самым строгим судом, перед судом его совести, невольный поцелуй тот не заставил бы его покраснеть: так много было в том поцелуе отцовского!..
Нечаянная обмолвка её, что «и Андрей так же думает», подтвердила Невскому уже встревожившие его сообщения о намерении князя Андрея попытать счастья в прямой сшибке с Батыем — сообщения, которые получал он от своих тайных осведомителей. Зная, что в отношении Орды она мыслит мыслями своего отца, которые привезла с Карпат, и что подобные расчёты и намерения обуяют также и Андрея, страстного и нетерпеливого в делах государства, тем более волновался, в глубине души своей, Александр.
Едва только Дубравка осушила глаза и стала внимать его слову, он принялся терпеливо и расчётливо выкорчёвывать из её сознания те взгляды на державные задачи великого князя Владимирского, с которыми она прибыла на Суздальщину и которые, несомненно, были внедрены в её душу многими беседами и наущениями её много замышляющего отца.
Успокоенная и утешенная им, она слушала его внимательно, изредка ставя ему вопросы, а иногда возражая. И Александр поражён был той глубиной и ясностью, которые успела приобрести её политическая мысль.
«Девчонка ещё, а ведь как возросла! — снова подумалось ему. — Царицею смотрит!..»
Он любовался ею. А она меж тем неожиданно перешла в наступленье.
— Так что же, — спросила она, — стало быть, отец мой, государь, не то мыслит, что Земле Русской надо?
Он медлил с ответом, затаивая улыбку. «Господи! — думалось Александру. — А ресницы, ресницы-то — что копья!.. Думал, что сурьмит их, как боярыни наши, — нет, сами собою черны: иначе от слёз бы размазалось. И до чего же сама бела — в молоке её купали, что ли?..»
В не осохших ещё от слёз глазах Дубравки стояли блики и косоугольники света: словно бы окна в небо!
Ей не понравилось его долгое молчанье.
— Отчего ты молчишь? — спросила она, готовая разгневаться.
Он спохватился и отвечал ей:
— Нет, Дубравка, правильно мыслит твой отец и брат мой и государь многомудрый Данило Романович, дай бог ему здоровья!.. Правильно мыслит, ибо держава его к Карпатам прилегла! Когда бы я сам стоял на Карпатах, то и я, быть может, так же мыслил. Две тыщи вёрст Батыю тянуться до него!.. А я... — Тут Невский поправился: — А супруг твой, князь Владимирский, не так должен мыслить!.. Одно то возьми: Батый грозился, когда мы с Данилом Романовичем повенчали вас: «Малахаем своим до Владимира ихнего докину — и нет города!..» А в малахае том... триста тысяч конных сатанаилов! С кем он, Андрей твой, противостанет ему?! Ещё же и нового народу не подросло!..
— А как же Андрей должен мыслить? — спросила Дубравка.
Невский оглянулся в сторону лесной опушки.
Дубравку рассердила эта его осмотрительность.
— Ты скоро станешь думать, что вот эта берёзка тебя подслушивает?
Александр посмотрел на фарфоровую берёзку и затем спокойно ответил:
— Нет, эта не будет подслушивать: молода ещё!
А вон той старушке, — он кивнул головою на густолиственную, радушную берёзу, — а вон той не доверюсь, предпочту важное что-либо перемолвить подальше от неё.
Дубравка улыбнулась:
— Вот и отец такой же!
— Иного и не ожидал от брата Даниила. Не худо бы и Андрюше твоему хоть этим у нас позаимствоваться...
Дубравка смолчала.
— Слушай, княгиня, — сурово произнёс Александр, — поклянись мне всем, что есть у тебя самого святого на свете, что всё, что сейчас услышишь от меня, ты никому не расскажешь, даже Андрею.
Тонкие, высоко вознесённые дуги бровей её дрогнули.
— Думаешь ли ты, что я всё ему говорю? — вопросом на вопрос отвечала она. И затем, с глубокой торжественностью, поклялась спасением души покойной матери своей, что никогда, никому не расскажет она об этой беседе.
И тогда Александр завершил всё прежде сказанное перед нею такими словами:
— Не татары, а немцы! Эти страшнее!
— Почему? — в изумлении спросила Дубравка.
— А вот почему. Запомни! — продолжал Александр. Татары — Батый — нет слов, страшны, и люты, и поганые людоядцы. Однако они оставили неизрытым наш корень духовный. Много и жадностью их, и подкупностью помог нам господь. Если б ты знала, сколько серебром да поклоном крови русской, скольких людей выкупили мы с Андреем у Орды!.. И впредь щитом серебряным, а не мечом стальным надеюсь удержать их по ту сторону Волги!.. Помысли сама: князи русские остались как были; отстоял я перед Ордою и для Андрея, и для себя, в Новгороде, свободу войны, свободу мира: «Воюй с кем хочешь, только не с нами!..» Язык наш татары не тронули, церковь чтут! А под щитом церкви ужели мы с Андреем и своего, княжеского, да и людского добра не укроем?! Нет, не татары страшны нам сейчас! Только не надо их злобить прежде времени. Так и говори Андрею своему: «Соломенный мир с татарами лучше железной драки!..»
Дубравка, словно уверовавшая в наставника своего, новообращённая, строго кивнула головой.
Александр продолжал:
— Немцы страшнее. И... господин папа!.. Если не устоим против стран западных, то эти и духовный корень наш изроют! Не то что нас, а и Руси не будет. Вовеки!.. Ни языка, ни веры, ни государей своих народу и ничего, ничего не оставят... Была, напишут после, Русь некая, а ныне — вон там плуг на себе тянут, в лохмотья одетые, — то из останков народа того, русского! А заговорит с ними, с теми, на которых немец пахать будет, какой-либо Иродот будущий — и они уже не по-русски, но по-немецки ответят!.. Ох, Дубрава... когда бы ты была на Чудском в ту битву ледовую, где полегло их — рыцарей рижских, а ещё больше — кнехтов — столько, что лёд подплыл кровью!.. Когда бы ты видела, как страшна эта их железная свинья, которою они прошибаются!
— Я была там!.. Я и в Невской битве была!.. — тихим восклицаньем вырвалось у Дубравки. Очи её были широко разверсты, уста чуть полуоткрыты. Она дышала часто и жарко.
Невский посмотрел на неё и, казалось, понял, что означали эти её слова.
— Этим рылом и изроют они напрочь весь корень наш духовный!.. Вот почему немцы страшнее татар!.. Вот как мыслить должен князь великий Владимирский. К тому направляй его, ежели ты хочешь, чтобы имя твоё благословляла Земля наша!.. И когда так будете творить вместе с Андреем, то бог с ним, и с престолом Владимирским. Знаю, шепотники нашёптывают на меня Андрею. Но я поклянусь, чем хочешь: что даже и под детьми вашими, — при этих словах Дубравка вспыхнула, — даже и под детьми вашими не будут дети мои искать престола Владимирского. Я заклятие в том на сынов своих положу. Но… только ежели та́к, ежели по сему пути ходить станете!..
Лицо Александра пылало. Ей чудилось, что от него, от лица этого, бьют лучи. Она вся трепетала.
— Итак, запомни! — грозно заключил Александр. — Татары — это успеется. Немцы — страшнее. Орда не вечна. Батый — при смерти. Но папа рымский... он и седьмое колено переживёт!..
Они говорили и не могли наговориться! Если бы сейчас песочные часы, подаренные Невскому Ели-Чуцаем, были здесь, рядом, он раздробил бы их хрупкое стекло: только бы не видеть, что не перестало течь время!..
Дубравка обещала Александру, что отныне всё, что он прикажет ей внушать Андрею, она будет внушать ему — всей своей волею, всей своею властью, всем своим разуменьем.
— Всё буду делать, что велишь!..
Дубравка вздохнула: ей показалось, что в этот миг она отступила от своего отца, от клятвы своей, данной там, на Карпатах, перед разлукой.
— В час добрый! — сказал Александр. — Худому не наставлю тебя... Скажи, он тебя любит? — вдруг спросил Невский.
Тяжкое борение чувств — мука гордости, стыд перед деверем, да и многое, многое, чего не возьмёт и самое слово, изобразилось на её лице.
— Любит, — ответила она, потупляясь. — Я его не люблю... — домолвила она и отвернулась.
Ветер плеснул волною о берег. Закачалась большая сосна на песчаном бугре, выступившая перед опушкою бора, будто богатырь-полководец перед колеблющимся строем войска.
Шлёпаясь о землю, посыпались еловые шишки, сбитые ветром. Собака, ушибленная ими, вскинулась и заворчала. Стало свежеть. Уже слышался кипень и шелест заворачиваемой ветром наизнанку листвы берёз. Словно тысяча зеркальных осколков, сверкал на солнце маслянистый лист. Куда-то сыпались и сыпались нескончаемо, а всё никак не могли оторваться от ветки ещё не столь большие листья осины, издавая тот еле слышимый шелест-звон, слушая который невольно вспоминаешь пересыпанье тонких серебряных новгородок или же арабских диргемов рукою скряги-лихоимца.
Александр решительно поднялся.
— Скоро дождь будет, — произнёс он. — Пожалуй, пойдём, Дубравка.
Он протянул ей руки.
Она вскочила, едва докоснувшись его руки и не успев накинуть на плечи свой алый плащ поверх белого платья. На какую-то долю мгновенья о мрамор его могучей груди сквозь тонкое полотно скользнули тяжёлые вершинки её грудей. Никогда удары копий и стрел, хотевших добыть его сердце, ринутых рукою богатырей, не производили такого душевного и телесного сотрясенья всей его крови и нервов, как вот это мгновенное прикосновенье.
Дубравка стояла спиною к воде, на самом обрыве, и ему неизбежно было её поддержать, ибо, коснувшись его, она слегка отшатнулась. К го ладони легли ей на плечи. И она снова приникла к нему. Она была вся как бы в ознобе.
Будто кто-то внезапно дёрнул незримой рукой незримую верёвку — и огромное колокол-сердце ударило и раз и другой, готовое проломить ему грудь.
Поцелуй их был отраден и неизбежен. Так земля, растрескавшаяся от жары, хочет пить.
Как ребёнка, поднял он её на руки.
Внизу расстилалось озеро. А там, вверху, далеко над берегом, снегоблистающие купы облаков громоздились, плыли, непрестанно преображаясь. И одно из них, белое, светонапоённое, высилось, словно Синай.
«Господи! — подумалось Александру каким-то внутренним воплем тоски и отчаяния. — Да ведь с такою бы на руках и на этот Синай, как на холмик, взошёл бы!..»
Но увы — то не его, то не его, — то братнино было! И, как бы с кровью отдирая её от своей огромной души, он бережно поставил её, жену брата, на землю.
— Пойдём, Дубравка... нас ждут... — сказал он.
Берёзовый сок чудесно помогал Дубравке. Но уже стало почти невозможно его добывать: сок весь теперь уходил на выгонку листвы, на утолщение ствола — стояла уж половина мая. И Андрею и Александру приходилось иной раз подолгу выискивать подходящую берёзку где-нибудь в сыром, тёмном овражке, где ещё, местами, прятался посеревший, словно бы заяц в разгаре своей перешерстки, крупнозернистый, заледенелый снег.
Один от другого братья тщательно скрывали каждый свою берёзку.
За вечерним их чаем, который любила разливать сама Дубравка, это соревнование двух братьев из-за берёзок служило предметом взаимных поддразниваний и шуток. То один, то другой из них наклонялся к Дубравке и так, чтобы соперник не мог расслышать его, сообщал ей, где, под какими берёзками, в каких оврагах расставил он свои туески. И старались подслушать один другого, и много смеялись.
Это были счастливейшие мгновенья, быть может, в жизни всех троих! Александр, который желал, чтобы юная гостья его как можно скорее поправилась, всячески старался, чтобы ото всего, что её окружало, веяло беззаботной радостью и покоем. Да ему и самому необходим был отдых, особенно после прошлогоднего воспаленья лёгких, которое едва не унесло его в могилу и от которого с таким трудом спас его доктор Абрагам, выпустив у него из вены целую тарелку крови.
Глубокое затишье установилось и в делах державных, и это весьма способствовало отдыху.
Усилиями Александра отношения с ханами вошли как бы в некое русло с довольно устойчивыми берегами. Невский умело и тайно растравлял ненависть между Сартаком — сыном Батыя, и Берке — братом его. Батыя уже водили под руку, он сильно волочил ноги, стал косноязычен и очень редко вмешивался в дела Золотоордынского улуса. Сановники только делали вид, что слушаются его. Всё, что было могущественного или же алкающего власти среди вельмож и князей улуса Джучи, раскалывалось на два враждебных стана: донской — сторонников Сартака, ибо царевич кочевал на Дону и там была его ставка, и другой стан — сторонников Берке, который всё больше и больше забирал власть в Поволжском улусе в свои изголодавшиеся по власти, когтистые руки, по мере того как дряхлел его брат.
И соответственно расстановке сил в самой Орде разбились на два враждебных стана и князья подвластных русских уделов: одни возили дары преимущественно Сартаку, другие — преимущественно Берке. Батый получал меньше всех.
Невский поддерживал Сартака. Они были с ним побратимы. Сартак и верховная ханша его — оба были православные. У них даже была своя походная церковь, свой поп. Всё это не могло не сближать Невского с царевичем. Однако не мог же не видеть Ярославич, что старший сын Батыя не удался, что он скудоумен, хлипок здоровьем, что если затеется у него после смерти великого родителя борьба с дядей Берке за златоордынский престол, то сыну Батыя едва ли царствовать, хотя сейчас, при жизни отца, слово Сартака, его пайцзы, тамги и дефте́ри были знаками как бы самого Батыя и никто не смел им противиться, даже всесильный Берке.
Находясь в дружбе с Сартаком, Александр в то же время всячески ублажал и Берке, одаряя всех жён, и дочерей его, и советников — всех этих муфтиев, кази, мударрисов и шейхов, ибо брат Батыя был яростный магометанин и только ожидал смерти брата, чтобы обратить в магометанство все подвластные ему народы — и прежде всего свой собственный.
Так или иначе, между Александром и ханом Берке, неприязненно косившимися друг на друга, был тот «соломенный» мир, в сторону которого он советовал только что и Дубравке направлять своего Андрея и который был, по глубокому убеждению Невского, куда лучше «железной драки» с татарами — по крайней мере сейчас.
Так обстояли дела на востоке.
На юге же ещё не отбушевала против монголов Грузия, и в своём орлином гнезде, среди скал, ставших скользкими от татарской крови, ещё держался непреклонный Джакели.
Дальше — к западу — император греческий, Иоанн Ватаци, — хитрее, чем лис, терпеливее, чем китаец, и дальнозоркий, как ястреб, — не упускал случая, сидя в своей провинциальной Никее, теснить латынян-рыцарей всё дальше и дальше — к Дарданеллам, к Босфору, ожидая только благоприятного стечения планет, дабы и совсем вышвырнуть немцев и франков из Константинополя, где удерживались они уже через силу, непрестанно взывая к папе, после погрома, учинённого им болгарами.
В Сербии Урош, государь отважный, законодатель мудрый, полководец, опрокинувший самого Субэдэя, да и хозяин рачительный своей земли, куда уже и Людовик и Фридрих стали засылать в науку учёных рудознатцев — учиться у сербов добывать железо, золото, серебро и медь, — этот Урош со своей стороны тоже рвался с севера к Босфору, в Константинополь. Только недоставало сил: с тылу наседали венгры, от моря — итальянцы, с другого боку — болгары, забывшие заветы великих своих правителей — Асеней. И вот, пишет в своём письме отец Дубравки, Данило Романович, что, дескать, молился к нему государь сербский Урош о союзе, о помощи против венгров, ибо нависают они над Сербией с тыла и сковывают лучшие силы Уроша. Однако далеко озирающий с Карпат своих, поглядывающий и сам на Босфор и на Константинополь, отец Дубравки так ни с чем и отпустил послов сербского государи. Пишет Данило: нельзя, дескать, ему пойти против Бэлы — вечный мир у него подписан и союз с королём венгерским, да и сватами стали: Лев Данилович, брат Дубравки, женат на дочери короля Бэлы.
На севере, в Германии, дела для Руси складываются благоприятно. Не успел умереть Гогенштауфен, как вся Германия, подобно бочке, раздираемой забродившим мёдом, трещит — и вот-вот рассыплется на клёпки. Уже вздыбились немецкие города. Иной бургомистр уж самого императора нового ни во что не ставит: захочет — отворит ворота, захочет — пет. Да, впрочем, их, этих императоров, много стало в Германии: в Вормсе — один, в Страсбурге — другой, в Майнце — третий. Чуть ли не каждый богатый рыцарь мнит себя завтрашним императором. Самозваные Фридрихи размножились. А народ — в смятенье. Кнехты сбиваются в шайки — дерут встречного и поперечного... Притихла и Рига: мира доискивается магистр со Псковом и Новгородом. Ещё бы, на одних попах латынских далеко не уедешь! А кнехтов и рыцарей из «фатерланда» — их теперь и пшеничным калачом не заманишь на орденскую службу: им и в отечестве хватает добычи! А сунешься на Русь — тут, того и гляди, новгородец — даром что торговая досточка! — а разъярить его, так живо голову топором отвалит! А на Литву сунешься — то как раз литовец тебя в панцире на костре зажарит, словно кабана! Поослабели гладиферы — меченосители! Ну что ж, нашим легче! Вот только Миндовг сомнителен! Правда, ручается Данило Романович в письме своём, что с Миндовгом у него теперь вечный союз и родство двойное: Миндовговну взяли за брата Дубравки, да и сам Данило оженился на литвинке — Юрате-Дзендзелло. А в ней, дескать, Миндовг и души не чает: пуще дочери! А молодому Даниловичу уже и княжение выделил. «У них, — пишет Данило Романович, — у литовцев, родство-свойство — дело святое и нерушимое». «Ну, дай-то бог! А я бы и родству-свойству не вверялся: зане — Миндовг!..»
Так думалось Александру, так беседовали они втроём за вечерними чаепитьями.
За последнюю сотню лет для державы вряд ли один-другой набрался бы подобный тихий годочек! Недаром же летописец — пономарь в Новгороде, Тимофей, — обозначил текущий, 1251 год, а от сотворения мира — 6759, такою записью:
«6759. Мирно бысть». И ничего более!
Столь же краткою записью как бы откликнулся ему летописец ростовский:
«6759. Ничто же бысть».
И наконец:
«6759. Тишина, бысть», — вывел киноварью высокопоставленный летописец, сам митрополит Кирилл — Галича, Киева и всея Руси.
Тишина была и в сердце Дубравки. Положа руки на раскрытую на коленях книгу, молодая княгиня созерцала бирюзовую гладь озера с парусами на ней недвижными, словно бы сложившие крылья белые мотыльки, и думала об Александре.
Сейчас он придёт. Ещё не слыша его шагов, она узнает о его приближении по той обрадованной настороженности, с которою начнёт посматривать Волк в сторону леса, а потом на неё — жалобно и просяще: собака уже не смела теперь без её разрешения кинуться навстречу Александру! В первый раз, когда пёс кинулся, оставя её, навстречу своему хозяину, хозяин ударил его прутом.
— Туда! К ней!.. — И показал рукою в сторону, где сидела Дубравка.
И этого урока разумному псу оказалось достаточно. Теперь, издалека заслыша Александра, он не только радостно, но и жалобно повизгивал, колотил хвостом о землю и взглядывал на Дубравку: отпусти, мол! И она, немножечко помучив Волка, отпускала его.
Словно камень, пущенный из пращи, перелетал пёс через всю лужайку и исчезал в лесу. Возвращался же он чинно и строго, счастливый, идя на шаг, на два впереди хозяина, и, доведя его до Дубравки, вновь ложился на своём месте, под кусток, настораживая шатёрчики острых ушей. И теперь горе было тому, кто из чужих вздумал бы ступить на поляну...
Сейчас придёт Александр... «Ну что, княгиня, — скажет он ещё со средины полянки своим просторным, большим голосом, — небось уморили тебя жаждою?..» — и покажет ей бережно предносимый на ладони берестовый туесок, не больше стакана. И они оба опять изопьют из него. Он — после неё. Как Тристан Корнуолский и Изольда Златокудрая: «Он — после неё, — они осушили кубок с рубиновым вином, настоянным на травах: напиток, порождающий любовь — любовь, доколе земля-матерь не постелет им свою вечную постель!» — произнесла нараспев по-французски Дубравка, и закрыла глаза, и, закинув руки за затылок, потянулась блаженно, и подставила своё лицо солнцу. А солнце уже грело всё больше и больше: словно бы отец подошёл неслышно и положил ей на плечи свои большие, тёплые руки... «Господи! Когда же увижу я отца своего? — подумалось Дубравке, и сердце её заныло. — Наказывала тётке Олёне, отъезжавшей в Галич, чтобы сказала государю-отцу, что тоскует его донька: пусть приедет хоть на часок! Писала в письме, звала. Но Александр говорит, что сейчас Данило Романович воздержится от приезда во Владимир: не надо дразнить татар! Кирилла-владыку прислал, и даже это с трудом перенесли в Орде. Ладно, что ещё старик Батый жив, попридержал Орду».
Вспомнив об отце, Дубравка почувствовала, как покраснела. «Разве укроется от отца? — мелькнуло у неё в душе. — Нет, пусть лучше пока не приезжает!.. А сейчас придёт он, Александр! — подумалось ей вновь с каким-то блаженным и озорным ужасом. — Придёт проститься, быть может, в последний, в последний раз!.. Хочет ехать в Орду, к Сартаку... Царица небесная, сохрани же ты мне его!.. Сохрани!..»
Дубравка открыла глаза и, сжав руки, молитвенно глянула на белокурые облака. Рычанье собаки заставило её обернуться. «Это он, Александр!» Дубравка затаила дыханье, и плечи её дрогнули от предвкушения счастья. Однако как странно сегодня ведёт себя Волк! Пёс не только не обрадовался, — напротив, жёсткая, волчья шерсть его встала дыбом, он вскочил и насторожился в сторону леса, готовый кинуться на того, кто вот-вот должен был выйти из леса.
На поляну вышел Андрей. В его руке был маленький туесок. Быть может, никогда ещё душа Дубравки не испытывала столь горького разочарованья! Княгиня нахмурилась. Ничего не подозревая, Андрей приветственно простёр к жене свободную от туеска правую руку. Волк ощерился и зарычал.
Князь остановился.
— Уйми ты его, княгиня! — раздражённо произнёс он.
Дубравка прикрикнула на пса. Однако на сей раз её властный голос не оказал воздействия на Волка; по-прежнему рыча и словно бы в каком-то щетинном ошейнике — так поднялась у него шерсть! — пёс медленно подступал к непрошеному пришельцу.
Гнев собаки заставил Дубравку вскочить на ноги.
— На место!.. Туда!.. — крикнула она звонко, указывая на куст. И подчинившийся нехотя Волк побрёл, озираясь на Андрея, однако улёгся, должно быть «на всякий случай», ближе к Дубравке, чем лежал до того.
— Однако же и сторож у тебя, — сказал, покачивая головою, Андрей, — не подступись!
Он подошёл к Дубравке и протянул ей туесок с берёзовым соком.
— Саша не придёт, — сказал он, — там мужики к нему пришли: землемерца требуют, межника... Велел мне проведать тебя, отнести сок...
Дубравка протянула руку за туеском, но то ли Андрей поторопился выпустить из своей руки, то ли она замедлила принять, но только туесок, полный соку, выскользнул и упал на землю. Сок разлился.
— Княгиня!.. — укоризненно воскликнул Андрей. — Да ведь это теперь дороже кипрского! Ведь ты знаешь, берёзы больше не дают сока...
— Ах, не помогает он мне, этот ваш берёзовый сок! — с досадливой морщинкой на лбу отвечала Дубравка.
— Но ведь ты же сама говорила, что помогает, и очень.
— Не хотела обижать Александра, — ответила она, обрывая разговор.
— Да, кстати, — сказал Андрей Ярославич, — Александр велел тебя звать: может быть, поедем верхом, все трое? Он уже приказал для тебя оседлать Геру.
— Скажи ему, что я никуда не поеду! — жёстко отвечала она. — Хочу побыть здесь одна. У меня голова болит. Господи! — со слезами раздраженья воскликнула она, — Даже и здесь не дают покоя!
Сказав это, Дубравка отвернулась от мужа и быстро пошла вдоль берега. Андрей растерянно посмотрел ей вслед и затем двинулся было к тому месту под берёзой, где сидела она, чтобы взять и понести за ней коврик, плащик и книгу. Грозное рычанье остановило его: это Волк предупреждал: «Не тронь! А то будет плохо!»
— Экая чёртова собака! — проворчал князь и, вздохнув, повернул в сторону леса.
Волк ринулся догонять свою госпожу.
А тот, кого так страстно и столь тщетно ожидала она, — Александр, он уже и шёл было к ней, однако, не пройдя половины приозёрного леса, остановился и повернул обратно к дворцу.
Это произошло так.
Александр подходил к мостику через Трубеж, возле впадения речки в озеро. Отрадно было дышать запахом водорослей, остановившись в тени переплетавшихся между собою вётел, бузины и черёмухи.
Где-то тёкал и закатывался серебряною горошиною соловей. Александр вслушался: «Где-то здесь!..» Ступая осторожно, он приблизился, раздвигая бережно ветви, и увидел неожиданно в кустах и самого певуна: серая кругленькая птичка, забывшаяся в звуке, как бы изнемогавшая от него. Александр, опасаясь, что спугнёт соловья, осторожно привёл ветви на их прежнее место. «Ведь какой малыш, — подумал он, улыбнувшись, — а разговору-то, а песен-то о нём!.. А ну послушаем тебя хоть раз по-настоящему, а то всё некогда да некогда!..»
И Невский остановился и стал слушать.
...Сначала как бы насыщенный, налитой, какой-то грудной звук — некое округлое тёканье неизъяснимой певческой чистоты звука: словно бы эта ничтожная птичка задумала дать людям непревзойдённый образчик пенья. И вдруг срыв к сиплому и частому, опять-таки насыщенному какому-то, сасаканью...
И всё ж таки ясный, прозрачный звук преобладает. «Да, это сильно хорошо, — прошептал Александр. — Почему же это я раньше не обращал никакого вниманья? А ведь сколько ж, бывало, носились в этом лесу ребятишками!..» Он приготовился слушать ещё. Вдруг соловей умолкнул, и слышно было, как шорох пул крылышками по кустам, перелетая в другое место: кто-то спугнул. И в тот же миг до слуха Александра донеслись два мужских, грубых и сиплых голоса.
Князь нахмурился: по голосу, да и по самому складу речи слышно было, что разговаривают меж собою мужики. А никому не велено было из чужих, из посторонних, проходить княжеским лесом или захаживать в него. «Надо будет спросить сторожей!» — подумал, хмурясь, Невский.
Прошли близко, но по ту сторону ручья. И вот о чём они говорили.
— Чего тут! — с горьким, раздражённым смехом говорил один. — Он хотя и вернётся с рыбалки, муженёк-то, невзначай, а и в двери к себе не посмеет стукнуть, коли узнает, кто у его жёнки сидит. Ведь легко сказать: сам князь, да и великой!..
— Знамо дело: кажному лестно! — подтвердил другой, и оба хохотнули,
Александру щёки обдало жаром.
«Что такое, что такое?» — мысленно вопрошал он себя, в стыде и в негодованье. А самому уж ясно было, что это о его брате говорится, об Андрее.
«Господи! — подумал он с отвращением. — И здесь уж, у меня, шашни с кем-то завёл!..»
А смерды меж тем продолжали разговор, удаляясь.
Буря смутных, тяжёлых чувств душила князя. «Асам, а сам-то ты, княже Александре? — вслух восклицал он, гневно допрашивая себя, зовя к ответу. — Обумись! Бракокрадцем стать хочешь!..»
И вспомнились ему слова старика Мирона: «Да ведь как же, Олександра Ярославич? Ведь он же у меня — большак! Он всё равно как верея у ворот; на нём всё держится!»
Ломая и отшвыривая бузину и орешник, он стал выбираться на тропинку, что вела обратно ко дворцу.
В домашнем обиходе и у Андрея и у Александра Ярославичей, после их возвращения от Менгу, императора Монголии и Китая, был принят чай, правда для особо чтимых или близких гостей. Этого напитка ещё не знали, да и остерегались другие князья. Епископ ростовский осуждал питьё чая, однако несмело, и оставил сие до прибытия владыки. А Кирилл-митрополит, ознакомясь с «китайским кустом» и отведав чая из рук своей ученицы, нашёл напиток превосходным и спокойно благословил его. «Не возбраняю даже и в посты, — сказал он, — ибо не скоромное, но всего лишь былие земное!»
В этих застольях втроём Дубравка радушно хозяйничала, одетая в простое домашнее платьице, иногда с персидским шёлковым платком на плечах. Она старалась заваривать чай строго по тем китайским наставлениям, какие сообщил ей Андрей. То и дело она приоткрывала крышку большого фарфорового чайника с драконами — из чайного прибора, подаренного Александру великим ханом Менгу, и вдыхала аромат чая и заставляла делать то же самое и Александра и Андрея, боясь, что чай им не понравится.
Какие вечера это были! И о чём, о чём только не переговорили они!.. Сколько раз Дубравка заставляла то одного, то другого из братьев рассказывать ей и о битвах с немецкими рыцарями, и о Невской битве, и о совместной их поездке к Менгу. И оба — участники одной и той же битвы — Ледовой, и оба — участники одной и той же, длительностью в два года, поездки через Самарканд в Орду, Александр и Андрей, увлечённые воспоминаниями, начинали перебивать один другого, исправлять и переиначивать.
— Да нет, Андрей, всё ты перепутал! Когда фон Грюнинген ударил на Михаила Степановича, а ты со своим Низовским полком...
— Да нет, Саша, не так! Ты сам всё спутал. Вот смотри: я со своими вот здесь стою, от Воронья Камня на север. А ты — вот здесь...
— Ну и дальше что? — загораясь, перебивал его Александр.
— Да ты погоди, Саша, не перебивай!..
— Гожу!..
— Ну, так вот. Я стоял здесь...
И крепкий мужской ноготь резко прочерчивал на белоснежной скатерти, к великому ужасу Дубравки, спешившей отодвинуть чайный сервиз, неизгладимую черту, обозначавшую расположение войск в Ледовой битве. Невский всё это перечерчивал своим ногтем и чертил совсем по-иному.
— Иначе! — говорил он. — Грюнинген — здесь. Мальберг — здесь. А ты с низовскими — тут вот. Понял? — и Александр стучал пальцем о то место, где, по его мнению, стоял на льду Чудского озера Андрей Ярославич в столь памятный и обоим братьям и магистру с прецептором день пятого апреля 1242 года.
Рассказывая, Александр вдруг расхохотался. Дубравка с любопытством посмотрела на него.
— О чём вспомнил? — спрашивает Андрей.
— Да помнишь, как фон Грюнингена волокли ребята по льду ремнями за ноги?
Хохочет и Андрей. И это не скатерть уже, а чуть припорошённый снежком лёд Чудского озера в тот достопамятный день. А вспомнилось братьям, как ватага неистовых новгородцев во главе с Мишей, пробившись до самого прецептора, свалили фон Грюнингена с коня, и так как закованного в панцирь гиганта трудно было унести на руках, то кто-то догадался захлестнуть за обе панцирные ноги прецептора два длинных ремня, и, ухватясь за них, ребята дружно помчали рыцаря плашмя по льду, в сторону своих: панцирь по льду скользил, как добрее санки с подрезами. И когда уже близ своих были, то кто-то вскочил на стальную грудь, как на дровни, и так проехался на фон Грюнингене, среди рёва и хохота.
Узнав, о чём вспомнилось Александру, немало смеялась тогда и Дубравка.
Но много и страшного и безрадостного переслушано было Дубравкой из уст Андрея и Александра в эти незабвенные вечера.
Эти униженья в Орде, когда Александр принуждён был всякий раз, входя в шатёр хана, преклонять колено и ждать, когда гортанный голос, вроде вот того, что у Чагана, повелит ему встать...
И с глазами, полными слёз, сидя на обширной тахте, прислоня голову к плечу Андрея, кутаясь в платок, княгиня неотступно глядела на Александра, который, рассказывая и живописуя их дорогу и пребыванье в Орде, то расхаживал по комнате, то вдруг останавливался перед ними.
Дубравка слушала его рассказ, вглядываясь в его прекрасное и грозное лицо, озарённое светом больших восковых свечей... «Нет, — думалось ей, — разве может хоть где-либо затаиться страх в этом сердце?»
И начинала прозревать, что многое испепелила в душе Александра сия неисповедимая и всё подавляющая Азия.
Азия дохнула в эту гордую душу...
...И вставали перед княгиней снеговые хребты, сопредельные небу, и жёлтые песчаные пустыни на тысячи и тысячи вёрст — пустыни, на пылающей голизне которых сгорают целые караваны, словно горстка муравьёв, брошенных на раскалённую сковороду...
Обезумевшие от безводья, люди распарывают кровеносные жилы у лошадей, чтобы напиться их кровью...
Убивают слабых, чтобы не тратилась на них лишняя капля воды...
— Да разве, Дубравка, — говорил Александр, — поверишь во всё это после, когда рядом течёт Волхов, полный воды!.. Ведь едешь, едешь, неделю, другую — и всё песок и песок... Или же валуи, плитняк, галька, солончаки... Кочки на этих солончаках — в рост человеку. Ветер — до того свирепый, что валуны гонит, палатки с железных приколов сдирает!.. Верблюды и те задом поворачиваются. Человеку же одно только спасенье — ложись под бок к верблюду, ничком, и чем бы ни было укройся с головою, и не вставай, доколе не кончится ветер, и предай себя на волю божью... Местами урочища целые костей валяются — белых, а и полуистлевших уже. Проезжали мы тем местом, где жаждою пристигло лютой в сорок пятом году караван родителя нашего многострадального... Видели кости людей его... О, люто в пустынях сих!..
Не по-доброму и начался последний их злополучный вечер втроём! Это было как раз в тот день, когда Дубравка столь напрасно и столь долго ожидала Александра у озера. С потемневшим лицом, враз похудевшая, она сидела, потупя взор, и словно бы руки у неё зябли, держала то одну, то другую обок горячего фарфорового чайника, из которого разливала чай.
Считалось, что Александр у неё и у Андрея в гостях, ибо он приходил к ним, на их половину. Этим и воспользовался Александр, чтобы, под видом шутки, и укорить слегка Дубравку за нелюбезный приём, и немного развеселить. Подражая монгольской выспренности, Невский, чуть улыбаясь, произнёс:
— О! Со скрипом отворяются ныне врата приязни и гостеприимства!
Дубравка вспыхнула, хотела возразить что-то, но ограничилась лишь подобием жалостной улыбки. Ещё немного, и она бы заплакала. Александр уже раскаялся, что затронул её. Вступился Андрей.
— Нездоровится ей что-то! — сказал он. — А всё озеро этому виною: ведь столько просидеть на ветру, да и у воды! Солнышко хотя и пригревает, а по овражкам, под листвою, ещё и снег!.. Из лесу — как из погреба!..
Он встал и укутал ей плечи платком. Она поблагодарила его безмолвно.
— Выпей же чаю побольше горячего, — сказал Александр. — Врачи Менгу только и лечат его что чаем да кумысом.
Он подвинул ей хрустальное блюдо с инжиром. Упомянутый им кумыс послужил началом того разговора, который Невскому давно уже хотелось начать с братом, без чего он и не мог бы спокойно уехать в Орду, к Сартаку, ибо уже давно Александр догадывался, что Андрей что-то затевает против татар.
— Кстати, а что с кумысом? — спросил Невский как бы невзначай.
— С каким? — спросил Андрей.
— Ну, с тем, что Чаган присылает на леченье.
— Ничего. Спасибо ему: каждый день по бурдюку присылает, пёсики мои толстеют...
И Андрей Ярославич злобно рассмеялся.
Невский поморщился, словно бы от сильной зубной боли.
— Чего ты? — вопросил брат.
— Сам знаешь что, — отвечал Александр. — Боюсь, что тысячи бурдюков русской крови нацедят татары за эту княжескую шуточку!..
Андрей вскинул плечами:
— Бояться волков — быть без грибков!
— Не к месту, — отвечал Александр. — Дивлюсь.
Наступило молчанье.
— А тебе ведомо, — сказал Александр, — что дядюшка наш, Святослав Всеволодич, и с младшеньким своим, с Митрием, опять у Сартака сидит, на Дону?..
— Нет, не знал, — нахмурясь, отвечал Андрей. — Экий па́полза! — выругал он дядю. — А ведь давно ли на свадьбе у меня верховодил? Как сейчас я его вижу: «И-их!» — и плечиком. — Андрей передразнил дядю. — Туп, туп, а в Орду дорожку знает и сыночку своему показывает!.. Жалко, что верёвки на князей не свито!.. Я бы его вздёрнул!..
— Вешали и князей, — угрюмо ответил Невский. — Вот у них, в Галиче: Игоревичей. Да не в том же дело! А ты так поступай, чтобы и наветнику на тебя нечего было повезти в Орду!.. А то как раз не его на глаголь вздёрнут, а тебя в Орде тетивою удавят.
Прежде чем успел ответить Андрей, дрожь ужаса и отвращенья охватила плечи Дубравки. Она закрыла лицо руками и медленно стала покачивать головой.
— О господи, о господи, — вырвалось у неё, — ну за что так тяжко казнишь ты меня?
— Тебя ли только, княгиня? — сказал Александр, и неласковое прозвучало в его голосе.
Дубравка ему ничего не ответила. Ответил Андрей.
— Ничего, друг мой, потерпи ещё немного — увидишь: не за раба татарского выдавал тебя Данило Романович! — сказал он и с необычайной для него ласковостью подошёл к жене и бережно поднял её лицо от ладоней.
Если бы мог видеть Андрей Ярославич в это время лицо своего старшего брата! Но в тот миг, когда Андрей вернулся на своё место, Александр Ярославич был по-прежнему спокоен.
Теперь для него было всё ясно: Андрей затевает восстание против Орды! Донесенья верных людей были истинны. И, внутренне усмехнувшись, Невский подумал: «Нет, видно, не бывать мне и королю Гакону сватами: не оженить, видно, Василья моего на Кристине норвежской! Не к тому дело ведёт этот добрый молодец!.. Погубит, всё погубит!..»
Сватовство между королём Норвегии, Гаконом, и Александром Ярославичем уже подходило в то время к благополучному завершению, и если бы удалось, то Александр мог быть надолго спокоен за северо-восточные земли свои, за Неву, за остров Котлин, за Ладогу. Как раз здесь вот, в Переславле, принял он одного из своих бояр, прибывшего с достоверным известием, что дела в Трондхейме подвигаются хорошо и что глава посольства в Норвегию, бывший посадник князя на Ладоге, Михаил Фёдорович, договорился с норвежцами обо всём. Улажены пограничные споры между финнами-саамами и карелой; и конунг Гакон, и сама госпожа Кристин — ей же ещё и двенадцати не было, собою же хороша, и здорова, и румяна, и волосы золотые — приемлют сватовство «конунга Александра из Хольмгарда» — так именовали норвежцы Александра. Дарами же конунга Александра и дарами сына его герцога Василья — жениха — премного довольны. Александр послал будущему тестю и нареченной невестке своей пять сороков соболей и столько же буртасских лисиц. Посадник ладожский извещал Александра, что вскоре вместе с ним выезжают из Трондхейма морским путём и послы короля Гакона — Виглейк, сын священника, и Боргар, рыцарь, дабы, мимо Котлина, Невою, Ладогою и Волховом, следовать в Новгород — Хольмгард. Предварительный брачный договор, а также и пограничный, и договор о союзе между Гаконом и Александром подписан: отныне Гакон — союзник Александру и Новгороду против шведов и финнов, Александр же даст помощь свою королю Норвегии против Авеля датского.
Главным, препятствием к сватовству и в глазах короля, и дворян его, и епископа трондхеймского было то — как сообщал затаённым письмом посланник, — что Александр якобы платит дань татарам. И Михаилу Фёдоровичу немало пришлось побиться над тем, чтобы доказать норвежцам, что только десятиною в пользу Орды и ограничивается вся зависимость Руси от монголов и что Александру и брату его, Андрею, удалось отстоять и право войны, и право мира, и право заключенья союзов, что но отнят и суд у великого князя Владимирского и что не обязан он отнюдь поставлять в войско Батыя, Сартака или Менгу хотя бы одного своего человека. Что же касается самого конунга Александра, то король Хольмгарда и вовсе ничего не платит ханам. Так что госпожа Кристин отнюдь не будет женою татарского данника. И в том Михаил Фёдорович, «рыцарь Микьян», дал руку.
«И вот теперь всё, всё пойдёт прахом!.. Восстание!.. — презрительно думал Александр. — Мнится ему, безумцу, что как на псовую охоту выезжают: рога, шум, ор, крик!.. Эх, власти моей над тобой нет!..»
На словах же он высказал брату мягкий попрёк в бесхозяйственности и расточительности. Тот вспылил:
— В нашем роду все щедры!.. Разве только батя один был прижимист. Вот и ты в него.
— А я так думаю, Андрюша: расточительный — то одно, а щедрый — то другое!..
— Вечно учишь! — рассердился Андрей. — Похвального слова от тебя не слыхивал!
— Как? А за белого кречета, что хану ты подарил?
— Да и то не без ругани!
— Стало, заслужил! — невозмутимо ответствовав Невский. — За кречета похвалил, а за кумыс Чаганов ругать буду!..
Андрей вскочил и забегал по комнате, время от времени останавливаясь и дёргая себя за тонкий и вислый ус, перечеркнувший тщательно выбритый маленький, подбородок.
— Хозяев много со стороны! Каждый проезжающий волен моих воевод, волостелей снимать, а своих втыкать.
Невский презрительно промолчал. Андрей ещё больше разжёгся.
— Ты проездом Генздрилу моего за что снял? — спросил он заносчиво.
— То моя отчина. Ответа перед тобой не даю. Снял, — значит, не годен: утроба ленивая, грабитель, негодяй, насильник. У себя на вотчине что хочу, то и молочу!.. И довольно про то! — отвечал старший.
Александра тоже начинал разбирать гнев.
— Ладно! — воскликнул Андрей. — То твоя отчина. А на Вятке? А на Волоке?
— То к Новгороду тянет!
— Вой оно что! — и Андрей даже присвистнул в негодованье. — Когда ты в Новгороде, то к Новгороду тянет! А как прогонят тебя купцы новгородские, сядешь у меня на Владимирщине, то уже другое поёшь: долой отсюдова, господа новгородцы!.. В батю весь!..
— И тебе бы неплохо!..
Андрей не сразу нашёлся что отвечать.
— Да ты не отводи, Александр! Я тебя в самом деле спрашиваю: зачем ты своих людей навтыкал, моих снявши?
— Сам ты просил об этом, — возразил Невский. — «Будешь, Саша, проезжать, — не чинись, накостыляй кому надо шею: таможник ли он, боярин ли, наместник ли из моих... И гони его прочь, коли негоден!..» Разве не говорил ты?
— Говорил. Но не говорил, что из своей дружины ставь.
— Добрых людей тебе ставлю. Мне самому те люди дороже плотников.
— Себе их и оставь. Мог бы и не военных ставить людей!
— Военный-то расторопнее, — попробовал отшутиться Александр.
Но Андрей ещё больше разжёгся. Видно было, как на его крутом лбу, над виском, прыгает жилка.
— Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал он. — Устал я под рукою твоею ходить! Люди смеются...
— В каком ты это альманахе вычитал? — насмешливо спросил Александр и глянул на брата синими, потемневшими, как море в непогодь, очами своими.
— Не в альманахе, а все говорят: не знаем-де, кто у нас княжит во Владимире? Ты мостнику моему, купцу именитому, за что рыло в кровь разбил?
— Я мостнику — рыло? Какому? Когда?
— Акиндину Чернобаю... на мосту проезжаючи.
— Плохо ж ты знаешь меня! Стану я руки марать о каждую морду! Я слово ему сказал некое — и он вдруг кровью облился. Я тут ни при чём.
— Без своей опеки шагу ступить не даёшь... То «зачем пьёшь?», то «зачем...», — Андрей глянул на Дубравку и замялся. — То одно неладно, то другое! Знаешь, я ведь уже не маленький!..
— Хуже! — жёстко произнёс Александр. — Ты безрассуден. Кумыс, царевичем для твоей княгини посланный, псам на псарню отправил!
— Надоел ты мне с этим кумысом! Псы его лакали и будут лакать.
Александр поднялся: он весь был сейчас как бы одной сплошной волной гнева.
— Смотри, Андрей!.. Страшно слушать безумия твоего! Как бы крови твоей псы не налакались!.. Помни: я тебе не потатчик!..
— Не бойся. Не донесу! Сиди себе в своём Новгороде!.. Все знают: ты только на немцев храбрый... А тут...
— Что «тут»? Договаривай! — закричал Александр.
— А тут... у стремени Батыева до конца дней своих станешь ходить... да и нам велишь всем... да и детям...
И вдруг голос у Андрея пресёкся слезами, и, застыдившись этого, он отвернулся и отошёл в дальний угол.
И это сломало уже готовый рухнуть на его голову гнев Александра.
Невский молча глянул на Дубравку, покачал головою и почему-то на цыпочках, словно бы к тяжелобольному, подошёл к брату и обнял его за плечи.
— Ну, полно, безумец, — ласково проговорил он. — И что это у нас с тобою сегодня? Да ведь у нас с тобою и лён не делён!..
Разговор о татарах продолжался и после того, как братья помирились. Не открывая старшему ни сроков, ни ближайших своих мероприятий, великий князь Владимирский уже не скрывал от брата принятого им решенья помериться силами с Ордой.
— Не тянуть надо, а дёргать! Всё принести в жертву, и свалить!
И снова, сдержав гнев свой, Александр принялся объяснять брату, почему несвоевременно будет сейчас любое движенье против татар.
— Нельзя, нельзя нам против татар восставать! — говорил Невский, как бы вдалбливая это своё глубокое убеждение в голову брата.
— А почему? — заносчиво спросил Андрей, останавливаясь и вполоборота взглядывая на брата.
И в это мгновенье Дубравка искренне любовалась мужем. «Словно кречет...» — подумалось ей.
— А потому нельзя, — продолжал Александр, — что на Запад почаще оглядываться надо...
— Какую истину изрёк! — насмешливо воскликнул Андрей Ярославич. — Или я младенец!.. А что Запад? Германия вся в бреду...
— А Миндовг?
— Что ж Миндовг?.. Ты сам знаешь; с Данилом Романовичем...
— Данило Романович благороден. Перехитрить его мудрено. Но верою его злоупотребить можно... Так слушай же: Миндовг с Данилом Романовичем роднится, а сам корону от папы приемлет! Епископ кульмский, брат Гайдепрайх, он безвыездно — ты про это знаешь? — у него, у Миндовга, живёт. Вместе с ним и переезжает. Так ты сперва Миндовга от магистра, от Риги, оторви, а потом...
Но и здесь, хотя всем троим понятно было, что «потом», Александр предпочёл не договорить, а только многозначительно усмехнулся.
Андрей на этот раз не перебивал: ему и впрямь было внове всё, что говорил сейчас о Миндовге Александр. Однако ещё большие неожиданности услыхал он вслед за этим.
— Марфа, королева Миндовговая, даром что православная, — продолжал Александр, — но ты знаешь... — Тут Невский взглянул на Дубравку: — Прости, княгиня, за просторечие! Ведь она, эта самая Марфа, королева, почитай, открыто, на глазах у всех, живёт с Сильвертом, с рыцарем... А Миндовг — старая рысь! — ты думаешь, не знает про то? Знает! Только глаза закрывает. А чего ради, как ты думаешь? А того ради, что этот самый брат Сильверт у папы Иннокентия в чести. Что ни год, паломничает к престолу Петра. Хочет легатом быть... Ливонии и Пруссии!.. Вот почему Миндовг и видит, да не видит... А может, ты всё это уже слышал? — спросил Александр.
— Да нет, где мне знать! — с полуобидой отвечал Андрей, вздёрнув плечом. — Тебе виднее: у тебя ведь сто глаз, сто ушей.
— Побольше, — спокойно и чуть насмешливо поправил его Александр.
Андрей замолчал.
Александр незаметно посмотрел на Дубравку. Подобрав под себя ножки в бисером расшитых туфельках, княгиня сидела, храня молчанье и на первый взгляд даже и спокойствие, кутаясь в яркую, с тяжёлыми кистями, шёлковую шаль, которая закрывает её до колен.
Уже прохладно, и маленькие оконницы терема с цветными круглыми стёклами опущены наглухо. Слышно, как где-то ударяет время от времени в чугунное било усадебный сторож. Доносится ржание ярых, стоялых жеребцов из конюшен и грохот о деревянные полы их тяжких, кованых копыт...
Александра трудно обмануть: спокойствие княгини — только кажущееся, но её волнение выдаётся лишь тем, что краешек её нижней губы то взбелеет, слегка притиснутый зубами, то ещё больше зардеется, словно лепесток гвоздики.
«Какая же, однако, ты скрытная девчонка!..» — думает Александр.
И спор между братьями опять разгорелся.
— И как ты не хочешь понять! — гремит Александр. — Кабы татары одни! А то ведь татары — это... только таран! — Невский обрадован этим вдруг пришедшим уподоблением и повторяет его: — Таран! Чудовищный таран. И он уже было покоился, этот таран. А кто неё сызнова подымает его на нас? Кто его раскачать вновь хочет? Папа! Рим! Да ещё рижаны — божьи дворяны!.. Ты что же думаешь — зачем легат папский Плано-Карпини был послан к Куюк-хану аж до Китая?.. Ну, то-то же!.. А ты говоришь!..
У Андрея какое-то слово так и рвалось с языка.
— Эх, — сказал он, как бы досадуя, что не может открыться перед братом. — Сказал бы я тебе нечто, да ежели бы знать вперёд, что ты сам задумал, что у тебя в голове!..
Невский отделался шуткою:
— Ну, знаешь, у меня ведь одна только подружка — подушка, да и то не всякую ночь!
— Вот то-то и оно! — огорчённо подтвердил Андрей Ярославич. — Научился молчать и я!..
— Ну, это дело другое!.. И давай забудем, о чём мы тут и говорили... — сказал Александр.
Но Андрею трудно было отойти от их разговора. Глаза его блеснули.
— Только то́ я напоследок должен сказать тебе, — воскликнул он, поднимая руку, — внук Мономаха Владимира поганое их стремя держать им не станет!..
Предвещанием и угрозой прозвучало ответное слово Александра:
— А я вдругорядь тебе говорю: я тебе не потатчик!.. О людях помысли, ежели уж своя жизнь тебе за игрушку!..
Внезапно третья сила, дотоле таившаяся, вошла в их битву: Дубравка отбросила шаль и выпрямилась.
— А я так думаю, — дыша гневом и гордостью, сказала она, оборотясь лицом к деверю. — Уж если — саван, то царская багряница — лучший из саванов!..
Лицо Андрея озарилось радостью от внезапной поддержки и гордостью за жену.
Александр Ярославич одно мгновенье молча смотрел на неё, а потом гнев, которого уже не было у него силы сдержать, потряс его с головы до пят.
— А я так думаю, княгиня, — вскричал оп, — ты не Феодора, а Андрей твой не Юстиниан!.. Багряница! Царская багряница!.. — издеваясь, передразнил он Дубравку. — Не была ты в Орде! Тогда посмотрела бы, в каких багряницах княгини наши — и муромские, и пронские, и рязанские, и черниговские, да и китайского царя царей дочери, — в каких они багряницах на помойках ордынских кости обглоданные у псов выдирают!.. Стыдись, княгиня!..
И, не попрощавшись, Александр покинул покои брата.
Первого татарина — как переправлялся он через Клязьму, держась за хвост лошади, — увидал пастушок. Мальчуган сидел на бережку, на травке, посреди ракитового куста, и делал себе свирель из бузины. Как хорошо, как жалостно запела она! Отрок радовался. Это уж не для коров, не для стада, — в такую можно сыграть всё, что вспадёт на́ душу.
Стоял полдень. Зной пригнетал к земле. Завтра — Борисов день. Престольный праздник в Духове. Девки будут завтра упрашивать и всячески ублажать: «Сыграй ты, Олёшенька, сыграй ты, млад отрок милой, какую хочешь песенку, а мы хоть поплачем...»
Есть ли что на свете жалостнее, и чище, и прозрачнее, чем бережно-заунывный звук пастушьей свирели? Жалейкою недаром прозвали её в народе: жалеет она человека!
...Играет пастушок на пригреве солнышка — и уж не он сам, а отроческая душа его выпевает, и уж у самого полнятся слезою глаза: плохо стало видать и деревья, и речку, и облака — мреет и зыбится всё... Все, как есть, понимают его сейчас: и берёзка, под которой сидит, и сосны, и солнышко, и речка Клязьма, и облако, и коровы, и старый пастух Рубано́к. Вон сидит он на зелёной косматой кочке, согбенный, режет узорами палку, и клонится, клонится к коленам старая его, измождённая спина!.. А вот услыхал, как играет Олёша, — и бодрится и распрямляется!..
Поёт и вздыхает волшебная дудочка пастушка Олёши. Даже каменные глыбуны, красные и пёстрые, что лежат на отмели, до половины в воде, лоснясь и отблёскивая на солнце, — даже и они задвигались!.. Да нет, то вовсе не камни, то Олёшины коровы, от зноя залёгшие в воду...
Вдруг — что это? — косматая, злая морда конская сивая — этаких копей и не бывает у мужиков! — словно бы вынырнула из воды, посреди мутной Клязьмы. Плывёт копь, плывёт! Напряжённо вытянутая шея, словно бы тонет конь, — так всегда ведь плавают лошади. Ближе, ближе... и вот, закинув передние копыта на обломившийся зелёный берег, и ещё раз закинув, обтекая и лоснясь мокрою шерстью на солнце, встал на берегу сивый конь и храпнул ноздрями, пробуя ветер-..
Пастушок отстранил от губ жалейку и, не выпуская её из рук, приподнялся и попятился подальше в кусты...
Но тут от хвоста конского оторвался некий старик, весь мокрый, в чёрном чепане, в шапке холмом, подпоясанный опояскою, и, хлюпая в сапогах водою, пошёл на Олёшу, что-то приговаривая на чужом языке...
Олёша хотел встать да убежать, но было поздно: старик его заметил.
Олёша признал в нём татарина. Насмотрелся он их! Вон тут, недалеко, над Клязьмой, их целое стойбище.
Что говорил ему кустобородый, редкоусый старик, того Олёша понять не мог, но только видел, что он за дудочкой его потянулся.
— Да иди ты!.. — выкрикнул сердито Олёша и прижал свирель к груди.
Морщинистое, тёмного лоска лицо татарина исказилось. Он выкрикнул какое-то страшное слово — должно быть, ругательное — и кинулся на мальчугана, сгрёб его за русую чёлку, опрокинул навзничь на траву и выхватил из рукава коротенький кривой нож.
Кустобородое лицо закрыло перед Олёшою небо. Зловонное дыханье обдало его. Он крепко сжал дудочку в руке. «Сломаешь, а не отымешь!» — мелькнуло у него.
Татарин за волосы запрокинул ему голову и ударил ножом в горло...
Отворотив в сторону лицо от брызнувшей вверх струнки и прижмурившись, татарин дорезал мальчика — привычно, как резал барашка в своём аиле.
— Дза (хорошо)! — прохрипел он, подымаясь и отирая нож о полу стёганого халата.
Он крикнул гортанным голосом на ту сторону Клязьмы, взмахнул рукой, и переправа татарской конницы началась.
Карательное вторжение на земли великого князя Владимирского, Андрея Ярославича, возглавлено было царевичем Чаганом. Этот юноша был уже тем одним старше и хана Неврюя, и хана Алабуги, что он являлся как бы чрезвычайным представителем великого хана Менгу при Батые. И хотя своевольничать в Золотой Орде и в землях, подвластных Батыю, царевич Чаган[41] отнюдь не мог, ибо и сам великий хан страшился Батыя, тем не менее к слову Чагана весьма прислушивались в Поволжском улусе. И царевич бросил своё слово на ту чашу исполинских колеблющихся весов, на которой стояло: «Война».
Чагана поддержал Берке. А что же Батый? А Батый, уже умирающий, чьи силы его врач-теленгут поддерживал лишь приёмами пантов и чей последний час отсрочивался лишь еженедельными кровопусканьями, — Батый не нашёл в себе силы, да и желанья, воспротивиться этому карательному нашествию. Желанья же воспротивиться не нашёл он потому, что и его ужаснуло то святотатственное — на глазах у всех — поруганье священного напитка монголов, которому подвергнул его князь Андрей.
Для хозяина Поволжского улуса, так же как для всех его нойонов, батырей и наибов, стало ясно, что сей оскорбительный поступок знаменует собою и то, что князь Владимиро-Суздальской земли не страшится неизбежно долженствующей последовать за этим грозной кары.
И старый Бату даже и пальцем не пошевельнул бы — проси его на коленях хотя бы и сам Александр, — чтобы предотвратить нашествие.
Поэтому-то Александр Ярославич, предвидевший всё это, и кинулся с целым обозом слитков серебра, шелков, диксмюндских сукон, и собольих, и котиковых халатов для жён Сартака и присных его — туда, в донские степи, к сыну Батыя.
Сартак был христианин. Сартак был ему побратим. Наконец — и это было важнее всего, — сын Батыя главным образом на Александра и рассчитывал со временем опереться, если только возникнет кровавая распря между ним и Берке из-за престола, который вот-вот должен был опустеть. Ради этого Сартак смотрел сквозь пальцы даже и на то обстоятельство, что Александр, как доносили Сартаку тайные его соглядатаи, смещает, где только можно, старых нерадивых воевод, наместников и волостелей и поставляет вместо них непременно кого-либо не своей ближайшей дружины, людей воинских.
— Для чего ты это делаешь так, аньда? — укоризненно спросил однажды Невского за чашей вина сын Батыя. — Вот дядя твой Святослав хочет всадить в моё сердце скорпиона подозрений против тебя. Разве воин лучше станет собирать подати?..
— О, аньда! — отвечал Невский. — Мои мышцы — это твои мышцы!
И, многозначительно посмотрев в блёклое лицо Сартака, Невский протянул к нему золотую чашу, и они чокнулись.
Да! Только Сартак мог спасти Владимирщину, только Сартак, если не успел там непоправимо напакостить дядюшка Святослав, который со своим сыном Митей невылазно сидит в Донской орде вот уже почти полгода, всячески домогаясь возврата ему Владимирского княжения
Князем правой руки у Чагана был хан Неврюй, князем левой руки — хан Алабуга, авангард же, именуемый манглай, вёл хан Укитья.
Под ними было тридцать десятитысячников — темников, среди которых были такие, как Муричи, Архайхасар Дегай, Хотань, Бортэ, Есуй, Буту из рода Наяки и Чжаммэ из рода Хорола!
Ладони татарских батырей горели от неутолённого вожделенья к рукоятям сабель, к персям русских пленниц, к русским соболям.
«Не оставить в живых ни единого дышащего! — было повеленье Берке, скреплённое печатью Чагана. — Жёны и девицы русских, годные в жёны, пойдут в жёны, годные в рабыни станут рабынями». Ибо так сказал в своей «Ясе» Потрясатель земель и царств, оставивший после себя непроизносимое имя: «В чём наслажденье, в чём блаженство монгола? Оно в том, чтобы наступить пятою на горло возмутившихся и непокорных: заставить течь слёзы по лицу и носу их; ездить на их тучных, приятно идущих иноходцах; сделать живот и пупок жён их постелью и подстилкою монгола; ласкать рукою, ещё тёплой от крови и от внутренностей мужей и сыновей их, розовые щёчки их и аленькие губки их сосать».
И этому завету Чингиза неукоснительно следовало многочисленное полчище Неврюя, Алабуги и Чагана, вторгшееся на Владимирщину.
Армия татар делилась на две: на армию разгрома, то есть ту, которая непосредственно воевала, и на армию, предназначенную для захвата, для угона рабов и для поисков продовольствия. И только после выполнения всех этих задач вторгшимся возвещался приказ о поголовной резне невооружённого мужского населенья, причём надлежало пользоваться одной из двух мерок: всех, кто дорос до оси тележной или превысил ростом рукоять нагайки, — всех таковых повелевалось истреблять. Это означало, что и не всякий двухлетний мальчуган мог уцелеть от этой резни.
В живых оставляли из мужчин только тех, кто отобран был на угон в рабство, да ещё ремесленников и искусников, да ещё монахов, попов и вообще церковных людей. Ибо церковь и духовенство, независимо от веры — христианской ли, или буддийской, магометанской, да и какой бы то ни было, — объявлены были «тарханом» всё тою же «Ясою» Чингисхана.
Впрочем, тарханный ярлык от Батыя наряду с церковью имела и переславльская усадьба Невского — Берендеево.
Это был подарок Батыя своему любимцу. Вручая Александру тарханную грамоту — а произошло это вскоре после возвращения обоих братьев из Великой орды, два года тому назад, — Батый сказал со вздохом:
— Я хотел бы тебя, Искандер, а не князя Андрея видеть на престоле Владимирском. Но Менгу судил иначе — да будет имя его свято! — меня же не всегда слушают. Я уже стар! А ты ведь сам знаешь, что верблюд, когда он изранил горбы свои или стёр пятки, — кому он нужен тогда?
Невский стал его утешать.
Однако, после этой мгновенной слабости, голова Батыя вновь гордо поднялась, и, гневно прихлопывая во время речи одряблевшими щеками, как хлопают паруса, утратившие ветер, старый хан произнёс:
— Ничего, Искандер, они ещё боятся меня! Во всей казне моей ты и сам не мог бы более для себя ценный подарок выбрать, чем вот этот ярлык! Кто знает! — быть может, этот ничтожный свиток выбеленной телячьей кожи, с моей печатью, он сохранит твою высокодостойную жизнь от меча тех монголов, которые захотят её прервать. Отныне дом твой — убежище и тархан!.. И всякий, кто вступит под его кров, убережётся от меча и аркана... Только не вздумай собрать туда весь народ свой, русских!.. — добавил, лукаво усмехаясь, Батый. — А то ведь я знаю тебя!..
Александр тоже улыбкой, но только печальной, ответил старому воителю.
— Да, Бату, — отвечал он, — никто более, чем ты, не знает меня!.. И я впрямь не удержался бы от искушения укрыть в час бедствия и весь мирно пашущий народ мой от истребительного меча и аркана под кров шатра моего... Однако где же найти такой шатёр? Народ русский столь многочислен, что разве только один шатёр — небесный — способен вместить его!..
Батый, восхищенный, приказал позвать скорописца и предать письменам этот ответ Александра.
— Эх, Искандер, Искандер!.. — произнёс вслед за тем старик, сокрушённо качая головою. — Почему ты не хочешь сделаться сыном моим, опорой одряхлевшей руки моей и воистину братом сына моего, Сартака? Он слаб. В нём страшатся только моего имени. Ему хорошо с тобою и спокойно было бы!.. И я приложился бы к отцам своим успокоенный, ибо я уже видел сон, знаменующий близость смерти. Согласись, Искандер!..
И, пользуясь тем, что они были только вдвоём в шатре Батыя, старый хан возобновил ещё раз своё предложенье Невскому, чтобы он взял себе в жёны монголку из дома Борджегинь, — то есть из того самого дома, из которого происходил Чингисхан, — помимо прочих жён и наложниц.
Батый сделал при этом знак, чтобы Александр переместился к нему, вместе со своей ковровой подушкой, поближе, чтобы удобно было шептать ему на ухо.
Невский повиновался, и скоро ухо Александра, обращённое к Батыю, запылало от тех непристойных расхваливаний разных скрытых достоинств и статей принцесс из дома Борджегинь, коими сопровождал старый сластолюбец имя каждой принцессы.
Александр краснел и молчал.
— Что?.. Нет? И эта не нравится? — восклицал, изумлённо отшатываясь от Александра и взглядывая на него, Батый. — Но чего же тогда ты ищешь, Искандер? И каково твоё сужденье о красоте женщины? Ну, тогда вот тебе ещё одна: Алтан-хатунь. Хочешь, я прикажу позвать её: созерцая её, ты будешь таять, как масло!..
И у старика у самого растаявшим маслом подёргивались глаза. Вдобавок к монголкам Батый предлагал Невскому ещё и китаянок, дочерей последнего китайского императора, удавившегося в своём дворце в тот миг, когда раздался топот монгольских воинов, ворвавшихся во дворец.
— Эргунь-фуджинь! Дочь царя хинов, — закрывая глаза и причмокивая, говорил Батый. — Её ножки подобны цветку белой лилии и столь малы, что каждая вместится в след, оставленный копытцем козы. Э!..
И старик тыкал Александра в бок отставленным большим пальцем и испытующе смотрел на него.
Ответ Александра был прост.
— Тебе благоугодно приказать мне говорить, — отвечал он, — и вот я говорю. Ты знаешь, что я женат. Ивера народа моего запрещает иметь более одной жены. Не должен ли в первую очередь князь народа исполнять «Ясу»?
Батый только засмеялся на это.
— Твоё суждение вызывает смех, — сказал он. — Мы не заставим тебя отступать от веры отцов твоих. Я не понимаю этого сумасброда Берке, который хочет, чтобы все поклонялись одному Магомету. Веры все равны, как пальцы на руках, — учит «Яса». Пусть у тебя будут все эти жёны. Кто же мешает княгине твоей остаться главной супругой, подобно моей Баракчиле? Согласись, Искандер!.. Ты знаешь, что мне — скоро умереть. Стало быть, мне незачем допускать, чтобы ложь оседала на устах моих, готовых сомкнуться навеки! И вот я говорю тебе: после Священного воителя, блаженной памяти деда моего, кто способен пронести до океана франков его девятибунчужное знамя, кроме меня одного? Только — один: и это ты, Искандер! Я не знаю государя и владетеля, равного тебе! Берке — старый ишак! Согласись, о, только согласись, Искандер!.. А тогда... — Тут Батый вдруг понизил голос, и чуть не в самое ухо Невского произнёс: — А тогда мы прикажем этому Берке умереть, не показывая своей крови.
Помолчав немного, страшным и горьким смехом рассмеялся старый хан.
— О-о, я знаю, Искандер, — протяжно произнёс он, — что едва я уйду путём всей земли, как на другой же день Берке спровадит жизнь сына моего Сартака. Это уж так!.. И ты это знаешь, Искандер!.. Менгу? Вот эта самая рука вытесала им этого повелителя! Но и этот не умедлит, в благодарность мне, отравить Сартака, едва я умру... Слепнущая старость многое, Искандер, прозревает — увы! — слишком поздно!.. Нет! Потомству моему не владеть наследием Джучи!.. Так слушай же, Искандер!
Тут глаза старого Вату засверкали, он распрямился, изветшавшая мышца его правой руки вновь обрела силу: он властно притянул голову Александра к своей хрипло дышащей груди и сказал ему на ухо — властным и как бы рыкающим шёпотом:
— Вот согласись только, — и пред курултаем всех князей и нойонов моих и пред всеми благословенными ордами моими я отдам тебе в жёны душу души моей, дочерь мою. Мупулен!.. И перед всеми ими то будет знак, что это ты, возлюбленный зять мой и наречённый сын, а не кто иной, приемлешь после меня и улус мой. Ты возразишь: «А Сартак?» Он знает и сам, сколь мало способен он дан путь народ свой и подвластные ему народы туда, на Запад, чтобы довершить пути отца своего. Он страшится того дня, когда он осиротеет и его самого подымут на войлоке власти... После моей смерти ты, ставший моим зятем, дай ему хороший улус. И только. И это всё, в чём ты должен поклясться мне! Я знаю: ты, даже и с врагами, чужд вероломству!.. Ты не захочешь искоренить на земле побеги и отпрыски того, кто держал тебя, князя покорённых племён, возле своего сердца и столько раз спасал тебя!.. Согласись, Искандер, согласись, — и тогда тебе предстоит совершить на этой планете ещё большее, чем совершил великий дед мой, чем совершил я: ибо ты сольёшь воедино два величайших и храбрейших народа — народ монгол и народ рус. И тогда — кто будет равен тебе во вселенной?! Сейчас ты получил от меня тарханный ярлык для себя и для своих владений, и вот ты радуешься. А тогда ты сам будешь, с высоты миродержавия, раздавать эти тарханные ярлыки царям и князьям — тем, что догадаются вовремя возложить на себя пояс повиновенья!
Так говорил Невскому старый Батый два года назад, вручая ему тарханный ярлык на Переславль-Залесский и на его личную усадьбу — Берендеево. Вот почему теперь, получив у Сартака, под Воронежем, известие и о восстании брата против Орды, и о нашествии татар на Владимирщину, Александр Ярославич во главе дружины своей мчался к себе в Переславль-Залесский, всё ж таки до известной степени спокойный за жизнь Андрея и Дубравки, так же, впрочем, как и за жизнь любого, кто успеет убежать от татар в пределы его переславльской вотчины, ограждённой тарханным ярлыком самого Батыя.
А меж тем миллион конских копыт уже грянул о земли его переславльской вотчины! Исполинские клещи татарской армии уже сомкнулись вкруг Переславля-Залесского.
...Как только старый татарин, зарезавший пастушка Олёшу, дал своим знак, — тотчас же, взмахом плётки хана Укитьи, авангард был двинут на переправу через Клязьму. Глядевшему издали показалось бы, что это начался многовёрстный, необозримый, чёрный оползень её берегов. Стоял только глухой гул и топот, да бултыханье, да плеск воды: лавина азиатской многоплеменной конницы сползала, и рушилась, и рушилась в Клязьму. А скоро и плескать стало нечему: реки не стало, конь заполнил её, конь вытеснил воду!..
Крысы так в чумной год телами своими, переправляясь, заваливают реки!..
Однако даже и при такой гущине и плотности хода, когда стремя одного всадника прочерчивало подчас кровавую борозду вдоль бока лошади другого, переправа совершалась без единого взвизга конского, без голоса человеческого, без единого звяка.
А было чему позвякать-побрякать на любом татарском воине! Сабля, лук и стрелы — в двух, а у иных и в трёх колчанах, да предметы походного обихода — в кожаном мешочке у пояса: кремень, кресало, терпуг — подпилок для оттачиванья стрел, шило и дратва, игла и нитки, ситечко для процеживанья грязной воды.
В другом мешочке — непременный для монгольского воина запас: сухой овечий сыр, вяленая говядина и питьевая чашка. А у седла, под кожаным прикрылком, — также каждому воину обязательный топор.
У копейщиков были копья с заострёнными крюками для срыванья с седла. И ещё целые тумены были сплошь вооружены укрючинами с затяжною петлёю, которая на всём скаку захлёстывалась либо на шее вражеского всадника — и тогда его, как бурею, срывало с седла, и, поверженный, хрипя багровой шеей, волочился он за копытами татарского коня, — либо охлёстывала эта петля шею лошади, и тогда всей тушей, на полном скаку, рухнет, несчастная, оземь, губя всадника и подчас ломая себе шею.
Были среди конной армии царевича Чагана и особые тысячи — поджигателей, вооруженье которых состояло из стрел и дротиков, обмотанных паклей, смоченной нефтью. Подпалив стрелу или дротик, их запускали в город, и, разбрызгивая огненные капли, дымя и пылая, раздуваемая собственным лётом своим, вонзалась огневая стрела в кровлю, в стреху, да и во что бы то ни было деревянное, и вспыхивали в осаждённом граде тысячи пожаров.
Всё это воинское вооруженье, убранство, снаряд, обязательные для воина, подлежало строгой проверке. И «Яса» Чингисхана повелевала предавать казни рядового бойца, если ун-агаси — десятник — нашёл у него в чём-либо неисправность. Если же ун-агаси просмотрел или спотворствовал, то его самого предавал казни тот, кто стоял выше его, — гус-агаси, иначе говоря, сотский.
Перед походом даже наивысшие военачальники — ханы и принцы крови — не брезговали вызвать из рядов, перед строем, заподозренного почему-либо в неисправности воина и собственноручно залезть в его вещевой мешок для проверки. И горе было изобличённому в недостаче! Хотя бы кремня или же иголки одной недоставало — всё равно: торопливо и покорно снимал с себя перед фронтом всё воинское снаряженье и одеянье провинившийся воин, целовал землю у ног своего ун-агаси и становился на колени. Двое сильных воинов выходили из рядов и, захлестнув тетивою лука с двух сторон шею несчастного, тянули тетивную жилу в две стороны.
А затем той же участи подвергался и начальник десятка.
Ибо сказано в «Ясе»:
«Во время мира и среди народа своего ты должен быть подобен смышлёному и молчаливому телёнку, но во время войны будь как голодный сокол, который, едва снимут с него колпачок, немедленно принимается за дело с криком».
У передовых туменов — тех, кто был тараном армии, — кони были защищены кожаными попонами и стальными налобниками. Латы на всадниках были из полированных пластинок кожи, нанизанных ряд над рядом, подобно чешуе. Как чешуя на сгибаемой рыбе, они топорщились, когда монгол, уклоняясь от сабельного удара, склонялся и припадал к шее лошади. И эта кожаная чешуя, вздыбясь, служила татарину не худшей, чем панцирь, защитой от удара мечом или саблей. А иные ещё натирали перед битвой эту кожаную чешую салом, и тогда наконечник ударившего копья скользил. Однако и пластины из стали и серебра, расчищенные до зеркального блеска, там и сям покрывали доспехи монголов — тех, кто побогаче. Сверкали на солнце стальные шлемы, наконечники, наручни, бляхи и пряжки.
Воины же, плохо вооружённые, двигались сзади — дорезывать.
Удушливый запах конского пота, мочи, бараньих полушубков, кошмы́, кожаных доспехов, закисших ундырей с кумысом и нечистых, годами не мытых человеческих тел вытеснил окрест Клязьмы и запах хвои и березняка, и запах цветущей липы и свежескошенного сена.
Как бы задыхаясь и вскинув к небу в скорбном бессилии белоснежные руки свои, стояли русские берёзки. «Да что же это? Да докуда же это будет твориться вокруг нас? — словно бы кричали безмолвно они. — А русские, русские где же наши?!»
В Духове затенькала деревянная колоколенка. Царевич Чаган усмехнулся замедленной улыбкой. Тугое, лоснящееся, безбородое и безусое лицо его слегка полуоборотилось, словно шея была тугоподвижпой, в сторону хана Неврюя, который, тоже на копе, стоял по правую руку царевича.
На обоих ханах были золото-атласные шубы нараспашку, несмотря на июльский зной, и усаженные драгоценными каменьями малахаи.
Царевич так и не произнёс того, что собирался сказать князю правой руки, — тот понял его без слов. И Чаган понял, что его поняли, и не стал утруждать себя произнесением слова.
Лицо старого хана, в задубелых морщинах, на которых, словно куски седого лишайника, торчали клочки бороды, осклабилось.
— Петуху, когда он мешает спать, перерезают горло!.. — проворчал Неврюй и, подозвав мановеньем пальца одного из нукеров, послал его зарезать звонаря.
Теньканье колоколенки скоро оборвалось.
И тогда Чаган произнёс:
— Этот ильбеги Андрей спит крепко!.. И не от колокола ему предстоит проснуться!.. Мы захватим его врасплох. Как будто упадём к нему в юрту через верхнее отверстие!.. Мудр Повелитель — не Александру дал он великое княженье! А этот Андрей — кроме как на соколиную охоту да на облаву, пет у него других талантов!..
И Неврюй подтвердил это, рассмеявшись со сдержанной угодливостью.
— Дза! — сказал он. — Ложась спать, не отстёгивай колчана!..
Беседуя с царевичем, хан Неврюй не переставал вглядываться туда, где глыбились зелено-сизые ветлы, обозначавшие причудливое теченье Клязьмы: вся ответственность за этот карательный поход, а не только за одну переправу, — он знал — лежала на нём.
К счастью для хана, перевал через Клязьму сорокатысячного авангарда шёл беспрепятственно, без потерь. Броды и мелкие моста были разведаны ещё прошлым летом, да и сейчас двое услужливых русских: один — мостовщик, а другой — конский лекарь, собравшие эти сведения о переправах под Владимиром, были тут, на месте, в распоряжении огланов, кои ведали переправой, и всякое место, пригодное для таковой, было заранее означено двумя рядами кольев, набитых в вязкое, илистое дно Клязьмы.
Поэтому на сей раз татары отказались от обычных приёмов переправы. Нечего говорить, что не было здесь ни тех плотов из камыша или из брёвен, на коих переплывало по сто и более человек, ни огромных округлых кошелей из непромокаемой кожи, наподобие лепёхи, сложа в ёмкие недра которых всё, что надлежало из воинского уряда, и усевшись поверх, полуголые монголы без потерь переплывали даже и через Волгу. Плавучие эти кожаные вещевые мешки либо привязывались к хвосту плывущего коня, если речка была не широка, либо татарин огребался, сидя на нём, каким-либо греблом. На сей раз даже и маленьких кожаных кошелей не виднелось у репицы конских хвостов, — воины, в полном боевом урядье, даже не слезали с коней: «Клязьма — разве это Аргунь?» Однако уже несколько человек поплатились жизнью за это презренье к реке: соскользнувши с мокрой лошадиной спины, они — или не умея плавать, или задавленные неудержимым навалом коней — быстро пошли ко дну. Это означало, что будет казней весь десяток. Учёт бойцов у монголов был поставлен по десятичному счёту, так что нечего было и помышлять предводителю авангарда, хану Укитье, скрыть гибель троих утонувших от Неврюя, а тому — от царевича Чагана.
Хан Укитья, всегда как бы величественно-полусонный, а теперь с почерневшим от испуга лицом, нёсся на своём саврасом коне для доклада Неврюю.
Встречные конники, завидя Укитью, загодя соскакивали с лошадей, становились обок его пути и, едва только хан Укитья равнялся с ними, падали ничком, показуя, что они целуют прах, попираемый копытами его коня. Но и самому хану Укитье надлежало в свою очередь целовать прах под копытами коня своего начальства, к чему он и приступил поспешно, едва лишь доехав до холмика, на коем стоял хан Неврюй.
Этот надменно принял поклонение младшего, но так как выше его стоящий царевич Чаган виден был на своём белом копе тут же неподалёку, то ему, Неврюю, полагалось, ничего не отвечая младшему, подъехать к тому, кто над ним, и пасть ниц перед Чаганом. Неврюй так и сделал.
Укитья же остановил коня поодаль.
Грозное лицо Чагана обратилось к нему.
— Приблизься, вестник беды! — произнёс царевич.
Хан Укитья, подламываясь в ногах, с посиневшими от страха губами и хрипло дыша, словно бы уже тетива затянулась на его шее, приблизился к царевичу, бросив повод коня одному из телохранителей, и рухнул перед Чаганом на колени. При этом разноцветный свой шёлковый пояс старик повесил себе на шею, обозначая этим полисе отдание себя на волю принца.
И это смирило гнев Чагана. Он приказал старому полководцу рассказать подробно обо всех обстоятельствах, при которых утонули те трое.
Укитья начал рассказ — рассказ, даже и в этот миг построенный витиевато, наподобие некой былины, и Чаган стал слушать его с явным наслажденьем, словно бы импровизацию певца на одном из придворных торжеств.
По рассказу Укитьи выходило, что во всём виноваты были те двое русских, на чьей обязанности было разведать броды через Клязьму и обозначить их справа и слева. Заострённые жерди, натыканные поперёк речки, не выдержали на левом крыле напора переправлявшейся конницы и упали. Таким образом граница безопасного брода нарушилась, и вот трое потонули.
Вскоре Акиндин Чернобай и Егор Чегодаш — мостовщик и коневой лекарь — предстали перед Чаганом.
Чегодаш слегка поотстал, как младший, и остался в кустах, а купец Чернобай был двумя стрелоносцами подведён к самому коню царевича. Мостовщик упал ниц и долго пребывал так — лбом в землю, отставя грузный зад в синих бархатных штанах. Налетевший ветер закинул ему на спину подол красной рубахи, обнажив полоску спины, однако Чернобай не посмел завести за спину руку, чтобы оправить рубашку, ибо знал, находясь уже целых двенадцать лет в тайном услуженье татарам, что это движенье его будет сочтено знаком неуваженья, а быть может, даже и колдовством, а потому уж лучше было оставаться недвижным.
По знаку Чагана двое стрелоносцев подняли Акиндина Чернобая на ноги.
— Где ты был, собака? — по-монгольски спросил царевич трясущегося купца.
Всегда находящийся близ царевича толмач насторожил уши. Однако услуги его не понадобились: русский купец, как, впрочем, и многие из торговцев, постоянно имевших дело с татарскими таможниками да и торговавших в самой Орде, ответил ему по-монгольски. И это спасло ему жизнь.
Чернобай стал объяснять, что не только рядом кольев, но ещё и верёвкою поперёк Клязьмы обозначили они с кумом границы брода. Однако батыри из молодечества нарочно свалили жерди и утопили верёвку, наезжая конями. Оттого и стряслась беда. А коли виноват чем — казните. Он же, Акиндин Чернобай, служил и ещё послужит.
Чаган из-под опущенных ресниц тяжёлым взглядом глядел на потное лицо Акиндина. Затем лениво поднял тяжёлую плеть и ударил его плетью по лицу. Багровый след тотчас же вспух наискосок жирной щеки купца. Акиндин вскинул было руку — прихватить щёку, но тот час же и отдёрнул. Только слеза выкатилась из глаза. И это его смиренье тоже понравилось монголу.
— Ступай, собака, — сказал он, и отвернулся, и стал смотреть в сторону переправы.
Акиндин Чернобай побежал к той гривке леса, где отстал от него Чегодаш. Колдун выступил к нему навстречу из-за кустов, за которыми стоял.
— Ну что, кум? Как?.. — спросил он. — А я ведь пошептал тут малость. Чего дашь? — спросил он и по-озорному блеснул глазами.
Ни слова не отвечая, купец сунул ему кулаком в нос так, что Чегодаш чуть не свалился с ног и кровь закапала у него из ноздрей.
Царевичу Чагану наскучило смотреть на бесконечную переправу, и он отъехал, сопровождаемый медиком-теленгутом и гадальщиком-ламою, к своим шатрам, разбитым в березняке. Шатры были из ослепительно белого войлока с покрышкой из красного шёлка. Их было семь. Один — самого царевича. Другой — для стражи. Пять остальных кибиток — для жён с их прислугой. В одной помещалась главная супруга царевича — Кунчин; в другой — другая супруга — Абга-хатунь, третьей — третья — Ходань; в четвёртой — четвёртая, бывшая дочерью китайского императора, — Эргунь-фуджинь; пятая кибитка была предназначена для Дубравки.
Бедная Дубравка и не подозревала, что для неё уж и кибитка готова! Переодетая княжичем, с косичками, подобранными тщательно под круглую, с золото-парчовым верхом и собольей опушкой, шапку, сидя в седле по-мужски на золотисто-гнедом иноходце, великая княгиня Владимирская, стремя в стремя со своим супругом, взирала с холма боровой опушки на движенье татар.
Князь Андрей, уже недосягаемый для праздного и суетного, сидел на своём кабардинском аргамаке — сером, в яблоках, — одетый в серебряную кольчугу, поверх которой накинут был алый короткий плащ.
Князь был ещё без шлема; лицо его казалось багровым. Время от времени чувство непередаваемого ужаса опахивало его, и князь боялся, что окружавшие его воеводы, дружинники да и сама Дубравка знают об этом.
Однако же немалый навык походов и битв под водительством брата помогал ему и сейчас быть или по крайней мере казаться на высоте своего положенья. Главное же было в том, что на него взирали сейчас тысячи людей с тем беззаветным упованьем, с каким воины взирают на вождя перед битвой.
Тогда у полководца, пускай до того и несмелого, вдруг вырастают крылья.
Так было и с братом Невского. Как бы в некоем приливе полководческого ясновиденья, Андрей Ярославич спокойным, решительным голосом, которого не узнавал сам, отдавал последние распоряженья перед битвой. И старый отцовский воевода Жидислав — красивый, струйчатобородый, горбоносый старик, высившийся конь в конь с князем, почтительно и со всё более возрастающим доверием принимал эти распоряжения Андрея, с немалым удивленьем убеждаясь, что даже он, Жидислав, ничего бы не смог в них ни отменить, ни исправить.
И, чувствуя это, Андрей Ярославич всё более укреплялся и успокаивался.
Нашествие полчищ Неврюя было своевременно узнано князем Андреем. Донесли ему и похвальбу ордынского принца: «В котлах мы увариваем наиболее непокорных!»
Андрей, когда ему стало известно об этом от захваченного в плен татарского разведчика, только рассмеялся и отвечал во всеуслышанье:
— А у нас так говорят, у русских: «Не хвались подпоясавшись, а хвались распоясавшись!..»
Радостный, приглушённый смех, понёсшийся по рядам дружины, показал князю, до чего же вовремя упало на сердце воинов это удалое слово. И Андрей Ярославич добавил ещё громче, ещё удалее:
— Слышите, богатыри? В котлах нас грозится уварить поганая рожа татарская!.. Навыкли баранину свою варить!.. Ничего, сами мясом своим поганым котла отведаете сегодня!
Ответом был грозный, рокочущий гул, далеко отдавшийся в тёмном бору, где укрыт был княжеский большой полк Андрея.
Андрей Ярославич понимал, что сила татар — в коннице и что слабость наша — в нехватке этой конницы. Он видел, что сила паша — в пехоте.
Он так и сказал большим воеводам своим на полевом военном совете:
— Пехота — надёжа моя! Коня где ж теперь взять, мы — не кочевые! А на работного конягу, на пахотного, нагромоздить мужиков — какая это конница будет! Будем их, татар, нажидать на себя!..
Так и сделали. Все пятеро больших воевод князя Андрея: воевода сторожевого полка — Онуфрий Нянька, сын того самого Няньки, что погиб от Батыя, обороняя Москву и Коломну; затем правой руки воевода — Онисим Тертергонич, большого полка — Жидислав, левой руки — Гвоздок и, наконец, затыльного — он же и засадный — полка, Егор Мстиславич, — все пятеро больших воевод одобрили и выбор места, где князь задумал встретить татар, и расстановку полков, и предложенный князем способ боя.
Замысел князя был прост. Ярославич в своих расчётах исходил как раз из подавляющего обилия конницы у татар, из недостатка её у нас и, наконец, что сильны мы пехотой.
Место для полков было выбрано примерно в полуверсте от предполагаемой татарами переправы. От самой Клязьмы оно шло на изволок, представляя собою перебитую островками леса отлогую холмовину, изрезанную овражками. И этот постепенный, начиная от Клязьмы, взъём, и овражки, и, наконец, утюги леса, разбросанные по холмовине, — всё в расчётах Ярославича должно было способствовать как бы разлому на куски и замедленью потока татарской конницы. Ей — так рассчитал князь — негде было набрать разгону. И не надо было давать ей как следует развернуться: надлежало смять татарскую конницу сразу, как только переправится, не дать ей обозреться и выйти на простор.
А для русской стороны многочисленные острова и утюги леса были добрым прикрытием: татарам неведомо будет, сколь велики, вернее — сколь малы наши силы, да и пехоте легче будет устоять против атак азийской конницы!
Так рассчитал Андрей.
Но его приказу иные из лесных островов были с трёх сторон окружены окопами, и, кроме того, перед челом леса, на пространстве шириною до двухсот сажен, был рассыпан совсем невидный в густой траве стальной кованый репейник. Этим средством против атак половецкой конницы пользовался ещё Мономах. Потом средство это забыли, и вот оно снова пригодилось его правнуку! И Андрей гордился этим.
Сегодня, перед началом сражения, объезжая полки. И Андрей Ярославич был светел лицом, и сердце у него играло, словно солнышко в Петров день.
«А что сказал бы на всё на это, когда бы глянул, Александр?» — думалось Андрею. Но он тотчас же спохватывался и досадовал, что не может почти ничего творить, государственного или военного, мысленно не оглянувшись на брата.
Александр остался бы доволен, похвалил бы и весь распорядок ратный, и сохранение тайны, ибо ради убереженья её, незадолго перед битвой объявлено было окрестным жителям, что князь выезжает со всей охотой своей на обклад зверя, а потому, как всегда, дня за два, за три доступ всем посторонним в намеченные колки и острова был закрыт, и никого это не удивило.
Одним бы разве остался недоволен Александр — и это как раз обстоятельство и точило совесть Андрея, — тем, что без ведома и согласия брата, пользуясь отъездом его в донские степи, он, Андрей, своей властью определил переславльскую вотчину брата для сбора войска, а в самой усадьбе Невского, в Берендееве, приказал быть потаённому свозу всего оружия и воинского доспеха. Расчёт был простой: земли Невского были неприкосновенны под прикрытием тарханного ярлыка; туда не засылались баскаки, стало быть, и высмотреть было нельзя всё то, что с бешеной быстротою спроворил там Андрей. Тарханная вотчина Александра превращена была в кузницу войны.
Прежде чем решиться на это, Андрей спросил у Дубравки. Дочерь Даниила задумалась.
— Знаешь, — сказала она, вздохнув, — если всё будет хорошо... победим, то он первый тебя расцелует! А если... ну а тогда и нас с тобой в живых не будет, и не услышим, мёртвые, что он там говорить станет про нас, Александр твой Ярославич!.. — с просквозившим вдруг недоброжелательством произнесла Дубравка.
— Дубра-а-ва!.. — воскликнул укоризненно Андрей.
Нежные щёки Дубравки покрылись алыми пятнами. Она закрыла руками лицо, и сквозь её пальцы проступили слёзы.
Трёхсоттысячной орде Неврюя[42] Андрей Ярославич смог противопоставить всего лишь тридцать пять тысяч готового к сраженью войска, из которых около пяти тысяч было на конях. Никто из князей, с кем заводил он до нашествия осторожный разговор о дружном восстании против Орды, не прислал ему ни одного ратника. Только Ярослав Ярославич, брат, прислал две тысячи пеших да тысячу конных. Однако и такой силы — тридцати пяти тысяч — никогда ещё, от самой битвы на Калке, разом не выставляла Русь против Орды. Мало было войска у великого князя Владимирского, но Андрей крепко надеялся на неутолимую ярость своих воинов, ибо не было почти ни единого из них, у кого бы в семье не зарезали кого-либо, не осквернили, не угнали бы в рабство. Да ещё надеялся Ярославич на то, что острова леса не дадут развернуть Неврюю его конницу и помешают разведать силы русских.
Серая, в яблоках лошадь Андрея шла просторным намётом, я золотисто-гнедой иноходец Дубравки едва поспевал за аргамаком князя.
Князь и княгиня совершали последний объезд войска перед битвой. Татары были уже не столь далеко. Поймано было уже несколько татарских конных разведчиков. Андрей сам допросил их в присутствии воеводы сторожевого полка — Онуфрия Няньки.
Полки и дружина готовились к построенью под прикрытием лесов. Полковые знамёна находились ещё в чехлах, притянутые ко древку. По знамёна сотен — двуязычные, всевозможных цветов, «прапорцы», — те уже струились под лёгким ветерком.
По всему лесу — по траве, по стволам деревьев — прыгали солнечные зайчики, отсвечивая от шлемов, кольчуг, от рукоятей мечей и сабель, от нагрудных зерцал с золотою насечкою, стальных бармиц — оплечий, от наручей и наколенников, от рогатин, секир и копий.
Щиты на этот раз приказано было даже и не вынимать из возов: отяжелили бы только бойца!
Шло поспешное возложение на себя доспехов, сопровождаемое взаимным подшучиваньем, поддразниваньем, вместе с дружеским помоганьем один другому — этой прощальной на земле услугой товарищу.
Осматривали, в последнее, своих ретивых коней, ласково оглаживали их, что-то шептали в конское ухо, втыкали в налобный ремень узды веточки берёзы или какой-нибудь полевой цветок. Пешие ратники изукрашали веточками железные шлемы: русичи!..
Застёгивали последние пряжки и застёжки, завязывали тесёмки, напяливали через голову кольчуги и потом долго поводили богатырскими плечами, пытая, просторно ли плечам.
Пятеро главных воевод, а также тысяцкие и сотники были уже в полном доспехе, на конях и в блистающих островерхих стальных ерихонках — шлемах, которые отличались одна от другой лишь степенью отделки, соответственно воинскому чину.
На князе, поверх доспеха, был алый короткий плащ — приволока.
Дубравка, поспешавшая напряжённо вслед мужу, вся отдавшаяся управленью конём, с распылавшимися щеками, была похожа на отрока-оруженосца. Мальчишечко из княжих дворян. «Видать, что ещё и не ездок!..» — судили о ней воины, глядя ей вслед и не узнавая княгини. Да и приказано было, тайны ради, не кричать никому при проезде княжеской четы.
— ...Возволочите стяги! — приказал зычным голосом князь Андрей, ибо и один, и другой, и третий разведчик из сторожевого полка донесли воеводе Онуфрию, а этот — Андрею, что татары уже близко и начинают переправу через Клязьму.
Первым взвился и трепыхнул княжеский стяг — над большим полком. Дивного искусства перстами было строено это знамя! И та, что расшивала великокняжеский стяг, — она была тут, рядом с супругом, осеняемая сим знаменем.
Основной квадрат знамени был небесно-голубого цвета. И это голубое поле охватывала жаркого — алого цвета кайма. Вышитый Дубравкою со старинной галицкой иконы, которою благословил её родитель, образ Спаса — Ярое Око сиял в средине голубого поля, окружённый венком из золотых с крыльями херувимских головок. Больше на этом основном — голубом поле не было никаких ни изображений, ни надписей. Однако со свободно веющего края свешивалось другое полотнище — белого, в прожелть, цвета, снизу откошенное — для лёгкости веянья, и на этом полотнище были вышиты два изображенья: вверху — Георгий Победоносец на коне, вонзающий копьё в глотку змия, а внизу — золотой вздыбившийся барс: родовой, прадедовский знак Ярославичей — от Юрья Долгие Руки.
Внизу под этим изображеньем перстами Дубравки исшита была, золотою узкою тесьмою, надпись, не столь-то уж и легко читаемая теми, кто не силён был в грамоте:
«О страстотерпче Христов, Георгие, прииди на помощь великому князю Андрею». Надпись была под титлом, то ость сжатая, с пропуском букв.
Едва только возреяла великокняжеская хоругвь, как великий князь, Дубравка, воевода Жидислав и все, сколько было тут дружинников, сняли шлемы, перекрестились и помолчали.
В тот же миг взвились знамёна и остальных четырёх полков. С одного из деревьев прозвенела труба, ей в ответ проголосила другая, третья, и только не слыхать было самой отдалённой — из леса, в стороне, где залегло засадное, потаённое войско.
Андрей Ярославил начал ставить полки.
Как спелая нива, колышутся, лоснясь и отблёскивая под солнцем, хоругви и прапорцы над головами богатырей. А еловцы́ на шеломах — словно языки пламени.
Ударные тысячи, нацеленные смять и опрокинуть в Клязьму татар, успевших совершить переправу, — эти все были на конях. И так как недоставало на всех оружия и доспехов, то приказано было тыловым, чтобы отдали они передовым и коней своих, да и доспехи, которые получше: ибо эти первыми грянут в чудовищно-гостеприимные ворота смерти. А и было чем грянуть!
Секиры, топоры, мечи, сабли, рогатины, кистени, именуемые в народе «гасило», ибо, как свечку, гасит жизнь человеческую этот звёздатый стальной комок, прикреплённый на цепочке к нагаечному черенку; затем копья — длинные, на увесистых ратовищах, обладающие страшной пробойной силой в руках всадника, — особенно если правильно держит: и рукой, но и притиснувши к боку. Ибо тогда не столько всадник, сколько бешено мчащийся конь разгоном всего своего многовесомого туловища наносит удар. А совокупную силу такого копьевого удара кто выдержит?! Ныли у русских всадников и короткие копья — целый пук с правой стороны седла, — этими били с намету поверженного наземь врага, пригвождая его к земле; метали их, эти копья, иначе именуемые сулицами, и вперёд себя, досягая на полсотни шагов. И опять же — разгон коня удваивал их разящую силу.
У иных из всадников были также чеканы и топорки. Всех лучников и немногих, кто пришёл с самострелом, Андрей Ярославич выделил ото всех полков и посажал по деревьям, вдоль лесной опушки, где предстояло принять оборону.
Много было добрых стрелков, но таких, какие пришли от Вологды, из Поонежья, от Бела-озера, — таких, поди, и среди татар нашлось бы немного: и в волос не промахнулись бы!
Как будто и готовились и ждали, а всё ж таки трубою ратного строя все как бы захвачены были врасплох. Некая тень, как бы тень от крыла близко над головою пролетевшей птицы, пронеслась по суровым лицам бойцов.
Поспешно докрещивались. Менялись крестами, братаясь перед смертью. Приятельски доругивались. Пытали на урез пальца остро отточенные сабли, топоры, мечи, кинжалы и кривые, полумесяцем, засапожники.
Пешая рать, которых в дружеской перебранке конники именовали — пешеломы, услыхав звук трубы, торопливо вздевали на кисть руки тесьмяные или кожаные петли топоров и окованных железом гвоздатых дубин, с шаровками на концах: «Бой творяху деревянным ослопом», и. круша тяжёлыми сапогами валежник, устремлялись — каждая сотня к своему прапорцу.
Андрей Ярославич, помня, как делывал это брат Александр, считал нужным время от времени остановить кого-либо из бойцов и кинуть с седла доброе княжое слово.
— Чеевич? — громко спросил он одного удалого молодца в стальной рубахе и в шлеме, однако вооружённого только одним гвоздатым ослопом.
— Паншин! — зычно ответствовал тот, приостановясь.
— Какого Павши — Михалёва? — спросил князь, некоторый и впрямь обладал хваткой памятью на лица, на имена и любил блеснуть этим.
— Его! — отвечал воин и вовсе остановился.
— Знаю. Добрый мужик: вместе немца ломали на Озере. Ну что, живой он? — громко спросил князь.
— Живой! — отвечал ратник. — Со мною собирался, да мать не пустила.
Андрей переглянулся с Дубравкой.
— Ну ладно, — сказал он в прощанье. — Не посрами отца! Чтобы доволен был отец тобою.
— Тятенька доволен будет! — уверенно отвечал богатырь.
— А ты — чей? — спросил очередного пробегавшего воина Андрей Ярославич.
Тот остановился. Привычным движеньем хотел сдёрнуть шапку перед князем, но, однако, рука его докоснулась до гладкой стали шелома, и, растерянный, он отдёрнул её.
— Фочкого зовут, Федотов сын, по прозванию — Прилук! — звонко отвечал он.
— Яви ж себя доблестным, Прилук! — сказал князь.
— Буду радеть! — откликнулся Ярославичу ополченец.
Князь и княгиня Владимирские в сопровождении воеводы Жидислава и дружинных телохранителей выехали на опушку бора, самого близкого к переправлявшимся через Клязьму татарам.
Дубравка глянула, и у неё дух замер. Невольно воспятила она своего гнедого иноходца вглубь леса.
Андрей Ярославич нахмурился.
— Ну-ну, — негромким голосом проговорил он, не поворачиваясь к жене.
Дубравка вспыхнула от стыда, и, чтобы поправить дело, кольнула золотыми маленькими шпорами своего коня. Тот рванулся и едва было не вынес княгиню далеко из леса, на луговину, уклонную к реке.
Один из дружинников повис на узде и остановил иноходца княгини.
У Андрея ёкнуло сердце.
— В тыл отправлю!.. — снова вполголоса Пригрозил он сквозь зубы. Затем, когда испуг его за жену прошёл, князь уже спокойно-назидательным голосом, словно бы она и впрямь была княжич-подросток, выехавший впервые на облогу зверя, сказал, не отрываясь от развернувшегося перед ним зрелища: — Вот и смотри тихонько, а из лесу не высовывайся! Вот они тебе — татары!..
Дубравка, стараясь дышать полуоткрытыми устами, дабы унять сердце, готовое расшибиться о кольчугу, заставила себя оглянуть окрестность. И показалось Дубравке, будто и холмы, и долины, и сбросы берега, да и сама река — вся местность, до самой черты окоёма, была покрыта толстым, живым, кишащим пологом пёстрого цвета.
И с необычайной явственностью прозвучали в её душе давние слова отца, которые лишь теперь оборотились для неё страшной явью:
«Доню, милая, — и не дай бог тебе увидать их!.. Когда бы ты знала, доченька, как вот саранча в чёрный год приходит на землю: копыта, копыта конские чвакают, вязнут!.. Невпроворот!.. Вёрсты и вёрсты — доколе досягнёт глаз. Так что же можно — мечом против саранчи?!»
Долго молчали все трое: Андрей, Дубравка, Жидислав.
Наконец князь, повернувшись к старому воеводе, уверенно произнёс:
— Самая до́ба ударить на них!
— Самая пора, князь! — подтвердил Жидислав.
Князь взмахнул рукой — уже в панцирной рукавице, — и тотчас же великокняжеский трубач поднял и приблизил к губам серебряную трубу, надул щёки и затрубил.
И уже ничего не слышно стало за мерным уханьем земли под ударами тысяч и тысяч копыт.
С трёх сторон трёхтысячная громада конников ринулась на татар. А так как мчаться было под гору, то за седлом каждою всадника сидел ещё и пехотинец.
И скоро Дубравка, Андрей, Жидислав увидали в радостном торжестве, как словно бы порывом бури, ударившей с трёх сторон, вдруг возвеялся и стал грудиться и сползать обратно — в Клязьму — тот чудовищный пласт саранчи, которым показывалось издали усеявшее все холмы и склоны татарское полчище.
Это был удар, которого тринадцать лет, после Батыева нашествия, ждала Русская Земля!
Боже, что поднялось!.. Разве выкричать слову человеческому про тот ужас и ту простоту нагого, обнажённого убийства, которую являет кровавое, душное, потное, осатанелое месиво рукопашной битвы, — и орущее, и хрипящее, и воющее, и лязгающее, и хряскающее ломимой человечьей костью, и пронзающее душу визгом коней — визгом страшным, нездешним, словно видения Апокалипсиса, визгом, который и сам по себе способен разрушить мозг человеческий и ринуть человека в безумие...
Визжат взбесившиеся татарские кони — звери с большой головой и со злыми глазами, рвут зубами, копытами свои собственные, облитые кровью кишки, мешающие им скакать, дыбиться и обрушивать передние копыта свои на череп, на лицо, на грудь врага, проламывая и панцирь и грудь.
Завалы из окровавленных конских туш нагромоздились на сырой кочковатой луговине Клязьмы!.. И гибнул, раздавленный рухнувшею на него тушею татарской лошади, рассарычив ей брюхо кривым засапожником, гибнул, порубанный наскочившими татарскими конниками, владимирский, суздальский, рязанский, пронский, ростовский пешец — ополченец, вчерась ещё пахарь или ремесленник, пришедший отомстить!.. Что ж, одним конём вражьим, да и одним татарином меньше стало!.. Что татарин без лошади? — всё равно как пустой мешок: поставь его — не стоит!.. Тут же раздернут его, окаянного, на части набежавшие наши, а нет — с седла распластают!.. В конях их сила, в конях! Да ещё многолюдством задавили: мыслимое ли дело — десятеро на одного! А пускай бы и десять на одного, когда бы в пешем бою!
Всё больше сатанело кровавое бучило боя! Казалось, до самого неба хочет доплеснуть кипень битвы. Уж, местами, зубы и пятерня, дорвавшись до горла, решали спор — кому из двоих подняться с земли, а кому и запрокинуться на ней навеки; и втопчут его в землю, и разнесут по кровавым ошмётам тысячи бьющих в неё копыт, тысячи тяжко попирающих сапог!
Зной валил с неба. Было душно. Многие из бойцов — и татар и русских — в этом месиве уж не могли выпростать ни руки, ни ножа — где уж там, меч, копьё, саблю! — и только очами да зубами скрежещущими грозили одни другому, уже готовые дотянуться — тот к тому, этот к этому — и вдруг оторванные, прочь уносимые друг от друга непреодолимым навалом и натиском человечьих и лошадиных тел.
Было и так, что задавленные насмерть не могли рухнуться наземь, несомые навалом живых. Их тела с остекленевшими глазами, как бы озирая битву, из которой и мёртвому некуда уйти, стоймя носились по полю, принимая в свою остывающую плоть удары копий и стрел!..
Свежиною крови, запах которой пресекает дыханье и заставляет бежать непривычного к ней человека, потянуло от земли! Осклизли — и трава, и тела убитых, и кольчуги, и шлемы, и поверженные туши коней. Русские мечи по самый крыж покрыты были кровью. Рукояти поприлипали к ладоням. Но и у татар с кривых сабель, досыта упившихся русской кровью, кровь текла по руке в рукава халатов и бешметов...
А битва всё ширилась! Новый тумен — отборные, на серых конях, десять тысяч всадников — одним лишь наклоненьем хвостатой жердовины значка — ринул на этот берег хан Укитья, в подпору теснимым татарам.
... Нет, нет — да уж подымет ли и нашего, русского народа сверхчеловеческое слово — слово, подобное и веянью ветра, и звуку смычка, и ропоту бора, и воплю ратной трубы, и грохоту землетрясений, — подымет ли даже и оно, могущее поколебать и небо и землю, обоймёт ли даже и наше, русское слово всё то, что творилось в тот миг на берегах Клязьмы?
Тщетной оказалась подмога, брошенная ханом Укитьей и прожорливую пасть боя! Разящая сила удара, которую могли и себе эти свежие десять тысяч конников, низринувшиеся с покатостей татарского берега Клязьмы, быстро погрязла в том многоязычно вопящем месиве, в которое были обращены ударом русских полков тумены, скопившиеся за Клязьмой.
Только сила могла остановить силу!
Хан Укитья, презрительно сопя, чуть расщелив свои заплывшие глаза, таким напутствием сопроводил оглана, ведущею новый гумен.
— Хабул! — прохрипел он. — Я знал отца твоего!..
В ответ юный богатырь монгол, в чёрном бешмете, в парчовой круглой шайке с собольей оторочкой, трижды поцеловал землю у копыт кони, на коем восседал хан Укитья.
Затем встал, коснулся лба и груди — и замер.
Укитья знал, что этот прославленный богатырь был куда знатнее его самого!
Однако на войне первая доблесть ба́тыря не есть ли повиновенье?! И царевич обязан повиноваться сотнику, если только волей вышестоящего он поставлен под его начало!
И хан Укитья, не повернув даже и головы в сторону Хабул-хана, просипел:
— Хабул! Тебе дан лучший из моих туменов. Уничтожь этих разношёрстных собак, которые оборотили хребет свой перед русскими! Убивай беспощадно этих трусливых, как верблюды, людей из народа Хойтэ и всех прочих, ибо сегодня бегством своим они опачкали имя монгола. Монгол — значит смелый!..
Снова лёгкое наклоненье головы и прикосновенье руки ко лбу в области сердца.
Лицо Укитьи — подобное лицу каменной бабы — отеплялось улыбкой. Он повернулся к богатырю:
— На тебе нет панциря, да и голова не прикрыта... Я вижу, ты этих русских не очень-то испугался!..
Молодой хан отвечал почтительно, но сурово:
— Отец мой был сыном Сунтой-багадура.
— Ступай!
И, ещё раз поклонясь начальнику, Хабул-хан быстро отошёл, всунул ногу в стремя, которое держал один из его нукеров, и поскакал.
Теперь Дубравке казалось, что пёстрая толща саранчи, ужо слипшаяся от крови в кучи, как бы сгребается ладонью некоего великана, и грудится, и грудится в Клязьму.
«Господи! — думалось Дубравке. — Да неужели не сон всё это?! Бьём, бьём этих татар!.. Бегут, проклятые!.. Отец, посмотри!» — как бы всей душою крикнула она в этот миг туда, на Карпаты.
И впервые за всё время их безрадостного супружества Дубравка взглянула на Андрея, вся потеплев душою.
«А тот?.. Ну что же... сам свой жребий избрал!.. Уж очень осторожен... Ну и сиди в своём Новгороде: за болотами не тронут!..»
Так думалось дочери Даниила, супруге великого князя Владимирского.
Андрей Ярославич почти уже и не опускался больше в седло, а так и стоял в стременах, весь вытянувшись, неотрывно вглядываясь в ноле боя.
— Ах, славно, ах, славно!.. Ну и радуют князя! — возбуждённо восклицал он, кидая оком то на воеводу Жидислава, то на Дубравку, а то и на кого-либо из рядовых дружинников — своих главохранителей.
Воеводе большого полка, Жидиславу Андреевичу, по правде сказать, сейчас совсем было не до того, чтобы отвечать на восторженные восклицанья своего ратного питомца, — к суровому старцу то и дело прискакивали на взмыленных конях дружинники-вестоносцы и вновь неслись от него, приняв приказанье; однако нельзя ж было и не отвечать: князь!
Старый воевода прочесал перстами волнистые струйки седой бороды, улыбнулся и так отозвался князю:
— Да! Уж наш народ теперь не сдержать: дорвалися до татарина, что бык до барды!..
Князь рассмеялся.
— А? Дубрава?.. — сказал он и ласково потрепал поверх перчатки с раструбом маленькую руку княгини.
Глаза Дубравки увлажнились.
Дозорный, сидевший на дереве, тоже не выдержал.
— Наши гонят!.. — диким голосом закричал он.
Воевода Жидислав поднял голову и сказал не очень, впрочем, строго:
— Кузьма, ты чего это? Али тебя для того посадили, чтобы орать?
Но уж и с другого и с третьего дерева неслись радостные крики рассаженных там стрелков. Некоторые улюлюкали вслед татарам, кричали охотничьи кличи, хохотали и ударили ладонями о голенища сапог.
Андрей Ярославич со вздохом облегченья опустился наконец и седло.
— Клянусь Христом-богом и его пришествием! — крикнул он и поднял десницу в панцирной перчатке. — Бегут, проклятые!.. Татары, татары бегут!..
Бежали! И это не было притворным бегством с целью навлечь противника и навести его на засаду, чего опасались вначале и Андрей Ярославич, и воевода Жидислав. Куда там: трупами гатили Клязьму!.. И по зыбкой этой гати, ещё хрипящей, живой, хлюпающей под копытами русской погони, метнулись было с разлёту на тот берег, на татарский, десятка два-три русских всадников, но так и канули там бесследно. И не то чтобы порубили их, сразили копьём или стрелою, а попросту замяли и затоптали, даже и не успев распознать в них врагов, так же, как топтали и месили друг друга.
И, увидав это, Андрей Ярославич велел дать ратной трубою звонкий, далеко слышный приказ: собираться каждой сотне под своё знамя!
И в это самое время, прямо в лоб мятущимся и бегущим татарам, и ударил новый тумен — тумен хана Хабула, задачей которого было остановить бегство и затем, гоня впереди себя завороченных, вновь ударить на русских.
Две конно-людские, неудержимо несущиеся со склонов прямо в противоположные стороны, многосоттысячепудовые тучи озверелого мяса схлестнулись на самой середине реки!.. Да уж какая там река!.. Реки не было — был огромный, на вёрсты, мокрый ров, заваленный, загромождённый конскими и человеческими телами. И запруженная Клязьма выдала воды свои на низменные берега...
Молодой хан Хабул отдал приказ рубить беглецов беспощадно. Были особенные причины на то: среди отступавших только ничтожная часть были монголы; всё же остальное полчище было сборною конницею — свыше сорока покорённых татарами народов.
Кого только тут не было! Были и китаи, и найманы, и саланги, и каракитаи, сиречь чёрные китаи, и ойрат, и гуйюр, и сумонгол, и кергис, и мадьяры, и туркоманы, и сарацины, и парроситы, и мордва, и черемись, и поволжские булгары, хазары, персы и самогеды, и народ Хойтэ, и множество, множество других. Вот почему и отдал приказ хан Хабул врубаться в бегущее полчище беспощадно. И этим необдуманным повеленьем своим он и загубил едва ли не весь свой тумен, лучший из туменов Неврюя! Остановить накоротке почти двадцатитысячное конное, по уже сбившееся в мятущийся табун разноплеменное войско, охваченное паникой, было столь же невозможно, как задержать ладонями лавину.
Впадший в неистовство, истощивший силы передовых своих тысяч и утратив управленье над ними, так как их захлестнуло обезумевшим навалом бегущих, хан Хабул выхватил саблю и сам кинулся вместе с телохранителями в эту схватку, пролагая широкую кровавую просеку на левый берег Клязьмы по скользкой гати из лошадиных и человеческих тел...
Выскакав на твёрдую землю, хан остановил коня и пронзительным, гортанным голосом крикнул:
— Монголы! Враг перед вами!..
Это был клич Чингисхана.
Навстречу Хабулу вынесся на вороном коне огромного роста, в кольчуге и в шлеме русский сотник Позвизд.
Завидя хана Хабула, он испустил во всю свою могучую глотку страшный и как бы прожорливый крик.
Диким, визгливым гиком ответствовал русскому витязю богатырь-хан.
Русские закричали своему:
— Позвизд! Эй, эй!.. Позвизд Акимыч, оберегись!..
Перемахивая через груды убитых, через туши павших коней, мчались друг на друга, во всю мочь, кони того и другого: вороной — у русского великана, серый — у татарина...
Сшиблись!
Вопль боли и ужаса исторгся из груди русских воинов.
Гортанным, глумливым алалаканьем ответили им татары.
Копьём, древко которого было и не охватить руке простого смертного, татарский богатырь расщепил одним ударом седло и опрокинул и лошадь и всадника.
И прежде чем новгородец, оглушённый паденьем, успел подняться с земли, хан Хабул зарубил его насмерть. Телохранители хана втоптали поверженного в землю.
Юный хан резко поворотил коня вправо. Пробившиеся на русский берег Клязьмы тысячи ринулись вслед за ним, обтекая ещё не успевших вновь построиться русских.
И то же время другое конное полчище, под предводительством другого батыря, подвластного Хабул-хану, ринулось плёво — окружая русский стан.
Хабул-хан, замедлив тяжёлый скок своего богатырского коня, как бы очерчивая хищный круг окрест русского войска, неторопливо высматривал себе новую жертву.
И тогда-то из-под знамени новгородских гончаров — золотая кринка на голубом поле, а над нею золотой посох посадника — отделился всадник на буром коне.
Это был старшина новгородского гончарного цеха — Александр-Мил омег Рогович. Жёлтые кудри его были прикрыты стальным островерхим шишаком, кольчуга со стальными пластинами на груди.
Ловко и нодсадисто сидел гончар Рогович. Хватким, горящим оком из больших глазниц удлинённого юного лица смотрел он на татарина.
На правой руке у него, на широкой тесьме, свисал чекан — востроносый, с чуть загнутым клювом, стальной молоток, крепко насаженный и заклёпанный на красном недлинном черепе, с отделкой золотом и слоновой костью.
Татарии крикнул ему по-монгольски какое-то оскорбленье, которого не понял гончар, но в ответ на которое долгий хохот стоял среди нукеров хана.
И татары и новгородцы, близ стоявшие, не смели ничем посягнуть на священное издревле право единоборства.
Пустив серого жеребца своего на тяжёлый скок, татарин уже наладил к удару своё огромное, будто жердь, копьё.
Рогович разобрал на левую руку поводья, а правой подобрал висевший сбоку свой чекан-клювец и наладил как следует широкую тесьму, на которой висел этот чекан на кисти (по правой руки.
«Ну, держись, Александрушка, ребята твои, новгородцы, смотрят на тебя! Не положи сраму на город, на братчину!» — не то подумал, не то пробормотал он, прилаживаясь отпрянуть конём от ниспровергающего удара копья.
Но за мгновенье пред сшибкой Хабул выбросил в сторону левую руку, затем, как ножницы, раздвинул и сдвинул пальцы, а из правой выронил копьё...
«Это — на руку мне!» — подумал обманутый этим движеньем Рогович.
И в тот же миг скользкая волосяная петля длинной татарской укрючины, в кою пору вложенной в правую руку Хабула подскакавшим по его знаку стрелоносцем, взвилась над головой гончара.
«Ну... пропал!.. В сороме — смерть!» — весь похолодав, подумал Александр Рогович. И уж не дума, не хитрость защитила его, а само тело, что в страшный миг — быстрее стрелы, умнее ума — дугою примкнуло ко гриве лошади. И петля миновала новгородца! Только хлестнув его по спине, она сорвалась в сторону. И в сторону же отпрянул конём татарин, чтобы укрючиной сдёрнуть с седла своего противника.
«Ну, теперь ты — мой!» — сквозь зубы вырвалось у гончара Александра. Он стремительно повернул коня вслед татарину и, нагнав его, привстал во весь рост на стременах и грянул острым клювом чекана в голову татарского богатыря и пробил насквозь череп; рванув к себе рукоять чекана, он свалил убитого под копыта коней.
Андрей Ярославич, Дубравка, воевода Жидислав и все, кто стоял с ними, с возрастающей тревогой взирали на обширный уклон луговины, перебитой пролесками, где сызнова установилась та — отсюда казавшаяся недвижной — толчея рукопашного боя, разрешить которую в ту или в другую сторону мог только новый удар, только свежий иахлын ратных сил! Они казались неисчерпаемы там, на другом берегу Клязьмы, у татар, и почти нечего было бросить отсюда, от русской стороны. Засадный полк? Но не на то он был рассчитан. В крайнем случае, если расчёт сорвётся, то уж тогда ринуть этот полк — две тысячи конных, пятьсот пехоты, — где-то близко смертного часу. А сейчас, а сейчас что?
Опытный в битвах Андрей Ярославич не хуже, чем большой воевода его, понимал, как много значит в бою разгон победы, как важно и для воинов и для полководца не утратить этого разгона, не дать ему задохнуться. И Андрей Ярославич один, не спросясь воеводы, принял отчаянное решенье.
Уж видно было, что, окружённые со всех сторон, сбитые в ощетинившийся сталью огромный ком, русские полки, сотни и обрывки полков тают, как глыба льда, ввергнутая в котёл кипящей смолы.
Андрей Ярославич знаком руки подозвал к себе сотники Гаврилу, начальника великокняжеской дружинной охраны. Гаврило-сотский был широкоплечий мужик-подстарок, с благообразно умасленною чёрной большою головою, белым и румяным лицом и чёрной отсвечивающей бородой.
Он был в стальной, с козырьком, блистающей шапке-тюрке округлого верха, застёгнутый под подбородком, и в доброй, светлой кольчуге новгородского дела.
— Строить моих! — приказал Ярославич.
— Вот добро! — прогудел сотник, открывая в большой улыбке белые зубы. — А то закисли!..
Князь отпустил его.
Сотник стремительно повернулся и тяжёлым бегом, круша валежник, устремился к полянке, где возле своих засёдланных коней, не отпуская повода из рук, стояла, ожидая своего часу, великокняжеская охранная дружина в триста человек.
Князь в сопровожденье Дубравки подъехал к ним, уже к выстроенным, в сёдлах, и остановил своего, в яблоках, аргамака перед самым челом дружины. Ни одному из трёхсот не было больше девятнадцати лет!
Все они были копейщиками. Островерхие и у всех одинакие, стальные гладкие шишаки их блистали на солнце. Сталь слегка розовела, принимая на себя отсветы от острого, алого, словно язычок, пламени, сафьянного еловца — флажка, который реял на шлеме у каждого.
Ничья ещё не капнула слеза — кроме материнской — на этот шёлк, на эти доспехи! Князь Андрей Ярославич, готовясь восстать на Орду, нарочно подобрал эту дружину из неженатых. «Меньше слёз будет, меньше дум да оглядки, — говорил он ближайшим своим советникам. — Слёзы женские пострашнее, чем ржа, для доспехов булатных!..»
Коли бы княгиню Дубравку, в её мужском кольчужном одеянье и в стальном шишаке, поставить к ним в строй, то великая княгиня Владимирская ничуть бы не выделилась среди них.
Дубравка, зардевшись, сказала что-то на ухо своему супругу, слегка наклонившись с седла в его сторону. Андрей одобрительно кивнул головой. Вслед за ней по его приказу юный знаменосец-хорунжий приблизился к Дубравке на рослом белом коне — ибо у всей первой сотни лошади были белые — и, спрыгнув с коня, преднес княгине хоругвь дружины: золотой вздыбившийся барс Ярославичей на голубом поле.
Княгиня приняла на ладонь край голубого знамени и благоговейно приложила его к своим устам.
С глубокой отцовской жалостью взирал великий князь на юные лица этих богатырей. И вдруг почувствовал, что не сказать ему без слёз того заранее приготовленного напутственного, перед сраженьем, слова, с которым он хотел обратиться к ним, к этим мальчикам-витязям.
И вместо задуманной речи одно только и мог сказать князь Андрей.
— Что ж, ребятки мои, — молвил он попросту, — вам, витязям русским, что я говорить стану?! А меня впереди себя увидите!..
— Я сам поведу их! — обратился он к сотнику, указуя ему его место, по правую руку от себя, и выхватил блеснувшую под солнцем саблю.
И каждый из этих трёхсот почувствовал себя ростом вровень с деревьями и понял, что немедля надо кричать душу сотрясающим рыком и нестись на крыльях беды, разить поганых остроносым копьём, валить их наземь, под копыта своего коня.
Князь Андрей провёл перед собою, выпуская из леса на луговину, две первые сотни — на белых и на вороных конях, а когда поравнялась с ним третья — на серых, он тронул своего аргамака, дабы стать во главе этого отряда.
Вдруг он почувствовал, как две сильные руки осадили его скакуна, схватив под уздцы. Тут же он увидал, что воевода большого полка, старик Жидислав, поспешно несётся ему наперерез, простирает к нему руки и что-то кричит.
Догадавшись, что это его, князя Андрея, хотят задержать, отвратить от принятого им ратного решенья, Андрей вспыхнул от гнева. Да разве в жилах его струится не та же самая кровь, что у брата Александра, — кровь Боголюбского Андрея, кровь Всеволода Великого?! Да разве кто-нибудь дерзнул бы брату Александру этак вот, рукою дружинника, осадить боевого коня?
— Прочь! — заорал он. — Прочь!..
Он в бешенстве кольнул коня шпорою. Но оба могучих телохранителя повисли на удилах, и конь заплясал храпя. Они обдавались потом смертельного ужаса, творя святотатство немыслимого в бою ослушанья самому великому князю, верховному военачальнику. Однако так приказал им воевода большого полка, и если от княжого гнева мог ещё заступить воевода, то ничего не смог бы поделать и князь, если б они оскорбили ослушанием воеводу Жидислава! Не из таких был старик, чтобы промыт.!..
В это время и сам Жидислав подскакал едва не вплотную и, сметнувшись с коня, умоляя, простёр обе руки ко князю:
— Князь!.. Не гневися!.. Обезглавить нас хочешь?! На погибель идёшь!..
— А они? — гневно воскликнул Андрей и взмахнул рукою в сторону юных, чья уже и последняя сотня вытягивалась из леса.
— То — моё место, — отвечал воевода и с невероятною для его лет быстротою снова очутился в седле и бросил коня вслед исчезавшей из леса дружине.
— Стой, старик! — крикнул ему вдогонку князь Андрей. — Где твоё место? Я полки тебе вверил!.. А ты!..
И, не договорив, князь с такой силою вонзил шпоры, что его серый, в яблоках, рванулся вперёд, опрокинув державших его телохранителей.
Воевода Жидислав, скорбно покачав головою, посмотрел вслед князю, который мчался стремительно из леса, не успевая отстранять ветви дерев, хлеставшие по его лицу. Сумрачно сведя брови, старый воевода направил коня под великокняжеский стяг на опушке бора, откуда руководил он полками, куда стекались к нему донесения со всех концов боя.
Однако новое испытанье ждало его сегодня со стороны великокняжеской четы: княгиня Дубравка в сопровождении двух дружинников мчалась вослед супругу.
— Княгиня!.. Умилосердись! — только и воскликнул старый Жидислав, увидев Дубравку.
— Я — туда: чтобы видеть! — сказала она, слегка потрясая головою, всё ещё не привыкнув, что на ней шлем, а не венец золотых косичек.
— Коли так, то добро, княгиня! — несколько успокоенный, отвечал Жидислав. — Только молюся к тебе: не выдавайся из леса! Хорошо будет видно и так. Не ударили бы поганые, усмотрев тебя!
И на всякий случай воевода отрядил ещё двух своих телохранителей — оберегать княгиню и ни в коем случае не позволять ей выезжать из-под сосен.
Тем временем Андрей Ярославич успел догнать своих «бессмертных», как называл он порою этих юношей, и теперь мчался впереди всех трёх сотен, что на белых, на вороных и на серых конях, держа саблю ещё поперёк гривы коня, слыша позади себя дружный топот конского скока.
Как любила его в этот миг Дубравка! Как любовалась им!
«Матерь божия, смилуйся лад нами! — молилась она в своём сердце. — Обереги, сохрани его! Буду любить его, буду беречь его, буду слушаться!..»
Ей легко можно было проследить путь Андрея: реял алый княжеский плащ, сверкали драгоценные каменья золочёного шлема — ерихонки.
Но и оттуда, с того берега Клязьмы, тоже уже заприметили князя.
Хан Укитья, моргая изъеденными трахомой веками, вглядывался в сверкающую на солнце, идущую стальным клином трёхсотенную дружину Андрея.
Его приближённый, из числа бесчисленных племянников хана, почтительно изогнувшись в седле, показывал хану рукоятью нагайки на князя, нёсшегося впереди всех.
— Вижу, — брюзгливо проворчал по-монгольски Укитья. — Зерцало с золотою насечкою... Алый плащ... Отличит его и младенец, чей большой палец ещё не был смазан жиром и мясом барашка!
— Они крепко скачут... Это — добрые воины! — позволил себе заметить приближённый.
Хан презрительно выпятил губу.
— Ты непутёвое молвил, — возразил сквозь привычное посапыванье и отрыжку хан Укитья. — Их всего горсть! Безумцы, безумным ведомые! Канут, как камень, кинутый в толщу воды! Исчезнут, как стрела, пущенная в камыши!
Однако не стрелою, пущенною в камыши, а скорее подобно раскалённому утюгу, рухнувшему в сугроб, вторглась юная дружина Андрея в татарское войско.
Конный бой! Да разве забудешь когда-нибудь упоенье конной атаки! Сперва ничего другого не чувствуешь, кроме себя самого на хребте могучего зверя, именуемого почему-то конём! Только — ветер, свищущий в уши, да — я, да — пустынное небо, в которое вот-вот ворвёшься с того вон пригорка!.. Нет, вот с этого, а тот уже далеко позади — пронёсся в белёсо-мутном потоке копытами пожираемой земли!..
Что?.. Где?.. Враги?.. Какие?.. Не эти ли вон, что у лесочка — пёстрое что-то, ничтожное, вроде насыпанной от семечек шелухи?.. Дайте только дорваться! — сметём, как метлою! Что это — они тоже на конях?.. Неужели зги игрушечные коньки — то же самое, что и крылатый зверь подо мною?! Я — я один — на коне, пожирающем небо и ломлю!.. И чем это они там размахивают? Кто сказал, что эти жиденькие полоски, похожие на стальные хлысты, что это сабли — и что этим могут убить?! Убить? Меня? Пойди убей этот звенящий остриём шлема ветер, и это огромное небо, в которое сейчас вторгнусь, и этот смутный поток земли, кидающийся под грохочущие копыта!..
...Дорвались. Тяжёлая сабельная, с храпом и выкриками, кровавая пластовня!.. И вдруг — будто откачнувшимся бревном шарахнули в голову! Что это? Неужели тем жалким стальным прутиком? А где же боль?.. Но уже поволокла из седла одного из юных сынов своих земля-матерь в свою чёрную пазуху. И дивится ещё не потухшая искра сознанья беспощадному волочёные и переворачиванью ещё живого, ещё не переставшего чувствовать и дышать, ещё моего, неотъемлемо моего тела!
...Стоном очнёшься... И разом ринется — сверху, сбоку, каким-то потоком кусков, разорванный мир, словно бы торопясь сложиться, построиться, дабы сознанье не застигло его врасплох...
И уже огромный ворон, высясь над запрокинутым бледным лицом, пытает воровски своим клювом, отпархивая после каждого клевка, испить из не успевшего ещё остынуть глаза...
Растерзают свои светлые ризы владимирские боярыни-матери простоволосые, станут выть, станут биться о землю, прося у неё хотя бы на единый, на краткий миг остывшие тела сыновей, — да только и от материнского плача не разверзнется чёрная пазуха этой всепоглощающей матери-земли!
...Сперва ничтожны были потери, понесённые трёхсотсабельной дружиной Андрея. И это — потому, что шли стальным цельным утюгом. И если бы даже эти юноши — сплошь панцирная дружина — и не разили врага ни копьём, ни саблей, то всё равно этот железный, ощетиненный копьями клин, в его тяжком конном разгоне, трудно было бы сдержать лёгкой татарской коннице, — он рвал и крошил сам собою, — а раздаться, отступить ей было некуда: битва шла на излучине Клязьмы.
Пробившись к своим, что были в котле, Андрей Ярославич не стал грудиться в одно с ними, а тут же ударил влево по отогнутой татарской многолюдной подкове и стал, топча, и рубя, и беря на копьё, отваливать татар к самой Клязьме.
Понял замысел князя и воевода окружённых — Гвоздок, тот, что за смертью старшого воеводы, Онисима Тертереевича, стоял на челе всей обороны у окружённых, — высокий, молодой, черноволосый боярин, с густым усом, но брадобритый, с бешеными, навыкате глазами. Перемахнулись меж собою махальные, с длинными красными и жёлтыми словцами на копьях, — ибо где ж тут было трубить? — и воевода Гвоздок прочитал в этих взмахах, что князь одобряет его, и не стал выбиваться на свободу, к лесу, а, напротив, круто поворотил всё войско в сторону Клязьмы, на татар, и тоже натиснул на них.
И вскоре уже и те тысячи, что приведены были Хабулом-ханом, загрудились в Клязьму. Всё смешалось — барунгар и джунгар — правое с левым крылом; беки, батыри и вельможи тёрлись коленом о колено с простым всадником, с каким-нибудь жалким погонщиком овец; отрывали стремена один другому; страшным натиском лошадиных боков увечили и в мясо раздавливали всадникам колени и бёдра, и уж ничего не могли поделать ни самые большие огланы, ни десятские, ни сотские; плыли сплошным оползнем!..
Возле хана Укитьи уже держали в поводу троих поводных коней. Нукеры его проявляли нетерпенье: пора было спасаться бегством.
Но Укитья только выставил в сторону ладонь, как бы отстраняя этим бегство.
— Нет, Иргамыш, — сказал он племяннику, — сегодня я оторвал сердце своё от души своей! Этот безумец Хабул погубил всё! Он проявил ярость тигра, но разумение гуся! Теперь высшие не проявят ко мне благоволенья! «Старый верблюд! — скажут. — Ты истёр свои пятки на путях войны, так что не поможет и пластина кожи, подшитая к ним! Ты истощил, скажут, некогда тучные, горбы своего военного разуменья, и куда ты годен теперь?» Иргамыш!.. Ай-Тук!.. Усункэ!.. — воззвал он громко к своим любимым нукерам и колчаноносцам. — Дети мои! Жизнь и моя и ваша всё равно погибла для нас — и на том и на этом берегу!.. Так пускай же лучше — на том! По крайней мере там, в крови русских, омоем наше имя!..
И старый нойон тронул коня вдоль берега, отыскивая брод. Нукеры, каждый со своей охраной, устремились за ним.
В этот миг на загнанном в мыло коне подскакал к хану вестоносец. Он спрыгнул наземь и, сделав поспешное приветствие, торопливо доложил хану, что всё погибло на том берегу, что бегут и что хан Узбек, сменивший хана Хабула, требует подкреплений.
— Они, эти русские, преследуют нас, как железные пчёлы, жало которых — стальное и не ломается в ране! — закончил он, даже и в этот миг привычно следуя правилам монгольского этикета, по которым тем лучше ( читалось донесение гонца, чем более оно походило на выспренние и порою даже трудно понятные стихи.
— Собака! — вскричал хан Укитья и сильным ударом плети, в конец которой был вплетён комок свинца, проломил голову вестоносцу.
Тот рухнул под копыта коня. Не взглянув даже в его сторону, старый хан продолжал путь во главе своей наспех собранной сотни.
Вот он уже въехал в воду. Шумно бурля водою, вздымались, сверкая на солнце, ноги коней. Вот уже — на середине Клязьмы. Вдруг слуха Укитья достигнул пронзительный зов трубы, раздавшийся сзади. Старый воитель тотчас признал в ней клич трубы старшего — клич, обращённый к нему, хану Укитье. И мгновенно сама собою рука его натянула повод.
— Иргамыш, — сказал он племяннику, — ты поведёшь!.. А мне, видишь, не позволяют даже и своё имя спасти!..
Говоря это, он принял из рук вестового чёрную, опалённую, из тонкого древесного луба дощечку величиною с ладонь, где мелом было начертано повеленье хана Неврюя, обращённое к хану Укитье, — немедленно прибыть для доклада...
Пришпоренный копь вынес Укитью обратно на берег.
...Верховный оглан карательных полчищ, хан Неврюй, высился на своём арабском белом скакуне на пригорке, в тени берёзы. Вкруг хана толпилась его свита и отборные телохранители. И к нему и от него непрерывно текли конные вестоносцы. Хан правил боем. Возле его стремени, справа, на маленьком коврике, брошенном на траву, по-татарски поджав под себя ноги, сидел скорописец-монгол. Справа от скорописца, на коврике, так, чтобы легко дотянуться рукой, стоял маленький глиняный горшочек, полный густо разведённого мела. На коленях скорописец держал нечто вроде отрывной книжечки из тонких опалённых, с воском, чёрных дощечек, нанизанных у корешка на круглый ремешок, с которого легко было снять очередной листочек.
Время от времени скорописец обмакивал тоненькую кисточку в раствор мела и быстро вычерчивал на очередной дощечке приказ главнокомандующего.
Подозванный нукером гонец приближался, схватывал — с движеньями крайнего раболепия — листочек, снятый с ремешка, имеющий на себе номер приказа, снова взмётывался на коня и мчался туда, куда надлежало.
Когда хан Укитья подскакал к бугру под берёзой, где была расположена полевая ставка Неврюя, он спешился.
Укитья и Неврюй, оба они были старейшими воителями Батыя и старые соратники. И тот и другой участвовали во вторжении за Карпаты — в Венгрию и в Германию. Они давно уже и породнились домами, хотя Неврюй был из рода Чингисхана, а Укитья — выслужившийся. Их связывала дружба.
Однако сейчас Неврюй даже и лица не повернул в сторону своего боевого товарища, распластавшегося перед ним и поцеловавшего землю у копыт его коня.
Приподняв лицо от земли, Укитья приветствовал Неврюя торжественно и подобострастно:
— Да находишься ты вечно на верху славы и величия и в полноте счастья и всяческого благополучия! — произнёс он, не вставая с колен.
— Менду, менду сэ бэйна! (Здравствуй!) — угрюмо-насмешливым голосом ответил ему Неврюй. Однако недвижным осталось его обветревшее огромное безбородое лицо, в задубелых морщинах, подобное коре старой ветлы, — лицо, на котором чёрными бусинами блестели маленькие злые глазки. — Что скажешь? — всё тем же сурово-насмешливым голосом продолжал хан Неврюй. — Ты, который без пользы, и на позор лучший из моих туменов истратил и погубил!.. Да наполнится твой колчан навозом! — вдруг яростно выкрикнул он самое страшное для монгольского воина проклятие и самую страшную кару.
И, затрепетавший от этого предстоявшего ему позора, хан Укитья снова повергся ниц и, не отрывая лица от земли, только сотрясал головою.
— Я помню твои прежние заслуги, — продолжал Неврюй, — и лишь потому имя твоё сохраняю неосквернённым! — Сказав это, Неврюй глянул в лицо стоявшему прямо перед ним нукеру и условным знаком закусил нижнюю губу.
Нукер в свою очередь повторил этот знак силачу-телохранителю, стоявшему возле стремени хана. Тот неторопливо подошёл к распростёртому ничком Укитье, наступил ему коленом на загривок, подсунув обе свои ладони, сцепив их пальцами, под лоб Укитьи и со страшной силой рванул его голову кверху.
Хрустнули хрящи... Из уст и из носа Укитьи хлынула кровь...
...Звук сигнальной трубы, в котором старый Неврюй тотчас же познал зов начальствующего, заставил хана вздрогнуть. К нему мчался на вороном коне стрелоносец — от царевича Чагана, кто представлял в армии лицо самого императора Менгу. В вытянутой вперёд руке гонец держал чёрную дощечку...
Неврюй озабоченно глянул в ту сторону, где виднелся златоверхий шатёр Чагана. Там сверкало оружие и слышались крики...
Неврюй спрыгнул с коня и со знаками глубочайшего почтенья принял из рук вестоносца чёрную дощечку, исписанную мелом.
Это был немедленный вызов к царевичу.
Душно. Жарко. Уста запеклись. Испить бы! А боязно: так за глотком и убьют! И те, кто хоть на мгновенье отвалились на чистое место, наспех совали товарищу в руки острый нож: «Ох, задохнусь, брат! Порежь ты малость ремешки у пансыря моего!» И разрезали друг другу ремешки и тесёмки, и сваливали жаркое железо наземь, и, оставшись в одной рубахе, жадно надышивались всей грудью, и, перекрестясь, сызнова кидались в битву...
Сильно поочистили поле!.. Уже кое-кто из богатырей, сбрасывая тылом руки горячий пот с чела, отгребая волосы, подставляя ветерку испылавшееся лицо или опершись на длинное оскепище топора, пускал на всю обширную луговину торжествующий гогот вслед убегавшим татарам:
— Ого-го! Потекли, стервецы!..
— Ишь ты, — воевать им Русскую Землю!..
Обозревали гордым оком доброго жнеца поле боя.
— А побили мы их, татаровей, великое число! На одного нашего пятерых надо класть, а и то мало!..
— Он копьё на меня тычет, а я как воздымусь на стременах — так и растесал его на полы!..
Андрей Ярославич, сзывая под стяг раскиданные по всей луговине обрывки полков и сотен звуками ратной трубы и грохотом тулумбасов, двигался со своими «бессмертными», радуя соколиной посадкой сердце ратников.
Ему кричали радостное, разное, а иной раз и нечленораздельное, — только бы видел князь, что довольны люди.
— Князь! — зыкнул на всю луговину один из владимирских, перемигнувшись с близстоящими товарищами. — Андрей Ярославич, а давай-ка мы их ишшо так!..
Андрей Ярославич, не найдя ответного, воздымающего дух слова, — не дано ему было этого, — только улыбнулся воину да приветливо покивал головой.
Им любовались с гордостью отцов.
— Князь-от, князь-от! — восклицали иные и уж ничего не могли добавить более.
По всему уклону необъятной глазу Клязьминской луговины словно бы раскиданы были кучами и вразброс пёстрые одежды, сброшенные бегущим множеством: так показывались издали тела убитых...
Сбивчивы и противоречивы были мысли великого князя Владимирского. Одна пересекала другую. На побоище взирал он спокойно: привык уж, — лаковая под солнцем, булькала, стекая в мутную Клязьму, кровь, застывала на земле красным студнем, — без содроганья взирал на сие князь. «Что ж, — думал он, — и моя кровка журчала бы тут же!»
Почему-то особенно знакомым показалось Андрею уже смертною синюхою удушья заливаемое лицо одного из поверженных на поле брани. Тяжко дышал он, хватая ртом воздух, силясь время от времени приподняться. И уж не туда, уж мимо людей, смотрели большие тускнеющие глаза его на юном, чуть простоватом лице.
Андрей Ярославич осадил своего серого, в яблоках, спрыгнул наземь и склонился над умирающим. Тут он узнал его: это был тог самый воин, который перед битвой на вопрос князя: «Чей ты?» — зычно и бодро ответствовал: «Павшин... Михалева!..»
— Ну что, Павшин, друг мой? Тяжело, а?.. Испить, быть может, хочешь? — спросил Андрей Ярославич, становясь возле умирающего на одно колено и берясь за висевшую на боку серебряную питьевую лядунку с винтовым шурупцем, оболочённую в бархатное нагалище.
Умирающий как бы даже и не слыхал этих его слов. Своё, главное, быть может единственное, что́ ещё оставалось для него на земле, владело сейчас всеми его помыслами. Видно, и он тоже узнал князя.
— Чтобы сказали там родителю моему... про меня... Что сами видали... — коснеющим языком проговорил он и строгим и как бы требующим взором глянул в лицо князю. — Тятенька мною доволен будет!..
Едва только взглядывал Андрей Ярославич на тот берег Клязьмы, как сквозь гордую радость несомненной победы в душу его проникал неодолимый страх.
На той стороне не было больше лесочков и перелесков — их съел неисчислимый, всепожирающий татарский копь; татары валили чернолесье, обрубали ветви и листвою кормили лошадей. Неврюй не считал даже нужным таить свои силы, да это было и невозможно. До черты неба досягало чёрное его воинство. В битву против русских введены были и подверглись разгрому только первые четыре тумена — около сорока тысяч, и ещё более чем стотысячная армия здесь, под рукой Неврюя, ждала, когда ей освободится место для боя, да столько же, под водительством хана Алабуги, ушло окружать русских, обкладывать их широкой облавой за десять вёрст от места боя — так, чтобы не спасся никто.
Пятьдесят тысяч — пять туменов конницы, под начальством Бурджи-нойона, ушли на окруженье засадного русского полка. Известно было из донесенья мостового мытника, Чернобая Акиндина, что один полк русских, минуя мост, ушёл вправо, тогда как все прочие — влево, и Неврюй вывел из того соответствующее истине заключенье, что один полк — засадный.
Только ещё не был найден и не обложен этот полк!
Татар было столь много, что отплески разгрома первых четырёх туменов не смогли ещё проникнуть, докатиться до глубины татарской толщи. Волна стадного ужаса, распространяемая накатом бегущих, смогла перехлестнуть на татарский берег Клязьмы, но тут она расшиблась о тумены, сцементированные другим ужасом — ужасом кровавой дисциплины. Тут все были коренные монголы — с берегов Орхона и Керулена!
С тем же самым чувством надвигающейся опасности, которое охватило князя Андрея, взирал на поле победной битвы и воевода большого полка Жидислав. Он понимал одно: что до тех пор только и можно удерживать поле бон (с тем чтобы под покровом ночи уйти на север), доколе удаётся шеломить врага одною внезапностью за другой. Внезапностью оказалась для татар атака на них с трёх сторон тотчас после переправы. Внезапностью оказался и удар самого князя во главе его охранной дружины. Ну а дальше что?! И старик воевода, сам не замечая того, стонал, перемежая напряжённую думу свою о битве с молитвенными воплями к богу. Он всматривался в поле битвы, всячески изыскивая пути и место для на несения хотя бы ещё одного, столь же внезапного и столь же сотрясающего удара.
Тот шум и смятенье, которые донеслись от ставки царевича до слуха хана Неврюя, были прямым следствием нового, третьего внезапного удара, который был нанесён Орде воеводою Жидиславом.
Старому воителю, когда он взвесил и выверил всё, представился единственный путь для такого удара, а именно: скрытно подвести ударное войско вверх по Клязьме, перелеском сего берега, и ударить как раз напротив хорошо видных шатров с парчовым верхом, отблескивавших на солнце.
Броды были ведомы Жидиславу! И удар удался!.. Вот почему и примчался гонец от Чагана к Неврюю.
Чаган был захвачен врасплох. Юный хан благодушествовал в своём шатре, внимая музыке, неторопливо поглощая пилав из перепёлок, монгольские шарики из сушёной саранчи, перемолотой с мукой на ручном жёрнове, и персики в сливках.
На огромном золотом блюде — из ризницы Владимирского Успенского собора — лежали ломти чарджуйской дыни, огромные, словно древко лука, наполняя медовым и свежим благоуханьем воздух шатра.
Сбоку царевича сидел на особом коврике и подушке его личный медик, травовед и астролог, из теленгутов, седенький безбородый старичок в чёрном китайском клобучке. В его обязанность, помимо всякого рода мелких услуг Чагану, входило и отведывание блюд, подаваемых царевичу, дабы показать, что ничего не отравлено.
Вход в шатёр Чагана был закрыт шкурою тигра. В шатре было прохладно. Свет проникал сквозь верхний, отпахнутый, круг шатровой решётки.
Медик налил и подал Чагану золотую чашу с кумысом. Чаган велел пить и ему. Пили молча. Когда царевич закончил трапезу, он отёр пальцы от жира большим чесучовым платком, бросил его и вскочил на ноги.
Ему не терпелось взглянуть на пятый шатёр своих жён — шатёр, приготовленный для Дубравки. Он запретил туда следовать за собою кому бы то ни было. Ему одному хотелось побыть в той кибитке, предвкушая мгновенье, когда Дубравка-хатунь, супруга ильбеги Владимирского, вступит в неё и закроет лицо от ужаса и стыда...
Едва Чаган вышел из шатра, как ему подвели белоснежного златосбруйного коня. Пусть всего два шага отделяют кибитку от кибитки — монгол не унизится до того, чтобы пешим пройти даже и этот путь!..
...В шатре, для Дубравки предназначенном, рабыни только что закончили все приготовления. У округло выгнутой стены кибитки, рядом с постелью, сложенной из шёлковых, на гагачьем пуху, одеял, высился резной, из слоновой кости, туалетный столик со стальным, отлично отполированным зеркалом. Перед зеркалом разложены были флакончики для ароматических веществ, щипчики для выщипыванья бровей, ногтечистки, копоушки и множество прочих мелких вещиц интимного обихода знатных китаянок и монголок — вещиц, на усвоение которых бедной Дубравке, вероятно, понадобилось бы некоторое время и привычка.
Но забыт был и новенький кожаный подойник для доенья кобыл, чем но пренебрегала и сама супруга Менту, Котота-хатунь.
Свет солнца, проницал пыль, косым столбом упирался в ковры, постланные поверх войлока. В кибитке царил благоухающий полумрак.
И, глядя на этот столб света, Чаган невольно вспомнил, как по такому же вот столбу света в верхнее отверстие юрты к вдовствующей княгине Алтан-хатуни[43] спустился некий златокудрый, прекрасного вида юноша, который затем, уходя, оборотился рыжим псом, и тогда произошло таинственное зачатие того, кто родился на свет с куском опеченевшей крови в руке, кто является и ему, Чагану, великим предком, — сам Священный воитель, чьё имя не произносится!..
И Чаган запел.
Испуганный хорчи ворвался в шатёр и упал на землю. Зная, как тяжко он провинился перед ханом, оруженосец, не вставая с земли, повернулся головою в сторону, где стоял Чаган, и распростёрся перед ним.
— Чаган! — воскликнул он. — Смилуйся над рабом твоим! Но русские от шатров твоих менее чем на одно блеянье барана!..
— Коня! — крикнул царевич.
Оруженосец ринулся из шатра. Ещё раз окинув оком и высокую постель из пуховых одеял, и туалетный столик, и подойник для кобыльего молока, Чаган отпахнул завесу входа и почти с порога поставил ногу в стремя.
И едва он оказался в седле, как гладкое лицо его приняло выраженье спокойствия и суровой надменности.
Он глянул, прищурясь от солнца, в ту сторону, где уже прорвавшийся русский отряд рубился с его многочисленной охраной, состоящей почти сплошь из его родичей, и быстро охватил всю опасность положения.
Чаган глянул на шатры своих жён. Трое из его супруг-монголок уже сидели в сёдлах, разбирая поводья. Все они были в штанах для верховой езды. У одной из ханш за спиною, в заплечном мешке, виднелся ребёнок с соской.
И только из четвёртого шатра — шатра китаянки — всё ещё слышался злой визг и шлёпанье: китаянка била нерасторопных рабынь.
— Поторопите! — сказал он шатёрничему.
Но как раз в этот миг ханша-китаянка, сидя в крытых носилках, несомых на шестах двумя русскими рабынями, предстала перед очами своего повелителя, спешно дорумянивая щёки.
Чаган подал разрешительный знак, и, окружённые каждая своей свитой, рабами и рабынями, однако под общей охраной, ханши тронулись в путь.
Теперь он вздохнул свободнее. Руки его были развязаны! Он обозрел поле боя. Его личная гвардия отчаянно отстаивала взъём того самого бугра, на котором разбита была его ставка. Будь это во время вторженья в какую либо новую страну, он счёл бы делом чести нойона кинуться в битву лично. Но ильбеги Андрей в его глазах был только взбунтовавшийся данник, и ему, царевичу из дома Борджегинь, казалось зазорным погибнуть под саблей кого-либо из воинов этого данника. Было и ещё одно обстоятельство, в силу которого Чаган решил на сей раз не рисковать жизнью: он ждал Дубравку. Он знал, что вся армия князя Андрея обложена широкой облавой, дуги которой уже сомкнулись далеко в тылу русских, и что вряд ли княжеской чете удастся вырваться из этой облоги. «Так было бы ниже разума умереть, не насладившись местью и торжеством над тою, что сочла и день свадьбы своей осквернённым воздух свадебного чертога моим присутствием!»
И, уверенный, что отборная охрана его скорее вся полижет под мечами русских, чем пропустит прорваться их к его шатрам, Чаган громким голосом, чтобы донеслось до всех, надменно проговорил:
— Я поля эти превращу кровью в озеро Байкал! Стопа моя обрушит берега этой дрянной речонки Клязьмы так, что она кинется искать себе новое русло!.. Кровью станет течь, а не водою!.. Неврюя ко мне!.. — крикнул он.
И слуги подхватили слово из уст его.
Стон перед Чаганом, сидящим в седле, хан Неврюй показывал все признаки раболепия и беспредельного послушанья, какие полагалось проявлять по отношению к старшему начальнику.
Юный хан потребовал, чтобы Неврюй немедленно ринул всю армию на тот берег, дабы раздавить русских. Гордость помешала ему потребовать подмогу, чтобы отбить русских от шатров. «Погоди же, старый прокажённый! — мысленно грозил он Неврюю. — Мы с тобой разочтёмся после. Твоя старая шея будет ещё синеть в петле!..»
Он отпустил военачальника.
Ему показалось, что прошло очень много времени. Выругавшись сквозь зубы, он отдал приказ сложить кибитки и отправить их дальше в тыл, вслед за жёнами.
Грозно орущий вал русских воинов вскатывался по взъёму холма, подминая под себя охрану Чагана. Двое хорчи схватили под уздцы лошадь ордынского царевича и повлекли её за собой. И, ломая гордость, Чаган не противился. Промедли он ещё — и ему бы не миновать плена или бесславной гибели.
Как буря в пустыне Гоби, налетел царевич на Неврюя, но, как изваянье, иссечённое из дикого камня, над которым века проносятся, не оставляя следов, недвижно и безразлично встретил старый военачальник налёт царевича.
Чаган грозил ему немедленной казнью. Только ухо белоснежной лошади Неврюя, обращённое к Чагану, чуть шевельнулось от его крика. Лицо же самого старого хана оставалось неподвижным.
«Кричи, молокосос, надрывай глотку! — думал сподвижник Батыя. — А если мне надоест слушать, я прикажу своим хорчи отрубить тебе голову. Только не хочется доставлять этим лишнюю неприятность Бату и твоему Менгу!..»
Однако, дав почувствовать Чагану, что он его не боится, старый хан счёл за благо выразить внешнее почтение и сделал вид, будто слезает с коня, дабы стоя ответить ставленнику великого хана.
Но и Чаган был воспитанник той же самой ордынской школы политических ухищрений и вероломства: он с притворным простодушием, как погорячившийся напрасно, удержал Неврюя в седле.
— Почему ты не втопчешь этих русских в землю? — спросил он.
Неврюй молчал, вглядываясь в синюю даль противоположного берега.
— Я втопчу их в землю, — бесстрастным голосом отвечал он, — когда увижу, что настал час!..
Чаган, подчинись невольно этой неколебимой уверенности старого полководца, стал смотреть в ту же сторону, куда и Неврюй.
Наконец глаза его усмотрели далеко, за правым крылом русского стана, высокий прямой столб дыма. Чаган искоса глянул на Неврюя. Маленькие глазки старого хана закрылись. Голова откинулась. Губы были закушены, словно от нестерпимого блаженства.
Столб дыма, отвесно подымавшийся в знойное небо, являлся условным знаком, которого давно уже дожидался Неврюй: он означал, что засадный полк русских наконец найден, окружён и уничтожается...
Теперь Неврюй ничего больше не страшился! Он, взбодрясь, глянул на Чагана.
— А теперь я втопчу их в землю! — прохрипел он.
Лицо его исказилось улыбкой, приоткрывшей тёмные корешки зубов. Он взмахнул рукой. И этот взмах повторили своим наклоном тысячи хвостатых разноцветных значков.
И вот всё, что тяготило и попирало татарский берег Клязьмы, все эти многоязычные орды и толпища, вся эта конно-людская толща, сожравшая даже и леса на многие вёрсты, — толща, привыкшая расхлёстываться в тысячевёрстных пустынях Азии, а здесь как бы даже вымиравшая за черту неба, — толща эта вдруг низринулась по всему своему многовёрстному чёрному лбищу к извилистой, словно бы вдруг притихшей Клязьме и перекатилась через неё, словно через кнутик!..
Татары хлынули губить Землю...
— Князь, погинули!.. Сила нечеловеческая!.. Сейчас потопчут! Будем помирать, князь!.. Ох, окаянные, ох, проклятые, что творят!.. Господи, пошто ты им попускаешь!.. — в скорбном ужасе от всего, что открывалось его глазам на подступах к бору, где стоял великокняжеский стяг, воскликнул престарелый воевода Жидислав.
Андрей Ярославич промолчал. Да и что было сказать? Те отдельные, ещё сопротивлявшиеся татарам, ощетинившиеся сталью рогатин, копий, мечей, островки русских, что раскиданы были там и сям по луговине Клязьмы, — они столь же мало могли задержать чудовищный навал с тысячной ордынской конницы, как десяток кольев, вбитых я морской берег, могут задержать накат океана...
Татары как бы стирали с земли один островок сопротивленья за другим. Разрозненные конные отряды русских отчаянно пробивались к бору, на опушке которого разленилась отце великокняжеская хоругвь.
Значит, верили ещё, что там, под рукой верховного поведя, есть какая-то сила, прибережённая на последний час, способная ринуться на выручку! А уж не было — ни у князя, ни у воеводы Жидислава — после окруженья и гибели засадного войска — никого, кроме только сотни заонежских да вологодских стрелков, рассаженных на деревьях опушки, да остатков юной дружины, да ещё всех тех, кто успел прибиться, с разных сторон, к великокняжескому стягу.
Андрей Ярославич опустил голову.
— Ну, Жидислав Андреевич, — обратился он к воеводе, — давай простимся перед смертью!
— Простимся, князь! — отвечал воевода.
И, приобняв друг друга о плечи, они троекратно облобызались последним смертным лобзаньем.
— А теперь!.. — вдруг воскликнул Андрей Ярославич, — и как бы пламенем некой бесшабашности обнялося вдруг его смуглое резкое лицо. — А теперь!..
И князь уже выхватил свистнувшую о ножны саблю.
Но на мгновенье замедлился. Снова оборотился к воеводе, глянув через плечо. Во взгляде его была мольба, исполненная лютой тоски.
— Жидислав Андреевич!.. Последней моё княжое слово, — тихо проговорил он. — Спасай княгиню... буде ещё возможно.
И князь тронул шпорой коня.
— За мной!.. — крикнул он, вставая на стременах.
Но ему не дали опуститься снова в седло. По мановению Жидислава двое конных телохранителей, обскакав с двух сторон князя Андрея, заградили дорогу его коню. Два других дюжих ратника вынули князя из седла, словно мальчика. Стремительно приняв его на руки, они окутали его огромным плащом — так, что он и пошевельнуться не мог, и, один — за плечи, другой — под колена, быстро понесли его к неглубокой, укрытой в кустах лощинке, где в нетерпенье, обрывая листву, всхрапывала и отфыркивалась от наутов рыжая тройка, впряжённая в простую, на добрых стальных осях, телегу. Неширокая, она заполнена была вся, вплоть до грядок, свежим сеном, поверх которого брошены были ковры.
Обо всём этом, ещё до ратного сбора, жалеючи юную княгиню и не ожидая доброго конца, позаботился тайно воевода Жидислав.
Дубравка, жалкая, согбенная, смотрящая угрюмо в землю, была уже здесь, на телеге. В своём мужском одеянье она сидела, как сидят простолюдины, опустя ноги с тележной грядки.
Она даже не оборотилась, когда Андрея, уставшего угрожать, ругаться и барахтаться, почти кинули позади неё на телегу. Двое принёсших его ратников вспрыгнули на грядки телеги: один — о головах, другой — в ногах князя, удерживая его; третий взметнулся на передок телеги — править лошадьми, — и рыжая тройка рванула, низвергаясь в лощину, и понеслась вдоль её, круша и подминая кустарник и мелкий березняк, будто полынь.
— Хотя бы он зацепился за небо! — кричал Чаган. — Сорвите мне его и оттуда! Дайте мне его, этого злокозненного раба, именующего себя великим князем!
Шатры Чагана вновь были разбиты на прежнем месте. Неврюй и Чаган стали на костях! Уже прирезан был последний раненый русский воин. Уже шестая корзина, в которые жёны татар у себя, в кочевьях, собирают аргал — сухой помёт для костров, — уже шестая такая корзина стояла у входа в шатёр Неврюя, до краёв полная ушами, отрезанными у трупов. Голова Жидислава, в отдельном просмолённом мешке, ибо её предстояло отослать к Батыю, вернее — к Берке, валялась поодаль шатра. Страж придверья, изнемогающий от жары, лениво отгонял от неё голодных монгольских собак.
Нашествие самого Батыя, тринадцать лет тому назад, но было столь опустошительным и кровавым, как нашествие Неврюя, Алабуги и Укитьи.
Глади мир сожжён был почти что до основанья. Дворцы разрушены, Храмы осквернены. Люди укрылись в лесах...
Но татары проходили насквозь владимирские и мещёрские леса, сперва обложив намеченное место многовёрстной перекидной облавой, и вырезывали пойманных, оставляя на угон только нужных для них ремесленников да молодых русских женщин, о которых недаром же возглашали татарские поэты, что жёны русских — это как бы розы, брошенные на снег...
...Получив повеленьем Сартака, вслед за известием о восстании Андрея, ярлык на великое княженье Владимирское и золотую пайцзу от Менгу, данную ему через того же Сартака, — Александр Ярославич мчался, кровавя шпоры, губя без жалости сменных коней, к себе, на Владимирщину.
«Боже мой, боже мой! — обдаваемый ужасом уже где-то совершившегося, но ещё не представшего взору, восклицал Александр в глубинах своего искровавленного сердца. — Что застану?! Кого ещё удастся спасти?!»
И словно бы некий хохот всей необъятной Азии — то рожей Берке, то упитанной мордой Чагана — звучал в душу князю:
«Вот, вот он едет, великий князь Владимирский, — великий, князь над трупами и над пеплом!»
Солнце уже закатывалось над синим кремлём бора. Оно было багровым, словно бы его выкупали в крови.
А телега, уносившая с поля боя великого князя Владимирского и супругу его, всё мчалась и мчалась. Но уж не тройка, а лишь двое рыжих коней мчали эту телегу. Третья лошадь пала. Андрей обрубил постромки. Теперь они были только вдвоём: дружинники, сопровождавшие их, один за другим, покинули великокняжескую чету, ибо не под силу стало коням; да и впятером труднее скрыться от погони, а ежели настигнут татары, то какая ж там защита — эти трое дружинников? И князь отпустил их. Он сам принял вожжи.
Никто не признал бы в беглецах великого князя Владимирского и княгиню его: оба они были одеты в сермяги, подпоясанные опоясками, в колпакатые шапки простолюдинов и в лапотки с хорошо навёрнутыми онучами. Дубравка рассмеялась сквозь слезу, когда час тому назад, остановившись в лесу, чтобы дать вздохнуть лошадям, Андрей Ярославич достал из-под ковра одеянье простолюдинов для себя и княгини, о котором сказал ему старший из дружинников, и сумрачно приказал ей переодеваться. На неё жалостно было смотреть, как стояла она, рассматривая с печальной усмешкой новенькие, быть может с какого-нибудь переславльского пастушка снятые, маленькие лапти.
Но Андрей прикрикнул на неё и помог ей переодеться.
И снова — по корням, но рытвинам, буеракам, сквозь хлёст разверзаемых ветвей!.. Смотрящий со стороны подумал бы, что эта бешеная телега несётся, преследуемая волками. Да и впрямь, уж не волк ли мчался, вываля красный язык, неотступно по оттиснутому на траве следу от тяжёлых, стянутых стальным ободом колёс?
Это была собака — та самая, которую в Берендееве Александр приручил к Дубравке — охранять княгиню, когда она уходила на озеро одна. Вслед за телегой ринулся и верный Волк — и никто не отважился преградить путь этому дикому северному псу ростом с годовалого телёнка, с башкой матерого волка, с клыками как гранёный клинок.
Дорога неслась под гору, по зелёному горбатому мысу, как бы в конец зелёного клина, образованного владеньем в Клязьму некой другой речушки. Андрей беспокойно оглядывался: с того берега Клязьмы, высокого, мчащаяся по горбу зелёного клина их телега была видна как на ладони.
Вдруг как бы некая чёрная птица, мелькнув перед самым лицом князя, впилась в круп рыжей пристяжной. И в тот же миг Андрей Ярославич понял, что это — стрела. Пристяжная, взъяревшая от боли, взметнула задом, грянула копытами в передок телеги, и, забросив их за оглоблю коренника, рухнула.
Дубравку чуть не выбросило наземь... Андрей кинулся рубить постромки валька, распрягать коренного. «Только б не ударили сейчас!..» — мысленно восклицал он. Едва он высвободил пристяжную, как обезумевшее от боли животное ринулось прочь, хлеща и обдирая ремнями постромок листву прибрежного ивняка.
В отдалении, на широком основании клина, показались три всадника. Это были татары...
То бормоча обрывки молитв, то ругаясь, то крича на Дубравку, Андрей Ярославич с её помощью перевернул телегу на ребро, колёсами к себе — ради того, чтобы и они, эти колёса, до какой-то степени прикрывали его и Дубравку от стрел, пущенных сбоку.
Татарские всадники не торопились: они ехали, всматриваясь и время от времени перекидываясь словами.
Андреи Ярославич наладил стрелу и прицелился. Оттянутая до самого уха, спела дальнобойная тетива! На этом расстоянье — менее одного перестрела — Андрей не промахивался даже и в тетёрку. Средний татарин рухнул с коня, прежде чем товарищи успели поддержать его. Прикрывшись лошадьми, двое других подползли к нему и, должно быть, убедясь, что он мёртв, стали всё так же, по-за конями, отбегать: один — вправо, другой — влево.
Дубравка хотела выглянуть из-за телеги, но Андрей, разозлясь, молча и с силой пригнул её к земле. Сам он вёл бой с предельной осторожностью, выцеливая и наблюдая татар в щель между грядкой и настилом телеги. Татарские стрелы так и стучали, одна за другою, в днище телеги, пробивая доски насквозь и расщепляя их. Скоро вся вогнутая сторона телеги стала как гвоздями утыкана: так выступают железные зубья в бороне...
Андрей Ярославич покачал головой.
— Ишь стрел, стрел-то у стервоядцев! — пробормотал он. — Дубрава! — негромко позвал он.
Дубравка прекратила устанавливать скатку из ковра между верхним и нижним колёсами для защиты от боковых стрел.
Андрей одобрительно кивнул ей головою, увидав её работу, которую она догадалась сделать сама.
— Молодец! — сказал он. — Доделаешь — глянь: сколько стрел у меня осталось в колчане.
Дубравка, установив ковёр, осторожно сотрясая колчан, повыдвинула бородки стрел. Молчанье, которое длилось, пока она считала стрелы, показалось Андрею нестерпимо долгим.
— Ну? — нетерпеливо спросил он.
— Андрей!.. — словно бы ахнув от ужаса, произнесла Дубравка. — Все переломаны... целых — только две... Кто-то все стрелы перепортил тебе!..
— Полно! — угрюмо произнёс он. — Никто не портил... Это — когда они рвали меня с седла да потом в телегу валили!.. Ну что ж, — заключил он, стало быть, нельзя тратить зря!..
Невесело усмехнувшись, князь бережно положил обе стрелы на колесо слева, опереньем к себе.
— По стреле на рыло! — пошутил он, чтобы хоть немного ободрить Дубравку. — Вот что, Дубравка, — приказал он. — Припади за ковром и тихонько осматривай свою сторону и сзади, чтобы не обошли, собаки!.. Да возьми саблю мою!..
Сказав это, он отстегнул и уронил на траву свою дамасскую саблю.
Татары — тот и другой — крались по уреме берега, по-прежнему укрываясь за своими лошадьми. Они то и дело останавливались и принимались пускать в беглецов стрелы — с такой частотою, что одна стрела догоняла другую.
Андрей Ярославич как ни присматривался, а не мог высмотреть такого мгновенья, когда можно было бы поразить одного из них наверняка. Между тем надо было что-то немедленно предпринимать: оба противника стали близиться, пересекая зелёный клин и заходя в тыл. И Андрей Ярославич, выбрав миг, пустил стрелу в того татарина, что приближался справа. Он целил в плечо, которое на мгновенье высунулось из-за лошадиной морды. Стрела впилась в голову лошади. Лошадь вздыбилась. Татарин оторвался от повода, упал, а поднявшись, кинулся бежать в кусты.
Андрей Ярославич угрюмо покачал головою.
— Худо! — пробормотал он. — Остаётся одна стрела на двоих! Ну посмотрим!..
Он весь стал как сокол, выстораживающий мгновенье удара.
— Тесанём саблей, Дубрава, если что, — ободрил он княгиню. — Только ради бога, не высовывайся!..
Он понимал, что надо кончать: каждое мгновенье могли нагрянуть новые...
Мысль работала на пределе какой-то небывалой в заурядье, как бы предсмертной ясности:
«Затаиться... Подпустить... Одного застрелю... другого — саблей... Только бы, только бы ещё не наскочили! А тогда... её — ножом в сердце!» — подумал он о Дубравке.
Оба татарина давно уж сообразили, что у князя вышли все стрелы. Они бы застрелили его, быть может, если бы не боялись нарушить приказ Чагана, который запретил убивать Андрея, но велел доставить его живьём. Им не возбранялось нанести ему раненье, чтобы лишить возможности сопротивляться, но только не убивать! И потому они подкрадывались всё ближе — с тем чтобы целиться наверняка.
Одного из них уложил-таки Андрей последней, оставшейся у него стрелой!
Но оставшийся в живых татарин успел забежать в тыл и с некоторого отдаленья стал нещадно, словно бы забыв о повеленье хана, осыпать стрелами обоих — и Андрея и Дубравку.
Гибель становилась неизбежной...
Вдруг татарин, только что начавший тщательно прицеливаться, взвизгнул, подпрыгнул, словно тарантулом укушенный, и выронил лук...
Огромная, похожая на волка собака, исходя пеной ярости, рвала в клочья бешмет и мясо татарина, дорываясь до горла.
Когда наконец, на миг отшибя осатаневшего пса, татарин взметнулся на лошадь и помчался прочь, Волк всё ещё метался на коня и всадника, выхватывая кровавые клочья из бедра татарина...
Андрей понял, что нельзя терять ни одного мгновенья. «Сейчас он ещё приведёт!» — мелькнуло у него. Он схватил Дубравку на руки и бросил её на спину коренника.
— Скачи и не оглядывайся! — вскричал он. — Вон туда — на север, на север!..
— А ты?
— Ты меня погубишь и себя!.. Я тебе говорю!..
— Нет!.. — сказала Дубравка, покачав головой. — Где ты — там и я!..
И великая княгиня Владимирская уже готова была спрыгнуть на землю.
И тогда, вне себя от неистового гнева, Андрей Ярославич навесил ей такое словцо, которого годами не слыхивали от своего князя даже и доезжачие его и псари!
Выругавшись, он выхватил из-за голенища кривой засапожный ножик и подкольнул им коня, на котором сидела Дубравка.
— Держись! — крикнул он. — Держись крепче! И — на север, на север!..
Мгновенье — и на глазах князя рыжий конь, уносивший Дубравку, шумно ввергнулся в Клязьму. Ещё мгновенье — и вот он уже там, по ту сторону, на пригорке! И вот — исчезнул в лесу!..
Андрей Ярославич, озираясь, кинулся к трупу татарина, чтобы спять с него колчан, полный стрел. Он уже и сделал это, как вдруг счастливая мысль осенила его. «Дело!» — глухо пробормотал он и, ухватя убитого за ворот бешмета, пригибаясь, быстро поволок тело в густой кустарник, окаймляющий Клязьму.
Он вышел оттуда одетый во всё татарское. Не выходя уж больше на луговину, держась кустов, он татарским обычаем подсвистал коня, изловил и взметнулся в седло. Негромко гикнув над самым ухом лошади, он отдал поводья, и татарский конь помчал его к тому самому бору, где только что скрылась из глаз Дубравка.
Припадая на истерзанную собакой ногу, весь в кровавых лохмотьях, татарин рухнул плашмя перед Чаганом.
— Они пойманы, они пойманы оба — и князь и княгиня! — воскликнул татарин.
Полное надменное лицо Чагана обошла торжествующая улыбка.
— Хан! Они в горсти твоего преобладанья находятся, и тебе стоит только сжать эту горсть, чтобы схватить их!.. Мы нашли их...
И, всё более обдаваемый ужасом предстоящего ему наказания, татарин, путаясь в рассказах, поведал Чагану всё, начиная с того, как догнали они втроём Дубравку и Андрея, как двоих застрелил Андрей, и кончая нападеньем собаки и своим бегством.
— Собака! — вдруг взвизгнул Чаган. — Ты падаль, и потому псы едва и не растерзали тебя! Нет, нет, ты не монгол! Матерь твоя зачала тебя в блуде! Ты, ты...
И, внезапно бросившись на татарина, опрокинул его на спину и зубами схватил за горло. Татарин захрипел, но Чаган всё же оторвался от поверженного. Встал на ноги. Глаза его были мутны. Лицо пожелтело. Он пнул лежавшего носком узорного сапога.
— Вставай, собака, и веди нас туда, где ты оставил их! — приказал он. — Все на коней!
Царевич опустился в седло. Тысяча всадников ринулась вслед за ним — на небывалую облаву, в загоне которой метались два человека: великий князь Владимирский и княгиня его...
«Нет, — мысленно, с угрюмым злорадством, восклицал Чаган, как бы вновь видя пред собою Дубравку в тот миг, когда она, гневная, в своей золотой диадеме на гладко причёсанных волосах, в длинном, серебристого цвета платье, покидала свадебное застолье, оскорблённая его появленьем. Хотя бы и крылатый конь уносил тебя, — всё равно: эта пот рука схватит его под уздцы!..»
Чагану было неведомо, что уже схвачен был под уздцы рыжий копь, уносивший Дубравку, — схвачен волосатой рукой в засученном рукаве, тогда как другая, такая же рука перехватила руку Дубравки, стиснула и перекрутила так, что, вскрикнув, княгиня выронила короткий нож, занесённый ею над головой нападавшего...
Но это были русские руки.
Всю дорогу Невского обдавал и преследовал омерзительный, надолго въедавшийся в сукно одежды запах гари, остывших пожарищ и трупного тленья.
Навстречу гнали пленных. Женщины были связаны меж собой волосами — по четверо. Все они были в пропылённых лохмотьях, босы, и только у некоторых ноги обёрнуты были мешковиной или иной какой тряпкой и обнизаны верёвочкой.
Лениво, вразвалку восседающий на своём косматом копе, монгол ехал позади пленниц, время от времени подгоняя отстающих длинной пикой. С мужчинами — кто отставал — поступали проще: их тут же, чуть отведя в сторонку, обезглавливали саблею, приказав для того стать на колошей и нагнуть шею. В толпе угоняемых женщин, как только поравнялся с ними Александр, вдруг произошло замешательство, и, вырвавшись из толпы, в седых пропылённых космах старуха кинулась было к его стремени. Двое монголов с ругательствами втащили её обратно.
Только отъехав, Александр признал в этой измождённой и уж, по-видимому, лишившейся рассудка старухе боярыню Марфу — ту, что была постельничьей княгини Дубравки...
Невский погонял коня. Супились могучие его охранители — те, что были самим Александром и в землях Новгорода, и на Владимирщине «нарубаны», — рослые, удалые, не ведающие страха смерти, не верящие ни в чох, ни в сон.
— Срамно ехать! — ворчали иные из них, исподлобья взглядывая на человека, в которого у каждого из них был словно бы вложен кусок своего сердца. — Да что уж мы — не русские, что ли? На глазах нашего брата губят!.. Над женщинами охальничают, — а он едет себе!.. А говорили ведь, какую власть ему Сартак надо всей Землёй дал!.. С пайцзой едет: все ему подчиниться должны!.. Вот те и с пайцзою!.. Вот те и подчиниться!.. Нет, когда бы оно так, дак разве бы Ярославич наш дозволил при себе творить такое?
Ошибались они: в любой миг Невский мог бы властно вмешаться и пресечь и эти казни, и эти душу цепенящие гнусности, что вытворяло окрест, у него на глазах, всё это многоплеменное скопище, согнанное со всей Азии. Но тогда бы ему пришлось продвигаться к цели своей, то есть к ставке Чагана, черепашьим шагом. А это означало бы, что за одного спасаемого здесь, на глазах, многие тысячи таких же русских людей по всей Владимирщине будут преданы на позор, на истязанья, на смерть, ибо там сейчас, по всей Владимиро-Суздальской земле, в каждый бой сердца, в каждое дыханье его, гибнут, и корчатся, и воют в непереносимых мученьях, и повреждаются умом и мужчины и женщины, и стар и млад... Ведь приказано уничтожать «всякого, кто дорос до чеки тележной!..».
И Александр мчался на храпящем коне впереди тысячи богатырей, ибо в Орду он всегда, чего бы это ни стоило, ходил «в силе тяжкой, со множеством воев своих», — мчался, словно бы чугунными пластинами заслонив очи свои справа и слева и утупясь в гриву коня.
«Эх, Андрей, Андрей!.. — гневно и скорбно говорил он мысленно брату своему. — Ведь этакую кровь людскую зря в землю отдать! Этакое проклятье людское навлечь на весь дом наш!.. И что было послушать тебе меня? А ныне и мои силы подсёк... Теперь поди ж ты — удержи их, татаровей!.. Теперь уж влезут в Землю!.. Теперь и моё всё, что успел завершить втайне, тоже отыщут, ведь войско — не иголка: хоть разбросай его по сотням, а всё равно не укроешь, когда баскаки зарыщут по всей Земле!.. Ох, Андрей, Андрей! — всё так же мысленно говорил он, хмурясь и стискивая зубы. — Не знаю, жив ты — не жив, а попадись ты мне, — душа не дрогнет! — не стану и слова ханского ждать: сам судья тебе буду смертный, немилостивый!..»
Андрей Иванович, некогда — дворский князя Даниила, а ныне — стоящий на челе дружины Невского, осадив коня, вытянулся на стременах и встревоженно стал всматриваться в пыльную даль.
— Беда, Александр Ярославич! — сказал он. — Сила поспей на нас неслыханная!.. Подтянуть бы надо всех наших сюда!..
Они ехали с князем стремя в стремя, однако, углублённый и раздумье, Александр ничего не ответил. И воевода распорядился сам: по его знаку дружинники со всех сторон оградили князя.
Между чем полчище азиатском конницы, со сверкающими на солнце кольями, с хвостатыми белыми и чёрными значками, всё вырастало и вырастало.
С далёкого холма, окружённый своими нукерами и гонцами, взирал на всё это царевич Чаган.
Он хорошо знал, что во главе дружины своей приближается Александр, возвращающимся из Донской ставки Сартака. И Чаган был рад этому! Сама судьба посылала ему сегодня, под сабли монгольских воинов, этого опасного гордеца! После можно будет отговориться, что русские первыми начали драку, понося имя великого хана... Да и кто же в Орде нелицемерно станет скорбеть о гибели Искандер-князя?! «Такого, — говорил на совете Берке, — безопаснее иметь открытым врагом, чем исправным данником».
Берке умнее их всех. Только слишком долго, как трус, ходит он вкруг престола Джучи, дожидаясь, когда полумертвец Батый опростает престол... Если бы он, Чаган, мог, безопасно для своей шеи, посоветовать Берке, он сказал бы: «Начни с Сартака! Когда ты с ним покончишь, недолго проживёт и отец: ибо смерть любимого сына уложит в могилу и старого Бату...»
— Князь!.. Александр Ярославич! — тревожно вскричал Андрей-дворский. — Мчат прямо на нас!.. Высылал к ним трубача, махальных: махали белым, в трубу трубили, якобы не слышат, не видят, — прут!.. Боюся, не пришлось бы их рубить!
Александр поднял голову. Прищурился. Азия — воющая, гикающая — окружала дружину со всех сторон. Дворский с мольбою и ожиданьем глядел на него.
— Рубить! — спокойно приказал Александр. Сам же он не сделал ни малейшего движенья. А уж как зудела рука! До чего истосковалась ладонь по сабельной тёплой рукояти! «Развалить бы сейчас, хватить с продёргом какого-нибудь дородного бека до самой до седельной подушки!.. Нельзя!.. Ну, пускай хоть воины потешатся!..»
— Обнажайте оружие! — звонко крикнул Андрей-дворский.
И тысяча сабель сверкнула в воздухе. Александр Ярославич давно уже счёл нужным перевооружить дружину свою с мечей на сабли.
...И началась кровавая пластовня!.. Ошарашенные отпором, татары не выдержали. Сперва заметались на месте, потом опрокинулись и врассыпную и кучами понеслись вспять...
Александр воспретил преследованье.
— Уйми! — коротко сказал он Андрею Ивановичу — сказал не без тяжёлого вздоха...
Глухо ворча, будто отлив моря, принуждённого оставлять захваченную им сушу, отхлынули под свои хоругви дружинники Александра.
Как ни в чём не бывало Невский продолжал путь свой к шатру, сверкавшему на холме.
Чаган, потрясённый всем, что произошло у него на глазах, готовился было дать знак, чтобы бросить на Александра целый тумен. Однако другое чувство — жажда глумленья над этим ненавистным человеком — удержало ордынского царевича: «Пускай приблизится. Когда станет на колени, то не столь уж и высок покажется!» — подумал, усмехаясь, Чаган.
Он стал ожидать приближения Александра. Только одно странное обстоятельство удивляло Чагана: русский князь оставил позади всю свою дружину и приближался всего лишь в сопровождении трёх знатнейших воевод, — и тем не менее взбудораженные донельзя толпы татарских всадников расступались перед ним, словно вода.
Вот уже какой-нибудь десяток сажен остался до встречи... кровь так сильно прихлынула к лицу Чагана, что ворот жёлтого бешмета, застёгнутый жемчужинами, стал душить батыря; он откинул толстую шею и всё-таки вынужден был расстегнуть верхнюю жемчужину. «Как? Да разве не в «Ясе» Величайшего сказано, что князь-данник за сотню сажен должен спешиться, раньше чем предстать перед лицом повелевающего?!»
И лицо Чагана стало словно из зелёной меди.
Но в этот миг солнце сверкнуло в золотой пластине на груди Невского — и, не рассуждая, ордынский царевич спрыгнул на землю: «Пайцза повелителя!..»
Ещё немного — и Чаган преклонил бы колени перед носителем этой золотой нагрудной дощечки, выше которой уж ничего не должно было существовать для монгола, да и не существовало. Что люди — целые царства повергались во прах пред этой золотой пластинкой величиною с ладонь, которая несла волю монгольского императора, воплощённую в изображении головы уссурийского тигра и в угловатых уйгурских письменах.
Однако Александр успел предотвратить коленопреклонённо Чагана. Он сам спрыгнул наземь, быстро приблизило! к Чагину и радушно-дружеским движеньем, слегка докоснувшись до плеч царевича, не допустил ею склониться пред ним.
Однако свита Чагана и все, кто толпился вкруг него, опустились на колени и лбом коснулись земли.
«Ими Менгу да будет свято! Кто не послушается, тот потерпит ущерб, умрёт...» — стояло на золотой пластине.
Андрей-дворский, ужо успевший обежать покои берендеевской усадьбы Невского, усадьбы, разграбленной и вен чёски осквернённой, попытался было не допустить Александра Ярославича пройти в спальные покои, ибо там валялись поруганные тела его невестки, княгини Натальи, супруги Ярослава Ярославича, и её двоих девочек, тела которых ещё не успели спрятать.
Судьба самого Ярослава Ярославича была ещё никому не известна — жив он или нет. Но если только он остался жив и попался в руки ордынцев, то лучше было бы ему умереть: ибо Татары, конечно, знали, что Ярослав Ярославич прислал в подмогу своему брату Андрею три тысячи ратников. А тогда иглы, загоняемые под ногти, были бы ещё самой лёгкой казнью!..
Александру стало уже известно, что сперва Неврюй намеревался обойти стороною личное поместье Невского, чтя охранную грамоту Батыя. Но какой-то наводчик из своих русских — предстояло ещё дознаться, кто именно, — сообщил ханам, что в усадьбу Невского во время восстания стекались воины и свозилось оружие и что туда укрылось и семейство князя Ярослава Ярославича, который помогал Андрею в его злоумышлениях на Орду.
Тогда-то царевич Чаган, как представляющий в Золотоордынском улусе лицо самого великого хана, на свой риск и страх приказал Неврюю вторгнуться в тарханные владенья Александра и предать их мечу и пожару.
...Осколки цветных стёкол, рассыпанные по выкладенному слоновой костью паркету, который был нагло загажен, а местами выгорел, ибо вторгшиеся раскладывали костры под котлами прямо во дворце, — осколки цветных стёкол звонко лопались и хрустели, дробимые твёрдой поступью Александра.
Андрей-дворский перед самым порогом спальни ещё раз забежал перед Александром, остановил его и сказал молящим голосом:
— Князь! Александр Ярославич! А не надо тебе ходить туда!.. Пошто будешь душу свою вередить, очи свои оскорблять? Зверски умерщвляли, проклятые!..
Невский отодвинул его со своего пути, распахнул дверь и вступил в свой спальный чертог...
...Когда Ярославич покидал осквернённый дворец, то не одни только сострадающие взоры чувствовал он у себя на лице. Воровские взгляды татарских соглядатаев из числа уцелевших бояр Андрея впивались в это грозно-непроницаемое лицо; подлое ухо татарских слухачей и доносчиков жадно обращено было в сторону князя: «А что-то сделает он теперь? Что скажет?»
Невский вышел сквозь обуглившуюся дверь на садовое крытое крыльцо. На мгновенье приостановился, глубоко вздохнул...
— Да-а! Похозяйничали!.. — сказал он. — Вот что, Андрей Иваныч, — обратился он вслед за тем к дворскому. — Хоронить будете без меня; всё управишь тут и приедешь ко мне во Владимир... Да распорядись, чтобы копи были в седле!..
Отдав этот приказ, Невский сошёл в сад, направляясь к озеру. И ни одна душа не посмела за ним последовать...
«...Всё так же, всё так же волны с тихостью брег целуют!» — вспомнилось ему из какой-то давно прочитанной книги, когда он стоял на самом обрыве и, осыпая носком сапога комья земли, смотрел на лоснящуюся под солнцем гладь родного озера. «Всё — то же, только вот паруса не видать ни единого... да, быть может, никогда уж и не взбелеет!.. Вот и берёзка, под которою сиживали мы, под которою испили из одного туеска с ней, с Дубравкой!.. А её уже нет!.. Где она? Что с нею? Какой ордынец возглумился над нею, где валяется, задавленная сально-кровавыми пальцами татарина?.. Что в том, ежели и узнаешь! Видел ведь, только что, осквернённое и ножами исполосованное тело Натальи и ребятишек её!.. Князь великий Владимирский!.. А может быть, и жива ещё, быть может, среди прочих, так же связанная за волосы, серая от пыли, во вретище, не узнанная мной, попалась мне по дороге, когда я мчался сюда!.. А возможно, что этот толсторожий бугай Чаган таит её где-либо в кибитке своей, — что-то уж очень он глумливо смотрел на меня, когда кумысничали у него в шатре!.. А может, он её к Берке отправил в дар, — они же ведь в добрых с ним!»
И Александр содрогнулся, представив на миг нежно-розовое и такое трогательное в своей девической чистоте ушко Дубравки, в которое, среди кромешной войлочной тьмы кибитки, Верке, этот старый сквернавец, станет нашёптывать свои ордынские мерзости...
...Уже давно, вдыхая полной грудью свежину озера, дабы хотя немного освежела душа, Александр стал чувствовать, сперва не очень беспокоивший его, тяжёлый запах, изредка наносимый ветерком. Когда же он отошёл от воды и захотел постоять возле фарфоровой берёзки, запах здесь стал ощутительнее, и теперь у него не оставалось никаких сомнений, что это — запах трупа.
Он заметил, что в ту же сторону густо летели и чёрные рои мух.
Князь сделал несколько шагов и раздвинул кусты. На лужайке, где было поместиться одному человеку, раскинуто было обезображенное, в клочьях окровавленного платья простолюдинки, тело пожилой женщины, уже подвергшееся тленью...
Князь отступил. Ветви кустов с шумом сдвинулись... И, зная, что здесь его не увидит никто, Александр, охватя огромный лоб свой, простонал покачиваясь:
— Боже мой, боже мой!.. И за что столь тяжко меня наказуешь?..
ЧАСТЬ 3
Много воды утекло, а немало и крови! Стоял ноябрь 1257 года.
...Будто бор в непогодь, и шумит и ропщет Новгородское вече.
— Тише, господа новгородцы! — возвышает голос свой Александр. — Меня ведь всё равно не перекричите!..
Умиротворяющим движеньем, подступя к самому краю вечевого помоста, князь подъемлет над необозримо-ревущим толпищем свою крепкую ладонь, жёсткую от меча и поводьев.
Далеко слышимый голос его, перекрывающий даже ропот новгородского великовечья, прокатывается до грузных каменных башен и дубово-бревенчатых срубов, с засыпом из земли и щебня, из коих составлены могученепроломные стены новгородского детинца — кремля. Он ударяется, этот гласу боевой трубы подобный голос Невского, об исполинские белые полотнища стен храма Святой Софии, и они дают ему отзвук. Он даже и до слуха тех достигает, что толпятся на отшибе, у подножья кремлёвской стены; да и на самой стене, под её шатровой двухскатной крышей, да и на грудах щебня и на кладях свежеприпасённого красного кирпича, да и, наконец, на теремных островерхих и бочковидных крышах, так же как на кровлях всевозможных хозяйственных строений и кремля. И кого-кого только здесь нет! Тут и вольный смерд — землепашец из сёл и погостов, те, что тянут к городу; и пирожники, и сластёнщики с горячим сбитнем; и гулящие жёнки-торговки с лагунами зелёного самогонного вина, приносимого из-под полы, ожидающие терпеливо своего часу, хотя и люто преследует их посадник и выслеживают вечевые подвойские и стража. Однако и добрые, заботные жёны тоже пришли сюда, надеясь, быть может, углядеть в этом толпище своего и как-нибудь да пробиться к нему, а нет — так подослать продиристого в толпе сынишку, дабы рванул за рукав тятю — кормильца и поильца семьи — и как-нибудь уволок его отсюда, если, как нередко бывает, возгорится побоище.
Виднеются кое-где среди этой толпы и островерхие чёрные скуфейки монахов и послушников из Антоньевского и Юрьева монастырей.
Множество огольцов-ребятишек лепится на стенах, на кладях кирпича, на кровлях, и уже вечевая стража, дворники и подвойские, охрипнув, перестали их прогонять.
«А и пёс с ними! — решает один из биричей. — Пускай привыкают: добрые станут вечевники — робеть не станут перед князьями, перед боярами!..»
От голоса, проникнутого спокойствием, и от простёртой руки Ярославича вече стихает.
— Ишь ты ведь! — полу сердито-полулюбовно гудит, взирая на Александра, стоящий близ вечевых ступеней чернобородый, но уж с серебряной проволокой седины в бородище, богатырь-новгородец в разодранном на груди кафтане, ибо уж кое-где хватались меж собою за грудки. — Ишь ты, ведь выкормили себе князя: уж и на самех на нас, на господина Великого Новгорода, навыкнул зыкати!..
Впервые на протяжении веков великий вольнолюбивый город и его князь — князь, которому и впрямь от младенчества этот город был как бы суровый и многоликий дядька-пестун, взрастивший и вскормивший его, — впервые они стояли под стать друг другу, и не только стояли вровень, но уж временами сильно начинал перебольшивать князь. И тогда, зачуяв это, яростно дыбился, и рычал, и обильно уливал кровью землю, раздирая когтями междоусобицы своё собственное тело, древний и грозный город — город-республиканец, многобуйные Афины Руси!..
Трудное будет сегодня вече. Давно уж не бывало такого. Мирно, видать, не разойдутся. Ибо неслыханное предстоит дело: самому на себя господину Великому Новгороду ярмо переписи ордынской взвалить, иго злой дани татарской надвинуть. С тем ведь и приехал Ярославич. Ну что ж! Пускай хоть и великий князь, пускай и с послами татарскими приехал, а ведь тою же дорогою и отъехать может, если только господину Великому Новгороду зазорно будет голову свою, доселе никому не поклонную, под ханский дефтерь подклонить. Боялись ли они хоть кого-либо на свете, господа новгородцы? Да никого! Только бы городу всему — и с пригородами, и с младшим братом Псковом — за одно сердце быть. Однако и сегодняшнее вече, как многие прежде того, «раздрася на ся», раскололось. И вот что диво: на сей раз бояре да купцы именитые — пояса золотые, — те не против князя, а на его руке, а те, кто, бывало, валом валил за него, меньши́е люди, простая чадь, — они и слышать не хотят, вопль подымают на князя, на татар.
Сермяги, полукафтанья, армяки, полушубки у всех накинуты на одно лишь плечо — на левое: древняя русичей привычка: правая рука чтоб к мечу, к бою — без помехи! Цветные нагрудные петли кафтанов — длинные, обоесторонние — у многих уже порасстёгнуты: добрый молодец новгородский, да и крепкий мужик-подстарок, а короче сказать — любой матерой вечник, — он уж расправляет на всякий случай — могутные свои плечушки!
Суконные шапки с косыми отворотами, пуховые шляпы, стёганые яркие колпаки, отороченные мехом, — у одних натянуты по самые уши, а у других даже за пазуху спрятаны: не потерять бы, когда по-доброму не уладятся. А где ж — по-доброму?! Уж слыхать в народе: богачины пузатые — они сегодня из-за того по князю по Александру велят кричать клевретам своим, что по нраву им татарская раскладка пришлась: татарин поголовную дань требует, одинаковую с любого, — богатый ты или бедный: попал в перепись — и плати! — не по достатку! Вот они и согласны, купцы, бояре: себе — легко, а меньшим — зло!.. Тут им и господина Великого Новгорода не стало, ни дома Святой Софии, и нет от них крику, чтобы на татарина всем народом подняться: боятся животы свои разорить, над мошной трясутся!.. Переветники, изменники Великому Новгороду!
Несмотря на свежий ноябрьский ветер, дующий с Волхова, без шапки стоит, студя большое чело и возлысую, седую голову, посадник Михайла Степанович.
Да и все они, кто сидит на уступчатых скамьях вечевого помоста, в своих лоснящихся на солнце меховых шапках: и тысяцкий Клим, и старые посадники, и княжие бояре, и бояре владычные, и старосты всех пяти концов новгородских, и купецкие старосты иванские, — все эти именитые господа, вятшие мужи новгородские, они с поклоном снимают головные уборы, как только выйти им на край помоста хоти бы и с кратким словом к господину Великому Новгороду.
Один только князь не сымает во время речи свою соболью, с парчовым золотым верхом, круглую шапочку: ну, так ведь князья — они ж народ пришлый, не свой, не новгородцы. Да и шапка соболья, златоверхая, — то́ им как бы вместо венца: такую князь, он и в церкви не сымает... Купечество, пояса золотые, — на скамьях же, с боярами наравне.
Вот Садко, гость богатый, повыставлял в толпе своих молодцов, во главе с ключником своим, городским, а сам как ни чем не бывало, — будто и люди те не его, — сидит наравне с боярами на скамье вечевого помоста, сцепив руки, унизанные перстнями, смежив ресницы, и словно бы не слушает, что говорит князь. А между тем зорко всматривается из толпы ключник гордеца купца, как сцепляются у хозяина пальцы, и зависимо от того подаёт знак своим — либо вопить и горланить, либо угомониться.
А вот и старый резоимец, кровавый нетопырь-кровопийца, ростовщик-боярин из роду Мирошкиничей, — он тоже здесь, под защитою наёмной своей ватаги — боярчат, прокутившихся и залезших к нему в неоплатные резы, или же купцов удалых, у которых товар пошёл тупо, и вдались ростовщику; под защитою, наконец, и бесчисленной челяди своей, да и всяких продажных горланов и проходимцев.
А те, что мятутся, вопят и ропщут пред ними, внизу, на вечевой площади, меж стеной кремля и храмом Святой Софии, — они как бы опутаны все незримою мотнёю исполинского невода и мечутся, влекомые ею, а им кажется, что своей собственной волей. И крылья этого огромного незримого невода — они там, на помосте, в этих боярских да купеческих, унизанных перстнями неторопливых и умелых руках.
Однако бывает, что и затрещит, что и лопнет вдруг эта народообъемлющая мотня боярского невода, и ринется оттуда народ, и тогда — горе, горе владыкам великого города, а беда и самому городу!
Правда, не только по боярам, по верховодам, по золотым поясам стаивали на вечах. Каждое вече расстанавливалось по-разному: глядя по тому, какое дело вершилось, в какую сторону качнулся народ.
Выстраивались: Торговая, Заречная сторона, онполовцы, против Софийской или Владычной стороны, и тогда казалось, будто и самые души, самые помыслы новгородцев навеки развалил на два стана этот жёлтый, широкий, даже и на взгляд-то студёный Волхов.
Выстраивался и конец против конца, хотя бы и одной стороны, одного берега они были. Стаивали друг против друга и по улицам, и по цехам. Сплошь и рядом, даже и не враждуя, особым станом становились на вече: мельники и хлебопёки, кожевники и сапожники, плотники и краснодеревцы, серебряники и алмазники, каменные здатели и живописцы, плиточники и ваятели-гончары, корабельники, грузчики, портные и суконщики, железники и кузнецы, бронники и оружейники, рудокопы и доменщики, мыльники и салотопы, вощаники и медовары.
Бывало, что одни улицы стояли против князя, а другие — за князя. Бывало, что ежели не переставали дожди на жатву, на уборку хлебов и хлеб гнил на корню, то всем Новгородом спохватывались, что ведь архиепископ-то, владыка, поставлен неправедно, на мзде, — знать, за это и наказует господь дождями, — и тогда целым вечем валили на владычный двор, и схватывали архиепископа, и низводили с престола, и выдворяли куда-либо в дальний монастырь, «пхающе за ворот, аки злодея», а на его место возводили другого.
Хаживали, вздымались не только улица на улицу, колец на конец, бедные против богатых, а и целых два веча схватывались между собою, и валили оба на Великий мост, в доспехах, при оружии и под стягом. Тут и решали, чья большина!
...Жили на юру, видимые ото всех концов мира. Торговали. Переваливали непостигаемое умом количество грузов между Индией и Европой. Завистное око немца, шведа, датчанина пялилось в кровавой слезе на неисчислимые богатства Новгородской боярской республики. Но уж сколько раз отшибали новгородцы хищную лапу, тянувшуюся с Запада. Сорок тысяч конницы, сто тысяч пехоты подымались одним ударом вечевого невеликого колокола, одним зовом посадника!.. А потом, отразив нападенье, распускали войска, и опять вольнолюбивый и многобуйный город начинал жить своей обычной жизнью.
Мирная, трудовая, торговая, зодческая и книголюбивая жизнь прерывалась то и дело заурядными набегами и походами новгородских ушкуйников — и на восток и на запад. Что норманны!.. Да разве когда-нибудь досягали эти прославленные викинги Севера до Оби и Тобола?! А новгородские молодцы и там возложили дань, и там рубили крепкие острожки, и оттуда волокли на санях и нартах соболя, горностая, песцов и лисицу!..
Вот молодцов новгородских порубали где-то в Дании. А вот в Хорезме сгинули, в Персии, в Армении — где-то у озера Ван. «Что ж, — решали отцы города, — без потерь не прожить! А молодым людям погулять потребно! Пускай привыкают! Чтобы имя господина Великого Новгорода стояло честно и грозно!»
Трудились, строили, торговали и вечевали, свергали с мостов, изгоняли князей и вновь зазывали... Выгорали пожарами — страшно и непрестанно, так что и по Волхову гуляло пламя, и лодки, и корабли сгорали; вымирали от голода, от чумы, строили скудельницы, намётывая их трупами доверху... С пеной у рта рядились о каждой мелочи, о каждом шаге с призываемым князем: «А на низу тебе, княже, новгородца не судити... а медовара и осетринника тебе, княже, на Ладогу слать, как пошло... а свиней диких тебе, княже, бить за шестьдесят вёрст от Новгорода...» — и прочее, и прочее, и прочее!.. Рубили города по Шелони, по Нарве, по Неве и на Ладоге — против шведа и финна. Рыскали парусом и по Балтике, и по Студёному Дышащему морю... Подписывали миры, заключали договора: целовали крест и привешивали свои «пецяти» — от всех пяти концов, и от «всего Великого Новгорода». На изменников, на переветников клали «мёртвые грамоты» в ларь Святой Софии, и уж не было тогда такой силы на всей земле, которая спасла бы приговорённого!..
Страшно было жить в Новгороде, когда недобром кончалось большое вече и начинала бушевать внутригородская усобица. Замирал в страхе, хотя и знал, что безопасен под сенью торговых договоров, какой-нибудь Тилька Нибрюгге или Винька Клинкрод, когда мимо острожного забора готского или немецкого двора в Заречье с рёвом, с посвистом неслось усобное полчище к Волхову.
И все — и свои и чужие — вздыхали облегчённо, когда наконец в мятеже, в распрях, а то и в крови рождалась вечевая грамота:
«По благословенью владыки... (имярек) се покончаша посадники ноугороцкие, и тысяцкие ноугороцкие, и бояре, и житьи люди, и купцы, и чёрные люди, все пять концов, весь государь Великий Новгород, на вече, на Ярославлем дворе...»
Город, город! Быть может, и Афины, и Рим, и Спарта, эти древние республики-города, и могли бы поспорить с тобой, но только где ж, в каком городе-государстве был ещё столь гордый, на полях сражений в лицо врагам кидаемый возглас:
— Кто против бога и Великого Новгорода?!
Сперва Невского слушали, не перебивая, не подбрасывая ему встречных и задиристых слов. Только всё больше теснились и напирали. Теперь вечевой помост из свежего тёса, — где сидели посадники: степенный, то есть ныне правящий Новгородом — Михайла Степанович, и все старые, затем — старосты концов и всевозможные «лучшие люди», и, наконец, где стоял князь, — помост этот в необозримом море толпы казался словно льдина, носимая морем. Вот-вот, казалось, хрупнет и рассыплется на мелкие иверни эта льдина. И уже то там, то сям зловеще потрескивала она под всё нарастающим напором.
— Господа новгородцы! — заключал своё слово князь. — Послы татарские — здесь, на Ярославлем дворе. Послы ждут... Граждане новгородские, придётся ятися по дань. Позора в том нет! Не одним нам! Вся Русская Земля понесла сие бремя... Гневом господним, распрею нашею!.. Тому станем радоваться: Новгород и тут возвеличен: по всей Русской Земле татарские волостели наставлены, баскаки, — своею рукою во всякое дело влезают, своею рукою и дани — выходы — емлют, а к нам в Новгород царь Берке и великий царь Кублай — они оба согласны баскаков вовсе не слать... Сами новгородцы, с посадником, с тысяцким, с кончанскими старостами своими... с послом царёвым дома свои перепишете!..
Грозный ропот, глухие, невнятные выкрики, словно бы только что очнувшегося исполина, послышались из недр неисчислимого толпища. Сильнее затрещали столбы и ко́зла помоста.
— Чего, чего он молвит?! — послышались гневно-недоумённые возгласы, обращаемые друг к другу. — Кто это станет нас на мелок брать?!
— Ишь ты! Поганая татарская лапа станет нам ворота чертить!..
— Ну князь, ну князь, — довёл до ручки, скоро на паперти стоять будет господин Великий Новгород!.. Скоро мешок на загорбок, да и разбредёмся, господа новгородцы, по всем городам корочки собирать!.. Э-эх! — взвизгнул кто-то и ударил шапкой о землю.
Очи Невского зорко вы хваты пали из гущи народа малейший порыв недовольства. Но не только глаза, а и сердце князя видело сейчас и слышало всякое движенье, всякий возглас последнего, захудалого смерда среди этого готового взбушевать скопища.
— Гражда́не новгородские! — голосом, словно вечевой колокол, воззвал Александр.
И снова всё стихло.
— Друзья мои! — продолжал он скорбно и задушевно. — Да разве мне с вами не больно?! Или я — не новгородец?..
И видит Александр, что коснулся он самых задушевных струп людского сердца, когда сказал, что и он — тоже новгородец, и вот уж, кажется, не надо больше убеждений и речей, остаётся только закрепить достигнутое.
— Господа новгородцы! — говорит он. — Я Святой Софией и гробом отца моего клянусь, что ни в Новгороде, ни в областях новгородских баскаков не будет, ни иных татарских бояр!
— Ты сам — баскак великий Владимирский!.. Баскачество держишь, а не княженье!.. — раздаётся вдруг звонкий, дышащий непримиримой враждой голос.
— Улусник!.. — немедленно подхватывает другой.
Будто исполинской кувалдой грянул кто-то в голову всего веча. Оно застыло — ошеломлённое.
И на мгновенье Александр растерялся. Случалось — разное вымётывало ему из бушующих своих пучин тысячеголовое вече: грозили смертью, кричали «Вон!», попрекали насильничеством и своекорыстием, кидались тут же избивать, да и убивали его сторонников, но столь непереносимое оскорбленье — «баскак Владимирский!» — оскорбленье, нацеленное без промаха, — оно оледенило душу Александра. Тысячи слов рвались с его мужественных уст, но все они умирали беззвучно в его душе, ибо он сам чувствовал немощность их против нанесённого ему оскорбленья. Лучше было молчать...
Ещё немного, и всё бы погибло. Уж там и сям раздались громкие крики:
— А что, в самом деле?! Эка ведь подумаешь: послы царёвы! Да пускай он тебе царь будет да владимирским твоим, а нам, новгородцам, он пёс, а не царь, татарин поганой! А коли завтра нам косички татарские заплетут, по-ихнему, да в своё войско погонят, — тоже соглашаться велишь?!
— Граждане! — послышался чей-то голос. — Да что там смотреть на них, на татар?! Схватаем их за ногу поганую, да и об камень башкой!..
— Ишь защитник татарский! — кричали из толпы Александру. — Знаем, чего ты хочешь: суздальским твоим платить стало тяжко, раскладку хочешь сделать на в сох!..
— Державец!
— Самовластец!
— Мы тебе не лапотники!..
— И нам шею под татарина ломишь?!
Если бы ещё немного промолчал князь, тогда бы всё вече неудержимо выплеснулось вон из кремля и хлынуло бы обоими мостами, и на плотах, на лодках, на Заречную сторону, на Ярославль двор, к дворцу Александра — убивать ордынских послов...
И в этот миг вдруг явственно представилось Александру другое такое же вече, здесь же колыхавшееся и ревевшее, много лет тому назад, в самый разгар батыевщины, в сорок первом году. Немцы тогда взяли Псков, и Тесово, и Лугу, и Саблю. И господам новгородцам подпёрло к самому горлу! И подобно тому, как боярин Твердило отдал Псков немцам, а сам стал бургомистром, — так и среди новгородцев пузатые переветники, ради торговли своей с немцами, мутили и застращивали народ и склоняли отпереть ворота магистру. Александра не было на тот час в Новгороде: его незадолго перед тем новгородцы изгнали, показали ему путь от себя, чуть не на другой день после Невской победы, заспорив с князем из-за сенокосов — вечный и по сие время спор; худо с сеном у Новгорода: болота, кочкарник, сенокосов нет добрых, а того понять не в силах, что не зачем князю и конницы держать, коли так!..
И вот, когда уже весь народ новгородский взвыл, и закричал Александра, и стал грозить владыке, боярам, — тогда вымолили послы новгородские, во главе с владыкою Спиридоном, сызнова Александра к себе на княженье.
И тогда тоже, перед походом на немцев, зазвенел вечевой колокол — колыхалось и ревело тысячеголовое Новгородское вече... Но разве так, как сейчас?
На радостях первой встречи новгородцы тогда, словно дети, выкрикивали своему князю все свои жалобы, обиды, поношения и ущербы, претерпенные за это время от немцев.
— Подпёрли — коня выгнать негде! — кричали ему.
— В тридцати вёрстах купцов разбивают!..
— Бургомистров наставили!..
— Жёнок позорят!
— Церкви облупили!
— Гайтан с шеи рвут!
— Со крестом вместе!
— А и с головой!..
Н, наконец, как бы в завершенье всех этих жалоб, послышался тогда укоризненно-ласковый, словно бы ото всего веча раздавшийся голос:
— Что долго не шёл?!
— Да ведь, господа новгородцы... сами ж вы меня... — начал было он, смущаясь.
Но и договорить тогда не дали: бурей негодующих и пристыженных голосов крикнули в ответ:
— Того не вспоминай, Ярославич!..
— Забудь!.. Тому всему — погрёб!
...Так было в то вече, здесь же, у этих же исполинских белых полотнищ храма Софии! Так было, когда он был нужен им до зарезу, ибо бронированное рыло немецкой свиньи за малым не соткнулось со злою мордой татарского коня вот здесь, на берегах Волхова!.. Уж хрипел белым горлом господин Великий Новгород, ибо шведский герцог с финского берега, а рыцари Марии, упёршись стопой в Юрьев, круто затягивали на этом горле петлю, да и затянули бы, когда бы он, Александр, не обрубил — и вместе с лапой, с когтями!.. Иное неслось тогда к нему с этой площади, когда стало ведомо, что магистр рижский уж и фохта Новгороду подыскал из ратманов здешних, и что вечу не быть, и посаднику не быть, и что колокол вечевой будет звенеть на кирке немецкой, что Святую Софию либо развалят на кирпичи, либо снимут верхи и переделают в ратушу!..
Помнят ли они, как, отталкивая друг друга, иные из этих же вот самых новгородцев тянулись тогда к нему, чтобы хоть только до плаща княжеского коснуться?! Нет! Не помнят ничего! Всё забыто.
Александр гордо поднял голову. И сам собою пришёл столь долго ненаходимый ответ.
— Да-а... немало и я утёр поту за Великий Новгород! Немало ратного труда положил за вас, за детей ваших!.. Должны сами помнить!.. И вот — выслужил!.. Ведь экое слово изрыгнул на меня некто от вас... стыжуся и повторить! Что ж, стало быть, заслужил!.. С тем и прощайте, господа новгородцы!.. Спокоен вас оставляю: ни от севера на вас, ни от запада не дует!.. Не поминайте лихом!..
И, произнёсши эти слова, Невский твёрдо пошёл к боковому спуску вечевого помоста.
Всё вече, словно ударом бури, накачнулось к помосту. А те, что стояли поближе, ринулись преградить ему путь.
С вечевых скамей поднялись в тревоге и степенный посадник, и старые все посадники, и тысяцкий.
Посадник Михаил Степанович, поворотясь к народу, как бы в беспомощном призыве простёр обе руки свои. Затем он повёл ими в сторону уходившего князя: дескать, граждане новгородские, да что ж это такое, да помогайте же!.. Седая борода его тряслась; казалось, он не в силах был слова произнести.
Из толпы, подступившей к боковому крылечку, послышались крики:
— Княже! Господь с тобою! Что удумал?..
— Не пустим, князь!
— Нет на то нашей воли!..
— Кто князя обидел?! Камень тому мерзавцу на шею, да и в Волхов.
— Вернись, Олександра Ярославич!.. Нет тебе ворогов!..
Александр, нагнув голову, не слушая ничего, приближался к ступеням, чтобы сойти на землю. Вот он поставил ногу на первую ступень, на вторую... ещё немного, и ступит на землю...
— Ребята! — вдруг выкрикнул отчаянно мужик в белой свитке, без шапки. — Пускай по головам нашим ступает, коли так!..
И, вскричав это, он кинулся под нижнюю ступеньку и лёг, лицом вверх, раскинув руки.
Александр остановился: ему надо было или наступить на лицо, на грудь этого человека, или перешагнуть через него.
Прямо перед собой он видел яростно молящие лица других — таких же, как тот, что кинулся ему под ноги.
И он услыхал за собою голос посадника:
— Князь, Олександр Ярославич!.. Да ведь то какой-то безумец вскричал... безумному прости!..
Обойдя Александра и спустясь на нижний приступок, посадник оборотился к Невскому, снял шапку и, низко поклонясь, громко и торжественно произнёс:
— Ото всего господина Великого Новгорода: князь, отдай нам гнев свой!..
Сперва, по возвращении князя на вечевой помост, его слушали, не перебивая. И с неотвратимой явственностью Александр представил затихшему вечу всю неизбежность и ордынской переписи в Новгороде, и ордынской дани. Закончил он так:
— Господа новгородцы, дань в Орду — неминучая!.. Зачем кичиться станем своею силой чрезмерно? Вспомните, какие царства ложились под стопою завоевателей! В пять дней Владимир взяли. Да и Суздаль — в те же самые дни. За один февраль месяц — помните? — одних городов только четырнадцать захлестнули!.. Сквозь Польшу проломились. В немецкую державу вторглись, рыцарей поразили. А в Мадьярии?! И войско и ополченье, чуть не во сто тысячей, истребили все, до единого. Короля Бэлу хорваты укрыли. После побоища под Лигницей — ведь слыхали, — где Генрих пал... Не худые воины были. И кованой рати, конницы панцирной было там не тысяча и не две!.. А что же? — после побоища того Батыю девять мешков рыцарских ушей привезено было!.. И не оба уха у мертвецов отрезали, но только правое одно: для счёту!..
Александр остановил речь. Падали редкие влажные хлопья снега. Народ молчал... И вот опять тот же звонкий и дерзкий голос выкрикнул:
— Ничего!.. Пускай!.. У нас в Новгороде лишних у ей довольно — клевретов твоих!..
Александр кинул оком в толпу. Теперь он рассмотрел крикуна: хрупкий, но подсадистого сложенья, желтоволосый и кудреватый добрый молодец, в валяной шляпе пирожком, стоял в толпе, откинув голову, и, прищурясь, дерзко смотрел на князя, окружённый своими сторонниками, которые, как сразу определил князь, даже и подступиться не дали бы никому чужому к своему вожаку.
Князь вспомнил, кто это был: это был Александр Милонег, из роду Роговичей, староста гончаров и ваятелей, работавших на владычном дворе и в прочих церквах.
У владыки Далмата он его и застал однажды, когда художник, почтительно склонив голову, принимал указанья архиепископа касательно выкладки мозаикой поной иконы...
Александр Ярославич простёр руку в сторону старосты гончаров и, глядя на него, сурово ответил:
— Нет, Рогович, ты ошибаешься! Зачем мне, новгородцу, клевретами в своём городе обставляться! А вот ты зачем — новгородец же! — подголосков своих этакое количество с собою приволок на вече?
И едва произнёс он эти слова, как сразу они отдались довольным, радостным гулом среди сторонников князя. Особенно радели, на этот раз за князя, Неревский колец, где больше купцы, а также Торговая сторона, заречники. Купцы — особенно те, что с Востоком торговали, — ещё при дедах и прадедах Ярославича постигли на своём горьком опыте, сколь опасно дразнить и гневать суздальского великого князя: чуть что — сей час перехватит Волгу, Тверцу, закроет доступ и низовскому, и булгарскому, и сибирскому, и китайскому, и кабульскому гостю; да и купцов самих новгородских переловит — и по Суздальщине, и по волокам, и в Торжке, да и в темницу помечет с земляным засыпом. Нет, уж лучше ладить с ними, самовластцами суздальскими!.. И ныне ведь чего этот хочет Ярославич? да только, чтобы от разоренья татарского малой данью город спасти!.. Так чего ж тут существовать, чего ж тут против князя кричать купцу или боярину?! Другое дело те вон: голота, босота, да худые мужики — вечники, да ремесленники, да пригородный смерд — огородник, да неприкаянные ушкуйники! Им что терять!.. Пожитков немного!.. А головы им не жалко. Эти и на татар подымутся! А ведь слыхать, что верхних людей — купцов, бояр — татары в живых не оставляют, а ремесленнику — ему и в Орде хорошо... как попу: убивать их не велено...
И Торговая сторона, Неревский конец весь — они шибко кричать стали за князя.
Однако и простой люд сильно подвигнулся за Ярославича после того, когда не раз и не два он зычным голосом возвестил:
— Друзья новгородцы!.. Да ведь то возьмём во вниманье: сие — не порабощение нам, но только — откуп!.. Не порабощенье, а откуп!
В толпище доброжелательно загудели. Однако выкрикивали и другое.
— И без того нало́га тяжкая на товары! — крикнул опытный горлан-вечник, со спиною как деревянная лопата, нескладный мужик, именем — Афоня Заграба. — Каждый, кому не лень, берёт с товаров!.. И владыке — от торгу десятая доля, и от всякого суда — десятую векшу, и на князя! Всем надо, всем надо: кому что тре́бит, тот то и тере́бит с работного человека, с ремесленника, — горестно и насмешливо воскликнул он. — А тут ещё татары станут каждый товар тамжити!..
Толпа зашумела.
Александр Ярославич понял, что надо вмешаться, и нашёлся ответить шуткою, до которой столь охоч был новгородский вечник.
— Что говорить! — сказал князь. — Добро там жити, где некому тамжи́ти!..
Послышался одобрительный смех.
— Верно! Верно!.. — раздались голоса.
Александр добавил:
— Знаю: тяжко. Налоги, дани, поборы — лучше бы без того. А только где ж, какая держава стоит без того? Не слыхивал!..
И княжое слово опять взяло верх.
Но и противники его не унимались. Опять всё чаще и чаще стали раздаваться из толпы выкрики и жалобы:
— Пошто хлеба не даёшь новгородцам с Низовья? Слыхать, в Татары весь хлеб гонишь!..
— Голодуем, княже! Обезножели, оцинжели!.. Ребятишки в брюхо растут!..
— К соли подступу нет — за две головажни куну отдай! Куда это годится?
— А хлеб? Осьминка ржи до гривны скоро дойдёт!
— Богатинам пузатым — им что? Не чутко!.. Купцы да бояре — большие люди — оборони господь!
— Ты бы так сделал, как при Михайле-князе, при посаднике Водовике: тогда селянину добро было. На пять лет льгота была смердам не платить!..
Невский нахмурился: этот выкрик о сопернике его отца, о князе Михайле Черниговском, и о посаднике Водонике мало того, что был ему крайне неприятен, — он показывал, что враждебные ему силы — сторонники князей Смоленских, Черниговских, а и купцы западной торговли опять осмелели.
Насторожились и посадник и тысяцкий. Расторопнее задвигались, беспокойно засмотрели и вечевые служители биричи, и управлявшие ими — подвойские.
Вечевой дьяк со своими двумя помощниками, вечевыми писарями, устроившимися на ременчатых складных стульях под рукой посадника Михайлы, тоже принял какие-то свои чрезвычайные меры, дабы встретить надвигающуюся бурю во всеоружии. Он что-то шепчет на ухо и тому и другому из писарей.
На коленях как того, так и другого писаря поставлен прикрывающий колени невысокий, из некрашеного дерева, крытый ящик, с покатой кпереди столешницей. В этой столешнице, на верхней кромке, врезана чернильница — глиняный поливной кувшинчик. В правом углу, на той же кромке, из круглого отверстия белеется усатый пух гусиных перьев, очиненных для писания. Перед лицом каждого из писарей, упираясь нижним обрезом в кромочку на доске, лежит по тетради из выбеленной, как бумага, телячьей кожи, — пергамент, телятинка.
Ни тот, ни другой писец не смеют занести что-либо в тетрадку, покуда вечевой дьяк не скажет, что именно. Телятинка до того дорога, что сплошь и рядом предпочитают соскоблить старую запись, чтобы нанести новую. А потом и эту соскоблят, когда придёт час ещё что-нибудь записать...
Однако тот, что сидит поближе к посаднику, — писарь, в синей скуфейке, сильно выцветшей, в стёганом ватном подряснике, длинноволосый, — не дожидаясь дьяка, заносит в свою тетрадку какие-то записи.
Его все знают в Новгороде: это пономарь церкви Святого Иакова, Тимофей Локоток, уж более десяти лет — самочинный, без благословенья владыки, как бы непризнанный летописец великого города. Ему и пергамента не дают — покупает за свой счёт, принимая иной раз за это жестокую трёпку от своей пономарихи. Чтобы подработать на телятинку, он взялся быть вечевым писарем.
Придя домой, он впишет в свою большую, в досках, покрытых кожей, пергаментную летопись и сегодняшнюю затаённую запись:
«Безвестные проходимцы смущают народ. Народ мятётся, что рыба в мотне. Ох, ох, Александр наш Ярославич, бедной... не покинул бы он нас! Что тогда станем делать?! Сыроядцы, детогубцы, татары проклятые дани требуют. Народ вопит на князя великого, на Александра. Александр Рогович, а мирски — Милонег, который гончар, иконник у владыки, а и на потребу людскую горшки делает, кувшины, сильную злобу в людях подымает на князя на Александра. Ох, да и увы нам, грешным! А видно, опять быть крови пролитию: вчерась плакала богородица в Людине конце!..»
...Вече клубилось!.. И самые крики, казалось, тоже как бы схлёстывались, переплетались, дрались и рушились книзу в сизом ноябрьском воздухе — и сызнова подымались. Уж трудно было понять стороннему, что здесь происходит и кто чего добивается. Однако сами хозяева — те прекрасно разбирались, кто чего хочет и кто за кого тянет.
— Господа новгородцы, тише! Хочу речь к вам держать! — восклицает во весь голос посадник Михайла Степанович и слегка поднимает посадничий жезл свой, с короткой, слегка изогнутой рукоятью. Седая борода глушит его голос. — Господа новгородцы, вы все хорошо знаете, кто я и какого кореня! Кто ещё в Новгороде за меньших, за весь господин Великий Новгород, столько пострадал, как покойный родитель мой?! А и меня помнят не последним в битвах те, кто пути военные деял с князем!..
Слева от помоста, где сбился люд во главе с Александром Роговичем, раздаётся один крик, потом другой, третий:
— Ты нечестно посадництво принял!
— Нашего выбора на тебе нет! Князь Олександр тебя ставил!..
— Ты пошто под Ананьей копал?
— Мы мёртвую грамоту на тебя положим!..
Старик пытается отойти шуткою:
— Да уж знаю, господа новгородцы! — говорит он. — И сам ведь бывал молод — шумливал на вече: известно, посадник — всему миру досадник!..
Но его уже не слушают. Крики Гончарского конца (а он же — и Людин конец) перекидываются на Александра.
— Князь! — орут ому. — Ты пошто посадника Ананью лишил? Ты нам хрест целовал: без вины мужа не лишать!..
— Хуже его вины нет! — мрачно возражает Александр. Город русский от Русской Земли хотел отколоть! С мейстером рижским пересылаться задумал!.. Да я бы его и казни предал, да только чести вашей уважил — что посадник новгородский!..
— Самодержец! — несутся в ответ ему, и всё из того же края веча, неистовые возгласы.
— Обсажался приятельми своими!.. Кого — хлебцем владимирским, кого — землицей, кого — серебром!..
И ответ кто-то из неистовых сторонников князя оглашает студёный воздух пронзительным вскриком:
— Да здравствует Александр Ярославич!..
Невский улыбнулся.
— Экий вопило! — добродушно и слегка насмешливо говорит он.
И это производит благотворное действие на всех, кто внизу вечевого помоста, — даже и на врагов. А из стана друзей вырывается дружное и уже многоголосое:
— Братья, потягнем по князе!..
— Александр Ярославич на худое не поведёт!..
— Суздальские — такие же русские, да взялися по дань!
— Верно. Головою повалим за князя, за Святую Софию!..
Вече начинает перекачиваться на сторону князя Александра.
Однако не этого алчет Александр Рогович со своими. Быстро подходит он к самому краю помоста, на котором стоит Невский и сидят на своих скамьях старейшины Новгорода. Его хмолодцы проламываются следом за ним и останавливаются крыльями — справа и слева от главаря.
И, вызывающе подняв голову, гончар бросает князю:
— Ты зачем в наши грамоты торговые с немецкими городами вступаешься? Пошто ты грамоты наши любецкие, а и рижские подрал? Не ошибись, князь! С немецким берегом торговля не при тебе стала — не тебе её рушить! Ты Юрьев у немцев хочешь отвоевать, Нарву, а торговлю нашу в мешок завязал! Кто́ ты тут есть? Не ты наш князь, а сын твой!..
И это упоминанье о шестнадцатилетнем сыне Александра, о юном Василии Александровиче, словно бы исполинскими кузнечными мехами дунуло в костёр вечевой распри. Уже третьи сутки грозный отец-государь держал своего сына в заточении, в земляном порубе. Василий изобличён был в заговоре против отца. Гордый юноша не хотел и помыслить о том, чтобы в его княжение Новгород согласился платить дань татарам. Но отец в этом был непреклонен. И Василий замыслил, вместе с другими роптавшими на Александра боярами и горожанами новгородскими, убить татарских послов, а князя Александра изгнать. Однако Невский вовремя раскрыл заговор сына. И, как всегда, был скор на расправу с изменниками и беспощаден.
— Где наш князь Василей? Куда ты его дел, сына своего? — кричали Невскому из толпы.
— Поставь его перед нами!..
— В темнице он у него! — выкрикнул чей-то голос. — В железа забит князь наш Новгородский!.. Вот он как с нами!..
— Ударил еси пятою Новгород!.. — взревели гневные и грозные голоса.
— Где он? Выведи к нам Василья!.. Отдай нашего князя! Самовластец!..
Александр Ярославич с гневным прищуром глянул вниз на требующий ответа народ.
— Отцу перед единым богом за сына своего ответ держать надлежит — не перед кем иным! — отвечает князь.
— Тебе он — сын, а нам — князь!.. — послышался возмущённый голос.
С мгновенье времени Невский молчал. Затем ответил — и сурово и громко, во услышанье всего веча:
— Вашему суду предан будет! Зане против Новгорода измену умыслил!.. А меня знаете: от меня — пощада плохая: что сын, что брат, а топора от ихней шеи отводить не стану, коли заслужили!.. Скоро сами судить будете своего Василья...
Помолчав, добавил — уже другим голосом: величественным и спокойным:
— Великий князь Владимирский — за всю Землю ответчик!.. А Новгород — не неметчина, не Литва!..
И эти последние слова князя — о предстоящем над Насильем суде и о том, что князь великий Владимирский — ответчик за всю Русскую Землю, словно бы тяжёлая плита, легли поверх всего этого вздыбившегося вопля, криков и прекословий и как бы сломали хребтовину сопротивленья.
Александр Ярославич с чувством торжества кинул и взор на это необозримое толпище, чьей границей были дальние стены кремля: вече было на его стороне.
Вечевой дьяк с выражением благоговения на лице, поклонясь, уже протягивал посаднику Михайле заранее заготовленную грамоту, в которой «весь господин Великий Новгород и младший брат его Псков» изъявляли согласие обязаться уплатою ежегодной дани ордынскому царю.
Княгиня Васса вспыхнула всем своим бледным византийским ликом от внезапного счастья, что в этот поздний час боготворимый её государь-супруг пришёл к ней, на её половину терема. Она порывисто двигалась по своей опочивальне, берясь то за одно, то за другое, не зная, что ей надо сперва делать.
Наконец она усадила мужа в его обычное кресло, насовала ему за спину и под затылок маленьких расшитых подушек, взяла своими белыми длинноперстыми руками его ноги и уложила их на подножной скамейке, поверх ковровой подушки.
— Ну полно тебе хлопотать вкруг меня, посиди ты хоть немножко! — улыбаясь, проговорил Александр.
Оставив мужа, княгиня Васса зажгла высокий четырёхсвещник и вновь подошла к супругу.
— Как я истосковалась по тебе!.. — сказала она и застыдилась.
Зажжённые ею свечи лишь немного прибавили света в её спальне, похожей скорее на келью игуменьи, ибо в комнате и без того было светло от множества больших и малых лампадок, теплившихся перед иконами большого углового кивота.
Большими глазами княгиня украдкой, словно девчонка, взглядывала на супруга, прижимала обе стиснутые руки к груди, слегка прикусывала алые губы и медленно покачивала головою, как бы бессильно осуждая в себе греховное чувство неутихающей, страстной любви к мужу.
Александр отдыхал, вытянув ноги на скамейку, откинувшись в кресле, закрыв глаза. Перед его внутренним зреньем всё ещё мреяли и метались возбуждённые лица только что отбушевавшего веча. Приехав из Новгорода к себе, на Рюриково Городище, сразу после веча, уже ночью, при свете факелов, князь почувствовал себя настолько усталым, почти больным, что не принял вечерних докладчиков, приказал не беспокоить его и прошёл на половину княгини.
Сейчас это веянье монастырской кельи, которое прежде раздражало его, было ему даже приятно.
Александр знал, что княгиня его слывёт едва ли не святою в народе, подобно высокородной землячке и сроднице своей, Евфросинье Полоцкой.
Княжна Евфросинья приходилась ей бабкою-тёткою по отцу. В семье хранился её молитвенник, и крест, и чётки. Ещё живы были старцы-монахи, которые видывали княжну Евфросинью, помнили, как отбывала она из Полоцка в Иерусалим, через Константинополь, где она изумляла и услаждала своею беседою патриарха. Ещё живы были в Полоцке воспоминанья о глубокой учёности княжны, об её прениях о вере с латынским епископом, коего она посрамила в том диспуте; о том, как трудилась Евфросинья над переводами с греческого и над списанием святоотческих книг. В Полоцке в дни отрочества Вассы ещё не разрушены были странноприимный дом, убежище для калечных и больница, созидательницей коих была Евфросинья.
И девочке больше всего на свете хотелось стать такой же святой и милосердной, как тётка. Она возмечтала о монастыре. Но её на четырнадцатом году выдали замуж за Александра, которому только что исполнилось тогда девятнадцать лет.
Ярослав не скрыл от сына, что город Полоцк — это щит Новгорода и что не беда, если этот щит держат руки Смоленского князя, но поистине бедою обернётся дело, если из некрепких этих рук город-щит вырвут руки тевтонского магистра или же Миндовга. Надо было подтянуть Полоцк к Новгороду.
И Александр не противился намереньям и уговорам отца. Свадьбу сыграли в Торопце, но трёхдневный пир ладам был и всему Великому Новгороду, а иначе новгородцы обиделись бы. «Первую кашу в Торопце чинил, а другую — в Новгороде», — заботливо отметил и день свадьбы князя Александра новгородский летописец...
Первые годы, несмотря на то что брак их был чисто династическим, он любил свою княгиню. Её строгая красота затмевала полнокровную красоту новгородских боярынь.
Княгиня нарожала ему добрых детей. Сперва — дочку Евдокию (теперь уже второй год замужествует за Константином Смоленским), потом — сынов: Василия, Дмитрия... Васса была хозяйственной и рукодельной; супруга своего она любила страстно, и если бы господь ещё умудрил её войти в державные заботы мужа, то его любовь к ней вряд ли бы иссякла. Ибо, против обычая и нравов других князей, Невский был строг в семейной жизни и глубоко убеждён был, что государь, первее всех своих подданных, должен хранить брак честен и ложе нескверно.
Но, к несчастью, Васса оказалась неспособной разделить бремя державных трудов своего супруга. Она признавала это сама, в простоте душевной сетуя на невысокий, не воспаряющий ум свой. Новгорода она боялась. И дни усобиц и побоищ на мосту, в дни грабежей и пожаров она уходила в дальние комнаты двухъярусного терема своего, хотя от буйного города их поместье в Рюриковом Городище отдалено было расстоянием в целых две версты.
Первые юные годы она, бывало, с плачем начинала просить Сашу, чтобы он перебрался совсем в свой тихий Переславль. Особенно когда новгородцы принимались в очередной раз прогонят!» Александра, показывать ему путь от себя.
— Вот видишь, пот видишь, Саша, — говаривала тогда она юному супругу, пылающему гневом на неблагодарный и строптивый город. — А ты за них жизнь кладёшь!.. Да брось ты их совсем: ведь во Владимире тебя ждут не дождутся, на руках будут носить...
— Дура!.. — вырывалось у Александра. Но, увидав её слёзы, он горько каялся в несдержанности своей и принимался утешать её и оцеловывать от слёз её большие чёрные глаза. — Ну, полно, полно, не плачь!.. Успокойся: ведь знаешь, какой я!..
И — в который раз! — Александр принимался растолковывать ей, почему для великого князя Владимирского никак нельзя попуститься Новгорода, что такое Новгород для Русской Земли и как худо будет, если немцы, датчаны, шведы совсем оттиснут новгородцев от моря:
— А пока я стою одною пятою на Клязьме, а другою здесь — на Волхове, — не отсадят они меня от моря! Николи!
Неоднократно в такие минуты княгиня Васса грустно говаривала мужу:
— Нет, Саша, разве тебе такая нужна, как я?.. Я разве помощница тебе!.. Только деток твоих лелеять да помолиться о тебе!.. Другому жена нужна, а тебе... царица!
— Ну, пошла, пошла!.. — неодобрительно прерывал её Александр. — Да полно тебе!.. А вот что замолишься ты да запостишься когда-нибудь до смерти, то это вот верно... Княгиня ведь, не монахиня!..
Его тоска по настоящей государыне-супруге и явилась там, в Переславле, быть может, истинной основой вспыхнувшей в его сердце любви к Дубравке.
Почти с первой же встречи, когда Дубравка покинула свадебный пир, оскорблённая появленьем Чагана, открылась ему в ней прирождённая супруга властителя. «Да! Это не то что моя Васса!..» — думалось ему, как ни стыдился он этих мыслей, как ни боролся с ними.
Александра Ярославича и сейчас раздражала Васса тем, что, любовно хлопоча вкруг него, ради того, чтобы отдохнуть ему телесно, она совсем не полюбопытствовала, откуда он только что приехал, и совсем не заметила, что супруг её ныне приходит к ней победителем и победителем из такой битвы с буйным городом, которая ещё вряд ли когда прежде выпадала на его долю. А он-то шёл к ней — и отдохнуть у неё, и рассказать ей, какое страшное вече сегодня переборол он!
И Александру захотелось, в раздражении на Вассу, сказать ей что-либо неприятное и осуждающее.
— Вот что, княгиня, — суровым голосом, которого она страшилась больше всего на свете, молвил он. — Давно собираюсь тебе сказать, да всё забываю. Распустила ты этих паломников своих, ходебщиков по святым местам, пилигримов, что дальше некуда! У тебя ведь все — святенькие. Доверчива ты очень. И многие из них и не монахи, не попы. И ни в каком Ерусалиме они и в жизнь свою не бывали. Беглые. От оброка скрываются. От боярина твоего бегают. Я вот велю Андрей Иванычу как-нибудь всех их перебрать, кто чем дышит, — эти твои богомольщики, ходебщики — не сидится им дома!
Княгиня Васса смиренно опустила голову.
— Хорошо, Саша, — отвечала она. — Скажу Арефию-ключнику, чтобы строго проверил всех...
Она придвинула к его креслу маленький восьмиугольным столик, накрыла его белым как снег полотенцем и поставила, взятые из погребца и для него припасённые, курицу и кувшин с кахетинским, и его любимую большую чару, из которой пил в день свадьбы, уж почти скоро двадцать лет тому назад, и которую она свято берегла на эти его приходы.
— А ты? — спросил он, готовясь приняться за еду.
Она покачала головой и смутилась. Он понял.
— Ну понятно, — сказал он, улыбаясь, — ведь пост сегодня... Ну, не осуди!
— Да что ты, Саша!.. Где ж тебе посты соблюдать!.. То — на войне, то — в дороге, то — у татар!.. Да с тебя и сам бог не спросит!..
Александр, как бы в сомненье, покачнул головою.
— Ну не знаю!.. — сказал он. — Хотя на днях Кирилл-митрополит говорил мне: дорожному, да недужному, да в чуждых странах обретающемуся пост не надлежит!..
Том временем княгиня устроилась на подлокотнике его кресла, взяла блюдо и принялась бережно отделять от костей куски куриного мяса — белые, длинные, волокнистые — и кормить ими Александра и время от времени подносить к его устам чашу с вином.
Он снисходительно-ласково потрепал её белоснежную узкую руку.
— Да у тебя здесь чудесно!.. — сказал он. — Однако дай-кось я сам: люблю с косточки кушать.
Он взял из её рук остатки курицы и, разламывая и разворачивая своими сильными пальцами сочно похрустывающие косточки, принялся есть с той отрадной для глаза мужественной жадностью, с какою вкушает свою заслуженную трапезу пахарь и воин.
Горячая слеза капнула на щёку Александра. Княгиня, державшая чашу с вином, поспешила поставить её на место.
Александр перестал есть, поспешно отёр пальцы о полотенце на столике и обеспокоенно повернулся к ней:
— Что с тобой?
Она склонилась молча к его голове и плакала. Когда же он стал отымать её лицо от своего плеча, чтобы заглянуть ей в глаза, она выпрямилась, стряхнула слёзы, и у неё стоном горлинки, терзаемой ястребом, вдруг вырвалось:
— Господи!.. А что же Вася-то наш кушает — там, в темнице в твоей, в порубе? — И она зарыдала.
Невский вздрогнул от неожиданности. Он полагал, что ей, матери, ничего ещё не известно о заточении сына. Он запретил ей что-либо сказывать. Сам же он хотел сказать, что Василий отбыл на время во Псков.
Стужей пахнуло на княгиню от слов, которыми он ответил на её жалобный возглас:
— А право, не знаю, чем их там кормят! — сказал он. — Не любопытствовал!.. Да надо полагать, курятинкою не балуют, вином не поят... Приказывал я, чтоб хлеб-вода дадены были...
— Господи! — опять скорбно воскликнула княгиня, глядя молитвенно на иконы. — Да как помыслю, что он, Васенька мой, отрок ещё, — и в темнице, с убийцами... и на земле спит, на соломе гнилой, — сердце кровью подплывает! Да что же это такое? — выкрикнула она и заломила над головой сплетённые руки и завыла, как воют простые бабы над покойниками.
Невский вскочил на ноги.
— Чего запричитала? — крикнул он. — «Васенька, Васенька»! А с кем же ему сидеть, как не с убийцами, головниками? А кто он сам-то есть?.. Да он сто крат хуже убийцы. Знаешь ли ты, что сей сынок твой, отрок твой умыслил?.. Нет? Так слушай: Василий ладил послов татарских убить, новгородцев напустить на них. Меня хотел в город не допустить! Ведомо ему было, мерзавцу, что я без полков здесь, да и что дружины при мне немного... Хорош отрок!.. На соломе, говоришь, на земле сырой спит?.. Ничего! В земле ему будет постель постлана... с которой не подымаются!..
При этих неистовых словах князя слёзы княгини словно бы враз высохли, рыданья пресеклись. Теперь это была царица, но царица-мать!
— Будет мне плакать! — вскричала гневно она. — У тебя разве сердце?! То жёрнов! И кто под него попадёт, тому не быть живому!.. Да и будь он проклят, этот Новгород твой!..
— Княгиня!
И дверь постучали. Александр подошёл и открыл. Сквозь распахнутую дверь к нему поспешно подошёл Андрей-дворский. Он был одет по-уличному и запыхался.
Приветствовав князя, он проговорил:
— Беда, Олександр Ярославич, — опять мятутся, окаянные!
— Сюда ступай, Андрей Иваныч, — здесь скажешь! — прервал его Невский и втянул за рукав через порог и захлопнул двери.
Он не дал даже перекреститься Андрею Ивановичу на иконы и приветствовать княгиню.
— Ну, что там опять стряслося? — сразу преображаясь, словно взявшийся за гриву коня, готовый вскочить в седло, спросил он.
— Ох, княже! — воскликнул Андрей-дворский. — Опять вече созвонили, другое!.. Повалили все на Торговую сторону, с факелами, — боюсь, сожгут город!.. И все — при оружии, а кто — с дрекольем. Крови не миновать!.. Стражников и укрепил, добавил, сколько мог... а не знаю, удержат ли! Кричат: «Василья-князя отдайте нам!» На посадника, на Михайлу, самосудом грозятся: вышел он уговаривать. Боюсь, Олександр Ярославич, не убили бы старика!.. Сильно ропщет народ!
— Подожди, сейчас выйду, — сказал Александр.
И дворский вышел, закрыв за собою дверь.
Князь обернулся к супруге:
— Бот, вот он, отрок твой, Васенька твой!.. — грозно-угрюмым голосом, в котором, однако, слышались слёзы, выкрикнул он вне себя, и прекрасное лицо его исказилось.
Второе вече, и Неревском конце, у церкви Святого Иакова, — вече крамольное — созвонил Александр Роговой, гончар. Да и какое там вече! «Вечити» не давали никому. Не было тут ни посадника, ни тысяцкого, ни дьяка, ни подьячего, ни сотских, ни подвойских, ни биричей: это было диковечье, это было восстание!
— Тут — наше вече! — кричали. — Теперь спуску не дадим!
Сперва, ещё в сумерках, народ на князя и на посадника Михайлу копили не здесь, а во дворе усадьбы Роговича. А когда уже столько скопилось, что и забор повалили, то Александр Рогович велел своей дружине перегонять народ на другое место, к церкви, и там бить в колокол.
Слугам и дружине своей велел возжечь факелы, быть при оружии и в доспехах. А кричать велел так: «Бояре себе творят легко, а меньшим — зло!», «Кажный норовит в свою мошну!», «Князь татарам Новгород продал!..», «Дань по достатку надо раскладывать, а не по дворам!», «Посадник измену творит Новгороду, перевет с князем Александром держит!..»
Это и кричали в народе на разные голоса.
Площадь церковная не вмещала людей, а улицы со всех четырёх сторон всё накачивали и накачивали новые оравы и толпы.
Страшен мятеж людской!..
Сперва взбулгачили чуть не всех своим колоколом. Натекло народу и такого сперва немало, у которого и в мыслях не было супротив самих себя идти: ведь только что отвечали и грамоты вечевые князь-Александру выдали, так чего же уснуть не дают хрестьянам?!
Разузнав, чего домогается Рогович, одни стали заворачивать обратно, сшибаясь на возвратном пути с теми, кто приваливал к Роговичу, а другие и в драку ввязались. Жерди, колья, мечи, сабли, буздыганы и копья — всё пошло в ход!
Завзятый вечник — небогатый мужичонка Рукосуй Иван ввертелся в толпу с диким воплем, показывая всем разодранную и окровавленную на груди рубаху:
— Вот, православны, глядите: ударили стрелою в пазуху!..
— Кто тебя ударил?
— Приятели княжеские, клевреты!.. Милостивцы Олександровы!.. Предатели наши!..
— Бей их!..
На крыльцо церкви вскочил Александр Рогович. Двое рослых дружинников стали рядом с ним с дымно клубящимися и кидающими огненные брызги факелами.
Староста гончаров был в кольчуге и в шлеме. Сбоку, на поясе, висел его неизменный чекан. Шлем был застегнут. Он снял его. Толпа притихла.
— Господа новгородцы!.. Гражда́не новгородские! — воззвал Рогович. — Дело большое зачинаем! Либо свободу себе возворотим, либо костью падём! Кричите: ставить ли щит против великого князя Олександра, против татар, для которых он дани требует?
— Ставить щит!.. — закричали единым криком зыбившиеся перед ним толпы.
— Нас не охомутают!.. Владимиру Святому дань — и то не стали возить, и ничего с нами не сделал, а тут — поганому татарину, скверноядцу, покоряйся?!
— Что это за князь, да ещё — и великий?! Оборонить Новгород не может!.. Тогда нам и князей не надо!..
— И дедам нашим такое не в память!.. Нам дань платят, а не мы!..
— Ставить щит!..
— Ты нас веди, Рогович!.. Умеешь!.. Человек военный!..
— Тебе веруем!..
— Ишь ты! — послышался опять злобный крик против Ярославича. — О татарах пекётся... Как бы не обедняли!..
— На нём будет крови пролитие! А мы с себя сымаем!..
— А посаднику Михайле — самосуд!..
— За Святую Софию!..
— За Великий Новгород!..
Рогович Милонег прислушался: явственно доносился звон клинков о доспехи, хрясканье жердей. Слышно было, как вышатывают колья из частоколов и плетней.
Кто-то из толпы выкрикнул весело:
— Драча! Пружане с козьмодемьянцами схватилися!..
Из маленькой каменной сторожки, приоткрыв дверь, высунул голову летописец-пономарь. Он тут же и проживал, при церкви Иакова, близ которой ревело дикое вече. Он испуганно перекрестился, увидав, что творится. Некоторое время он, превозмогая страх, вслушивался. Вдруг обнажённая по локоть сухая женская рука схватила его сзади за ремённый поясок подрясничка и рывком втянула обратно, в сторожку. Это была пономариха. Большие дутые посеребрённые серьги её качались от гнева.
Пономарь, слегка прикрывая голову — на всякий случай, если рослой супруге вздумается ударить его, — проследовал бочком к своему налою для писанья, на котором раскрыта была его летопись.
Трое пономарят, белоголовые, от десяти до четырёх годочков, кушали просяную жидкую кашу, обильно политую зелёным конопляным маслом. Четвёртый ребёнок лежал ещё в зыбке, почмокивая соскою на коровьем роге.
Пономариха, закинув крючок двери, принялась отчитывать мужа. А он уже обмакнул перо и вносил в свою тетрадку всё, чему стал свидетель. Он лишь с пятого на десятое, как говорится, слышал слова, которыми его честила супруга.
— Окаянный! — бранилась пономариха. — Ровно бы и детям своим не отец! Вот ударили бы тебя колом по голове твоей дурной, ну куда я тогда с ними? Много ты мне добра оставишь? И моё-то всё прожил, которое в приданое принесла.
— Не гневи бога, Агаша! — ответствовал пономарь. — Коровка есть... порошята... курочки, утки, гуси!.. У других и этого нету.
Пономариха только головой покачала.
А пономарь Тимофей, время от времени успевая кинуть ответное словцо супруге, продолжал писать свою летопись, произнося вполголоса то, что записывал.
— «О боже всесильный! — и вычерчивал на пергаменте и произносил он. — Что сотворим? Раздрася весь город на ся! Во́сстань велика в людях. Голк и мятеж!.. Александр Рогович, окаянный строптивец, иконник, гончар, злую воздымает прю на князя Олександра!.. И чего ему надо? Всего у злоокаянного много: и чести от людей, и животов!.. Несть ли в Деяниях: «Князю людей твоих, да не речеши зла! Начальствующего в народе твоём не злословь!..» Ох, ох, творящие непотребное! Полно вам складывать вину на князя! Ну, да ведь солнышка свет сажей не зачернишь! «Александр» же эллински означает «защита мужей»!.. Добрый страдалец за Русскую Землю, как деды и отцы его!..»
Летописец вздохнул. Печально усмехнувшись, пробормотал:
— Злая жена — хуже лихоманки: трясца — та потрясёт, да и отпустит, а злая жена и до веку сушит!..
— И пишет, и пишет, только добро переводит!.. — со злостью отвечала ему супруга.
Этого не мог снести пономарь.
— А не твоего ума дела!.. — огрызнулся он. — Труд мой потомки благословят!..
— Ну как же! — воскликнула пономариха. — Дожидайся! Вон ходил ко князю со своей книгой, у самого владыки, у Кирилла, побывал, а здорово он тебя благословил!..
Это иапоминанье было одним из самых больных для пономаря. Он и впрямь представлял Невскому летописание своё, ища пособия, ибо дорог был пергамент и киноварь, а и тем паче — золото, растворенпое для заставиц. Однако Александру Ярославичу было не до того, он передал деегшсанио пономаря владыке Кириллу, а тот, прочитав ли или же только просмотрев, сказал с грустной и снисходительной улыбкой, когда князь спросил его, есть ли что дельное в труде пономаря Тимофея:
— Что может простец сей потомству поведать о тебе? Сам невежда и умом грубый поселянин. Дееписание его токмо повредить может. Ты сам посуди, государь: пишет сей простец: «Взяли князь Олександр, и Василей, и вси новгородцы мир с дворянами рижскими, и с бискупом латинским, и с князем мейстером на всей воли своей. И тут же, в одном ряду и того же дня, означено у него: «Бурёнушка наша отелилась. Теля доброе. Ребятки радуются: молочка прибыло. И — Огафья...»
Владыка рассмеялся.
— Нет, князь, — сказал он вслед за тем с глубоким убежденьем. — Не сочти сие лестью. Деяниям твоим — Иосиф Флавий... Георгий Ама́ртол... Пселл-философ... А издревле живших — Иродот, Плутарх!..
И пономарь Тимофей получил вместо ожидаемого пособия суровый выговор от владыки.
— Советую тебе престати, — сказал Кирилл. — Не посягай на неподсильное тебе. А жить тяжело, то готовься: велю поставить тебя в попы!..
Молчал пономарь. Крепился. Занё — владыка всея Руси глаголет. А потом не выдержал и, поклонясь, ответствовал:
— Прости, владыка святый, но где ж мне, худоумному — в попы: я ведь только буквам учился!.. Риторским астрономиям не учен...
Владыка долго смотрел на него. Наконец сказал:
— А и горд же ты, пономарь! Ступай!..
И вот сейчас злой попрёк жены разбередил больное место у непризнанного летописца. Он, всегда столь робкий с женою, взорвался, отбросил плохо очиненное или уже задравшееся перо:
— Вот и примется стругать, вот и примется стругать!.. И ведь экая дура: мужа стружет! А нет чтобы перьев мужу настругати!.. Эх, добро было Нестору-летописцу: зане́ монах был, неженатый... никто его не стругал!..
Посадник Михайла, услыхав звон колокола и смятенье в народе, выехал верхом в сопровождении одного лишь слуги усовестить и уговорить восставших. Но его не стали слушать, сразу сорвали с седла и принялись бить. Слуга ускакал.
— Побейте его, побейте!.. — кричали вокруг растерявшегося, ошеломлённого старца. — Переветник!.. Изменник!
Были и такие, которых ужаснуло это святотатство — поднять руку на человека, в коем веками воплощались для каждого новгородца и честь, и воля, и власть, и могущество великого города.
— Не убивайте!.. Что вы, братья? — кричали эти. — Посадника?! Разве можно?! Давайте пощадим старика!
— Хватит с него и посадництво снять!.. Пошто его убивать? — старой!
Но их отшибли — тех, кто кинулся выручить старца.
— Какой он нам посадник? — грозно заорали те, кто волок старика на Большой мост. — Кто его ставил? Топить его всем Великим Новгородом! Изменник!..
И в продымлённом свете факелов, метавшихся на сыром ветру, толпище, валившее к Большому мосту, к Волхову, ринулось с горы, что перед челом кремля, — прямо туда, вниз, где хлестался и взбеливал барашками уже тяжёлый от стужи, словно бы ртутью текущий, Волхов.
С посадника сбили шапку. Седые волосы трепал ветер. Его били в лицо. Он плохо видел сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, да и плохо уж соображал, что с ним и куда его волокут.
— Ох, братцы, куда меня ведут? — спрашивал он, словно бы выискивая кого-то в толпе.
Ответом ему был грубый, торжествующий голос:
— Куда? До батюшки Волхова: личико обмыть тебе белобоярское — ишь искровенился как!..
Жалевшие его и хотевшие как-нибудь спасти, советовали ему:
— Кайся, старик, кричи: «Виновен богу и Великому Новгороду!..»
Михайла Степанович гордо поднял голову:
— Нет! Не знаю за собой вины пикоторой!..
Кем-то пущенный камень величиною с кулак ударился в его большое возлысое чело. Посадник был убит...
Толпа охнула, и стали разбегаться: кто в гору, а кто — вдоль берега.
А на берегу Волхова, озаряемый факелами, уже близ самого въезда на мост, показался исполинского роста посадник. Сверкал от пламени его шлем, реял красный плащ...
Это был Невский.
Беспощадно расправился с мятежом князь Александр. Он решил карать без милости. Целый месяц держался в городе со своею дружиною и с теми, кто привалил к нему, Александр-Милонег Рогович. Было время, что и не знал народ, за кем суждено остаться Новгороду: или за князем, или за гончаром? Бояре, купцы да и всякий зажиточный упали уже перевозиться со своим скарбом то на одну, то на другую сторону Волхова, да хоронить своё рухлишко то при одной церкви, то при другой!
А отчаявшийся в спасенье и уж решивший, видно, что семь бед — один ответ, чёрный люд новгородский, пошедший за гончаром, кинулся на бояр, на купцов богатых, чтобы хоть напоследок усладить свою душу страхом и трепетом вековечных своих врагов и хоть перед смертью неминучей, а наступить им на горло.
— Пускай знают вдругорядь! Горлоеды! Бояре, купцы... только то и знают, что гортань свой услаждать!.. Трудимся на их!.. Потом нашим жиреют!..
И, чуя неизбежность скорой княжой расправы, новгородцы подбадривали друг друга:
— Один за одного умереть. Не надо нам князя никакого!.. У нас — лён — князь.
Пускай казнит, вешает: Адам привычен к бедам!..
— А мы татарам не данники!
— Головою своею повалим за Великий Новгород!..
— Зажигайте дворы боярски!..
И зажигали. Но худо горело: осень поздняя, дождь, снег, мокреть — тёс намокнул. Да и в богатых домах было чем заливать: из Волхова трубами деревянными, а где и свинцовыми, вода проведена чуть не в каждый боярский дом!.. Да и Александр-гончар сам пресекал поджоги. Двоих, кого с кресалом да с кремешком захватили под сенками, тут же на воротах и повесили. А всё же таки успели — пожгли некоторых. Ну, да ведь это что?! Не видать, где и сожжено. Ведь двенадцать тысяч дворов в Великом Новгороде!.. Зато крови столько пролилось, что хватило бы и не такой пожар затушить!..
«От грозы тоя страшныя, от восстания людского, — так записывал в свою летопись пономарь, — вострясеся град весь, и нападе́ страх на обе стороны: на Торговую, а и на нашу. И от сей от лютой брани, и усобного губительства начата и бояре, и купцы, и житьи люди животы свои носити в церкви. Ох, ох, не пользует, видно, имущество в дни ярости... Плакала богородица вечорась у нас, здеся, в нашей церкви, у Святого Иакова в Неревском конце!..»
В городе начался голод: кадь ржи — сорок гривен, кадушка овса — пять гривен! Невский пресёк пути. Низовской хлеб не шёл. Торговля упала. Чужестранный гость — немчин, готянин, литвин спешили утянуть ноги. Оба двора торговых — и Немецкий и Готский, — каждый во главе с ольдерманом своим, всячески вооружённые, затворились за крепким острожным тыном, обставились кнехтами — сторожами, спускали на ночь лютых огромных собак, не кормя их...
Александр Ярославич и от себя тоже выставил им охрану — и на Ярославлем дворе, и вдоль берега: не учинили бы обиды купцу-зарубежнику, — греха тогда и сраму не оберёшься!
Донесенья из-за границы поступали тревожные. Уж далеко пронеслась и в западные страны лихая весть, что Новгород отложился, князь великий Владимирский, Александр, не может, дескать, пробиться в город, сидит на Городище, а вот-вот и оттуда выбьют! Князя Василия восставшие добыли-де из поруба — убежал от отца в Псков. Бурграфа новгородского, Михайлу, сами же новгородцы убили. Сеньор епископ новгородский бежал. Такие толки шли среди рыцарей. Невскому стало известно, что магистр рижский копит силы и в Юрьеве, в Мемельбурге, и в Амботене, и в Добине...
Татар Невский едва спас. Ордынские послы хотя и трясясь от страха, а всё ж таки визжали и ярились на князя, грозили смертью. Александр выслушал их и спокойно сказал:
— Чернь мятётся!.. Я в том не виновен!
Он вывел их на сени и дал им глянуть. Возвратясь с ними, устрашёнными, в комнаты, сказал:
— На вас, князья, уповаю: на ваше предстательство перед ханом!
На это послы ордынские, приободрясь, отвечали надменно и многозначительно:
— Голоса́ черни никогда не досягают ушей нашего хана! Он велит ячмень посеять на том месте, где был Новгород!.. Поспеши карою сам, — тогда, быть может, гнев Нерке будет и не столь всепоедающим.
— Останьтесь! — возразил Александр. — Увидите сами, покрыты ли будут от меня милостью мятежники!
Однако послы предпочли уехать. Александр богато одарил их. Ещё более щедрые подарки, с письмом, объяснявшим всё, что произошло, отправил он хану Берке и верховной супруге его Тахтагань-хатуни, его любимым женим и Джидже-хатуни и Кехар-хатуни.
Андрей-дворский вывез ночью послов из города, вместе с жёнами их, под прикрытием дружины.
Рогович, теряя улицу за улицей, стягивал свои последние силы в Гончарский конец. Эти стояли за него крепко! Он всё ещё ждал, что мужики окрестных селений и погоста подымутся и пришлют ему помощь. Он рассылал дружинников своих и клевретов далече от Новгорода, чуть не до Волока и до Торжка. Сулил деревенским неслыханные льготы! «Братья! Помогайте нам на князя и на злодеев!..» Ответ был нерадостный:
— А!., как тесно стало вам, господа новгородцы, тогда и мы у вас людьми стали!.. Нет! Нам с вами — врозь: у нас — сапоги лычные, а у вас — хозовые. Вы — люди городские, вольные, а мы — тягари, земледельцы!..
...И наконец, настал неизбежный день: вождь восстания, израненный, в разодранном полушубке, однако с гордо вскинутой головой, предстал перед князем.
Едва приподняв голову от стола, заваленного свитками xapтий, Невский глянул на главаря мятежников и сказал начальнику стражи:
— Человек владыки: горнчар, иконник!.. На увещанье его — к митрополиту!..
И Роговича увели.
Тем временем прочих, захваченных с оружием в руках, предавали казни немедля. Кто успел явиться с повинной ещё до конца восстания, тех пощадили.
Побросавшие же оружие слишком поздно, те знали, что им нечего и молить о пощаде.
Владыка Кирилл, погруженный якобы в чтение книги, разогнутой перед ним на покатом налойце, долго не подымал глаз на узника, введённого к нему. Владыка сидел сильно внаклон, так что Роговичу видно было лишь круглое, плоское донце митрополичьего белоснежного клобука с белыми открылками по плечам.
Гончару надоело стоять, переминаясь с ноги на ногу, — он звякнул оковами-наручниками и откашлялся.
Митрополит поднял голову и откинулся в кресле. Рогович заметил, что за этот год, как не видал он его, митрополит сильно постарел. Усохли виски. Заострился нос. Чёрную бороду перевила седина. Глубже в глазницы ушли огромные, чёрные, пронизывающие глаза.
— Так, — промолвил наконец владыка. — Владычный мастер!.. Церковный человек!.. Художник, над иконным писанием тру ж дающийся! Нечего сказать, потрудился!.. За добрые, видно, труды в сих узах предстаёшь ныне предо мною!.. О, как стыдно было мне за тебя, моего церковного человека, ныне перед князем!.. А ведь когда-то прославлен был ты, Рогович, прославлен, аки Веселиил Новгородский!..
Гончар взметнул бровью.
— Трудов моих и на Страшном суде не постыжуся! — гордо сказал он. — Вот и сия амфора, что слева пред тобою высится, — моих рук творенье.
Он слегка повёл скованными руками на огромную цветную, с птицами и цветами, фарфоровую вазу, едва ли не в рост человека.
Митрополит покачал головою.
— Разве за это — оковы?.. — укоризненно произнёс он. — И ты не каешься зла своего?
— Нет, не каюсь!
— В гордого бо сердце дьявол сидит!..
— Мне не от чего гордеть! Я — глиномес. Мы — люди тёмные, простецы... Меся глину да обжигая, мудр не станешь...
— Отстань высокоумия своего! Вспомни будущего судилища ужас!..
— Я с тобою, владыко, недостоин разговаривать. Я помолчу. Только то́ скажу, что вы и на этом свете поспеваете, да и на том. А и там то же, что здесь: верхнее небо, да среднее, да нижнее. Уж и темниц там настроили для нашего брата... Не из своих мечтаний я это взял, а чел в книге Еноха праведного!..
Митрополит, услышав это имя из уст гончара, только презрительно усмехнулся:
— Вижу, ты преизлиха насытился ложных басен! Нахватался книг отречённых! Не дьявол ли суемудрия подвигнул тебя восстать на князя, на господина своего?
— А он мне не господин! Господин мне — Великий Новгород!
выражение презрительной скуки появилось на лице митрополита. Он даже слегка и позевнул, призакрыв рот выхоленной рукой.
— Экий афинянин, подумаешь!
Рогович вспыхнул от гнева. И в то же время искра озорства и насмешки сверкнула в его глазах.
— Не Демокрит ли сказал, святый владыка: «Бедность в демократии лучше благоденствия при царях, свобода лучше рабства»? — И Александр-Милонег повторил по-гречески то, что сказал по-русски.
И в тот раз самообладание изменило владыке.
— Так вот ты какой! — произнёс он гневно. — И со стола эллинских лжеучителей подобрал крохи?.. Не станем ли с тобою риторские прения здесь открывать?.. Но где ж мне в этом состязаться с тобою?.. Аз — мних недостойный. Мне подобает токмо от евангелия и апостол святых глаголати. И ты бы в святые книги почаще б заглядывал, христианин был бы, а не крамолою пышущий изувер. Не сказал ли апостол: «Не бо без ума князь меч носит: божий бо слуга есть, отмститоль во гнев злое творящим»?
Старейшина гончаров новгородских угрюмо кивал головою на слова владыки. Хотя и скованы были его руки, но казалось, что для духовной, для мысленной битвы засучает он рукава.
И едва окончил говорить архипастырь, гончар ответил ему:
— А разве это не того же самого апостола речение: «Наша брань — не против крови и плоти, но против начальств, и против князей, против мироправителей тьмы века сего»?
Владыка не сразу доискался должного слова.
— Да ты — аки терние изверженное! — сказал он изумлённо. — До тебя и докоснуться голой ладонью нельзя! Но кривотолкуеши, чадо! — зло усмехнувшись, продолжал он. — «Воздайте убо всем должная: ему же убо урок — урок; а ему же убо дань — дань, ему же страх — страх, и ему же честь — честь!..»
— Вот, вот, — отвечал Рогович. — То-то вы за ханов татарских и в церквах молитесь, и победы им просите у господа!.. Обесстыдели совсем!.. Раньше цесарь у вас один только грецкий царь был, зане́ — православия, говорили, хранитель, а ныне уже и татарина цезарем именуете!.. Нет! — выкрикнул Рогович, потрясая кулаками в цепях. — Церковь — вы, да только не Христова!.. Разве так подобает инокам жить Христовым, как ты живёшь?.. Вам, монахам, вам, иерархам церковным, подобает питаться от своих праведных трудов и своею прямою потною силою, а не хрестьянскими слезами!.. Во вретищах и власяницах подобает ходить, а не в этом шёлку, что на тебе!..
Глаза гончара налились кровью. Он дышал тяжело. Гневен был и владыка! Несколько раз он хватался рукою за цепочку, на которой висела на его груди панагия. Дождавшись, когда Милонег замолчал, он, зло прищурившись, сказал:
— Уймись немного. Вижу — распалился ты гневом, как вавилонская пещь. К чему это отрыгание словес? Афедрон гуслям не замена! Изыди, крамолующий на господа!..
Владыка поднялся и указал рукой на дверь. Служка-дверник поспешно распахнул её и поклоном пригласил войти стоявшего за дверью война.
...В тот же вечер митрополит Кирилл говорил Невскому, весь в дрожи негодования:
— Злой мятежник сей творец сосудов скудельных!.. Не увещателен!.. И дышит от него ересью болгарского попа Богу мила. Отступаюсь и в руки твои предаю!..
— Ну, удача добрый мо́лодец, что говорить станем? — такими словами начал князь Александр Ярославич свою беседу с Роговичем, введённым в его княжескую судебню.
— Когда бы удача был, не сидел бы у тебя в порубе! — послышался в ответ насмешливый голос мятежника.
Князь вглядывался в Роговича. Этот — в кандалах, исхудалый, землистого лица, обросший рыжею бородою, глядящий исподлобья — узник приводил на намять князю нечто далёкое. Что он видел его, этого художника и ваятеля, однажды в покоях архиепископа, — это было не то! Где-то ещё он видел его и даже разговаривал с ним... Вот только голос тогда был у него другой — ясный и звонкий; а теперь — с каким-то носовым призвуком. Ну, ясно же: он, этот измождённый человек в кандалах, был с ним там, на болотах Ижоры, воевал под его рукою со шведами, на Неве!.. Вот он сейчас как бы снова видит этого рыжекудрого человека, тогда, совсем ещё юношу, намётывающего копыта своего скакуна на толпы рыцарей и кнехтов, которых он грудит к воде, к их высоким и многопарусным кораблям. Облако толкущейся мошкары, пронизанное багровыми лучами солнца, неотступно следует за его сверкающим шлемом.
«А лихо бьётся парень!» — подумалось тогда Невскому.
После битвы он отыскал сего воина. Узналось: Рогович Александр-Милонег, иконописец, художник, гончар, мусией кладёт иконы. Староста гончарской братчины. А эти, что с ним, — его ученики, подмастерья... На шведов сам захотел пойти: «Душно нам от них, новогородцам».
Князь тогда похвалил его за доброе ратоборство, помянув его пород псом ратным строем. И вот этот самый человек стоит сейчас перед ним, повинный в лютом кровопролитии, в мятеже, закованный в кандалы... В тот день, после Невской битвы, он весело тряхнул рыжими кудрями в ответ на похвалу князя, рассмеялся и отвечал: «Твоего чекана люди, Александр Ярославич!..»
«Плохой же я чеканщик...» — подумал Невский, глядя сейчас на стоявшего перед ним понуро гончара. Он решил пока не устрашать вождя мятежников, а вызвать его на откровенную беседу, — кто знает, если раскается чистосердечно, то и добиться для него помилованья — перед посадником, владыкой и перед всем советом.
Князь ступил несколько шагов к гончару.
— Ну, тёзка, оказывается, мы с тобой в одной каше наспали. Я тебя помню... — спокойно и даже доброжелательно сказал он.
— И я тебя помню! — угрюмо отвечал Рогович. — Паевали в одной бра́тчине — верно! — в одном котле, да только пай вынули разный: тебя уж Невским зовут в народе, а меня... в земляном по́рубе гноят, да, должно быть, и на глаголь скоро вздёрнут!..
Александр Ярославич не ожидал такого ответа.
— Но торопись на глаголь! Успеешь! Оттуда ведь редко кто срывается. Пенька в Новгороде, сам знаешь, добран — верёвка не порвётся!.. Да только я так мыслю: не для верёвки такие шеи, как твоя!.. Видел тебя доблестным!.. И как это тебя угораздило? Когда я услышал о тебе, то сперва не поверил. Художник, думаю, добрый, изограф, гончар!.. Нет, не поверил.
И Александр, расхаживавший по комнате, остановился и развёл руками.
— Зря не поверил!.. Что сделал, то сделал: того не отрекаюсь! — ответил Рогович.
Он опять произнёс эти слова с каким-то странным носовым призвуком, словно бы у него был тяжёлый насморк, не дающий дышать.
— Подойди! — приказал Александр.
Рогович не двигался.
Тогда Невский, в два шага, сам вплотную приблизился к нему. Рогович быстро отдёрнул голову. Страшное подозрение мелькнуло в голове князя.
— Тебя били, что ли, в порубе? — спросил Александр.
— Нет, блинами потчевали! — отвечал Рогович.
И тогда только заметил Александр багровые припухлости и кровоподтёки на лице пленника.
Князь был неприятно смущён. Он как-то не думал никогда о своих заключённых и о том, каково им приходится. «Брошен в поруб — стало быть, виновен! — рассуждал Невский. — Что ж думать о них? И добрых людей всех не обдумаешь!..» И всё, что совершалось в княжеских тюрьмах ужасного, ничуть не возмущало его: даже верховные иерархи церкви признавали преступников и злоумышленников достойными казней. Но вот что такого человека, как Рогович, — и художника, и кровь свою не щадившего в битвах под его вождением — били у него, у Александра, в темнице, — это вызвало смущение в душе Невского. Он подошёл вплотную к художнику и движением крепких, как тиски, крупных своих пальцев развёл толстые медные пластины наручней, словно они были из сыромятного ремня сделаны: сперва — одну, потом — другую. Развёл их и швырнул на пол.
Дверь открылась, и, обеспокоенный резким звяком оков, дверник судебной палаты, с длинным топором на плече, всунулся в комнату.
Александр махнул на него рукой, и голова дверника скрылась.
Гончар тем временем стоял, поворачивая перед глазами замлевшие кисти рук и осматривая их. Потом поднял глаза на Александра и, усмехнувшись, спросил:
— Не боишься, что убегу? Ведь я же отчаянный!.. Али вот хвачу тебя ножиком!..
— Что отчаянный, знаю, — спокойно возразил Александр. — Зарезать ты меня не зарежешь: не пакостник!.. А бежать... зачем тебе бежать, когда, быть может, я и так тебя отпущу. Покайся — дарую тебе пощаду!..
— Уж как ты добр до меня! — насмешливо ответил Рогович.
Это был поединок! Кровавым потом души давался и тому и другому каждый удар, каждый натиск на противника. Невский сознательно дал полную волю выкричать себя этому измученному, озлобленному человеку. Он слушал его, стиснув зубы. Никто и никогда, даже самое вече Новгородское не дерзало швырять ему прямо в лицо всё то, что выкрикивал сейчас — то ярясь, как безумный, то затихая и глумливо покорствуя — этот человек, полураздавленный пораженьем и уж обречённый смерти.
Ho иногда князь терял хладнокровие и грозно возвышал голос.
— И чем зло? — кричал Невский. — А вот — эти ваши сходьбища, да пиры, да братчины, да восстания!.. А медь на татар, на Берке, вечем своим не зыкнете: на версту вас, не далее, слышно от Новгорода, когда орёте!..
— Ошибся, князь, малость! — возражал сквозь напускное смиренье гончар. — И зачем нам орать? Господин Великий Новгород, когда и шепотком на вече словцо скажет, так его и за Рейном слышат, и на Тоболе, и на Студёном Дышащем море, и до горы Арарат!.. А уж тебе, на Городище твоём, завсегда слышно будет!.. Смотри, Ярославич! — предостерегающе сказал Рогович. — Вот этак же давний дед твой, Владимирич Ярослав, порубал наших новгородцев — что ни лучших мужей, — а потом не он ли всячески себя клял, да чуть не ногтями готов был их из могилы выцарапывать, да чуть не в ногах валялся у господина Великого Новгорода: «Помогите, спасите!..» Смотри, как бы и с тобою того не было! Ныне, страха ради татарского, всех нас готов переказнить, что не хочем дани платить проклятым. А там, как надоест самому с поклонной шеей в кибитках ихних стоять, да вздумаешь клич кликнуть, ан глядь: и нету с тобой мужиков новгородских!.. Я ведь не за себя!..
— И я не за себя! — угрюмо отвечал Невский.
Помолчали. Первым на этот раз начал гончар. Голос его проникнут был тоской и предсмертной задушевностью.
— Вот что, Александр Ярославич, — сказал он, глядя на Невского исступлёнными глазами, из которых один, левый, заплыл нависающей багровой бровью. — Я ведь у смерти стою — чего мне лгать?! Ты меня послушай: ведь если бы воеводу нам такого, как ты, воеводу, а не князя! — да мы бы все, и с детьми, за тебя головою повалили!.. Видь нас в одном Новгороде Великом близко двухсот тысяч живёт[44]!.. Али не выстоим против татар?! Ведь все за тоби вдадимся, когда отстанешь от своего насилья. Разве я не вижу, что и тебя с души воротит!.. Разве я поверю, будто ты на весь век свой шею под татарское ярмо подклонил?!
Невский прошёлся по комнате, от стены к стене. Затем остановился перед Роговичем и спросил приглушённым, но сурово требующим голосом:
— А зачем же ты тогда велел кричать в народе, что я татарам Новгород продал?
— А чем же было иначе народ на тебя подвигнуть? — откровенно признался гончар. — Того ради и сделано!.. Да что ты меня пытаешь? Успеешь ещё! Кто ты мне? — Он снова поднял голос до крика. — Пришелец ты нам!.. Кесарем хочешь быть надо всей Русской Землёй... через ярлык татарский!.. Ну и цесарствуй на Владимирщине своей, а к нам не лезь!.. Нам Новгород — кесарь! Уж как-нибудь отстоим!.. С тобою пути разошлися, тогда другие государи помогут, то, которые татар не трепещут!.. Нам, Великому Новгороду, только свистнуть! — любой князь кинется на княженье к нам. И уж по нашим грамотам станет ходить, нашу волю творить, а не то что ты... Ты нам свободу застишь! Где она, прежняя наша свобода? Душно нам от тебя, новгородцам! Ты погляди, что творишь! Новгород в мыле, что конь загнан!.. Бока в кровь разодраны... Кровью харчет!..
— Ты лжёшь всё! — опаляя его неистовым, но ещё управляемым гневом своим, вскричал князь. — Ты лжёшь и клевещешь, аки Сатанаил!.. Мира и тишины хочу на Русской Земле!
— Да уж на что тише! — язвительно ответил гончар. — На вече только одного тебя и слыхать!.. Где оно, вече наше? В мешке у тебя! Да и завязано! От дедов твоих пошло насилье! Дед твой Всеволод тридцать лет нас мучил!.. У вашей семейки, суздальской, горстище, что беремище!..
Ярославич вспыхнул и поднял над головою пленника сжатый кулак: ещё немного, и Александр раздробил бы ему череп.
Рогович даже и не подумал отстраниться.
— Убить хочешь? Ну что ж!.. Новгород Великий без меня стоять будет: листьев у дуба много... Да и без тебя тоже простоит!
Он смолк и смотрел, что станет делать Ярославич.
А Ярославич, тяжело дыша, опустил руку и отошёл к окну.
Как бы чуя в недобром молчании князя, что сейчас будет положен предел всему тому, что здесь совершалось, Рогович торопился всадить в гордое княжеское сердце как можно больше своих отравленных стрел,
— Вы на что ставлены?.. — кричал он. — Чтобы за вашей рукою княжеской, за щитом да за мечом вашим Земле быть сбережённой!.. А вы?! У тебя, во Владимире, Неврюй, как свинья рылом гряду огородную, так и он всё испроверг и разрыл... Где дворцы ваши белокаменные, дедов твоих? Где пречудных и дивных мастеров изодчество? А что в церквах, соборах, где сам мастер Пётр, и Микула, и Абрам труждалися?! Всё испохаблено, осрамлено, расхищено!.. Да разве стоило для вас, для князей, нам, художникам, зодчим, после того трудиться?! Да на что вы и нужны после этого? Воевали мы, новгородцы, и без вас, без князей, не худо! — выкрикивал он. — До Оби, до Тобола дошли!.. И там наша хоругвь новгородская возвеяла!..
— Ты сам себе произнёс ныне осуждение, да и крамольным товарищам своим... в бесстыдной злобе своей, когда о других государях помянул! — сказал Невский, подавляя клокочущий в нём гнев. — Знаю: давно на западные страны блудное око своё косите!.. Торговцы!.. Барышники!.. Что́ вам Земли родной искровавленная пазуха?! Что́ вам и Новгород? Вам торговать бы только со всем светом, да кичиться, да надмеваться в гордыне своей: «Мы — господин Великий Новгород!.. Мы, дескать, не данники никому!..» А сами дальше перстов своих не видите!.. Стыда в вас нет! Кровь мою, за вас пролитую, попрали и поношенью предаёте: «За себя-де трудился... за княженье — не за отечество!..» Разве Низовские полки мои, что здесь погибли, не за ваш господин Великий Новгород стояли?.. А и — за всю Землю, за всё хрестьянство!.. А разве новгородцы — те, что со мною были на Озере, на льдах, — разве они за то в битве сгинули, чтобы купцам чужеземным, гостю летнему и зимнему, путь был чист в Новгород — и берегом и водою?! Нет, не за это они сгинули!.. И услыхал бы кто из них, из богатырей моих, как ихнего князя поносят!.. Да они бы тебя...
Но Рогович перебил князя.
— А что ж такого, что — князь! — насмешливо проговорил он. — Все из одной глины слеплены! Что в моих жилах кровь, что в твоих — одинака!..
— Молчи! — во весь голос заорал Ярославич, у которого в этот миг свет помутился в глазах от гнева. — Да знаешь ли ты, что в этих жилах — кровь Владимира Святого, кровь Владимира Мономаха, кровь кесарей византийских?! А ты — смерд!.. — Вне себя от ярости, он схватил за грудь Роговича, и всё, что было надето на теле узника, затрещало и разорвалось.
Рогович захрипел. Но даже и тут, с трудом хватая воздух грудью, он шёпотом выкрикнул:
— Меня... задушить... можешь: я — не Новгород!..
Ярославич отбросил его от себя.
— Дьявол — в тебе!.. — Невский отошёл к столу и стоял некоторое время молча, тяжело дыша.
Наконец, смотря в упор на противника, спросил его угрюмо и торжественно:
— Коли отпущу, опять за то же примешься?
— А то — нет?! — Рогович тоже поднял глаза, и взоры их встретились.
— Ну, тогда не пеняй на меня господу! — обрекающим голосом сказал Невский.
ЧАСТЬ 4
Дубравка возросла, раздобрела, вошла в лета. Статная, высокая, с гибким станом и царственными движеньями расцветшего тела, уже изведавшего материнство, — ибо там, в изгнании, у княгини Аглаи был младенец, — Дубравка вызывала сейчас даже и со стороны княгини Вассы невольные похвалы.
— Какою же ты стала красавицей, Аглая! — в присутствии Александра, который нередко тенор]» заходил к ним, на женскую половину, воскликнула однажды княгиня Пасса, ласково оглаживая упругое тело невестки. — Экая телица господня!.. Куда тебе вдоветь, повдовела — и хватит!.. Саша, — обратилась она к мужу, — а ведь правда, мы не отпустим её к Данилу Романовичу, а замуж здесь отдадим? Я ей и жениха нашла...
Ярославич через силу усмехнулся. Неприятным показалось Ярославичу чуждое его княгине, столь свойственное прочим боярыням, касание до чужой брачной жизни, до чужих замужеств и женитьб: «Не к лицу ей это!..»
— Не думал я, что монашенка моя, яже во святых, княгиня Васса, свахою может быть, да и доброй! — сказал Невский.
Княгиня Васса Брячиславна была до крайности разобижена:
— Что же, даже среди родных я не могу и шутки себе позволить? Или я не человек, как все?
— Ну полно! — стал уговаривать её Александр. — Прости. Пошутил... Так за кого же придумала ты отдать Дубраву нашу? — совсем по-другому спросил Ярославич.
— Глебушка ей жених, Василькович! — сказала, перестав сердиться, княгиня Васса. — Зачем же будем красавицу такую, дитя наше, в чужой род отдавать? Вот вернётся Глеб из Большой орды, от Каневичей, — и поженим. Тебе он помощник верный. Ты его любишь. Будут они с Дубравкой в своём Белоозере жить, а мы — во Владимире. Ездить будем друг к дружке. И как будет хорошо!
— Это какой Глеб? — изумилась Дубравка. — Тот юнец, что на свадьбе нашей со свечою шёл?
Княгиня Васса улыбнулась:
— Так разве одна только ты выросла? Ведь уже семь лет, подумать страшно, как привезли тебя к нам, во Владимир. Тебе двадцать три, ну и Глебушке около того...
Вмешался Невский.
— Нет, мать, — насмешливо сказал он. — Незадачливая ты сваха!.. Я велел Глебушке в Орде жениться, когда всё ладно там пойдёт у него…
— В Орде?! У поганых? На татарке? — воскликнула княгиня Васса.
Александр пожал плечами.
— А что ж тут такого? Они хороши, княжны ихние! Ясно, что окрестим вперёд. И они этого не прочь. У самого Менгу покойная царица была христианка, православная. Ежели оженится Глебушка в Орде, то лишь новую юницу введём в стадо Христово... Нет, видно, другого жениха будешь присматривать для неё! — закончил он снисходительно. А потом, осмотрев Дубравку с ног и до головы, покачал в раздумье головой и проговорил: — Эх, время, время... летит — и не видим! Семь лет!.. А и впрямь, как возросла!.. Вот только косички у тебя не выросли, Дубравка, — пошутил он и слегка докоснулся до золотых косичек Дубравки, забранных венчиком под золоти кораблик с кисейными наголовничком.
Дубравка смутилась. Вмешалась Васса:
— Саша, да оставь ты её, в краску вогнал!..
От проницательного, хотя и постоянно долу опущенною взора княгини Вассы не укрылась радость, которая вспыхнула в глазах Александра, когда, вернувшись под вечер из Новгорода к себе на Городище и войдя на половину княгини, он увидал, что у неё сидит Дубравка, хотя приезд княгини Аглаи не был для него неожиданностью.
Невский знал и узнал своевременно, то есть вскоре же, как возвратился в Переславль от Сартака, что брат Андрей и Дубравка спаслись от татар, что они бежали сперва в Новгород, потом в Псков, затем в Ревель, к датчанам, потом в Ригу, к магистру Поппе фон Остерна; узнал, что там они разделились: Дубравка, воспользовавшись пребыванием у рыцарей Марии посольства отца своего, отбыла с посольством этим в Галич, а князь Андрей — в Швецию[45]. Затем, когда Александр выхлопотал для Андрея прощенье и оба они, князь и княгиня, возвращались через Ливонию, и здесь, при весьма смутных обстоятельствах, князь Андрей Ярославич убит был в схватке, завязавшейся между немецкими рыцарями и отрядом эстонцев...
«Ведь вот брата убили, — подумала княгиня Васса, наблюдая при первой встрече с Дубравкой лицо мужа, — ни чего ещё расспросить не успел её о том, а у самого на лице только радость, что видит её!.. Видно, коли любить, так не скроешь! Стало быть, верно доносили мне тогда!..»
А доносили тогда княгине Вассе, остававшейся в Новгороде, некие тайные доброжелатели, что якобы супруг её потому лишь зажился в своём Берендееве, что там гостят у него невестка с мужем, и что галичанка очень по душе пришлась старшему Ярославичу, и что добрые люди уже поговаривают, не было бы и между Ярославичами-братьями чего худого, как промежду Владимиром да Ярополком из-за жены Ярополковой, гречанки[46]...
И немало тогда одиноких ночей, у окошечка над Волховом, проплакала супруга Невского! А когда свиделись, то не смогла она утаить от Саши своего ни слёз этих, ни страданий своих, ни того, что уж надумала проситься у него на постриженье, чтобы уйти в монастырь.
— Полно, голубка! — сказал ей тогда Александр. — Мало ли что злые люди сплетут? Им бы только раздор между мужем и женою посеять, да и в меня лишний комок грязи метнуть!
Что же касается мыслей княгини насчёт ухода в монастырь, то он пошутил тогда, поведя рукою на опочивальню её, озарённую светом лампад:
— Зачем из монастыря да в монастырь?
...И вот снова упорная мысль о монашестве, о постриге — мысль, зародившаяся на измоченных слезами подушках, стала всё больше и больше одолевать княгиню вскоре после возвращения Дубравки из-за границы.
И княгиня Васса решила испросить благословения у митрополита Кирилла.
— Вот, владыка святый, затем и прибыла к тебе, — сказала в конце беседы своей с владыкой супруга Невского. — От юности была у меня мысль на постриженье, не токмо теперь! А ныне что ж я? Ведь разве я не вижу — государь он великий... несть ему равных в государях! А я... Нет, не такая ему супруга нужна!.. Нет, не государыня я... — прошептала она, как бы сама на себя осуждающе покачивая головою...
Владыка молча внимал ей.
— Да и разве я добрая оказалась матерь сынам своим? — продолжала княгиня. — И сынов-то покорных не сумела воспитать ему!.. Отрок ещё, а уж отцу своему сердце уклюнул! — скорбно воскликнула она.
И митрополит Кирилл понял, что она говорит о князе Василии, который как раз в это время задержан был в Пскове при попытке бежать в Юрьев, к рыцарям, дабы укрыться там от гнева отца.
— А потом, владыка святый, — закончила слово своё княгиня, ещё ниже опустя голову и сжимая чётки, — ведь я — как на духу... любит он её, княгиню Аглаю...
Кирилл долго молчал.
Потом вздохнул и пристально посмотрел на супругу Невского.
— Княгиня! Дщерь моя во Христе! — проникновенно и строго сказал он. — Не мне отгоняти от дверей одну из овечек стада господня, стремящуюся укрыться от треволнений суетного и маловременного века сего в пристанище господнем!.. Благословляю намерения твои. Но, однако, ежели бы и жена простолюдина пришла ко мне просить меня о том, о чём ты просишь, то даже и ей я сказал бы: «Принеси мне сперва отпущение от мужа твоего на сей постриг, а без сего даже и я, митрополит всея Руси, ничто не могу сотворити!..» А что же князь? Он согласен? — спросил он резко и прямо.
Княгиня Васса долго не отвечала ему. Она, бедняжка, силилась переждать, пока утихнет нестерпимая, остановившая её дыханье, лютая боль от ножа, который повернул сейчас в её сердце митрополит своим вопросом.
— Я... я хочу с мольбою припасть к стопам его, и он... не отвергнет... — тихо произнесла княгиня.
И как раз а то же самое время княгиня Дубравка, изнемогая душою и отбросив прочь сломленную гордость, опустилась у ног Александра и, зарыдав, обняла его колени.
Они были один у него. Только что до этого Дубравка объясняла деверю своему новое затаённо, которое привезла она от родителя своего, и они вдвоём, склонясь над большим столом, чело о чело, разобрали, не без труда, письмо Даниила Романовича и его любительную грамоту Невскому. Потом княгиня стала рассказывать деверю своему о том, чего насмотрелась она и наслышалась там, в скитаниях своих — и в Швеции, и у датчан, и у магистра, — и Александр опять подивился её державному разуму и уменью увидать в чужих странах и при чужих королевских дворах как раз то, ради чего и засылаются послы.
— Как там тебя все ненавидят, Саша, как боятся, как все они смерти твоей жаждут! — вырвалось у неё среди рассказа.
— Ну полно, — в некотором смущении возразил Невский. — Да уж и кто там из них этак чтит особу мою?
— Кто? — воскликнула Аглая и, остановись перед ним, назвала, по пальцам пересчитала всех, кто вожделел смерти Невского. — Епископ абоский у финнов, и сам герцог (так назвала они Биргера), и Андре Фельфен, тот, что гостил у тебя когда-то, да и фон Остерна... Как хотелось им, чтобы брат твой, а мой супруг, позвал их на тебя... отымать престол Владимирский!.. А ты знаешь, что сказал мне рыцарь Депансье на пиру у епископа рижского? «Мы ждём, — сказал он, — мы ждём не дождёмся, когда ваш бофре́р, этот, в гордыне своей посмевший противиться велениям римского апостолического престола и орифламме Святой Марии, король Александр примет из рук татарской царицы такую же чашу, как принял когда-то его отец!» Господи! — выкрикнула Дубравка. — Да я чуть в лицо ему тогда вино из своей чаши не выплеснула. Саша, любимый мой, милый! Никогда не езди больше в Орду!.. Боже мой, как мы тебя оскорбили тогда — я и Андрей, что не повиновались тебе! Как я кляну себя!.. Ведь я же всё поняла, когда пожила там, среди них, среди этих волков в рясах, в панцирях, в мантиях!.. Нет, в руке твоей быть... без оглядки повиноваться... у твоих колен умереть!.. Ведь я же ради того только, чтобы ещё раз увидеть лицо твоё, вернулась сюда, чтобы ты простил меня!..
Как безумная, прижалась она к его колену, залившись слезами...
Бережно и ласково отстранил Александр голову Дубравки от своих колен, поднялся с кресла и поднял за локти её.
Они стояли теперь столь близко, что его ладони как бы сами собою легли позади её плеч. Нагнетающий стук его сердца пошатывал их обоих... Было совсем как тогда, на их озере, возле их берёзки!..
Он, медленно и противясь непреоборимому искушенью, склонялся к её распылавшимся губам. Ещё мгновенье — и беспощадный, как смерть, греховный брак соединил бы их...
Запах драгоценных ароматов, веявший от её одежд, лица и волос, вошёл в его ноздри, расширяя их, заставляя вдохнуть.
И вдруг этот сладостно-благовонный запах вызвал в его памяти тот сладковатый запах трупного тленья, которым нанесло на него тогда, в страшный день его возвращенья после Неврюя, там, возле берёзки, у синего озера... Вот он раздвигает и тотчас же вновь, с шумом, даёт сомкнуться кустам, едва только увидал обезображенное, и поруганное, и уже тронутое тленьем тело пожилой женщины, умерщвлённой татарами простолюдинки, в разодранной посконной юбке...
...Александр молча отшатнулся от Дубравки…
И это было их последним свиданьем.
На Карпаты, к отцу, Дубравку сопровождал Андрей-дворский с дружиной. Он сам вызвался сопровождать на Галичину дочь своего государя. И не одна была к тому причина у Андрея Ивановича!
Во-первых, то, что суздальское окружение Ярославича с неприязнью, всё больше и больше разраставшейся, взирало на пришлого, на галичанина, да ещё из простых, который столь близко стал возле ихнего князя. «Не стало ему своих, здешних доброродных бояр!» — ворчали суздальские придворные Александра.
Другою причиною были не перестающие весь год мятежи и жестоко разящие мятежников казни в Новгороде.
«Силён государь, силён Олександр Ярославич и великомудр, — наедине с собою размышлял Андрей Иванович. — Ну а только Данило Романович мой до людей помякше!.. Али уж и весь народ здешной, сиверной, посуровее нашего, галицкого? И то может быть!» — решал он, вспоминая и доныне горькое для него обстоятельство, что на суде, и покоях владыки, где решалась участь Роговича и участь других вожаков мятежа, — на этом суде только три голоса — его, да ещё новгородца Пинещинича, да ещё нового посадника, Михаила Фёдоровича, — и прозвучали за помилованье, всё же остальные поданы были за казнь, в том числе и голос владыки Кирилла, и архиепископа Далмата, и, наконец, голос самого Александра Ярославича.
Дворский, ожидавший, чем разверзнутся над провинившимся грозные уста князя, — после того как все высказались за казнь, — затаив дыхание взирал на том совете на Александра.
— Ну что ж, — промолвил Невский скорбно и глухо, — и я свой голос прилагаю.
Ещё мутны были глаза Ярославича и не в полное око подымались ресницы, но уже заметно было, что обильное кровопусканье из локтевой вены прояснило его сознание. Доктор Абрагам не страшился более рокового исхода.
Голова Александра покоилась на высокой стопе белоснежных подушек. Он отдыхал и время от времени вступал в неторопливый разговор со своим врачом.
— Одного я не пойму, доктор Абрагам, как та же самая кровь, и которой жизнь и душа наша, как может она стать губительна и болезни, так что вам, врачам, приходится сбрасывать её? — спросил Александр.
Старец покачал головою:
— Вслед за Гиппократом Косским полагаю и я, государь, что душа — не в крови, не в мозгу. Не всегда хороню сбрасывать кровь. Но тебе угрожало воспаление мозга. Блоны, одевающие це́ребрум, были переполнены разгорячённой сверх меры кровью...
— Пустое! А просто просквозило меня! — перебил доктора Александр. — Места здесь такие, что без ветру и дня не бывает. Тут тебе Волхов, тут Ильмень...
Они ещё поговорили о том о сём, и вдруг Абрагам сказал:
— Государь! Прости, что не в другое какое время начинаю разговор свой... Но ведь только восставим тебя, то и не увидим: умчишься!.. А я уж не смогу последовать за тобой, как прежде... Я отважусь тебе напомнить обещание твоё: отпустить меня на покой, когда стану дряхл и старческими недугами скорбен...
— Тебе ли — врачу из врачей — говорить так?
— Государь! Медицина могущественна, но ещё не всесильна! — печально усмехнувшись, отвечал доктор Абрагам. — Всякий день, пробуждаясь, я начинаю с того, что хладеющими перстами своими осязаю пульсус на своей иссохшей руке. И он говорит мне, чтобы я, старый Абрагам, поторапливался. Плоть моя обветшала. И я не могу быть больше твоим медиком, государь.
Александр неодобрительно покачал головой.
— На кого же ты, хотел бы я знать, оставляешь меня и семейство моё, доктор Абрагам?
На лице старого доктора изобразилось глубокое огорчение. Он приложил руку к груди и от самых глубин сердца сказал:
— Государь, попрёк твой раздирает мне душу!.. Или я забуду когда-нибудь, что ты спас мне жизнь в Литве? Но ведь доктор Бертольд из Марбурга просился к тебе. Это учёный муж и добрый и осторожный врачеватель... И ты сказал мне, государь: «Я подумаю».
Невский улыбнулся.
— Я и подумал, — отвечал он. — И велел отказать сему доктору Бертольду: у меня слишком много незавершённого, чтобы я решился вверить жизнь и здоровье своё иноземцу!..
Абрагам рассмеялся.
— Как радостно мне слышать решенье твоё, государь! Тогда всем сердцем своим, всей совестью и клятвою врача я заложусь пред тобою за того лекаря, в котором найдёшь ты не только мудрого врачевателя, но и единокровного тебе, сиречь русской крови, который сердце своё даст обратить в порошок, если узнает, что сим порошком тебе, государю своему, приносит исцеленье!.. Он ещё юн, но мне, старому доктору Абрагаму, уже нечего открывать ему из тайн нашей школы. Он — прирождённый врачеватель!..
— Боже мой! — воскликнул, даже приподымаясь глотки на подушках, Александр. — Так неужто это Настасьин?.. Ты изволил пошутить, доктор Абрагам!
Старик покачал головою.
— Нет! — отвечал он. — Ты был без сознанья, государь, и не знаешь... Но струя драгоценной крови твоей под ого остриём брызнула сегодня в этот серебряный сосуд!.. Я уже не посмел доверить этого своей одряхлевшей руке. Он же, мой доктор Григорий, положил и повязку на руку твою. Ему же приказал я изготовить и целебное питьё на красном вине...
— Да-а, чудно́, чудно́! — проговорил Невский. — Гринька Настасьин, тот, что с расшибленным носом гундел передо мною на мосту... и вдруг — лекарь...
— Так, государь! — подтвердил Абрагам. — Секира времени посекает корни одних, а другим она только отымает дикорастущие ветви! Но ежели ты сомневаешься, государь, то я устрою для него коллоквиум и приглашу, с твоего изволения, и доктора Франца из немецкого подворья, и доктора Татенау — от готян... И мы выдадим ему, Настасьину, диплому, и скрепим своими печатями... Кстати, вот слышу его шаги...
Вошёл Настасьин. В руках юноши была золочёная чаша, прикрытая сверху белым. Невский сквозь опущенные ресницы с любопытством рассматривал его.
Григорий, думая, что князь дремлет, тотчас поднялся на цыпочки, чтобы ступать неслышнее; он закусил губу, лицо его вытянулось...
Невский не выдержал и рассмеялся. Чаша с вином дрогнула в руке юноши. Его румяное, круглое, ясноглазое лицо владимирского паренька и русая широкая скобка надо лбом не очень-то вязались с чёрным, строгим одеяньем докторского ученика.
Григории поспешил поставить чашу.
— Ну, доктор Грегориус, пошутил Александр, — что ж это ты у своего князя столь крови повыцедил, да и за одни раз? Немцы из меня, пожалуй, и за все битвы столько не взяли!..
Григорий испуганно оглянулся на своего учителя. Тот хранил непроницаемое спокойствие.
— Князь, может быть, беспокоит рука?.. Плохо перевязал я? — спросил юноша, весь вспыхнув, и опустился на колени, чтобы осмотреть повязку.
— Да нет, чудесно перевязал! — возразил ему Александр и пошевелил рукою.
Юноша благоговейно приник к руке Невского.
— Ох ты... Настасьин... — растроганно произнёс Александр, взъерошив ему светлую чёлку.
Армянские купцы с пряностями Сирии и Леванта, с парчою и клинками, нефтью и лошадьми, с хлопком и ртутью, коврами и шёлком, винами и плодами из благодатной и солнцем усыновлённой Грузии, — вездесущие эти купцы не один и не два раза в течение лета посещали новгородского князя в его загородном излюбленном обиталище[47], что на Городищенском острове, между Волховом, Волховцом и Жилотугом. А излюбленным это обиталище было потому для всякого новгородского князя, что здесь не то что на ярославском дворище: князь здесь был избавлен от придирчивого и докучливого дозора со стороны новгородцев.
Здесь любой корабль с товарами — лишь бы только князь не вздумал потом перепродавать их в городе через подставных лиц, — любой корабль мог остановиться на собственной Городищенской пристани князя, и тогда либо он сам, по приглашенью гостей, посещал со свитою их корабль и выбирал, что ему было надобно — для себя, для княгини, для двора и для челяди, а либо приглашённые им купцы привозили образцы и подарки ему на дом.
Вот почему никого из новгородских соглядатаев не удивило бы, что в сумерки одного летнего, звенящего комарами вечера трое верховых, в бурках и высоких косматых шапках, проследовали к Городищу. За последним из всадников тянулась поводом, прикреплённая к его седлу, вьючная коренастая лошадь с бурдюками вина.
Присмотрелись новгородцы и к грузинским и к армянским купцам и знают: новгородский человек — без калача в торбе, а грузинский купец — без вина в бурдюке в путь-дорогу не тронутся: словно бы кровь свою жаркую водой боятся разбавить.
Но удивился бы соглядатай, когда бы увидал вскоре этих купцов, уже в светлых, пиршественных ризах, золотом затканных, с чашами в руках восседавших за избранною трапезою вместе с Невским и с владыкою Кириллом в тайном чертоге князя. И уже князьями именуют их и митрополит всея Руси, и великий князь Александр.
Да и впрямь — князья!..
Не простых послов прислали северному витязю и государю — оплоту православия и его надежде — оба грузинских царя — и старший, Давид, и младший. Старший, Давид, сын Георгия Лаши, тот, что прозван у татар Улу-Давидом, — он прислал не кого-либо иного, а самого князя Джакели, того самого, что в своём скалистом гнезде и всего лишь с восемью тысячами грузин — картвелов — отстоял добрую треть страны от непрерывно накатывавшихся на неё монгольских полчищ; отстоял — и от Субэдэя, и от Берке, а ныне уж и от иранского ильхана Хулагу.
Там, у самой оконечности гор, прижатые спиною к скалам Сванетии, лицом оборотившись к врагам, стояли последние витязи Карталинии, стоял Джакели, а с ним — и алиауры его, и виноградари, и пастухи.
Орда вхлёстывалась в глухие каменные щёки утёсов и отступала. И вновь натискивала и отваливала обратно в ропоте и в крови...
Подобно тому как стиснутый в опрокинутом под водою кубке воздух может противостоять целому океану, так Саркис Джакели со своими людьми противостоял натиску ордынских полчищ в дебрях и скалах Сванетии и Хевсуретии. Такой был тот человек, которого прислал к Невскому, со своим тайным словом, старший из царей Грузии, Улу-Давид.
Джакели был уже немолод — лет около шестидесяти. Чуть помоложе был второй спутник — посол Давида-младшего — Бедиан Джуаншеридзе.
Оба грузинских посла и видом одежды, и строгим расчёсом длинных, с проседью, вьющихся по концам волос, и горделивостью осанки напоминали знатнейших наших бояр — ближе всего бояр новгородских, но по́шиб Византии, повадки двора Ангелов и Комне́нов сквозили в каждом их движении. Сдержанный пафос речи, цветистое и радушное велеречие, без которого, как без соли трапеза, немыслим знатный грузин, и оплавленность, и горделивость жестов — всё говорило об их знатном происхождении.
Лица их были смуглы. И оттого ещё более сверкали великолепные зубы, обнажаемые и замедленной улыбке под густыми с проседью усами.
Горы, на которых тысячелетиями клюёт и терзает Прометееву печень клювастый Зевесов орёл; горы, на которых тоже тысячи лет выклёвывали и раздирали и самое сердце великому народу Грузии всевозможные хищники: от орлов Рима до серого кречета — Чингисхана, — эти грозные горы как бы отложили свой отпечаток в резкости очертаний лица того и другого грузина.
У старшего, у Джакели, лицо было более грозным и, пожалуй, более грубым и носило следы сабельных ударов. Его усы, опущенные книзу, потом выгнутые, были толсты, напоминая собою турьи рога. Подбородок — выбрит.
Его спутник — Бедиан Джуаншеридзе — выглядел несравненно изящнее и тоньше — и лицом, и складом, и речью. Да оно и неудивительно: от младых ногтей это был и философ, и ритор, и законовед. Ещё при жизни царицы Русудан — этой ничтожной дщери великой матери[48] — князь Бедиан блистательно закончил своё образование в Константинополе и вернулся на родину, в Сакартвело, полагая, что он везёт народу своему бесценные сокровища, что станет помощником царей в борьбе с лихоимством, и неправосудием, и запутанностью законов и обычного права.
Но по прибытии его в Грузию выяснилось, что не перед кем испытать юноше ни красноречия своего, ни искусства струить складки своей тоги, ни своих, перед зеркалом разработанных рукодвижений судебного ходатая и оратора!
Орды Субэдэя, пройдя Хорезм и Иран, громили Сакартвело. Татарин-кентавр — народ, сросшийся с лошадью, покрыл сплошь благословенные, ущедренные солнцем холмы Грузии. Дыша грабежом и убийством, монголы текли по стране, уничтожая не только всё дышащее, но и всё зеленеющее.
После первого поражения грузинских войск, которыми предводительствовал верховный атабек Иванэ — кичливый фантаст, задумавший одно время остановить татар с помощью крестного хода, — ужас и отчаянье овладели и рядовым дворянством Грузии, и эриставами княжеств и областей, а в первую очередь само́й несчастной царицей Русудан.
Она металась между Тбилиси и Кутаиси, пока не укрылась в Сванетии. Татары же, как во всякой не покорившейся сразу стране, принялись уничтожать непокорную грузинскую знать, военное сословие, порабощать и грабить виноградаря и скотовода, угонять в плен ремесленников.
Народ поголовно взялся за оружие. Картли, Имеретия, Мингрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия восстали единодушно. И тогда-то во главе наспех собранных азнаурских дружин встал Джакели.
Его отряды обрастали ополчением народа, который, заслышав зов бранной трубы, волна за волною, выливался из своей извечной скалистой цитадели — Сванетских гор — на покинутые им родные холмы и долины и устремлялся на татар.
Армии Субэдэя, пробираясь с невероятными усилиями сквозь каменные жабры ущелий[49], имея прямо перед собою стену Кавказского хребта, рвясь к просторам южнорусских степей, вдруг получила внезапную кровавую потылицу от грузин, которых не ведавший поражений Субэдэй считал уже давно либо истреблёнными, либо подклонившими свои гордые выи под деревянный многопудовый хомут наплечной колодки.
В стремленье вырваться из гулкого каменного бурдюка, где уже Тереком чикла татарская кровь, разъярённый хан приказал громоздить, наваливать в пропасти и ущелья всё, что только могло хоть на вершок поднять колёса монгольских а́роб. Китайские пленные инженеры пытались бурить скалы, дабы взорвать их заложенным в скважины порохом, однако вскоре Субэдэй отменил свой приказ, когда увидел, что гибель армии придёт прежде, чем инженеры успеют хоть чего-либо достигнуть.
Он велел валить в ущелья глыбы, камни, деревья и хворост; наконец сгруживали в пропасть, наезжая конями, тысячи гонимых перед собою рабов и толпы захваченного окрест населения, не беря даже труда предварительно умертвить кладомых в те плотины людей: зачем? — умрут и так, когда тысячи конских копыт пройдут по этим завалам.
На дно последней стремнины, уж перед самым хребтом, приказано было ринуть шатры, кибитки, тюки награбленного сукна и ковров! Тщетно: всё так же в недосягаемой выси стояла бессмертная иерархия снеговых исполинов. Казалось, они были совсем рядом, но ещё неделю ползли, ещё неделю клали кровавую борозду по ущельям и осыпям татары, карабкаясь к этим бессмертно блистающим снеговым исполинам, и они оставались всё столь же недосягаемо близкими...
Монголам Субэдэя там, впереди, грозила голодная гибель, позади — Джакели.
И если бы случайно захваченная татарами кучка предателей беглецов не вывела армию Субэдэя вправо — на путь Каспийских ворот, — то... не было бы битвы на Калке...
Весть о первой победе над татарами пронеслась звуком длинной медной трубы и столбами дымных костров от вершины к вершине. И до самого Рима, до слуха папы Григория, донеслась эта весть.
Верховный совет, дидебулы Грузии, вместе с царицею Русудан воззвали к «наместнику Христа» о срочной подмоге, о том, чтобы повелел рыцарям, залёгшим в Константинополе, устроившим герцогство Афинское и склады товаров в Парфеноне, захватившим половину Балкан, двинуться в истинный крестовый поход против монгольских орд.
На грамоту Русудан, в которой она извещала римского первосвященника о победе над татарами, об их поспешном уходе в южнорусские степи, папа не дал ответа. Однако легаты — явные и тайные — вымогали у народа и правителей Грузии отступничества от православия, отказа от союза с Ласкарисом, императором греков, и требовали, чтобы грузины признали папское владычество.
Послана была наконец и папская ответная булла царице Русудан... с двадцатилетним опозданием, когда иго Азии уже налегло и на Русскую Землю.
Уже баскак Батыя сидел в Тбилиси — осквернённом, загаженном, опустевшем. Ненадолго хватило грузинского единства, которое подымало на смерть, на подвиг: неистовая грызня и поножовщина знатных; два царя в одной Грузии; выпрашивание ярлыков ханских; доносы и политическая подножка друг другу в Орде... Для народа же — захлёстнутый на горле волосяной аркан налогов и податей, которым уже и самый счёт был потерян. Из деревень народ разбегался в горы.
Но ещё более страшная дань — дань кровью грузинских юношей — воинская повинность Орде — тяготела над народом Сакартвело: один боец с девяти дворов — девяносто тысяч бойцов со всей Грузин уходило в любой из походов хана.
В Египте — а за что неведомо — лилась грузинская кровь. Грузин гнали на русских, русских собирались гнать на грузин...
...Бедиану Джуаншеридзе, перед лицом татарских сборщиков дани, не очень-то пригодились его юридические познания, его тончайшие ораторские жесты со свитком пергамента, изящество и красота его рук с миндалеобразными обточенными ногтями, окрашенными в розовый цвет, и знанье налоговых законов и крючкотворства. Фискальная практика монголов была до чрезвычайности проста.
Однажды в долго осаждаемый город вторглись воины
Джагатая. Шла резня. Одна старуха, стремясь хоть сколько-нибудь отсрочить свою гибель, крикнула монгольскому военачальнику, что она проглотила драгоценный алмаз, пусть не убивают её. Нойон приказал не убивать, но велел распороть ей живот и обыскать внутренности. Так и было сделано. Камень был найден. Вслед за тем приказано было вспороть животы и у всех трупов, которые ещё не успели предать земле...
Пребывая с Невским в застолье, князь Джуаншеридзе, незаметно для Александра Ярославича, успел перехватить, устремлённый на свои ногти его взгляд — взгляд, как бы вздрогнувший от внезапного чувства жалости.
Сколько раз приходилось ему, Джуаншеридзе, подмечать этот взгляд у людей, впервые увидавших его!
Переждав некоторое время за беседою, вином и взаимными здравицами, князь Джуаншеридзе произнёс, выбрав мгновенье, когда это пришлось кстати:
— Пью за твоё здоровье, государь, да будешь благословен в роды и в роды — ты и священночтимое семейство твоё, и дом твой, и все деянья твои!.. Мне ли слышать о себе восхваленья из уст твоих? Столько славных из народа моего жизнь свою сложили за отечество. Я же чем пожертвовал? Разве только... вот ногтями своими! — закончил он, оглядывая на левой руке свои кучковатые, изъеденные ногти, вернее — корешки от них...
Переводчик обоих послов — третий их спутник — тотчас же перевёл эти слова Джуаншеридзе на русский язык.
Князь Джакели укоризненно поморщился.
— Ай, князь Бедиан! — сказал он и покачал головою. — Государь, — обратился он к Невскому, — в этом не надо верить ему!.. Каждый из его ногтей, что потерял он, нам, грузинам, следовало бы вправить в золотой ковчежец, как сделали католики с ногтем святого Петра!..
Джуаншеридзе смутился и возмущённо проговорил по-грузински что-то своему товарищу, очевидно запрещая ему рассказывать. Однако его товарищ пренебрёг этим. Рассказ его был прост и ужасен.
Когда в Грузии борьба против монголов сменилась данничеством, Джуаншеридзе во время пиров и застолий стал время от времени произносить зажигательные речи, в которых, под видом прозрачных иносказаний, укорял дворянство Грузии в том, что оно предаёт отчизну своими распрями, своекорыстием и беспечностью. Призывал последовать примеру Джакели, который ушёл в горы, накапливал там народ и нависал страхом над ханскими дорогами, истребляя нойонов, сборщиков податей и даже целые татарские гарнизоны.
И тогда его, грузинского владетельного князя Джуаншеридзе, обладавшего к тому же титулом византийского патриция, схватили, как простого пастуха, и представили перед кровавые очи верховного баскака Грузии — хана Аргуна.
От Бедиана потребовали, чтобы он выдал всех, кто оказался отзывчив на его мятежные укоризны. Джуаншеридзе рассмеялся в лицо баскаку.
Тогда его подвергли любимой пытке Орды: стали не торопясь, и время от времени возобновляя допрос, загонять иголки под ногти, вплоть до ногтевого ложа.
Князь перенёс все эти пытки, и ни одно чужое имя не сорвалось с его уст. Он много раз лишался сознанья и наконец был брошен неподалёку от сакли, ибо его сочли мёртвым.
Люди подняли его и едва вернули к жизни. Он унесён был в горы — в львиное логово Джакели... Долгое время считали, что он навеки лишился рассудка. Однако не у того отымает родина рассудок, божественный свет мысли, кто отдаёт свою жизнь за неё, но — у предателей!
Вместо ногтей выросли у князя Бедиана безобразные роговые комочки-горбики...
...Таков был этот второй посол царей Грузии — посол Давида-младшего.
Послы грузинские пили неторопливо и понемногу. Однако чеканные стопы и кубки не усыхали. Беседа становилась всё теплее и задушевнее. Хозяева и гости нравились друг другу. Вскоре, после первых же взглядов глаза в глаза и первых приветствий и здравиц, перестали опасаться: русские — грузин, грузины — русских, хозяева — гостей, а гости — хозяев... Они перестали подкрадываться словами друг к другу, как всегда это бывает в таких посольских встречах. Надо было верить друг другу! И без того, если до Берке дойдёт, что это за купцы из страны георгианов, то есть грузин, приехали к Александру и о чём беседовали они с великим князем Владимирским и с «главным попом» русских, то и тем и другим, быть может, придётся сделать неминуемый выбор между отравленной чашей из рук какой-нибудь ханши Берке и тетивою вкруг шеи.
Но и пора было начинать. Пора было привзмахнуть наконец и северным и южным крылом исполинского восстания против Орды, которое замышлял Ярославич на своём севере, и оба царя Сакартвело на юге.
И промолвил митрополит:
— Византия — и вам и нам — есть общая матерь. Хотя и есть различие кое в чём между нашими церквами, однако велико ли оно?
— Не толще шелухи луковой! — подтвердил Джуаншеридзе.
— Воистину, — согласился митрополит.
Джакели весомо опустил свой огромный кубок на стол и немного уже повышенным голосом, как будто кто его оспаривал, настойчиво произнёс:
— И оно было бы ещё меньше, это различие церквей наших, если бы не греки. Усом своим клянусь! Вот этим усом!..
Он обхватил и огладил свой мощный ус, слегка выворачивая руку.
Разговор их стремительно обега́л полмира. Великий хан Кублай и папа Александр; Миндовг и калиф Египта; император Латинской империи Генрих и выгнанный крестоносцами Ласкарис; герцог Биргер и хан Берке; Плано Карпини и полномочный баскак императора Монголии и Китая — Улавчий, приехавший исчислить Русскую Землю; посол Людовика французского к монголам — Рюнсбрэк, и англичан — тамплиер Джон, родом из Лондона, именуемый татарами Пэта[50], который, после позорного своего поражения и плененья в Чехии, был отставлен от вождения татарских армий и ныне вместе с немцем Штумпенхаузеном числился при дворе Берке советником по делам Запада и Руси.
Помянули всё ещё длящуюся после смерти Гогенштауфена смуту и всенародную распрю в Тевтонии; помянули кровавое междуцарствие в Дании.
От купцов новгородских, что ездили торговать в Гамбург, Невский получал достоверные известия: кнехты немецкие уж не валят валом, как прежде, в набеги на Псковщину, — предпочитают грабить у себя по дорогам, в Германии.
— Да уж, — проворчал Невский, — если этот miles gегmanicus — воин германский — начнёт грабить, то и татарину за ним не поспеть!..
— Ты прав, государь! — подтвердил Джакели, пристукнув кружкой, словно бы готовый ринуться в бой за истину этих слов, которых никто и не думал оспаривать. — Это они осквернили и ограбили Святую Софию константинопольскую, немцы!..
Александр наклонил голову.
— Добирались и до нашей... до Новгородской Софии, — сказал он. — Да только не вышло!..
Кирилл-владыка сурово промолвил:
— Растлились правы... Медь что в Дании делается?.. Короля отравляют причастием!.. Помыслить страшно!
Вспомнили братоубийцу — датского принца Авеля.
Джуаншеридзе мрачно пошутил:
— Видно, и впрямь последние времена: Авель Каина убивает!..
Кирилл широко осенил себя крестным знаменьем. Оба посла грузинских перекрестились вслед за ним.
Длилась беседа... Александр изъяснил послам грузинским всю сложность внешнеполитических задач, перед ним стоявших.
— Порознь одолеем и немца и татарина, — сказал он. — Верёвку от тарана татарского из руки господина папы надо вырвать... чтобы не натравливал татар противу нас!.. А то как нарочно: татары — на нас, и эти тоже на нас, воины Христовы... рыцари... Пускай сами столкнутся лоб в лоб!.. Привыкли за озёрами крови русской скрываться!.. Уж довольно бы народу нашему щит держать над всем прочим христианством!
Изысканно и от всего сердца расточали одна сторона другой похвалы — и народу, и государям, и духовенству.
Александр Ярославич горько сетовал на разномыслие и непослушанье князей.
— У нас то же самое, — мрачно сказал Джакели.
— Знаю — и у вас не лучше, — подтвердил Александр. — Всяк атабек — на свой побег!.. Однако я уверен: картвелы постоят за себя! Рымлян перебороли, персов перебороли... арабов... грекам не поддались... Турков отразили...
Митрополит Кирилл присоединился к словам князя.
— Тамарь-царица, — сказал он, — не только венец носила царский, но и мечом была опоясана!
И снова Невский:
— Да и не чужие мы! Дядя мой, Юрий Андреевич, на вашей царице Тамаре был женат[51]! — Он слегка поклонился послам. Улыбнувшись, вспомнил: — Витязь был добрый. Только не в меру горяч. Да и за третью чару далеко переступал... Афродите и Вакху служил сверх меры. Зато и прогнан был ею, Тамарою...
Помолчал и, лукаво переглянувшись с князем Бедианом, добавил:
— Может быть, и ещё в чём-либо прогрешил... В своего родителя ндравом был, в Андрея Юрьича: самовластен!..
Бор — будто подземелье: сыр и тёмен. Пробившийся сквозь хвойную крышу луч солнца казался зелёным. Глухо! Даже конский ступ заглушён. Позвякивают медные наборы уздечек. Стукнет конь копытом о корень, ударит клювом в дерево чёрный дятел, и опять всё стихнет. Парит как в бане. Коням тяжело. Всадники то и дело огребают краем ладони со лба крупный пот.
Но Александр Ярославич не разрешает снимать ни шлема, ни панциря.
— Самая глухомань, — сказал он. — Сюда и топор не хаживал. Места Перуньи. Быть готову!
И впрямь, не Перун ли, не Чернобог ли или богиня Мокош переместили сюда свои требища, будучи изгнаны из городов? Откуда этот дуб среди сосен? Откуда эти алые ленты, подвязанные к ветвям? Заглянули в большое дупло, а там теплится жёлтого воску большая и уже догорающая свеча...
— Мордва! Своим богам молятся! — пояснил Ярославич.
Близко к закату дохнул ветер. Зашушукались меж собою, будто замышляя недоброе, большие лохматые ели, словно куделею обвешанные. Вот всё больше, всё больше начинают зыбиться кругами, очерчивая небо, вершины исполинских деревьев. И вот, уже будто вече, заволновался, зашумел весь бор...
Стало ещё темнее.
— Опознаться не могу, князь, прости, должно, заблудились, — сказал старый дружинник, слезая с коня.
Александр покачал неодобрительно головою. Глянул на Михайлу Пинещинича, с которым ехал стремя в стремя.
Кудробородый, смуглый новгородец вполголоса ругнул старика и тотчас же обратился к Невскому:
— Потянем, пока наши кони дюжат! А там — заночуем, — отвечал он. — Оно безопаснее, чем ехать. Идёшь в малой дружине, князь. А земля здесь глухая, лешая! Народ по лесам распуган от татар. Одичал. Ватагами сбивается. Купцов проезжих бьют. Слыхать, Гасило какой-то здесь орудует. Зверь! Татары и те его боятся — меньше как сотней не ездят.
— Ох, боюсь, боюсь, словно лист осиновый! — пошутил Александр.
— Да я разве к тому, что боишься, князь, а вот что без опаски ездишь!..
— Большим народом ездить, ты сам знаешь, нельзя! След широк будем класть! — сказал Невский.
Эта поездка Ярославича только с полдюжиною отборных телохранителей, да ещё с Михайлой Пинещиничем, имеющим тайные полномочия от посадника новгородского, — эта поездка была лишь одной из тех сугубо тайных северных поездок князя, во время которых Невский, не объявляясь народу, проверял боевую готовность своих затаённых дружин и отрядов, которые он вот уже целые десять лет насаждал по всему северу, как во владимирских, так и в новгородских владениях.
В своей семье помогали ему в этом деле князья Глеб и Борис Васильковичи, а в Новгороде — посадник Михайла, да ещё вечевой воротила Пинещинич, в котором души не чаяли новгородцы, несмотря на то что он был предан Ярославичу и отнюдь того не скрывал от сограждан.
Больше никого из князей, из бояр не подпускал к тому тайному делу Ярославич.
Худо пришлось Александру с тайными его дружинами после несчастного восстания князя Андрея и после карательного нашествия Неврюя, Укитьи и Алабуги. Татары вынюхивали всё. Повсюду сели баскаки. Приходилось изворачиваться. Мимоездом из Владимира в Новгород, из Новгорода во Владимир Невский всякий раз давал большую дугу к северу и ухитрился-таки распрятать, рассовать по глухим северным острожкам и сёлам свои дружины и отряды.
Они обучались там воинскому делу под видом рыболовных, звероловных ватаг, под видом медоваров и смологонов. Невский сажал их по озёрам и рекам, чтобы, когда придёт час, быстро могли бы двинуться к югу — во владимирские и поволжские города.
Было двенадцать таких гнездовий: на озёрах — Онежском, Белом, Кубенском и на озере Лача; на реках — Мологе, Онеге, Чагодоще, на Сити, Сухоне, на Двине и на реке Юг. В городе Великий Устюг было главное из потаённых воеводств князя[52].
Случалось, заскакивали в эти гнездовья баскаки. «Кто вы такие?» — «Ловим рыбу на князя: осетринники княжие». — «А вы?» — «А мы — борти держим княжеские да мёда варим на княжеский двор». — «Ладно. А вы?» — «А мы соболя да горностая ищем. Прими, хан, от нас — в почтенье, во здравие!..» И вот — и мёдом стоялым потчуют татарина, и осётров, что брёвна, мороженых целые возы увозит с собою баскак, и — собольком по сердцу!..
С тем и отъезжали татарские баскаки.
Невский строго требовал от своих дружин, засаженных в глухомань, чтобы не только военное дело проходили, учились владеть оружием, понимать татарскую хитрость, но и чтобы впрямь стояли — каждая дружина на своём промысле. Ватага — ловецкая, ватага — зверовая, а те — смологоны, а те — медовары.
— Мне бы только хмель, бродило, сухим до поры до времени додержать!.. А чему бродить найдётся!.. — говаривал Александр, беседуй с теми немногими, кого он держал возле сердца.
А уж вряд ли среди дворян князя и среди дружинников его кто-либо ближайший сердцу Александра, чем новый лейб-медик, сменивший доктора Абрагама, Григорий Настасьин!
Юноша и теперь сопровождал Невского.
— Да, Настасьин, пора, друг, пора! Время пришло ударить на ханов! — говорил Невский своему юному спутнику, слегка натягивая поводья и переводя коня на шаг. То же сделал и его спутник.
Лесная тропа становилась всё теснее и теснее, так что ( греми одного из всадников время от времени позвякивало о стремя другого.
Прежнего Гриньку Настасьина было бы трудно узнать сейчас тому, кто видывал его мальчонкой на мосту через Клязьму. До чего возмужал и похорошел парень! Это был статный, красивый юноша. Нежный пушок первоусья оттенил ого уста, гордые и мужественные. Только вот румянец на крепких яблоках щёк был уж очень прозрачно-алый, словно девичий...
Они поехали рядом, конь 6 конь. Юноша с трепетом сердца слушал князя. Уж давно не бывал Ярославич столь радостен, светел, давно не наслаждался так Настасьин высоким полётом его прозорливого ума, исполненного отваги!
— Да, Настасьин! — говорил Александр. — Наконец-то и у них в Орде началось то же самое, что и нас погубило: брат брату ножик между рёбер сажает! Сколько лет, бываючи у Батыя и у этого гнуса, у Берке, я жадно — ох как жадно! — всматривался: где бы ту расщелину отыскать, в которую бы хороший лом заложить, дабы этим ломом расшатать, развалить скорей, державное их строение, кочевое их дикое царство! И вот он пришёл, этот час! Скоро, на днях, ха и Берке двинет все полки свои на братца своего, на Хулагу[53]. А тот уже послов мне засылал: помощи просит на волжского братца. Что ж, помогу. Не умедлю. Пускай не сомневается!.. — И Александр Ярославич многозначительно засмеялся. — Татарином татарина бить! — добавил он.
От Настасьина не было у него тайн.
Рассмеялся и Григорий. Грудь его задышала глубоко, он гордо расправил плечи.
— Но только и свою, русскую руку дай же мне приложить, государь! — полушутливо взмолился он к Ярославичу. — Ещё на того, на Чагана, рука у меня горела!
— Ну, уж то-то был ты богатырь — Илья Муромец — в ту пору! Как сейчас, тебя помню тогдашнего. Ох, время, время!
Невский погрузился в раздумье.
Некоторое время ехали молча. Еловый лес — сырой, тёмный, с космами зелёного мха на деревьях — был как погреб...
Слышалось посапывание лошадей. Глухой топот копыт. Позвякивание сбруи...
И снова заговорил Невский:
— Нет, Гриша, твоя битва не мечевая! Твоя битва — со смертью. Ты врач, целитель. Такого где мне сыскать? Нет, я уж тебя поберегу!
Он лукаво прищурился на юношу и не без намёка проговорил, подражая ребячьему голосу:
— Я с тобой хочу!
...Александр с Настасьиным и четверо телохранителей ехали гуськом — один вслед другому. Вдруг откуда-то с дерева с шумом низринулась метко брошенная петля, и в следующее мгновение один из воинов, сорванный ею с седла, уже лежал навзничь.
В лесу раздался разбойничий посвист.
Настасьин выхватил меч. Охрана мигом нацелилась стрелами в чью-то ногу в лапте, видневшуюся на суку.
Лишь один Ярославич остался спокоен. Он даже и руку не оторвал от повода. Он только взглядом рассерженного хозяина повёл по деревьям, и вот громоподобный голос его, заглушавший бурю битв и шум Новгородского веча, зычно прокатился по бору:
— Эй! Кто там озорует?!
На миг всё смолкло. А затем могучий седой бородач и помятом татарском шлеме вышел на дорогу. Сильной pyкой, обнажённой по локоть, он схватил под уздцы княжеского коня.
— Но, но!.. — предостерегающе зыкнул на него Александр.
Тот выпустил повод, вгляделся в лицо всадника и хотел упасть на колени. Невский удержал его.
— Осударь! Олександр Ярославич? Прости! — проговорил старик.
Тут и Александр узнал предводителя лесных жителей.
— Да это никак Мирон? Мирон Фёдорович? — воскликнул он изумлённо.
Мирон отвечал с какой-то торжественной скорбью:
— И звали и величали — и Мирон и Фёдорович! А ныне Гасилой кличут. Теперь стал Гасило, как принялся татар проклятых вот этим самым гасить! У нас попросту, по-хрестьянски, это орудие гасилом зовут.
На правой руке Мирона висел на сыромятном ремне тяжёлый, с шипами железный шар.
— Кистень, — сказал Невский, — вещь в бою добрая! Но и ведь тебя пахарем добрым в давние годы знавал. Видно, большая же беда над тобою стряслась, коли с земли, и пашни тебя сорвала?
— Ох, князь, и не говори! — глухо и словно бы сквозь рыдание вырвалось у старика.
Здесь, в лесном мужицком стану, не было никаких разбойничьих землянок, а стояли по-доброму срубленные избы, хоти и небольшие. Пыли даже и пригоны для коров и лошадей, крытые по-летнему.
— А зачем её рыть, землянку? Дороже будет! — говорил Невскому Гасило. — Да и народ по избе затоскует. А так — будто и починке живём, и маленьком... Только дерним нету, а так всё есть!
И впрямь, даже в баньку наутро позвал князя Мирон.
— Осмелился, велел баньку истопить... попарься, Олександр Ярославич.
После бани беседовали на завалинке избы.
— А если и сюда досочатся татары, тогда что? — спросил Невский.
Мирон Фёдорович ответил спокойно:
— Уйдём глубже. Только и всего. И опять же своё станем делать: губить их, стервь полевскую!.. Набег сделаем — и к себе домой: пахать. А как же, Олександр
Ярославич, ведь вся земля лежит впусте, не пахана, не боронована!.. В страдно время половину людей с жёнками дома оставляю, а половину в засаду беру. Пахать да боронить — денёчка не обронить!.. Пахарю в весну — не до сну!..
— Чем воюете? — спросил Невский.
— А кто — копьём, кто — мечом, кто — топорком, кто — рогатиной, словом, кто чем. Иные луком владеют. А я гасило предпочитаю...
Невский любовался могучим стариком и недоумевал: Мирону Фёдоровичу минуло уже семь десятков, а он будто бы ещё крепче стал, чем в первую их встречу на глухой заимке.
Да и здесь была у него та же заимка. То и дело слышались властные, хозяйственные окрики старика:
— Делай с умом! Не успеваете? А надо с курами ложиться, с петухами вставать!.. Тогда успеете!.. А вы отправляйтесь дёрн резать! — распоряжался он, поименовывая с десяток человек.
И все безропотно ему подчинялись.
Забегал в кузницу, крытую дерновиной, торопил ковку лемеха, колёсных ободьев, копий и стрельных наконечников.
Навстречу ему попалась молодая женщина. Старик напустился на неё:
— И где ты летала, летава! Робенок твой себя перекричал! Кто за тебя сосить робенка станет? Я, что ли?
А когда женщина, заспешив, прошла к зыбке, подвешенной на суку, Гасило с гордостью кивнул в её сторону и сказал князю:
— Намедни, как в засаду ходили, троих татар обушком передобанила!.. Ненавидит она их — у-у! — зубами скрипит, когда морду татарскую увидит!..
И тогда Невский спросил его, где его младшая сноха — Настя.
Старик помрачнел.
— В живых её нету, Олександр Ярославич, — ответил он. — Упокой господи её душеньку светлую!.. А с нами же ушла... И вот не хуже этой (он кивнул на женщину, кормившую ребёнка) поганых уничтожала... Уж пощады от неё татарин не вымолит!.. Ну и они её не пощадили... Тяжело помирала: стрелою ей лёгкое прошибли... вынуть — где ж тут!.. Шибко мучилась... А ведь вот до чего ты запал ей в памяти — ласка твоя! — на одре смертном и то про твой подарок, про серёжки те, вспоминала. Сама, своей рученькой, через силу-то сняла их, подержала на ладони, да и отдаёт мне! «Ты, говорит, тятенька, может быть, ещё и увидаешь его когда, — отдай ему серёжки эти. Скажи: старалась не худая быть, чтобы не тускнели они на мне. Помнила, от кого ношу... И как, говорит, я ему сказала тогда, что только с мёртвой с меня сымут, вот так и есть!..»
Старик, отвернувшись, расстегнул ворот рубахи, распорол холщовую ладанку, в которой носил он на груди Настины серьги, и отдал их князю.
Из рассказа Мирона Фёдоровича Невский узнал следующее: татары Неврюя дохлынули и до заимки Мирона. Дома были в то время сам старик да старший сын Тимофей с женой. Младший, Олёша, с Настей работали на дальней пашне.
Когда принялись грабить, Мирон Фёдорович, не устранись, поднялся за своё добро. Его ударили с седла плетью-свинчаткой по голове и проломили череп. Старик упал замертво.
Тогда Тимофей с оглоблей кинулся на татар. Двоим размозжил черепа, сшиб с коня. Долго не подпускал к себе. Но его одолели-таки и скрутили волосяною верёвкою. М плаву подвергли надругательствам и умертвили. Потом снова принялись за Тимофея.
— Его к берёзе стали привязывать... А он этак осмотрелся через плечо, — соседи после рассказывали, — а верёвка срамная, грязная... Он у меня брезгливой был до нечистого!.. Свалил её плечиком, верёвку, да и говорит им: «И, говорит, русской, гады вы проклятые, звери вы полевские! Потто вяжете? Али я смерти испужался?.. Да я вот так на её, на смертыньку, этак гляжу!..»
И прямо-то глянул поверх их: «Стреляйте!..»
Они, проклятые, луки свои изладили — нацелились.
Тут старшой ихний... батырь... сказал по-ихнему, по-татарски, ну, словом, запретил убивать сразу, велел другие стрелы, тупые, накладывать: мученья чтобы больше принял... Но Тимофей мой Мироныч, упокой господь его душеньку, он и с места не рванулся, и оком своим соколиным перед погаными — от стрел их — не дрогнул, ресницей не сморгнул!.. Всего исстреляли... Последняя стрела в горло... Захлебнулся кровушкой своей... Тут его и не стало...
Долго сидели молча...
Наконец Ярославич вздохнул и от всей глубины души горестно и любовно глянул в скорбные отцовские очи.
— От доброго короля добрая и отрасль!.. — сказал он.
...Перед сном Гасило пришёл в избу, где расположился Александр Ярославич. Он пришёл предупредить князя, чтобы тот ночью не встревожился, если услышит ненадолго крики ц звон оружия близ лесного их обиталища.
— Поганые хочут этим лесом ехать с награбленным русским добром — баскаки татарские. Разведали молодцы наши... Так вот, хочем встретить злодеев! — сказал старик.
— В час добрый! — отвечал Александр. — А сон у меня крепок: не тревожься, старина.
Однако известие, принесённое Мироном, встревожило Гришу Настасьина. Он поделился тревогой своей с начальником стражи, и тог на всякий случай усилил сторожевую охрану и велел держать коней под седлом.
Григорий лёг в эту ночь в одежде и при оружии. И когда сквозь чуткую дремоту донеслись до его слуха отдалённые крики и звон оружия, Григорий осторожно, чтобы не разбудить князя, вышел из избы. С крылечка виден был сквозь деревья свет берестяных факелов. Настасьин сел на коня. Начальник стражи послал с ним одного из воинов.
Ехать пришлось недолго. Густой, частый лес преграждал дорогу всадникам. Они спешились, привязали коней и пошли прямо на свет. Уж попахивало горьким дымком. Лязг и звон оружия и крики боевой схватки слышались совсем близко.
Но когда Настасьин и сопровождавший его воин продрались наконец сквозь лесную чащу и выбежали на озарённую багровым светом поляну, то всё уже было кончено. Сопротивление татарского отряда прекратилось. Захваченные в плен каратели сгрудились, окружённые мужиками, и похожи были на отару испуганных овец.
Один только их предводитель глядел на русских гордо и озлобленно. Это был молодой, надменный, с жирным, лоснящимся лицом татарин в роскошной одежде. Но оружие у него было уже отнято и валялось в общей куче при дорого. Ридом лежали груды награбленного татарами добра.
Из татарского отряда было убито несколько человек. А из нападавших гасиловцев один рослый и могучий парень лежал навзничь, раскинув руки, и без сознания. На голове у него сквозь русые кудри виднелся тёмный кровоподтёк.
Настасьин, едва только оглядел место боя, сразу же быстрым шагом подошёл к поверженному воину и опустился возле него на колени.
Старик Гасило молча посмотрел на княжего лекаря и затем властно приказал:
— Огня дайте поближе... боярину!
Один из лесных бойцов тотчас же подбежал с пылающим факелом и стал светить Настасьину. Григорий взял безжизненно лежавшую могучую руку молодого воина и нащупал пульс.
— Жив, — сказал он. — Только зашиблен. Надо кровь пустить, а то худо будет.
С этими словами он поднялся на ноги и направился к своему коню. Здесь он раскрыл свои заседельные кожаные сумки и достал узенький ножичек в кожаном чехле.
Снова склонился над бесчувственным телом воина. У того уже кровавая пена стала выступать на губах. Грудь вздымалась с хриплым и тяжёлым дыханием...
Теперь все, кто стоял на поляне, даже и пленные татары, смотрели на Григория.
Настасьин обнажил выше локтя мощную руку воина и перетянул её тесьмой — синие кровеносные жилы взбухли на руке.
Григорий вынул из чехла узенький ножичек и одним неуловимым движением проколол набухшую вену. Брызнула кровь... Он подставил под струйку крови бронзовую чашечку. Кто-то из воинов удивился этому.
— К чему такое? В чашку-то зачем? — протяжно, неодобрительным голосом сказал он. — Землица всё примет!
На него сурово прикрикнул старик Мирон:
— Мы не татары — хрестьянскую кровь по земле расплёскивать! Боярин молодой правильно делает! Умён!
Григорий услыхал это, ему сначала захотелось поправить Мирона, сказать, что и не боярин он, а такой же мужицкий сын, как и все они, но затем решил, что ни к чему это, и смолчал.
Поверженный воин тем временем открыл глаза. Григорий Настасьин тотчас же с помощью чистой тряпицы унял у него кровь и наложил повязку.
Раненый улыбнулся и, опираясь здоровой рукой о дерево, хотел было встать. Настасьин строго запретил ему.
— Нет, нет, — сказал он, — вставать погоди! — А затем, обратясь к Мирону, распорядился: — Домой на пологу его отнесёте!
— Стало быть, жив будет? — спросил он Григория.
— Будет жив, — уверенно отвечал юный лекарь.
— Это добро! Всю жизнь будет про тебя помнить! — одобрительно произнёс старик. — Большая же, юнош, наука у тебя в руках: почитай, мёртвого воскресил! А это вон тот его звезданул по голове, татарин толсторожий! — чуть не скрипнув зубами от злобы и гнева, добавил Гасило и указал при этом на предводителя татар.
Настасьин взглянул на татарина и вдруг узнал его: это был царевич Чаган — тот самый, что с такой наглостью ворвался на свадебный пир Дубравки и Андрея.
Гасило повёл рукою на груды награбленного русского добра, отнятого у татар.
— Ишь ты, сколько награбили, сыроядцы! — ворчал Гасило. — Меха... Чаши серебряны... Книги... Застёжки золотые — видать, с книг содраны... Шитва золотая... Опять же книга: крышки в серебре кованом!.. Ох, проклятые!
И, всё более и более разъяряясь, старик приказал подвести к нему предводителя татар. Но Чаган уже и сам рвался объясниться с Мироном. Татарин был вне себя от гнева. Видно было, что этот жирнолицый молодой татарский вельможа привык повелевать. Когда его со связанными позади руками поставили перед Гасилой, он так закричал на старика, словно тот был ему раб или слуга.
Чаган кричал, что он кость царёва и кровь царёва и что за каждый волос, упавший с его головы, виновные понесут лютые пытки и казнь. Он требовал, чтобы его и охрану его мужики тотчас же отпустили, вернули всё отнятое, а сами у хвоста татарских коней последовали бы в Суздаль на грозный суд верховного баскака хана Китата.
— Я племянник его! Я царевич! — кричал он злым и надменным голосом.
Гасило угрюмо слушал его угрозы и только гневно щурился.
— Так... так... ну что ещё повелит нам кость царёва? — спросил он, еле сдерживая свой гнев.
— Видели мы этого царевича, как своими руками он мальчонку русского зарезал! Видели мы этого царевича, как он живых людей в избах велел сжигать! — закричали, вглядевшись в лицо татарина, мужики.
Старик Гасило побагровел от гнева.
— Вот что: довольно тебе вякать, кость царёва! — заорал он. — Тут, в лесу, наша правда, наш суд! Зверь ты, хищник, и звериная тебе участь! Что нам твой царь?! Придёт время — мы и до царя вашего доберёмся. А ты хватит, повеличался!
И шагнув к татарскому предводителю, Гасило изо всех сил ударил его кистенём в голову. Чаган упал...
Тяжело дыша, страшно сверкая глазами из-под седых косматых бровей, Мирон сказал, обращаясь к Настасьину:
— Этого уж и твои сила, лекарь, не поднимет: богатырска рука дважды не бьёт!
...Утром, беседуя с Невским, Мирон Гасило похвалил перед ним врачебное искусство Настасьина.
— Да-а... — сказал он со вздохом. — Нам бы такого лекаря, в лесной наш стан. А то ведь, Александр Прославив, сам знаешь, какие мы здеся пахари: когда сохой пашешь, а когда и рогатиной, когда топором тешешь, а когда и мечом!
...Невскому подвели коня. Олёша, младший сын Гасилы, отпущен был сопровождать князя, чтобы не заплутались в лесу.
Уже взявшись левой рукой за гриву коня, но ещё стоя лицом к старику Мирону, Александр готов был произнести прощальное слово хозяину и сесть в седло. Старик рухнул перед ним на колени. Белая бородища Гасилы простёрлась на мхах. Вот он поднял глаза и воззвал, как бы в рыданьях:
— Осударь! Олександр Ярославич!.. Одним нам ничего не сделать. Без тебя погибнем... Ото всея Земли молюся: возвей над нами стяг свой!..
Полуденные отроги Полесья. Ленивые, полноводные, неторопливо текущие реки в низких берегах. Синие чаши озёр в малахитовой зелени замшелых болот. Мачтовые сосновые боры, в которых всадник чувствует себя словно бы муравей, ползущий в жаркой зелёной сени конопляников...
Белые прорези ослепительных и словно бы исполинским ситом просеянных песков — зеркально-светлых в струящемся над ними знойном мареве. Поросшие кудрявой травкой просёлки. Белёсый, перекатывающийся лоск, блистанье и шорох волнуемой нивы... Волынь!..
И волынянин истый — и лицом и одеждою — неторопливо влачится верхом на крепком карем коньке по одному из таких просёлков, идущему в междулесье, на о́гибь большого полноводного озера, что стоит вровень с зелёной рамой своею, стоит не дыша, словно бы оно боится выкатиться из неё.
Возрастом волынянин не молод — подстарок скорее; седенькая узкая бородка тяпкою, ростом невелик; в белой сермяге, в старой войлочной шляпе, — всадник, видать, не из богатых, а потому, видно, и не страшится ехать такими местами... Народ давно здесь не ездит, так что и дорога заколодела: сюда, в болота, в дебри, внезапным ударом полков князя Даниила были забиты уцелевшие клочья татарской армии хана Маучи, потерпевшей разгром у Возвягля.
Здесь они и осели, обложив оброком и данью окрестное населенье. Сперва ждали выручки от хана Бурундая, посланного самим Берке. Бурун дан был новый главнокомандующий всех юго-западных армий татар. Он только что сменил хана Куремсу — беспечного и слабодушного, который, будучи разбит Даниилом, кинул своё войско на произвол врагов и убежал на Волгу, в столицу Золотой Орды. Там ему набили колчан навозом, обрядили в женское платье и, после целого дня глумленья на базарной площади Сарая, удавили тетивой...
Бурундай не пришёл на спасенье отрядов, загнанных в Полесье. И теперь остатки войск хана Маучи, — русские звали его Могуче́й — медленно просачивались на восток.
Всадник в белой свитке благополучно миновал две татарские заставы. Что было с него взять? Правда, набрасывались, стаскивали с коня, грозились убить. Лезли в перекидные заседельные сумы. Они доверху были заполнены глиняными свистульками-жаворонками.
Татары схватывали каждый сперва по одной, потом, посвистев и усладив слух свой, снова запускали руку и захватывали каждый столько игрушек, сколько было потребно ему для всех его ребятишек от всех его жён. Потом, дав человеку в белой свитке крепкого тумака в спину, отпускали его...
А он, когда отъезжал от них на изрядное расстояние, крестился, сняв шляпёнку, и произносил, покачивая головою:
— Ну, ещё разок пронесло! И ведь до чего же угодил на их душеньку этими свистульками!.. Вот Данило Романович будут смеяться!.. Ох, орда, ох, орда!.. Одним словом — варны.
Всадник в белой свитке, видно, и сам захотел поразвлечься свистулькой. Он привстал на стременах, зорко осмотрелся и затем, достав глиняного жаворонка, стал громко посвистывать в него, то зажимая дырочки-лады, то снова отпуская.
В кусте, выросшем из-под огромного серого валуна, лежащего поодаль дороги, послышался шорох. Светловолосая голова подростка показалась из-за камня и вновь спряталась. Послышался писк чёрного дятла. Всадник ещё раз огляделся, свернул с дороги и, подъехав к самому валуну, спешился. Не привязывая и не придерживая свою смирную лошадку, он сел спиной к камню и принялся ножиком, вынутым из-за голенища, выцарапывать на глиняной свистульке угловатые буквы. Видно было, что трудится малограмотный: он громко шептал слово, которое выцарапывал на игрушке, морщил брови и считал пальцем левой руки каждую начертанную букву. Наконец, детским, перекошенным уставом вывел одно только слово:
УСЬПЕШНО
Не оглядываясь, он сунул руку с глиняным жаворонком позади себя, обок валуна, и тотчас же цепкая маленькая рука схватилась за игрушку. Выпустив её из своей руки, человек в белой свитке успел-таки ласково взъерошить голову мальчугана, затаившегося в кусте.
— Самому князю, Данилу Романовичу... а либо — Льву Даниловичу. Слышишь? — сказал он тихонько и не оборачиваясь.
— Слышу...
Человек в белой свитке встал и, даже не оглянувшись на куст, вскочил в седло. Уж кто-кто, а он-то — Андрей-дворский, воевода князя Галицкого, хорошо знал татар и все их повадки! Быть может, где-либо за другим валуном, а нет — так на сосне притаился татарский соглядатай! А ещё не завершил он, Андрей-дворский, дела, взятого на себя перед князем: проехать насквозь, прошить сомолично вдоль и поперёк всю, десятивёрстную в поперечнике, полосу, вдоль которой просачивались остатки армии Маучи на восток. Надо было срочно определить и количество и способность к бою этих отрядов. Даниил Романович, который стремительно рванулся на Киев, как только от Невского пришла весть, что он начинает, — Даниил Романович должен был срочно решить вопрос: выслать ли войско на перехват бегущих татар хана Маучи или же выставить против них небольшой заслон и продолжать наступленье на Киев, как если бы этих и вовсе не было?
...На третьей заставе Андрей Иванович был снова стащен с коня. Опять его трясли за шиворот, подымали над его головою кулаки и ножи; допрашивали и по-русски и по-татарски, лезли в перемётные сумы.
Опять он кротко увещал нападавших, разводил руками и жаловался на бедственное положенье своё.
— Что вы, что вы, князья? — восклицал он, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. — Убить? Да ведь убить долго ли человека! Вы — люди военные!.. А я — какой же вам супротивник?.. Торговлишкой только и живу... только от рукомесла своего и питаюсь!.. Коли не велите здесь ездить — я ведь могу и в сторону свернуть. Скажите только, где проехать можно, где я не обеспокою вас?.. А мне всё равно ведь... Возьмите весь товаришко за себя — тогда мне и в Мельники ехать не надо...
Свистульки-жаворонки, разошедшиеся по рукам батырей, свистали вразноголосицу, издавая необычайные трели. Татары хохотали и озорничали, как подростки, стараясь пересвистеть один другого, извлечь из глиняной птицы звуки посильней и как можно необычайнее.
Отирали рукавом халата обильно обслюнённый кончик свистка и опять принимались дудеть.
Никто и не подумал заплатить ему за расхватанный товар хотя бы одною монетою.
Однако не это обеспокоило дворского, обеспокоило его то, что на этой заставе нашёлся-таки человек среди татар, которого не потянуло к его глиняным раскрашенным птицам.
По-видимому, старшой между ними — быть может, сотник — дородный татарин, лет под сорок, не вмешиваясь ни во что, упорно всматривался в дворского.
«Пронёс бы господь!» — подумал Андрей Иванович. И как раз в это время татарский сотник надменно поманил его к себе пальцем. Дворский поспешно подошёл, снял шапку, поклонился.
Загадочно усмехнувшись, татарин спросил на искалеченном русском языке:
— Твоя наша узнал?
— Нет, господин... нет, ба́тырь, никак не могу признать, — ответил дворский. Да он и впрямь не мог припомнить, где и когда видел он этого татарина. Мало ли он перевидал их за последние годы! «Все на один болван! Словно бы из одной плашки тёсаны!» — любил говорить он о татарах.
Татарский сотник сорвал со своей бритой головы шапку и сунул чуть не в самое лицо дворскому.
— Эту узнай! — заорал он. — Ты дарил!..
Шапка, отороченная соболем, была сильно заношена: бархатная тулья лоснилась от грязи, мех повытерся.
Но узнал он, узнал эту шапку дворский — воевода князя Галицкого! Узнал этого надменного ба́тыря и понял, что перед ним — смерть.
Мгновенно увиделось ему, внутренним оком, всё, что связано было и с этой шапкой, и с этим человеком.
...На ступенях высокого княжеского крыльца стоит молодой наглый татарин-гонец в запылённой одежде и, покалывая пайцзу, кричит и рвётся в хоромы. Дворский осаживает и пристыжает его: поношением для князя, для Даниила Романовича, будет, если ханский гонец предстанет перед его светлые очи, не переодевшись с дороги!.. И сколько ни кричал, как ни ломился ба́тырь, а таки заставили его переодеться, переобуться и шапку и кафтан принять в подарок!..
Дворский признал эту шапку.
«Ведь вот же судьба где погибнуть!» — подумал дворский.
Татарин ударил его сперва шапкою по лицу, затем изо всей силы кулаком.
Дворский закрылся руками и, обливаясь кровью, упал. Когда он поднялся, пошатываясь, то уже целая толпа татар стояла вкруг него.
Ба́тырь подал знак, и несколько человек бросились на Андрея-дворского, свалили его на землю и принялись сдирать с него одежду и сапоги. Другие принялись свистать над ним в глиняные свистки.
Сотник приказал не только обыскать одежду дворского, но и распороть его сапоги, срезать и расслоить подошвы. Искали потаённые грамоты...
Не нашли. Стали пытать... А уж и кого было пытать? Сквозь окровавленную разодранную сорочку порывисто вздымалась худая, ребристая грудь старика с седыми кустиками волос, с присохшею на них кровью...
Трудно дышал дворский. И плохо стал видеть. Но ещё всё, что кричали ему, понимал.
Сотник требовал от него, чтобы он указал, где стоит князь Данило со своим войском, чтобы довёл их туда...
— Ведь и сам ты воинский человек! — с трудом ответил старик. — А как да тебя самого в плен возьмут — да эдак же вот и от тебя станут требовать... срамного такого, постыдного дела? И ты, поди, скажешь: «Лучше убейте меня». А я ведь — русской!..
Татарин осатанел от этих слов дворского. Он стал хлестать его плетью по голове, по лицу, норовя выхлестнуть глаз; стал пинать носком сапога в голову и в лицо.
И теперь дворский желал от них только одного: чтобы поскорее убили. Ради этого он и выкрикнул в лицо татарину несколько оскорбительнейших татарских слов, когда-то узнанных им в Орде.
Татарин с ругательствами выхватил нож, опустился на колени, схватил старика за горло и рванул на его груди и без того уже растерзанную рубаху.
Увидя над собой занесённый нож, дворский понял, что произойдёт через мгновенье.
— А хотя бы и сердце на нож взяли, — из последних сил проговорил Андрей Иванович. — Русско сердце увидите!.. Погибнуть вам, окаянные, царство глухое вы и скверное!..
И они взяли на нож его сердце...
ЧАСТЬ 5
И конце июля 1262 года Невский получил наконец-то самое долгожданное известие, о котором он говорил Настасьину: хан Золотой Орды Берке понёс на реке Куре неслыханное поражение от хана Персидской орды Хулагу.
Одновременно двинулись на войско Берке грузины и отряд греков, пришедший им на помощь.
Берке едва спасся. Опомнившись от разгрома и позора у себя на Волге, старый хан собрал новую, трёхсоттысячную армию и вновь ринулся на Кавказ.
Великому князю Владимирскому, Александру, Берке послал грозное требование: «Дай мне русских воинов в моё войско!»
Народ русский содрогнулся от гнева и ужаса: на такое, ещё ни разу не посягала Орда! Другие народы давали своих сынов в татарское войско, но русских татары боялись ожесточить до предела.
— Пора! — сказал Александр.
Восстание поднялось одновременно во множестве городов, от севера до юга.
Будто одна исполинская рука разом рванула за тысячевёрстную верёвку, привязанную к чугунным, тяжким и давно уже закоснелым языкам медногорлых вечевых колоколов. В один день ударил вечевой колокол и на Устюге Великом, и в Угличе, и в Ростове, и в Суздале, и в Ярославле, и в Переславле, и во Владимире, и в Рязани, и в Муроме, и в Нижнем Новгороде.
И горожане, и пригородные землеробы дружно потекли на давно уже забвенное вече, и — все вооружённые кто чего добыл, припрятал, а многие и в доспехах!
Городские власти кой-где будто бы попытались оказать сопротивление самочинному вечу. Это заранее предусмотрено было Александром, входило в его расчёт. Но одним только дыхом своим народное движение сдунуло все противящиеся ему власти, подобно тому как ветер отвеивает мякину из золотого потока полновесного зерна, которое перелопачивает на бугре крестьянин.
Народ дорвался до татар!..
Захваченные врасплох, баскаки ползали в ногах у разъярённых мужиков. Их тут же, на месте, убивали.
Карательные татарские отряды, расставленные по городам, были уничтожены.
— Ишь, сыроядцы, кровопивцы, разъелися, что хомяки!.. От крови от нашей рожа треснуть хочет! — кричали смерды и горожане, выволакивая татар на казнь.
— Ишь чего захотел: русский воюй за них!..
— Нет, не пустим робят! Сам за себя пускай хан ваш воюет! Довольно ему, псу проклятому, нашу кровь лакать!.. Нет ему от нас воина!.. Худо, видно, пришлося!.. Бей их, робята, губи!.. Князь велит!.. А что бояре? — не глядите на их! Страшатся богатины пузатые!.. Им простого народа не жалко. Боярского сына татары на войну не погонят: отец богатой, кун много — откупит!.. Стойте крепче! Лучше на своей земле умереть!.. Мы кровь русскую внаймы не отдаём!..
Восстание ширилось... Вместе с татарами были уничтожены и предатели, слуги татарские из числа русских, позарившиеся на баранины кус. В Ярославле, над обрывом Волги, псы долго влачили в пыли обглоданные останки некоего Зосимы, монаха, перешедшего в магометанство и служившего наводчиком для сборщиков податей.
Слышно стало, что владимирцы повесили возле моста через Клязьму мостовщика Чернобая и утопили с жерновком на шее коневого лекаря и волшбита Чегодаша...
К столице Золотой Орды царило смятенье. Распространился слух, будто Александр решил воспользоваться беззащитностью татарской столицы и захватить её. Этого же, впрочем, с часу на час ожидали от Александра и потаённые воеводы восстания.
Неожиданно в Ростов Великий прибыло трое полномочных послов из Орды — для встречи и переговоров с Невским. Двое на них были от самого императора, великого хана Хубилая: Китат, ведавший всеми сборами с чужих народов в пользу великоханской казны, и Улавчий, главный баскак Хубилая на Русской Земле. Третьим был князь правой руки — Елдегай, управляющий всей канцелярией хана Берке, перешедшей к нему по наследству от Батыя.
Ордынским послам пришлось несколько дней ожидать Невского. Им сказали, что великий князь, не доехав до Новгорода, повернул обратно и спешит изо всех сил в Низовские земли, ибо чрезвычайный гонец от князя Бориса Ростовского известил его о восстании и о том, что народ избивает татар и откупщиков дани.
Скоро князь прибыл. При первой же встрече он изъявил татарским послам свою глубокую скорбь по поводу всего, что произошло. Всю вину за восстание он слагал на жестокую в отношении русских политику хана Берке.
Невский на сей раз оставил ордынское дипломатическое велеречие и говорил с послами прямо и грубо.
— Вы же сами видите, князья, — говорил он, — что вся чернь восстала. Бояр убивают своих, которые с вами, и на князей грозятся! До самого днища взбаламучен народ!..
Он говорил, что и не мыслит усмирить волнение, если не огласить народу от имени самого великого хана отмену призыва русской молодёжи в войска Берке.
— А нет, так костьми лягут. В северные леса уйдут, в Страну Мрака. Пожгут жилища свои и всё рухло своё, но под чужим стягом кровь свою лить не станут! Уж я ли не знаю людей своих? Вам же хуже будет: кем кормиться станете? Доселе и сам великий хан, и Берке верили мне. Поэтому и спокойно взимали дани свои, и полнили сокровищницы свои. А вас, князья, разве не чтил я всячески? И светлейших супруг ваших?.. Просите же, князья, грамоту, чтобы до веку никакой владетель ордынский не мог бы народа русского гнать с собою на войну. Только тогда смогу я что-либо сделать с народом!..
Татары слушали, время от времени закрывая глаза, чтобы князь ничего не мог прочесть на их лицах, но уж Александра ли было им обмануть? Он явственно видел, что послы Ееликого хана Хубилая враждебны Берке. Да иначе и не могло быть, ибо как раз 1262 год, год восстания, был временем междоусобицы между великим ханом Хубилаем и ханом Арик-Бугою, родным братом его. Берке же двурушничал: внешне он являл раболепное повиновение Хубилаю, а втайне оказывал всяческую поддержку хотя и не прямо самому Арик-Буге, но его сильнейшему союзнику и злейшему врагу Хубилая — князю Хайду.
Старый Елдегай — посол Берке — не хотел соглашаться на отмену, да ещё и вечную, призыва русских в золотоордынское войско.
— Ведь Берке-хан, — сказал он, — может и другому князю передать ярлык твой на великое княженье, если ты немощен справиться с чёрной костью!
Его заявление оскорбило полномочных представителей Хубилая: они обменялись между собою мгновенно взглядом. Ярлык на великое княженье Владимирское выдавался не от имени золотоордынского хана, но от имени великого хана всех монголов, каковым являлся Хубилай.
И Александр поспешил подбросить горючего в тлевшее под пеплом пламя междуордынской вражды. Он прибегнул к своей излюбленной угрозе — угрозе крестовым походом Европы против татар. Он указал посольству на то, что двухсоттысячное крестоносное ополчение, изгнанное только что из Константинополя Михаилом Палеологом и ханом Ногаем, а с Балканского полуострова — болгарами, сербами и албанцами, — ополчение, привыкшее к грабежу и убийству, конечно, кинется на призыв папы в новый крестовый поход, на этот раз против татар.
— Допустим, вы истребите полностью весь народ наш или он уйдёт в Страну Мрака, покинув пашни свои, — что приобретёт Кублай? Что приобретёт Берке? Тогда все народы Европы поневоле сплотятся, в ужасе перед вашим народом. Я не бессмертен, — продолжал Невский, — и я знаю, что ещё когда я пребывал в Каракоруме, дабы просветить свои очи лицезрением Менгу-хана, то в его уши влагали совет умертвить меня...
Послы сидели над своими чашами вина с закрытыми глазами, лица их были недвижны...
И Александр закончил так:
— Кублай есть светило и средоточие мудрости, и он поймёт: большой палец на руке воина-лучника не такая уж жизненно необходимая часть, ибо прекрасно можно прожить и без него. Но... отсеки себе этот палец воин-лучник, и трудно станет ему натягивать тетиву, и криво полетит его стрела, и далеко упадёт от подножия королей, им мера троп и царей, коих захотел бы он поразить!..
Послы Хубилая, открыв тяжёлые вежды, переглянулись и одобрительно закивали головами.
Посол Берке сидел всё так же недвижно.
Наконец старший баскак великого хана, Улавчий, сказал, гляди на Александра:
— Ты мудр, как всегда, Искандер... Мы здесь — лицо повелители, имя ого да будет свято!.. Я — держатель малой его печати... Ты получишь для народа твоего просимое. Отныне и в веки, никогда ни один русский не будет взят в войско!.. Сегодня же я напишу тебе эту грамоту!.. И ты можешь, именем самого Хубилая, обнародовать её.
Заговорил Китат:
— Я — лицо повелителя, — да будет имя его благословенно! Но в моей власти только счёт и раскладка даней его... Купцы из народов Хойтэ не будут больше взимать дани в царскую нашу казну с народа твоего. Я убедился, что эти сборщики податей больше радеют для себя, чем для повелителя, и что бессмысленно народ твой ожесточают. Ты сам хотел взимать эти дани и своими людьми доставлять их? Пусть будет так. Я сегодня же велю написать об этом грамоту, с приложением печати повеличал я всех людей. И её также ты можешь объявить народу твоему.
«Ишь, какие сговорчивые стали!» — подумал Александр. Ему стоило великих усилий скрыть свою радость.
«Значит, — подумал он, — им ничего ещё не известно!..»
Да, им ещё неизвестно было, что никакой крестовый поход Европы под главенством папы не угрожает монголам: одна из последних булл папы к христианским князьям и государям отменяла этот поход против татар и объявляла заменой ему другой крестовый поход — против русских, Литвы и Эстонии — на защиту Тевтонского ордена.
Папа Александр обращался с призывом ко всем христианским государям — покарать отступника Миндовга, ибо, мало того, что сей вероломный литвин отвергся католичества, оставя, однако, за собою королевскую корону, которою короновал его легат, но ещё и истребил в битве под Дурбаном цвет Ливонского ордена, во главе с прецептором Литвы — Горнхаузеном.
Всех захваченных в плен рыцарей приказал сжигать на кострах, в седле и в полном панцирном вооружении, предварительно связав ноги рыцарскому коню и подперев его железными кольями. Одного только Сильверта Шиворда успела предупредить королева Марфа, и резидент Тевтонского ордена при дворе литовского владыки успел спастись...
Римской курии стало известно, что возвратившийся к язычеству Миндовг пересылался с Невским, зовя его и всех русских князей к совместному удару на Юрьев и Ригу, дабы ниспровергнуть немецкий орден.
Великий магистр ордена, Анно фон Зангерсхаузен, взывал о крестовом походе против Новгорода и Пскова; против эстов, снова ввергшихся в язычество и перебивших у себя католическое духовенство.
Невский перехватил и держал в тайном заточении послов Тевтонского ордена к Берке. Ещё не найден был ключ к затаенью, которым написана была грамота магистра, отнятая у послов, переодетых купцами, ещё недосуг было допросить их самому Александру, однако Невский нисколько не сомневался, что речь идёт о союзе Рима с татарами против Руси; не того ли ради посылаем был в Татары, в Каракорум, и Плано-Карпини и Рубрук?
...Невскому стало известно, но, видно, ещё не успели о том узнать татары, что Миндовг под Юрьевом не дождался прихода русских войск, возглавляемых братом и сыном Александра, а позагоняв братьев-рыцарей за стены орденских замков и обогатившись несметной добычей, вдруг со всеми князьями своими, со своими кентаврами-литвинами, вросшими в сёдла, одетыми в звериные шкуры, кинулся на владения Даниила и вышел ему в тыл вблизи Волковыска.
Данило Романович, который гнал уже на восток остатки разбитых им туменов хана Куремсы и хана Маучи, вынужден был попятиться перед Бурундаем, ибо страшился вступить в битву с татарами в то время, как с севера нависал Миндовг.
«Вот тебе и сваты!.. Вот тебе и двойное родство!.. Страшен становится сей рыжебородый литовский Аларих!.. И надо сломить ему рог гордыни, пока не поздно, о то уже и над Смоленском лапу заносит!.. А там и на Киев кинется!..» — думалось Александру.
Даниил Романович, горько скорбя и отчаиваясь, извещал через гонца брата Александра, что теперь нечего и думать о возвращении от татар Киева, надо спешно уходить на Галичину, затворять крепости. Если же — так мигал он — брат Александр уже занёс десницу свою над татарами, то пускай удержит!..
И ещё не успели узнать ордынские послы, а то бы не только не спешили свидеться с Невским, а и вовсе бы он их не дождался — не знали они, что в степях за Воронежем в ставку Берке неожиданно явилось торжественное посольство от Хулагу с щедрыми дарами и с предложением мира.
«Голова имеет два глаза, а зрение у неё одно, — писал в своей грамоте золотоордынскому хану хан Персидской орды. — Мы с тобою — два глаза одной головы. Почему же у нас нет единого зрения? — тебя, дорогой и высокочтимый и светломудрый брат мой, я спрашиваю...»
Перемирие между враждующими братьями уже подписано.
Об этом уведомляла Невского ханша Баракчина, вдова покойного Батыя, ныне — одна из жён Берке. Баракчина всей душой ненавидела своего нового супруга. Во-первых, за то, что он держал её, вдову самого Батыя, среди своих многочисленных жён, а во-вторых, и за то, что он отравил со старшего сына — Сартака...
И, охваченная жаждою мести, а кроме того, и щедро одаряемая Невским, ханша Баракчина готова была помогать и Хулагу, и Александру, и всякому, кого она считала врагом Берке...
...Невский делал вид, что ему совершенно всё равно, когда надумают послы Кублая подписать грамоты, а между тем считал уже и мгновенья: ведь чего же ещё можно было желать народу русскому в таком страшном стечении обстоятельств? Уберут баскаков и бессерменов. Ни одни воин русский, ни один юноша не будет взят в татарское войско!..
«Хоть бы подписали скорее!» — размышлял Александр. Ведь в любое мгновенье и до них может донестись что либо из того, что сделалось известным ему. И тогда трёхсоттысячная татарская конница может очутиться под Владимиром и Ростовом.
Надо как можно больше добрых здешних полков угнать из-под удара Орды. Пускай копятся войска в Новгороде... Там — нужнее!.. Да и ему, великому князю Владимирскому, будет легче изъясняться в Орде: «Если бы я хотел подымать мятеж против тебя, Берке, то зачем бы я отослал на немцев лучшие полки свои, а с ними и сына своего, и брата своего, и зятя? Кто замышляет худое, отваживаясь на мятеж, тот станет ли удалять от себя лучшие силы свои и лучших помощников своих?..»
Настасьину Невский не таясь признался, что окончательно рухнул его великий замысел — поднять народ русский на татар.
— Худо, Настасьин, худо!.. Лучше бы я живым в могилу лёг. Всё пропало. Теперь только как-нибудь людей русских спасти от резни, от расправы, — говорил Невский.
Ещё никогда верный друг и воспитанник Невского не видел его в таком глубоком, чёрном отчаянье.
И даже ему, Настасьину, страшно было в тот первый миг подступиться к Александру Ярославичу с каким бы то ни было словом.
Тяжкие думы терзали Александра. Он понимал, что теперь, когда орды хана Берке и хана Хулагу объединились, война против татар будет не под силу истерзанной, опустошённой Руси. Удельные князья воевали между собою. Татары подстрекали их друг против друга. Александр знал, что и под него творят всяческие подкопы в Орде его двоюродные братья, сыновья дяди Святослава Всеволодича. Они уже давно сидели в Орде и добивались, чтобы ярлык на великое княжение был отобран у Александра и отдан одному из них. Святославичи клялись хану Берке, что они двинут свои дружины против Невского вместе с татарским войском.
На западе и севере снова зашевелились немцы и шведы. Снова вместе с татарами они готовились вторгнуться на Русскую Землю.
Нет! Никакой надежды не было устоять в столь неравной борьбе! Невский понимал, что даже и его полководческое искусство, и самоотверженная отвага тех, кто станет под его знамя, на этот раз будут бессильны снасти от гибели русский народ...
«Что же остаётся делать? — размышлял Невский. — Послать кого-либо из своих верных, испытанных советников с богатыми дарами в Орду, к хану Берке, чтобы отвести беду, успокоить хана? Нет! Не поверит теперь Берке никакому посольству, никаким хитрым речам, не примет никакую повинную. «А почему, скажет, сам князь Александр не прибыл ко мне с повинной?! Ведь, скажет, он отвечает за народ свой. А почему, скажет, князь Александр лучшее войско своё держит в Новгороде?!»
И чем больше размышлял Александр, тем яснее становилось ему, что если сейчас бессилен меч, то вся надежда остаётся на его собственное государственное разумение, на его умение беседовать как должно с татарскими хамами и умиротворять их.
Никто другой, кроме него самого, не сможет отвратить на сей раз новое татарское нашествие. «И детей вырежут, кто дорос до чеки тележной!.. — скорбно подумал Невский, и сердце его облилось кровью. — Да! Уж тогда и вовек не подняться Руси! По всем городам татарских баскаков насажают заместо русских князей! А другую половину рыцари да шведы захватят!.. К чему же тогда народ русский трудился — и мечом и сохою?!»
И Александр Ярославич принял крутое решение.
— Еду! — сказал он. — Еду перехватить Берке — там, в степях, на Дону. Опять хитрить, молить да задаривать! А когда уже сюда нагрянут, то тогда будет поздно. Тогда сколько ни вали даров в чёрную эту ордынскую прорву, не поможет, покуда кровью русской досыта не упьются!.. Ну а если уж суждено мне и вовсе не вернуться оттуда, то... что ж! Авось смертью моей и утолятся, а народ не тронут!..
И едва только Александр дождался вожделенных грамот с печатями великого хана и Елдегая, как тотчас же устроил торжественное чествование послов, щедро одарил их. А наутро, едва татары отоспались, после пира, Невский объявил им, что он решил лично проследовать в ставку хана Берке, хотя бы и до хребтов Кавказских, чтобы почтить и поблагодарить хана за его отеческое и мудрое попечение...
С приехавшим в Орду Невским на этот раз обошлись как с преступником, чья вина ещё не расследована. Его тмили и томили в Орде, не разрешая отъехать на Русь.
В первом порыве злобного неистовства хан Берке хотя предать смерти Невского тотчас же, как только тот прибыл в его кочевую ставку.
Был собран совет нойонов.
У Берке был обычай Чингисхана: красить щёки жирной красной свечой из плода уджир, который применяли женщины. В его положении это не было лишь пустым подражанием странностям великого деда, но вызывалось необходимостью: лицо повелителя сорока народов без отвращения могла созерцать, пожалуй, только одна его бывшая кормилица Кокачина, да и то, быть может, потому, что ей было уже далеко за семьдесят и она уже не способна была всмотреться в лицо своего былого питомца.
Берке не любил яркого света. В походном войлочном шатре его, несмотря на то что снаружи блистал степной полдень, было трудно, не приглядевшись, рассмотреть всех присутствующих.
На престоле с низкой округлой спинкой входящий видел сперва мутно белевшие лица самого хана и старшей хашни его, сидевшей по левую руку от него и чуть пониже. Бросалось в глаза сверканье драгоценной большой серьги, оттягивавшей левое ухо Берке, блистанье одежд и украшений ханши.
Берке был одет в шёлковый стёганый халат зелёного цвета с блестками; на голове был парчового верха колпак с широкой бобровой опушкой. Ноги хана в красных козловых туфлях были поставлены на бархатную подушечку на подножной скамейке: Берке страдал давней ломотой в ногах и незаживающими язвами голеней, от которых новый медик его, теленгут, именем Тогрул, назначил ему недавно ножные ванны из подогретого женского молока. «Ванну из молока пленных русских пэри в течение месяца или двух, государь, — сказал медик, — и ты будешь здоров, и зуд в твоих богоносимых ногах исчезнет. — Подумав и помолчав, теленгут низко наклонил старческую, наголо обритую голову и добавил: — Но и рабыни из числа франкских, или немецких женщин, или гречанки также могут быть взяты для этой цели...»
Кравчему приказано было отобрать пленниц из числа кормящих матерей. От младенцев же избавились очень просто: головёнкою о камень. А матерям, чтобы молоко в их грудях не усохло от горя, говорили, что детей им вернут, как только излечится хан...
...Собрание нойонов, изъяснителей Корана — хасидов и законоведов, без коих ныне уже и шагу не ступал ревностный в делах мусульманства Берке, сегодня было собрано по случаю приезда Александра. Прибытие его поставило в тупик не одного только Берке. О восстании в землях Александра и о том, как завершилось оно, сделалось известно в ставке Берке почти одновременно с приездом князя. Узнали о том, что послы великого хана Хубилая, а с ними и Елдегай, сами посетили Невского и выдали ему от имени Хубилая чрезвычайные грамоты. Против этих грамот бессилен был хан Золотой Орды. Не мог же он, имея плохо замирённым врагом Хулагу, поднять ещё против себя великого хана Хубилая. Вот почему Берке и впал в неистовство.
Это было похоже на приступ падучей. В тот же день в походный стан Александра, разбитый вёрстах в двух от ставки хана (отдалённость была знаком немилости!), гургонщики-монголы, пригонявшие баранов для продажи русским, принесли известия об этом припадке хана. Они долго и в подробностях описывали поварам Александра этот припадок Берке, словно бы сами были тому свидетелями.
Невский спросил об этом своего врача — Григория Настасьина.
— Может быть, сдохнет... поторопились мы с тобою приехать, Настасьин, а? — угрюмой шуткой спросил Александр своего лейб-медика.
Юноша подумал, насупя свои белёсые брови, румяные щёки его ещё больше раскраснелись, как всегда, если князь обращался к нему. Молодой врач, покачав головой, ответил:
— Нет, государь, оживёт он, это его тёмная бьёт... эпилепсия, — пояснил он.
— Да что ж это такое? — и Невский рассмеялся и развёл руками. — Хулагу, слыхать, тёмная бьёт, теперь этого тоже, Берку!.. Поистине татарская какая-то болезнь! Ах, Настасьин, — продолжал он, положив руку ему на плечо, — а жалко, что ты у меня не звездочётец!.. Медик должен быть звездочёт, астролог!..
Настасьин, увидев, что князь шутит, отважился на возражение:
— И у Берки хана — медик отдельно, а предсказатель отдельно.
— Жаль, — сказал, улыбнувшись, Александр, — а то провещал бы ты мне, долго ли они будут мне, князю твоему, душеньку здесь выматывать!..
Совещание нойонов и советников длилось уже много времени. Берке закончил своё предваряющее слово.
— И вот сей всемирный воитель, — сказал он, — сам подставил голову в силок! Что заставляет его поступить так?.. Прошу вас: думайте об этом!..
Старая ханша — Тахтагань-хатунь, с большим и плоским лицом, с которого сыпались белила, уже с утра пьяная от водки из риса, ячменя и мёду, именуемой бал, дала совет краткий и простой:
— Сделай ему тулуп из бараньих хвостов. Пусть он до самой смерти своей седлает тебе коня и отворяет дверь!
Она замолчала и протянула руку за чашею излюбленного своего напитка, подаваемого ей под видом кумыса в слегка подбелённом виде.
Ханшу поддержали двое старейших князей — Даир и Егу. Один из них, низко поклонясь, наименовал Тахтагань-хатунь лучеиспускающей свет и сотканной из перламутра, а другой назвал её средоточием счастья и родником благодеяний.
— Тахтагань-хатунь говорит правильно, — закончил Дайр. — Возложи ему на шею цепь повиновенья!..
А Егу, покачав головою, сказал:
— Когда премудрый дед твой, оставивший после себя непроизносимое имя, воздвиг в степях Демон-Болдока свой девятихвостый бунчук, то у него не было в обычае созывать улусный курултай ради того, чтобы наказать какого-нибудь мятежного ильбеги!..
И, наконец, третий из говоривших — Чухурху, родной брат Субэдэя, из рода Хуань-хатань, — проворчал угрюмо:
— Когда мы подняли тебя на войлоке власти, мы не ожидали, что ты, Берке, столь дёшево станешь ценить нашу кровь! Сотни отличных воинов, а быть может, и тысячи убиты русскими мятежниками во владениях этого Александра-князя... Дед твой приказал бы взять бурдюк русской крови за каждую каплю нашей крови!.. Ты же, видно, оставил путь деда твоего!.. А между тем не пора ли монголам снова сесть на коней и посмотреть, где конец мира? Нам нужен человек, в горсти которого было бы не тесно всем племенам земли!..
Большинство совета требовало жестокой расправы над Александром.
— Надо обить ему крылья! — прохрипел князь Бурсултай.
— Это не дело — дать ему возвратиться и злую вину его оставить, не покарав!..
— Ты посмотри, до чего дошёл в вероломстве своём князь Данило!..
Берке нахмурился. Будучи в походе, он долго не получал вестей от Бурундая, и его беспокоила судьба посланной им на Даниила новой армии.
— А Данило и Александр — это два кулюка, два столпа народа русского! Нехорошо сделал брат твой, что позволил обмануть себя, и они оба вместе покрылись крышею родства и приязни, — закончил своё слово Биут-нойон.
Снова заговорил Берке:
— Чего вы хотите от меня? Чтобы я ожесточил окончательно этот затаённо думающий и многочисленный народ?.. Александр — не ильбеги! Он — царь народа, платящего дань... И что я могу с ним сделать?.. Войско своё, об этом вы знаете, он держит вне досягаемости нашей руки, в Новгороде... Если я убью его, то я положу этим пропасть вечной вражды между собою и народом русским. А тогда удастся ли нам дойти через эту страну до океана франков, как завещал дед мой, Великий Воитель? Я знаю, что он, Искандер, обманывает меня. Будем и мы его обманывать. Вы должны помнить: у нас, кроме собственной тени, нет друзей, опричь хвоста лошадиного, нет плети. Конечно, было бы лучше, если бы он отдал руку свою, вооружённую мечом, в распоряжение того, кто охраняет лицо всей земли, но, однако, пойдёт в пользу нам и то серебро, которого столько саумов исправно и безотказно доставляет нам Искандер!.. Думайте дальше. Теперь — совет. Завтра — повиновенье! — закончил Берке.
— Не верь Искандеру, хан, — заговорил снова князь Егу. — То, что он садится перед тобою на колени уважения, не означает ещё, что очистил сердце своё от помыслов против тебя. Ты говоришь: он привозит много серебра. Но это потому, что серебро не прозрачно и покрышкою из серебра хорошо скрывать свои подкопы.
— Он хочет, он ждёт, когда станет подписывать наравне с тобою договорную грамоту. Не нравится ему служилая грамота!..
— Надо обить ему крылья!
— И вслед за тем нанести смертельный удар этому народу! — послышались голоса.
Берке взглянул вверх, на отверстие кибитки, откуда проникал свет, и закрыл свои вывернутые трахомой веки... Эти люди говорили по сердцу его!..
Тем неприятнее ему стало, когда послышался наконец голос и в защиту Невского — голос одного из старейших нойонов Орды, девяностолетнего Огелая.
— Государь! — прохрипел нойон. — Ты знаешь, что в день, когда родился дед твой, Священный Воитель, я ел мясо с пира его... — Берке чуть наклонил голову. Все прочие склонились едва ли не до ковров, на коих сидели.
Огелай-нойон продолжал: — Искандер Грозные Очи — человек, имеющий сильную страну, питающий войско и хорошо содержащий улус свой. Не мешай ему сокрушать враждебных государей!.. Дед твой никогда не убивал сильных государей, и, если только они признавали над собою силу его, он оказывал им почести... Он считал их драгоценными алмазами венца своего!..
Слова Огелая-нойона, священного для татар уже одним тем, что это был сподвижник Чингисхана, возымели большое действие. Казалось, многие из говоривших князей и нойонов устыдились всего того, что говорили они против русского князя.
Тогда снова заговорил Чухурху.
— Какие жалкие слова я слышу! — воскликнул он. — Словно бы старая баба говорила!.. Ты недостоин доить кобылицу, Огелай, — тебе корову доить!..
Послышался тихий смешок среди князей и нойонов. Царица обнажила свои крупные зубы, изображая улыбку. Берке закрыл глаза. А Чухурху продолжал гневно и беспощадно:
— Не верь Огелаю, Берке... такие советники расслабляют царство!.. Я воевал под началом брата твоего... Я умею с одного взгляда определять существо человека... Я дважды видел Александра-князя!.. Хорошо иметь сына такого!.. Но если он — не сын тебе, то такого лучше уничтожить, если не хочешь, чтобы он уничтожил тебя!.. Он повелителем смотрит!.. Не может быть двух ног в одном сапоге, не может быть двух государей на земле!..
Одобрительные возгласы послышались в шатре.
И, ободрённый этим, Чухурху закончил:
— Тебя смущает, что Искандер-князь копит войска свои в Новгороде — в местности, якобы недоступной тебе. Да, это так, что касается весны, лета и осени. Но как только вода тамошних рек, и озёр, и болот станет подобна камню и затвердеет на глубину дротика, наши кони легко пройдут туда, и ты возьмёшь Новгород!.. А рыцари-немцы помогут тебе с запада!..
— Да! Мы поможем тебе, великий государь! — послышался голос с чужестранным выговором.
Многие взглянули в ту сторону. Рыжеватый сухощавый нойон попросил у Берке разрешения говорить.
Это был Альфред фон Штумпенхаузен... Хан разрешил ему слово.
Штумпенхаузен глянул снизу вверх на другого рыжего человека, по виду также не монгола, но одетого в монгольский наряд, — исполина с чудовищной нижней челюстью и с далеко залысевшим, как бы гранёным лбом, с плешью на рыжем кудреватом затылке и с презрительно-полусонным выражением мясистого лица.
Гигант, почувствовав вопрошающий взгляд Штумдепхаузена, молча кивнул головой и закрыл глаза. Это был знаменитый Пэта, полководец Батыя, потерпевший некогда, ещё в молодости, пораженье от чехов, пленённый ими и за то отставленный от вождения войск, однако приобретший едва ли не большую власть в Орде — как советник по делам Руси и Европы.
И надо сказать, они со Штумпенхаузеном не напрасно ели ордынскую конину и баранину. Пэта, или, иначе, Урдюй, знал-таки европейские дела, ибо родом был англичанин из Лондона и не из последних рыцарей среди тамплиеров!
— Ты благоволил мне приказать говорить, — начал свою речь Штумпенхаузен. — Не скажут ли другие покорённые государи: «Этому Александру прощается всё... почему бы и нам не пойти его стопами?» И не забудь, хан: в древности ещё одного воителя звали Искандер!
Заметив, что при этих словах лицо хана передёрнулось, Альфред испугался.
— Ты благоволил мне приказать говорить, — повторил он.
Однако Берке и не думал гневаться.
— Александр осторожен и осмотрителен: он умеет ступать, не оставляя следов!.. Он чтит наши обычаи, как никто! — сказал хан.
— Да, он глубоко разведал Орду, как никто! — послышался медлительный и как бы свистяще-шипящий голос великана.
Эту смелость — перебить речь самого Берке — не позволил бы никто другой в Орде, кроме этого англичанина в монгольской одежде.
Все ждали, что сейчас гнев Берке обрушится на него. Но сэр Джон-Урдюй-Пэта оставался невозмутимо спокоен.
Берке часто-часто заморгал слезящимися веками, на лице его изобразилось любопытство. Разрешение говорить произнесла за него ханша.
— Говори, Урдюй! — благосклонно сказала она. — Ты хорошо знаешь этих русских и Александра. Что же ты посоветуешь нам? Чем должны мы почтить приезд этого князя?
— Колодка для столь могучей шеи — самое лучшее ожерелье! — ответил Урдюй. — Александр силён, как Самсон, о котором повествует наша священная книга — Библия. И если дать ему хорошую пару жерновов, то он намелет в день ячменной муки столько, что хватит для дневной потребы всего твоего двора!.. Он будет молоть спокойнее, если над ним сделать то же самое, что филистимляне сделали над Самсоном.
— А что они сделали над ним? — спросила ханша.
— Они ослепили его! — ответил сэр Джон-Урдюй.
Англичанин добавил:
— Братья-рыцари уведомили меня только что: Александр подымал на тебя грузин.
Лицо Берке пошло синими пятнами. Сэр Джон-Урдюй увидал, что отравленная стрела его попала в цель.
Берке сидел некоторое время молча. Затем, вздохнув, произнёс, как бы обращаясь не к одному Джону-Урдюю, но и ко всем присутствующим:
— Было бы далеко от пути царственного гостеприимства, если бы государя чужой страны, прибывшего к нам с изъявлениями данничества и послушания, мы ослепили бы или предали бы иной какой казни!.. Это дурно отразилось бы на готовности прочих царей и владетелей безбоязненно приезжать к нам... Когда бы Искандер-князь оскорбил какое-либо из священных установлений наших, и я поступил бы с ним, как поступают с тем, кто осмеливается попирать ногою порог шатра, — в этом случае я не был бы осуждён от людей благочестивых и мудрых!
— Потребуй от него совершить нечто такое, что возмутило бы в нём гордость! Поступи с ним так, чтобы он не стерпел! — сказал Джон-Урдюй.
До самой поздней осени 1262 года Невский и сопровождающая его дружина и придворные принуждены были следовать за кочующей ставкою Берке. Это было похоже на лишение свободы. Правда, в самом русском стане Александр не был стеснён ни в чём и поступал и действовал как вполне самостоятельный государь, чьё стойбище на время прикочевало бы к стойбищу татарского царя. Невскому не препятствовали даже развлекаться соколиной охотой, творить над своими суд и расправу, принимать и отправлять гонцов, однако ему упорно не давали возможности увидеть хана и в то же время не отпускали домой.
Требовать свидания с ханом — это, по ордынским обычаям, было бы делом неслыханным: жди, когда позовут! Однако Александр пытался через своих приятелей в ставке хана, которых было у него немало, добиться аудиенции. Одни обещали помочь, другие лишь разводили руками.
За это время стан сторонников Александра в Орде понёс большую потерю: суд нойонов приговорил царицу Баракчину к смерти через утопление в мешке, набитом камнями, что было и приведено в исполнение. Баракчину изобличили в тайных пересылках с ханом Хулагу. Был пойман гонец из числа её личных подданных. При нём не нашли никаких тайных писем или сообщений, но только ханский халат без пояса и стрелу, у которой выдрано было оперение. Это означало: «Золотоордынский улус не подпоясан и плохо вооружён: стрелы его не могут летать прямо и далеко. Не бойся Берке!»
Александру Ярославичу почему-то до боли сердца сделалось жаль эту маленькую, кичливую, с птичьим голосом и лицом юного Будды, монголку, некогда супругу Батыя, о которой они когда-то — о, как это было давно! — снисходительно посмеиваясь, беседовали с Даниилом в глухом возке, мчавшемся среди буранной ночи по льду Волги.
После этого убийства ещё больше усилилась мучительная тоска, часто посещавшая Невского в последнее время. Ему представилось, что он сам словно бы с жерновом на шее опущен на самое дно монгольского океана и что уж не подняться ему оттуда вовек.
Выматывали душу незваные гости! Иные из них были явно подосланы, и Александр видел это. А что ж было делать? Не отказать же в приёме князю правой руки Егу или нойону Чухурху? Не выгнать же их! И вот часами сидели, уплетая баранину, выпивая по доброму меху вина. Русский кравчий за голову хватался: «Олександра Ярославич, ну съедят они нас... не напасёшься!..» В поварском шатре роптали и ругались повара: «Ордынскую утробу — разве её насытишь?»
Досадовал и Александр: отымали время! А потом, навёрстывая, приходилось засиживаться за полночь со своими дьяками, сверяя свои ясашные книги со свитками ихних дефтерей, где записывались — и, увы, довольно-таки недобросовестно! — русские дани и выходы.
Китат уже несколько раз грозил Ярославичу:
— Народу у тебя много, а ясак мал привозишь. Укрываешь народ свой?..
И затихал на время, получив очередной слиток серебра, или шкурку соболя, или золотой перстень.
Любили подарки!..
И все эти князья правой и левой руки, батыри и нойоны, сидя за кумысом, бараниной и вином в тёплом, зимнем шатре Александра (ибо уже осень стояла), соглядатайствуя и вымогая подарки, находили явное наслаждение в том, чтобы с таинственным видом сообщать Невскому о намерениях Берке — сегодня одно, а завтра другое и прямо противоположное.
— Ай, ай, князь! — говорил, к примеру, Чухурху. — Плохо твоё дело — хочет приказать умереть тебе без пролития крови!..
Это означало, что Александра задушат тетивою лука.
Проходил день-другой, и тот же самый гость сообщал Александру, захватывая китайскими костяными палочками грудку плова и отправляя её в рот:
— Всё хорошо, Искандер, всё хорошо: одной ногой ты вынес душу из бездны гибели на берег спасенья! В ряду царевичей будешь посажен.
А в следующее посещение Невский принуждён был выслушивать рассказ о новом повороте своей судьбы:
— Царь решил не убивать тебя. Но ты будешь до конца дней своих молоть на жерновах с волосяной верёвкою на шее...
И это один за другим, изо дня в день неделями и месяцами!
Но однажды в шатёр Александра был впущен и заведомый друг: сын того самого девяностолетнего Огелая, который на чрезвычайном совете нойонов советовал хану как можно бережнее обойтись с Невским. Сыну Огелая было около семидесяти лет. Его послал к Невскому с предупреждением отец.
— Князь, — говорил участливо татарин, — повяжи себе на чресла пояс повиновенья... Злоумышляют на тебя!.. — Сын Огелая опасливо оглянулся на войлочные стены шатра, обтянутые шёлком, с вытканными на нём птицами и цветами, и придвинулся к самому уху Александра. — А лучше всего, князь, — сказал он, — в момент благоприятного случая ударь плетью коня и гони, чтобы не догнали тебя!..
...Великое кочевье приближалось меж тем к пределам Сарая. Александру стало известно, что кочевой столице Орды предстоит великий выход хана и приём царей, владетелей и послов.
«Ну, значит, и меня приберегал, старый паршивец, для сего случая, чтобы похвалиться мною!» — подумал с горечью Александр.
Догадкой своей он близок был к истине.
У ордынских ханов существовал обычай, чтобы время от времени, на больших курултаях, дабы явить свою славу и для устрашенья народов, совершать восхождение на трон по согбенным спинам и головам побеждённых царей. Стоя на коленях, каждый на своей ступеньке, они изображали как бы живой примосток к трону. Ставили шестерых — трое на трое — так, что супротивные друг другу соприкасались теменем низко склонённых голов.
Четвёртая пара побеждённых владетелей должна была лечь плашмя ничком, прямо на полу, дабы не пришлось хану высоко подымать свои ноги.
По обе стороны престола стояли грозные телохранители с обнажёнными ятаганами. О таковых пела песнь: «Если колоть их в глаз — не моргнут. В щёку — не посторонятся!..»
Главный вазир ханского двора Есун-Тюэ, хрипящий от жира маленький татарин-мусульманин в большой чалме, явился к Невскому, в его шатёр, и передал веленье хана, чтобы Александр занял место в живой лестнице перед троном. Но тщетно жирный вазир впивался глазами в лицо Александра: и ресница не дрогнула.
— Скажите хану, что его воля будет исполнена.
Берке с нетерпением ждал возврата Есун-Тюэ.
— А что сделал он? — спросил Берке.
— Ничего, государь, — отвечал вазир. — Он смотрел как голодный беркут, прикованный к рукавице охотника. Однако отвечал почтительно, и сказал, что исполнит волю твою, государь.
Берке откинулся на спинку трона и закрыл в блаженстве глаза...
...И вот наконец настал для Александра страшный миг ещё неслыханного в их роду, в роду Мономаха, униженья. Он — гроза тевтонов и шведов, тот, кто при жизни проименован — Невский! — он стоит на коленях, на самой первой от ханского трона ступеньке, и ощущает упругим касанием своих волос темя чьей-то склонённой головы, какого-то осетинского князька, приведённого к покорности.
Судя по тому затаённому шороху, который послышался вдруг в жарко надышанной огромной юрте приёмов, хан уже выступил из своего спального шатра, сейчас выйдет и дверь и двинется к трону. Сейчас он, Александр, почувствует на затылке, на шее, подошву ханской туфли... Ворот кафтана становится тесен Невскому. Жар бьёт в опущенное лицо. Узоры ковра плывут... «Ну, погоди ж ты, ишачий выкидыш! — думает, стиснув зубы, Александр. — Только бы вырваться, а будешь ты у меня лайно возить из-под мужиков новгородских».
Слышится громкий голос распорядителя шествий:
— Александр — князь русских! К тебе слово от господина соединения планет и времени и от повелителя сорока племён и народов, от Берке-хана: хан и нойоны его изъяснения твои касательно мятежа и злоумышлении в народе твоём порешили принять во внимание. Вину твою смягчаем. Будь гостем! Прошу тебя, выйди и займи твоё место в ряду царевичей!..
Распорядитель шествий протягивает Невскому руку и помогает встать с колен. Мальчик-прислужник подносит Александру в золотой чаше кумыс. Это кумыс особый. Они именуют его кара-кумыс — это напиток господ и высоких гостей. Беднякам и незнатным не полагается его пить...
С молчаливым поклоном Александр принимает чашу... Между тем на его место в живой ступени уже поставлен кто-то другой из владетелей: очевидно, тот, чья шея, по выражению татар, оказалась чрезмерно упругой...
Истязующая бессонница. Тоска завела чёрную руку свою под сердце.
Наконец-то отпущен из этого недостойного балагана, наконец-то один он в войлочной тьме своего спального шатра! Одни и те же образы перед его остановившимся духовным взором, одни и те же думы, размалывающие душу, словно жёрнов... Князь лежит полуничком, обхватив подушку, прижав её прохладною стороною, чтобы скорее уснуть.
Истязующая бессонница. Хочется дотянуться рукою до колокольчика и позвонить, чтобы отрок позвал Настасьина: дал бы чего-либо усыпляющего, — а меж тем недостаёт силы, чтобы поднять руку... Снаружи доносится упругий и всё наддающий и наддающий шум проливного дождя о шатровую крышу. «Этак вот, верно, и с ума сходят! — подумалось Александру. — Надо, надо заснуть!.. Всё ужасное ещё впереди, это только цветочки!.. Сон — телу строитель!..»
Александр понимал, что его решили убить. Иначе разно осмелились бы подвергнуть его столь неслыханному глумленью?.. Только предопределив ему смертную участь, осмелились они так поступить с ним!..
...Тяжко прошла зима... Князь стал прихварывать. Однако на людях он показывался неизменно добрым, дышащим уверенностью и силой. Он ободрял своих:
— Ничего, ничего, ребятки! Тоску свою — под сапог! Уж как-нибудь уладимся с ханом... Скоро жёнушек, детушек своих обымете!.. Да смотрите, татарушками здесь не обзаведитеся! Знаю я вас, вы у меня народ удалой!
И не привыкшие к такой шутке князя дружинники смеялись:
— Ну, что ты, государь, что ты, Александр Ярославич!.. От русской женщины разве на чужестранных посмотришь?.. Да всё равно как щепки под ногой: и видишь их и не видишь!..
...Однажды Александр, сидя на ложе своём, укутанный плащом на меху, придвинув к самой тахте стол, просматривал ясашные свитки. Настасьин подавал ему требуемые столбцы. Посредине кибитки тлел очаг. Время от времени юноша вставал и подбрасывал в пламя кусок сухого аргала.
— Да, — сказал князь, глядя через стол, как возится Григорий у очага, — полено увидал бы наше, русское, берёзовое, и то легче бы стало!.. Топят какой-то дрянью!.. И огонь не тот... не русский... не греет, всё время зябну... И никогда со мной этого не бывало!..
Омыв руки из кружки над ведром, юноша возвратился к прерванному занятию. Несколько раз, украдкою от князя, он всматривался в его лицо. Затем, застыдившись немного, задал князю некий вопрос как врач.
Невский тоже несколько смутился.
— Вот ведь ты какой у меня, а? — удивлённо и одобрительно произнёс он. — Читаешь, как в книге. Третьего дня я и сам обратил внимание, будто бы чуть с кровью стал помачиваться...
И тогда в откровенной беседе юный медик высказал подозрение, что князя отравляют.
Александр Ярославич на мгновенье нахмурился, а потом спокойно сказал:
— Весьма возможно. У них это в ходу. Родителя моего зельем опоили... в Большой орде... Правда, поварня у нас своя... но ведь корм, продовольствие — всё у них покупаем. Не уследишь! Да и ведь то и дело у них приходится пить-есть... Не со своим же будешь к ним в гости ходить!.. А без того в Орде нельзя...
Приглушив голос, да и то не прямо, а иносказаньем, Настасьин отважился посоветовать князю бегство.
— Александр Ярославич... государь... — сказал он. — «Ко́монь во полночи Овлур свистнул за рекою[54]: велит князю разумети: князю Игорю не быть!..» Александр Ярославич, — прижимая руки к груди и умоляюще глядя на князя, — беги, государь!.. Ведь тебя и народ заждался!..
Пламя гнева вспыхнуло в глазах Александра. Синие глаза его потемнели. Нет, нет! — то не человек, то Держава смотрела из его глаз!.. Юноша побледнел.
— Замолчи! — сказал Александр. — Не таким народ меня ждёт — не наводчиком поганых!.. Чтобы я бежал?.. Да они только итого и ждут, татары! Ещё след коня моего не остынет, а уж триста тысяч сих дьяволов начнут резню по всей Владимирщине!.. Что я на них кину, кого?.. Земля обезлюдела!.. Отборный народ погибнул, ратник!.. Десять лет тому назад нашёлся один удалый... ну, да не тем будь помянут, покойник!.. А и доселе кровью, рабством платимся за то... Да что я с тобой говорю про это?.. — с досадою сказал князь. — Не твоего ума дело!.. Знай своё... врач — врачуй!..
Но уж этот ли врач не знал своего дела? Он вовремя заметил подпухлость подглазниц у Ярославича и сейчас же своим лекарством — отваром каких-то трав да ещё порошком каким-то — вернул своему князю здоровье.
— Да ты прямо Иппократ! — ласково сказал Невский. — У меня и силы будто прибавилось... право!.. А то совсем занедужил!..
Настасьин взял с князя слово, что ежедневно — и утром и на ночь — Александр Ярославич станет принимать из его рук лекарство. А если князю предстоит выход — посетить кого-нибудь из нойонов и там принять угощенье, то чтобы из его же, Григорьевых, рук и в глубокой тайне князь принимал бы всякий раз предохранительные против отравы порошки и вдобавок какую-то пахнущую сырым белком яйца болтушку.
Порошки были чёрные, похожие на толчёный, мелко просеянный уголь.
— А ведь похоже, дружок, что ты угольком меня угощаешь! — посмеялся Невский, рассматривая разболтанный в воде порошок.
Настасьин обиделся.
— Государь, — сказал он, — уж в моём-то деле дозволь мне...
— На шутку не обижайся, Гриша, — сказал Невский. — Я тобою сверх меры доволен!..
Однако в той же мере, в какой доволен был своим врачом великий князь Владимирский, был гневен на своего врача хан Золотой Орды.
Наедине, в спальном шатре своём, разъярённый хан схватил теленгута за его льняную бородку лопаточкой и рванул её книзу.
— Ты лжец и самозванец!.. Ты бессильный и невежественный обманщик! — кричал он. — Ты говорил, что он через месяц не сможет сесть на коня! А вчера ему привели ещё не знающего подков скакуна, и Александр-князь своею рукою укротил его!.. Я прогоню тебя!.. Я пастухом овец тебя сделаю!..
Голова теленгута моталась из стороны в сторону, вослед ханской руки.
Отпущенный, он горько восплакался.
— Хан! — говорил старый отравитель. — Я не обманывал тебя! Я видел сам, уже болезнь показала ему лицо своё... Но разве есть трава, против которой не было бы другой травы? Разве есть яды, на которые природа и мудрость медика не нашли бы противоядия?.. Его спасли. Возле него есть умудрённый в нашей науке человек. Дозволь мне испытать ещё одно средство...
Готовый к верховой вечерней прогулке перед сном и уже натянув длинные, вишнёвого цвета, ездовые кожаные перчатки с раструбом, Александр стоял перед серебряным полированным зеркалом, что держал перед ним отрок, и поправлял надетую слегка набекрень невысокую шапку с бобровым околышем и плоским верхом из котика.
Вошёл Настасьин, обычно сопровождавший его на прогулках.
— Сейчас иду, — сказал Александр, думая, что его юный доктор пришёл напомнить, что кони засёдланы.
— Государь, — сказал Настасьин, — там опять у тебя двое ждут... бояр ихних!..
Невский выругался с досады:
— А пёс бы их ел совсем! Покоя нету от них!.. Уже и на ночь глядя приходить стали!..
Он отложил выезд и проследовал в свой приёмный шатёр. Войдя, он не вдруг при слабом свете свечей рассмотрел, кто перед ним. Двое людей, один — огромного роста, другой — маленький, в больших татарских шапках и в стёганых тангутских халатах, поднялись при его появленье.
Он, слегка поклонясь, приветствовал их по-татарски, именуя князьями и прося их почтить его жилище гостьбою и приятием трапезы. И только тогда рассмотрел их: это были Альфред фон Штумпенхаузен и сэр Джон-Урдюй-Пэта.
На мгновенье оторопевший Невский поднял правую руку, как бы запрещая им садиться.
— О нет! — воскликнул он. — Для холуёв ордынских у меня — там вон, возле поварни, корыто для объедков!.. Туда прошу!..
Александр слегка отступил в сторону и рукою в перчатке показал на дверь.
— И ряженых я тоже не звал — не масленая неделя!.. Ну? — нетерпеливо вскричал он. — Вон отсюда!..
Штумпенхаузен мигом очутился у двери.
Рыжий гигант остался на месте,
— Меня не испугаешь, князь, — сказал он. — Я — Пэта!.. Ты радуешься, что ханский сапог не наступил на твой затылок, на твою русскую выю... Напрасно!.. Из ханской кладовой принесена уже добрая тетива, и, быть может, завтра же тебя удавят. Дай пройти!..
Джон-Урдюй толкнул князя кулаком в плечо.
— Ах ты, Иуда!., паршивец!., наёмная собака татарская! — во весь голос заорал князь, уже не помня себя.
И рукою, от одного удара которой оседали на задние ноги могучие степные кони, Александр швырнул рыжего исполина на колени перед собой, скинул перчатку и, голой рукой взяв тамплиера за горло, сломал ему гортанные хрящи.
— Ну вот, — с тяжёлым дыханьем сказал он, — и без тетивы!
Кровь пошатывала его!.. Он вышел из шатра. Вороной конь рвал копытами землю... Александр вскочил в седло и принял повод.
— В шатёр не допускать никого! Я скоро буду здесь! — приказал он.
Невский сам решил уведомить ханского букаула, что проникший в его шатёр рыцарь Пэта, посмевший оскорбить его, убит им на месте...
Тоскливый посвист ветра... Чёрная холодная степь... Кибитки, озарённые луной. Лай собак. Александр поднял голову, взглянул на небо. Вспомнились Переславль, Новгород, Дубравка... «Боже мой, как далеко всё это... словно бы юз тёмного колодца гляжу!..»
Слегка ущерблённая с краю луна была словно татарская запрокинувшаяся башка в тюбетейке...
...Когда Александр, не застав букаула, вернулся в свой стан и вступил в шатёр и глянул на то место, где распростёрт был труп тамплиера-англичанина, то он так и оцепенел, окованный ужасом: труп исчез!..
Не мог ведь ожить он, не мог уползти сам: ощущенье, оставшееся на пальцах и в ладони Александра, слишком явственно убеждало в этом. Рыцарь, несомненно, был мёртв. Но тогда кто же мог унести мёртвое тело?
Александр позвал стражу: вошли два воина и с ними — шатёрничий.
— Кто входил? — крикнул Александр.
Воины сперва стали клясться, что никого не впускали, но затем припомнили, что лекарь княжеский Григорий был впущен ими, ибо они знали, что он всегда вхож в спальный шатёр князя, даже и в полночь...
Ужасная догадка мелькнула в мыслях князя.
— Боже мой, безумец мой милый, что ты наделал?.. — крикнул он и кинулся к боковине шатра: ну, так и есть, вот и снег, вброшенный ветром под плохо опущенную стенку шатра. Сюда, значит, и проволок его, мёртвого Урдюя-Пэту, бедняга Настасьин. Увидя, что в шатре валяется труп знатного татарина, испугался за князя... А дальше всё было ясно!..
Князь нарядил тотчас же во все стороны стана тайный поиск из самых надёжных и молчаливых дружинников, во главе с Михайлой Пинещиничем, как человеком, показавшим неоднократно редкостную сообразительность и хладнокровие. Приказано было искать Настасьина. Приказано было, без малейшей огласки, во что бы то ни стало, найти его...
Утром, один за другим, измученные и угрюмые воины вернулись ни с чем...
Но Гриша Настасьин в это время уже был схвачен в степи конным дозором татар. Его подстерегли и схватили как раз в тот самый миг, когда он приготовился сбросить в овраг тело убитого Пэты.
— Ты убил?! — закричал на него начальник ордынской стражи, когда Настасьина доставили к нему на допрос.
— Я, — спокойно отвечал юноша.
На дальнейшем допросе он рассказал, будто рыцаря он убил в запальчивости за то, что тот оскорбил его, Настасьина. А опомнившись, решил, дескать, скрыть следы своего преступления. На этом своём показании он стоял твёрдо.
Согласно законам Чингисхана, чужеземец, умертвивший ордынского вельможу, подлежал смертной казни немедленно. «Если, — гласил этот закон, — убийство было совершено после заката солнца, то убийца не должен увидать восхода его!»
Так бы всё и произошло, но начальник ордынской стражи видал этого русского юношу в свите князя Александра и знал, что это личный врач князя. Поэтому решено было доложить обо всём самому хану Берке вопреки строгому запрету беспокоить хана ночью.
Сперва разбуженный среди ночи Берке злобно заорал, затопал ногами на стражника, пришедшего будить хана, стал грозить ему всякими ужасами, но сразу же поутих, как только узнал, что преступник, приведённый на его суд, не кто иной, как лейб-медик Александра, тот самый медик, которого старый тангут сравнивал с Авиценной и против которого признавал своё бессилие...
...Хан Берке был не способен перенести, чтобы у кого бы то ни было из окрестных государей, князей, владетелей был в их соколиной охоте сокол или кречет резвее, чем у него. И те, кто знал об этом и хотел угодить верховному хану Золотой Орды, приносили ему в дар своих лучших охотничьих птиц...
В ту памятную ночь, когда впавший в неистовую ярость Берке тряс за бороду своего тангута-отравителя и вырвал у него признание, что против Настасьина он бессилен, хану долго не спалось. Как?! У русского князя его личный медик бесконечно превышает познаниями прославленного медика, который обслуживает его самого, Берке?! Не есть ли это позор ханскому достоинству — такой же, как если бы чей-либо кречет взвивался выше и сильнее бил птицу, чем ханский кречет?!
И вот сейчас перед ним предстанет этот самый чудесный юноша врач, предстанет как преступник, обречённый казни! И в злобной радости, в предвкушении полного торжества своего хан Берке немедленно приказал одеть себя, а затем ввести Настасьина.
Настасьина ввели в его шатёр со связанными руками. Он молча поклонился хану, восседавшему на подушках, брошенных на ковёр.
Берке отдал приказание после тщательного обыска развязать юношу. Рослые телохранители стояли по обе стороны шатёрного входа и по обе стороны от Берке.
Настасьин спокойно оглядел хана. Берке был одет в шёлковый стёганый халат зелёного цвета, с золотою прошвою. На голове шапка в виде колпака с бобровой опушкой. Ноги старого хана в мягких красного цвета туфлях покоились на бархатной подушке.
Настасьина поразило сегодня лицо Берке. Ему и раньше приходилось видеть хана, но это всегда происходило во время торжества и приёмов, и щёки Берке, по обычаю, были тогда густо покрыты какой-то красной жирной помадой. А теперь дряблое лицо хана ужасало взгляд струпьями и рубцами.
Не дрогнув, повторил Настасьин перед ханом своё признание в убийстве.
— А знал ли ты, — прохрипел Берке, — что ты моего вельможу убил?
— Знал.
— А знал ли ты, что, будь это даже простой погонщик овец, ты за убийство его всё равно подлежал бы смерти?
— Знал, — отвечал Настасьин.
Воцарилось молчание. Затем снова заговорил Берке.
— Ты юн, — сказал он, — и вся жизнь твоя впереди. Но я вижу, ты не показываешь на своём лице страха смерти. Быть может, ты на господина своего уповаешь — на князя Александра, что он вымолит у меня твою жизнь? Так знай же, что уши мои были бы закрыты для его слов. Да и закон наш не оставляет времени для его мольбы. Ты этой же ночью должен умереть, говорю тебе это, чтобы ты в душе своей не питал ложных надежд!
Настасьин в ответ презрительно усмехнулся.
Берке угрюмо проговорил что-то по-татарски.
Стража, что привела Настасьина, уже приготовилась снова скрутить ему руки за спиной и вывести из шатра по первому мановению хана. Но Берке решил иначе.
— Слушай ты, вместивший в себе дерзость юных и мудрость старейших! — сказал старый хан, и голос его был полон волнения. — Я говорю тебе это, я, повелевающий сорока народами! В моей руке законы и царства. Слово моё — закон законов! Я могу даровать тебе жизнь. Мало этого! Я поставлю тебя столь высоко, что и вельможи мои будут страшиться твоего гнева и станут всячески ублажать тебя и класть к ногам твоим подарки! Оставь князя Александра!.. Над ним тяготеет судьба!.. Своими познаниями в болезнях ты заслуживаешь лучшей участи. Моим лекарем стань! И рука моя будет для тебя седалищем сокола. Я буду держать тебя возле моего сердца. Ты из одной чаши будешь со мной пить, из одного котла есть!..
Презрением и гневом сверкнули глаза юноши.
— А я брезгую, хан, из одной чаши с тобой пить, из одного котла есть! — воскликнул гордо Григорий Настасьин. — Ты кровопивец, ты кровь человеческую пьёшь!
Он выпрямился и с презрением плюнул в сторону хана. Грудь его бурно дышала. Лицо пламенело.
Все, кто был в шатре, застыли от ужаса.
Берке в ярости привстал было, как бы готовясь ударить юношу кривым ножом, выхваченным из-за пояса халата. Но вслед за тем он отшатнулся, лицо его исказилось подавляемым гневом, и он произнёс:
— Было бы вопреки разуму, если бы я своей рукой укоротил часы мучений, которые ты проведёшь сегодня в ожидании неотвратимой смерти!.. Знай же: тебе уже не увидеть, как взойдёт солнце!
Юноша вскинул голову:
— Я не увижу — народ мой увидит!
...Эта ночь была последней в жизни Настасьина.
Князь лежал, закинув руки под голову, тяжело дыша и вперяя очи во тьму.
Александру сильно недужилось.
С ним в шатре пребывал теперь неотлучно Михайла Пинещинич. Новгородец то и дело подходил к постели князя и спрашивал: не подать ли ему чего? Может быть, снегу набрать в ведро да холодную тряпицу поприкладывать к голове — жар отымает?!
— Спи ты, пожалуйста!.. Пройдёт!.. — трудно и досадуя ответствовал князь.
Новгородец тяжело вздыхал...
Неладное творилось с Ярославичем: он чувствовал нарастающий жар, бред, понимал, что это болезнь, и не мог никак отделаться от чувства, будто пылающее жаром лихорадки тело его стало необъятно огромным... Шатёр чудился ему как бы огромным, обитым кошмою гробом, в который велено было ему лечь, дабы примерить — по росту ли? Слова кружились все одни и те же:
«Гроб!.. Крышка пришлась. Как на Святогора. Не выйду... Гроб...»
Князь всю ночь не смежал очей. Под утро забылся. Солнце принесло облегченье. Взор стал снова ясен и твёрд.
К полудню князю и вовсе полегчало. Он встал, обулся в лёгкие валенки, чтобы не дуло в ноги, поразмялся сперва по шатру и, откушав, сел за работу — за разбор грамот и донесений, а потом стал диктовать письма и распоряженья на Русь.
Посланный от хана Елдегай известил Невского, что ему надлежит явиться сегодня на прощальную аудиенцию к хану...
Срочно велено было готовить прощальные дары хану Берке и Елдегаю и достойные подарки четырём ханшам: тем, которые пребывали на точке полного уваженья; каждая получила по кафтану из чёрных соболей, а Тахтагань-хатунь — зимний халат из выдры и такую же шапку.
Михайла Пинещинич чуть не заплакал, видя, что этакое добро уходит из русской пушной казны — и на кого же!..
— Стоят они, суки, того! — сказал он. — По собачьему бы им полушубку подарить, да и за глаза довольно!
Невский похлопал его по плечу.
— Радуйся, Михайла, что живыми отпускают, — сказал он. — Давай-ка собирай ребят в путь-дорогу!.. Ведь на Русь едем! — сказал он бодро, стараясь придать радости окружающим.
Сам он не очень-то верил в добрые намеренья Берке. Знал он татар. Однако опасенья Невского оказались на сей раз напрасными. Правда, не обошлось без многозначительного назидательного велеречия, однако в целом прощальная аудиенция была весьма благодушной.
— Ну, Искандер, — сказал, вздохнув, Берке, — сегодня расстаёмся. Не уноси в сердце своём зла против меня и против благословенных орд моих. Я мог бы утопить и тебя, и народ твой в море тленья. Ты знаешь: ночью у меня огней столько, сколько звёзд. Я мог бы поднять на тебя сто тем [55] воинов. Ибо я управляю народом, который с большими трудами собрали отцы и деды мои... Я мог бы поступить с тобою, как поступаю с волосом в глазу или как с занозою. Вспомни, когда ты приехал, то ещё не успела осесть пыль крамолы твоей. Но ты хорошо сделал, что приехал и дал объяснения!.. Ты оберёг народ твой!.. Да и сам выносишь ныне ногу свою на берег спасенья... Я радостный отпускаю тебя: могущество руки моей возросло. Ты знаешь сам, что войска презренного Хулагу и сына его Абака и с ними войско картвелов уничтожены мною и рассеяны.
И ещё многое, в этом духе, говорил хан, отпуская Ярославича. Что ж оставалось отвечать Александру на это? Ярославич склонил голову и во всеуслышанье ответил по-монгольски:
— Было бы далеко от здравого смысла пытаться противостать обвалу горы и приливу моря!..
И все присутствующие одобрили мудрое слово великого князя русских...
...Вечером того ж самого дня Берке, с глазу на глаз, грозил своему медику Тогрулу:
— Смотри же!.. Если только он доберётся до Новгорода, то я велю зашить тебя в шкуру волка и затравить собаками!..
Медик смиренно поклонился.
— Нет, государь, — отвечал он. — Александр-князь успеет отъехать от черты благословенных орд твоих не далее, чем покойный отец его — от Каракорума!..
Новый приступ недуга, вызванного ордынской отравой, едва не свалил Александра в Нижнем Новгороде. Однако князь превозмог болезнь и продолжил путь свой. Был ноябрь. Волга не стала ещё. Но снегу по берегам было уже много, установился санный путь, и князю легче было ехать полозом, в закрытом возке...
Возле Городца, что на Волге, заночевали в тихом белостенном монастыре на мысу, вдавшемся в Волгу. Игумен упросил Александра занять его покои. В прочих зданьях разместили дружину.
Александр, шатко ступая в своих оленьих унтах, разминал ноги, прохаживаясь по келье, и с наслажденьем осматривал беленные известью низкие своды.
— А ведь, поди, не чаяли и живы быть, — проговорил он, обращаясь к новгородцу Михайле и к двум другим дружинникам, ожидавшим от князя приказаний. — Вот видите, ребятки. Ничего, поратоборствуем ещё с вами!
Вдруг лицо князя дрогнуло и исказилось от боли. Александр схватился руками за живот. Лоб у него мгновенно вспотел. Лицо потемнело. Боль была такая, как если бы лезвие бритвы скользнуло где-то глубоко, в недрах тела, располосовывая кишки... Невский застонал...
Бережно поддерживая и давая ему ступать, как только боль внутри чуть отпускала, его подвела к раскладной походной кровати, покрытой мехами, и уложили не раздевая...
Александр старался перевести дыханье, как только боли стихали, и тогда лицо его прояснялось. А потом снопа как бы чья-то незримая рука проводила внутри у него раскрытой бритвой, доколе не исторгала у князя стон, — и вновь отпускала...
Чтобы хоть немного утишить боль, Александр стал дышать открытым ртом... И вдруг не выдержал и опять застонал...
Михайла кинулся добывать какого-то монаха, который был сведущ во врачеванье...
Александр умирал. Тесная келья наполнялась иеромонахами в чёрных одеяниях. Его исповедали и причастили. Готовили государя к предсмертному постриженью в монашеский чин, к принятию схимы[56]. И самая схима — черпая длинная монашеская мантия, и наголовник — куколь — чёрный и островерхий, с нашитым спереди белым осьмиконечным крестом, были уже освящены и покоились наготове...
Старик архимандрит, присевший на табурет возле одра умирающего и склонившийся над головою князя, дабы приуготовить его к спокойному принятию кончины через пастырское увещание, заговорил было о тленности суетного и маловременного жития века сего...
Невский, досадливо поморщась, запретительным движеньем приподнял исхудавшую руку и остановил монаха.
— Довольно, отец честны́й! — негромко произнёс он. — Смерти я не страшусь, смерть — мужу покой! Всю жизнь с нею стремя в стремя ездил!.. Но о том досадую: разве время мне ныне покой принять? Нет мне настольника крепкого!..
Он замолк... Игумен сидел возле его постели, шепча молитвы...
...Могучие дружинники старались ступать неслышно, на цыпочках, прикусывая губу. Взглянув друг на друга, они молча сотрясали головами.
Александр увидал их. На устах его прошла тень отцовской улыбки. Затем лицо его стало опять суровым. Он угадывал, что архимандрит и другие монахи, с трудом скрывая своё нетерпение, ждут, когда же наконец можно будет приступить им к совершению предсмертного обряда, обязательного для царей.
— Отец честный, — снова тихим, но властным голосом обратился он к архимандриту, — повремените ещё немного: скоро ваш буду!.. Дайте в последнее, с моими витязями побыть... проститься... Пускай отцы святые выйдут на малое время... оставят нас одних...
Архимандрит подчинился.
В келье остались одни только воины, сомкнувшиеся скорбно вкруг умирающего вождя своего. Послышались тяжёлые мужские рыданья.
Невский нахмурился.
— Кто это там? — слегка прикрикнул он на дружинников. — Зачем вы душу надрываете мне жалостью?.. Полно!..
Рыданья прекратились, и Александр Ярославич, тот, кто ещё при жизни своей был проименован от народа — Невский, — обратил к своим воинам предсмертное своё слово. Оно было простым и суровым.
Он звал их не щадить жизни и крови своей за отечество, не страшиться смерти, как не страшился её и князь ихний.
— Об одном, орлята мои, скорблю, — сказал он, испросив прощенья у них за всякую обиду, буде когда причинил которому, и сам всякую им обиду прощая. — Об одном скорблю: борозда моя на Русской Земле не довершена. Раньше сроку плуг свой тяжкий покидаю[57]!..
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ, ТРУДЫ ИСТОРИКОВ.
РАСКОЛОТЫЙ ВЕК
XIII век пролетает в русской истории как бы расколотым на две неравные, мало похожие одна на другую части. Первая треть итого столетия была временем быстрого и всестороннего развития русских земель. Остальное — «тёмный период», время упадка или застоя почти во всех областях жизни страны. Причиной этого перелома было вторжение в 30-е годы XIII века 140-тысячной массы кочевников.
Публикация исторических источников XIII века в переводе на современный русский язык с необходимым пояснительным комментарием даёт возможность читателю самостоятельно оценить события давно минувшей эпохи.
«Слово о погибели Русской земли», «Похвала Всеволоду Большое Гнездо», «Летописный рассказ о преступлении рязанских князей», а также выдержки из трудов историка Б. А. Рыбакова и искусствоведа И. Э. Грабаря дают представление о социально-экономическом, политическом и культурном развитии Руси в начале XIII века, накануне монголо-татарского нашествия.
Далее помещён ряд материалов об истории монгольских завоеваний от возникновения монгольского государства и до нашествия Батыя на Русь в 1237 году. Здесь читатель найдёт отрывки из записок китайского дипломата Чжао Хуна, древнерусскую «Повесть о битве на роке Калке», отрывки из работ русского исследователя Центральной Азии Г. Е. Грумм-Гржимайло и советского историка И. П. Петрушевского.
Следующий раздел содержит документы о нашествии Батыя на Русь в 1237—1241 годах, в том числе письмо венгерского монаха Юлиана — редкое свидетельство иноземца о событиях на Руси в 1237 году. Однако особый интерес представляет русский памятник «Повесть о разорении Рязани Батыем».
Тяжёлый период иноземного ига нашёл отражение в трудах европейских путешественников Плано Карпини и Гильома Рубрука, проникших в Орду в середине XIII века, а также в «Повести о Михаиле Черниговском» — памятнике русской литературы XIII века.
Тяжёлая борьба против захватчиков шла на протяжении всего XIII века и на северо-западных и юго-западных рубежах Руси. Ценой огромного напряжения сил русскому народу удалось отстоять свои земли от нашествия западных соседей — немецких, шведских, литовских, венгерских и польских феодалов. Эта борьба — важнейшая сторона жизни Руси в XIII столетии. О ней рассказывают отрывки из Галицко Волынской летописи, а также из трудов крупнейшего русского историка XIX столетия С. М. Соловьёва.
«Житие Александра Невского», «Повесть о событиях в Липецком и Воргольском княжествах», «Слово Серапиона Владимирского» показывают Русь последней трети XIII века: страх и отчаяние мирных жителей, ожесточение князей, дикую свирепость завоевателей и вместе с тем напряжённые поиски путей к духовному и политическому возрождению страны.
В целом публикуемые материалы создают как бы мозаичный портрет XIII века, позволяют увидеть исторические корни будущей Куликовской битвы и победы на Угре.
1
Писатели Древней Руси любили изображать события «с высоты птичього полети», тик, чтобы вся Русская земля была видна от края до края.
Автор «Слова о полку Игорево» описывал сборы русского войска в поход: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле!»
Этим возвышенным взглядом, при котором исчезает всё мелкое и случайное и остаётся только крупное и вечное, обладал и неизвестный автор «Слова о погибели Русской земли» — замечательного памятника русской литературы начала XIII столетия.
Он создал яркую, эпически широкую картину процветания русских земель перед самым монголо-татарским нашествием.
«Слово о погибели...» напоминает богатую, украшенную золотом и киноварью миниатюру, которой часто начинались древние книги. Это один из немногих сохранившихся памятников яркой, своеобразной культуры домонгольской Руси. «Погибелью Русской земли» автор считает феодальные усобицы. Он вспоминает времена расцвета Руси при Владимире Мономахе и Ярославе Мудром.
СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ[58]
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озёрами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга, где обитают поганые тоймичи[59], и за Дышащее море[60]; от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов[61], от черемисов до мордвы — то всё с помощью божьею покорено было христианским народом, поганые эти страны повиновались великому князю Всеволоду[62], отцу его Юрию, князю киевскому, деду его Владимиру Мономаху, которым половцы пугали своих малых деток. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры укрепляли каменные стены своих городов железными воротами, чтобы их великий Владимир не покорил, а немцы радовались, что они далеко — за Синим морем. Буртасы, черемисы, вяда[63] и мордва бортничали на великого князя Владимира[64]. А император царьградский Мануил[65] от страха великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьград у него не взял. И в те дни — от великого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия[66], князя владимирского, — обрушилась беда на христиан...
* * *
Среди «грозных» князей начала XIII столетия, о которых писал автор «Слова о погибели...», самым могущественным был, пожалуй, владимиро-суздальский князь Всеволод Юрьевич по прозвищу Большое Гнездо. При нём владимирские земли достигли наибольшего расцвета. Имя его гремело по всей Руси. Военное могущество Всеволода было столь велико, что он, по выражению автора «Слова о полку Игореве», мог «Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать».
Летописец горько оплакивает кончину Всеволода в 1212 году? в «Похвале Всеволоду» звучит восхищение силой и богатством князя, мудрого и рачительного хозяина своей земли.
«Похвала» проста по стилю, печальна и торжественна по настроению.
ПОХВАЛА ВСЕВОЛОДУ БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО[67]
В лето 1212 преставился великий князь Всеволод, именованный во святом крещении Дмитрием[68], сын Юрия, благочестивого князя всея Руси, внук Владимира Мономаха, прокняжив в Суздальской земле 37 лет.
Много мужества и дерзости показал Всеволод на поле брани. Украшен был всеми добрыми нравами. Злых казнил, а добромысленных миловал. Ведь князь не зря меч носит, но в месть злодеям и в похвалу творящим добро.
Суд судил он истинный и нелицемерный, не боясь лица сильных своих бояр, которые обижали меньших и закабаляли сирот[69] и творили насилие.
При имени Всеволода трепетали все страны, и по всей земле разошёлся слух о нём. И всех зломышлявших на него отдал господь в руки его, чтобы не возносились и не величались, но возлагали на бога всю свою надежду. И бог покорял под ноги его всех врагов его.
Многие церкви создал Всеволод во время власти своём. Создал церковь прекрасную мученика Дмитрий на дворе своём и украсил её дивно иконами и письмом[70]. И монастырь создал, а в нём церковь каменную Рождества святой богородицы[71] и её также исполнил всем исполнением, и покрыта была оловом от верху до закомар[72] и притворов. И то чуду подобно. И не искал Всеволод мастеров у немцев[73], но нашёл мастеров среди клевретов святой богородицы[74] и своих. Одни олово лили, другие кровлю крыли, иные известью белили.
И когда пришёл конец временного сего и многомятежного жития, тихо и безмолвно он преставился и приложился к отцам и дедам своим. И плакали по нему сыновья его плачем великим, и все бояре и мужи[75], и вся земля власти его, и пел над ним обычные песнопения епископ Иван[76], и все игумены и черноризцы[77], и все попы града Владимира. И положили его в церкви святой богородицы Златоверхой[78], которую создал и украсил брат его Андрей.
* * *
Велики исторические заслуги Киевской Руси — общей колыбели многочисленных русских княжеств XIII столетия. Время стёрло почти все следы далёкого прошлого. Однако работы учёных — археологов, историков — позволили узнать многое о различных сторонах жизни Руси в домонгольский период.
Б.А. Рыбаков ИЗ КНИГИ «КИЕВСКАЯ РУСЬ И РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА XII—XIII вв.»[79]
Историческая заслуга Киевской Руси состояла не только в том, что была впервые создана новая социально-экономическая формация и сотни первобытных племён (славянских, финно-угорских, латышско-литовских) выступили как единое государство, крупнейшее во всей Европе. Киевская Русь за время своего государственного единства успела и сумела создать единую народность. Мы условно называем её древнерусской народностью, материнской по отношению к украинцам, русским и белорусам, вычленившимся в XIV—XV веках. В средние века её выражали прилагательным «русский», «люди руськие», «земля Руськая».
Единство древнерусской народности выражалось в выработке общего литературного языка, покрывшего собою местные племенные диалекты, в сложении общей культуры, в национальном самоощущении единства всего народа.
В заключение следует бросить взгляд на уровень культуры, достигнутый Русскими землями к моменту тех тяжких испытаний, которые готовило им нашествие полчищ Батыя.
Феодальная культура полнее всего проявилась в городах. Но следует помнить, что средневековый город не был единым — его население составляли феодалы, богатые купцы и духовенство, с одной стороны, и простые посадские люди (мастера, мелкие торговцы; капитаны и матросы «корабельных пристанищ», работные люди), с другой стороны.
Горожане были передовой частью народных масс; их руками, умом и художественным вкусом создавалась вся бытовая часть феодальной культуры: крепости и дворцы, белокаменная резьба храмов и многокрасочная финифть на коронах и бармах, корабли с носами «по-звериному» и серебряные браслеты с изображением русальных игрищ. Мастера гордились своими изделиями и подписывали их своими именами.
Кругозор горожан был несравненно шире, чем у сельских пахарей, привязанных к своему узенькому «миру» в несколько деревень. Горожане общались с иноземными купцами, ездили в другие земли, были грамотны, умели считать. Именно они, горожане, — мастера и купцы, воины и мореплаватели — видоизменили древнее понятие крошечного сельского мира (в один день пути!), раздвинув его рамки до понятия «весь мир».
Именно здесь, в городах, посадские люди увлекались весёлыми языческими игрищами, поощряли скоморохов, пренебрегая запретами церкви. Здесь создавалась сатирическая поэзия, острое оружие социальной борьбы, рождались гуманистические идеи еретиков, поднимавших свой голос против монастырей, церкви, а порою и против самого бога. Это посадские «чёрные люди» исписывали в XI—XII веках стены киевских и новгородских церквей весёлыми, насмешливыми надписями, разрушая легенду о повсеместной религиозности средневековья.
Исключительно важным было открытие в Новгороде берестяных грамот XI—XV веков. Эти замечательные документы снова подтверждают широкое развитие грамотности среди русских горожан.
У древних славян в IX веке после принятия христианства появилось две азбуки: глаголица и кириллица. На Руси в X—XIII веках обе они были известны, но глаголица применялась изредка, лишь для тайнописи, а кириллицей (упрощённой Петром I) мы пишем до сих пор, устранив (в 1918 г.) буквы фита, ять, ижица и др.
Русская деревня долгое время оставалась неграмотной, но в городах грамотность была распространена широко, о чём, кроме берестяных грамот, свидетельствует множество надписей на бытовых вещах и на стенах церквей. Кузнец-оружейник ставил своё имя на выкованном им клинке меча («Людота Коваль»), новгородский мастер великолепного серебряного кубка подписал своё изделие: «Братило делал», княжеский человек помечал глиняную амфору-корчагу: «Доброе вино прислал князю Богунка»; любечанин Иван, токарь по камню, изготовив миниатюрное, почти игрушечное веретённое пряслице своей единственной дочери, написал на нём: «Иванко создал тебе (это) один а дщи»; на другом пряслице девушка, учившаяся грамоте, нацарапала русский алфавит, чтобы это «пособие» было всегда под рукой.
У нас есть несколько свидетельств о существовании школ для юношей; в 1086 году сестра Мономаха устроила в Киеве школу для девушек при одном из монастырей.
Учителями часто бывали представители низшего духовенства (дьяконы, дьячки). В руки археологов попали интересные тетради двух новгородских школьников, датированные 1263 годом. По ним мы можем судить о характере преподавания в средние века: ученики XIII века проходили коммерческую корреспонденцию, цифирь, учили основные молитвы.
Высшим учебным заведением средневекового типа был в известной мере Киево-Печерский монастырь. Из этого монастыря выходили церковные иерархи (игумены монастырей, епископы, митрополиты), которые должны были пройти курс богословия, изучить греческий язык, знать церковную литературу, научиться красноречию.
Образцом такого церковного красноречия является высокопарная кантата в честь великого князя, сочинённая одним игуменом в 1198 году. Серию поучений против язычества считают конспектом лекций этого киевского «университета».
Представление об уровне знаний могут дать «Изборники» 1073 и 1076 годов, где созданы статьи по грамматике, философии и другим дисциплинам. Русские люди того времени хорошо сознавали, что «книги суть реки, напояющие вселенную мудростью». Некоторые мудрые книги называли «глубинными книгами».
Возможно, что некоторые русские люди учились в заграничных университетах: один из авторов конца XII века, желая подчеркнуть скромность своего собственного образования, писал своему князю: «Я, князь, не ездил за море и не учился у философов (профессоров), но как пчела, припадающая к разным цветам, наполняет соты мёдом, так и я из многих книг выбирал сладость словесную и мудрость» (Даниил Заточник).
В разделе, посвящённом источникам, мы уже познакомились с выразительным богатством народных былин и с замечательным русским летописанием, являвшимся показателем уровня развития общественной мысли.
Русская литература XI—XIII веков не ограничивалась одним летописанием и была разнообразна и, по всей вероятности, очень обширна, но до наших дней из-за многочисленных татарских погромов русских городов в XIII—XVI веках уцелела лишь какая-то незначительная часть её.
Кроме исторических сочинений, показывающих, что русские писатели, несмотря на молодость Русского государства и его культуры (не получившей античного наследства), стали вровень с греческими, мы располагаем рядом произведений других жанров. Почти всё, что создавалось в X—XI веках, переписывалось, копировалось и в последующее время. Читатели продолжали интересоваться многим. Интересно «Хождение» игумена Даниила на Ближний Восток (около 1107 г.). Даниил ездил в Иерусалим, центр христианских традиций, и подробно описал своё путешествие, страны и города, которые он видел. В Иерусалиме он оказался во время первого крестового похода и вошёл в дружбу с предводителем крестоносцев королём Балдуином. Даниил дал очень точное описание Иерусалима и его окрестностей, измеряя расстояния и размеры исторических памятников. Его «Хождение» надолго явилось надёжным путеводителем по «святым местам», которые привлекали тысячи паломников со всех концов Европы.
Своеобразным жанром были «жития святых», являвшиеся сильным оружием церковной пропаганды, где сквозь слащавые восхваления канонизированных церковью образцовых, с её позиций, людей («святых», «праведных», «блаженных») хорошо просматривается реальная жизнь: классовая структура монастырей, стяжательство монахов, жестокость и сребролюбие некоторых князей, использование церковью умственно неполноценных людей и многое другое.
Особенно интересен Киево-Печерский Патерик, представляющий собою сборник рассказов разного времени о монахах Печерского монастыря. К нему присоединена исключительно интересная переписка епископа Симона и некоего церковного карьериста Поликарпа, стремившегося за взятку (деньги давала одна княгиня) получить высокий церковный пост.
Другим жанром, тоже связанным с церковью, были поучения против язычества, бичевавшие народную религию и весёлые празднества. В них также очень много интересных бытовых черт.
Излюбленным жанром средневековья были сборники изречений, пословиц и поговорок («Пчела»). В таком афористическом стиле написал свою челобитную князю знаменитый Даниил Заточник (около 1197 г.).
Самым главным, всемирно знаменитым произведением древнерусской литературы является «Слово о полку Игореве», написанное в 1185 году в Киеве. Этой поэме подражали современники и писатели начала XIII века, её цитировали псковичи в начале XIV века, а после Куликовской битвы в подражание «Слову» в Москве была написана поэма о победе над Мамаем «Задонщина».
«Слово о полку Игореве» можно было бы назвать политическим трактатом — настолько мудро и широко затронуты в нём важные исторические вопросы. Автор углубляется и в далёкие «трояновы века» (II—IV вв. н. э.), и в печальное для славян «время Бусово» (375 г.), но главное его внимание устремлено на выяснение корней усобиц, помогавших половцам громить и грабить Русскую землю. Одним из первых виновников оказывается князь Олег «Гориславич» (умер в 1115 г.) — дед побеждённого Игоря. Ему противопоставлены: опоэтизированный князь-колдун Всеслав Полоцкий, герой киевского народного восстания 1008 года, и Владимир Мономах. Историческая концепция автора «Слова» поражает чёткостью и глубиной.
Главной частью поэмы-трактата является «златое слово», обращение ко всем князьям с горячим патриотическим призывом «вступить в стремя за Русскую землю», помочь обездоленному Игорю. Бессмертие поэме обеспечил высокий уровень поэтического мастерства. Любимый образ поэта — сокол, высоко летающий и зорко видящий даль. Сам автор всё время как бы приподнимает читателей над уровнем земли, над видимым на ней (конные воины, деревья, реки, необъятная степь, лебеди, волки, лисицы, города с их дворцами) и показывает всю Русь от Карпат до Волги, от Новгорода и Полоцка до далёкой Тмутаракани у Чёрного моря. Поэтические образы взяты прежде всего из природы: встревоженные звери и стаи птиц, не вовремя спадающий с деревьев лист, синий туман, серебряные струи рек. В словесной орнаментике этой рыцарской поэмы много золота, жемчуга, серебра, всевозможного оружия, шёлка и парчи. Подобно будущим (по отношению к нему) поэтам Ренессанса, воскресившим античную мифологию, автор «Слова о полку Игореве» широко использует образы славянского язычества: Стрибог, повелитель ветров, Велес, покровитель поэтов, загадочный Див, Солнце-Хорс. Следует отметить, что у автора почти нет церковной фразеологии, а язычеству отведено видное место, что, быть может, и содействовало уничтожению духовенством рукописей поэмы XIV— XVII веков.
При всём патриотизме русской литературы мы не найдём в ней и следа проповеди агрессивных действий. Борьба с половцами рассматривается лишь как оборона русского народа от неожиданных грабительских набегов. Характерной чертой является и отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям различных национальностей: «Милуй не токмо своея веры, но и чужия... аще то буде жидовин или сарацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или ото всех поганых — всякого помилый и от беды избави» (Послание к князю Изяславу, XI в.).
Важным показателем уровня культуры является архитектура. Большинство жилых построек в городах, укреплений, дворцов и даже церквей строилось из дерева. Археологические раскопки показали многообразие деревянного строительства и существование в XI—XIII веках трёх-четырёхэтажных зданий («вежи» — донжоны, терема). Многие деревянные формы — башни, двускатное покрытие — повлияли впоследствии на каменное зодчество.
Квинтэссенцией средневековой архитектурной мысли и на христианском Западе, и на мусульманском Востоке были храмовые постройки. Так было и у нас. Постройка церкви была рассчитана как на то, чтобы поразить воображение современников, сделать церковное здание и местом театрализованного богослужения, и школой познания новой религии, так и на то, чтобы быть долговечным памятником, связывающим строителей с далёкими потомками. Исследователи называют образно средневековый собор «глубинной книгой» эпохи: зодчий организует архитектурную форму, которая должна вписываться в городской пейзаж, а в своём интерьере отвечать задачам богослужения; живописцы расписывают в несколько рядов асе стены и своды здания; мастера золотых и серебряных дел куют, отливают и чеканят паникадила и церковную утварь; художники пишут иконы; вышивальщицы украшают тканые завесы; писцы и миниатюристы готовят библиотеку необходимых книг. Поэтому действительно каждый такой церковный комплекс являлся показателем уровня мудрости и мастерства в том или ином городе.
Долгое время считалось, что древние зодчие строили всё на «глазок», без особых расчётов. Новейшие исследования показали, что архитекторы Древней Руси хорошо знали пропорции («золотое сечение», отношения типа: а : а : 2 и др.), что им было известно в архимедовской форме π = 66/22. Для облегчения архитектурных расчётов была изобретена сложная система из четырёх видов саженей. Расчётам помогали своеобразные графики — «вавилоны», содержащие в себе сложную систему математических отношений.
Каждая постройка была пронизана математической системой, которая определяла формат кирпичей, толщину стен, радиусы арок и, разумеется, общие габариты здания.
В XII веке типичным становится одноглавое кубичное в основе церковное здание с плавными закруглениями («закомарами») на верху каждого фасада. На рубеже XII и XIII веков в связи с появлением в городах высоких трёх-, четырёхэтажных зданий рождается новый стиль церковной архитектуры: храмы вытягиваются ввысь, чтобы не утонуть в многообразии городских строений.
...Стены церквей щедро расписывались фресковой росписью на библейские и евангельские сюжеты. В куполе храма над световым поясом окон обязательно помещалось огромное изображение Христа-Пантократора «всевластного», как бы заглядывающего с неба в эту церковь на молящихся.
Русские художники достигли большого мастерства как в иконописи, так и во фресковой живописи. Они не только превосходно владели композицией и колоритом, но и умели передать сложную гамму человеческих чувств (см. фреску середины XI в. во Пскове, изображающую чудо на Тивериадском озере).
Советские реставраторы провели большую работу по восстановлению первоначального облика произведений древнерусской живописи, и в настоящее время весь мир восхищается работами русских мастеров XI—XIII веков.
Эпоха феодальной раздробленности была временем расцвета культуры вообще и архитектуры в частности во всех впервые создавшихся суверенных княжествах.
Во второй половине XII и начале XIII века создано множество великолепных построек; число храмов в стольных городах достигало многих десятков. Русь стала полноправной участницей создания общеевропейского романского стиля, разрабатывая свои локальные варианты в каждом княжестве.
Блестящим образцом русского варианта романского стиля (русская основа, романские детали) является белокаменный Дмитровский собор во Владимире, построенный Всеволодом Большое Гнездо в конце XII века.
Щедрая декоративность Дмитровского собора не мешает восприятию его красивых и стройных общих форм. Недаром этот собор постоянно сравнивают со «Словом о полку Игореве» — там и здесь орнаментальные детали неразрывно связаны с общей идеей, усиливая, а не заслоняя её. И там и здесь зрителя или читателя поражает монументальность и изящество, лаконичность и глубина.
Татарское нашествие на 60 лет прервало развитие русской архитектуры. Лебединой песней белокаменного зодчества был Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, весь от земли до купола покрытый резьбой. Он был достроен в 1236 году, но резьба по камню была ещё не полностью завершена: на следующий год полчища Батыя прошли через Суздальскую землю. Собор разрушился. В конце XV века любитель книг, летописей и старины В. Д. Ермолин собрал здание из обломков и тем самым сохранил его до нас.
Живопись Древней Руси тоже достигла высокого уровня. Художники писали иконы, расписывали по сырой штукатурке (альфреско) церковные стены, украшали цветными рисунками (миниатюрами) и затейливыми заглавными буквами (инициалами) богослужебные книги и летописи. В живописной манере было много средневековой условности, но сила воздействия искусства была велика.
Очень богато было прикладное искусство, «узорочье» Древней Руси. В Киеве, Новгороде, Галиче, Смоленске и других городах найдено много мастерских, где «кузнецы злату и серебру» создавали шедевры ювелирного мастерства. Золотые украшения, расцвеченные немеркнущей цветной эмалью, тонкие изделия из серебра со сканью и зернью, с чернью и позолотой, изящная чеканка, художественная отделка оружия — всё это ставило Русь вровень с передовыми странами Европы. Недаром немецкий знаток ремёсел Теофил из Падербропа (XI в.), описывая в своей записке о различных искусствах («Schedula diversarum artium») страны, прославившиеся в том или ином мастерстве, назвал на почётном месте и Русь, мастера которой были известны за её рубежами своими изделиями «из золота с эмалью и из серебра с чернью».
Во время нашествия Батыя жители городов прятали свои драгоценности в землю. До сих пор при земляных работах в Киеве и других городах находят эти клады, и по ним учёные восстанавливают облик прикладного искусства X—XIII веков.
* * *
Ярким явлением русской культуры начала XIII века было зодчество. Лёгкие и стройные соборы, выстроенные в Северо-Восточной Руси во второй половине XII — начале XIII века, — прекрасные воплощения радостного и свободного мироощущения их создателей. Летящая сквозь века лебединая стая владимирских храмов стала одним из великих чудес мировой культуры.
«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания», — писал Н. В. Гоголь. Памятники архитектуры предмонгольской поры рассказывают не только о художественных вкусах, но и о политических притязаниях их создателей. Гордость и самовластие владимирских князей отразились в их постройках не менее отчётливо, чем политические идеалы новгородцев в храмах, выстроенных на берегах Волхова.
И. Э. Грабарь ИЗ КНИГИ «О ДРЕВНЕРУССКОМ ИСКУССТВЕ»[80]
Одного взгляда на крепкие, коренастые памятники Великого Новгорода достаточно, чтобы понять идеал новгородца — доброго вояки, не очень обтёсанного, мужиковатого, но себе на уме, почему и добившегося вольницы задолго до других народов, предприимчивого не в пример соседям, почему и колонизовавшего весь гигантский север; в его зодчестве такие же, как сам он, простые, но крепкие стены, лишённые назойливого узорочья, которое, с его точки зрения, «ни к чему», могучие силуэты, энергичные массы. Идеал новгородца — сила, и красота его — красота силы. Не всегда складно, но всегда великолепно, ибо сильно, величественно, покоряюще. Такова же и новгородская живопись — яркая по краскам, сильная, смелая, с мазками, положенными уверенной рукой, с графами, прочерченными без колебаний, решительно и властно.
Обращаясь к суздальскому зодчеству, мы видим совершенно иное. Здесь сила не была идеалом, о ней не думали, её не искали. В противовес новгородским памятники суздальские прежде всего поражают своей стройностью, изысканностью и изяществом. Там искусство мужицкое, здесь аристократическое — не в смысле родовитости, конечно, ибо и тут и там строили мужики, — искусство тонких пропорций, изящных линий и причудливых узорных плетений. Суздальское узорочье, несмотря на всё его обилие, неназойливо, проникнуто чудесным чувством меры и несравненным художественным тактом. Если бы кто-нибудь вздумал убрать стены Николо-Дворищенского собора коврами из прилеп, он убил бы всю красоту храма; если бы с Дмитриевского собора сколоть всю его каменную резь, он всё ещё оставался бы прекрасным и стройным в своих певучих линиях, ибо его узорный покров только повышает его основную красоту, а не создаёт её. В Суздале нет ни одного памятника приземистых, упрямых новгородских пропорций: они всё стройнее, всё тоньше, и даже собор Юрьева-Польского, казавшийся единственным исключением, сейчас, после освобождения его от окружавших поздних пристроек и застроек, сразу вытянулся и стал по-суздальски стройным...
* * *
На Руси XII—XIII веков усиливается власть феодалов над крестьянами, а вместе с тем и феодальная раздробленность. Проклятие русской земли — княжеские усобицы. На юго-западе Руси вся первая треть XIII века прошла в ожесточённых междукняжеских войнах. Предметами спора служили киевский престол, галицкое княжение, а то и просто какая-нибудь небольшая пограничная область. Даже монголо-татарское нашествие не охладило пыл боровшихся сторон.
На северо-востоке Руси после смерти Всеволода Большое Гнездо в 1212 году началась усобица между его сыновьями, завершившаяся кровопролитной битвой на реке Липице, близ Юрьева-Польского, в апреле 1216 года.
«О страшное чудо и дивное, братья! — восклицает летописец, рассказывая об этой битве. — Пошли сыновья на отцов, а отцы на детей, брат на брата, рабы на господ, а господа на рабой».
Феодальные усобицы принимали подчас необычайно жестокие, уродливые формы. Вскоре после Липицкой битвы страшные, небывалые доселе события произошли в Рязанском княжестве. Вот что рассказывает об этом летопись.
РАССКАЗ О ПРЕСТУПЛЕНИИ РЯЗАНСКИХ КНЯЗЕЙ[81]
В тот же 1218 год Глеб Владимирович, князь рязанский, подученный сатаной на убийство, задумал дело окаянное, имея помощником брата своего Константина и с ним дьявола, который их и соблазнил, вложив в них это намерение. И сказали они: «Если перебьём их, то захватим всю власть». И не знали окаянные божьего промысла: даёт он власть кому хочет, поставляет всевышний царя и князя. Какую кару принял Каин от бога, убив Авеля, брата своего: не проклятие ли и ужас? или ваш сродник окаянный Святополк[82], убив братьев своих, тем князьям не принёс ли венец царствия небесного, а себе — вечную муку? Этот же окаянный Глеб ту же воспринял мысль Святополчью и скрыл её в сердце своём вместе с братом. Собрались все в прибрежном селе на совет: Изяслав, кир[83] Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб, Роман; Ингварь же не смог приехать к ним: не пришёл ещё час его. Глеб же Владимирович с братом позвали их к себе в свой шатёр как бы на честный пир. Они же, не зная его злодейского замысла и обмана, пришли в шатёр его — все шестеро князей, каждый со своими боярами и дворянами. Глеб же тот ещё до их прихода вооружил своих и братних дворян и множество поганых половцев и спрятал их под пологом около шатра, в котором должен был быть пир, о чём никто не знал, кроме замысливших злодейство князей и их проклятых советников. И когда начали пить и веселиться, то внезапно Глеб с братом и эти проклятые извлекли мечи свои и стали сечь сперва князей, а затем бояр и дворян множество: одних только князей было шестеро, а бояр и дворян множество, со своими дворянами и половцами.
Так скончались благочестивые рязанские князья месяца июля, в двадцатый день на святого пророка Илью, и восприняли со своею дружиною венцы царствия небесного от господа бога, предав души свои богу как агнцы непорочные. Так окаянный Глеб и брат его Константин приготовили им царство небесное, а себе со своими советниками — муку вечную.
* * *
Княжеские усобицы разрушали веками складывавшуюся и достигшую большого совершенства систему обороны границ Руси от набегов кочевников. В условиях постоянной тяжёлой борьбы русских земель со Степью каждое княжество, каждая дружина были звеньями единой цепи. Любая усобица, по выражению автора «Слова о полку Игореве», «отворяла ворота Полю».
Каждый прорыв степняков был несчастьем для русских земель. Несчастье переросло в катастрофу, когда вместо половцев в неплотно прикрытые ворота Руси ворвался куда более сильный и жестокий враг — монголо-татары...
2
Во второй половине XII века многочисленные кочевые племена Центральной Азии вступали в новый период своего развития. Быстро росло имущественное неравенство. На смену родовому строю шёл «кочевой феодализм».
Переход к классовому обществу у кочевников Центральной Монголии, как и у других народов, отмечен далёкими завоевательными походами. Нарождавшаяся феодальная знать стремилась укрепить своё положение, увеличить власть и богатство постоянными войнами, ограблением соседних племён и народов.
До наших дней сохранился интересный памятник древней монгольской литературы — «Сокровенное сказание». Некоторые историки переводят его название иначе — «Тайная история монголов». Действительно, автор «Сказания» рассказывает о тайных, скрытых от постороннего взгляда подробностях истории монгольского государства. Перед читателем проходит кровавая история возвышения Чингисхана, долгий путь предательств, ненависти и вражды. Образ «покорителя мира» написан без всякой идеализации. Ярко показаны трусость, жестокость, коварство Тэмуджина — так звали Чингисхана в юности.
Одновременно «Сказание» рисует картины степной жизни, быта простых кочевников. Оно свидетельствует о своеобразной культуре монгольских племён, превращённых злой волей Чингисхана и его подручных в слепое орудие грабежа и уничтожения соседних народов. «Сказание» напоминает нам о том, что завоевательные войны Чингисхана были трагедией не только для завоёванных народив, но и для самих монголов, схваченных железным обручем хищного, деспотического государства.
«Сокровенное сказание» было создано неизвестным автором около 1240 года. В нём рассказывается, что рождение Чингиса — по мнению историков, это произошло в 1155 году — сопровождалось зловещим предзнаменованием: «Родился он, сжимая в правой руке своей запёкшийся сгусток крови». Так как незадолго до его рождения отец взял в плен знатного татарина по имени Тэмуджин-Уге, то мальчика нарекли Тэмуджином.
В юности в порыве злобы он убил своего брата Бектера. «Голодным волком», «диким псом» назвала тогда Тэмуджина его мать Озлуи-учжин. Темуджин рос... Когда ему было 9 лет, умер отец, отравленный на пиру вождями племени татар.
Враги отца преследовали и Тэмуджина. Воины соседнего племени меркитов похитили жену Тэмуджина Бортэ. Лишь с помощью побратима отца кэрэктского Ван-хана и друга детства Джамухи Тэмуджин разгромил меркитов и возвратил жену.
Незначительными и совсем не «историческими» кажутся действующие лица. Герои «Сказания» разъезжают по монгольским пеням в своих скрипучих кибитках, враждуют и клянутся в вечной дружбе, охотятся с соколом и похищают невест — словом, совершают извечный круг жизни кочевника. Кажется, они вовсе не собираются вмешиваться в ход всемирной истории, гнать своих косматых лошадок к воротам Багдада и Вены.
Но постепенно в историю жизни Тэмуджина вплетаются всё новые и новые люди, ускоряется ход событий, всё быстрее вращаются жернова неумолимой «мельницы войны».
Одержав победу над меркитами, Тэмуджин вскоре добился того, что многие монгольские правители признали его своим повелителем. С этого времени он принял новое имя — Чингисхан, то есть Великий хан.
Первой заботой нового владыки стало укрепление армии. Он разделил всех воинов на десятки, сотни, тысячи. Самым крупным соединением был «тумен» — десять тысяч воинов.
Одновременно он создаёт 10-тысячный корпус для личной охраны и выполнения наиболее ответственных поручений.
Каждый из «темников» — предводителей крупных войсковых соединений — получает во владение определённый район, население которого достаточно многочисленно, чтобы выставлять 10 тысяч воинов. Постепенно полководцы, родовые вожди превращаются в крупных феодалов.
В 1206 году в распоряжении Чингисхана было уже около 100 тысяч воинов. С такой армией он мог решать большие военные задачи. Чингисхан покоряет уйгуров и «лесные народы» Южной Сибири и Алтая, начинает готовиться к завоеванию Китая и государства тангутов.
Удача неизменно сопутствовала Чингисхану и его полководцам. Успехи монголов порой кажутся просто фантастическими. Этот народ общей численностью не более двух миллионов человек к середине XIII столетия сумел завоевать Китай с его 50-миллионным населением, создать крупнейшее в мировой истории государство, простиравшееся от Чёрного моря до Тихого океана.
Историки давно пытались найти ответ на «загадку Чингисхана».
Г. Е. Грумм-Гржимайло ИЗ КНИГИ «ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ И УРЯНХАЙСКИЙ КРАЙ»[84]
Чингисхан рано понял, что небольшая, но дисциплинированная и обильно всем снабжённая армия представляет существеннейший залог военного успеха, и первые его действия были направлены к тому, чтобы из вооружённой толпы, какую до него обычно представляли армии кочевников, создать дисциплинированное и хорошо обученное войско, и, по отзывам современников, он достиг в этом отношении поразительных результатов, сумев внушить своим воинам от темника до рядового, что неповиновение высшему командованию является тягчайшим из преступлений. Этой железной дисциплине, заставлявшей людей отстаивать вверенное им дело, иногда до последнего человека, Чингисхан обязан был многими своими победами...
Требуя от своих войск беспрекословного повиновения, самоотверженной и огромной работы, Чингис не переступал, однако, в этом отношении пределов возможного для человека и заботливо относился к сохранению армией сил и боеспособности...
Начиная с 1206 года Чингисхан вёл только наступательные войны. Вторжению предшествовала разведка и ознакомление с внутренним положением государства и состоянием его вооружённых сил, для чего все средства признавались пригодными. Если представлялось возможным, его эмиссары объединяли недовольных, склоняли их к измене подкупом, поселяли взаимное недоверие среди союзников, создавали внутренние осложнения в государстве. Вступая в его пределы, Чингисхан вносил в него террор. Полное пренебрежение к человеческим чувствам позволяло ему противопоставлять народные массы враждебного государства вооружённым силам последнего и ценой бессчётного количества жизней некомбатантов[85] добиваться падения укреплённых городов и крепостей...
...Для взятия городов монголы сгоняли население окрестных посёлков. Во время штурма отцы узнавали сыновей, старшие братья — младших, и это обыкновенно настолько парализовывало их силы, что города сдавались монголам один за другим...
...Он [Чингисхан] всегда держался принципа, рекомендуемого современной стратегией, и с удивительной настойчивостью развивал одержанный успех до полного истощения нравственных и моральных сил противника. Его упорство в достижении намеченной цели как нельзя лучше характеризуется его приказом напоминать ему перед каждой едой, что тангутское царство ещё не перестало существовать.
Благодаря обширной практике искусство брать крепости достигло у монголов большого совершенства, и вскоре в этом отношении они даже превзошли своих учителей, китайских и персидских инженеров, найдя возможным применять метательные орудия в открытом бою и вводя в действие против крепостей неслыханное до того времени число этих последних...
...Наступление Чингисхан вёл всегда широким фронтом, преследуя при этом три цели: облегчить продовольствие войск, уничтожить путём разорения страны материальные ресурсы противника и разъединить его силы, так как благодаря организации своей конницы, выступавшей обыкновенно в поход с заводными [86] лошадьми, он имел большую возможность, чем неприятель, сосредоточить к полю сражения возможно большее количество войск и таким образом в нужном пункте оказаться сильнее последнего.
...По мере вторжения вглубь страны неприятеля для обеспечения и устройства сообщений в тылу армий приходится занимать важнейшие пункты гарнизонами, устраивать этапы и т. п., что требует большого расхода войсковых частей; ввиду малочисленности монгольских войск Чингисхан лишён был этой возможности, почему, как указывалось уже выше, и обеспечивал свой тыл уничтожением крупнейших центров оседлости. Для него это было необходимостью, от которой он отступал только в исключительных случаях...
Первым крупным государством, на которое напал Чингисхан, была северокитайская Золотая империя. Это государство было основано племенами чжурчженей, завоевавших в начале XII века Северный Китай и покоривших его коренных обитателей — китайцев.
И хотя Золотая империя вела постоянные войны с южнокитайским государством Сун и расположенной к западу от Китая страной тангутов, она была сильным противником. Окончательно разгромить её монголы смогли только в 1234 году.
В борьбе против чжурчженей монголам активно помогали тангуты и Южный Китай. В 1221 году посол сунского государства Чжао Хун посетил ставку командующего монгольскими войсками в Китае, любимца Чингисхана Мухали. О своём путешествии к монголам Чжао Хун рассказал в сочинении под названием «Полное описание монголо-татар». Это первое в истории описание путешествия к монголам содержит ценные сведения об их военном искусстве.
Чжао Хун ИЗ КНИГИ «ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ МОНГОЛО-ТАТАР»[87]
Татары рождаются и вырастают в седле. Сами собой они выучиваются сражаться. С весны до зимы они каждый день гонятся и охотятся. Это и есть их средство к существованию. Поэтому у них нет пеших солдат, а все конные воины. Когда они поднимают сразу даже несколько сот тысяч войск, у них почти не бывает никаких документов. От командующего до тысячника, сотника и десятника все осуществляют командование путём передачи устных приказов.
Всякий раз при наступлении на большие города они сперва нападают на маленькие города, захватывают в плен население, угоняют его и используют на осадных работах. Тогда они отдают приказ о том, чтобы каждый конный воин непременно захватил десять человек. Когда людей захвачено достаточно, то каждый человек обязан набрать сколько-то травы или дров, земли или камней. Татары гонят их день и ночь; если люди отстают, то их убивают. Когда люди пригнаны, они заваливают крепостные рвы вокруг городских степ тем, что они принесли, и немедленно заравнивают рвы; некоторых используют для обслуживания колесниц, напоминающих гусей[88], куполов для штурма, катапультных установок и других работ. При этом татары не щадят даже десятки тысяч человек. Поэтому при штурме городов и крепостей они все без исключения бывают взяты. Когда городские стены проломлены, татары убивают всех, не разбирая старых и малых, красивых и безобразных, бедных и богатых, сопротивляющихся и покорных, как правило, без всякой пощады...
* * *
Проникая всё глубже в Китай, монголы переняли у китайцев не только придворный церемониал, предметы быта, но и бюрократическую систему правления. Китаец Елюй Чу-цай[89], главный советник Чингисхана, внушал своему господину, что, «сидя на коне, можно создать империю, но управлять ею, сидя на коне, — нельзя».
Используя китайскую административную систему, хрупкое объединение кочевых племён постепенно превращалось в политически устойчивую обширную империю. Процесс «окитаивания» монгольского государства отмечает в своём сочинении и Чжао Хун:
«Татары, унаследовав систему цзиньских разбойников[90], также учредили должность управляющего протоколами президента департамента государственных дел, левого и правого министров, левого и правого пинчжанов и другие. Они ещё учредили титулы и должности тайши, командующего и другие... Если подождать ещё несколько лет, то чиновники цзиньских разбойников, изменившие своей династии и бежавшие к татарам, непременно научат их выбирать день рождения императора и превращать его в праздник...»
Постоянное военное положение стальным обручем стягивало разноплеменную массу подданных Чингисхана. Изведав сладость богатой добычи, монгольская кочевая знать не хотела прекращать завоевательные походы. Даже сам Чингис, если бы и захотел, не смог бы остановить спущенных им «цепных псов» — Джэбэ, Хубилая, Джэлмэ и Субэдэя и десятки им подобных.
Ведя одновременно войны — с северокитайской империей Цзинь и тангутами, Чингисхан осенью 1219 года начинает третью: с хорезмшахом Мухаммедом, владения которого простирались от северных берегов Каспийского моря до Персидского залива и от Кавказа до Гиндукуша.
Через два-три года от могущественной державы хорезмшахов не осталось и следа. То, что произошло, казалось современникам каким-то наваждением. «...Я не сомневаюсь, что кто уцелеет после нас, по прошествии этой эпохи, и увидит описание этого события, тот станет отрицать его и сочтёт его за небылицу», — писал арабский историк Ибн ал-Асир. Уже глубоким стариком он стал свидетелем событий, потрясших весь мусульманский мир. Его сочинение хорошо передаёт настроения и чувства людей той эпохи.
Сочинение Ибн ал-Асира — «Полная история» — один из самых ярких рассказов современников о монголо-татарском нашествии на Среднюю Азию. В первом отрывке говорится о вторжении войск Чингисхана, о событиях в Отраре, а затем о том, как войска хорезмшаха двинулись навстречу Чингисхану. Другой отрывок повествует о завоевании и разорении Хорезма, о штурме его столицы — Гурганджа (Ургенча).
Ибн ал-Асир ИЗ «ПОЛНОЙ ИСТОРИИ»[91]
О вторжении татар в Туркестан и Мавераннахр[92] и о том, что они там сделали
В этом году в страны ислама явились татары, большое тюркское племя, места обитания которого горы Тамгаджские около Китая; между ними и странами мусульманскими более 6 месяцев пути. Причина их появления была такая: царь их, по прозванию Чингисхан, известный под именем Тэмучина, покинув свои земли, двинулся в страны Туркестана и отправил партию купцов и тюрков с большим запасом серебра, бобров и других вещей в города Мавераннахра: Самарканд и Бухару, поручив им купить для него материи на одежду. Пришли они в один из тюркских городов, прозываемый Отраром и составлявший крайнее владение Хорезмшаха, у которого там был наместник. Когда к нему прибыл этот татарский отряд, то он (наместник) послал к Хорезмшаху уведомить его об их прибытии и сообщить ему об имуществе, которое было при них. Хорезмшах прислал ему приказание убить их, отобрать имущество, находящееся при них, и прислать его к нему.
Он [наместник] убил их и отослал что при них было, а вещей было много. Когда посланное прибыло к Хорезмшаху, то он разделил его между купцами Бухары и Самарканда и взял с них стоимость его [розданного товара]...
...Выстроились они к битве и совершили бой, какому подобного не было слышно. Длилась битва 3 дня да столько же ночей, и убито с обеих сторон столько, что и не сочтёшь, но не обратился в бегство ни один из них. ...Кровь текла по земле до такой степени, что лошади стали скользить по ней от множества её... Когда настала четвёртая ночь, то они разошлись и расположились одни насупротив других, когда же совершенно стемнела ночь, то неверные развели свои огни и, оставив их в таком виде, ушли. Так поступили и мусульмане, и каждый из них покинул сражение.
...Мусульмане возвратились в Бухару. И стал он [Хорезмшах] готовиться к осаде, сознавая при своей слабости, что если он не был в состоянии одолеть даже часть войск его [Чингисхана], то что же будет, когда они придут все со своим царём. Он приказал жителям Бухары и Самарканда приготовиться к осаде, собрав припасы для сопротивления, поставил войска в Бухаре 20 000 всадников для охраны её, а в Самарканде 50 000, и сказал им: «Стерегите город, пока я вернусь в Хорезм и Хорасан[93], наберу войска, обращусь за помощью к мусульманам и возвращусь к вам.
...Неверные же... прибыли к Бухаре через 5 месяцев после прихода туда Хорезмшаха, осадили её и три дня пели против неё жестокий и непрерывный бой. Не стало силы у войска хорезмийского против них, и оно оставило город, уйдя обратно в Хорасан. Утром жители города, у которых не осталось никакого войска, упали духом; они отправили кадия[94] своего... просить пощады для жителей, и те [татары] даровали им прощение.
Осталась, однако же, часть войска, которой нельзя было уйти с товарищами; она укрепилась в цитадели.
Когда Чингисхан согласился помиловать их, то открылись ворота городские 10 февраля 1220 года. Неверные вошли в Бухару и никому не причинили зла, но сказали им (жителям): «Всё, что у вас заготовлено для султана по части припасов и прочего, выдайте нам и помогите нам побороть тех, кто в крепости». И выказали в отношении к ним правосудие и хорошее обращение.
Вошёл наконец сам Чингисхан, окружил цитадель и сделал в городе воззвание, чтобы никто не оставался в нём, а кто останется, тот будет убит. Явились все они к нему, и он приказал им завалить крепостной ров. Они завалили его деревом, землёй и другим; неверные стали брать даже амвоны, части корана и бросать их в ров... Потом они повели приступ на цитадель, а в ней было около 400 всадников мусульманских, которые употребляли все свои усилия и защищали крепость 12 дней, избив множество неверных и городских жителей...
...Управившись с крепостью, он [Чингисхан] приказал составить себе список главных лиц города и их старшин. Сделали это, и когда ему представили список, то он приказал привести их к себе. Явились они, и он сказал: «Требую от вас серебро, которое вам продал Хорезмшах; ведь оно принадлежит мне, отобрано у моих сторонников и находится у вас». Представили ему всякий сколько у кого было этого серебра. Затем он велел им выйти из города, и они вышли из города, лишившись своего имущества: ни у одного из них не осталось ничего, кроме платья, которое было на нём. Вошли неверные в город, ограбили его и убили, кого нашли в нём. Он [Чингисхан] окружил мусульман и приказал своим сторонникам разделить их между собою. Они [татары] поделили их, и был это день ужасный вследствие обилия плача мужчин, и женщин и детей. Разбрелись они [жители] во все стороны и были растерзаны, как лохмотья; даже женщин они [татары] поделили между собою; наутро Бухара оказалась разрушенною до оснований своих, как будто её вчера и не было... Бросили огонь в город, училища и мечети и мучили народ разными истязаниями для вымогания денег. Потом они отправились к Самарканду...
...Они вели с собою пленными уцелевших жителей Бухары, которые шли за ними пешком, в самом гнусном виде; всякий, кто уставал или изнемогал от ходьбы, был убиваем.
Подойдя к Самарканду, они выслали вперёд конницу, а пеших, пленных и обозы оставили позади себя, поручив им подвигаться мало-помалу, дабы стало страшнее сердцам мусульман. Когда жители города увидели сонмище их, они сочли его чрезвычайно великим. На второй день прибыли пленные, пешие и обозы, и при каждом десятке пленных было знамя. Жители города подумали, что всё это рати боевые.
Они [неприятели] окружили город, в котором было 50 000 хорезмийских ратников, жителей же городских столько, что и не сочтёшь. Выступили против них [татар] смельчаки из жителей его [города], да люди крепкие и сильные, но не вышел с ними ни один из войска хорезмийского вследствие того, что в сердцах их поселился страх перед этими проклятыми. Сразились с ними эти пешие вне города. Татары не переставали отступать, а жители городские преследовали их, надеясь одолеть их. Но неверные успели устроить им засаду, и когда те зашли в засаду, выступили против них и стали между ними и между городом, а остальные татары, которые первые завязали бой, вернулись, так что те очутились в средине между ними. Поял их меч со всех сторон, и не уцелел ни один из них, а погибли все до последнего мучениками...
Увидев это, оставшееся войско и народ пали духом и убедились в неизбежности гибели. Тогда войско, состоявшее из тюрков, сказало: «Мы из рода их, они не убьют нас», и попросило помилования. Они сошлись с ними на том и открыли городские ворота. Простолюдины не могли сопротивляться им и вышли к неверным со своими семействами и со своим имуществом. Сказали им неверные: «Выдайте нам ваше оружие, ваше имущество и ваш скот, и мы отошлём вас к вашим родичам». Так они [жители] и сделали. Но, отобрав у них оружие и скот, татары наложили на них меч, избили их всех до последнего и забрали их имущество, скот и женщин.
Когда настал четвёртый день, то они объявили в городе, чтобы жители его все вышли и что кто останется, его убьют. Вышли все мужчины, и женщины, и дети, а они [татары] поступили с жителями Самарканда наподобие того, как поступили с жителями Бухары, по части грабежа, убийства, пленения и бесчинства: вошли в город, разграбили всё, что в нём было, сожгли соборную мечеть, оставив остальную часть города в покое, изнасиловали девушек, истязали людей разными мучениями, вымогая деньги, и убили тех, которые не годились для плена[95]. Произошло это в марте — апреле 1220 года...
Хорезмшах же, оставаясь на месте, всякий раз, как наберутся к нему войска, отсылал их в Самарканд, но они возвращались, не решаясь доходить до него...
О завоевании ими и разорении Хорезма
Что касается того отдела войск, который Чингисхан отправил в Хорезм, то в нём было больше всего конных отрядов вследствие обширности этих земель. Подвигались они, пока прибыли в Хорезм. В нём находилось большое войско, и жители города славятся своим мужеством и многочисленностью; произошёл самый ожесточённый бой, о каком когда-либо слышали люди. Длилось это бедствие их пять месяцев, и убито с обеих сторон много народу, но всё-таки со стороны Татар было больше убитых, потому что мусульмане защищали стены.
Послали Татары к своему царю Чингисхану просить помощи, и выслал он им на помощь множество народу[96]. Когда они [вспомогательные войска] прибыли к городу, то они [татары] стали делать беспрерывные подступы и овладели одною стороною его.
Тогда собрались жители города и сразились с ними по направлению того места, которым они овладели, но не могли вытеснить их оттуда. Они не переставали, однако же, биться с ними, а Татары отнимали у них одно место за другим; всякий раз, когда последние завладевали новым местом, мусульмане бились с ними в прилегавшем к нему месте. Бились мужчины, женщины, дети и не переставали биться таким образом, пока они [татары] завладели всем городом, перебив всех, находившихся в нём, и ограбив всё, что в нём было.
Потом они открыли плотину, которою удерживалась вода Джейхуна от города; тогда вода хлынула в него и затопила весь город; строения рушились, и место их заняла вода. Из жителей его положительно ни один не уцелел, тогда как в других землях некоторым удалось спастись: из них кто спрятался, кто бежал, кто вышел да потом спасся, кто сам ложился среди убитых и потом уходил; в Хорезме же тех, кто спрятался от Татар, или затопила вода, или убили развалины. И превратилось всё в груды и волны... Ничего подобного этому не было слышно ни в древнее время, ни в новое.
И тем не менее полной покорности завоеватели не добились. После смерти Мухаммеда, слабого и безвольного правителя, хорезмшахом стал его сын Джалал-ад-дин. Он в течение десяти лет, с 1221 по 1231 год, не давал покоя завоевателям своими дерзкими налётами.
Как писал Г. Е. Грумм-Гржимайло, Джалал-ад-дин не имел качеств, необходимых правителю; это был только солдат. Безумно храбрый, предприимчивый, но в то же время крайне легкомысленный, он представлял себе жизнь не иначе как на поле битвы или в кругу приятелей за чаркой вина... Вступая в битву, он не считалки с численностью неприятельской армии, говоря окружающим: лев никогда не считает баранов, на которых бросается. Руководя сражением, он обыкновенно сам принимал в нём деятельное участие, и его всегда видели там, где положение было наиболее опасным. Несмотря на это, благодаря тому мастерству, с каким он владел оружием, его изумительной ловкости и присутствию духа, он ни разу не был серьёзно ранен и если и отступал, то лишь перед подавляющей численностью врага. Так было и на берегу Инда, где Чингисхан, видя изумительные деяния этого смуглого невысокого роста воина, воскликнул: «Вот человек, которого каждый хотел бы иметь своим сыном!»
Уходя от преследовавших его монголов, Джалал-ад-дин скрылся в горах, где и был убит в 1231 году курдами.
Рядом с Джалал-ад-дином с войсками Чингисхана сражался и прославленный полководец, также один из вождей героической борьбы народов Средней Азии с татаро-монгольскими захватчиками, Тимур Мелик.
И. П. Петрушевский ПОХОД МОНГОЛЬСКИХ ВОЙСК В СРЕДНЮЮ АЗИЮ В 1219-1224 гг. И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ[97] (Отрывок)
Отряд монголов, отправленных для покорения областей по верхнему течению Сыр-Дарьи.... подошёл к Ходженту. Здесь город с небольшими силами храбро защищал эмир Тимур Мелик. По словам Джувейни, это был такой герой, что если бы богатырь Рустам (герой «Шахнаме») жил в его время, то мог бы быть только его стремянным. Тимур Мелик, когда защищать город уже не стало сил, с тысячью храбрецов, не желавших склонить голову перед врагом, перенёс оборону в укреплённый замок, стоявший на островке между двумя рукавами Сыр-Дарьи. Стрелы и камни баллист не долетали до замка. Чтобы взять замок, было послано 20 тысяч монголов и Г?0 тысяч «толпы» из юношей, согнанных издалека (из Отрара, Бухары, Самарканда); этой молодёжи было приказано таскать камни с горы, лежавшей в 3 фарсангах (около 20 км) от реки, дабы построить дамбу. Но Тимур Мелик приготовил 12 барж, обтянутых сырым войлоком, с верхом, обмазанным глиной, пропитанной уксусом; благодаря этому баржи были неуязвимы для стрел и зажигательных снарядов из нефти. Ночью люди Тимур Мелика на этих баржах разрушили ту часть плотины, какую монголам удавалось возвести за день. Вскоре оборона острова стала невозможной. Тогда Тимур Мелик, приготовив 70 судов, погрузив на них людей, оружие и провиант, ночью при свете факелов поплыл вниз по реке. Г1о обоим берегам двигались конные монголы и метали в храбрецов стрелы и сосуды с горящей нефтью. Отстреливаясь, воины Тимур Мелика доплыли до Дженда. Там монголы по приказу Джучи навели понтонный мост, оснащённый баллистами. Тимур Мелик с горстью соратников вышел на берег и, преследуемый по пятам монголами, уходил от них через пустыню Кызылкум.
Когда последние из его воинов были убиты, он остался один, имея всего три стрелы. Три монгола настигали его. Пустив стрелу, он ослепил одного монгола, а двум другим сказал: «У меня есть ещё две стрелы, как раз хватит для вас. Лучше уходите и спасайтесь!» Напуганные монголы повернули вспять, и Тимур Мелик добрался до Хорезма.
* * *
Завоевательные планы Чингисхана не ограничивались Средней Азией. Уже летом 1220 года он отправил на юго-запад 30-тысячный корпус под командованием Джэбэ и Субэдэя. Разорив обширные области Северного Ирана и Кавказа, этот отряд прошёл через Дербентское ущелье на Северный Кавказ и далее — в Половецкие степи.
3
31 мая 1223 года на реке Калке произошло первое сражение русских войск с монголо-татарами. Русские воины сражались мужественно и самоотверженно, но потерпели жестокое поражение — домой вернулась только десятая часть воинов, погибло девять русских князей. Поражение русских сил было обусловлено феодальными распрями князей. Даже во время боя они не смогли во имя общего дела забыть личные распри.
БИТВА НА КАЛКЕ (По Галицко-Волынской летописи)[98]
В год 6732 (1224). Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне[99], называемые татарами; пришли они на землю Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый сильный из них Юрий Кончакович[100] не мог им противостоять и бежал, и многие были перебиты — до реки Днепра. Татары же повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям: «Если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете».
Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. Тогда же крестился великий князь половецкий Басты. Василька там не было, он по молодости остался во Владимире. Оттуда пришли они в апреле месяце и подошли к реке Днепру, к острову Варяжскому. И съехалось тут с ними всё кочевье половецкое, и черниговцы приехали, киевляне и смоляне и иных земель жители. И когда переходили Днепр вброд, то от множества людей не видно было воды. Галичане и волынцы пришли каждый со своим князем. А куряне, трубчане и путивльцы, каждый со своим князем, пришли на конях. Изгнанники галицкие прошли по Днестру и вышли в море — у них была тысяча лодок, — вошли в Днепр, поднялись до порогов и стали у реки Хортицы на броде у быстрины. С ними был Юрий Домамирич и Держикрай Владиславич[101].
Дошла до стана весть, что пришли татары посмотреть на русские ладьи; услышав об этом, Даниил Романович погнался, вскочив на коня, посмотреть на невиданную рать; и бывшие с ним конники и многие другие князья поскакали смотреть на неё. Татары ушли. Юрий сказал: «Это стрелки». А другие говорили: «Это простые люди, хуже половцев». Юрий Домамирич сказал: «Это ратники и хорошие воины».
Вернувшись же, Юрий всё рассказал Мстиславу. Молодые князья сказали: «Мстислав и другой Мстислав, не стойте! Пойдём против них!» Все князья, Мстислав и другой Мстислав, Черниговский, перешли через реку Днепр, к ним перешли и другие князья, и все они пошли в половецкую степь. Они перешли Днепр во вторник, и встретили татары русские полки. Русские стрелки победили их, и гнали далеко в степь, избивая, и захватили их скот, и со стадами ушли, так что все воины обогатились скотом.
Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые отряды, был убит Иван Дмитриевич и ещё двое с ним.
Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: «Вооружайтесь!» Мстислав Романович и другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда.
Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперёд, и Семён Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своём. Ему было восемнадцать лет, и он был силён.
Даниил крепко боролся, избивая татар. Увидел это Мстислав Немой и, подумав, что Даниил ранен, сам бросился на них, ибо был он муж сильный; он был родственником Роману от рода Владимира Мономаха. Он очень любил отца Даниила, а тот поручил ему свою волость после своей смерти, чтобы отдать её князю Даниилу.
Когда татары обратились в бегство, Даниил избивал их со своим полком, и Олег Курский крепко бился с ними, но новые полки сразились с нами. За грехи наши побеждены были русские полки.
Даниил, увидев, что разгорается сражение и татарские лучники усиленно стреляют, повернул своего коня под напором противника. Пока бежал он, сильно захотел пить, а напившись, почувствовал рану на теле своём, которую не заметил во время боя из-за мужества и силы возраста своего. Ибо был он отважен и храбр, от головы до ног не было у него изъянов.
Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не бывало. Татары, победив русских людей из-за прегрешений христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова[102]. Русские же, не ведая об их лживости, вышли навстречу им с крестами и были все перебиты.
Ожидая покаяния христиан, бог повернул татар назад на восточную землю, и они завоевали землю Тангутскую и иные страны. Тогда же их Чингисхан был убит тангутами[103]. Татары же обманули тангутов и впоследствии погубили обманом. И другие страны они погубили — ратью, а больше всего обманом.
* * *
После битвы на Калке Чингисхан передал «страну кыпчаков» — Половецкие степи — своему сыну Джучи. Одному из нойонов он передал в управление Русь и Северный Кавказ. Однако лишь двадцать лет спустя монголы сумели подчинить эти земли.
В 1223 году тангуты заключили мирный договор с Северным Китаем и попытались поднять на борьбу против монголов соседние кочевые племена. Обеспокоенный этим, Чингисхан в 1224 году вынужден был вернуться из района современного Афганистана обратно в Монголию. В 1225—1227 годах он вёл тяжёлые войны с тангутами. Разъярённый стойкостью тангутов, Чингисхан приказал своим слугам каждый день за обедом напоминать ему о том, что тангутское царство должно быть уничтожено «до последнего раба».
Падение столицы тангутов совпало с кончиной самого «потрясателя вселенной». Страшной тризной почтили монгольские полководцы своего вождя: согласно его завещанию были истреблены все тангуты. Целый народ с его своеобразной культурой, древней письменностью был сметён с лица земли.
Во главе империи встал сын «небесного воителя» Угэдэй. В 1230—1234 годах монголы были заняты войнами в Корее и Северном Китае. В 1234 году пала северокитайская Золотая империя. Последний цзиньскнй император повесился, приказав сжечь своё тело, чтобы оно не досталось на поругание монголам.
На курилтае 1235 года были разработаны планы новых походов и завоеваний. Продвижение на запад решено было начать из степей за рекой Урал — на Нижнее Поволжье, Половецкие степи, Волжскую Болгарию и Русь. В отдалённом будущем предполагалось покорение «земли франков» — Западной Европы.
Новому походу на Запад монголы придавали особое значение. В ставке главнокомандующего собрались семь внуков Чингисхана, готовые двинуть свои тумены на покорение западных народов. В 1236—1237 годах объединённые силы «царевичей» завоевали всю Волжскую Болгарию, большую часть Половецкой степи, земли аланов и народов Среднего Поволжья. К осени 1237 года 140-тысячная монгольская армия вышла на рубежи Руси...
Небольшой, но яркий рассказ о событиях 30-х годов XIII века, о жизни Руси и образе действий монголов оставил венгерский монах — миссионер Юлиан. Он был одним из тех, кто, подобно Карпини и Рубруку, пытался проникнуть вглубь заволжских степей.
Официальной целью путешествий, предпринятых Юлианом в 1235—1237 и 1237—1238 годах, было миссионерство, проповедь христианства среди «венгров-язычников» Южного Приуралья. Неофициальная, но гораздо более важная задача сводилась к сбору интересующих папский престол сведений, к выяснению обстановки, а также планов и замыслов всех участников борьбы.
Юлиан рассказывает о событиях как человек, внезапно оказавшийся на самом краю громадного водоворота, в глубине которого мгновенно и навеки исчезают войска и полководцы, города и замки, народы и государства. Во внешне сдержанном рассказе Юлиана чувствуется ужас человека, заглянувшего в бездну, напряжённый ритм событий. Толпы людей стремились на запад, спасаясь от степного чудовища. День и ночь стучали молоты кузнецов. Звеня доспехами, шли полки.
ПИСЬМО ВЕНГЕРСКОГО МОНАХА ЮЛИАНА[104] (Отрывок)
Считая себя сильнее всех на земле, он [Чингисхан] стал выступать против царств, намереваясь подчинить себе весь мир. Поэтому, подступив к стране куманов[105], он одолел самих куманов и подчинил себе их страну. Оттуда они воротились в Великую Венгрию, из которой происходят наши венгры, и нападали на них четырнадцать лет, а на пятнадцатый год завладели ими, как нам сообщали словесно сами язычники-венгры...
...Ныне же, находясь на границах Руси, мы близко узнали действительную правду о том, что всё войско, идущее в страны запада, разделено на четыре части. Одна часть у реки Этиль на границах Руси с восточного края подступила к Суздалю. Другая же часть в южном направлении уже нападала на границы Рязани, другого русского княжества. Третья часть остановилась против реки Дона, близ замка Воронеж, также княжества русских. Они, как передавали нам словесно сами русские, венгры и булгары, бежавшие перед ними, ждут того, чтобы земля, реки и болота с наступлением ближайшей зимы замёрзли, после чего всему множеству татар легко будет разграбить всю Русь, всю страну русских...
...Сообщу вам о войне по правде следующее. Говорят, что стреляют они [татары] дальше, чем умеют другие народы. При первом столкновении на войне стрелы у них, как говорят, не летят, а как бы ливнем льются. Мечами и копьями они, по слухам, бьются менее искусно. Строй свой они строят таким образом, что во главе десяти человек стоит один татарин, а над сотней человек один сотник. Это сделано с таким хитрым расчётом, чтобы приходящие разведчики никак не могли укрыться среди них, а если на войне случится как-либо выбыть кому-нибудь из них, чтобы можно было заменить его без промедления, и люди, собранные из разных языков и народов, не могли совершить никакой измены. Во всех завоёванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут окапать какое-либо сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против воли и бой впереди себя. Других же поселян, менее способных к бою, оставляют для обработки земли, а жён, дочерей и родственниц тех людей, кого погнали в бой и кого убили, делят между оставленными для обработки земли, назначая каждому по двенадцати или более, и обязывают тех людей впредь именоваться татарами. Воинам же, которых гонят в бой, если даже они хорошо сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет никакой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умертвляются татарами. Поэтому, сражаясь, они предпочитают умереть в бою, чем под мечами татар, и сражаются храбрее, чтобы дольше не жить и умереть скорее.
На укреплённые замки они не нападают, а сначала опустошают страну и грабят народ, и, собрав народ той страны, гонят на битву осаждать его же замок.
О численности всего их войска не пишу вам ничего, кроме того, что изо всех завоёванных ими царств они гонят в бой перед собой воинов, годных к битве.
Многие передают за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю венгерскому, что татары днём и ночью совещаются, как бы прийти и захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего. Поэтому он [хан] отправил послов к королю венгерскому. Проезжая через землю суздальскую, они были захвачены князем суздальским, а письмо, посланное королю венгерскому, он у них взял; самих послов даже я видел со спутниками, мне данными.
Вышесказанное письмо, данное мне князем суздальским, я привёз королю венгерскому. Письмо же писано языческими буквами на татарском языке. Поэтому король нашёл многих, кто мог прочесть его, но понимающих не нашёл никого. Мы же, проезжая через Куманию, нашли некоего язычника, который нам его перевёл. Этот перевод таков: «Я Хан, посол царя небесного, которому он дал власть над землёй возвышать покоряющихся мне и подавлять противящихся, дивлюсь тебе, король венгерский: хотя я в тридцатый раз отправил к тебе послов, почему ты ни одного из них не отсылаешь ко мне обратно, да и своих ни послов, ни писем мне не шлёшь. Знаю, что ты король богатый и могущественный, и много под тобою воинов, и один ты правишь великим королевством. Оттого-то тебе трудно по доброй воле мне покориться. А это было бы лучше и полезнее для тебя, если бы ты мне покорился добровольно. Узнал я сверх того, что рабов моих куманов ты держишь под своим покровительством[106]; почему приказываю тебе впредь не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Куманам ведь легче бежать, чем тебе, так как они, кочуя без домов в шатрах, может быть, и в состоянии убежать; ты же, живя в домах, имеешь замки и города: как же тебе избежать руки моей[107]?»
Не умолчу и о следующем. Пока я вновь находился при римском дворе, [на пути] в Великую Венгрию меня опередили четверо братьев моих[108]. Когда они проходили через землю суздальскую, им на границах этого царства встретились некие бежавшие перед лицом татар венгры-язычники, которые охотно приняли бы веру католическую, лишь бы добраться до христианской Венгрии. Услышав об этом, вышесказанный князь суздальский вознегодовал и, отозвав вышеуказанных братьев, запретил им проповедовать римский закон помянутым венграм, а вследствие того изгнал вышесказанных братьев из своей земли, однако без неприятностей[109]. Те, не желая воротиться обратно и с лёгкостью отказаться от сделанного уже пути, повернули к городу Рецессуэ (?), ища пути, чтобы пройти в Великую Венгрию, либо к мордуканам[110], либо к самим татарам. Оставив там двоих братьев из своего числа и наняв переводчиков, они в день апостолов Петра и Павла, недавно прошедший (?), пришли ко второму князю мордуканов, который, выступив в тот же день, когда они пришли, со всем своим народом и семьёй, как мы выше говорили, подчинился татарам. В дальнейшем что случилось с этими двумя братьями: умерли ли они или были отведены к татарам сказанным князем, совершенно неизвестно.
Двое остальных братьев, удивляясь промедлению тех, в день (св.) Михаила... послали некоего переводчика, желая удостовериться об их жизни, но мордуканы, напав, убили его...
Татары утверждают также, будто у них такое множество бойцов, что его можно разделить на 40 частей, причём не найдётся мощи на земле, какая была бы в состоянии противостоять одной их части. Далее говорят, что в войске у них с собою 240 тысяч рабов[111] не их закона и 135 тысяч отборнейших [воинов] их закона в строю.
Далее говорят, что женщины их воинственны, как и они сами: пускают стрелы, ездят на конях и верхом, как мужчины; они будто бы даже отважнее мужчин в боевой схватке, так как иной раз, когда мужчины обращаются вспять, женщины ни за что не бегут, а идут на крайнюю опасность. Конец письма о жизни, вере и происхождении татар.
* * *
Разумеется, никакие свидетельства иностранцев не могут даже отчасти передать те чувства, которые вызывало у русских людей нашествие монголов, оборвавшее сотни тысяч жизней, уничтожившее множество сокровищ культуры и искусства. Лишь памятники древнерусской литературы, летописи донесли до нас мысли и чувства русских людей, современников событий.
В конце 1237 года, когда русла замерзших рек превратились в удобные дороги для многотысячной монгольской конницы, армия Батыя двинулась на Северо-Восточную Русь.
ЛЕТОПИСНАЯ ПОВЕСТЬ О БАТЫЕВОМ НАШЕСТВИИ[112] (По Тверской летописи)
В год 6746 (1237). Окаянные татары зимовали около Чёрного леса и отсюда пришли тайком лесами на Рязанскую землю во главе с царём их Батыем. И сначала пришли и остановились у Нузы[113], и взяли её, и стали здесь станом. И оттуда послали своих послов, женщину-чародейку[114] и двух татар с ней, к князьям рязанским в Рязань, требуя у них десятой части: каждого десятого из князей, десятого из людей и из коней: десятого из белых коней, десятого из вороных, десятого из бурых, десятого из пегих и десятой части от всего. Князья же рязанские, Юрий Ингваревич, и братья его Олег и Роман Ингваревичи, и муромские князья, и пронские решили сражаться с ними, не пуская их в свою землю. Вышли они против татар на Воронеж и так ответили послам Батыя: «Когда нас всех не будет в живых, то всё это ваше будет». Потом они послали к великому князю Юрию Всеволодовичу во Владимир, и тогда отпустили татарских послов от Воронежа. А к великому князю Юрию во Владимир послали рязанские князья своих послов, прося помощи, или чтобы сам пришёл вместе постоять за землю Русскую. Но великий князь Юрий не внял мольбе рязанских князей, сам не пошёл и не прислал помощи; хотел он сам по себе биться с татарами. Но гневу божьему уже невозможно было противиться, как в древности сказано было господом Иисусу Навину[115]; когда господь вёл иудеев в землю обетованную, тогда он сказал: «Я пошлю сначала на них недомыслие, и грозу, и страх, и трепет». Так и у нас господь отнял сначала силы, а за наши грехи послал на нас грозу, и страх, и трепет, и недомыслие.
Поганые же татары начали завоёвывать землю Рязанскую, и осадили Рязань, и огородили её острогом месяца декабря в шестнадцатый день, на память святого пророка Аггея. Князь же Юрий Рязанский запёрся в городе с жителями, а князь Роман отступил к Коломне со своими людьми. И взяли татары приступом город двадцать первого декабря, на память святой мученицы Ульяны, убили князя Юрия Ингваревича и его княгиню, а людей умертвили, — одних огнём, а других мечом, мужчин, и женщин, и детей, и монахов, и монахинь, и священников; и было бесчестие монахиням, и попадьям, и добрым жёнам, и девицам перед матерями и сёстрами. Только епископа сохранил бог, он уехал в то время, когда татары окружили город. И, перебив людей, а иных забрав в плен, татары зажгли город. И кто, братья, из оставшихся в живых не оплачет это, — какая горькая и мучительная смерть их постигла! И мы, видя это, должны устрашиться и оплакивать свои грехи с покаянием денно и нощно; а мы поступаем по-другому, заботимся о своём имуществе и ненавидим братьев. Но вернёмся к прежнему рассказу.
Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский послал передовое войско с воеводой Еремеем, и оно соединилось с Романом Ингваревичем. А татары, захватив Рязань, пошли к Коломне, и здесь вышел против них сын великого князя Юрия Всеволодовича Владимирского и Роман Ингваревич со своими людьми. Окружили их татары, и произошло сражение, и бились ожесточённо, и оттеснили русских к городским укреплениям, и убили здесь князя Романа Ингваревича и Еремея Глебовича, воеводу Всеволода, и убито было с князем и с Еремеем много народа; а москвичи обратились в бегство, ничего не видя кругом. А Всеволод Юрьевич с остатками войска убежал во Владимир. А татары пошли и захватили Москву, а князя Владимира, сына великого князя Юрия, взяли в плен. И пошли в несметной силе, проливая кровь христианскую, к Владимиру.
Услышав об этом, великий князь Юрий оставил вместо себя во Владимире сыновей своих Всеволода и Мстислава, а сам пошёл к Ярославлю и оттуда за Волгу, а с ним пошли племянники Василёк, и Всеволод, и Владимир Константинович, и, придя, остановился Юрий на реке Сити, ожидая на помощь братьев Ярослава и Святослава. А во Владимире запёрся его сын Всеволод с матерью, и с епископом, и с братом, и со всеми жителями.
Беззаконные же татары пришли к Владимиру месяца февраля в третий день, на память святого Симеона-богоприимца, во вторник мясопустной недели[116]. Привели они с собой Владимира Юрьевича к Золотым воротам, спрашивая: «Узнаете ли княжича вашего?» Братья его, воевода Ослядюкович и все люди проливали обильные слёзы, видя горькие мучения князя. Татары же отошли от городских ворот, объехали город, а затем разбили лагерь на видимом расстоянии перед Золотыми воротами. Всеволод и Мстислав Юрьевичи хотели выйти из города против татар, но Пётр-воевода запретил им сражаться, сказав: «Нет мужества, и разума, и силы против божьего наказания за наши грехи».
А татары пошли, и взяли Суздаль, и вернулись к Владимиру в пятницу перед мясопустом. Утром же в субботу мясопустную, седьмого февраля, на память святого отца Парфения, начали татары готовить войско и ночью окружили тыном весь город[117]. Утром увидели князья Всеволод и Мстислав и епископ Митрофан, что город будет взят, и, не надеясь ни на чью помощь, вошли они все в церковь святой Богородицы и начали каяться в своих грехах. А тех из них, кто хотел принять схиму, епископ Митрофан постриг всех: князей, и княгиню Юрия, и дочь его, и сноху, и благочестивых мужчин и женщин. А татары начали готовить пороки[118], и подступили к городу, и проломили городскую стену, заполнили ров свежим хворостом, и так по примету вошли в город; так от Лыбеди вошли они в Иринины ворота, а от Клязьмы в Медные и Волжские ворота, и так взяли город и подожгли его. Увидели князья, и епископ, и княгини, что зажжён город и люди умирают в огне, а других рубят мечами, и бежали князья в Средний город. А епископ, и княгиня со снохами, и с дочерью, княжной Феодорой, и с внучатами, другие княгини, и боярыни, и многие люди вбежали в церковь святой Богородицы и запёрлись на хорах. А татары взяли и Средний город, и выбили двери церкви, и собрали много дров, обложили церковь дровами и подожгли. И все бывшие там задохнулись, и так предали души свои в руки господа; а других князей и людей татары зарубили.
И оттуда рассеялись татары по всей земле Владимирской, одни пошли к Ростову, иные погнались за великим князем в Ярославль и к Городцу и пленили все города по Волге до самого Галича Мерьского; а иные пошли к Юрьеву, и к Переяславлю, и к Дмитрову и взяли эти города; а ещё иные пошли, и взяли Тверь, и убили в ней сына Ярослава. И все города захватили в Ростовской и Суздальской земле за один февраль месяц, и нет места вплоть до Торжка, где бы они не были.
На исходе февраля месяца пришла весть к великому князю Юрию, находящемуся на реке Сити: «Владимир взят и всё, что там было, захвачено, перебиты все люди, и епископ, и княгиня твоя, и сыновья, и снохи, а Батый идёт к тебе». И был князь Юрий в великом горе, думая не о себе, но о разорении церкви и гибели христиан. И послал он на разведку Дорожа с тремя тысячами воинов узнать о татарах. Он же вскоре прибежал назад и сказал: «Господин князь, уже обошли нас татары». Тогда князь Юрий с братом Святославом и со своими племянниками Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, исполнив полки, пошли навстречу татарам, и каждый расставил полки, но ничего не смогли сделать. Татары пришли к ним на Сить, и была жестокая битва, и победили русских князей. Здесь был убит великий князь Юрий Всеволодович, внук Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха, и убиты были многие воины его.
А Василька Константиновича Ростовского татары взяли в плен и вели его до Шерньского леса[119], принуждая его жить по их обычаю и воевать на их стороне. Но он не покорился им и не принимал пищи из рук их, но много укорял их царя и всех их. Они же, жестоко мучив его, умертвили четвёртого марта, в середину Великого поста, и бросили его тело в лесу. Некая женщина, увидев тело Василька, рассказала своему богобоязненному мужу; и тот взял тело князя, завернул его в плащаницу и положил в тайном месте.
Татары, вернувшись от Владимира, взяли, как я сказал уже, Переяславль, и Москву, и Юрьев, и Дмитров, и Волок, и Тверь, а затем подошли к Торжку в первую неделю поста, месяца февраля в двадцать второй день, на обретение мощей святых мучеников в Евгении. И окружили они весь город тыном, так же как и другие города брали, и осаждали окаянные город две недели. Изнемогали люди в городе, а из Новгорода им не было помощи, потому что все были в недоумении и в страхе. И так поганые взяли город, убив всех — и мужчин и женщин, всех священников и монахов. Всё разграблено и поругано, и в горькой и несчастной смерти предали свои души в руки господа месяца марта в пятый день, на память святого Конона, в среду четвёртой недели поста. И были здесь убиты: Иванко, посадник новоторжский, Аким Влункович, Глеб Борисович, Михаил Моисеевич. А за прочими людьми гнались безбожные татары Селигерским путём до Игнатьева креста[120] и секли всех людей, как траву, и не дошли до Новгорода всего сто вёрст. Новгород же сохранил бог, и святая и великая соборная и апостольская церковь Софии, и святой преподобный Кирилл, и молитвы святых правоверных архиепископов, и благоверных князей, и преподобных монахов иерейского собора.
Кто, братья, и отцы, и дети, не восплачет, видя такое божье наказание всей Русской земле? За грехи наши бог напустил на нас поганых; ведь бог, в гневе своём, приводит иноплеменников на землю, чтобы побеждённые ими люди обратились к нему; а междоусобные войны бывают из-за наваждения дьявола. Ведь бог хочет не зла, но добра людям; а дьявол радуется жестокому убийству и кровопролитию. А если какая-нибудь земля согрешит, бог наказывает её смертью, или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или сильным дождём, или пожаром, или иными наказаниями; и нужно нам покаяться и жить, как велит бог, который говорит нам устами пророка: «Обратитесь ко мне всем вашим сердцем, с постом, и плачем, и стенанием». Если так сделаем, простятся нам все грехи. Но мы возвращаемся к злодеяниям, как псы на свою блевотину, и как свинья постоянно валяется в греховных нечистотах, так и мы живём. Поэтому и наказание приемлем от бога — нашествие поганых, по повелению бога, за наши грехи. Кирилл же, епископ ростовский, в то время был на Белоозере, и когда он шёл оттуда, то пришёл на Сить, где погиб великий князь Юрий, а как он погиб, знает лишь бог — различно рассказывают об этом. Епископ Кирилл нашёл тело князя, а головы его не нашёл среди множества трупов; и принёс он тело Юрия в Ростов, и положил его go многими слезами в церкви святой Богородицы. А потом, узнав о судьбе Василька, пошёл и взял его тело, и принёс в Ростов, горько рыдая.
Был же Василёк лицом красив, очами светел, грозен взглядом, необыкновенно храбр, а сердцем лёгок; но, как говорит Соломон, «когда слабеют люди, побеждается и сильный». Так случилось и с этим храбрым князем и войском его; ведь ему служило много богатырей, но что они могут против саранчи? А из тех, кто служил ему и уцелел в сражении, кто ел его хлеб и пил из его чаши, никто не мог из-за преданности Васильку после его смерти служить другому князю. Василёк так же щедро наделял убогих и церковнослужителей. А позднее пришли и нашли голову князя Юрия, и привезли её в Ростов, и положили в гроб вместе с телом.
Батый оттуда пошёл к Козельску. Был в Козельске князь великий юный по имени Василий. Жители Козельска, посоветовавшись между собой, решили сами не сдаваться поганым, но сложить головы свои за христианскую веру. Татары же пришли и осадили Козельск, как и другие города, и начали бить из пороков, и, выбив стену, взошли на вал. И произошло здесь жестокое сражение, так что горожане резались с татарами на ножах; а другие вышли из ворот и напали на татарские полки, так что перебили четыре тысячи татар. Когда Батый взял город, он убил всех, даже детей. А что случилось с князем их Василием — неизвестно; некоторые говорили, что в крови утонул. И повелел Батый с тех пор называть город не Козельском, но злым городом; ведь здесь погибло три сына темников, и не нашли их среди множества мёртвых.
Оттуда пошёл Батый в Поле, в Половецкую землю. Бог тогда избавил от нашествия поганых князя Ярослава, сына великого князя Всеволода, и его сыновей: Александра, Андрея, Константина, Афанасия, Даниила, Михаила, а также братьев Ярослава: Святослава Всеволодовича Юрьевского с сыном Дмитрием; Иоанна Всеволодовича, и Владимира Константиновича, и двух сыновей Василька — Бориса и Глеба, и Василия Всеволодовича. А Ярослав после того нашествия пришёл и сел на престол во Владимире, очистил церковь от трупов и похоронил останки умерших, а оставшихся в живых собрал и утешил; и отдал брату Святославу Суздаль, а Ивану — Стародуб.
Княжение великого князя Ярослава Всеволодовича. В год 6747 (1239). Великий князь Ярослав Всеволодович велел принести тело своего брата, великого князя Юрия, из Ростова во Владимир. В тот же год великий князь Ярослав ходил в поход на Литву, обороняя смольнян[121]; и посадил там на престоле своего шурина Всеволода Мстиславича, внука Романа Мстиславича. В тот же год женился князь Александр Ярославич, княживший в Новгороде, взял дочь полоцкого князя Брячислава. Венчался он в Торопце и здесь сыграл свадьбу, а в Новгороде — ещё раз[122]. В тот же год Александр Ярославич с новгородцами основал Городец на Шелони. В тот же год Батый послал татар, и они взяли город Переяславль Русский, а епископа Симеона убили. Этот Симеон был девятым и последним епископом в Переяславле; а первым епископом в Переяславле был Пётр, вторым Ефрем, третьим Лазарь, четвёртым Сильвестр, пятым Иоанн, шестым Маркел, седьмым Евфимий, восьмым Павел, девятым Симеон, который и был последним; с тех пор до нынешнего времени без пяти лет триста в Переяславле не было епископа, да и людей нет в городе. А других татар Батый послал к Чернигову. Мстислав Глебович, внук Святослава Ольговича, услышав об этом, пришёл на татар с большим войском к Чернигову, и произошла жестокая битва. Из города на татар метали пороками камни на полтора выстрела, а камни могли поднять только два человека. Но татары всё же победили Мстислава, и многих воинов избили, а город взяли и огнём запалили, но епископа их довели до Глухова и отпустили. А другие татары Батыя пленили Мордовскую землю, и Муром, и Городец Радилов на Волге, и город святой Богородицы Владимирской[123]. И было большое смятение по всей земле, и сами люди не знали, кто куда бежит.
Княжение великого князя Михаила Киевского. В год 6748 (1240). Батый послал Менгу-хана осмотреть Киев. Пришёл он и остановился у городка Песочного и, увидев Киев, был поражён его красотой и величиной; отправил он послов к князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, желая его обмануть. Но князь Михаил послов убил, а сам убежал из Киева вслед за сыном в Венгерскую землю; а в Киеве взошёл на престол Ростислав Мстиславич, внук Давыда Смоленского. Но Даниил Романович, внук Мстислава Изяславича, выступил против Ростислава и взял его в плен; а Киев поручил оборонять против безбожных татар своему посаднику Дмитрию. В это время пришёл к Киеву сам безбожный Батый со всей своей силой[124]. Киевляне же взяли в плен татарина по имени Товрул, и сообщил он обо всех князьях, пришедших с Батыем, и о войске их; и были там братья Батыя, воеводы его: Урдюй, Байдар, Бичур, Кайдан, Бечак, Менгу, Куюк (он не был из рода Батыя, но был у него первым воеводой), Себедяй-богатырь, Бурундай, Бастырь, который пленил всю землю Булгарскую и Суздальскую, и много было других воевод, о которых мы не написали[125]. И начал Батый ставить пороки, и били они в стену безостановочно, днём и ночью, и пробили стену у Лядских ворот. В проломе горожане ожесточённо сражались, но были побеждены, а Дмитрий был ранен. И вошли татары на стену, и от большой тяжести стены упали, горожане же в ту же ночь построили другие стены вокруг церкви святой Богородицы. Утром татары пошли на приступ, и была сеча кровопролитной; народ спасался и а церковных сводах со своим добром, и от тяжести стены обрушились. Взяли татары город шестого декабря, на память отца нашего святого Николы, в год 6749 (1240). А Дмитрия, который был тяжело ранен, не убили из-за его мужества. Взял Батый город Киев, и, услышав, что великий князь Даниил Романович находится в Венгрии, пошёл он к Владимиру на Русь. В ту же зиму родился у великого князя Ярослава сын Василий.
Пленение Волынской земли. В тот же год 6749 (1240) подошёл Батый к городу Лодяжну и бил город из двенадцати пороков, но не смог его взять; и пришёл к Каменцу Изяслава и взял его; а Кременец князя Даниила не смог взять. Потом пошёл он и захватил Владимир-Русский на реке Буг; взял также Галич и пленил бесчисленные города. Затем по совету Дмитрия двинулся он против венгров, и встретил его король Бела[126] и Коломан около Солоной реки, на которой находятся волынские города: Изборско, великий Львов, Велин. На этой реке произошёл бой, и Батый победил, и венгры обратились в бегство, а Батый гнал их до Дуная. И оставался здесь Батый три года, и разорял земли до Володавы, а затем возвратился в степь, пленив все земли. В тот же год убили татары князя Мстислава Рыльского, город которого на реке Сейме.
* * *
Наряду с рассказами летописцев о Батыевом нашествии существовали повести о борьбе с татарами жителей отдельных городов и земель. Эти повести с течением времени обрастали подробностями, дополнялись фактами и вымыслами. Одна из наиболее интересных — «Повесть о разорении Рязани Батыем».
Плач князя Ингваря о погибших русских воинах — одна из лучших страниц древнерусской литературы. По силе чувства, по яркости образов он может сравниться лишь с плачем Ярославны из «Слова о полку Игореве»: «Солнце моё дорогое, рано заходящее, месяц мой красный! Скоро погибли вы, звёзды восточные: зачем же закатились вы так рано?»
ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ[127]
В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа Николина из Корсуни. Пришёл на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутёвых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всём: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошёл. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошёл, я помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давыдом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Фёдора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришёл князь Фёдор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принёс ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И стал просить у князей рязанских дочерей и сестёр к себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донёс безбожному царю Батыю, что есть у князя Фёдора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии своём, распалился в похоти своей и сказал князю Фёдору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Фёдор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жён своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и жёнами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Фёдора Юрьевича, а тело его велел бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал.
И один из пестунов князя Фёдора Юрьевича, по имени Апоница, укрылся и горько плакал, смотря на славное тело честного своего господина; и увидев, что никто его не охраняет, взял возлюбленного своего государя и тайно схоронил его. И поспешил к благоверной княгине Евпраксии, и рассказал ей, как нечестивый царь Батый убил благоверного князя Фёдора Юрьевича.
Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком тереме своём и держала любимое чадо своё — князя Ивана Фёдоровича, и как услышала она эти смертоносные слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого терема своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разбилась до смерти. И услышал великий князь Юрий Ингваревич об убиении безбожным царём возлюбленного сына своего, блаженного князя Фёдора, и других князей, и что перебито много лучших людей, и стал плакать о них с великой княгиней и с другими княгинями и с братией своей. И плакал город весь много времени. И едва отдохнул князь от великого того плача и рыдания, стал собирать воинство своё и расставлять полки. И увидел князь великий Юрий Ингваревич братию свою, и бояр своих, и воевод, храбро и мужественно скачущих, воздел руки к небу и сказал со слезами: «Избавь нас, боже, от врагов наших. И от подымавшихся на нас освободи нас, и сокрой нас от сборища нечестивых, и от множества творящих беззаконие. Да будет путь им тёмен и скользок». И сказал братии своей: «О, государи мои братия, если из рук господних благое приняли, то и злое не потерпим ли?! Лучше нам смертью славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Пусть я, брат ваш, раньше вас выпью чашу смертную за святые божии церкви, и за веру христианскую, и за отчизну отца нашего великого князя Ингваря Святославича». И пошёл в церковь Успения пресвятой владычицы богородицы. И плакал много перед образом пречистой богородицы, и молился великому чудотворцу Николе и сродникам своим Борису и Глебу[128]. И дал последнее целование великой княгине Агриппине Ростиславовне, и принял благословение от епископа и всех священнослужителей. И пошёл против нечестивого царя Батыя, и встретили его около границ рязанских. И напали на него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Много сильных полков Батыевых пало. И увидел царь Батый, что сила рязанская бьётся крепко и мужественно, и испугался. Но против гнева божия кто постоит! Батыевы же силы велики были и непреоборимы; один рязанец бился с тысячей, а два — с десятью тысячами. И видел князь великий, что убит брат его, князь Давыд Ингваревич, и воскликнул: «О, братия моя милая! Князь Давыд, брат наш, наперёд нас чашу испил, а мы ли сей чаши не изопьём!» И пересели с коня на конь и начали биться упорно. Через многие сильные полки Батыевы проезжали насквозь, храбро и мужественно сражаясь, так что все полки татарские подивились крепости и мужеству рязанского воинства. И едва одолели их сильные полки татарские. Здесь убит был благоверный великий князь Юрий Ингваревич, брат его князь Давыд Ингваревич Муромский, брат его князь Глеб Ингваревич Коломенский, брат их Всеволод Пронский и многие князья местные, и воеводы крепкие, и воинство: удальцы и резвецы рязанские. Всё равно умерли и единую чашу смертную испили. Ни один из них не повернул назад, но все вместе полегли мёртвые. Всё это навёл бог грехов ради наших.
А князя Олега Ингваревича захватили еле живого. Царь же, увидев многие свои полки побитыми, стал сильно скорбеть и ужасаться, видя множество убитых из своих войск татарских. И стал воевать Рязанскую землю, веля убивать, рубить и жечь без милости. И град Пронск, и град Бел, и Ижеславец[129] разорил до основания и всех людей побил без милосердия. И текла кровь христианская, как река обильная, грехов ради наших.
И увидел царь Батый Олега Ингваревича, столь красивого и храброго, изнемогающего от тяжких ран, и хотел уврачевать его от тяжких ран, и к своей вере склонить. Но князь Олег Ингваревич укорил царя Батыя и назвал его безбожным и врагом христианства. Окаянный же Батый дохнул огнём от мерзкого сердца своего и тотчас повелел Олега ножами рассечь на части[130]. И был он второй страстотерпец Стефан, принял венец страдания от всемилостивого бога и испил чашу смертную вместе со всею своею братьею.
И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошёл ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на город — одни с огнями, другие с пороками, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря в двадцать первый день. И пришли в церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню предали — во святой церкви пожгли, и иные многие от оружия пали. И в городе многих людей, и жён, и детей мечами посекли. А других в реке потопили, а священников и иноков без остатка посекли, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское, и сродников их — князей киевских и черниговских — захватили. А храмы божии разорили и во святых алтарях много крови пролили. И не осталось в городе ни одного живого: всё равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мёртвые. И было всё то за грехи наши.
И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и ещё больше разъярился и ожесточился, и пошёл на город Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю пленить, и веру христианскую искоренить, и церкви божии до основания разорить.
И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове с князем Ингварём Ингваревичем, и услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел её опустевшую, города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и увидел город разорённый, государей убитых и множество народа полёгшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И воскричал Евпатий в горести души своей, распалялся в сердце своём. И собрал небольшую дружину — тысячу семьсот человек, которых бог сохранил вне города. И погнались вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими. Почудилось татарам, что мёртвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь устрашился.
И едва поймали татары из полка Евпатьева пять человек воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батыю. Царь Батый стал их спрашивать: «Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне много зла творите?» Они же ответили: «Веры мы христианской, рабы[131] великого князя Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать чаш на великую силу — рать татарскую». Царь же подивился ответу их мудрому. И послал шурича[132] своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки татарские. Хостоврул же похвалился перед царём, обещал привести к царю Евпатия живого. И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассёк Хостоврула наполы до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество пороков, и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батыю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями[133], и стали все дивиться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали они царю: «Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отця наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно, на конях разъезжая, бьются — один с тысячею, а два — с десятью тысячами. Ни один из них не съедет живым с побоища». И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своей дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия оставшимся людям из его дружины, которых похватали на побоище. И велел царь Батый отпустить их и ничем не вредить им.
Князь Ингварь Ингваревич был в то время в Чернигове, у брата своего князя Михаила Всеволодовича Черниговского, сохранен богом от злого того отступника и врага христианского. И пришёл из Чернигова в землю Рязанскую, в свою отчину, и увидел её пусту, и услышал, что братья его все убиты нечестивым, законопреступным царём Батыем, и пришёл во град Рязань, и увидел город разорённым, а мать свою, и снох своих, и сродников своих, и многое множество людей лежащих мёртвыми, город разорён и церкви пожжены, и всё узорочье из казны черниговской и рязанской взято. Увидел князь Ингварь Ингваревич великую последнюю погибель за грехи наши и жалостно воскричал, как труба, созывающая на рать, как сладкий орган звучащий. И от великого того крика и вопля страшного пал на землю, как мёртвый. И едва отлили его и отходили на ветру. И с трудом ожила душа его в нём.
Кто не восплачется о такой погибели, кто не возрыдает о стольких людях народа православного, кто не пожалеет стольких убитых великих государей, кто не застонет от такого пленения?
Разбирая трупы убитых, князь Ингварь Ингваревич нашёл тело матери своей, великой княгини Агриппины Ростиславовны, и узнал своих снох, и призвал попов из сёл, которых бог сохранил, и похоронил матерь свою и снох своих с плачем великим вместо псалмов и песнопений церковных: сильно кричал и рыдал. И похоронил остальные тела мёртвых, и очистил город, и освятил. И собралось малое число людей, и немного утешил их. И плакал беспрестанно, поминая матерь свою, братию свою, и род свой, и всё узорочье рязанское[134], без времени погибшее. Всё то случилось по грехам нашим. Был город Рязань, и земля была Рязанская, и исчезло богатство её, и отошла слава её, и нельзя было увидеть в ней никаких благ её — только дым и пепел; и церкви все погорели, и великая церковь внутри изгорела и почернела. И не только этот город пленён был, но и иные многие. Не стало в городе ни пения, ни звона; вместо радости — плач непрестанный.
И пошёл князь Ингварь Ингваревич туда, где побиты были нечестивым царём Батыем братья его: великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, брат его князь Давыд Ингваревич, брат его Всеволод Ингваревич, и многие князья местные, и бояре, и воеводы, и всё воинство, и удальцы, и резвецы, узорочье рязанское. Лежали они все на земле опустошённой, на траве ковыле, снегом и льдом померзнувшие, никем не блюдомые. Звери тела их поели, и множество птиц их растерзало. Все лежали, все вместе умерли, единую чашу испили смертную. И увидел князь Ингварь Ингваревич великое множество мёртвых тел лежащих, и воскричал горько громким голосом, как труба звучащая, и бил себя в грудь руками, и падал на землю. Слёзы его из очей как поток текли, и говорил он жалостно: «О милая моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои драгоценные? Меня одного оставили в такой погибели! Почему не умер я раньше вас? И куда скрылись вы из очей моих, и куда ушли вы, сокровища жизни моей? Почему ничего не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, сады мои несозрелые? Уже не подарите сладость душе моей! Почему, государи мои, не посмотрите вы на меня, брата вашего, и не поговорите со мною? Ужели забыли меня, брата вашего, от единого отца рождённого и от единой утробы матери нашей — великой княгини Агриппины Ростиславовны, и единою грудью многоплодного сада вскормленного? На кого оставили вы меня, брата своего? Солнце моё дорогое, рано заходящее, месяц мой красный! Скоро погибли вы, звёзды восточные; зачем же закатились вы так рано? Лежите вы на земле пустой, никем не охраняемые; чести-славы ни от кого не получаете вы! Помрачилась слава ваша. Где власть ваша? Над многими землями государями были вы, а ныне лежите на земле пустой, лица ваши потемнели от тления. О милая моя братия и дружина ласковая, уже не повеселюся с вами! Светочи мои ясные, зачем потускнели вы? Немного порадовался с вами! Если услышит бог молитву вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер я вместе с вами. Уже ведь за веселием плач и слёзы пришли ко мне, а за утехой и радостью сетование и скорбь явились мне! Почему не прежде вас умер, чтобы не видеть смерти вашей, а своей погибели? Слышите ли вы горестные слова мои, жалостно звучащие? О земля, о земля! о дубравы! Поплачьте со мною! Как опишу и как назову день тот, в который погибло столько государей и многое узорочье рязанское — удальцы храбрые? Ни один из них не вернулся, но всё равно умерли, единую чашу смертную испили. От горести души моей язык мой не слушается, уста закрываются, взор темнеет, сила изнемогает».
Было тогда много тоски, и скорби, и слёз, и вздохов, и страха, и трепета от всех тех злых, которые напали на нас. И воздел руки к небу великий князь Ингварь Ингваревич, и воззвал со слезами, говоря: «Господи боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонящих избавь меня. Пречистая владычица, матерь Христа, бога нашего, не оставь меня в годину печали моей. Великие страстотерпцы и сродники наши Борис и Глеб, будьте мне, грешному, помощниками в битвах. О братия мои воинство, помогите мне во святых ваших молитвах на врагов наших — на агарян и внуков рода Измаила».
И стал разбирать князь Ингварь Ингваревич тела мёртвых, и взял тела братьев своих — великого князя Юрия Ингваревича, и князя Давыда Ингваревича Муромского, и князя Глеба Ингваревича Коломенского, и других князей местных — своих сродников, и многих бояр, и воевод, и ближних, знаемых ему, и принёс их во град Рязань, и похоронил их с честью, а тела других тут же на пустой земле собрал и надгробное отпевание совершил. И, похоронив так, пошёл князь Ингварь Ингваревич ко граду Пронску, и собрал рассечённые части тела брата своего благоверного и христолюбивого князя Олега Ингваревича, и повелел нести их во град Рязань, а честную главу его сам князь великий Ингварь Ингваревич до града понёс, и целовал её любезно, и положил его с великим князем Юрием Ингваревичем в одном гробу. А братьев своих, князя Давыда Ингваревича да князя Глеба Ингваревича, положил в одном гробу близ могилы тех. Потом пошёл князь Ингварь Ингваревич на реку на Воронеж, где убит был князь Фёдор Юрьевич Рязанский, и взял тело честное его, и плакал над ним долгое время. И принёс в область его к иконе великого чудотворца Николы Корсунского[135], и похоронил его вместе с благоверной княгиней Евпраксией и сыном их князем Иваном Фёдоровичем Постником во едином месте. И поставил над ними кресты каменные. И по той причине зовётся великого чудотворца Николы икона Заразской, что благоверная княгиня Евпраксия с сыном своим князем Иваном сама себя на том месте «заразила» (разбила).
4
Батыево нашествие ураганом пронеслось над Русью. Татары исчезли так же внезапно, как и появились. Всем казалось, что они ушли навсегда, скрывшись за «железными горами угорскими» — за Карпатами. Однако вскоре они вернулись. В 1242 году все русские князья, уцелевшие, после нашествия, были вызваны в ставку Батыя. Там каждый из них, признав свою зависимость от Орды, получил особую грамоту — ярлык, дававшую право на княжение. Русские земли превратились в особую, пользующуюся внутренней автономией, но всё же подчинённую монголам область улуса Джучи. Отныне многие важные вопросы жизни Руси решались в степях Нижней Волги, а иногда и в Каракоруме — столице монгольской империи.
Перед русскими людьми, волей или неволей попадавшими к татарам, открывался странный, неведомый доселе мир. В Орде поражало прежде всего небывалое смешение языков и наречий, верований и обрядов. Казалось, что кочевники поклонялись одновременно всем известным миру богам. В их стане бубен шамана уживался с крестом несторианского монаха и чалмой поклонника аллаха. Но под тонким покровом роскоши скрывались первобытная простота и дикость. Ведь не столь давно монголы, не зная, что делать с награбленным в Китае золотом и серебром, отливали из него кормушки для своих коней.
Одевшись в тончайшие китайские и хорезмийские ткани, кутаясь в собольи меха, монгольские темники, следуя заветам предков, никогда не мылись в бане, обтирали жирные от еды руки о полы халатов и не стеснялись ничьим присутствием, исполняя простейшие желания.
За много веков борьбы со Степью русские люди имели возможность хорошо узнать быт и нравы кочевников. И всё же многое из того, что принесли пришельцы с другого конца Азии, не могло не удивлять даже видавших виды русских князей и бояр.
Русские люди всегда отличались пытливостью и наблюдательностью. Их интересовали жизнь и обычаи других народов. К сожалению, до нас не дошло ни одного подробного русского описания Орды. Для того чтобы представить обстановку, в которой оказывались русские люди при дворе монгольских ханов, увидеть то, что видели в степях Александр Невский и Даниил Галицкий, мы должны обратиться к сочинениям иностранных авторов, прежде всего Плано Карпини и Гильома Рубрука.
Оба они были католическими монахами ордена францисканцев, оба отправились к татарам по поручению своих могущественных суверенов. Итальянец Плано Карпини был послан папой Иннокентием IV в 1245 году. «Патроном» фламандца Рубрука был французский король Людовик IX, организатор шестого крестового похода. Рубрук совершил своё путешествие в 1253— 1255 годах.
Карпини был прежде всего дипломатом и разведчиком, стремившимся выведать планы ордынских ханов и нащупать возможности использования татар в интересах папской курии. Миссия Рубрука имела вполне определённые политические цели: по-видимому, он надеялся склонить татар к совместным с крестоносцами действиям на Ближнем Востоке. Но Рубрук — один из образованнейших людей своего века, пытливый наблюдатель, — рассказывает об обычаях, верованиях повседневной жизни кочевников.
И Рубрук и Карпини оставили потомкам подробные описания быта, нравов, жизни в Орде. Конечно, их прежде всего интересовала система управления государством и армией, военное искусство. Об этом вы прочитаете в отрывке из книги Плано Карпини. Рубрук же в своём «Путешествии в восточные страны» даёт нам и живые картины из жизни монголов, как богатых семей (ханов, тысячников, сотников), так и бедных. В книгах этих путешественников-разведчиков есть и страницы, связанные с русскими людьми, с их жизнью в плену, с их подневольным трудом.
Джнованни дель Плано Карпини ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ МОНГАЛОВ»[136]
Император же этих Татар имеет изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-нибудь стране, если где император не укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать вождям, вожди же указывают места тысячникам, тысячники сотникам, сотники же десятникам. Сверх того, во всём том, что он предписывает во всякое время, во всяком месте, по отношению к войне, или к смерти, или к жизни, они повинуются без всякого противоречия... Каких бы, сколько бы и куда бы он ни отправлял послов, им должно давать без замедления подводы и содержание; откуда бы также ни проходили к нему данники или послы, равным образом им должно давать коней, колесницы и содержание...
Ту же власть имеют во всём вожди над своими людьми, именно люди, то есть Татары и другие, распределены между вождями. Также и послам вождей, куда бы те их ни посылали, как подданные императора, так и все другие обязаны давать как подводы, так и продовольствие, а также без всякого противоречия людей для охраны лошадей и для услуг послам. Как вожди, так и другие обязаны давать императору для дохода кобыл, чтобы он получал от них молоко, на год, на два или на три, как ему будет угодно; и подданные вождей обязаны делать то же самое своим господам, ибо среди них нет никого свободного. И, говоря кратко, император и вожди берут из их имущества всё, что ни захотят и сколько хотят. Также и личностью их они располагают во всём, как им будет благоугодно...
§1. О разделении войск
О разделении войск скажем таким образом: Чингисхан приказал, чтобы во главе десяти человек был поставлен один (и он по-нашему называется десятником), а во главе десяти десятников был поставлен один, который называется сотником, а во главе десяти сотников был поставлен одни, который называется тысячником, а во главе десяти тысячников был поставлен один, и это число называется у них тьма[137]. Во главе же всего войска ставят двух вождей или трёх, но так, что они имеют подчинение одному. Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один, или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или двое, или больше смело вступают в бой, а десять других не следуют, то их также умерщвляют, а если из десяти попадает в плен один или больше, другие же товарищи не освобождают их, то они также умерщвляются.
§2. Об оружии
I. Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три больших колчана, полных стрелами, один топор и верёвки, чтобы тянуть орудия. Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые; у них есть также вооружённая лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а также прикрытия для лошадей из кожи[138], сделанные следующим образом: они берут ремни от быка или другого животного шириною в руку, заливают их смолою вместе по три или по четыре и связывают ремешками или верёвочками; на верхнем ремне они помещают верёвочки на конце, а на нижнем — в середине, и так поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняются, верхние встают, и таким образом удваиваются или утраиваются на теле... Шлем же сверху железный или медный, а то, что прикрывает кругом шею и горло, — из кожи...
II. У некоторых же всё то, что мы выше назвали, составлено из железа... И они делают это как для вооружения коней, так и людей. И они заставляют это так блестеть, что человек может видеть в них своё лицо.
III. У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека с седла. Длина их стрел составляет два фута, одну ладонь и два пальца, а так как футы различны, то мы приводим здесь меру геометрического фута: двенадцать зёрен ячменя составляют поперечник пальца, шестнадцать поперечников пальцев образуют геометрический фут. Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят при колчане напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые железные наконечники имеют острый хвост длиною в один палец, который вставляется в дерево. Щит сделан у них из ивовых или других прутьев, но мы не думаем, чтобы они носили его иначе, как в лагере и для охраны императора и князей, да и то только ночью...
§ 3. О хитростях при столкновении
I. Когда они желают пойти на войну, они отправляют вперёд передовых застрельщиков[139], у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если не могут иного, обращают их в бегство; всё же они гораздо охотнее убивают, чем обращают в бегство. За ними следует войско, которое, наоборот, забирает всё, что находит; также и людей, если их могут найти, забирают в плен или убивают. Тем не менее всё же стоящие во главе войска посылают после этого глашатаев, которые должны находить людей и укрепления, и они очень искусны в розысках.
II. Когда же они добираются до рек, то переправляются через них, даже если они и велики, следующим образом: более знатные имеют круглую и гладкую кожу, на поверхности которой кругом они делают частые ручки, в которые вставляют верёвку и завязывают так, что образуют в общем некий круглый мешок, который наполняют платьями и иным имуществом, и очень крепко связывают; после этого в середине кладут сёдла и другие более жёсткие предметы; люди также садятся в середине. И этот корабль, таким образом приготовленный, они привязывают к хвосту лошади и заставляют плыть вперёд, наравне с лошадью, человека, который бы управлял лошадью, Или иногда они берут два весла, ими гребут по воде и таким образом переправляются через реку, лошадей же гонят в воду, и один человек плывёт рядом с лошадью, которою управляет, всё же другие лошади следуют за той и таким образом переправляются через воды и большие реки. Другие же, более бедные, имеют кошель из кожи, крепко сшитый; всякий обязан иметь его. В этот кошель, или в этот мешок, они кладут платье и всё своё имущество, крепко связывают этот мешок вверху, вешают на хвост коня и переправляются, как сказано выше.
III. Надо знать, что всякий раз, как они завидят врагов, они идут на них, и каждый бросает в своих противников три или четыре стрелы; и если они видят, что не могут их победить, то отступают вспять к своим; и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду; и если их враги преследуют их до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают. Точно так же, если они видят, что против них имеется большое войско, они иногда отходят от него на один или два дня пути и тайно нападают на другую часть земли и разграбляют её; при этом они убивают людей и разрушают и опустошают землю. А если они видят, что не могут сделать и этого, то отступают назад на десять или на двенадцать дней пути[140]. Иногда также они пребывают в безопасном месте, пока войско их врагов не разделится, и тогда они приходят украдкой, и опустошают всю землю. Ибо в войнах они весьма хитры, так как сражались с другими народами уже сорок лет и даже больше.
IV. Когда же они желают приступить к сражению, то располагают все войска так, как они должны сражаться. Вожди или начальники войска не вступают в бой, но стоят вдали против войска врагов[141] и имеют рядом с собой на конях отроков, а также женщин и лошадей. Иногда они делают изображения людей и помещают их на лошадей; это они делают для того, чтобы заставить думать о большем количестве воюющих. Пред лицом врагов они посылают отряд пленных и других народов, которые находятся между ними; может быть, с ними идут и какие-нибудь Татары. Другие отряды более храбрых людей они посылают далеко справа и слева, чтобы их не видали их противники, и таким образом окружают противников и замыкают в середину; и таким путём они начинают сражаться со всех сторон. И, хотя их иногда мало, противники их, которые окружены, воображают, что их много. А в особенности бывает это тогда, когда они видят тех, которые находятся при вожде или начальнике войска, отроков, женщин, лошадей и изображения людей, как сказано выше, которых они считают за воителей, и вследствие этого приходят в страх и замешательство. А если случайно противники удачно сражаются, то Татары устраивают им дорогу для бегства, и как только те начнут бежать и отделяться друг от друга, они их преследуют и тогда, во время бегства, убивают больше, чем могут умертвить на войне. Однако надо знать, что, если можно обойтись иначе, они неохотно вступают в бой, но ранят и убивают людей и лошадей стрелами, а когда люди и лошади ослаблены стрелами, тогда они вступают с ними в бой.
§4. Об осаде укреплений
Укрепления они завоёвывают следующим образом. Если встретится такая крепость, они окружают её; мало того, иногда они так ограждают её, что никто не может войти или выйти; при этом они весьма храбро сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или на ночь не прекращают сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха; сами же Татары отдыхают, так как они разделяют войска, и одно сменяет в бою другое, так что они не очень утомляются. И если они не могут овладеть укреплением таким способом, то бросают на него греческий огонь[142]; мало того, они обычно берут иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома; и везде, где огонь попадает на этот жир, он горит, так сказать, неугасимо... А если они не одолевают таким способом и этот город или крепость имеет реку, то они преграждают её или делают другое русло и, если можно, потопляют это укрепление. Если же этого сделать нельзя, то они делают подкоп под укрепление и под землёю входят в него с оружием. А когда они уже вошли, то одна часть бросает огонь, чтобы сжечь его, а другая часть борется с людьми того укрепления. Если же и так они не могут победить его, то ставят против него свой лагерь или укрепление, чтобы не видеть тягости от вражеских копий, и стоят против него долгое время, если войско, которое с ними борется, случайно не получит подмоги и не удалит их силою.
Гильом де Рубрук ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОСТОЧНЫЕ СТРАНЫ»[143]
О татарах и их жилищах
Они не имеют нигде постоянного местожительства и не знают, где найдут его в будущем. Они поделили между собою Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца[144]; и всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более тёплые страны, летом поднимаются на север, в более холодные. В местах, удобных для пастбища, но лишённых воды, они пасут стада зимою, когда там бывает снег, так как снег служит им вместо воды. Дом, в котором они спят, они ставят на колёсах из плетёных прутьев; брёвнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; её они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок извёсткой, белой землёй и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они чёрный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов в ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колёс одной повозки в 20 футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колёса, по крайней мере, на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом, 11 в один ряд вдоль ширины повозки и ещё 11 перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков. Кроме того, они делают четырёхугольные ящики из расколотых маленьких прутьев, величиной с большой сундук, а после того с одного краю до другого устраивают навес из подобных прутьев и на переднем краю делают небольшой вход; после этого покрывают этот ящик, или домик, чёрным войлоком, пропитанным салом или овечьим молоком, чтобы нельзя было проникнуть дождю, и такой ящик равным образом украшают они пестроткаными или пуховыми материями. В такие сундуки они кладут всю свою утварь и сокровища, а йотом крепко привязывают их к высоким повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким образом перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не снимаются с повозок. Когда они снимают свои дома для остановки, они всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той и другой стороны вблизи дома, на расстоянии половины полёта камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между двумя стенами. Женщины устраивают себе очень красивые повозки, которые я не могу вам описать иначе как живописью; мало того, я всё нарисовал бы вам, если бы умел рисовать. Один богатый Моал[145], или Татарин, имеет таких повозок с сундуками непременно 100 или 200; у Вату 26 жён, у каждой из которых имеется по большому дому, не считая других, маленьких, которые они ставят сзади большого; они служат как бы комнатами, в которых живут девушки, и к каждому из этих домов примыкают по 200 повозок. И когда они останавливаются где-нибудь, то первая жена ставит свой двор на западной стороне, а затем размещаются другие по порядку, так что последняя жена будет на восточной стороне, и расстояние между двором одной госпожи и другой будет равняться полёту камня. Таким образом, один двор богатого Моала будет иметь вид как бы большого города, только в нём будет очень немного мужчин. Самая слабая из женщин может править 20 или 30 повозками, ибо земля их очень ровна. Они привязывают повозки с быками или верблюдами одну за другой, и бабёнка будет сидеть на передней, понукая быка, а все другие повозки следуют за ней ровным шагом. Если им случится дойти до какого-нибудь плохого перехода, то они развязывают повозки и перевозят их по одной. Ибо едут так медленно, как ходит ягнёнок или бык.
Об их постелях, идолах и обрядах перед питьём
Когда они поставят дома, обратив ворота к югу, то помещают постель господина на северную сторону. Место женщин всегда с восточной стороны, то есть налево от хозяина дома, когда он сидит на своей постели, повернув лицо к югу. Место же мужчин с западной стороны, то есть направо. Мужчины, входя в дом, никоим образом не могут повесить своего колчана на женской стороне. И над головою господина бывает всегда изображение, как бы кукла или статуэтка из войлока, именуемая братом хозяина; другое похожее изображение находится над постелью госпожи и именуется братом госпожи; эти изображения прибиты к стене; а выше, среди них, находится ещё одно изображение, маленькое и тонкое, являющееся, так сказать, сторожем всего дома. Госпожа дома помещает у своего правого бока, у ножек постели, на высоком месте козлиную шкурку, наполненную шерстью, или другой материей, а возле неё маленькую статуэтку, смотрящую в направлении к служанкам и женщинам. Возле входа, со стороны женщин, есть опять другое изображение, с коровьим выменем, для женщин, которые доят коров; ибо доить коров принадлежит к обязанности женщин. С другой стороны входа, по направлению к мужчинам, есть другая статуя, с выменем кобылы, для мужчин, которые доят кобыл. И всякий раз, как они соберутся для питья, они сперва обрызгивают напитком то изображение, которое находится над головой господина, а затем другие изображения по порядку. После этого слуга выходит из дома с чашей и питьём и кропит трижды на юг, преклоняя каждый раз колена, и это делается для выражения почтения к огню; после того он повторяет то же, обратясь на восток, в знак выражения почтения к воздуху; после того он обращается на запад для выражения почтения к воде; на север они кропят в память умерших. Когда господин держит чашу в руке и должен пить, то, прежде чем пить, он выливает на землю соответствующую часть. Если он пьёт, сидя на лошади, то до питья делает излияние ей на шею или на гриву. Итак, когда слуга покропит таким образом на четыре стороны мира, он возвращается в дом; и два служителя с двумя чашами и столькими же блюдами стоят наготове, чтобы отнести питьё господину и жене, сидящей на постели возле него, но повыше. И если у господина очень много жён, то та, с которой он спит ночью, сидит рядом с ним днём, а всем другим в тот день надлежит приходить к тому дому, и там в тот день происходит собрание, приносимые же подарки складываются в сокровищницы этой госпожи. При входе стоит скамья с бурдюком молока или другого какого питья и с чашами.
Об их напитках и о том, как они поощряют других к питью
Зимою они делают превосходный напиток из риса, проса, ячменя и мёда, чистый, как вино, а вино им привозится из отдалённых стран. Летом они заботятся только о кумысе. Кумыс стоит всегда внизу у дома, пред входом в дверь, и возле него стоит гитарист со своей маленькой гитарой. Наших гитар и рылей я там не видал, но видел много других инструментов, которых у нас не имеется. И когда господин начинает пить, то один из слуг возглашает громким голосом: «Га!» И гитарист ударяет о гитару, а когда они устраивают большой праздник, то все хлопают в ладоши и также пляшут под звуки гитары, мужчины пред лицом господина, а женщины пред лицом госпожи. Когда же господин выпьет, то слуга восклицает, как прежде, и гитарист молчит. Тогда все кругом, и мужчины, и женщины, пьют, при этом иногда они пьют взапуски очень гадко и с жадностью. И когда они хотят побудить кого-нибудь к питью, то хватают его за уши и сильно тянут, чтобы расширить ему горло, и рукоплещут, и танцуют пред его лицом. Точно так же, когда они хотят сделать кому-нибудь большой праздник и радость, один берёт полную чашу, а двое других становятся направо и налево от него, и таким образом они трое идут с пением и пляской к тому лицу, которому они должны подать чашу, и поют и пляшут пред его лицом; а когда он протянет руку для принятия чаши, они внезапно отскакивают и снова возвращаются, как прежде, и издеваются над ним таким образом, отнимая у него чашу три или четыре раза, пока он не развеселится хорошенько и не почувствует хорошего аппетита. Тогда они подают ему чашу, поют, хлопают в ладоши и ударяют ногами, пока он не выпьет.
Об их пище
Об их пище и съестных припасах знайте, что они едят без разбора всякую свою падаль, а среди столь большого количества скота и стад, вполне понятно, умирает много животных.
Однако летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой пище. Поэтому, если тогда доведётся умереть у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезая его на топкие куски и вешая на солнце и на ветер, и эти куски тотчас сохнут без соли и не распространяя никакой вони. Из кишок лошадей они делают колбасы, лучшие, чем из свинины, и едят их свежими. Остальное мясо сохраняют на зиму. Из шкур быков они делают большие бурдюки, которые удивительно высушивают на дыму. Из задней части конской шкуры они делают очень красивые башмаки. От мяса одного барана они дают есть 50 или 100 человекам, именно они разрезают мясо на маленькие кусочки на блюдечке вместе с солью и водой — другой приправы они не делают, — а затем остриём ножика или вилочки, сделанных нарочно для этого, наподобие тех, какими мы обычно едим сваренные в вине груши и яблоки, они протягивают каждому из окружающих один или два кусочка, сообразно с количеством вкушающих.
Прежде чем поставить мясо барана (гостям), господин сам берёт, что ему нравится, а также если он даёт кому-нибудь особую часть, то получающему надлежит съесть её одному, и нельзя давать никому; если же он не может съесть всего, то ему надлежит унести это с собою или отдать своему служителю; если налицо находится тот, кто охраняет его, или иначе он прячет это в свой каптаргак, то есть в квадратный мешок, который они носят для сохранения всего подобного; сюда они прячут также и кости, когда у них нет времени хорошенько обглодать их, чтобы обглодать впоследствии, дабы не пропадало ничего из пищи.
О животных, которыми они питаются; об их одежде и об их охоте
Важные господа имеют на юге поместья, из которых на зиму им доставляется просо и мука. Бедные добывают себе это в обмен на баранов и кожи. Рабы наполняют свой желудок даже грязной водой и этим довольствуются. Ловят они также и мышей, многие породы которых находятся там в изобилии. Мышей с длинными хвостами они не едят, а отдают своим птицам. Они истребляют соней и всякую породу мышей с коротким хвостом. Там водится также много сурков, именуемых там согур; они собираются зимою в одну яму зараз в числе 20 или 30 и спят шесть месяцев; их ловят Татары в большом количестве. Водятся там также кролики с длинным хвостом, как у кошки, и с чёрными и белыми волосами на конце хвоста. У них есть также много других маленьких зверьков, пригодных для еды, которых они сами очень хорошо различают. Оленей я там не видал; зайцев видел мало, газелей много. Диких ослов я видел в большом количестве; они похожи на мулов. Видел я также другую породу животных, именуемых аркали[146]; они имеют тело, точно у барана, и рога, загнутые, как у барана, но такой огромной величины, что одной рукой я едва мог поднять два рога; из этих рогов они делают большие чаши. У них есть в большом количестве соколы, кречеты и аисты; всех их носят они на правой руке и надевают всегда соколу на шею небольшой ремень, который висит у него до средины груди. При помощи этого ремня они наклоняют левой рукой голову и грудь сокола, когда выпускают его на добычу, чтобы он не получал встречных ударов от ветра или не уносился ввысь. Итак, охотой они добывают себе значительную часть своего пропитания.
Об одеяниях и платье их знайте, что из Катайи и других восточных стран, а также из Персии и других южных стран им доставляют шёлковые и золотые материи, а также ткани из хлопчатой бумаги, в которые они одеваются летом. Из Руссии, из Мокселя, из великой Булгарии и Паскатыра, то есть великой Венгрии, из Керкиса[147] (все эти страны лежат к северу и полны лесов) и из многих других стран с северной стороны, которые им повинуются, им привозят дорогие меха разного рода, которых я никогда не видал в наших странах и в которые они одеваются зимой. И зимою они всегда делают себе по меньшей мере две шубы: одну, волос которой обращён к телу, а другую, волос которой находится наружу к ветру и снегам. Эти шубы по большей части сшиты из шкур волчьих и лисьих или из шкур павианов. Пока Татары сидят в доме, они носят другую шубу, более нежную. Бедные приготовляют верхние шубы из шкур собачьих или козьих. Когда они хотят охотиться на зверей, то собираются в большом количестве, окружают местность, про которую знают, что там находятся звери, и мало-помалу приближаются друг к другу, пока не замкнут зверей друг с другом как бы в круге[148], и тогда пускают в них стрелы. Они устрояют также шаровары из кож. Богатые также подшивают себе платье шёлковыми охлопками, которые весьма мягки, легки и теплы. Бедные подшивают платье полотном, хлопчатой бумагой и более нежной шерстью, которую они могут извлечь из более грубой. Из более грубой шерсти они делают войлок для покрывания своих домов, сундуков, а также постелей. Из шерсти также, с примесью третьей части конского волоса, они делают себе верёвки. Из войлока они делают также плащи, чепраки и шапки против дождя; таким образом они издерживают много шерсти.
О бритье мужчин и наряде женщин
Мужчины выбривают себе на макушке головы четырёхугольник и с передних углов ведут бритье макушки головы до висков. Они бреют также виски и шею до верхушки впадины затылка, а лоб до макушки, на которой оставляют пучок волос, спускающихся до бровей. В углах затылка они оставляют волосы, из которых делают косы, которые заплетают, завязывая узлом до ушей. Платье девушек не отличается от платья мужчин, за исключением того, что оно несколько длиннее. Но на следующий день после свадьбы она бреет себе череп с середины головы в направлении ко лбу; она носит рубашку такой ширины, как куколь монахини, но в общем более широкую и длинную и спереди разрезанную, которую завязывают на правом боку. Ибо Татары отличаются от Турок именно тем, что Турки завязывают свои рубашки с левой стороны, а Татары всегда с правой. Кроме того, они носят украшение на голове, именуемое бокка, устраиваемое из древесной коры или из другого материала, который они могут найти, как более лёгкий, и это украшение круглое и большое, насколько можно охватить его двумя руками; длиною оно в локоть[149] и более, а вверху четырёхугольное, как капитель колонны. Это бокку они покрывают драгоценной шёлковой тканью; внутри бокка пустая, а в середине над капителью или над упомянутым четырёхугольником, они ставят прутик из стебельков, перьев или из тонкой тростинки длиною также в локоть и больше. И этот прутик они украшают сверху павлиньими перьями и вдоль кругом пёрышками из хвоста селезня, а также драгоценными камнями. Богатые госпожи полагают это украшение на верх головы, крепко стягивая его меховой шапкой, имеющей в верхушке приспособленное для того отверстие. Сюда они прячут свои волосы, которые собирают сзади к верху головы, как бы в один узел, и полагают в упомянутую бокку, которую потом крепко завязывают под подбородком. Отсюда, когда много их едет вместе, то, если смотреть на них издали, они кажутся солдатами, имеющими на головах шлемы с поднятыми копьями. Именно бокка кажется шлемом, а прутик наверху копьём. И все женщины сидят на лошадях, как мужчины, расставляя бёдра в разные стороны, и они подвязывают свои куколи по чреслам шёлковой тканью небесного цвета, другую же повязку прикрепляют к грудям, а под глазами подвязывают кусок белой материи; эти куски спускаются на грудь. Все женщины удивительно тучны; и та, у которой нос меньше других, считается более красивой. Они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо...
Об обязанностях женщин, об их занятиях и об их свадьбах
Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и грут, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они ниткой из жил. Именно они разделяют жилы на тонкие нитки и после сплетают их в одну длинную нить. Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье. Платьев они никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда гневается и что будет гром, если их повесить сушить. Мало того, они бьют моющих платье и отнимают его у них. Они боятся грома выше меры, высылают тогда всех чужестранцев из своих домов и закутываются в чёрные войлоки, в которые прячутся, пока не пройдёт (гроза). Никогда также не моют они блюд; мало того, сварив мясо, они моют чашку, куда должны положить его, кипящей похлёбкой из котла, а после обратно выливают в котёл. Они делают также войлок и покрывают дома. Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки и делают сёдла, строят дома и повозки, караулят лошадей и доят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и вьючат их. Овец и коз они караулят сообща и доят иногда мужчины, иногда женщины. Кожи приготовляют они при помощи кислого, сгустившегося и солёного овечьего молока. Когда они хотят вымыть руки или голову, они наполняют себе рот водою и мало-помалу льют её изо рта себе на руки, увлажняют такой же водою свои волосы и моют себе голову. О свадьбах их знайте, что никто не имеет там жены, если не купит её; отсюда, раньше чем выйти замуж, девушки достигают иногда очень зрелого возраста. Ибо родители постоянно держат их, пока не продадут. Они соблюдают первую и вторую степень родства, свойства же не признают ни в какой степени. Именно они женятся вместе или последовательно на двух сёстрах. Ни одна вдова не выходит у них замуж на том основании, что они веруют, что все, кто служит им в этой жизни, будет служить и в будущей; отсюда о вдове они верят, что она всегда вернётся после смерти к первому мужу. От этого среди них случается позорный обычай, именно что сын берёт иногда всех жён своего отца, за исключением матери. Именно двор отца и матери достаётся всегда младшему сыну. Отсюда ему надлежит заботиться о всех жёнах своего отца, которые достаются ему с отцовским двором, и тогда при желании он пользуется ими как жёнами, так как он не признает, что ему причиняется обида, если жена по смерти вернётся к отцу. Итак, когда кто-нибудь заключит с кем-нибудь условие о взятии дочери, отец девушки устраивает пиршество, и она бежит к близким родственникам, чтобы там спрятаться. Тогда отец говорит: «Вот дочь моя твоя; бери её везде, где найдёшь». Тогда тот ищет её со своими друзьями, пока не найдёт, и ему надлежит силой взять её и привести как бы насильно к себе домой.
Об их судопроизводстве, судах, смерти и похоронах
Об судопроизводстве их знайте, что, когда два человека борются, никто не смеет вмешиваться, даже отец не смеет помочь сыну, но тог, кто оказывается более слабым, должен жаловаться пред двором государя, и если другой после жалобы коснётся до него, то его убивают. Но ему должно идти туда немедленно без отсрочки, и тот, кто потерпел обиду, ведёт другого как пленного. Они не карают никого смертным приговором, если он не будет уличён в деянии или не сознается. Но когда очень многие опозорят его, то он подвергается сильным мучениям, чтобы вынудить сознание. Человекоубийство они карают смертным приговором, так же как соитие не со своею женщиной. Под не своей женщиной я разумею или не его жену, или его служанку. Ибо своей рабыней можно пользоваться как угодно. Точно так же они карают смертью за огромную кражу. За лёгкую кражу, например, за одного барана, лишь бы только человек нечасто попадался в этом, они жестоко бьют, и если они назначают сто ударов, то это значит, что те получают сто палок. Я говорю о тех, кто подвергается побоям по приговору двора. Точно так же они убивают ложных послов, то есть тех, которые выдают себя за послов и не суть таковые. Точно так же умерщвляют колдуний, о которых, однако, я скажу вам потом полнее, так как считают подобных женщин за отравительниц. Когда кто-нибудь умирает, они скорбят, издавая сильные вопли, и тогда они свободны, потому что не платят подати до истечения года. И если кто присутствует при смерти какого-нибудь взрослого лица, то до конца года не входит в дом самого Мангу-хана[150]. Если умерший ребёнок, то он входит только по истечении месяца. Возле погребения усопшего они оставляют всегда один его дом; если он из знатных лиц, то есть из рода Чингиса, который был их первым отцом и государем. Погребение того, кто умирает; остаётся неизвестным; и всегда около тех мест, где они погребают своих знатных лиц, имеется гостиница для охраняющих погребения. Я не знаю того, чтобы они скрывали с мёртвыми сокровища. Команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращённую лицом к востоку и держащую у себя в руке пред пупком чашу. Они строят также для богачей пирамиды, то есть остроконечные домики, и кое-где я видел большие башни из кирпичей, кое-где каменные дома, хотя камней там и не находится. Я видел одного недавно умершего, около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, по четыре с каждой стороны мира; и они поставили пред ним для питья кумыс, для еды мясо, хотя и говорили про него, что он был окрещён. Я видел другие погребения в направлении к востоку, именно большие площади, вымощенные камнями, одни круглые, другие четырёхугольные, и затем четыре длинных камня, воздвигнутых с четырёх сторон мира по сю сторону площади. Когда кто-нибудь занедужит, он ложится в постель и ставит знак над своим домом, что там есть недужный и чтобы никто не входил. Отсюда никто не посещает недужного, кроме прислуживающего ему. Когда также занедужит кто-нибудь принадлежащий к великим дворам, то далеко вокруг двора ставят сторожей, которые не позволяют никому переступить за эти пределы. Именно они опасаются, чтобы со входящими не явился злой дух или ветер. Самих гадателей они называют как бы своими жрецами.
О нашем приезде в страну варваров и об их неблагодарности
Итак, когда мы вступили в среду этих варваров, мне, как я выше сказал, показалось, что я вступаю в другой мир. Именно они на лошадях окружили нас, заставив нас наперёд долго ожидать, причём мы сидели в тени под нашими повозками. Первый вопрос их был: были ли мы когда-нибудь среди них? Получив ответ, что нет, они начали бесстыдно просить себе пищи. Мы дали им сухарей и вина, которое привезли с собою из города; выпив одну бутылку вина, они попросили другую, говоря, что человек не входит в дом на одной ноге, но мы не дали им, отговорившись тем, что у нас его мало. Тогда они спросили нас, откуда мы едем и куда желаем направиться. Я им сказал прежние слова, именно что мы слышали про Сартаха[151], что он христианин и что я желаю направиться к нему, так как должен вручить ему нашу грамоту... Они заставили нас долго ждать, прося у нас хлеба для своих малюток, а также всего, что они видели у наших слуг: ножиков, перчаток, кошельков и ремешков, всем восхищаясь и всё желая иметь. Я отговаривался тем, что нам предстоит дальняя дорога и что нам не следует так скоро лишать себя предметов, нужных для окончания столь дальней дороги. Тогда они стали говорить, что я самозванец. Правда, они ничего не отняли у нас силою; но они очень надоедливо и бесстыдно просят то, что видят, и если человек даёт им, то теряет, так как они неблагодарны. Они считают себя владыками мира, и им кажется, что никто не должен им ни в чём отказывать; если он не даст и после того станет нуждаться в их услуге, они плохо прислуживают ему. Они дали нам выпить своего коровьего молока, из которого было извлечено масло и которое было очень кисло; они называли его аира. И таким образом мы удалились от них, причём мне прямо представилось, что я вырвался из рук демонов. На следующий день мы добрались до начальника.
С тех пор, как мы выехали из Солдайи[152] и вплоть до Сартаха, два месяца, мы никогда не лежали в доме или в палатке, но всегда под открытым небом или под нашими повозками, и мы не видели никакого селения и даже следа какого-нибудь строения, где было бы селение, кроме огромного количества могил Команов. В тот вечер служитель, который провожал нас, дал нам выпить кумысу; при первом глотке я весь облился потом вследствие страха и новизны, потому что никогда не пил его. Однако он показался мне очень вкусным, как это и есть на самом деле.
О дворе Бату и том, как он нас принял
...Когда я увидел двор Бату, я оробел, потому что, собственно, дома его казались как бы каким-то большим городом, протянувшимся в длину и отовсюду окружённым народами на расстоянии трёх или четырёх лье. И как в Израильском народе каждый знал, с какой стороны скинии должен он раскидывать палатки, так и они знают, с какого бока двора должны они размещаться, когда они снимают свои дома (с повозок). Отсюда двор на их языке называется ордой[153], что значит середина, так как он всегда находится посередине их людей, за исключением того, что прямо к югу не помещается никто, так как с этой стороны отворяются ворота двора. Но справа и слева они располагаются, как хотят, насколько позволяет местность, лишь бы только не попасть прямо пред двором или напротив двора. Итак, нас отвели сперва к одному Саррацину, который не позаботился для нас ни о какой пище. На следующий день нас отвели ко двору, и Бату приказал раскинуть большую палатку, так как дом его не мог вместить столько мужчин и столько женщин, сколько их собралось. Наш проводник внушил нам, чтобы мы ничего не говорили, пока не прикажет Бату, а тогда говорили бы кратко. Он спросил также, отправляли ли вы к ним послов. Я сказал, что вы посылали их к Кен-хану и что не отправляли бы ни послов к нему, ни грамоты к Сартаху, если бы не думали, что они были христианами, так как вы послали нас не из-за какого-нибудь страха, а с целью поздравления, потому что вы слышали, что они христиане. Затем он отвёл нас к шатру (павильону), и мы получили внушение не касаться верёвок палатки, которые они рассматривают как порог дома. Мы стояли там в нашем одеянии босиком[154] с непокрытыми головами, представляя и в собственных глазах великое зрелище.
Там был брат Иоанн де Поликарпо, но он переменил платье, чтобы не подвергнуться презрению, так как был послом Господина Папы. Тогда нас провели до середины палатки и не просили оказать какое-либо уважение преклонением коленей, как обычно делают послы. И так мы стояли перед ним столько времени, во сколько можно произнести «Помилуй мя, Боже», и все пребывали в глубочайшем безмолвии. Сам же он сидел на длинном троне, широком, как ложе, и целиком позолоченном; на трон этот поднимались по трём ступеням; рядом с Бату сидела одна госпожа. Мужчины же сидели там и сям направо и налево от госпожи; то, чего женщины не могли заполнить на своей стороне, так как там были только жёны Бату, заполняли мужчины. Скамья же с кумысом и большими золотыми и серебряными чашами, украшенными драгоценными камнями, стояла при входе в палатку. Итак, Бату внимательно осмотрел нас, а мы его; и по росту, показалось мне, он похож на господина Жана де Бомон[155], да почиет в мире его душа. Лицо Бату было тогда покрыто красноватыми пятнами. Наконец он приказал нам говорить. Тогда наш проводник приказал нам преклонить колени и говорить. Я преклонил одно колено, как перед человеком. Тогда Бату сделал мне знак преклонить оба, что я и сделал, не желая спорить из-за этого. Тогда он приказал мне говорить, и я, вообразя, что молюсь Богу, так как преклонил оба колена, начал речь с молитвы, говоря: «Государь, мы молим Бога, от которого исходят все блага и который дал вам сии земные, чтобы после этого он даровал вам небесные, так как первые без последних ничтожны». Он внимательно выслушал, и я прибавил: «Знайте за верное, что не получите небесных благ, если не станете христианином. Ибо сказал Бог: «Кто уверует и крестится, спасён будет. Кто же не поверит, будет осуждён». При этом слове он скромно улыбнулся, а другие Моалы начали хлопать в ладоши, осмеивая нас, и мой толмач оцепенел, так что надо было ободрить его, чтобы он не боялся. Затем, когда настала тишина, я сказал: «Я прибыл к вашему сыну, так как слышал, что он христианин, и я привёз ему грамоту от господина короля Франков. Он сам послал меня сюда к вам. Вы должны знать, по какой причине». Тогда он приказал мне встать и спросил об имени вашем, моём, моего товарища и толмача и приказал всё записать; так как он знал, что вы вышли из вашей земли с войском, то спросил также, против кого ведёте вы войну. Я ответил: «Против Саррацинов, оскорбляющих дом Божий в Иерусалиме». Он спросил также, отправляли ли вы когда-нибудь к нему послов. «К вам, — сказал я, — никогда». Тогда он приказал нам сесть и дать выпить молока; это они считают очень важным, когда кто-нибудь пьёт с ним кумыс в его доме. И так как я сидя смотрел в землю, то он приказал мне поднять лицо, желая ещё больше рассмотреть нас или, может быть, от суеверия, потому что они считают за дурное знамение или признак, или за дурное предзнаменование, когда кто-нибудь сидит перед ними, наклонив лицо, как бы печальный, особенно если он опирается на руку щекой или подбородком. Затем мы вышли, и спустя немного к нам пришёл наш проводник и, отведя нас в назначенное помещение, сказал мне: «Господин король просит, чтобы ты остался в этой земле, а этого Бату не может сделать без ведома Мангу-хана. Отсюда следует, чтобы ты и твой толмач отправились к Мангу-хану[156]; а твой товарищ и другой человек вернутся ко двору Сартаха, ожидая там, пока ты не вернёшься»...
Описание приёма у Мангу-хана
...Холод в тех странах бывает весьма резок, и с тех пор, как начнутся морозы, они не прекращаются до мая, а бывают даже и в этом месяце. Ибо всякое утро были заморозки, а днём от силы солнца таяло. Зимою же никогда не тает, но морозы продолжаются при всяком ветре. И если бы ветер там дул зимою так же, как у нас, то там не могло бы быть никакой жизни; но воздух остаётся тихим до апреля, когда поднимаются ветры. И тогда, когда мы там были, холод, поднявшийся с ветром, убил около времени Пасхи бесчисленное количество животных. Зимой там выпало немного снегу, а около Пасхи, приходившейся на конец апреля, выпало такое количество его, что все улицы Каракарума были полны им, и его надлежало вывозить на повозках. Тогда нам впервые принесли от двора овчинные шубы и штаны из того же материала, а также сандалии; мой товарищ и толмач взяли это. А я думал, что не нуждаюсь в этом одеянии, так как мне казалось, что мне хватит шубы, которую я получил от Бату.
Затем, спустя неделю после дня избиения Невинных младенцев, нас повели к двору, и пришли священники-несториане, о которых я не знал, что они христиане[157]; они стали спрашивать нас, в какую сторону мы оборачиваемся для молитвы. Я отвечал: «К востоку». Они опрашивали об этом потому, что мы по совету нашего проводника выбрили себе бороды, чтобы предстать пред лицом хана согласно с обычаем нашей родины. Поэтому они думали, что мы Туины, то есть идолопоклонники. Они заставили нас также разъяснить места из Библии. Затем они спросили нас, какой почёт хотим мы оказать хану, по нашему или по их обычаю. Я ответил им: «Мы священники, поставленные на служение Богу. Знатные господа не допускают в наших странах, чтобы священники перед лицом их преклоняли колена иначе, как ради почитания Бога. Однако для Бога мы готовы унизить себя пред всяким человеком. Мы являемся издалека; прежде всего, если вам угодно, мы воспоём хвалу Богу, который после столь дальнего пути привёл нас сюда невредимыми, а затем сделаем так, как угодно будет вашему господину; за исключением того, что нам нельзя приказать что-нибудь такое, что было бы вопреки поклонению Богу и почитанию Его».
Тогда, войдя в дом, они пересказали мои слова государю, и ему это понравилось; нас поставили перед дверью дома, подняв войлок, висевший перед дверью, и, так как это было на Святках, мы начали петь: «От края востока солнечного и до пределов земли мы воспоём владыку Христа, родившегося от девы Марии».
Описание сделанного нам приёма
Когда мы пропели этот гимн, они обшарили у нас ноги, грудь и руки с целью узнать, нет ли при нас ножей. Нашего толмача заставили они отстегнуть и оставить снаружи, под охраной одного придворного, бывший на нём ремень с ножом. Затем мы вошли; при входе была скамья с кумысом, возле которой они приказали стать толмачу. Нас же заставили сесть на скамью пред госпожами. Дом весь был покрыт внутри золотым сукном, и на маленьком жертвеннике в середине дома горел огонь из терновника и корней полыни, которая вырастает там очень большой, а также из бычачьего навоза. Сам хан сидел на ложе, одетый в пятнистую и очень блестящую кожу, похожую на кожу тюленя. Это был человек курносый, среднего роста, в возрасте сорока пяти лет; рядом с ним сидела его молоденькая жена; а взрослая дочь его, по имени Цирина, очень безобразная, сидела с другими малыми детьми на ложе сзади них. Этот дом принадлежал раньше христианской госпоже, которую хан очень любил и от которой родилась у него вышеупомянутая дочь. И сверх того, он взял себе молоденькую жену, но всё же дочь оставалась госпожой всего двора, принадлежавшего её матери. Затем он приказал спросить у нас, чего мы желаем выпить, вина или террацины, то есть рисового пива, или каракосмосу, то есть светлого кобыльего молока, или бал, то есть напитка из мёда. Эти четыре напитка они употребляют зимой. Тогда я ответил: «Государь, мы не принадлежим к людям, ищущим удовольствия в питье; для нас вполне достаточно исполнить только вашу волю». Тогда он приказал подать нам светлого рисового напитка, вкусного, как белое вино, от которого из уважения к хану я отведал немножечко.
На нашу беду, наш толмач стоял рядом с ключниками, которые дали ему много пить, и он тотчас опьянел. Затем хан приказал принести соколов и других птиц, которых брал себе на руку и рассматривал, и спустя много времени он приказал нам говорить. Тогда нам надлежало преклонить колени. У него был толмачом один несторианин, про которого я не знал, что он христианин, а у нас был наш таковский переводчик, который к тому же был уже пьян. Тогда я сказал: «Мы прежде всего воздаём благодарность и хвалу Богу, который привёл нас из столь отдалённых стран, чтоб видеть Мангу-хана, которому Бог дал столько власти на земле. И мы молим Христа, по власти которого мы все живём и умираем, чтобы он даровал ему хорошую и долгую жизнь». Ибо они хотят того, чтобы молились за жизнь их. Затем я рассказал ему: «Государь, мы слышали про Сартаха, что он христианин, и христиане, слышавшие это, обрадовались, а в особенности господин король Франков. Поэтому мы отправились к Сартаху, и господин король послал ему через нас грамоту, содержавшую мирные слова, и среди других слов он свидетельствовал ему и о нас, что мы за люди, и просил его позволить нам побыть в земле его. Ибо наша обязанность состоит в том, чтобы учить людей жить согласно с законом Божиим. Сартах же послал нас к отцу своему Бату. Бату же послал нас сюда к вам. Вы тот, кому Бог дал великое владычество на земле. Поэтому просим ваше могущество даровать нам возможность оставаться в земле вашей для совершения служения Богу за вас, жён и детей ваших. У нас нет золота, серебра или драгоценных каменьев, которые мы могли бы предложить вам; мы можем предложить только себя самих для служения Богу и молитвы Богу за вас. По крайней мере, дайте нам возможность остаться, пока не пройдёт этот холод. Ибо товарищ мой так слаб, что никоим образом не может перенести труд верховой езды без опасности для жизни».
Именно товарищ мой сам рассказал мне про свою немощь и заклинал меня, чтобы я попросил позволения остаться. Ибо мы наверное предполагали, что нам надлежит вернуться к Бату, если Мангу по особой милости не даст нам позволения остаться. Затем начал отвечать хан: «Как солнце распространяет повсюду лучи свои, так повсюду распространяется владычество моё и Бату. Отсюда мы не нуждаемся в вашем золоте или серебре».
До сих пор я хорошо понимал моего толмача, но дальше не мог уловить ни одной цельной фразы, из чего я наверное узнал, что он был пьян. Да и сам Мангу-хан, как мне казалось, был в состоянии опьянения[158]. Всё-таки он, как мне показалось, окончил свои слова тем, что ему не нравилось, что мы прибыли к Сартаху раньше, чем к нему. Тогда я, видя непригодность толмача, замолчал, попросив только хана не принимать в дурную сторону «ого, что я сказал о золоте и серебре, так как я не говорил того, что он нуждается в подобных вещах или желает их, а хотел сказать, что мы охотно желали бы почтить его мирскими и духовными благами.
Затем он приказал нам встать и снова сесть, а спустя немного, после приветствия ему, мы вышли, и с нами его секретари и тот его толмач, который растит одну из его дочерей. Они начали много расспрашивать нас про французское королевство, водится ли там много баранов, быков и лошадей, как будто они должны были сейчас вступить туда и всё захватить. И много раз и в другое время мне приходилось делать большое усилие, чтобы скрыть своё негодование и гнев. И я ответил: «Там много хорошего, что вы увидите, если вам доведётся отправиться туда». Затем они приставили к нам одно лицо, которое должно было заботиться о нас, и мы отправились к монаху. И когда мы выходили оттуда, собираясь идти в своё помещение, вышеназванный толмач пришёл к нам[159] и сказал: «Мангу-хан жалеет вас и даёт вам сроку пробыть здесь два месяца; тогда пройдёт сильный холод. И он поручает передать вам, что здесь вблизи, в десяти днях пути, есть хороший город по имени Каракарум. Если вы желаете отправиться туда, он сам прикажет доставить вам необходимое; если же вы желаете остаться здесь, вы можете это, и получите необходимое. Однако вам трудно будет ездить вместе со двором».
И я ответил: «Господь да храпит Мангу-хана и да пошлёт ему хорошую и долгую жизнь! Мы нашли здесь такого монаха, о котором думаем, что он человек святой и что он прибыл в эти страны по воле Божией. Поэтому, так как и мы монахи, мы охотно пребывали бы вместе с ним и произносили бы вместе наши молитвы о сохранении жизни хана». Тогда он молча удалился. И мы пошли к своему большому дому, который нашли холодным и без топлива[160]; мы всё ещё были натощак, а наступила уже ночь. Тогда тот, кому мы были препоручены, позаботился доставить нам топлива и небольшое количество нищи. Наш проводник вернулся к Бату, но предварительно потребовал у нас дорожку или ковёр, который мы оставили по его распоряжению при дворе Бату. Мы согласились, и он удалился с миром, попросив у нас пожать правую руку и высказав, что был виноват пред нами. Именно он допускал, чтобы мы терпели на пути голод и жажду. Мы простили его, причём равным образом попросили извинения у него и у всего его семейства на тот случай, если показали им какой-нибудь дурной пример.
* * *
Монгольская столица — Каракорум — в середине XIII века представляла собой удивительное явление. В то время как монголы в походе, не исключая и великого хана, почти всё время проводили в юртах, водружённых на скрипучие повозки, неторопливо двигавшиеся по бескрайним степям, в городе трудились лучшие мастера Европы и Азии. Кого только не было на пыльных улочках Каракорума!
«Нас нашла одна женщина из Метца в Лотарингии по имени Пакетта, взятая в плен в Венгрии, — рассказывает Рубрук. — Она устроила нам, как умела, хорошее угощение. Пакетта принадлежала ко двору той госпожи, которая была христианкой и о которой я сказал выше. Эта женщина рассказала нам про неслыханные лишения, которые вынесла раньше, чем попасть ко двору. Но теперь она жила вполне хорошо. У ней был молодой муж, русский, от которого у неё было трое маленьких мальчиков, очень красивых. Муж её умел строить дома[161], что считается у них выгодным занятием. Сверх того она рассказала нам, что в Каракаруме живёт золотых дел мастер родом из Парижа, по имени Вильгельм. Фамилия его Бушье, а имя отца его Лоран Бушье. И она ещё думает, что на Большом Мосту у него есть брат по имени Роже Бушье. Говорила она мне также, что у этого Вильгельма живёт один юноша, которого он вырастил и считает за сына, и этот последний слывёт отличным переводчиком. Но Мангу-хан дал названному мастеру триста яскотов, то есть три тысячи марок, и пятьдесят работников для создания какого-то произведения. И потому эта женщина боялась, что Вильгельм не может прислать ко мне своего сына...»
Среди пленных ремесленников, работавших в монгольских городах, было много русских мастеров. Об одном из них пишет Плано Карпини:
Монгол с лошадью. Персидский рисунок с китайского оригинала XIII века.
«Мы пробыли благополучно месяц среди такого голода и жажды, что едва могли жить, так как продовольствия, выдаваемого на четверых, едва хватало одному, и мы не могли ничего найти купить, так как рынок был очень далеко. И если бы Господь не предуготовал нам некоего русского по имени Коему, бывшего золотых дел мастером у императора и очень им любимого, который оказал нам кой в чём поддержку, мы, как полагаем, умерли бы, если бы Господь не оказал нам помощь через кого-нибудь другого. Косма показал нам и трон императора, который сделан был им раньше, чем тот воссел на престоле, и печать его, изготовленную им, а также разъяснил нам надпись на этой печати».
Кто знает, какие бы чудеса ремесла и искусства сумел создать на родной земле этот Кузьма! Осталось лишь несколько упоминаний о русских ремесленниках. Но сколько их, безымянных, навеки сгинуло в бескрайних просторах Орды! В большинстве своём это были пленники, для которых смерть была избавлением от жалкого, полуголодного существования. Но жертвами Орды были и князья. Одним из первых был князь Михаил Черниговский. В 30-е годы XIII века он был наряду с Юрием Владимирским и Даниилом Галицким одним из трёх сильнейших русских князей.
Обстоятельства гибели Михаила Черниговского не совсем ясны. Публикуемое ниже «Сказание» выдвигает на первый план мотивы чисто религиозные: нежелание князя поклониться татарским святыням, выполнить их обряды. Примерно так же рассказывает об этом Плано Карпини, побывавший в ставке Батыя через восемь месяцев после гибели Михаила:
«Недавно случилось, что Михаила, который был одним из великих князей русских, когда он отправился на поклон к Бату, они заставили раньше пройти между двух огней; после они сказали ему, чтобы он поклонился на полдень Чингисхану. Тот ответил, что охотно поклонится Бату и даже его рабам, но не поклонится изображению мёртвого человека, так как христианам этого делать не подобает. И после неоднократного указания ему поклониться и его нежелания вышеупомянутый князь передал ему через сына Ярослава, что он будет убит, если не поклонится. Тот ответил, что лучше желает умереть, чем сделать то, чего не подобает. И Бату послал одного телохранителя, который бил его пяткой в живот против сердца так долго, пока тот не скончался. Тогда один из его воинов, который стоял тут же, ободрял его, говоря: «Будь твёрд, так как эта мука недолго для тебя продолжится и тотчас воспоследует вечное веселие». После этого ему отрезали голову ножом, и у вышеупомянутого воина голова была также отнята ножом».
Несомненно, что религиозная щепетильность и послужила поводом для убийства. Однако у Батыя были и другие, чисто политические причины желать гибели черниговскому князю: когда монголы вступили на киевскую землю, Михаил Черниговский объездил чуть ли не всю Восточную Европу в поисках помощи против татар. В своих скитаниях по Венгрии и Польше в 1240—1241 годах Михаил растерял всех своих людей, был ограблен и едва не погиб. Его, как и галицко-волынских князей, в 1241 году приютил в Северной Польше мазовецкий князь Болеслав.
Для Батыя этот деятельный и независимый князь, имевший связи с восточноевропейскими дворами, в 1243 году женивший сына на дочери венгерского короля Белы IV, был более чем подозрителен. Для 67-летнего черниговского князя, уставшего от скитаний и всеобщего страха перед татарами, поездка к Батыю, видимо, была единственным выходом.
Убийство Михаила Черниговского произвело сильное впечатление на Руси. О нём помнили на юге, где Михаил был всем хорошо известен, и на северо-востоке, где память о погибшем хранила его дочь, ростовская княгиня Марья. Она установила церковное поминание своего отца как святого, построила в Ростове церковь в его честь.
Княгиня Марья играла видную роль в жизни ростовской земли, правителями которой были её малолетние сыновья Борис и Глеб. Муж княгини Марьи, князь Василько Ростовский, как и её отец Михаил Черниговский, погиб от рук татар.
Есть основания полагать, что княгиня участвовала в ведении ростовской летописи, составляла проникнутые глубокой скорбью некрологи русским князьям, погибшим в Орде. По-видимому, по её заказу было составлено краткое сказание о Михаиле и его боярине Фёдоре, том самом воине, который, по свидетельству Карпини, поддерживал князя в его последние минуты, а потом и сам испил смертную чашу.
Впоследствии, уже после смерти Марьи в 1271 году, сказание было расширено и доработано. Оно читалось по церквам в день смерти Михаила — 20 сентября. Этот день стал отмечаться как день памяти Михаила Черниговского.
Культ Михаила Черниговского, погибшего, но не преклонившего колени перед «погаными», был одним из самых патриотичных, антитатарских в русском православии конца XIII—XIV века. О Михаиле Черниговском вспоминали и в эпоху Ивана Калиты. В 1333 году в Московском Кремле был выстроен каменный Архангельский собор. В те годы в опустевшей и разгромленной стране строительство каменных храмов почти прекратилось. Каждый новый храм был событием, привлекавшим всеобщее внимание. Великокняжеский храм во имя предводителя небесного воинства Михаила Архангела был освящён 20 сентября, в день памяти «воителя» земного — князя Михаила Черниговского.
В 1575 году Иван Грозный, любивший по примеру Калиты собирать в своей столице наиболее известные церковные реликвии со всех концов Руси, повелел перенести прах Михаила Черниговского из Чернигова в Москву, в Архангельский собор.
История гибели Михаила Черниговского для русских людей XIII—XIV веков звучала как призыв к стойкости и самопожертвованию — духовным основам грядущего возрождения Руси.
СКАЗАНИЕ ОБ УБИЕНИИ В ОРДЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО И ЕГО БОЯРИНА ФЕОДОРА[162]
В год 6746 (1238) по гневу божиему за умножение грехов наших было нашествие поганых татар на землю христианскую. Тогда одни затворились в городах своих, другие убежали в дальние земли, а иные спрятались в пещерах и расселинах земных. Михаил же бежал в Венгрию. Те, кто затворился в городах, каялись в своих грехах и со слезами молились богу, и были они погаными безжалостно перебиты; из тех же, кто скрывался в горах, и в пещерах, и в расселинах, и в лесах, мало кто уцелел. И этих через некоторое время татары расселили по городам, переписали их всех и начали с них брать дань.
Услышав об этом, те, кто разбежался по чужим землям, возвращались снова в земли свои, кто остался в живых, князья и иные люди. И начали татары насильно призывать их, говоря: «Не годится жить на земле хана и Батыя[163], не поклонившись им». И многие приезжали на поклон к хану и Батыю.
И вот какой обычай был у хана и Батыя: когда приедет кто-нибудь на поклон к ним, то не велели сразу приводить такого к себе, но приказано было волхвам, чтобы шёл он сначала через огонь[164] и поклонился кусту и идолам[165]. А из всех даров, которые привозили с собой для царя, часть брали волхвы и бросали сначала в огонь, а уже потом к царю допускали и самих пришедших и дары. Многие же князья с боярами своими проходили через огонь и поклонялись солнцу, и кусту, и идолам ради славы мира этого, и просил каждый себе владений. И им невозбранно давались те владения, какие они хотели получить, — пусть прельстятся славой мира сего.
И вот, в то время, когда блаженный князь Михаил находился в Чернигове, бог, видя, как многие обольщаются славою мира сего, послал на него благодать и дар святого духа, и вложил ему в сердце мысль ехать к царю и обличить лживость его, совращающую христиан. Воспылав благодатью божиею, блаженный князь Михаил решил ехать к Батыю. И, прибыв к отцу своему духовному, поведал он ему, так говоря: «Хочу ехать к Батыю». И отвечал ему духовный отец: «Многие поехавшие исполнили волю поганого, соблазнились славою мира сего, — прошли через огонь, и поклонились кусту и идолам, и погубили души свои. Но ты, Михаил, если хочешь ехать, не поступай так: не иди через огонь, не поклоняйся ни кусту, ни идолам их, ни пищи, ни пития их не бери в уста свои. Твёрдо стой за веру христианскую, так как не подобает поклоняться христианам ничему сотворённому, а только господу богу Иисусу Христу». Михаил же ответил ему: «По молитве твоей, отче, как бог соизволит, так и будет. Я бы хотел кровь свою пролить за Христа и за веру христианскую». Так же и Феодор сказал. И промолвил отец духовный: «Вы будете в нынешнем веке новосвятыми мучениками на укрепление духа иным, если поступите так».
Михаил же и Феодор пообещали ему так поступить и благословились у духовного отца своего. Тогда он дал им с собою причастие и, благословив их, отпустил, сказав: «Бог да укрепит вас и да пошлёт вам свою помощь, — ведь за него вы хотите пострадать». После этого Михаил отправился в дом свой и взял из имения своего всё необходимое в дорогу.
Проехав многие земли, прибыл Михаил к Батыю. Поведали Батыю: «Великий князь русский Михаил приехал поклониться тебе». Царь Батый велел позвать волхвов своих. И когда волхвы пришли к нему, то сказал им царь: «Всё, что нужно по вашему обычаю, сотворите и с князем Михаилом, а потом приведите его ко мне». Тогда они, придя к Михаилу, сказали ему: «Батый зовёт тебя». Он же, взяв Феодора, пошёл вместе с ним. И вот дошли они до того места, где были сложены горящие костры по обеим сторонам пути. И все поганые проходили через огонь и кланялись солнцу и идолам. Волхвы также хотели провести Михаила и Феодора через огонь. Михаил же и Феодор сказали им: «Не подобает христианам проходить через огонь и поклоняться ему, как вы поклоняетесь. Такова вера христианская: не велит поклоняться ничему сотворённому, а велит поклоняться только отцу и сыну и святому духу». Михаил же сказал Феодору: «Нельзя нам поклоняться тому, чему они поклоняются».
Тогда волхвы, оставив Михаила и Феодора на том месте, куда привели их, пошли и сказали царю: «Михаил повеления твоего, царь, не слушает: через огонь не идёт и богам твоим не кланяется, говорит, что не подобает христианам проходить через огонь и поклоняться ничему сотворённому, солнцу и идолам, а следует поклоняться только создавшему всё это — отцу и сыну и святому духу». Царь сильно разъярился и послал одного из вельмож своих, по имени Елдега, и сказал ему: «Так передай Михаилу: «Как посмел повелением моим пренебречь — почему богам моим не поклонился? Теперь одно из двух выбирай: или богам моим поклонишься и тогда останешься жив и получишь княжение, или же, если не поклонишься богам моим, то злой смертью умрёшь».
Елдега, приехав к Михаилу, сказал ему: «Так говорит царь: «Как посмел повелением моим пренебречь — почему богам моим не поклонился? Теперь одно из двух выбирай: или богам моим поклонишься и тогда останешься жив и получишь княжение, или же, если не поклонишься богам моим, то злой смертью умрёшь». Тогда ответил Михаил: «Тебе, царь, кланяюсь, потому что бог поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, — не поклонюсь». И сказал ему Елдега: «Михаил, знай — ты мёртв!» Михаил же ответил ему: «Я того и хочу, чтобы мне за Христа моего пострадать и за православную веру пролить кровь свою».
Тогда стал говорить ему, горько плача, внук его Борис, князь ростовский[166]: «Господин и отец, поклонись!» Так же и бояре стали говорить: «Все за тебя и со всеми людьми своими примем епитимью[167]». И ответил им Михаил: «Не хочу только по имени христианином называться, а поступать как поганый». И когда говорил с ними Михаил, то Феодор думал про себя: «Ведь может поддаться Михаил мольбам их, вспомнив любовь жены своей и ласки детей своих, и послушается их». Тогда Феодор, вспомнив о наставлении отца своего духовного, сказал: «Михайло, помнишь ли поучение духовного отца нашего, который учил нас от святого Евангелия? Сказал господь: «Тот, кто хочет душу свою спасти, тот погубит её, а кто погубит душу свою ради меня, тот спасёт её». И ещё сказал господь: «Какая польза человеку, если он приобретёт царство мира всего, а душу свою погубит? И какой выкуп даст человек за душу свою? Кто будет чтить меня и слова мои в роде сём и признает меня пред людьми, того признаю и я пред отцом моим небесным. От того же, кто отречётся от меня пред людьми, отрекусь и я пред отцом моим небесным».
И когда говорил так Феодор Михаилу, то Борис и бояре начали ещё настойчивее уговаривать и просить его, чтобы послушался их. Михаил же ответил им: «Не внемлю я вам и душу свою не погублю». После этого Михаил сорвал с себя княжеский плащ свой и швырнул его в ноги к ним, говоря: «Возьмите славу света этого, к которой вы стремитесь!» Когда услыхал Елдега, что не уговорили Михаила, то поехал к царю и поведал ему речи Михаила.
На месте же том было много христиан и поганых, и все слыхали, что ответил Михаил царю. После этого Михаил и Феодор стали отпевать себя и, свершив отпевание, приняли причастие, которое дал им с собою духовный отец их. И вот говорят окружающие: «Михаил, вот уже убийцы едут от царя, чтобы убить вас, поклонитесь и живы останетесь!» Михаил же и Феодор, как одними устами, ответили: «Не поклонимся и вас, думающих только о славе света этого, не послушаем». И начали они петь: «Мученики твои, господи, не отреклись от тебя и тебя ради, Христос, страдают», и остальную часть псалма пропели.
И тут приехали убийцы, соскочили с коней и, схватив Михаила и растянув ему руки, начали бить его кулаками по сердцу. После этого повергли ниц на землю и стали избивать его ногами. Так продолжалось долго. И вот некто, бывший прежде христианином, а потом отвергшийся христианской веры и ставший поганым законопреступником, по имени Доман, отрезал голову святому мученику Михаилу и отшвырнул её прочь. После этого сказали Феодору: «Если ты поклонишься богам нашим, то получишь всё княжество князя своего». И ответил Феодор: «Княжения не хочу и богам вашим не поклонюсь, а хочу пострадать за Христа, как и князь мой!» Тогда начали мучить Феодора, как прежде Михаила, после чего отрезали честную его голову.
И так, восхваляя бога, пострадали и предали святые свои души в руки божии оба новосвятых мученика. Святые же тела их повержены были псам на съедение. И много дней лежали, однако божиею благодатью оставались невредимыми.
Человеколюбивый же господь, милосердый бог наш, прославляя своих святых угодников, пострадавших за него и за православную веру, явил столп огненный от земли до небес над телами их, сияющий пресветлыми лучами на утверждение христиан, и на устрашение поганых, и на обличение тех, кто оставил бога и поклоняется сотворённому человеком. Святые же и честные тела их некими богобоязливыми христианами сохранены были.
Случилось же убиение их в год 6753 (1245)[168], месяца сентября в двадцатый день. Их же молитвами достойны все будем обрести милость и отпущение грехов от господа Иисуса Христа в этой жизни и в будущей, прославляя вкупе отца и сына и святого духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
* * *
Занятые войнами в Малой Азии, спорами о престолонаследии после смерти великого хана Угэдэя, выяснением отношений между Каракорумом и провинциями, монгольские правители лишь к середине 40-х годов XIII века окончательно установили политическую зависимость «русского улуса».
Сбор дани осуществлялся, по-видимому, тогда ещё нерегулярно. Эта дань — многие телеги всякого «добра», которые везли к Батыю русские князья во время своих первых поездок в Орду в 1243—1246 годах. Да и вряд ли возможно было организовать регулярный сбор дани в разорённой стране, жители которой или попрятались, или были уведены в плен.
В 1246 году Батый предпринял попытку наладить твёрдый сбор дани на Руси. Об этом пишет в своей «Истории» Плано Карпини: «В бытность нашу в Руссии был прислан туда один Саррацин, как говорили, из партии Куйюк-хана и Бату, и этот наместник у всякого человека, имевшего трёх сыновей, брал одного, как нам говорили впоследствии; вместе с тем он уводил всех мужчин, не имевших жён, и точно так же поступал с женщинами, не имевшими законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые снискивали себе пропитание нищенством. Остальных же согласно своему обычаю пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платили такую дань, именно чтобы он давал одну шкуру белого медведя, одного чёрного бобра, одного чёрного соболя, одну чёрную шкуру некоего животного, имеющего пристанище в той земле, название которого мы не умеем передать по-латыни, и по-немецки оно называется ильтис, поляки же и русские называют этого зверя дохорь, и одну чёрную лисью шкуру. И всякий, кто не даст этого, должен быть отведён к Татарам и обращён в их раба».
Из этого свидетельства папского посла очевидно, что первый свой «ордынский выход» Русь заплатила «живым товаром» — людьми. Ясно и то, что ордынцы быстро оценили русскую пушнину, которая, по-видимому, уже в XIII веке стала важнейшей частью русской дани.
В 40-е годы XIII века отношения между Русью и татарами ещё только начали определяться. Да и сама монгольская империя ещё не застыла в чётких политико-административных формах. Многие русские князья, повинуясь татарам, в глубине души питали надежду на скорое освобождение. Сыновья и внуки Всеволода Большое Гнездо, который мог «Волгу вёслами расплескать», долго не могли смириться со своей зависимостью от «поганых». Они пытались найти сильных союзников в Русской земле и за её пределами.
Однако среди русских князей не было единодушия. Наиболее осторожные и дальновидные из них понимали пагубность немедленного выступления против Орды. Ход событий подтвердил их правоту.
Вот как характеризует политическую обстановку на Руси в середине XIII века советский историк В. В. Каргалов:
Попытки освободиться от власти ордынского хана начались вскоре после нашествия Батыя. Сохранили свои военные силы многие русские города, не подвергавшиеся «Батыеву погрому»: Новгород, Псков, Смоленск, Витебск, Полоцк. В Южной Руси продолжал сопротивление завоевателям князь Даниил Романович Галицко-Волынский, который сумел нанести ордынцам несколько чувствительных ударов...
Довольно независимо вёл себя по отношению к Орде сын Ярослава великий князь Андрей. За время его великого княжения (1249—1252) летописцы не упоминали ни о поездках русских князей в Орду, ни о посылке «даров», а «дани и выходы», как сообщает В. Н. Татищев, платились тогда «не сполна». Великий князь Андрей Ярославич сделал попытку открыто выступить против власти завоевателей. Для этого он добивался союза с другим русским князем, продолжавшим сопротивление, — Даниилом Галицко-Волынским.
Лаврентьевская летопись отмечает, что великий князь Андрей предпочёл «с своими бояры бегати, нежели царям (ханам) служити», а Никоновская летопись приводит гордые слова великого князя о том, что лучше бежать в чужие земли, чем служить ордынцам...
...Следует учитывать и политические затруднения, возникшие в самой Золотой Орде. Хан Батый имел в своём распоряжении теперь не общемонгольское войско, как во время нашествия 1237—1240 годов, а только военные силы улуса Джучи. К тому же его внимание было отвлечено борьбой за великоханский престол, которая разгорелась между отдельными ханами улусов. Два улуса — Джучи и Тулуя — объединились для борьбы с улусами Угэдэя и Чагатая и только в начале 50-х годов добились решительного перевеса над своими соперниками. Военные силы Батыя принимали участие в завоевании Ирана, в войне на Северном Кавказе, где завоевателям продолжали оказывать упорное сопротивление аланы. Всё это создавало большие трудности для организации нового нашествия на Русь и, видимо, учитывалось великим князем Андреем Ярославичем...
Однако историческая возможность далеко не всегда становится исторической реальностью. В развитие событий властно вмешиваются факторы, которых не могли предвидеть современники. Антиордынские планы великого князя Андрея Ярославича столкнулись с политической линией на мирные отношения с завоевателями, которую последовательно проводил его брат Александр Ярославич Невский и поддерживала значительная часть других русских князей...
5
В 50-е годы, при великом хане Мункэ, монголы решили упорядочить систему сбора дани на Руси. В 1253 году хан поручил Бицик-Берке произвести «исчисление народу» в русских землях. В 1257 году Мункэ назначил русским «даругой», то есть верховным сборщиком податей, своего родственника Китата. Тот начал свою деятельность с проведения поголовной переписи населения. Организация переписи возлагалась на русских князей и ордынских представителей.
Первые же известия о переписи вызвали взрыв возмущения новгородцев. Был убит посадник Михалко, ставленник великого князя. Восставшим, видимо, сочувствовал и новгородский наместник князь Василий, сын Александра Невского; при приближении великокняжеских полков он бежал в Псков. В этой обстановке послы ордынские могли приехать в Новгород только в сопровождении самого великого князя и его дружины. Это было похоже на настоящий военный поход, в котором приняли участие многие русские князья.
Начались расправы и казни новгородских «мятежников», но сломить сопротивление непокорного города так и не удалось. По словам новгородского летописца, «почаша просити послы десятины, тамгы, и не яшася новгородьци по то, даша дары цесареви и отпустиша я с миром».
ТАТАРСКАЯ ПЕРЕПИСЬ В НОВГОРОДЕ[169]
В лето 1257 пришла в Новгород весть из Руси злая[170], что хотят татары тамги[171] и десятины от Новгорода. И волновались люди всё лето. А зимой новгородцы убили Михалка-посадника[172]. Если бы кто сделал другому добро, то добро бы и было, а кто копает под другим яму, сам в неё ввалится.
В ту же зиму приехали послы татарские с Александром, и начали послы просить десятины и тамги. И не согласились на то новгородцы, но дали дары для царя Батыя[173] и отпустили послов с миром.
В лето 1259 зимою приехал с Низа Михайло Пинещинич со лживым посольством, говоря так:
— Соглашайтесь на число, не то полки татарские уже на Низовской земле.
И согласились новгородцы на число. В ту же зиму приехали окаянные татары сыроядцы[174] Беркай и Касачик с жёнами своими и иных много. И был мятеж велик в Новгороде. И по волости много зла учинили, когда брали тамгу окаянным татарам. И стали окаянные бояться смерти и сказали Александру:
— Дай нам сторожей, чтобы не перебили нас.
И повелел князь сыну посадникову и всем детям боярским[175] стеречь их по ночам. И говорили татары:
— Дайте нам число, или мы уйдём прочь.
Чернь не хотела дать числа, но сказала:
— Умрём честно за святую Софию, за дома ангельские[176].
Тогда раздвоились люди: кто добрый, тот стоял за святую Софию и за правую веру. И пошли вятшие, против меньших[177] на вече и велели им согласиться на число. Окаянные татары придумали злое дело, как ударить на город — одним на ту сторону, а другим — озером на эту. Но возбранила им, видимо, сила Христова, и не посмели.
Испугавшись, новгородцы стали переправляться на одну сторону к святой Софии, говоря:
— Положим головы свои у святой Софии.
А наутро съехал князь с Городища[178], и окаянные татары с ним. И по совету злых согласились новгородцы на число, ибо делали бояре себе легко, а меньшим зло. И начали ездить окаянные татары по улицам и переписывать дома христианские. Взяв число, уехали окаянные, а князь Александр поехал после, посадив сына своего Дмитрия на столе».
ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ТАТАР НА РОСТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ В 1262 ГОДУ
В лето 1262 избавил бог людей Ростовской земли от лютого томления басурманского[179] и вложил ярость в сердца христианам, не могли дольше терпеть насилия поганых. И созвонили вече, и выгнали басурман из Ростова, из Владимира, из Суздаля и из Ярославля. Ибо те басурмане откупали дань у татар и оттого творили людям великую пагубу. Люди христианские попадали в рабство в резах[180]. И басурмане уводили многие души христианские в разные земли[181].
В то же лето убили Зосиму, преступника. То был монах образом, но сосуд сатаны, пьяница и сквернослов. Он отрёкся от Христа и стал басурманом, вступив в прелесть ложного пророка Магомета. В то лето приехал на Русь злой басурманин Титян от царя татарского именем Кутлубей. По его наущению окаянный Зосима творил христианам великую досаду, ругался над крестом и святыми церквами.
Когда же люди по городам распалились гневом на своих врагов и восстали на басурман, изгнали их из города, а других убили, тогда и Зосиму, этого скверного беззаконника, законопреступника и еретика, убили в городе Ярославле. Тело его стало пищей псам и воронам, и ноги его, быстрые на всё злое, псы влачили по городу, всем людям на удивление.
* * *
XIII век был веком громадного напряжения сил всего русского народа. Враги надвинулись со всех сторон. В то время как среднерусские княжества задыхались под игом Орды, на северо-западе на новгородские и псковские земли постоянно нападали немцы, шведы, датчане и литовцы. Эта борьба, длившаяся целое столетие, достигла наибольшего напряжения в первые годы после Батыева нашествия. Завоевателям казалось, что разрозненные, истекающие кровью русские земли станут лёгкой добычей.
Однако враги плохо знали русских. В минуту крайней опасности они грудью встают за свою землю.
15 июля 1240 года на Неве войско двадцатилетнего князя Александра одержало блестящую победу над шведами. За эту победу Александр получил прозвище Невский. А 5 апреля 1242 года он наголову разгромил на льду Чудского озера ливонских рыцарей.
По преданию, отпуская по домам пленников, Александр Невский сказал:
«Идите и скажите всем, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля».
С.М. Соловьёв ИЗ «ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН»[182]
В то время как на востоке русские князья принуждены были ездить с поклоном к ханам степных варваров, на западе шла борьба с сильными врагами, которые начали грозить Руси ещё прежде татар. Тотчас по занятии старшего стола, в 1239 году, Ярослав должен был выступить против Литвы, которая воевала уже в окрестностях Смоленска; великий князь победил литовцев, взял в плен их князя, потом урядил смольнян, посадивши у них князем Всеволода, сына Мстислава Романовича, и возвратился домой с большою добычею и честию. Но у Литвы оставалось много князей и много силы; с двух других сторон нападают на Северо-Западную Русь враги не менее опасные: шведы и ливонские рыцари. Владимирским князьям нельзя было оборонять её постоянно от всех этих врагов: у них было много дела у себя, на востоке, вследствие утверждения нового порядка вещей, беспрестанных усобиц для усиления одного княжества на счёт всех других, и татарских отношений. Тогда Новгород Великий должен был взять на свою долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами Псков, должен был вести борьбу с двумя самыми опасными врагами — Литвою и немцами, при внутреннем неустройстве, при частом отсутствии князя, при ссорах с старшим братом своим Новгородом Великим.
Самым сильным ударам с трёх сторон Новгород и Псков подверглись с 1240 года; они выдержали их и этим преимущественно обязаны были сыну великого князя Ярослава Александру, который стал княжить у них один поело отца с 1236 года. В Швеции борьба между готским и шведским владетельными домами, кончившаяся в 1222 году, усилила власть вельмож, между которыми первое место занимал род Фолькунгов, владевший наследственно достоинствами ярла. Могущественный представитель этой фамилии, Биргер, побуждаемый папскими посланиями, предпринял крестовый поход против Руси. Как скоро пришла в Новгород весть, что шведы явились в устье Ижоры и хотят идти на Ладогу, то Александр не стал дожидаться ни полков отцовских, ни пока соберутся все силы Новгородской волости, с небольшою дружиною выступил против неприятеля и 15 июля нанёс ему поражение, за которое получил славное прозвание Невского.
Сам Александр рассказывал после о подвиге шестерых мужей из дружины своей: один из них, Таврило Олексич, прорвался вслед за бегущим Биргером до самого корабля его, был низвергнут с конём в воду, но вышел невредим и опять поехал биться с воеводою шведским, который называется в летописи Спиридоном; этот воевода остался на месте, а по некоторым известиям та же участь постигла и епископа. Другой новгородец, Сбыслав Якунович, удивил также всех своею силою и храбростию, не раз врываясь с одним топором в толпы неприятельские. Якуновичу в храбрости не уступал княжеский ловчий Яков Полочанин, с мечом в руках ворвавшийся в шведские ряды. Четвёртый новгородец, Миша, пешком с отрядом своим ударил на неприятельские корабли и погубил три из них; пятый, отрок княжеский Савва, пробился до большого златоверхого шатра Биргерова и подсек у него столп, шатёр повалился, и падение его сильно обрадовало новгородцев в битве; шестой, слуга княжеский Ратмир, бился пеш, был окружён со всех сторон врагами и пал от множества ран; всех убитых со стороны новгородской было не более 20 человек. Зная, какой характер носила эта борьба, с каким намерением приходили шведы, мы поймём то религиозное значение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси; это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра: здесь шведы не иначе называются как римлянами — прямое указание на религиозное значение, во имя которого предпринята была война. Победа была одержана непосредственною помощию свыше: был старшина в земле Ижорской, именем Пелгусий, которому было поручено сторожить неприятеля на море; Пелгусий был крещён и носил христианское имя Филиппа, хотя род его находился ещё в язычестве; Пелгусий жил богоугодно, держал строгий пост по средам и пяткам и сподобился видения: однажды пробыл он всю ночь без сна и при восходе солнечном вдруг слышит сильный шум на море и видит, что гребёт к берегу насад, а посреди насада стоят св. мученики Борис и Глеб в пурпурных одеждах, гребцы сидят как будто мглою одеты, и слышит он, что Борис говорит Глебу: «Брат Глеб! вели грести, поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». Пелгусий рассказал потом видение Александру, и тот запретил ему больше никому не рассказывать об нём.
Новгородцы любили видеть Александра в челе дружин своих; но недолго могли ужиться с ним как с правителем; ибо Александр шёл по следам отцовским и дедовским: в самый год Невской победы он выехал из Новгорода, рассорившись с жителями. А между тем немцы опять с князем Ярославом Владимировичем взяли Изборск; псковичи вышли к ним навстречу и были разбиты, потеряли воеводу Гаврилу Гориславича, а немцы по следам бегущих подступили ко Пскову, пожгли посады, окрестные сёла и целую неделю стояли под городом. Псковичи принуждены были исполнить все их требования и дали детей своих в заложники: во Пскове начал владеть вместе с немцами какой-то Твердило Иванович, который и подвёл врагов, как утверждает летописец; мы уже видели во вражде сторон причину таких измен. Приверженцы противной стороны бежали в Новгород, который остался без князя, а между тем немцы не довольствовались Псковом: вместе с чудью напали они на Вотскую пятину, завоевали её, наложили дань на жителей и, намереваясь стать твёрдою ногою в Новгородской волости, построили крепость в Копорьи погосте; по берегам Луги побрали всех лошадей и скот; по сёлам нельзя было землю пахать, да и нечем; по дорогам в тридцати вёрстах от Новгорода неприятель бил купцов. Тогда новгородцы послали в низовую землю к Ярославу за князем, и тот дал им другого сына, Андрея; но надобен был Александр, а не Андрей: новгородцы подумали и отправили опять владыку с боярами за Александром; Ярослав дал им его опять, на каких условиях, неизвестно, но, вероятно, не на всей воле новгородской: мы увидим после самовластие Александра в Новгороде; жалобы граждан на это самовластие остались в договорах их с братом Александровым.
Приехавши в Новгород в 1241 году, Александр немедленно пошёл на немцев к Копорью, взял крепость, гарнизон немецкий привёл в Новгород, часть его отпустил на волю, только изменников вожан и чудь перевешал. Но нельзя было так скоро освободить Псков; только в следующем 1242 году, съездивши в Орду, Александр выступил ко Пскову и взял его, причём погибло семьдесят рыцарей со множеством простых ратников, шесть рыцарей взяты в плен и замучены, как говорит немецкий летописец. После этого Александр вошёл в Чудскую землю, во владения Ордена; войско последнего встретило один из русских отрядов и разбило его наголову; когда беглецы принесли Александру весть об этом поражении, то он отступил к Псковскому озеру и стал дожидаться неприятеля на льду его, который был ещё крепок 5 апреля.
На солнечном восходе началась знаменитая битва, слывущая в наших летописях под именем Ледового побоища. Немцы и чудь пробились свиньёю (острою колонною) сквозь русские полки и погнали уже бегущих, как Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу; была злая сеча, говорит летописец, льда на озере стало не видно, всё покрылось кровию; русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии семи вёрст, убили у них 500 человек, а чуди бесчисленное множество, взяли в плен 50 рыцарей. «Немцы, — говорит летописец, — хвалились: возьмём князя Александра руками, а теперь их самих бог предал ему в руки». Когда Александр возвращался во Псков после победы, то пленных рыцарей вели пешком подле коней их; весь Псков вышел навстречу к своему избавителю, игумны и священники со крестами. «О, псковичи! — говорит автор повести о великом князе Александре. — Если забудете это и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, то похожи будете на жидов, которых господь напитал в пустыне, а они забыли все благодеяния его; если кто из самых дальних Александровых потомков приедет в печали жить к вам во Псков и не примете его, не почтите, то назовётесь вторые жиды». После этого славного похода Александр должен был ехать во Владимир прощаться с отцом, отправлявшимся в Орду; в его отсутствие немцы прислали с поклоном в Новгород, послы их говорили: «Что зашли мы мечом, Воть, Лугу, Псков, Летголу, от того от всего отступаемся; сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы наших пустите»; отпустили также заложников псковских и помирились.
Но оставалась ещё Литва: в 1243 году толпы литовцев явились около Торжка и Бежецка; в Торжке в это время сидел возвратившийся, вероятно, после мира, из Ливонии князь Ярослав Владимирович; он погнался было с новоторжцами за литвою, но потерпел поражение, потерял всех лошадей, потом новоторжцы и Ярослав погнались опять вместе с тверичами и дмитровцами; на этот раз литовцы были разбиты под Торопцом, и князья их вбежали в город. Но утром на другой день приспел Александр с новгородцами, взял Торопец, отнял у литовцев весь плен и перебил князей их, больше осьми человек. Новгородские полки возвратились от Торопца; но Александр с одним двором своим погнался опять за литовцами, разбил их снова у озера Жизца, не оставил в живых ни одного человека, побил и остаток князей. После этого он отправился в Витебск, откуда, взявши сына, возвращался назад, как вдруг наткнулся опять на толпу литовцев подле У свята: Александр ударил на неприятелей и снова разбил их.
Так были отбиты со славою все три врага Северо-Западной Руси.
* * *
Занимаясь по смерти отца преимущественно отношениями ордынскими, Александр должен был следить и за обычною борьбою на западе, в которой прежде принимал такое славное участие. Мы видели, что Михаил московский недолго пользовался старшим столом, отнятым у дяди, и пал в битве с литвою; но другие Ярославичи отомстили за его смерть, поразивши литву из Зубцова (1249 году); около этого же времени псковичи потерпели поражение от литвы на Кудепи; в 1253 году литва явилась в области Новгородской; но князь Василий с новгородцами нагнали её у Торопца, разбили, отняли полон. В 1258 году пришла литва с полочанами к Смоленску и взяла город Войщину на щит; после этого литовцы явились у Торжка, жители которого вышли к ним навстречу, но потерпели поражение, и город их много пострадал; под 1262 годом встречаем известие о мире новгородцев с литвою. Шведы и датчане с финнами пришли в 1256 году а стали чинить город на Нарове; новгородцы, сидевшие в это время без князя, послали в Суздальскую землю к Александру за полками, разослали и по своей волости собирать войско; неприятель испугался этих приготовлений и ушёл за море. На зиму приехал в Новгород князь Александр и отправился в поход — куда, никто не знал; думали, что князь идёт на чудь, но от Копорья пошёл на ямь; путь был трудный, войско не видело ни дня ни ночи от метели; несмотря на то, русские вошли в неприятельскую землю и опустошили её.
После мира 1242 года немцы десять лет не поднимались на Русь; только в 1253 году, ободрённые удачными войнами с литвою, они нарушили договор, пришли под Псков и сожгли посад, но самих их много псковичи били, говорит летописец. Видно, впрочем, что осада крепости тянулась до тех пор, пока пришёл полк новгородский на выручку; тогда немцы испугались, сняли осаду и ушли. В Новгороде в это время было покойно, и потому решились не довольствоваться освобождением Пскова, а идти пустошить Ливонию: пошли за Нарову и положили пусту немецкую волость; корелы также ей много зла наделали. Псковичи, с своей стороны, не хотели оставаться в долгу, пошли в Ливонию и победили немецкий полк, вышедший к ним навстречу. Тогда немцы послали во Псков и в Новгород просить мира на всей воле новгородской и псковской и помирились. В 1262 году собрались князья идти к старой отчине своей, к Юрьеву ливонскому. Этот поход замечателен тем, что здесь в первый раз видим русских князей в союзе с литовскими для наступательного движения против немцев. Русские князья — брат Невского Ярослав и сын Дмитрий с Миндовгом литовским, Тройнатом жмудьским и Тевтивилом полоцким уговорились ударить вместе на Орден. Миндовг явился перед Венденом, но тщетно дожидался русских и возвратился назад, удовольствовавшись одним опустошением страны. Когда ушла литва, явились русские полки и осадили Юрьев; немцы сильно укрепили его. «Был город Юрьев твёрд, — говорит летописец, — в три стены, и множество людей в нём всяких, и оброну себе пристроили на городе крепкую». Посад был взят приступом, сожжён; русские набрали много полону и товара всякого, но крепости взять не могли и ушли назад. Немецкий летописец прибавляет, что оставили Юрьев, слыша о приближении магистра Вернера фон Брейтгаузена, и что магистр по их следам вторгнулся в русские владения, опустошил их, но болезнь принудила его возвратиться... В 1275 году происходила вторичная перепись народа на Руси и в Новгороде. На западе по-прежнему шла борьба с литвою и немцами. В Литве в это время произошли усобицы, вследствие которых прибежал во Псков один из литовских князей, именем Довмонт, с дружиною и целым родом, принял крещение под именем Тимофея и был посажен псковитянами на столе св. Всеволода: здесь в первый раз видим то явление, что русский город призывает к себе в князья литвина вместо Рюриковича, явление любопытное, потому что оно объясняет нам тогдашние понятия и отношения, объясняет древнее призвание самого Рюрика, объясняет ту лёгкость, с какою и другие западные русские города в это время и после подчинялись династии князей литовских. Псковичи не ошиблись в выборе: Довмонт своими доблестями, своею ревностию по новой вере и новом отечестве напомнил Руси лучших князей её из рода Рюрикова — Мстислава, Александра Невского. Через несколько дней после того, как псковичи провозгласили его князем, Довмонт, взявши три девяноста дружины, отправился на Литовскую землю и повоевал своё прежнее отечество, пленил родную тётку свою, жену князя Гердена, и с большим полоном возвращался во Псков. Переправившись через Двину и отъехав вёрст пять от берега, он стал шатрами на бору, расставил сторожей по реке, отпустил два девяноста ратных с полоном во Псков, а сам остался с одним девяностом, ожидая за собою погони. Гердена и других князей не было дома, когда Довмонт пустошил их землю; возвратившись, они погнались с 700 человек вслед за ним, грозясь схватить его руками и предать лютой смерти, а псковичей иссечь мечами. Стража, расставленная Довмонтом на берегу Двины, прибежала и объявила ему, что литва уже переправилась через реку. Тогда Довмонт сказал своей дружине: «Братья мужи псковичи! кто стар, тот отец, а кто молод, тот брат! слышал я о мужестве вашем во всех сторонах; теперь перед нами, братья, живот и смерть: братья мужи псковичи! потянем за св. Троицу и за своё отечество». Поехал князь Довмонт с псковичами на литву и одним девяностом семьсот победил. В следующем 1267 году новгородцы с Довмонтом и псковичами ходили на Литву и много повоевали; в 1275 году русские князья ходили на Литву вместе с татарами и возвратились с большою добычею. В 1268 году новгородцы собрались было опять на Литву, но на дороге раздумали и пошли за Нарову к Раковору (Везенберг), много земли попустошили, но города не взяли и, потерявши 7 человек, возвратились домой; но скоро потом решились предпринять поход поважнее и, подумавши с посадником своим Михаилом, послали за князем Дмитрием Александровичем, сыном Невского, звать его из Переяславля с полками; послали и к великому князю Ярославу, и тот прислал сыновей своих с войском. Тогда новгородцы сыскали мастеров, умеющих делать стенобитные орудия, и начали чинить пороки на владычном дворе. Немцы-рижане, феллинцы, юрьевцы, услыхавши о таких сборах, отправили в Новгород послов, которые объявили гражданам: «Нам с вами мир, переведывайтесь с датчанами-колыванцами (ревельцами) и раковорцами (везенбергцами), а мы к ним не пристаём, на чём и крест целуем» — и точно поцеловали крест; новгородцы, однако, этим не удовольствовались, послали в Ливонию привести к кресту всех пискупов и божиих дворян (рыцарей), и те все присягнули, что не будут помогать датчанам Обезопасив себя таким образом со стороны немцев, новгородцы выступили в поход под предводительством семи князей, в числе которых был и Довмонт с псковичами. В январе месяце вошли они в Немецкую землю и начали опустошать её по обычаю; в одном месте русские нашли огромную непроходимую пещеру, куда спряталось множество чуди; три дня стояли полки перед пещерою и никак не могли добраться до чуди; наконец один из мастеров, который был при машинах, догадался пустить в неё воду; этим средством чудь принуждена была покинуть своё убежище и была перебита. От пещеры русские пошли дальше к Раковору, но когда достигли реки Кеголы, 18 февраля, то вдруг увидали перед собою полки немецкие, которые стояли как лес дремучий, потому что собралась вся земля немецкая, обманувши новгородцев ложною клятвою. Русские, однако, не испугались, пошли к немцам за реку и начали ставить полки: псковичи стали по правую руку; князь Дмитрий Александрович с переяславцами и с сыном великого князя Святославом стали по правую же руку повыше; по левую стал другой сын великого князя, Михаил с тверичами, а новгородцы стали в лице железному полку против великой свиньи и в таком порядке схватились с немцами. Было побоище страшное, говорит летописец, какого не видали ни отцы, ни деды; русские сломили немцев и гнали их семь вёрст вплоть до города Раковора; но дорого стоила им эта победа: посадник с тринадцатью знаменитейшими гражданами полегли на месте, много пало и других добрых бояр, а чёрных людей без числа: иные пропали без вести, и в том числе тысяцкий Кондрат. Сколько пало неприятелей, видно из того, что конница русская не могла пробиться по их трупам; но у них оставались ещё свежие полки, которые во время бегства остальных успели врезаться свиньёю в обоз новгородский; князь Дмитрий хотел немедленно напасть на них, но другие князья его удержали: «Время уже к ночи, — говорили они, — в темноте смешаемся и будем бить своих». Таким образом, оба войска остановились друг против друга, ожидая рассвета, чтоб начать снова битву; но когда рассвело, то немецких полков уже не было более видно; они бежали в ночь. Новгородцы стояли три дня на костях (на поле битвы), на четвёртый тронулись, везя с собою избиенных братий, честно отдавших живот свой, по выражению летописца. Но Довмонт с псковичами хотели воспользоваться победою, опустошили Ливонию до самого моря и, возвратившись, наполнили землю свою множеством полона. Латины (немцы), собравши остаток сил, спешили отомстить псковичам: пришли тайно на границу, сожгли несколько псковских сёл и ушли назад, не имея возможности предпринять что-нибудь важное; их было только 800 человек: но Довмонт погнался за ними с 60 человек дружины — и разбил. В следующем, 1269 году магистр пришёл под Псков с силою тяжкою: 10 дней стояли немцы под городом и с уроном принуждены были отступить; между тем явились новгородцы на помощь и погнались за неприятелем, который успел, однако, уйти за реку и оттуда заключить мир на всей воле новгородской. Оставалось покончить с датчанами ревельскими, и в том же году сам великий князь Ярослав послал сына Святослава в Низовую землю собирать полки; собрались все князья, и бесчисленное множество войска пришло в Новгород; был тут и баскак великий владимирский, именем Амраган, и все вместе хотели выступить на Колывань. Датчане испугались и прислали просить мира: «Кланяемся на всей вашей воле, Наровы всей отступаемся, только крови не проливайте». Новгородцы подумали и заключили мир на этих условиях...
...На западе продолжалась прежняя борьба новгородцев со шведами, новгородцев и псковичей с немцами и Литвою. В 1283 году шведы вошли Невою в озеро Ладожское, перебили новгородцев — обонежских купцов, ладожане вышли к ним навстречу и бились, но счастливо ли, неизвестно; в следующем году такое же новое покушение шведов, хотевших взять дань на кореле; но на этот раз новгородцы и ладожане встретили врагов в устье Невы, побили их и заставили бежать. В 1292 году пришли шведы в числе 800 человек: 400 пошли на корелу, 400 на ижору; но ижора перебила своих, а корела — своих. Это были покушения неважные, но в 1293 году шведы обнаружили намерение стать твёрдою ногою в новгородских владениях и построили город на Корельской земле; небольшое новгородское войско со смоленским князем Романом Глебовичем подошло к городу, но должно было отступить от него по причине оттепели и недостатка в конском корме; в 1295 году шведы построили другой город на Корельской же земле, но этот город новгородцы раскопали, истребивши гарнизон шведский. Шведы, однако, не отстали от своего намерения и в 1300 году вошли в Неву с большою силою, привели мастеров из своей земли и из Италии и поставили город при устье Охты, утвердили его твёрдостию несказанною, по словам летописца, поставили в нём пороки и назвали в похвальбу Венцом земли (Ландскрона); маршал Торкель Кнутсон, правивший Швециею в малолетство короля Биргера, сам присутствовал при постройке Ландскроны и оставил в нём сильный гарнизон с воеводою Стеном. Против такой опасности нужно было вооружиться всеми силами, и вот в следующем году сам великий князь Андрей с полками низовыми и новгородскими подступил к Ландскроне: город был взят, раскопан, гарнизон частию истреблён, частию отведён в неволю, шведам не удалось утвердиться в новгородских владениях; также неудачна была и попытка датчан из Ревеля поставить город на русской стороне Наровы в 1294 году: новгородцы пожгли город, и в 1302 году заключён был мир, за которым новгородские послы ездили в Данию. Псков продолжал бороться с ливонским орденом. В 1298 году Довмонт в другой раз отбил от него немцев; это был последний его подвиг, в 1299 году он умер, много пострадавши (потрудившись) за св. Софию и за св. Троицу (то есть за Новгород и Псков), — лучшая похвала князю от летописца: литовский выходец сравнялся ею с Мономахом. Летописец прибавляет, что Довмонт был милостив безмерно, священников любил, церкви украшал, нищих миловал, все праздники честно проводил, за сирот, вдов и всяких обиженных заступался. Неприятельские действия Литвы против Новгородской области ограничились в описываемое время одним опустошением берегов Ловати в 1285 году; но в следующем году литовцы напали на Олептню, церковную волость тверского владыки: тверичи, москвичи, волочане, новгородцы, дмитровцы, зубчане, ржевичи соединились, догнали разбойников, побили их, отняли добычу, взяли в плен князя. С финскими племенами продолжалась борьба с прежним характером: в 1292 году новгородские молодцы ходили с княжими воеводами воевать Емскую (ямь) землю и, повоевавши её, пришли все поздорову; но в описываемое время одно из ближайших финских племён, корела, давно платившие дань Новгороду и ещё до татар покрещенное, стало возмущаться. Ещё в 1269 году князь Ярослав Ярославич сбирался идти на корелу, но на этот раз новгородцы упросили его не ходить. Под 1278 годом встречаем известие, что князь Дмитрий Александрович с новгородцами и со всею Низовскою землёю казнил корелян и взял землю их на щит.
ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО[183]
Во имя господа нашего Иисуса Христа, сына божия.
Я, жалкий и многогрешный, недалёкий умом, осмеливаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святой, и честной, и славной жизни его. Но как сказал Приточник[184]: «В лукавую душу не пойдёт премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливается». Хотя и прост я умом, но всё же начну, помолившись святой богородице и уповая на помощь святого князя Александра.
Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк[185]: «Так говорит господь: «Князей я ставлю, священны ибо они, и я их веду». И воистину — не без божьего повеления было княжение его.
И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа[186], которого египетский царь поставил вторым царём в Египте, сила же его была частью от силы Самсона[187], и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана[188], который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, и укорил её, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь Александр — побеждал, но был непобедим.
Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя слугами божьими, пришёл, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш[189], повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошёл я страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».
Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли[190] подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришёл в Неву, опьянённый безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».
Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошёл в церковь святой Софии[191], и, упав на колени пред алтарём, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже предвечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».
И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слёзы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде. Вспомним Песнотворца[192], который сказал: «Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовём; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо». Сказав это, пошёл на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу.
Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав, не знал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую к святым мученикам Борису и Глебу. И был один муж, старейшина земли Ижорской[193], именем Пелугий, ему поручена была ночная стража на море. Был он крещён и жил среди рода своего, язычников, наречено же имя ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его бог видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.
Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему о станах врагов. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провёл всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада[194] святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнёс Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.
Вскоре после этого пришёл Александр, и Пелугий, радостно встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».
После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами[195], и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего.
Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.
Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конём. Но по божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.
Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его.
Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь.
Четвёртый — новгородец, по имени Миша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля.
Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатёр и подсек столб шатёрный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались.
Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.
Всё это слышал я от господина своего великого князя Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве.
Было же в то время чудо дивное[196], как в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришёл Сенахарим, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и, встав утром, нашли только мёртвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мёртвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего творца.
На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой[197]. Князь же Александр вскоре пошёл и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою увёл, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив.
После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошёл он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе славянский народ».
А был ими уже взят город Псков[198], и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожёг и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: «Пойдём, и победим Александра, и захватим его».
Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика[199] и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».
Была же тогда суббота[200], и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.
А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил врагов с помощью божьей, и обратились они в бегство. Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватил!
Александра», — отдал бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле копей тех, кто называет себя «божьими рыцарями».
И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу богу и прославляя господина князя Александра, ноюще ему песнь: «Ты, господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием веры освободить город Псков от иноязычников рукою Александровою».
И сказал Александр: «О, невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал господь в пустыне манною небесною и перепелами печёными, но забыли всё это они и бога своего, избавившего их от плена египетского».
И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского[201] и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима.
В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали они с того времени бояться имени его.
В то же время был в восточной стране сильный царь, которому покорил бог народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что бог покорил мне многие народы. Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приди скорее ко мне и увидишь славу царства моего».
После смерти отца своего пришёл князь Александр во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нём до устья Волги. И жёны моавитские[202] начали стращать детей своих, говоря: «Вот идёт Александр!»
Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.
После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую. После разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен богу». Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосердие своё.
Наполнил же бог землю Александра богатством и славою и продлил бог дни его.
Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима[203] с такими словами: «Папа наш так говорит: «Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших — Агалдада и Гемонта, чтобы послушал ты речи их о законе божьем».
Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до Августа и до Христова рождества, от рождества Христова и до распятия его и воскресения, от воскресения же его и вознесения на небеса и до царствования Константинова, от начала царствования Константинова до первого собора и седьмого — обо всём этом хорошо знаем, а от вас учения не примем». Они же возвратились восвояси.
И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и внимал им, как самому Христу.
Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошёл к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды[204].
А сына своего Дмитрия послал в Западные страны[205], и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошёл князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большою добычею.
Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошёл до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твоё с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошёл с ним.
Много потрудившись богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его бог и больший чин принять — схиму. И так с миром богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.
Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: «Уже погибаем!»
Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой Богородицы, в великой архимандритье[206], месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.
Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом[207] и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простёр руку свою и принял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его было мертво и везли его из дальних краёв в зимнее время.
И так прославил бог угодника своего.
* * *
В то время как новгородцы и псковичи с помощью владимирских князей отстаивали северо-западные границы Руси, в другом конце страны, в Галицко-Волынском княжестве, борьбу против иноземных завоевателей возглавил князь Даниил Романович Галицкий. В 1246 году в битве под городом Ярославом он одержал блестящую победу над объединёнными силами венгерских и польских феодалов и их русского приспешника князя Ростислава Черниговского.
Так же как и в Новгородской земле, здесь, на юго-западе Руси, на протяжении почти всего XIII века шла борьба за независимость. Даниил Галицкий и его брат Василько, а позднее их сыновья сумели отразить врагов на западе. Однако после длительного сопротивления им пришлось признать над собой власть золотоордынского хана.
Оказавшись на самом рубеже католической Европы и монгольской Азии, галицкие князья вынуждены были вести борьбу на два фронта. Положение их было необычайно тяжёлым: признавая над собой власть Орды, они оказывались в унизительном положении ханских данников, а с запада на них нападали Венгрия и Польша. Попытки найти поддержку на западе заканчивались наступлением ордынцев, возмущённых такой «изменой». Да и сама поддержка католического мира была чисто символической, сводилась к присылке королевских регалий или папских булл вместо военных отрядов и оружия.
Галицко-Волынскую землю населяли мужественные люди, которые умели встречать удары судьбы. Летописец подробно описывает действия князей, восхищается их подвигами, скорбит об унижении, которое испытал князь Даниил во время поездки к Батыю.
В летописи интересен и рассказ о строительстве во времена Даниила. Опираясь на свои хорошо укреплённые города, он много лет выдерживал натиск ордынского полководца Куремсы.
Ниже мы приводим рассказы Галицко-Волынской летописи о поездке князя Даниила к Батыю, о строительстве города Холма и о нашествии татар под предводительством Бурундая в 1259— 1260 годах.
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ[208] (Отрывки)
В год 6758 (1250). Когда Могучей[209] прислал своего посла к Даниилу и Василько, бывшим в Дороговске[210], говоря: «Дай Галич!», Даниил сильно опечалился, потому что не укрепил городов своей земли. И, посоветовавшись с братом своим, сам поехал к Батыю, сказав: «Не отдам половину своей отчины, поеду к Батыю сам».
Помолившись богу, он выехал в день праздника святого Димитрия[211] и приехал в Киев, где княжил Ярослав[212] через своего боярина Дмитра Ейковича. Даниил приехал в дом архангела Михаила в Выдубицкий монастырь[213], созвал калугеров[214] и монахов и сказал игумену и всей братии, чтобы они молились о нём. И они молились, чтобы он получил милость от бога. И так было, что он, поклонившись святому архистратигу Михаилу, выехал из монастыря на лодке, предвидя беду страшную и грозную.
Он пришёл в Переяславль, и тут его встретили татары. Оттуда он поехал к Куремсе[215] и увидел, что нет у них хорошего.
После этого он стал ещё сильнее болеть душой, видя, что ими обладает дьявол; мерзкие их кудеснические пустословия, Чингисхановы наваждения[216], его скверное кровопийство, многое волшебство. Приходивших к ним царей, князей и вельмож водили вокруг куста для поклонения солнцу, луне, земле, дьяволу и умершим и находящимся в аду их отцам, дедам и матерям. О гнусное их обольщение!
Услыхав про всё это, он очень скорбел.
Оттуда он прибыл к Батыю на Волгу. Когда он хотел идти на поклон к нему, пришёл человек Ярослава[217] Соногур и сказал: «Твой брат Ярослав кланялся кусту, и тебе придётся поклониться». Даниил сказал: «Дьявол говорит твоими устами. Пусть бог заградит уста твои, чтобы слово твоё не было слышно». В это время его позвали к Батыю, и он был избавлен богом от злого их волшебства и кудесничания. Он поклонился по обычаю их и вошёл в шатёр Батыя. И сказал ему Батый: «Даниил, почему ты раньше не приходил? А сейчас пришёл — это хорошо. Пьёшь ли чёрное молоко, наше питьё, кобылий кумыс?» Даниил сказал: «До сих пор не пил. Сейчас, раз велишь, выпью»[218]. Тот сказал: «Ты уже наш, татарин. Пей наше питьё!» Даниил выпил, поклонился по обычаю их, проговорил положенные слова и сказал: «Иду поклониться царице Баракчинове»[219]. Батый сказал: «Иди!» Он пришёл и поклонился по обычаю. И прислал ему Батый ковш вина, говоря: «Не привыкли вы пить кумыс, пей вино!»
О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, великий князь, владел вместе со своим братом всею Русской землёй: Киевом, Владимиром и Галичем и другими областями, а ныне стоит на коленях и называет себя холопом! Татары хотят дани, а он на жизнь не надеется. Надвигаются грозы. О, злая честь татарская! Его отец был царь в Русской земле[220], он покорил Половецкую землю и повоевал иные области. Сын его не удостоился чести. Кто же иной может принять её? Их злобе и коварству нет конца. Ярослава, великого князя Суздальского, уморили отравой, Михаил Черниговский и его боярин Фёдор, не поклонившиеся кусту, были зарезаны ножом, как мы прежде об убиении их рассказывали, и приняли мученический венец. И иные многие князья и бояре были убиты.
Пробыл князь у них двадцать пять дней, был отпущен, и поручена была ему земля, которая у него была. Он пришёл в землю свою, и встретил его брат и сыновья его, и был плач об обиде его и большая радость о здоровье его...
...Город Холм был создан, по божию повелению, таким образом. Когда Даниил княжил во Владимире, он создал город Угровск и поставил в нём епископа. Однажды, когда он ездил по полю и охотился, он увидел место красивое и лесистое на горе; поле окружало его со всех сторон. Он спросил местных жителей: «Как называется это место?» Они ответили: «Холм имя ему». Полюбилось ему то место, и он задумал построить на нём маленький городок. Он обещал богу и святому Иоанну Златоусту[221], что поставит во имя его церковь. И построил он маленький городок. И, увидев, что бог помогает ему, а святой Иоанн пособляет, создал он другой город, тот самый, который татары не смогли взять, когда Батый захватил всю Русскую землю. Тогда была сожжена церковь святой Троицы и снова поставлена.
Когда Даниил увидел, что бог покровительствует месту тому, стал призывать туда иноземцев и русских[222], иноязычников и ляхов. И изо дня в день приходили подмастерья и мастера всякие: бежали от татар седельники, лучники, колчанщики, кузнецы железа, меди и серебра; всё ожило, и наполнилось дворами и сёлами поле вокруг города.
Построил он церковь святого Иоанна[223], красивую и нарядную. Здание её было устроено так: четыре свода; с каждого угла арка, стоящая на четырёх человеческих головах, изваянных неким мастером. Три окна, украшенные римскими стёклами; при входе в алтарь стояли два столпа из целого камня, а над ними своды и купол, украшенный золотыми звёздами на лазури; пол же внутри был отлит из меди и чистого олова, и блестел он, как зеркало; две двери были выложены тёсаным камнем; белым галицким и зелёным холмским; а узоры, разноцветные и золотые, сделаны некиим художником Авдеем; на западных вратах был изображён Спас, а на северных — святой Иоанн, так что все смотрящие дивились. Он украсил иконы, которые принёс из Киева, драгоценными камнями и золотым бисером, — иконы Спаса и пресвятой Богородицы, которые дала ему сестра Феодора из Феодоровского монастыря, иконы принёс из Овруча, и икону Сретенья от отца своего. Достойны они были удивления; эти иконы сгорели в церкви святого Иоанна, лишь образ Михаила остался из чудесных тех икон! Колокола он принёс из Киева, а другие были отлиты здесь — их все огонь попалил.
Посреди города была поставлена высокая башня[224], чтобы с неё можно было видеть окрестности города, низ её построен из камня, в высоту на пятнадцать локтей. А сама она построена из тёсаного дерева, она была белая, как творог, так что светилась во все стороны. Студенец, то есть колодец, был около неё, глубиной в тридцать пять саженей. Постройки были прекрасные, а медь таяла от огня, как смола.
Вокруг он посадил красивый сад и создал церковь в честь святых безмездников[225], в ней четыре столпа из целого камня тёсаного, держащие верх. Из того же камня и другой алтарь — святого Димитрия, и образ его стоит перед боковыми дверьми, очень красивый, принесённый издалека.
В расстоянии поприща от города стоит каменный столп, а на нём изваян орёл каменный[226]; высота камня — десять локтей, с головами же и подножием — двенадцать локтей...
...Случилось так, за грехи наши, что Холм загорелся от окаянной бабы... Пламя было такое, что по всей земле было видно зарево; даже из Львова глядя, видно было по степям Белзским, как горит сильное пламя. Люди подумали, что город был зажжён татарами, разбежались по лесам и после этого не могли собраться.
Когда Даниил увидел такую погибель города, а войдя в церковь, увидел и там разорение, то очень сильно опечалился он. И, помолившись богу, снова обновил церковь; и освятил церковь епископ Иоанн. И, снова помолившись богу, построил он её ещё крепче и выше. Но башни той он не смог построить — он строил другие города против безбожных татар, поэтому и не построил башню.
В год 6768 (1260). Даниил построил большую церковь в городе Холме во имя пресвятой приснодевы Марии, по величине и красоте не меньше бывших древних, и украсил её пречудными иконами. Он принёс из Угорской земли чашу из багряного мрамора, изваянную с удивительным искусством: вокруг неё были змеиные головы, — и поставил её перед церковными дверьми, называемыми царскими, и сделал из неё крестильницу для освящения воды в святое Богоявление. Было там изображение блаженного епископа, Иоанна Златоуста, выточенное из прекрасного дерева и позолоченное. Снаружи и изнутри храм был достоин удивления.
Спустя некоторое время пришёл Бурундай безбожный, злой, со множеством полков татарских, хорошо вооружённых, и остановился на тех местах, где стоял Куремса. Даниил воевал с Куремсой и никогда не боялся Куремсы, потому что Куремса никогда не мог причинить ему зла, пока не пришёл Бурундай с большим войском. Послал он послов к Даниилу, говоря: «Я иду против литвы. Если ты мой союзник, пойди со мной».
Даниил с братом и с сыном стали думать в большой печали: знали они, что, если Даниил поедет, не будет добра. Посоветовались они, и поехал Василько вместо брата. Проводил его брат до Берестья и послал с ним своих людей. Помолился Даниил богу, святому Спасу избавителю — есть такая икона в городе Мельнике в церкви святой Богородицы, которая и ныне там в чести великой, — обещал король Даниил украсить её всякими украшениями.
Когда Василько ехал один за Бурундаем по Литовской земле, он в одном месте встретил литовцев, избил их и привёл сайгат к Бурундаю. Похвалил Бурундай Василька, «хотя брат твой и не поехал». Василько ездил и воевал вместе с Бурундаем. Разыскивал он своего племянника Романа[227] и разорял землю Литовскую и Нальщанскую. А княгиню свою и сына Владимира он оставил у брата...
После этого миновал год.
В год 6769 (1261). Была тишина по всей земле. В те дни была свадьба у Василька-князя в городе Владимире: отдавал он дочь свою Ольгу за князя Андрея Всеволодича в Чернигов. Там был и брат Василька, князь Даниил, с обоими сыновьями своими, Львом и Шварном, и иных князей много и бояр много. И было немалое веселье в городе Владимире.
И пришла весть тогда князю Даниилу и Васильку, что идёт проклятый окаянный Бурундай, и были очень опечалены этим братья. Бурундай прислал к ним сказать так: «Если вы мои союзники, встретьте меня. А кто меня не встретит, тот мой враг». Князь Василько поехал навстречу Бурундаю со своим племянником Львом, а князь Даниил не поехал с братом, а послал вместо себя своего холмского епископа Иоанна.
И поехал князь Василько со Львом и с епископом навстречу Бурундаю, взяв дары многие и угощения, и встретил его у Шумска. И пришёл Василько со Львом и епископом к нему с дарами. Бурундай сильно гневался на князя Василька и Льва. Владыка был в великом страхе.
А потом сказал Бурундай Васильку: «Если вы мои союзники, разрушьте все укрепления городов своих». Лев разрушил Данилов и Стожек, а оттуда послал и Львов разрушить, а Василько послал разрушить Кремянец и Луцк.
Князь Василько из Шумска послал епископа Иоанна вперёд к брату своему Даниилу. Когда епископ приехал к Даниилу, то поведал ему о случившемся и рассказал про гнев Бурундая. Даниил испугался, и бежал в Ляшскую землю, и из Ляшской земли побежал в Угорскую.
И так пошёл Бурундай к Владимиру, и князь Василько с ним. Не дойдя до города, остановился он на ночь на Житани. Бурундай стал говорить о Владимире: «Василько, разрушь укрепления». Князь Василько стал думать про себя о городских укреплениях, ведь нельзя было разрушить их быстро из-за их величины. И он велел поджечь их, и за ночь они сгорели. На другой день приехал Бурундай во Владимир и увидел своими глазами, что укрепления все сгорели, и стал обедать у Василька на дворе и пить. Пообедал, выпил и лёг почивать у Пятидна. Наутро прислал татарина по имени Баимура. Баимур приехал к князю и сказал: «Василько, прислал меня Бурундай и велел вал сровнять с землёй». И сказал Василько: «Делай, что тебе велели». И стал тот ровнять вал с землёй в знак победы.
Затем пошёл Бурундай к Холму, и князь Василько с ним, со своими боярами и слугами своими. Когда пришли они к Холму, город оказался затворенным, и они, придя, остановились поодаль от него. И ничего не смогли сделать воины Бурундая. Ведь были в городе бояре и хорошие воины, и город был вооружён крепко пороками и самострелами.
Бурундай, увидев твёрдость города и что нельзя его взять, стал говорить князю Васильку: «Василько, это город брата твоего. Поезжай, объяви горожанам, чтобы они сдавались мне». И послал с Васильком трёх татар: Куичия, Ашика и Болюя, и, кроме того, толмача, знающего русский язык, чтобы знать, что будет говорить Василько, приехав под город. Василько же, идя к городу, взял себе в руки камни. Придя под городскую стену, он стал говорить горожанам, а татары, посланные с ним, все слышали: «Константин-холоп и ты, другой холоп, Лука Иванкович! Это город моего брата и мой, сдавайтесь!» Сказав, бросил вниз камень — он хитростью дал им понять, чтобы они боролись, а не сдавались. Он сказал эти слова трижды и трижды бросал камни вниз. Этот великий князь Василько словно от бога был послан на помощь горожанам, он подал им знак хитростью. Константин, стоя на забороле города, понял в уме своём знак, поданный ему Васильком, и сказал князю Васильку: «Поезжай прочь, а не то будет тебе камень в лоб! Ты уже не брат брату своему, а враг его». Татары, посланные с князем к городу, услышав это, поехали к Бурундаю и передали ему речь Василька: как он сказал горожанам и что горожане ответили Васильку.
После этого Бурундай быстро пошёл к Люблину. От Люблина пошёл к Завихвосту и пришёл к реке Висле. Тут нашли себе брод на Висле, перешли на другую сторону и начали воевать землю Ляшскую...
* * *
Почти все сохранившиеся до нашего времени летописи составлены уже в конце XV—XVI веках. Произведения XIII— XIV веков почти все погибли. Очень много летописей и книг было уничтожено во время разгрома Москвы татарским ханом Тохтамышем в 1382 году, когда, ожидая нападения, решили собрать книги во всех окрестных сёлах, слободах и монастырях и снести их в один из каменных кремлёвских соборов. Книг оказалось так много, что собор был завален до самых сводов. Все они погибли, когда татары, обманом захватив. Москву, сожгли Кремль.
И всё же кое-что из произведений, посвящённых «злой татарщине», уцелело. Среди этих немногих свидетельств очевидцев
ПОВЕСТЬ О СОБЫТИЯХ В ЛИПЕЦКОМ И ВОРГОЛЬСКОМ КНЯЖЕСТВАХ[228]
...Случилось зло в Курской земле. Один бесерменин по имени Ахмат, хитрый и очень злой, держал баскачество всего курского княжения. Он откупил у татар сбор всяческих даней и, собирая эти дани, великие обиды и притеснения творил князьям и чёрным людям. И сверх того он устроил в вотчине Олега, князя Рыльского и Воргольского, две свои слободы[229]. Собралось в эти слободы со всех сторон много людей. Они творили насилие жителям Курской земли, опустошили всё вокруг Воргола и Рыльска. Тогда князь Олег, подумав и посовещавшись с сородичем своим князем Святославом Липецким[230], поехал с жалобой на баскака в Орду, к хану Телебуге[231]. Хан Телебуга дал Олегу своих воевод и приказал: слободы те разорить, а княжеских людей, которые перешли туда, вернуть по местам.
Возвратившись из Орды с татарскими воеводами, князья Олег и Святослав приказали своим людям разграбить обе слободы, иных схватить, иных заковать, а всех остальных отвести в свои владения. В это время Ахмат был в Орде у хана Ногая[232]. Узнав о том, что слободы его разграблены, он решил оклеветать Олега. И стал он говорить хану Ногаю: «Олег и Святослав не князья, а разбойники. И тебе, хан, — враги. А если не веришь — пошли во владения Олега своих сокольников. Там ведь, в его княжении, хорошая охота на лебедей. И если он тогда сам явится к тебе, то не враг». Олег же побоялся ехать к Ногаю. Хотя он сам и не был ни в чём виноват, но родич его Святослав, князь Липецкий, без ведома Олега напал на слободу ночью, как разбойник. Оттого-то татары и стали говорить: «Олег и Святослав не князья, а разбойники».
Сокольники же ханские, наловив лебедей, стали звать Олега к Ногаю, а когда он не пошёл, то они уехали прочь. И, возвратясь, сказали они Ногаю: «Ахмат правду говорит: Олег — разбойник и тебе враг. Потому он и не приехал к тебе». Хан Ногай разгневался, и послал рать на Олега, и велел его схватить, а княжество его всё завоевать. И пришло татарское войско к городу Ворголу 13 января, вскоре после Крещенья господнего.
Князь же Олег поехал к своему хану Телебуге, а князь Святослав побежал в леса Воронежские. И половина войска татарского погналась за князьями, а половина, рассыпавшись по всем дорогам, захватила всё княжение Олега и Святослава. Схватили тогда татары 13 старейших княжеских бояр. Двадцать дней грабили татары по всей земле, а слободы те наполнили людьми и скотом и всем добром, награбленным в княжествах Воргольском, Рыльском и Липецком.
А когда вернулись татары, гонявшиеся за Олегом и Святославом и не настигшие их, то они передали Ахмату схваченных ими бояр и чёрных людей, сказав: «Кого убить, а кого помиловать — ты решай». И приведено было на расправу многое множество людей, скованных по двое оковами из немецкого железа. Были среди этих людей чужеземные паломники. И приказал Ахмат бояр всех казнить, а одежды их отдать этим паломникам. Он сказал им: «Вы, гости-паломники, ходите по разным землям. Рассказывайте всем, что если кто затеет спор со своим баскаком, то и с ним то же будет».
Приказал он отправить прочь всех чёрных людей с жёнами и с детьми, тех, что привели к нему татары. А трупы бояр приказал, отрубив им правую руку и голову, развесить на деревьях. Потом приказал эти руки и головы привязать к саням и отправить по городам и сёлам для устрашения. Но некуда было посылать: всё княжение опустошено. Так и побросали головы и руки боярские на добычу псам, а сами ушли.
Многие люди тогда погибли от мороза, ограбленные и раздетые, мужчины, и женщины, и дети.
Это великое зло случилось из-за грехов наших: ведь бог казнит человека человеком. Так вот и этого злого бесерменина навёл на нас за нашу неправду, а также, думаю, и за неправду князей наших, живущих в распрях. Много бы я мог сказать, но оставим это...
Ахмат же бесерменин оставил двух братьев своих беречь и укреплять слободы, а сам боялся жить на Руси, потому что не смог схватить ни одного из князей. Поехал он в. Орду, прикрываясь татарским войском, и назначил дань с каждой волости, и потребовал уплаты. И видеть всё это стыдно было и очень страшно, так страшно, что и кусок хлеба в рот не идёт...
Однажды два бесерменина поехали из одной слободы в другую, а русских с ними было больше 30 человек. Услышав об этом, липецкий князь Святослав, посовещавшись со своими боярами и дружиной и не спросясь князя Олега, подстерёг их на пути и напал как разбойник. Те два брата Ахматовы убежали, но русских он перебил 25 человек и двух бесермен. И думал князь Святослав, что он сделал доброе дело, но оказалось, что всё это только на большее зло Олегу и себе.
После Пасхи, в воскресенье на Фоминой неделе убежали два брата Ахматовы из слобод в Курск. И наутро в понедельник разбежались люди из обеих слобод бесерменских.
Вскоре вернулся князь Олег из Орды и отслужил заупокойную по убитым своим боярам. Потом послал он послов к князю Святославу, вопрошая: «Зачем ты от ступил от правды? Зачем возложил имя разбойника на меня и на себя, когда зимой ночью, по-разбойничьи напал на слободу, а ныне, как разбойник, напал из засады у дороги? Ты знаешь ведь законы татарские. Да и у нас на Руси разбой — преступление. Поезжай теперь в Орду, отвечай».
Князь же Святослав не признал вины, говоря: «Это моё дело, как мне поступать с моими врагами». И сказал князь Олег: «Ведь ты крест целовал на том, чтобы действовать нам всегда заодно. А когда война началась, то ты со мной к хану не поехал, а остался на Руси, укрывшись в лесах воронежских для того, чтобы разбойничать. Забыл ты, что клялись мы богом и своей правдой победить бесерменина. И ныне забыл ты правду свою и мою, да ещё и не хочешь ехать к хану для объяснений. Пусть же бог нас с тобой рассудит».
Так оно и случилось. Привёл князь Олег из Орды татар и убил князя Святослава по ханскому приказу. А потом князь Александр, брат Святослава, убил Олега и сына его Давыда в одном месте. И была радость дьяволу и помощнику его бесерменину Ахмату.
* * *
В период монголо-татарского ига на Руси были весьма популярны проповеди («Слова») Владимирского епископа Серапиона (1274—1275 гг.). Эти короткие выразительные проповеди были им произнесены в соборе при большом стечении народа. Запись сделана кем-то из слушателей, очевидно, не без ведома самого Серапиона.
До нашего времени сохранилось пять «Слов». Многочисленные цитаты из канонических книг сочетаются у Серапиона с широким привлечением материалов фольклорного характера — сказаний, апокрифов.
«Слова» Серапиона владимирского рисуют живую картину горя и разорения Русской земли. Вот отрывок из третьего «Слова»:
«...Тогда навёл на нас [бог] народ безжалостный, народ лютый, народ, не щадящий красоты юных, немощи старых, младенчества детей; воздвигли мы на себя ярость бога нашего, по Давиду: «Быстро распалилась ярость его на нас...» Разрушены божьи церкви, осквернены сосуды священные, честные кресты и святые книги, затоптаны священные места, святители стали пищей меча, тела преподобных мучеников птицам брошены на съедение, кровь отцов и братьев наших, будто вода в изобилье, насытила землю, сила наших князей и воевод исчезла, воины паши, страха исполнясь, бежали, множество братий и чад наших в плен увели; многие города опустели, поля наши сорной травой поросли, и величие наше унизилось, великолепие наше сгинуло, богатство паше стало добычей врага, труд наш неверным достался в наследство, земля наша попала во власть иноземцам: в позоре мы были живущим окрест земли пашей, в посмеяние — для наших врагов, ибо познали, будто небесный дождь, на себе гнев господень!»
Серапион страстно обличает пороки тогдашнего русского общества: корыстолюбие, злобу, алчность. «Если не перестанете, то позже горшие беды вас ждут» («Слово» пятое). Серапион, разумеется, не называл имён, но его современникам было ясно, о ком шла речь.
Читая проповеди — «Слова» — Серапиона, понимаешь: никогда не переводились на Руси идеалисты, искре-пне полагавшие, что единственный выход из политического кризиса — в нравственном перерождении и обновлении, что призыв к добру, к братской любви и самоотречению может найти отклик в сердцах «сильных мира сего».
В XIII веке русский народ вступил на тяжёлый, мучительный, но вместе с тем великий исторический путь. Это был путь от Калки до Угры, путь из глубин бессильного отчаяния и горя — к вершинам славы и могущества. По словам историка Н. М. Карамзина, «Россия, угнетённая, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии, так что История едва ли представляет нам два примера в сем роде».
Тяжёлым было бремя иноземного ига. Но оно не сломило гордый дух народа, его стремление к свободе. В самую глухую пору на Руси родилась поэтичная легенда о невидимом граде Китеже. Далеко в заволжских лесах, на берегу озера Светлояр, стоял прекрасный белокаменный город Китеж. В страшные дни Батыева нашествия враги подошли к городу. И случилось чудо: город погрузился в озеро, стал невидим, словно и не было его никогда.
Но не для всех сокрылся Китеж. Тот, кто чист душою, кто не боится долгого пути, голода и лишений, страданий и самой смерти, тот найдёт зачарованный город. Если же кто в пути начнёт сомневаться и спрашивать, есть ли в самом деле этот город,— никогда не видать ему Китежа: покажется он ему лесом пли пустым местом.
Глубока сокровенная мудрость этой легенды. В ней живёт боль и надежда целого народа. Чтобы вернуть потерянное сокровище — свободу Руси, нужно пройти долгий, полный горя и лишений путь, очиститься от зависти и злобы, поверить в победу.
XIII век был временем, когда русский народ в буквальном смысле день за днём вёл тяжелейшую борьбу за свободу, за само существование. В этой борьбе со временем родилось и окрепло Русское централизованное государство, силу которого Орда впервые испытала на Куликовом поле. А ещё через сто лет, на берегах Угры, эта сила — сила единства, обратила в бегство многотысячное воинство хана Ахмата, окончательно сокрушив иноземное иго.
ОБ АВТОРЕ
Алексей Кузьмич Югов (1902—1979) — известный советский писатель и публицист, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького. Югов — писатель широкого творческого диапазона. Его перу принадлежит историко-революционная эпопея «Страшный суд» (романы «Шатровы» и «Страшный суд»), рассказывающая о борьбе за Советскую власть в Сибири. Романы «Бессмертие», «На большой реке», повести «Аяхта» и «Павлов», многочисленные очерки и рассказы посвящены самым различным сторонам социалистического строительства в нашей стране. Герои произведений Югова — сельский врач, гидростроитель, партийный работник, знаменитый учёный — занимают активную жизненную позицию, отдают все силы строительству нового общества.
Особое место в творчестве Югова занимает эпопея «Ратоборцы», состоящая из романов «Даниил Галицкий» и «Александр Невский».
Над романом «Александр Невский» Югов работал в годы Великой Отечественной войны. Глубокий патриотизм, непоколебимая вера в победу над врагом, в великое будущее русского народа пронизывают всё произведение. В образе Александра Невского, патриота и полководца, Югов воплотил лучшие черты русского национального характера.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
Бегунов Ю. К. За Землю Русскую. — М.: Сов. Россия, 1981.
Козин С. А. Сокровенное сказание. Т. I. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
Памятники литературы Древней Руси. XIII век. — М.: Худож. лит., 1981.
Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. — М.: Географгиз, 1957.
Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. — Спб., 1884; Т. 2. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бичурин Н. Я. (Иакинф). Записки о Монголии. — Спб., 1838.
Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII— XV вв. Т. 1—2. — М.: Изд-во АН СССР, 1961—1962.
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. III—IV. — Спб., 1830.
Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. — Л., 1926; Т. 3. — Л., 1930.
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. — М.: Изд-во АН СССР, 1950.
Древнерусские княжества X—XIII вв.: Сб. статей. — М.: Наука, 1975.
Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы в развитии феодальной Руси. Феодальная Русь и кочевники. — М.: Высш. школа, 1967.
Ключевский В. О. Сочинения. Т. I. — М.: Соцэкгиз, 1956.
Лихачёв Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М.: Изд-во АН СССР, 1970.
Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.: Изд-во АН СССР, 1940.
Очерки русской культуры XIII—XV вв. Ч. 1—2. М.: Изд-во Моек, ун-та, 1970.
Пашуто В. Т. Александр Невский. — М.: Мол. гвардия, 1975.
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. — М.: Изд-во АН СССР, 1950.
Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. — М.: Наука, 1978.
Пржевальский Н.М. Монголия и страна тангутов. — М.: Географгиз, 1946.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М.: Наука, 1982.
Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. — Спб., 1896.
Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Кн. 2. — М.: Соцэкгиз, 1960.
Татаро-монголы в Азии и Европе. — М.: Наука, 1977.
Татищев В. Н. История Российская. Т. IV, V. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1965.
Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М.: Наука, 1975.
Фёдоров-Давыдов Г. А. Курганы, идолы, монеты. — М.: Наука, 1,968.
Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII—XIII вв. — Л.: Наука, 1978.
Янин В. Л. Я послал тебе бересту... — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Дегтярёв А., Дубов И. От Калки до Угры. — Л.: Дет. лит., 1980.
Калашников И. Жестокий век. — М.: Сов. писатель, 1981.
Субботин В. За Землю Русскую. — М.: Воениздат, 1957.
Чивилихин В. Память. — М.: Худож. лит., 1982. — (Роман-газета, № 16, 17 (950, 951)).
Югов А. Даниил Галицкий. — В кн.: Югов А. Ратоборцы. — М.: Моск. рабочий, 1972.
Ян В. Юность полководца. — М.: Правда, 1981.
Ян В. Чингизхан. — Минск: Худож. лит., 1981.
Ян В. Батый. — Минск: Высш. школа, 1981.
Ян В. К «последнему морю». — М., Правда, 1981.
Примечания
1
Симеоны-летопроводцы — Новый год в Древней Руси начинался 1 сентября. В этот день, по церковному календарю, праздновалась память Симеона Столпника, древнего христианского подвижника, прозванного «Симеон-летопроводец».
(обратно)2
Княгиня Васса — Александра Брячиславовна... — Александр Невский был женат на Александре, дочери полоцкого князя Брячислава. Об отце Александры, как и о ней самой, летописи не сообщают ничего, кроме их имён. В источниках есть глухие сведения, что Невский был женат вторично на княгине по имени Васса, то есть Василиса. Автор романа по-своему решил эту загадку, дав жене Александра двойное имя, что действительно было довольно распространено в княжеской среде.
(обратно)3
Мстислав в этаком же единоборстве Редедю одолел — Единоборство князя Мстислава Владимировича тьмутороканского, брата Ярослава Мудрого, великого князя Киевского (1019—1054), с касожским князем-богатырём Редедей, окончившееся победой Мстислава, — эпизод из «Повести временных лет».
(обратно)4
Митрополит Кирилл II (1242—1280) — ставленник галицких князей, занимал пост княжеского печатника, участвовал в ведении летописи.
(обратно)5
Параманд (греч.) — особый нагрудный плат с изображением креста.
(обратно)6
Коломыйских соляных копей и варниц... — Коломыя — город в Галицком княжестве, в верховьях реки Прут.
(обратно)7
Вятичи — одно из восточнославянских племён, занимавшее окско-волжское междуречье. Даже во второй половине XI века вятичи ещё не были окончательно покорены киевскими князьями. В «Поучении детям» великий князь Киевский Владимир Мономах (1113—1125) с гордостью писал, что, посланный отцом в Ростов, он «прошёл сквозь вятичи».
(обратно)8
Не больше одной беличьей мордки — В XIII веке на Руси беличьи шкурки служили своего рода мелкими деньгами.
(обратно)9
Куны, серебреники — мелкие денежные единицы. Куна — одна двадцать пятая гривны. Серебреники — русские серебряные монеты, чеканившиеся в конце X — первой половине XI века в Южной Руси.
(обратно)10
Даруга — ханский чиновник, ответственный за сбор податей в покорённых землях.
(обратно)11
Туракина — жена великого хана Угэдэя. Со дня его смерти (11 декабря 1241 г.) и до восшествия на престол её сына, нового хана Гуюка в 1246 году была фактической правительницей монгольского государства.
(обратно)12
Пошлый — то есть старинный, коренпой.
(обратно)13
...в пошлые купцы, в ивановские запишут... — «Ивановское сто» — привилегированная купеческая корпорация в Новгороде, объединявшаяся вокруг патрональной церкви Иоанна Предтечи на Опоках. Вступительный взнос «Ивановского ста» равнялся 50 гривнам, что составляло в XIII веке около 10 килограммов серебра.
(обратно)14
Резоимствовать, брать резы (древнерус.) — брать лихву, отдавать деньги под проценты.
(обратно)15
...лихвы брал и по два, и по три раза — то есть требовал сверх суммы долга 100 и 150 процентов.
(обратно)16
Сурож — ныне Судак. В XIII—XIV веках крупнейший торговый город-порт в Крыму. Сарай ордынский — столица Золотой Орды, располагавшаяся в низовьях Волги.
(обратно)17
Поездка Александра и Андрея Ярославичей в ставку Батыя, а оттуда по его приказанию к великому хану в Монголию состоялась в 1247—1249 годах.
(обратно)18
...беркут закогтил для князя Андрея... княженье великое Владимирское... — Кочевники азиатских степей, в том числе и монголы, были страстными любителями охоты с птицами. Соколы, кречеты, беркуты обычно входили в состав даров, подносимых монгольским ханам. У киргизов XIX века эта общая и давняя страсть степняков была отмечена русским этнографом Г. Е. Грумм-Гржимайло: «Киргизы делят беркутов на множество родов; род, ловкость и удалость играют большую роль при оценке беркута. Ценность их доходит иногда до очень большой суммы: я знаю случай, когда одним киргизом был продан беркут другому за 200 баранов... И это, говорят, не исключительный случай. Уход за беркутом довольно сложный. Киргизы относятся к нему с таким уважением, что по смерти его не бросают, а хоронят, то есть закапывают труп его в землю; если же беркут устареет и сделается неспособным к охоте, то его относят на вершину какой-нибудь горы и там отпускают на волю» (Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край, т. 3, вып. 2. Л., 1930, с. 449).
(обратно)19
Князь Святослав Всеволодович (1196—1254), сын Всеволода Большое Гнездо, после смерти брата Ярослава в 1246 году по праву старшинства занял великокняжеский стол, однако вскоре был согнан с владимирского княжения князем Михаилом Хоробритом, старшим братом Александра Невского. Предположения историков о его вражде с Ярославом и его сыновьями Александром и Андреем не имеют прямого подтверждения в источниках. Единственный сын Святослава — Дмитрий, а не Владимир.
(обратно)20
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154—1212) — с 1176 года великий князь владимирский. При нём Владимиро-Суздальская Русь достигла вершины своего могущества.
(обратно)21
Ростовские князья Борис и Глеб Васильковичи. Их отец, князь Василий Константинович ростовский, был захвачен татарами во время битвы на реке Сить 4 марта 1238 года. Отказавшись «ходить в их воле», он был убит по приказу Батыя в Шерньском лесу. Мать — княгиня Марья Михайловна, дочь князя Михаила Черниговского, убитого татарами в Орде в 1246 году. Ростовский княжеский дом полностью поддерживал политику Александра Невского. Александр доверял ростовским князьям настолько, что даже поручал отвозить его собственные дары в Орду. История Ростова в XIII веке мало известна, но, судя по всему, очень своеобразна. На протяжении всей второй половины XIII века Ростов благодаря осмотрительной политике его князей ни разу не был разрушен или разорён татарами. Здесь ведётся летописание, работают иконописцы и зодчие. Вместе с тем Ростов постепенно превращается в опорный пункт ордынской торговли и влияния в Верхневолжье. Ростовский князь Глеб женится в Орде на татарке. В Ростове поселяется выехавший из Орды опальный племянник хана Берке, принявший православие и получивший имя Петра. В Ростове хоронят умерших на Руси знатных татарок. Возникшая в Ростове татарская колония вызывала ненависть местных жителей, которые в 1289 году восстали и нагнали татар из города.
(обратно)22
...оттого и к мухометанам не пошёл... — «Повесть временных лет» передаёт легенду о том, что киевский князь Владимир Святославич, прежде чем принять христианство, разузнал правила и требования других религий. Отвергнув мусульманство с его запретом пить «сок виноградной лозы», Владимир якобы произнёс: «Руси веселие есть пити!»
(обратно)23
«Яса» — сборник наставлений и узаконений Чингисхана. Миндовг — великий князь литовский. Стремясь закрепить союз с Даниилом Галицким, Миндовг в 1254 году выдал дочь замуж за сына Даниила — Шварна.
(обратно)24
«Не лепо ли ны бяшеть, братие?..» — начальные слова «Слова о полку Игореве», означающие: «А не начать ли нам, братья?..»
(обратно)25
Андрей не отягощает себя бременем рано постигшего его вдовства — Летописи почти ничего не говорят о личной жизни князей XIII столетия. Ни о каком первом браке Андрея и раннем вдовстве летописи не сообщают. Упоминая о его браке с дочерью Даниила Галицкого, летописец, как часто бывало, даже не счёл нужным назвать её по имени.
(обратно)26
Река Ворскла — левый приток Днепра. Верховья Ворсклы находятся в западной части нынешней Белгородской области.
(обратно)27
Несториане — последователи константинопольского патриарха Нестория (V век н. э.), усомнившегося в божественной природе Иисуса Христа. Изгнанные из Византии христиане-несториане перебрались в Персию и оттуда разнесли своё учение по всей Центральной Азии вплоть до Китая. В начале XIII века несторианство было широко распространено среди кочевых народов, входивших в состав монгольской империи, а также среди монгольской знати.
(обратно)28
Ильбеги (татар.) — подвластный князь.
(обратно)29
Плано Карпини — посол римского папы Иннокентия IV к великому хану. Вопрос о том, кто был виновником смерти князя Ярослава Всеволодовича, чрезвычайно запутан. Летописи не говорят об этом ничего, кроме того, что Ярослав был оклеветан каким-то боярином Фёдором Яруновичем. Нет оснований думать, что Плано Карпини «нарочно суседился» к Ярославу, чтобы сгубить его.
(обратно)30
Дубравка и жених её, князь Андрей...— Даниил Галицкий был женат на Анне, дочери князя Мстислава Удалого. Матерью Андрея и Александра была другая дочь Мстислава — Федосья.
(обратно)31
...цех против цеха... — Существование на Руси в XIII веке ремесленных цехов не засвидетельствовано источниками. Однако объединения ремесленников, напоминающие западноевропейские цехи в средневековой Руси, несомненно, были.
(обратно)32
Образ Спаса — ярое око — Сохранившаяся до нашего времени икона, известная под названием «Спас Ярое Око», — одно из самых выразительных произведений древнерусской живописи. Однако, по мнению большинства исследователей, икона была написана в середине XIV века.
(обратно)33
...сыны Чингисхана — Справедливость требует заметить, что Елюй Чу-цай попал в опалу после смерти Угэдэя в 1241 году, когда из «сынов» Чингисхана оставался в живых один Чагатай, да и тот, по-видимому, был занят войной в Малой Азии и умер около 1242 года.
(обратно)34
...победоносный поход в страну финнов — Суоми... — В 1256 году в ответ на непрекращавшиеся посягательства шведов на новгородские владения Александр Невский совершил зимний Финляндский поход. Замысел похода был необычайно смелым и трудным. Уже с полдороги часть новгородцев покинула князя. Оставшиеся шли на лыжах в мороз и метель, короткими зимними днями, по полному бездорожью. «Был путь зол, не видно ни дня, ни ночи, и многим идущим настала погибель», — сообщает летописец. Перейдя Финский залив, Александр со своим отрядом вошёл в земли финского племени емь, незадолго перед тем захваченные шведами. Появление русского отряда вызвало восстание еми против шведов. Разгромив опорные пункты шведов, Александр в конце зимы вернулся в Новгород с победой.
(обратно)35
Смерть железою (древнерус.) — то есть от чумы.
(обратно)36
Мяун-корень — в народной медицине название валерианы.
(обратно)37
Ратай — пахарь.
(обратно)38
Аер (лат.) — воздух.
(обратно)39
«Низовской землёй» новгородцы называли Северо-Восточную Русь.
(обратно)40
Ростовский епископ Леонтий — был убит во время народного восстания в Ростовской земле в 1071 году.
(обратно)41
В источниках нет сведений о «царевиче Чагане».
Летописи молчат о причинах «Неврюевой рати». По-видимому, она была вызвана междукняжеской борьбой. Некоторые историки видели здесь происки Святослава Всеволодовича. Другие считают, что Батый решил свергнуть Андрея потому, что считал его ставленником великого хана Гуюка, своего злейшего врага. В 1251—1252 годах в Монголии после свержения вдовы Гуюка Огуль-Гамиш восторжествовала партия сторонников Батыя, а в 1252 году великим ханом стал ставленник Батыя Мункэ (Менгу). Теперь Батый мог свободно расправиться с великим князем Андреем, получившим владимирское княжение в 1248 году от правительницы Огуль-Гамиш.
(обратно)42
...трёхсоттысячной орде Неврюя... — Численность войск Неврюя едва ли составляла 300 тысяч всадников. Даже Батый, отправляясь в 1235 году в поход на Восточную Европу, имел, по подсчётам исследователей, около 140 тысяч воинов. Дружины самых сильных русских князей обычно насчитывали по нескольку тысяч ратников.
(обратно)43
Алтан-Гоа — легендарная прародительница всех знатных монгольских родов, не была матерью самого Чингисхана, как это можно понять из текста романа. Легенда о рыжеволосом человеке и о зачатии от солнечного луча, быть может, имела основой своеобразие внешнего облика монголов XIII столетия, отличавшихся от соседних кочевых племён более светлыми волосами и глазами, более высоким ростом.
(обратно)44
…нас в одном Новгороде Великом близко двухсот тысяч живёт... — Население Новгорода в XIII столетии составляло не более 30-40 тысяч жителей.
(обратно)45
Некоторые летописи сбивчиво сообщают, что князь Андрей Ярославич бежал в Швецию, где был убит. Однако на основании большинства летописей принято считать, что в 1256 году Андрей вернулся на Русь, получил от Александра в удел Суздаль, дважды ездил вместе с братом в Орду, помогал ему усмирять Новгород. Умер Андрей в Суздале в 1264 году. От брака с дочерью Даниила Галицкого он имел трёх сыновей — Юрия, Василия и Михаила.
(обратно)46
«Повесть временных лет» рассказывает, что после победы над братом Ярополком Владимир Святославич, «креститель» Руси, женился на овдовевшей жене Ярополка, гречанке по происхождению.
(обратно)47
В источниках нет никаких сведений о переговорах Александра Невского с грузинами.
(обратно)48
Русудан была дочерью царицы Тамары.
(обратно)49
В 1220—1221 годах на Кавказе 20-тысячный корпус Джэбэ и Субэдэя оказался в крайне тяжёлом положении в результате ударов, нанесённых ему армяно-грузинскими войсками. Монголы с большим трудом прорвались через Дербент в Половецкую степь, заставив захваченных в плен представителей местной знати показать им дорогу через горы.
(обратно)50
Английские и немецкие «советники по делам Запада и Руси» при дворе монгольского хана источникам неизвестны. Пэта (Байдар), по источникам, — один из внуков Чингисхана, сын Чагатая. Однако попытки некоторых западноевропейских рыцарей сблизиться различными путями со степным миром действительно были.
(обратно)51
Юрий — сын великого князя владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского, был некоторое время мужем грузинской царицы Тамары.
(обратно)52
Ни о каких «потаённых воеводствах» Александра Невского летописи не сообщают.
(обратно)53
Хулагу — брат великого хана Мункэ (1252—1259), двоюродный брат хана Золотой Орды Берке. В начале 60-х годов XIII века назрел открытый конфликт между Золотой Ордой и государством, созданным Хулагу на территории Среднего Востока.
Едва ли Александр Невский был организатором антитатарских восстаний на Руси в 1262 году. Это было бы слишком рискованным и безнадёжным предприятием в условиях расцвета военного могущества Золотой Орды. Вот как представляет роль Александра в событиях 1262 года современный советский историк, автор книги «Александр Невский» В. Т. Пашуто: «Когда Александр узнал, что вечевой набат прогудел по всем городам обширной земли, то понял, что это не случайная вспышка, что это выступление готовилось тщательно и тайно, и советы городов были связаны друг с другом. Смесь радости и глубокой тревоги вызвал в душе этот народный порыв» (В. Т. Пашуто. Александр Невский. М., 1975, с. 146).
(обратно)54
«Комонь во полночи Овлур свистнул...» — цитата из «Слова о полку Игореве», Овлур-половец, организовавший побег Игоря из плена.
(обратно)55
Сто тем — то есть миллион.
(обратно)56
Схима — высший монашеский чин, полное отречение от жизни. Обычно князья и бояре перед смертью принимали монашество (схиму), заботясь о «спасении души».
(обратно)57
Своего рода эпитафией Александру Невскому могли бы послужить слова В. Т. Пашуто: «Своей осторожной, осмотрительной политикой он уберёг Русь от окончательного разгрома ратями кочевников. Вооружённой борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на севере и западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник политики московских князей, политики возрождения Руси» (В. Т. Пашуто. Александр Невский. М., 1975,с. 153).
(обратно)58
Это одно из самых ярких и вместе с тем самых загадочных произведений древнерусской литературы. «Слово» сохранилось всего лишь в двух списках, один из которых относится к XV, а другой к XVI веку.
Одни исследователи считали «Слово» предисловием к «Житию Александра Невского», другие видели в нём начало исчезнувшего памятника, посвящённого описанию «погибели» Руси — Батыева нашествия.
Местом создания «Слова» одни историки считают Северо-Восточную Русь (Л. А. Дмитриев, Ю. К. Бегунов), другие — Новгород или Псков (М. Н. Тихомиров). Большие споры вызывает и датировка памятника. Невозможно точно сказать, возник ли он до или после Батыева нашествия. Упоминание владимирских князей Юрия и Ярослава Всеволодовичей указывает на период с 1212 года (княжение Юрия) до 1246 года (смерть Ярослава).
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII в.». М., 1981, с. 130—131. Перевод Л. А. Дмитриева.
(обратно)59
Ятвяги — литовское племя.
до немцев — здесь под «немцами» подразумеваются жители Скандинавии. «Немцами», то есть немыми, не знающими русского языка, в средневековой Руси часто называли вообще выходцев из Западной Европы.
Тоймичи — племя, жившее на самом севере Руси, в районе рек Верхней и Нижней Тоймы, притоков Северной Двины. Тоймичей в XIII веке называли «погаными», то есть язычниками. Обычное в русских летописях выражение «поганые» не имело бранного оттенка. Это было русифицированное латинское слово «паганус» — язычник, множественное число — «пагани».
(обратно)60
Дышащее море — Белое море, имевшее значительные приливы и отливы.
(обратно)61
…до болгар — имеются в виду волжские болгары.
Буртасы — одна из этнических загадок в истории Восточной Европы. В них видели предков современной мордвы — мокши, чувашей, марийцев, мордвы-эрзи и даже чеченцев. Наиболее вероятно, что буртасы представляли собой кочевую тюркскую племенную группу, существовавшую в Среднем Поволжье с IX века н. э. Впоследствии буртасы подверглись нападениям половцев, монголов, других соседних народов и, исчезли как особая этническая общность (см.: Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973, с. 111-123).
Черемисы — марийцы.
(обратно)62
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо — был сыном Юрия Долгорукого и внуком Владимира Мономаха.
(обратно)63
Вяда — одно из мордовских племён.
(обратно)64
бортничали на великого князя Владимира — (см. примеч. № 8) то есть платили Владимиру Мономаху дань мёдом. Борть — гнездо диких пчёл. Бортничать — собирать дикий мёд.
(обратно)65
Император царьградский Мануил — византийский император Мануил I Комнин (1143—1180). Он не был современником Владимира Мономаха (1113—1125) и потому никаких «даров великих» этому князю не посылал. Здесь обычное для древнерусской литературы хронологическое смещение.
(обратно)66
...от великого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия... — Здесь упоминаются наиболее известные князья Киевской Руси: Ярослав Мудрый (около 978—1054); Владимир Мономах и князья — современники автора «Слова о погибели»... — Ярослав Всеволодович (1196—1246) и Юрий Всеволодович (1188—1238). Юрий был владимирским князем с 1212 по 1238 год, Ярослав — с 1238 по 1246 год.
(обратно)67
«Похвала» относится к числу довольно распространённых в летописи хвалебных некрологов, составленных княжескими летописцами. Наряду с явными преувеличениями, свойственными этому жанру, «Похвала...» рассказывает и о реальных достоинствах Всеволода.
«Похвала» входит в Лаврентьевскую летопись, созданную в 1377 году на основе более древних памятников владимирского, ростовского и тверского летописания.
Текст печатается по изданию: «Рассказы русских летописей XII—XIV вв.». М., 1973, с. 55—56. Перевод Т. И. Михельсон.
...Всеволод Большое Гнездо — см. примеч. № 20.
(обратно)68
...именованный во святом крещении Дмитрием... — вплоть до XV века русские князья носили два имени: одно, языческое, славянское, давалось при рождении; другое, христианское, греческое, — при крещении. Выбор крестильного имени зависел от даты рождения: называли в честь того святого, память которого приходилась на день рождения или близкие к нему дни. Князьям давались обычно имена святых воинов — Дмитрия, Фёдора, Георгия и др. Всеволод Большое Гнездо построил во Владимире каменный храм в честь своего небесного патрона — святого воина Дмитрия Солунского.
(обратно)69
...закабаляли сирот... — «сироты» — одно из названий крестьян в Древней Руси.
(обратно)70
...иконами и письмом... — в Дмитровском соборе во Владимире и по сей день сохраняются фрагменты древних росписей, выполненных мастерами Всеволода Большое Гнездо. Сохранилась и замечательная икона конца XII века «Дмитрий Солунский», написанная, вероятно, для иконостаса Дмитровского собора.
(обратно)71
...церковь каменную Рождества святой Богородицы... — Белокаменный собор Рождественского монастыря во Владимире был выстроен Всеволодом в 1192—1195 годах. В 1263 году в этом соборе был захоронен Александр Невский. Собор разобран во второй половине XIX века.
(обратно)72
Закомары — полукруглые завершения стен.
(обратно)73
Не искал Всеволод мастеров у немцев… — По сведениям летописей, Андрей Боголюбский приглашал мастеров для строительства храмов из владений германского императора Фридриха Барбароссы.
(обратно)74
...среди клевретов святой богородицы — то есть среди людей, имеющих отношение к Успенскому собору во Владимире.
(обратно)75
Мужи... — старшие княжеские дружинники.
(обратно)76
Епископ Иван — Владимирский епископ Иван.
(обратно)77
Игумен — настоятель монастыря. Черноризец — монах, инок.
(обратно)78
…в церкви святой богородицы Златоверхой... — Успенский собор во Владимире, служивший княжеской усыпальницей, был построен Андреем Боголюбским в 1158—1160 годах, перестроен и расширен зодчими Всеволода в 1185—1189 годах. Центральная глава («верх») храма была позолочена.
(обратно)79
Борис Александрович Рыбаков — известный советский историк и археолог, академик АН СССР; лауреат Ленинской и Государственной премий.
Б. А. Рыбаков — автор целого ряда фундаментальных исследований по истории и культуре Древней Руси: «Ремесло Древней Руси» (М., 1948), «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи» (М., 1971), «Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве» (М., 1972), «Язычество древних славян» (М., 1980), «Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.» (М., 1982) и других.
(обратно)80
Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960) — один из основателей советского искусствознания, член Академии наук и Академии художеств СССР. Выдающийся знаток и исследователь древнерусского искусства, И. Э. Грабарь был активным борцом за сохранение и реставрацию памятников истории и культуры. Его имя носит Всесоюзный художественный научно-реставрационный центр.
(обратно)81
«Рассказ о преступлении рязанских князей» был включён в состав рязанской летописи начала XIII века, откуда был заимствован новгородским летописцем и дошёл до нас в составе Новгородской первой летописи, а точнее — её Синодального списка, датируемого XIII столетием.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 128—130. Перевод Д. С. Лихачёва.
(обратно)82
Святополк — киевский князь, сын Владимира I Святославича. Чтобы завладеть киевским княжением, подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Впоследствии Борис и Глеб были причислены церковью к лику святых. Святополк погиб в изгнании в 1019 году.
(обратно)83
Кир — византийский почётный титул, иногда применявшийся и к русским князьям.
(обратно)84
Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло (1860—1938) — известный путешественник, этнограф и географ, исследователь Центральной Азии. В 1920—1931 годах — вице-президент Географического общества СССР. Именем Грумм-Гржимайло названы перевал на Сихотэ-Алине, ледник на Памире и ледник на горном массиве Богдо-Ула.
Впервые в русской науке Грумм-Гржимайло подробно рассказал о древнейшей истории Центральной Азии.
Текст печатается по изданию: Г. Е. Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край», т. 2. Л., 1926, с. 442—449.
Урянхайский край — устаревшее название Тувы и некоторых прилегающих к ней территорий.
(обратно)85
Мирных граждан.
(обратно)86
Запасными.
(обратно)87
Текст печатается по изданию: «Памятники письменности Востока», т. XXVI. Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). М., 1975, с. 66—67. Перевод Н. Ц. Мункуева.
(обратно)88
К с. 392 Колесниц, напоминающих гусей — По мнению издателей памятника, речь идёт о колесницах с возвышением для доставки штурмующих на городские стены.
(обратно)89
Елюй Чу-цай — китаец по происхождению, канцлер монгольской империи, умер в 1244 году в Каракоруме и потому встречаться с Невским во время его поездки в Монголию в 1247—1249 годах никак не мог.
(обратно)90
Чжао Хун имеет в виду династию, правившую в Северном Китае.
(обратно)91
Текст печатается по изданию: В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. Спб., 1834, с. 1—33. Перевод В. Г. Тизенгаузена.
Ибн ал-Асир (1160—1234) — арабский историк, автор обширного 12-томного исторического труда, посвящённого политической истории Ближнего Востока XI—XIII веков.
(обратно)92
Мавераннахр — «то, что за рекой» — так называли арабские писатели и путешественники территорию между реками Амударьёй и Сырдарьёй.
(обратно)93
Хорасан — средневековое название Южной Туркмении и Северо-Восточного Ирана.
(обратно)94
Кадий — городской судья в мусульманских странах.
(обратно)95
...и убили тех, которые не годились для плена... — По некоторым источникам, в Самарканде после нашествия осталось лишь 100 тысяч жителей — четвёртая часть прежнего населения («Татаро-монголы в Азии и Европе». М., 1977, с. 138).
(обратно)96
...выслал он им на помощь множество народу... — Ургенч был одним из самых многочисленных и хорошо укреплённых городов Востока. Для его осады Чингисхан двинул силы трёх своих сыновей — Джучи, Чагатая и Угэдэя и множество пленных для осадных работ.
(обратно)97
Илья Павлович Петрушевский (1898—1977) — известный советский историк-востоковед, доктор исторических наук, автор книг «Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV вв.» (М. — Л., 1960), «Ислам в Иране в VII—XV вв.» (Л., 1966) и др.
Текст печатается по изданию: «Татаро-монголы в Азии и Европе». Сборник статей. М., 1977, с. 127—128.
(обратно)98
Эта повесть известна в нескольких вариантах. Наиболее полным и содержательным из них следует признать текст, содержащийся в Галицко-Волынской летописи (о Галицко-Волынской летописи см. с. 519). Заказчиками этой летописи были южнорусские князья, одни из которых, как, например, Даниил, сами участвовали в битве, другие — Василько, Владимир — хорошо знали о ней из семейных преданий.
В повести подчёркивается личная храбрость Даниила Галицкого, а местами сквозит неприязнь к Мстиславу Удалому — политическому сопернику волынских князей.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 257—261. Перевод О. П. Лихачёвой.
(обратно)99
...безбожные моавитяне... — по Библии, моавитяне — племя, жившее где-то к востоку от Иордана и Мёртвого моря. Этим библейским именем древнерусские книжники часто называли татар.
(обратно)100
Юрий Кончакович — сильнейший из половецких ханов начала XIII века. Судя по имени — христианин. На дочери Юрия Кончаковича был женат первым браком отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович.
(обратно)101
Юрий Домамирыч и Держикрай Владиславич — галицкие бояре.
(обратно)102
...до Новгорода Святополкова — Новгород Святополческий — город в Переяславском княжестве.
(обратно)103
Чингисхан был убит тангутами — Чингисхан не был убит тангутами, а умер от болезни. Однако русские летописцы любили сказания о гибели ненавистных татарских ханов. Широкой популярностью в средневековой Руси пользовалось, например, сказание о гибели Батыя в венгерской земле.
(обратно)104
Текст печатается по изданию: С. А. Аннинский. Известия венгерских миссионеров XIII—XIV веков о татарах в Восточной Европе. — «Исторический архив», т. 3. М., 1940. Перевод С. А. Аннинского.
(обратно)105
Команы (куманы) — кочевое тюркоязычное племя, обитавшее в прикаспийских и причерноморских степях. «Команы» — самоназвание, означающее «светлый», «светло-жёлтый», «цвета песка». Русские называли команов «половцами», что по-древнерусски означало то же самое: «жёлтый», «цвета соломы». Восточные авторы именовали половцев «кыпчаками», а все восточноевропейские степи — «Дешт-и-Кыпчак», то есть «Половецкая степь». В начале XIII века половцы были многочисленным народом, занимавшим земли от Днепра до Иртыша. Покорив половцев, монголы уничтожили их родо-племенную верхушку и заступили её место.
(обратно)106
...рабов моих куманов ты держишь под своим покровительством... — После долгих переговоров осенью 1239 года венгерский король Бела IV вопреки предостережениям и угрозам монголов предоставил убежище на своей территории половецкой орде хана Котяна, бежавшей под натиском Батыя. В Венгрии половцы приняли католичество и обязались помогать королю в случае войны. Однако венгерские магнаты, встревоженные усилением королевской власти, в 1241 году предательски перебили всех половецких вождей в Пеште. Узнав об этом, 40-тысячная половецкая орда, сметая все на своём пути, устремилась на юг, на Балканы. Венгерско-половецкий союз, который, быть может, остановил бы монголов, распался.
(обратно)107
...как же тебе избежать руки моей… — в таком же необычайно высокомерном и вместе с тем простодушном тоне выдержаны все послания монгольских ханов к европейским владыкам.
(обратно)108
...четверо братьев моих... — венгерский король Бела IV в 30-е годы XIII века неоднократно посылал на восток, в степи, монахов-францисканцев и доминиканцев с целью разведки. Большинство из них назад не вернулись. Народы и правители европейских стран со страхом и одновременно с огромным вниманием следили за событиями на Востоке. Вот что писал об этом историк С. М. Соловьёв:
«Страх напал на Западную Европу, когда узнали о приближении татар к границам католического мира. Известия об ужасах, испытанных Русью от татар, страшные рассказы об их дикости в соединении с чудесными баснями об их происхождении и прежних судьбах распространялись по Германии и далее на запад. Рассказывали, что татарское войско занимает пространство на двадцать дней пути в длину и пятнадцать в ширину, огромные табуны диких лошадей следуют за ними, что татары вышли прямо из ада и потому наружностью не похожи на других людей. Император Фридрих II разослал воззвание к общему вооружению против врагов. «Время, — писал он, — пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому христианству. Уже давно мы слышали о нём, но считали опасность отдалённою, когда между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля». Но воззвание доблестного Гогенштауфена не достигло цели: в Германии не тронулись на призыв ко всеобщему вооружению, ибо этому мешала борьба императора с папою и проистекавшее от этой борьбы разъединение; Германия ждала врагов в бездейственном страхе, и одни славянские государства должны были взять на себя борьбу с татарами» (С.С. Соловьёв. История России с древнейших времён, книга II. М., 1960, с. 145).
(обратно)109
...изгнал… без неприятностей… — Князь Юрий Всеволодович владимирский, видимо, вёл сложную политическую игру: стремясь расселить в своих владениях всех беженцев с востока, в том числе и уральских венгров, он вместе с тем не хотел портить отношений с венгерским королём, союз с которым пытались в эти годы заключить многие южнорусские князья. Поэтому Юрий лишь выслал католических венгерских монахов-разведчиков за пределы своих владений. Ознакомившись с письмом хана венгерскому королю и не найдя в нём ничего для себя опасного, Юрий отправил его по назначению.
(обратно)110
Мордуканы — мордовские племена.
(обратно)111
...в войске у них с собою 240 тысяч рабов... — многократное преувеличение своей численности — обычный приём «психологической войны». Во время одной из войн в Китае монголы, отправив 50-тысячную армию, называли её 200-тысячной.
(обратно)112
Летописные повести о Батыевом нашествии возникли в различных местах Русской земли. Владимирские и ростовские летописцы уделяли больше внимания событиям в Северо-Восточной Руси, южнорусские — действиям Батыя в Киевской и Галицко-Волынской землях.
Летописная традиция Южной Руси лучше всего представлена в Ипатьевской летописи. Владимирское и ростовское летописание XIII века — в Лаврентьевской летописи.
В данном издании «Повесть о Батыевом нашествии» печатается по Тверской летописи. Эта летопись, иначе именуемая «Тверским сборником», представляет собой компиляцию, то есть соединение нескольких более древних источников, возникшую в первой половине XVI века. Рассказ о Батыевом нашествии в Тверском сборнике основан главным образом на материалах Лаврентьевской, Новгородской первой и Ипатьевской летописей, что позволяет лучше увидеть события в масштабе всей Руси.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 163—175. Перевод Д. М. Буланина.
(обратно)113
Нуза — место лагеря Батыя на реке Воронеж.
(обратно)114
Женщина-чародейка — вероятно, шаманка. Такое странное, «непутёвое», по выражению летописца, посольство, видимо, имело целью запугать жителей и вместе с тем спровоцировать рязанских князей на немедленное выступление.
(обратно)115
Иисус Навин — по Библии — вождь израильского народа после смерти Моисея.
(обратно)116
Мясопустная неделя — последняя неделя перед великим постом.
(обратно)117
Постройка тына вокруг осаждённой крепости — обычный приём, имевший целью помешать внезапным вылазкам осаждённых.
(обратно)118
Пороки — стенобитные камнемётные машины.
(обратно)119
Шерньский лес — лесной массив, находившийся в районе Кашина и Калязина.
(обратно)120
Местонахождение Игнатьева креста до сих пор вызывает споры.
(обратно)121
Великий князь Ярослав ходил в поход на Литву, обороняя смольнян... — Нападение литовцев на смоленские земли в 1239 году — одно из проявлений резкой активизации западных врагов Руси в связи с Батыевым нашествием. Нанося ответный удар, Ярослав не только отстаивал границы Руси. Этот удачный поход, помимо определённых политических целей, позволил поднять боевой дух войск, что было крайне важно в условиях, когда от одной только вести о движении татар на Муром и на Гороховец, люди «не знали, кто куда бежит». Тем же целям успокоения народа и укрепления стойкости войск должно было служить освящение в 1239 году обновлённой после Батыева погрома церкви Бориса и Глеба («заступников» земли Русской) в Кидекше.
(обратно)122
Брак Александра Ярославича с полоцкой княжной закрепил политический союз новгородской и полоцкой земель, крайне необходимый в условиях военной опасности с запада и востока.
(обратно)123
Город святой Богородицы Владимирской... — город Гороховец на реке Клязьме.
(обратно)124
Второе появление татар в Северо-Восточной Руси в 1239 году было, по-видимому, полной неожиданностью для населения, уверенного в том, что татары ушли навсегда.
(обратно)125
Летописец очень точно перечисляет командный состав монгольского войска. «Куюк», то есть Гуюк, сын великого хана Угэдэя, двоюродный брат Батыя, действительно должен был пользоваться особым почётом и властью как старший сын правящего великого хана. Высокомерие Гуюка было столь велико, что привело его к открытой ссоре с Батыем во время похода в Восточную Европу.
(обратно)126
Венгерский король Бела IV (1235—1270) и его брат Коломан.
(обратно)127
Повесть эта складывалась на протяжении более чем двух столетий. Возникший вскоре после Батыева нашествия краткий, суховатый рассказ постепенно обрастал красочными подробностями, яркими эпизодами. По мнению крупнейшего знатока этого памятника академика Д. С. Лихачёва, лишь в начале XV века появились в повести плач князя Ингваря Ингваревича и эпизод с Евпатием Коловратом. Самые ранние сохранившиеся до нашего времени списки повести относятся к XVI столетию.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII в.». М., 19S1, с. 184—200. Перевод Д. С. Лихачёва.
(обратно)128
Сродникам своим Борису и Глебу — см. примеч. № 21.
(обратно)129
Пронск, Бел (Белгород), Ижеславец — города рязанской земли. Два последних после Батыева нашествия не были восстановлены.
(обратно)130
...повелел Олега ножами рассечь на части... — здесь имеет место смешение событий и лиц: татарами был казнён не князь Олег Игоревич, а его сын Роман, что произошло в 1270 году.
(обратно)131
Рабы (церковнославянск.) — слуги.
(обратно)132
Шурич — сын шурина.
(обратно)133
Сенчакбей (тюркск.) — знаменосец. Мурза (татарск.) — князь.
(обратно)134
Узорочье рязанское — здесь: сокровище, богатство, то есть лучшие воины.
(обратно)135
...к иконе великого чудотворца Николы Корсунского... — икона Николая Чудотворца, по преданию, была принесена из Корсуня (Херсонеса) в Рязанское княжество около 1226 года.
(обратно)136
Отчёт Плано Карпини о его путешествии к монголам или к «монгалам», как писал Карпини, сохранился в нескольких списках XIII столетия. Труд Карпини вызвал огромный интерес у современников не только как занимательная книга, рассказ о неведомых странах и народах, но и как руководство на случай войны с монголами. Возможность нового похода монголов на запад казалась во второй половине XIII века вполне реальной. Первые копии с книги Карпини стали появляться уже тогда, когда работа ещё не была закончена. Так возникла первая, краткая редакция книги. Написанная на латыни, книжном языке средневековья, «История монгалов» была впоследствии переведена на многие европейские языки: Уже в конце XVIII века труд Карпини был переведён и на русский язык. Русские издания книги Карпини (1795, 1800, 1825, 1911) неизменно привлекали внимание учёных и любителей русской истории. Лучшим переводом «Истории монгалов» на русский язык считается перевод, выполненный в начале нашего столетия профессором А. И. Малеиным. Этот перевод использован в издании 1957 года, подготовленном Н. П. Шастиной.
Текст печатается по изданию: Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов.
(обратно)137
Словом, «тьма» русские летописцы передавали монгольское слово «тумэн» — десять тысяч.
(обратно)138
Русские князья быстро научились применять в своей военной практике всё то, что было ценного у монголов в области вооружения и приёмов боя. Этого требовали прежде всего интересы борьбы с самими же завоевателями. Даниил Галицкий, например, использовал описанные здесь кожаные панцири для боевых коней.
(обратно)139
Задача застрельщиков — создание панических настроений и смятения среди населения. Этот приём следует признать одной из отличительных особенностей монгольского способа ведения войны.
(обратно)140
...Отступают назад на десять или на двенадцать дней пути... — именно такой манёвр монголы применили перед битвой на реке Калке.
(обратно)141
...стоят вдали против войска врагов... — в этом тоже было определённое военное преимущество монголов: в Европе, как и на Руси в XIII веке, предводители войска, как правило, лично участвовали в сражении и потому не всегда могли управлять всем ходом битвы.
(обратно)142
Греческий огонь — состав из нефти и смолы, изобретён греками.
(обратно)143
«Путешествие» Гильома Рубрука также сохранилось в нескольких древних списках и постоянно привлекало внимание образованных читателей. В XVII веке появились английское и французское издания труда Рубрука. Русское издание было подготовлено лишь в 1911 году. Перевод с латинского был выполнен профессором А. И. Малеиным.
Текст печатается по изданию: Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. М., 1957, с. 45—54, 91—101, 118— 120, 139—143. Перевод А. И. Малеина.
(обратно)144
...Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца... — земли к востоку от Дуная средневековые авторы часто по традиции, идущей от античности, называли Скифией.
(обратно)145
Моал — так Рубрук называет монголов в соответствии с одним из вариантов произношения этого слова.
(обратно)146
Аркали — горный баран, архар.
(обратно)147
...из Руссии, из Мокселя, из Великой Булгарии и Паскатира, из Керкиса... — имеются в виду земли русских, мокши (мордвы), волжских болгар, башкиров (уральских венгров) и киргизов.
(обратно)148
…Пока не замкнут зверей... как бы в круге — облавная охота была очень широко распространена у монголов вплоть до XIX века. Её приёмы использовались и во время военных действий для захвата пленных и уничтожения разрозненных сил неприятеля. Такие облавы монголы проводили на Руси в 1237— 1240 годах. Особенно действенным этот способ войны и охоты оказывался в степи.
(обратно)149
Локоть — одна из древних мер длины: расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба составляло в среднем несколько больше 40 сантиметров. Наряду с локтем в Древней Руси была известна пядь — расстояние между вытянутым большим и указательным пальцами, сажень — расстояние между размахом вытянутых рук человека.
(обратно)150
Мангу-хан, Менгу — тюркский вариант произношения имени великого хана Мункэ.
(обратно)151
Сартак, Сартах — сын Батыя. После смерти отца стал великим ханом Золотой Орды. Умер при неясных обстоятельствах, возвращаясь из ставки великого хана.
(обратно)152
Солдайя, Сурож — современный Судак.
(обратно)153
Орда — дословно ставка, походный дворец. Характерно, что выражение «Золотая Орда» появляется в русских источниках лишь к концу XIV века.
(обратно)154
...стояли там, босиком... — в соответствии с уставом своего монашеского ордена Рубрук даже зимой в Монголии ходил босиком до тех нор, пока не отморозил пальцы ног.
(обратно)155
Жан де Бомон — один из приближённых Людовика IX.
(обратно)156
...следует чтобы и твой толмач отправились к Менгу-хану... — Далее на протяжении нескольких глав следует описание путешествия Рубрука к великому хану, а также ставки Мункэ и столицы Каракорума.
(обратно)157
...я не знал, что они христиане... — Несторианские патриархи, обосновавшиеся в Багдаде, были признаны римским папой, обменивались с ним посольствами и подарками.
(обратно)158
Чингисхан резко осуждал пьянство. Однако оно было распространённым явлением среди его потомков, в том числе и великих ханов.
(обратно)159
В ставке великого хана Рубрук подружился с несторианским монахом Сергием и часто посещал его.
(обратно)160
Употребление монголами в качестве топлива сухого навоза (аргала) отмечали все чужеземцы, посещавшие Орду. В этом обычае, как и во многих других, на первый взгляд странных традициях монголов, была своя, проверенная веками целесообразность. «Монголы, — писал Н. Я. Бичурин, — и в лесистых местах не употребляют дров для согревания юрт, потому что искры и угольки, отскакивающие от головней, могут портить войлоки и производить пожары, а от горящего аргала не бывает искр» (Иакинф [Бичурин Н. Я.]. Записки о Монголии. Т. 1. Спб., 1828, с. 172).
(обратно)161
...муж её умел строить дома... — постройки Каракорума по внешнему виду и конструкции меньше всего походили на русские избы или терема. По-видимому, этот русский строитель был выдающимся мастером, сумевшим быстро овладеть совершенно новой для него техникой строительства.
(обратно)162
«Сказание» возникло вскоре после описываемых событий. Поначалу краткое и лаконичное, оно постепенно расцвечивалось подробностями и деталями. Первая из пространных редакций была создана уже в XIII веке священником Андреем. Центрами почитания памяти Михаила Черниговского, переписки и переработки его жития были в первую очередь Ростов, а также, по-видимому, Чернигов. Древнейшие сохранившиеся списки «Сказания» относятся в XIV—XV векам.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII в.». М., 1981, с. 228—236. Перевод Л. А. Дмитриева.
(обратно)163
...на земле хана и Батыя... — Хана — великого хана в Монголии.
(обратно)164
...чтобы шёл он сначала через огонь... — Среди древних монголов был распространён культ огня — один из древнейших первобытных культов у всех народов. Запрещалось бросать в огонь грязные вещи, перешагивать через него, заливать огонь водой. Чужеземцев, прибывавших ко двору монгольского хана, заставляли пройти между двух костров, дабы очистить от недобрых помыслов. В огонь бросали и часть, привозимых хану даров.
(обратно)165
...поклонился кусту и идолам... — поклонение кусту — один из загадочных монгольских обрядов, связанных, по-видимому, с культом предков. Монголы верили, что дух умершего некоторое время витает над могилой. Для того чтобы дать ему приют, в могилу втыкали ветки сосны или же, как это сделал хан Угэдэй, заранее сажали особый куст — будущее пристанище души. С этого священного куста запрещалось срезать ветки, и сам он в известной мере становился объектом поклонения — чтили как бы душу умершего правителя. Некоторые шаманские божества имели вид войлочных или выделанных из шкур идолов — человеческих фигурок. Монгольские «онгоны» — домашние божества — часто имели вид тряпичных кукол, вырезанных из войлока человечков.
(обратно)166
...внук его Борис, князь ростовский... — В это время в ставке Бату по его вызову находилось несколько русских князей, в том числе и юный Борис Василькович ростовский, внук Михаила Черниговского по линии матери, ростовской княгини Марьи Михайловны.
(обратно)167
Епитимья — церковное наказание.
(обратно)168
...случилось же убиение их в год 6753 (1245)... — В действительности Михаил Черниговский был убит в 1246 году.
(обратно)169
Рассказ о татарской переписи 1257 года в Новгороде дан по тексту древней Новгородской первой летописи. Здесь ясно заметно отношение летописца к изображаемым событиям. Кроме вполне понятной ненависти к «окаянным», в рассказе сквозит презрение к алчным и трусливым новгородским боярам, которые «делали... себе легко, а меньшим зло». Рассказ о восстании 1262 года взят из Софийской первой летописи. Этот рассказ — один из немногих примеров того, как летописец, человек, как правило, враждебно относящийся ко всякого рода «мятежам», с явным сочувствием описывает восстание.
Текст печатается по изданию: «Рассказы русских летописей XII—XIV вв.». М., 1973, с. 95—98. Перевод Т. Н. Михельсон...
(обратно)170
...пришла в Новгород весть из Руси... — По традиции новгородцы иногда называли Русью среднерусские и южнорусские области.
(обратно)171
Тамга — первоначально у восточных народов знак принадлежности к определённому роду. Впоследствии так называлась торговая пошлина. Отсюда и современное слово «таможня».
(обратно)172
...убили Михалка-посадника... — посадник — одна из высших республиканских должностей в древнем Новгороде. Посадник избирался на вече из представителей знатнейших боярских фамилий.
(обратно)173
...для царя Батыя... — царём, то есть независимым, суверенным владыкой, на Руси называли в XIII веке византийского императора и татарского хана.
(обратно)174
Сыроядцы — презрительное прозвище ордынцев.
(обратно)175
Сын посадника — почётный титул в Новгороде. Дети боярские — одна из категорий мелких феодалов.
(обратно)176
...умрём... за дома ангельские... — то есть за церкви.
(обратно)177
Вятшие и меньшие — боярство, зажиточные горожане и городская беднота.
(обратно)178
Городище — местность близ Новгорода, где находилась княжеская резиденция.
(обратно)179
Басурмане — искажённое «мусульмане»: восточные купцы, откупавшие в Орде сбор дани с русских городов.
В середине XIII века по всей княжеской Руси вечевые собрания были уже анахронизмом. О них вспоминали лишь в моменты крайней опасности, небывалого возмущения, когда князь терял контроль над положением. Одновременные восстания по всей Северо-Восточной Руси в 1262 году — интереснейший и до сих пор во многом загадочный факт русской истории.
(обратно)180
...попадали в рабство в резах... — По древнерусскому законодательству несостоятельный должник попадал в рабство к заимодавцу. Кредит в древности был чрезвычайно дорог из-за недостатка крупных капиталов, а также в силу опасности для торговли в условиях феодальной раздробленности.
(обратно)181
...уводили многие души христианские в разные земли... — Куда только не заносила судьба русских людей, попавших в рабство или захваченных в плен во время ордынских набегов. По свидетельству одной китайской хроники, в 1331 году около 10 тысяч русских работало в военно-земледельческой колонии под Пекином. Русские наряду с половцами составляли значительную часть мамелюкской гвардии египетских султанов. Целый квартал, заселённый русскими, существовал в столице Золотой Орды.
(обратно)182
Сергей Михайлович Соловьёв (1820—1879) — крупнейший русский историк второй половины прошлого столетия, профессор Московского университета. Его главный труд — 29-томная «История России с древнейших времён».
Текст печатается по изданию: С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. М., 1960.
(обратно)183
«Повесть о житии Александра Невского» была создана, как полагают, в 1263—1280 годах и получила большое распространение в XIV—XV веках. В настоящем издании воспроизводится сводный текст, составленный на основе списка конца XV века и текста «Жития», входящего в Лаврентьевскую летопись.
Текст печатается по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII в.». М., 1981, с. 426—439. Перевод В. И. Охотниковой.
(обратно)184
Приточник — библейский царь Соломон, которому приписывают авторство библейской книги притчей.
(обратно)185
Исайя пророк — автор одной из библейских книг.
(обратно)186
Иосиф — библейский герой, отличавшийся особой красотой.
(обратно)187
Самсон — библейский герой, обладавший необычайной силой.
(обратно)188
Веспасиан (9—79 гг. н. э.) — римский полководец, впоследствии император, один из организаторов покорения римлянами Иудеи.
(обратно)189
...по имени Андреаш... — Андрей фон Фельтен, магистр Ливонского ордена.
(обратно)190
...Король страны Римской из северной земли... — Поход шведов на Русь в 1240 году возглавлял не «король северной земли» — шведский король Эрик Эриксон, а его зять ярл Биргер и ярл Ульф Фаси.
(обратно)191
Церковь святой Софии — Софийский собор в Новгороде.
(обратно)192
Вспомним Песнотворца — Песнотворец — библейский царь Давид, предполагаемый автор многих псалмов (песнопений).
(обратно)193
Ижорская земля располагалась в районе реки Невы.
(обратно)194
Насад — небольшое судно.
(обратно)195
Римлянами на Руси иногда называли всех католиков вообще, а в данном случае — шведов и норвежцев. Битва произошла у впадения Ижоры в Неву 15 июля 1240 года.
(обратно)196
...Было же в то время чудо дивное... — далее излагается библейская легенда. Езекия — иудейский царь.
(обратно)197
...и построили город на земле Александровой... — Речь идёт о попытке ливонцев в 1241 году построить крепость в Новгородской земле.
(обратно)198
Псков был захвачен немцами в 1240 году и освобождён Александром Невским в марте 1242 года.
(обратно)199
...Как в древности помог Моисею одолеть Амалика...— Согласно Библии пророк Моисей после усердных молитв победил Амалика, вождя враждебного иудеям племени амаликнтян. Ярослав Мудрый разбил войско своего брата и соперника Святополка в битве на реке Альте в 1019 году.
(обратно)200
...была же тогда суббота... — Битва на Чудском озере (Ледовое побоище) произошла 5 апреля 1242 года.
(обратно)201
Море Хонужское — Каспийское море. Море Варяжское — Балтийское море.
(обратно)202
Жёны моавитские — то есть жёны татарские, так как моавитянами русские книжники называли татар. Здесь не более чем традиционная книжная похвала. Ещё о Владимире Мономахе летописцы говорили, будто именем его «жены половецкие» пугали своих непослушных детей.
(обратно)203
...пришли к нему послы от папы из великого Рима — усиленные попытки Ватикана склонить русских князей к союзу с католическим миром, как показал пример Даниила Галицкого, не несли для Руси никаких практических выгод, а только лишь грозили новыми ордынскими погромами. Александр Невский, отвергнув предложения папских послов, проявил большую политическую дальнозоркость и проницательность. Автор «Жития» вкладывает в уста Александра краткое изложение библейской истории и событий первых веков христианства.
(обратно)204
...Александр пошёл к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды... — Речь идёт о последней поездке Александра Невского в Орду в 1262 году. В эти годы хан Золотой Орды Берке с двоюродным братом Хулагу, обосновавшимся в Иране, собирал войска из всех покорённых народов. Вот что писал о последнем подвиге Невского С. М. Соловьёв:
«...Александр, чтобы отмолить людей от беды, отправился в четвёртый раз в Орду; как видно, он успел в своём деле благодаря, быть может, персидской войне, которая сильно занимала хана Берке. Но это было уже последним делом Александра: больной поехал он из Орды, проведши там всю зиму, и на дороге, в Городце Волжском, умер 14 ноября 1263 года, «много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение отдавая живот свой и за православную веру». Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории от Мономаха до Донского. Знаком этой памяти и славы служит особое сказание о подвигах Александровых, дошедшее до нас вместе с летописями, написанное современником и, как видно, человеком, близким к князю». (С. М. Соловьёв. История России с древнейших времён. Книга II. М., 1960, с. 160.)
(обратно)205
А сына своего Дмитрия послал в Западные страны — Александр Невский в 1262 году все свои войска послал на «западные страны», то есть на земли Ливонского ордена, вероятно, желая показать Орде, что помощь русских войск татарам в данный момент невозможна.
(обратно)206
...в великой архимандритье... — архимандрия — монастырь, управляемый архимандритом. Рождественский монастырь считался одним из самых привилегированных русских монастырей — «великой архимандрией».
(обратно)207
Эконом — одна из высших должностей в монастыре.
(обратно)208
Галицко-Волынская летопись, рассказывающая о событиях с 1200 года до конца XIII века, пожалуй, наиболее яркая, эмоционально окрашенная из всех русских летописей. Она создавалась и редактировалась на протяжении всего XIII столетия. Исследователи находят в её тексте следы работы по меньшей мере четырёх летописцев, продолжавших, дополнявших и редактировавших труд предшественников.
Первым над составлением летописи трудился митрополит Кирилл. Он руководил летописной работой до 1246 года. Известия 1247—1264 годов заносились в летопись под контролем холмского епископа Иоанна. Продолжал работу летописец князя Василька Романовича, брата Даниила Галицкого. Он вёл летопись до 1271 года — года смерти Василька. Последним трудился над Галицко-Волынской летописью летописец князя Владимира Васильковича (1272—1289).
Летопись как бы обрывается. Старейший сохранившийся список Галицко-Волынской летописи относится к XV веку. Он был найден ещё в начале прошлого столетия в библиотеке костромского Ипатьевского монастыря и получил название «Ипатьевской летописи». В Ипатьевскую летопись входит «Повесть временных лёг», Киевская летопись XII века и Галицко-Волынская летопись. Ныне эта ценнейшая рукопись хранится в библиотеке Академии наук в Ленинграде.
Тексты печатаются по изданию: «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 313—317, 345—353. Перевод О. П. Лихачёвой.
(обратно)209
Могучей — Мауци — воевода Батыя.
(обратно)210
Дороговск — город в Волынской земле.
(обратно)211
...он выехал в день праздника святого Димитрия... — Князья часто выбирали для отправления в дальний поход день памяти того святого, на покровительство которого они рассчитывали. Дмитрий Солунский — святой воин-мученик, память которого по церковному календарю праздновалась 26 октября, считался небесным заступником славян, покровителем княжеской власти. Многие русские князья носили крестильное имя Дмитрия.
(обратно)212
…где княжил Ярослав... — Летописцем допущена неточность: в 1250 году в Киеве княжил не Ярослав Всеволодович владимирский, а его сын, Александр Невский. Вообще хронология Галицко-Волынской летописи очень сбивчива, допускает ошибки до 4-5 лет.
(обратно)213
...в дом архангела Михаила в Выдубицкий монастырь... — главный храм Выдубицкого монастыря под Киевом был посвящён Архангелу Михаилу.
(обратно)214
Калугеры (греч.) — старшие монахи.
(обратно)215
Куремса — Хуремши — монгольский военачальник, командующий войсками на западных границах Золотой Орды. По словам Плано Карпини, Куремса — «самый младший среди других вождей» у татар. Он не смог в 40—50-е годы XIII века овладеть землями Даниила Галицкого и потому в 1258 году был заменён энергичным Бурундаем.
(обратно)216
...Чингисхановы наваждения... — возможно, какие-то проявления шаманского культа Чингисхана, установившегося вскоре после его смерти.
(обратно)217
Человек Ярослава — то есть боярин владимирского князя Ярослава Всеволодовича.
(обратно)218
Даниил сказал: «До сих пор не пил»… — Употребление кумыса считалось величайшим грехом среди христиан, попавших к татарам. Оно рассматривалось как измена вере. Кумыс — перебродившее кобылье молоко.
(обратно)219
Баракчин — старшая из жён Батыя. Казнена в правление хана Берке.
(обратно)220
...его отец был царь в Русской земле... — Отец Даниила, князь Роман Мстиславич Галицкий, действительно был в конце XII — начале XIII века сильнейшим князем южной Руси. Его указам подчинялись половецкие ханы. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году император Алексей III Ангел со своими придворными нашёл приют у Романа в Галиче.
(обратно)221
...он обещал... святому Иоанну Златоусту... — Как уже упоминалось, многие русские князья имели два имени: одно давалось при рождении, другое — при крещении. Вторым именем Даниила было имя Иоанн. Видимо, он был назван в честь Иоанна Златоуста — знаменитого византийского церковного деятеля и проповедника IV века н. э. Даниил построил храм в честь своего патрона, как это было принято в те времена.
(обратно)222
...Даниил... стал призывать туда иноземцев и русских... — Этот отрывок указывает на некоторые источники военно-политического могущества Даниила Галицкого: он привлекал на службу иноверцев, не стесняясь недовольством церкви. Вместе с тем его владения были как бы одиноким островом на залитой татарскими войсками Русской земле. К этому острову и устремлялись все, кто не хотел служить ненавистным поработителям. Большой приток беженцев из Северо-Восточной Руси позволил галицко-волынской земле сравнительно быстро преодолеть тяжёлые последствия Батыевщины.
(обратно)223
...построил он церковь святого Иоанна... — Этот храм Иоанна Златоуста по своей архитектуре напоминал владимиро-суздальские храмы, так как зодчество Северо-Восточной Руси развивалось с середины XII века под сильным влиянием галицкой строительной традиции. Интересно и упоминание о «римских стёклах» — витражах. Остатки цветных стёкол найдены при раскопках в Галиче, Чернигове, Гродно. Однако в целом этот приём был характерен для готики и редко применялся в древнерусском зодчестве.
(обратно)224
Поставлена высокая башня, которая в иных случаях служила и последним убежищем, обязательна для любого древнерусского города. Глубокий колодец был необходим на случай длительной осады.
(обратно)225
...святых безмездников... — святые мученики Косьма и Дамиан, по преданию — врачи, исцелявшие людей бескорыстно, без всякой мзды.
(обратно)226
Орёл каменный — возможно, служил напоминанием о славной победе Даниила над венграми, поляками и их русскими приспешниками в битве под Ярославом в 1249 году. По рассказу летописи, битва началась с доброго знамения: над русскими полками кружило множество орлов.
(обратно)227
...разыскивал он своего племянника Романа... — Литовский князь Войшелк захватил в плен и убил Романа, сына Даниила Галицкого, в отместку за то, что Даниил отправил брата Василька вместе с Бурундаем в поход на литовские земли.
(обратно)228
Текст даётся по Симеоновской летописи. Полное собрание русских летописей. Т. XVIII, с. 78—81. Перевод Н. С. Борисова.
(обратно)229
Слобода — от слова «свобода» — место, на некоторое время освобождённое от податей. Этими льготами основатель слободы стремился привлечь людей в свои владения.
(обратно)230
...князь Олег... с князем Святославом Липецким — герои повести — мелкие южнорусские князья, о которых по другим источникам ничего не известно.
(обратно)231
Хан Телебуга («Бешеный бык») — занимал престол Золотой Орды в 1287—1290 годах. Убит своими родичами.
(обратно)232
…у хана Ногая — темник Ногай — один из самых влиятельных людей в Золотой Орде в 80—90-е годы XIII века. Принимал активное участие в борьбе за власть. Убит в бою в 1300 году. Убивший Ногая русский воин из отрядов хана Тохты был казнён по приказу хана за то, что поднял руку на столь знатное лицо, как Ногай.
(обратно)
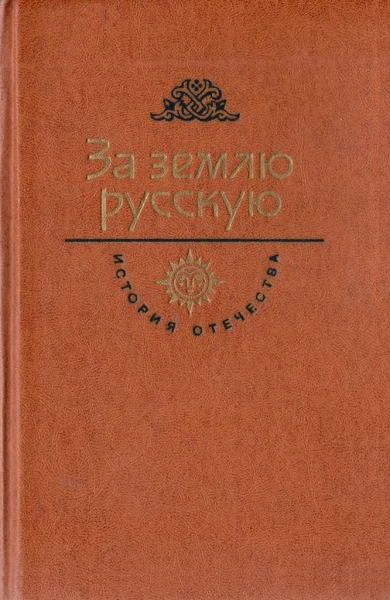



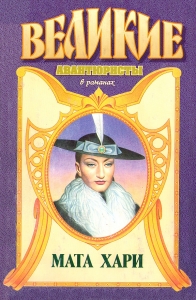

Комментарии к книге «За землю русскую. Век XIII», Алексей Кузьмич Югов
Всего 0 комментариев