Московский Ришелье. Федор Никитич
К читателям
Новая серия исторической художественной прозы «Романовы. Судьбы в романах» продолжает выходившую ранее серию «Романовы. Династия в романах».
Три столетия находились представители старинного русского рода на престоле. Три столетия, вместившие в себя государственные перевороты и отречения от власти, большие и малые войны, яркие победы и досадные поражения, свершения и разочарования. Три столетия, заключённые в рамки Великих смут: начала семнадцатого века и начала века двадцатого.
Двадцать государей из Дома Романовых правили нашим Отечеством. В 17-летнем возрасте взошёл на престол сын боярина Фёдора Никитича Михаил. Со смертью императора Петра II династия пресеклась в прямом мужском поколении, а со смертью императрицы Елизаветы Петровны — в прямой женской линии. Однако фамилию Романовы продолжали носить Пётр III и Екатерина II, Павел I и Александр I...
Им — правителям Российской империи — и была посвящена серия «Романовы. Династия в романах». Но не только государи и государыни оставили след в истории. Не меньший, а порой и больший интерес вызывают такие представители романовского семейства, как Фёдор Никитич, в 1619-1633 гг. являвшийся фактическим правителем страны, великий князь Константин Павлович, отказавшийся во имя любви от короны, старшая дочь Петра Великого Анна, которой смерть помешала стать императрицей, и многие-многие другие...
В заключение — немного об авторах. В отличие от предыдущей, в новой серии почти не будет переизданий. Большинство произведений написаны (и пишутся) современными авторами специально для серии «Романовы. Судьбы в романах».
Итак, первый том издан. За ним последуют другие: «Константин Павлович», «Анна Петровна», «Алексей Петрович»... Впереди вас ждёт путешествие по векам, характерам, судьбам. Скажем же друг другу: «В добрый путь!»
Энциклопедический словарь
Изд. Брокгауза и Ефрона
т. LXX, СПб, 1894.
иларет — патриарх российский, в мире Феодор, старший сын боярина Никиты Романовича. Предполагают, что он родился от второго брака Никиты Романовича, между 1554 и 1560 г. В детстве он получил хорошее образование и научился даже латинскому языку по собранию латинских речений, написанных для него славянскими буквами одним англичанином. Двоюродный дядя царя Феодора, любознательный и начитанный, весёлый и приветливый, красивый и ловкий, соединявший любовь к книгам с любовью к развлечениям и нарядам, он играл в молодости видную роль, пользуясь популярностью и у соотечественников, и у иностранцев. Он женился на дочери бедного костромского дворянина Ксении Ивановне Шестовой и имел от неё пять сыновей и одну дочь. Из всех детей его пережил только сын Михаил, избранный на царство. В 1586 г. Феод. Ник. упоминается как боярин и наместник нижегородский, в 1590 г. участвует в качестве дворового воеводы в походе на Швецию, в 1593-1594 гг. состоит наместником псковским и ведёт переговоры с послом имп. Рудольфа, Варкочем. В 1596 г. состоит воеводой в правой руке. От 90-х годов дошло до нас несколько местнических дел, касающихся Феод. Ник. и рисующих влиятельное положение его среди московского боярства. По смерти царя народная молва называла Феод. Ник. ближайшим законным преемником престола; в Москве ходили слухи, что покойный царь перед смертью прямо назначил его своим преемником. Борис Годунов, сев на царство, оправдывался перед ним ссылкой на народное избрание и давал ему клятву держать его главным советником в государственном управлении. Были ли у самого Феод. Ник. планы на воцарение, неизвестно; в Коломенском дворце, однако, был найден его портрет в царском одеянии, с подписью «царь Фёдор Микитич Романов». Как бы то ни было, он подписался под избирательной грамотой Бориса. В 1601 г., во время разгрома фамилии Романовых Борисом, Феод. Ник. был пострижен в монахи под именем Ф. и сослан в Антониев Сийский монастырь; жена его, постриженная под именем Марфы, сослана в Заонежские погосты, а малолетний сын Михаил и дочь заточены на Белоозере, с тёткой Настасьей Никитичной. Жизнь Ф. в монастыре была обставлена очень сурово: пристава пресекали всякие сношения его с окружающим населением и изнуряли его грубым соглядатайством и мелочными притеснениями, жалуясь в то же время в Москву на его крутой и запальчивый нрав. С появлением в 1605 г. известий о движениях Лжедмитрия в настроении Ф. была замечена резкая перемена: он повеселел и громко стал высказывать надежду на скорый переворот в своей судьбе. 30 июня 1605 г. Лжедмитрий возвёл Ф. в сан ростовского митрополита. Кажется, Ф. редко наезжал в свою митрополию, проживая с тех пор большею частью в Москве. По воцарении Василия Шуйского Ф. ездил в Углич открывать мощи Дмитрия Царевича. В 1609 г. Ростов подвергся нападению тушинцев; Ф., запёршийся с народом в соборе, был схвачен и, после различных поруганий, с бесчестием отправлен в Тушино. Однако тушинский вор, по мнимому своему родству с Ф., назначил его патриархом всея Руси. В качестве наречённого патриарха Ф. рассылал грамоты по церковным делам в области, признавших власть тушинского вора, а после бегства вора в Калугу участвовал в переговорах тушинцев с польским королём о приглашении последнего или его сына на русский престол. Когда Рожинский в марте 1610 г. сжёг Тушино, отряд польских тушинцев, отступивший к Иосифову Волоколамскому монастырю, захватил с собою и Ф. Только по разбитии этого отряда русским войском Ф. получил свободу и отъехал в Москву. По свержении Шуйского Ф., по указанию Жокевского, желавшего удалить из Москвы наиболее влиятельных лиц, был назначен вместе с кн. Голицыным в посольство к Сигизмунду для заключения договора о вступлении на русский престол королевича Владислава. 7 октября послы приехали под Смоленск. Переговоры, затянувшиеся до 12 апреля, не привели ни к чему, а после получения известия о приближении к Москве ополчения Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого послы были арестованы. Ф. пробыл в плену у поляков до 1619 г., проживая в доме Сапеги. По-видимому, уже тотчас по воцарении Михаила Феод, был предрешён вопрос об избрании Ф. в патриархи. Ещё до возвращения Ф. из плена он именовался в правительственных актах и на церковных антиминсах митрополитом не Ростовским, а всея Руси. После Доулинского перемирия 1 июня 1619 г., на р. Поляновке, за Вязьмой, совершился размен пленных; Ф. был обменён на польского полковника Струся. 14 июня Ф. въехал в Москву, торжественно встреченный сыном. Тогда же сложилась на Москве народная песня, посвящённая этому событию. Через несколько дней собор русского духовенства предложил Ф. сан патриарха, и 24 июня Ф. был посвящён. С саном патриарха Ф. совместил сан великого государя, чем поднял до высшей степени государственное значение патриархата. Установилось настоящее двоевластие: царь и патриарх оба писались государями; правительственные дела решались обоими государями, а иногда Ф. решал их единолично, даже без ведома царя. В качестве правителя Ф. показал себя крутым, властолюбивым и «опальчивым». Он быстро обуздал своеволие людей, приблизившихся в его отсутствие к трону его сына, подверг опале Салтыковых, самовольно отдаливших от царя его невесту Хлопову, Грамотина и др. На соборе 1619 г. он выдвинул вопрос о составлении новых писцовых и дозорных книг и о вызове в Москву выборных людей от духовенства, дворянства и посадских людей для подачи заявлений о местных нуждах населения. Он руководил дипломатическими сношениями и, между прочим, составил «тайнопись», т.е. шифр для дипломатических бумаг. Патриаршая деятельность Ф. состояла в энергичной охране чистоты православия, в развитии печатания богослужебных книг и в реформе церковной администрации. Строгое преследование религиозного вольнодумства и нравственной распущенности выразилось в мерах, принятых против кн. Хворостинина, в распоряжениях о прекращении кулачных боев, развратных скопищ, четверобрачия, некоторых языческих обрядов (кликания, коляды, овсеня), в грамотах сибирскому архиепископу и Соловецкому монастырю о пророках и непорядочной жизни мирян и монахов. Нередко в своих мерах по охране чистоты православия Ф., за отсутствием богословского образования, переходил границы необходимости. Так, он настойчиво требовал перекрещивания обращающихся в православие латинян и в 1620 г. на соборе духовенства осудил мнение крутицкого митроп. Ионы, находившего в этих случаях достаточным совершение одного миропомазания. Тогда же Ф. установил перекрещивание белорусов, выходящих из Польши и Литвы, хотя бы они и считались там православными. В 1627 г. по приказанию Ф. сожжено «Учительное евангелие» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого, не содержавшее в себе, в сущности, ничего еретического, и начаты гонения на литовские книги, обращавшиеся в русских церквах. Тогда же был напечатан катехизис Лаврентия Зизания Тустаневского, после весьма мелочных и придирчивых исправлений и нескольких прений, устроенных между Зизанием и игуменом Ильёй и справщиком Онисимовым. Печатанию и исправлению книг Ф. уделял много внимания. В самом начале своего правления Ф., по представлению патриарха Иерусалимского Феофана, возбудил пересмотр дела о справщиках Дионисии, Арсении и Иване Наседке, незадолго перед тем обвинённых за исключение из Требника слов: «и огнём» в молитве на Богоявление. Собор в присутствии Ф., Феофана и государя оправдал справщиков, и по получении разъяснительных грамот от других патриархов прибавка: «и огнём» была окончательно вычеркнута из Требника. В 1620 г. Ф. возобновил типографию на Никольской, на старом печатном дворе, и устроил особое помещение («правильню») для работ справщиков, а также положил начало знаменитой впоследствии типографской библиотеке, сделав распоряжение о доставлении туда из городов древних харатейных книг. Московская типография при Ф. выпустила много изданий — все 12 миней месячных и ряд богослужебных книг, причём некоторые издания были свидетельствованы самим Ф. При печатании обращалось много внимания на исправление текста, для чего Ф. привлёк к работам более образованных справщиков, сличавших тексты с древними славянскими рукописями, а в некоторых (редких) случаях — и с греческим. Книги рассылались по городам, в церкви, монастыри и торговые лавки по цене, в которую обошлось их напечатание, без прибыли, а в Сибирь — безвозмездно. В 1622 г. Ф. издал «Сказание действенных чинов св. соборной церкви Успения св. Богородицы», т.е. устав для отправления праздничных богослужений и церковных торжеств, а также «Поучение великого господина на поставление митрополитам, архиепископам и епископам»; ему же приписывают «Поучение на поставление архимандритам, игуменам и священникам» и «Поучение игуменьям». Ф. заботился и о насаждении школ, призывал архиепископов к учреждению училищ при архиерейских домах и сам завёл в Чудовом монастыре греко-латинское училище, порученное Арсению Глухому. В 1632 г. приехавший в Москву протосингель александрийского патриарха Иосиф был оставлен Ф. в Москве для перевода книг и для устройства греческой школы. Важный след оставила деятельность Ф. в области церковного управления. Двор патриарха устроился при нём совершенно по образцу двора государева; организовался класс патриарших дворян и детей боярских, верстаемых поместными окладами. Патриарший вотчины значительно увеличились покупками и царскими пожалованиями. Власть патриарха над населением этих вотчин была расширена царской грамотой 20 мая 1625 г., которою уничтожались все прежние несудимые грамоты отдельных церквей и монастырей патриаршией области, и патриарх получал право судить и ведать духовное и крестьянское население этой области во всяких делах, кроме татьбы и разбоя. Управление патриаршей областью облекается при Ф. в правильные формы, аналогичные светским государственным учреждениям. Возникают патриаршие приказы: 1) судный или разряд — для судебных дел, 2) приказ церковных дел — по делам церковного благочиния, 3) казённый — ведающий сборы с духовенства и 4) дворцовый — заведовавший хозяйством патриарших вотчин. В каждом приказе сидел патриарший боярин, с дьяками и подьячими. Дела решались с доклада патриарху. Энергичная устроительная деятельность Ф. не ограничивалась одною патриаршей областью. Во всём государстве производились подробные описания церковных и монастырских имуществ, пересмотр и подтверждение жалованных грамот, выданных монастырям, новые пожалования их землями. В 1620 г. открыта новая Тобольская епархия. При Ф. состоялась канонизация двух святых — Макария Унженского (1619) и Авраамия, еписк. Чухломского и Галицкого (1621), а также присылка в 1625 г. персидским шахом части Господней ризы, которая была поставлена в ковчег в Успенском соборе. При Ф. возобновились прерванные в эпоху Смуты сношения Москвы с греческой и восточными православными церквами и приезды в Москву за милостыней многочисленных представителей духовенства этих церквей. Ф. скончался 1 окт. 1633 г., имея около 80 лет от роду.
ГЛАВА 1 ГРОЗА НА РОМАНОВСКОМ ПОДВОРЬЕ
лощадь кипела торгом. День был летний, базарный. Плотно теснились ряды лавок и столов, где на самом виду были разложены товары, коими была обильна и богата Древняя Русь. Мало кто из современных читателей знает, что Красная площадь в те времена именовалась Пожаром (Красной она стала позже), что была она некогда средоточием торговой жизни России. Здесь можно было присмотреть и ценную пушнину, и жемчуг, выловленный в реках. Поражали дешевизной искусное женское шитьё, тонкая резьба по дереву, расписная глиняная посуда.
И всюду торжествовали запахи русской кухни. На базаре можно было отведать и студня, и кулебяки, и блинов, и взвара. Тут же бойко тараторили зазывалы из питейных заведений и разбитные бабёшки из притонов. Напоказ гуляли бражники, готовые пропить последнюю рубашку.
А немного подалее, на Спасском мосту, шла торговля духовным товаром. Торговали книгами, рукописями, иконами, но спрос был небогатый. Грамотой владели немногие, и высокое искусство древних иконописцев тоже редко находило достойного покупателя. Что касается зарубежных гостей, то они ещё не научились ценить шедевры русской духовной жизни.
Общий торг шёл успешно, но в нём была заметна суетность. Чувствовалось, что купцы спешили продать свой товар. Они помнили, что нынче придётся до времени закрывать лавки. Возле Лобного места скоро начнутся приготовления к смертной казни, и народ станут сгонять туда для устрашения и назидания. Толковать об этом опасались. Всяк занимался своим делом.
Только возле собора Василия Блаженного, казалось, без дела толпились чем-то озабоченные люди. Они переговаривались меж собой, не обращая внимания на скомороха, который играл на сопелке и дразнил их смешными ужимками. Сиротливый вид этих людей заставил скомороха отойти к паперти, где толпились божедомы, как называли тогда людей, лишённых пристанища, но там его сердито прогнали прочь. Храм пустовал, ибо, возведённый недавно, был весь в лесах. И назывался он не собором, а храмом Покрова на Рву. Место за храмом было пустынным. Позади тянулся ров. Слева через дорогу располагались боярские и купеческие палаты. Планировки не было, обустраивались, как кому заблагорассудится. Теснота была нешуточной. Крыши громоздились одна на другую. С каменными строениями соседствовали деревянные домики, с металлическими решётками — деревянные же заборишки. Меж ними вились тропинки, именуемые переулками. Но запоры на дверях у всех были железные: Москва полнилась слухами о разбойных нападениях.
От этих застроек собор отделяла дорога, называемая Москворецкой улицей. Самой этой улицы нет на карте современной Москвы, но ранее она соединяла Китай-город, начинавшийся от восточной стороны Кремля, с Замоскворечьем. И хоть место было безлюдным, реки не было видно даже с пригорка, её берег густо порос ивняком и соснами.
Москворецкая улица шла прямо с Красной площади, а её начало было положено деревянным брусчатником. На эту улицу время от времени поглядывали озабоченные люди возле собора. Можно было заметить, как успокаивал их молодой боярин, как он пытался покинуть их, но его за руку держала боярыня и плакала, не отпуская от себя.
Но вот послышался звук многих подков, и боярин рванулся по направлению к Москворецкой улице: туда выезжал царь со своими опричниками. Мигом опустело всё пространство перед ними. Людей словно ветром сдуло — столь страшен был им грозный царь. Страшны и опричники. Одеты они в чёрное, к седлу привязаны метла и собачья голова.
Всё дальнейшее произошло в мгновение ока. Едва царь въехал на деревянный настил улицы, как боярин упал на колени, загораживая дорогу коню.
— Помилуй, государь, брата моего единородного, князя Оболенского! Не вели казнить его казнью лютой! Отпусти нам вину его и мою!
В склонённой позе поверженного, в скорбном преданном взоре, который он обратил к царю — смиренная надежда на милость. Казалось, в облике государя в эту минуту не было ничего свирепого. Но мало кто даже из близко знавших царя мог догадаться, что творилось в его душе. Не ведали его ближники[1] и о том, сколь он был подвержен страхам, какую власть имел над ним испуг. Да и кто бы смел подумать, что царь испугался? И кого? Своего раба!
Но это было так. Иоанн испугался неожиданного и дерзкого поступка молодого боярина. Царь не был храбрецом, поэтому смелость других людей была ему подозрительна. Самые мужественные его воеводы были казнены им. Не терпел он и бесстрашных правдолюбцев, подвергал их опале.
Царь выхватил привязанный к седлу посох и, наступая конём на поверженного боярина, ударил его посохом по голове. От этого удара отлетела в сторону боярская шапка и сам боярин упал на спину, но он был ещё жив и силился поднять голову. И тогда, склонившись над ним, царь проткнул ему шею остриём посоха. Брызнула кровь. Сделав судорожное движение руками, несчастный затих.
— Подох, аки пёс, — молвил кто-то из опричников.
— Уберите боярина! Божиими судьбами он испустил дух под копытами коня...
Сказав это, царь злобно посмотрел на Афанасия Вяземского.
— А ты, князюшка, али не видал, как злодей кинулся ко мне? Пошто не упредил? Не ты ли клялся на кресте отдать за своего государя не токмо кровь, но и жизнь!
Князь Афанасий Вяземский был ближником царя, с него и спрос особый. Не дай Бог навлечь на себя царский гнев... Опустив повинную голову, он раболепно произнёс:
— Не вели, государь, казнить, вели миловать... Сослужу тебе ещё не одну службу.
Ничего не ответив, Иоанн пустил лёгкой рысью своего высокого поджарого аргамака. Князь Вяземский понял, что прощён, но на душе у него было смутно. Он знал, что ему завидуют, называют царским любимцем. Но что впереди у него, Афанасия? Царь князей не жалует, язвит их поносными словами, чинит им тесноту, оставляет не у дел. Оттого-то и надумал Афанасий-князь пойти на опричную службу. И что же? Где она, милость царская? Милостью ныне одаряют при дворе людей незнатных.
Но тут Вяземский задумался, вспомнив об Алексее Адашеве. Поначалу царь ласкал его, сделал своим мовником этого безродника, сравнял его с первым боярином, князем Мстиславским, и шурином своим Никитой Романовичем. А ныне Алёшка Адашев в великой опале... Нет ни в чём постоянства у царя Ивана Васильевича. Вот и теперь, с добром ли едет царь к своему шурину Никите Романовичу? Пока была жива царица Анастасия, брат её Никита имел большую силу при дворе. Знатности его и богатству и по сей день многие завидуют. Да, видно, недаром люди говорить стали, что царь держит нелюбие к своему первому вельможе. Осторожный Вяземский не ввязывался в эти разговоры. Но как не думать об этом? Вот и сейчас в голове стоит вопрос: что за нужда такая ехать с опричной свитой к своему родичу? И чело у царя хмурое, и лошадь он погнал рысью, хотя всей дороги-то с воробьиный скок.
...Вид на романовское имение открывался с пригорка Москворецкой улицы. Меж садами и огородами — дворовая церковь, приусадебные постройки, мельница, житные дворы, мыльня, конюшня, псарня, кузница. Стеной к проезжей части Варварки, выходившей к Москворецкой улице, выставлен двухэтажный боярский дом знатной каменной кладки. Слюдяные оконца изукрашены резными наличниками. Дом этот сохранился до наших дней, и находится он по соседству с гостиницей «Россия» — крохотный уголок боярской старины. В те времена имение было окружено высокой каменной стеной, но так как и стена не спасала от нападения разбойников (лес-то рядом), то за оградой была поставлена вышка. Под стропилами, состоявшими из двух брусьев, собранных под углом, подвешен небольшой колокол. Днём и ночью возле него дежурил сторож из смердов[2]. В обычные дни колокол звонил редко: к заутрене звал либо к вечерне. Поэтому когда в полуденный час раздался тревожный звон, на подворье начался переполох. Когда встревоженный хозяин вышел на крыльцо, дворецкий оповестил:
— Ваша боярская милость, к вам изволил пожаловать государь-батюшка!
Никита Романович гневно крикнул ему:
— Что стоишь, смерд?! Вели отворять ворота! Пресветлый царь, государь великий изволил к нам пожаловать. Да живее, окаянный! Или батогов захотел?
Подгоняемый страхом дворецкий кинулся исполнять приказание. И когда ворота наконец отворились, побледневший Никита Романович поспешил встретить царя. В голове испуганно метались мысли: «Ужели опричники въедут во двор? Вот так же негаданно приехали они к тестю, князю Горбатому-Суздальскому, и казнён был знатный воевода, прославившийся удалью и воинской смекалкой при взятии Казани. Недруги винили его в измене. Ведаю, что изветами и мои недруги досаждают царю. Вот оно...» — ужаснулся своей догадке Никита Романович, вспомнив о сегодняшней казни.
Между тем опричник, князь Вяземский, помог царю спешиться. Никита Романович склонился в низком поклоне.
— Благодарение Богу, пресветлый государь пожаловал ко мне, своему верному слуге и рабу!
Царь глянул на него надменно и подозрительно.
— У тебя в красном бору лихие люди гнездовье основали. Пошто не предуведомил?!
— Не ведал... Истинный Бог, не ведал.
— Неведение — не напасть, да как бы не пропасть, — хохотнул Вяземский.
Иоанн строго на него посмотрел.
— Ты, Афонька, бери своих молодцев, и Никита Захарьин даст своих людей. Да чтобы тех злодеев живыми или мёртвыми приволокли к Лобному месту.
Вяземский изменился в лице: мыслимо ли изловить разбойников в одночасье! Но царь уже забыл о нём. Всё с тем же выражением хмурой неприязни он смотрел на смиренно склонённую перед ним хозяйку. Певуче лились слова:
— Свет ты наш, государь-батюшка! Видно, Господь услышал наши молитвы, прими поклонное слово рабы твоей и пожалуй в наши хоромы!
— Цыц!
Царский посох загремел о первую ступеньку порога. Очевидно, напомнила ему боярыня о князе Александре Борисовиче, её отце. Царь Иоанн не имел обыкновения прощать людям своей злобы к ним.
Бедный Никита Романович всё это видел и понимал: грозы не миновать. Ныне царь на многих положил свой гнев. Но какую вину сыскал он в своём шурине? Или он, Никита Романович, не родной дядька царевича? Или государю не угодна его служба?
И только успел это подумать, как царь бросил не него подозрительный взгляд.
— Ты никак, Микита, не в себе?
Никита Романович вздрогнул. Он знал цену царской подозрительности, изведал её на себе, когда Иоанн был ещё отроком. Всю жизнь памятен ему был тот день, когда затравили псами князя Андрея Шуйского. Злая участь грозила и Никите, да спас Господь. Спасёт ли ныне? Никита Романович знал, что страх находил на царя в ту минуту, когда он начинал подозревать людей в злых умыслах против себя. Он давно приметил, сколь недоверчив к людям царь. С болью в сердце догадывался он, что причиной царской подозрительности была слабость души. Хуже лютого зверя становился Иоанн, когда по жилам его пробегал трепет страха. Увы, жестокосердие и трусость живут рядом. Или не грех подозревать его, первого вельможу, в недобрых чувствах к царю? Но пройдут годы, и в опалу попадут царевичи, родные дети, подозреваемые Бог весть в чём.
Никита Романович не вдруг ответил царю.
— Али не слыхал, Никита Романович, сам государь тебя изволит спрашивать? Ты пошто не в себе? — подал голос опричник Фёдор Рваный, неотступно оберегавший царя во время его выходов, готовый по первому знаку вязать «изменника».
Никита Романович, словно не слыша обращённого к нему голоса опричника, низко поклонился Иоанну.
— Ты правду молвил, великий государь, ныне я и впрямь не в себе. Ныне мы поминали сестру нашу, незабвенную царицу Анастасию. Во сне она ко мне приходила.
Что-то дрогнуло как будто в лице царя. Он молча слушал шурина, и в глазах его не было прежней угрюмости. Он несколько смешался. Может быть, перед ним возник образ любимой царицы, со смертью которой он многое утратил.
— Вечная ей память! — перекрестился Иоанн и стал подниматься на крыльцо, провожаемый хозяином.
В кабинет боярина можно было войти лишь через трапезную. Такое расположение палат отвечало духу того хлебосольного времени. Гостя поначалу угощали питием и яствами, а уж затем беседой. Не разогрев себя вином, не ублажив вкусной пищей, как станешь вести дела!
Хозяин и гость, оба высокого роста, низко склонились под притолокой и вступили в трапезную. Но царь отказался от угощения. Вошли в кабинет.
Возле единственного оконца кресло, куда и опустился Иоанн. Кабинет обит голландскими шпалерами. Тона коричневые. На маленьком столике возле кресла — серебряный подсвечник и раскрытое Евангелие в серебряном переплёте. Жарко, но ни хозяин, ни царственный гость не сняли кафтанов. Первым делом царь кинул взгляд на Евангелие. Видно было, что хозяин прервал чтение, не успев перевернуть страницу.
Иван Грозный ценил в своих подданных благочестие и сам был благочестив, не упускал случая сказать, что благоустраивает свою державу в благочестии, благословлял строительство новых церквей и монастырей, посылал им дары из своей казны. Но позже он немало притеснял святые обители многими поборами, так что они опускались до нищенского существования, а на самих священников и монахов устраивал гонения.
Однако сам Грозный так не думал, православную веру чтил свято и нерушимо, пресекал всякие поползновения на неё, усердно читал священные книги. Оттого-то он и устремил свой пристальный взгляд на Евангелие, лежавшее на столе боярина. Оно было открыто на Екклесиасте. Царь прочёл первое попавшееся ему на глаза: «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий: но один погрешивший погубит много доброго» — и тотчас же нашёл то, что отвечало его заботе:
«Но один погрешивший погубит много доброго».
Он произнёс эти слова словно угрозу. Глаза его вспыхнули гневом. Он пристально глянул на Никиту Романовича.
— Ты пошто о собаке Алёшке Адашеве молчишь? Или не сказано в Писании, что один погрешивший погубит много доброго?!
Никита Романович смешался. Он не ожидал этого вопроса. Алексей Адашев был мовником и спальником царя, пользовался его доверием и любовью. Он был незнатного происхождения, но из ненависти к боярам царь окружал себя людьми низкого звания. Он дал Адашеву чин окольничего, а брата его Данилу назначил воеводой. Но братья Никиты Романовича, гордившиеся своим родством с царём, не захотели делить своё влияние на него с каким-то Адашевым и начали крамольничать против окольничего. Они оговаривали его, будто во время болезни царя он, вместе с мятежными боярами, не хотел присягать его сыну-младенцу и чаял видеть на троне двоюродного брата царя Владимира Старицкого. Никита Романович знал, что его братья поверили досужим домыслам, что вышла клевета на человека, но отмалчивался: не хотел брать грех на душу. В подозрительном уме царя Ивана стоило лишь посеять сомнения, чтобы навести опалу на ни в чём не повинного человека.
Однако оговоры Адашева получили силу не по одной только мнительности царя Ивана. Беда людей, его окружавших, была ещё в том, что царь не отличался постоянством в своих привязанностях. Алексей же Адашев, будучи человеком искренним и честным, надоел царю Ивану своими хлопотами об опальных людях и благими советами, поэтому клевета быстро попала в цель.
— Ты никак, Микита, думаешь запираться? Тебе жалко погубителей своего государя?
Никита Романович поднял свои большие тёмные глаза, в которых была одна лишь преданность государю. Он видел, сколь гневен тот, но считал этот гнев справедливым: царь беспокоился о тишине в своей державе, её крепости. Или мало было у него недругов? Оттого и не видел Никита Романович в лице своего царя признаков злого нрава и грубой жестокости. Он судил о царе Иване по отношению к себе, его подданному. Гневается государь — и Никита Романович смутен; благорасположен к нему — и Никита Романович счастлив.
— Ты никак, Микита, думал запираться? Тебе жалко моих изменников? — повторил царь.
Никита Романович опустил голову.
— Вели послать на плаху, государь, ежели в чём согрешил противу тебя!
Царь молчал, несколько успокоенный видом покорности своего шурина. В ту минуту он вновь напомнил ему царицу Анастасию: тонколик и так же безропотно темнеют глаза под дугами бровей. Но царица бывала лютой против государевых изменников, а братец её норовит запираться. И снова на бугристый лоб царя набежали морщины гнева, отвисла нижняя толстая губа.
— Или не погрешил? Молчанием своим погрешил! — выкрикивает Иоанн резким пронзительным голосом.
В маленьком кабинете душно. Из-под царской шапки выбилась повлажневшая прядь рыжих мелко-курчавых волос, на лбу выступили капельки пота. Боярина Никиту кидает то в жар, то в холод. Не сразу находит он нужный ответ:
— Рассуди, государь, своим Богом дарованным разумом и богорассудным смыслом — мне ли, худому рабу твоему, сказывать тебе о том, что и самому тебе ведомо!
Но слова эти не понравились царю. Он оборвал боярина, стукнув посохом:
— Ты сказывай мне, пошто не доводил до меня злые умыслы боярские? Или я не жаловал тебя своим жалованьем? Или в записи моей целовальной не написано про то, чтобы всякое злое слово на царя в дело ставить!
И, грозно помолчав, царь спросил немного мягче:
— Добр ли тот человек, что слышал дурное про государя и молчит?! Не по сердцу ты мне ныне, Микита! Или скажешь, что мало видал от меня милостей?!
Никита Романович понял, что должен твёрдо стоять на своём.
— Что слыхал о лихе или добре, всё тебе, государь, сказывал. А с Адашевым мне не случалось водиться.
— Ой ли? Не был ли этот пёс вашим начальником? Я взял его на службу из навоза, сравнил с вельможами, возвысил до телохранителя, надеясь на его верность. Каких только почестей не удостоили мы его... И чем он нам отплатил? А вы, бояре? Почто дозволили ему подчинить вас своей воле и вывести себя из-под нашей власти?! Поверив ему, вы стали прекословить нам, почти сравняли и себя с нами...
Никита Романович знал, на кого кипел гневом царь. История была давней, но царь её не забыл, и перед ним всё повторялось как бы снова. Стоило провиниться одному-двоим, как виноватыми становились в его глазах все.
Повелось это со времени его болезни, когда он повелел боярам присягать его сыну-младенцу Димитрию. Присягали все: одни охотно, другие после некоторого колебания. Выздоровев, грозный царь на многих бояр обрушил свой гнев. Пострадали и те, кто не подавали голоса против присяги царевичу-младенцу. Их печальную участь разделил и Алексей Адашев.
Братья Романовы были рады его опале и содействовали ей. Не по душе им было возвышение Алексея Адашева. «Не по мере своих сил взял Алёшка волю при государе», — говорили они. Никита Романович помнил, как, жалуя того чином окольничего, царь Иван сказал: «Алексей! Взял я тебя из нищих и незначительных людей и взыскал тебя выше меры твоей!»
И действительно, Адашев пользовался несказанным доверием и приязнью Ивана, потеснив их, царских родичей. Он поручал Адашеву выбор людей в делах военных и гражданских, забыв, что прежде о таких делах держал совет с Захарьиными-Романовыми.
Как было стерпеть такую обиду родным братьям царицы! И поэтому, когда Фёдор Адашев воздержался от присяги младенцу Димитрию, они прибегли к наговору: мол, не токмо Фёдор Адашев, но и сын его Алексей умышляют зло на государя. И кто обвинит их, оберегавших своего государя от злодейских умышлений? Никто. Всем ведомо, какие ковы задумывали изменники.
Смущало Никиту Романовича другое: неправый укор царя Ивана за «дружбу» с Алексеем, ибо ни с кем из Адашевых Захарьины от века не водили дружбу. Не было этого. Или царь хочет выведать у него, старого вельможи, не насевается ли среди бояр новая крамола, нет ли тайного сговора с Адашевыми?
Подумав об этом, Никита Романович сказал:
— Ныне Алёшке не с кем совокупляться в приятельстве. И то посуди: к такому дураку кто пристанет!
Догадываясь, к чему клонит его хитрый шурин, царь недовольно произнёс:
— Разумом и смыслом ты, Никита, не горазд. Обидел тебя Бог: прост ты в разуме. Или думаешь, бояре ныне не хотят своей волей жить? От них и ныне великое насилие и неурядица.
Видно было, как наливалось гневом лицо царя. Нижняя губа снова отвисла, подбородок задрожал. Рука потянулась к посоху. Никита Романович поднялся с лавки, низко склонился перед царём:
— Прости мне, государь, слово неумелое. Правду ты сказал: не горазд я разумом и смыслом.
Он взял в руки Евангелие и перекрестил им царя Ивана, потом бережно положил Евангелие на стол и снова поклонился царю. Тот молча, с тихим выражением лица смотрел на своего боярина-шурина, как бы стараясь вникнуть в смысл его поступка.
После того как царь подверг опале своего придворного попа Сильвестра, у него не было духовного отца, он даже не помнил, когда исповедовался последний раз. И не сам ли Господь надоумил боярина благословить его книгой Священного Писания?! То добрый знак. Царь Иван почувствовал, как на душе у него словно помягчело... Он поднялся, произнося:
— Благословен Господь!! А я, боярин, не забуду твоего добра!
Царь быстро вышел из хором, но на дворе ему попался замешкавшийся служилый человек, по чину из детей боярских. Тот так растерялся, что не успел отскочить подалее, не успел даже понять, что произошло, поверженный наземь ударом царского посоха.
— На колени, смерд!
Остальных со двора точно ветром сдуло. Знали, что мнительный царь мог убить ни за что.
ГЛАВА 2 РАННИЕ УРОКИ ВЛАСТОЛЮБИЯ
Маленький Федя видел из оконца, как во двор въехала царская карета. Он впервые видел царя так близко и с интересом разглядывал его шапку в блестящих камушках, его кафтан, расшитый узорами и сверкающий на солнце. От него не укрылось, что матушка с батюшкой чего-то испугались. Зачем приехал к ним царь? И почему он такой злой? Понемногу им тоже овладел страх. Он забыл про новые игрушки, что подарил ему дядя Данила, и направился к двери, чтобы прошмыгнуть в батюшкины палаты, но его остановила сенная девушка:
— Нельзя, барин, сиди смирно! У боярина в гостях государь. Позову тебя, как уйдёт...
Федя вернулся к окошку и стал смотреть на крылечко, ожидая, когда покажется на нём царь. Но в детскую неожиданно вошла мать. Она была тоненькая и худенькая, как девочка, и только дорогая кика на голове и парчовый, шитый серебром сарафан говорили, что это знатная боярыня. Никто не мог бы назвать её красивой, но для Феди она была лучше всех в целом мире. Он кинулся к ней, а она подхватила его на руки, прижимая к себе. Её тревога передалась ему.
— Матушка, ты испугалась царя?!
— А то! Царской грозы всяк боится...
— Ладно... Скоро вырасту, сам царём стану и буду оберегать тебя, чтобы никто не обидел.
— Ну и добро, сынок... Вырастай скорей!
Мать, смеясь, теребила его, но он видел, как глаза её увлажнились.
— Не плачь, матушка. Царь-от скоро уедет...
— Скоро-скоро, — произнесла она, с тревогой поглядывая на дверь, словно ожидала какой-то беды.
Раздались голоса. Она прислушалась и, опустив сына на пол, быстро вышла, строго наказав ему сидеть тихо.
Федя кинулся к окну.
Не надо бы ребёнку видеть то, что он увидел! Он приблизился к окну в ту минуту, когда царь ударил холопа посохом по голове. Федя узнал Тимошу, с которым ещё утром разговаривал во дворе и который обещал посадить его на коня. Когда холоп повалился наземь, Федя страшно закричал и кинулся от окна. Мать долго не могла его успокоить: сын заходился в крике.
И может быть, это тяжкое впечатление было причиной того, что будущий Филарет Романов станет особенно памятлив на печальное, что страх перед грубой силой будет часто мешать ему на его трудном пути.
Жестокие уроки имеют и опасную сторону. Они нередко накладывают грубые рубцы на душу человека, тем более в юном возрасте. А рассказы Никиты Романовича лишь усиливали значение этих уроков, вызывая порывы властолюбия, столь свойственного всему роду Кошкиных-Захарьиных.
Поведение Никиты Романовича было живым уроком жизни для юного Фёдора.
Это было время, когда Романов-старший укреплял своё положение при дворе. После опалы Алексея Адашева Никита Романович стал самым близким к царю человеком. Он был и советником, и мыльником, и телохранителем. Его усердие было вскоре вознаграждено. Царь подарил ему село Преображенское. Отвесив Иоанну поясной поклон, Никита Романович молвил:
— Благодарение Господу и тебе, государь, что согрел сердце холопу своему Миките, показав ему милость.
Куда как спокойно теперь на душе у Никиты Романовича. Но может ли он сказать, что уверен в царе, что постиг его душу? Такие вопросы не приходили ему в голову, как, впрочем, и многим боярам. Люди, поглощённые устройством своих дел и слишком спокойные, чтобы волноваться о чужих судьбах, мало интересуются тем, что творится в душах окружающих. Они склонны верить в разумность происходящего, ибо «всё в воле Божией».
Жестокость считалась дозволенной даже в глазах незлых людей. Когда царь убил посохом холопа Никиты Романовича, боярин сказал:
— И поделом Тимофею. Зачем выставился перед царём?
Было ли это оправданием жестокости или Никита Романович хотел попасть в общий тон, установленный царём? Скорее всего, боярин не видел в этом жестокости: насильственная смерть холопа была делом обычным. Холопами же почитались все подданные царя, в том числе князья и бояре.
Многочисленные казни по воле царя, без всякого суда, становились бедствием державы и всего русского общества, а в глазах Никиты Романовича являлись делом государственным. Романов-старший верно служил царю не из одной холопьей преданности или родственных чувств. Тем более не ради корысти. С царём Иваном его связывали заботы, судьбоносные для России. Истоки этой связи уходили в далёкое прошлое. Московские великие князья, начиная с Ивана Калиты, стремились к единодержавию и успешно теснили князей Рюриковичей, имевших одинаковые с ними права на русский престол. При Иване III, деде Грозного, Рюриковичи были уже в тени, а первенствующего положения домогались служилые люди, получавшие боярство за верную службу великому князю.
Удивительно ли, что при сыне Ивана III — Василии Ивановиче — заметнее других выдвинулись бояре Кошкины. Не будучи сами родовитыми, они успешно сдерживали наплыв княжеских фамилий ко двору, и Михаил Юрьевич Кошкин занимал уже второе место при великом князе. Но самые надёжные и окончательные успехи ожидали бояр Кошкиных-Захарьиных в царствование Ивана Грозного. Женившись на Анастасии Романовне Захарьиной, царь дал представителям этого боярского рода особые права и привилегии.
Можно было, однако, понять, что личный выбор царя не был вполне свободным от соображений государственной политики. Открыто было выражено предпочтение роду незнатных московских бояр. Царь не хотел терпеть рядом с собой представителей гордых князей Рюриковичей. Это подтверждали и последующие его шаги, когда начались опалы на знатные княжеские и боярские фамилии.
В Никите Романовиче Иван Грозный нашёл ум и энергию преданного ему вельможи, разумно рассудившего, что для устройства державы необходим приток свежих сил из служилого сословия. Царь был доволен, что его любимый боярин чуждался многих бояр, высмеивал их невежество, глупость, лень: живут-де как мыши в норках, в стороне от государевых дел.
Но особенно доставалось от него высокородным князьям. Это Никитой Романовичем было брошено насмешливое слово «княжата», то есть представители высокородных княжеских фамилий. Княжата, в свою очередь, честили Никиту Романовича, объясняя его задор борьбой за власть. Лучшие из них скорбели о том, что царь не сумел подняться над распрями и личной злобой. Они не упускали случая напомнить о заслугах князей перед отчизной. И разве не собирание сил выделило их из среды великих князей, к роду которых принадлежал и царь Иван? И разве не княжеская среда и ныне выдвигала таких славных воевод, как Иван Петрович Шуйский, как Воротынский и Буйносовы-Ростовские? «О державе хлопочете, а сами насеваете раздрай», — упрекали князья сторону бояр Романовых. А иные зловеще предупреждали: «Погодите, дайте только срок, вам будет то же, что и княжатам».
Словом, начинали сгущаться тучи и над Романовыми. Иоанн взял в царский дворец сына боярина Фёдора Годунова — Бориса, а прежних ближников, в том числе и Никиту Романовича, начал отдалять от себя. И не раз доведётся знатному вельможе испытывать на себе предупреждающие удары судьбы, не раз будет он молить Всевышнего о милосердии и спасении.
А пока патриарх рода Романовых жил надеждой, что старший сын Фёдор приумножит достояние прародителей, займёт соответствующее место у трона рядом с царевичами. Недаром многие замечали, что ловкостью, красотой и разумом Федюшка схож с царевичем Иваном. Как и царевич, он рано начал читать, любил книги и легко усваивал «науку жизни».
Никита Романович гордился старшим сыном, поместил его в школу при Чудовом монастыре, где он особенно тщательно изучал Священное Писание и историю. Успехи отрока были столь очевидными, что отец почёл за нужное приобщить его к своим делам. Он радовался зрелым суждениям сына, его находчивости. Рассказы взрослых давали ему богатую пищу для размышлений. Отец посвящал его в жизнь двора. Одна придворная история особенно поразила воображение Фёдора.
Однажды во время пира царь вместе с гостями плясал в масках. Князь Репнин один не участвовал в общем веселье. Тогда царь надел на него маску и сказал:
— Играй вместе с нами!
Репнин в сердцах растоптал маску и произнёс:
— Чтобы я, боярин, стал так безумствовать!
Царь прогнал его с пира, а через несколько дней велел убить прямо в церкви. В ту же ночь умертвили и князя Юрия Кашина. Никто не знал, за что был убит князь Кашин, но последовавшая вскоре казнь князя Оболенского вызвала много суждений. Князь был любимцем матери Грозного, великой княгини Елены, и предан царю.
Всё это обсуждалось домочадцами Романовых за закрытыми дверями, чтобы не услышала челядь. Говорились тайные и опасные слова, будто князь Оболенский разгневал царского любимца Фёдора Басманова, сказав ему: «Ни предки мои служили с пользою государю, а ты служишь гнусной содомией»[3].
Фёдор пожелал узнать подробности.
— Что такое «содомия»? — спросил он у отца.
Тот сердито ответил:
— Ты бы, Фёдор, не спрашивал лишнего.
— Батюшка, ты сам говорил мне, что я стал уже большим!
— Сын мой, тебе рано знать о государевых делах! Иди — велено тебе! Иди!
— А вот и знаю. Царь не любит княжат. И я також, когда стану царём, буду им головы рубить!
Мать горестно всплеснула руками и решительно увела сына в его комнату.
— Никогда не говори, деточка, таких слов! У стен тоже есть уши!
Хоть и говорится «по годам и разум», но Фёдор был разумен не по годам.
В то время вышла в свет первая русская книга, имевшая выходные данные, — «Апостол». Разговоры были о том давно. Воображение рисовало Фёдору Печатный двор словно некое святилище, хотя святилище это находилось рядом, рукой подать. Надо было миновать нелюбимую Варварку (нелюбимую за заселённость лавками и монастырскими строениями), а далее выйти на Никольскую улицу к Печатному двору. Туда, однако, Фёдора не пустили. К нему вышел сам мастер Иван Фёдоров. С любопытством оглядев отрока и подивившись его желанию посмотреть, как «свершается диво дивное явления людям чудного писания», он сказал ему, что сие делается с благословения самого государя, а посему как такое может статься, чтобы боярский отрок спроста мог войти в заповедное место?
Чтобы утешить сына, Никита Романович повёл его к Спасскому Крестцу, где торговали книгами, намереваясь купить, ежели попадётся что-то доброе. День, однако, выдался неудачный. На Спасское стояние собралось много пришлых бродячих попов из окрестных и далёких селений. По бедности и ничтожеству церковных приходов они не могли заработать на пропитание. В Москве они надеялись хотя бы на временный заработок: отслужить обедню, окрестить младенца или сделать что-либо другое. Нанимали их редко. В Москве было много церквей, а у богатых людей имелись и личные домовые церкви. Поэтому попы искали себе дополнительный заработок, а точнее — приобретали вторую профессию продавцов книг.
Это была особая литература, состоявшая преимущественно из тетрадей, сшитых листов с выписками из Божественных писаний, житий святых и сказаний о чудесах, но попадались и светские повести. Цена была недорогой, доступной даже простолюдинам. Спасский Крестец становился понемногу средоточием народной грамотности. Жаль только, что между торговцами затевались свары. Это было делом обычным, и драчуны попадались даже среди попов.
Осторожный и разборчивый Никита Романович не спешил с покупкой книг, хотя у Федюшки быстро загорались глаза и он дёргал отца за рукав. Продавцы, видя это, назойливо предлагали боярину свою продукцию. На иных продавцах и образа-то Божьего на было. Ночами, видно, по притонам шастали, в зернь[4] играли, а днём о деньгах помышляли. Никита Романович пожалел, что пришёл сюда: пристойно ли знатному боярину появляться в местах скопления простонародья!
Никита Романович повернул в сторону Спасского моста, что был перекинут через водяной ров, окружавший кремлёвскую стену. Здесь стояли деревянные ларьки с разложенными по прилавкам книгами. Толчеи тут не наблюдалось, но и выбор книг был беднее, зато богаче их товарный вид. Тут имелся и «Русский хронограф», большой свод из всемирной истории, и «Сказание о князьях Владимирских». У Романовых эти книги дома были, и старший сын особенно любил легенду о получении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха. Книга «Тайная тайных» была в царской библиотеке, но до времени боярин не советовал сыну читать её: отроку не уразуметь советов Александру Македонскому.
Никита Романович осторожно листал книги, представляющие собой рукописные списки, иные из них были оправлены в серебряный переплёт. Взгляд его быстро отыскал незнакомую книгу. Она была в политуре с искусным покрытием. Название книги было выведено рукой большого мастера: «Поучение Даниила, митрополита Всея Руси». Продавал книгу человек благообразной внешности, смуглый и темноволосый, в чёрном монашеском одеянии. Почувствовав интерес боярина, он начал наизусть читать первую страницу книги. Голос был низкий, приятный.
— «Подобает нам прежде всего, о благоразумные чада, возлюбить каждому из нас внимание и заботу о себе и осуществлять всячески искусное попечение о душах наших. Видите, как быстро идут дни жизни нашей? Как быстро бежит конь, и как птица по воздуху быстро летит — так и дни наши, и часы, и минуты проходят быстро. Ибо не вечны мы здесь, в настоящей жизни...»
Никита Романович спросил цену книги. Она была довольно высокой — двадцать рублей. Почувствовав колебания покупателя, продавец сказал, глядя на боярского сына:
— Книга сия надобна будет отроку в жизни предстоящей. Вижу: быть ему великим духовным пастырем на Руси.
— Пошто смущаешь отрока речами пустыми? — сердито одёрнул продавца Никита Романович.
— Видит Бог, то не вздорные речи. В очах отрока неизречённый свет и разумение высокое. Господь не оставляет без попечения избранных сынов своих. И славен будет отрок сей в веке грядущем.
— Побойся Бога, поп! Святое Писание остерегает нас от соблазна судить, ибо преткновение бывает многим.
Это произнёс один из бойких покупателей.
— А ты не встревай в чужую беседу, — с достоинством возразил продавец. — Бог на сердце зрит, человек же на лицо. — И, обратившись к боярину, он продолжал: — Великая польза и приобретение бывает чтящим священные правила и Божественные Писания. И на тебя, отроче, Господь прольёт свой несказанный свет яко на своего избранника. Государить тебе на Руси!
Никита Романович испуганно оглянулся при этих словах и встретился глазами с идущим мимо Фёдором Годуновым. Слышал или не слышал? Беда, коли донесёт царю Ивану. Не изветами ли и расположение царя к себе ныне сыскал?
Почувствовав что-то неладное, продавец несколько поправился:
— Я разумею духовное пастырство твоего отрока, боярин, в коем он сравняется с государями и почитаем будет, яко государь.
— Что ты болтаешь, старик! От века такого не было на Руси, чтобы духовному пастырю государить! — рассердился Никита Романович.
Его поддержал подьячий, наставительно заметив:
— Ты, поп, говори, да оглядывайся, дабы от твоих слов беды какой не было.
Послышались смешки:
— Коли поп глуп, то и греха не знает.
— А что людям скажет, на том ему: «Спаси Бог!»
Расстроенный Никита Романович отошёл от ларька, так и не купив книгу. И столь тяжко ему стало на душе, как никогда не было. Мысли испуганно метались. За что царь Иван приблизил к себе Фёдора Годунова и ласкает сына его Бориса? Не за изветы ли? И куда шёл ныне Фёдор Годунов с сыном-отроком? Боярин чувствовал, что в воздухе носилось что-то недоброе. Ему хотелось иметь львиные когти, чтобы защитить себя и своих чад от бесовской злобы новых ближников царя. Что там болтал этот старый поп о сулившем сыну духовом поприще? Никита Романович и думать об этом не хотел, ибо признавал лишь светскую власть.
Соображая, куда это направился боярин Годунов с сыном, Никита Романович повернул в сторону Спасских ворот. Охваченный волнением, он не заметил, как оттуда рысцой выехал князь Вяземский и едва не стоптал его. Каков? Ему не страшен и запрет царя на конную езду через святые ворота.
— У, какой свирепый! Яко бес, — вырвалось у Феди.
— Молчи, сын, о сём случае. Бес сей на службе у царя!
— А то, что он хотел стоптать нас, — это как? Ужели не скажешь о том царю?!
— Князь Вяземский несёт при царе важную службу!
Глаза отрока мстительно сверкнули.
— Дай срок, стану царём, я княжатам головы снесу и первым позову к ответу князя Вяземского.
Никита Романович почувствовал за спиной чьё-то присутствие и быстро оглянулся. Позади шёл боярин Годунов с сыном Борисом. Никита Романович понял, что они слышали Федины слова. Что за нечистая сила сводит его с ними! Теперь Годунов непременно доложит обо всём царю Ивану, и тот поверит ему, недаром держит его в особом приближении.
Чтобы одолеть опасные мысли, Романов-старший перевёл взгляд на Вознесенский монастырь и перекрестился на икону Спаса над вратами. Ажурный купол монастыря радостно сиял на солнце. Стрельчатые окна и арочки над ними были изукрашены каменной резьбой, а между арочками виднелись лёгкие колонны, увенчанные сверкающими крестами и подпираемые снизу белыми четырёхгранными столбами, вделанными в стену... И так легко становилось на сердце при виде этой красоты, что Никита Романович забыл на миг о своих опасениях. Он перекрестился и прочитал про себя молитву: «Спаси, Пречистая, от сглазу всякого и вражеского поползновения...»
Вспоминая позже эти впечатления, он понял, что ощутил в те минуты недоброе присутствие за спиной, оттого и пришла на ум эта молитва. Но, странное дело, когда он оглянулся, там никого не было: Годунов с сыном словно испарились.
Эта встреча имела, однако, опасные последствия для боярина. Вскоре после неё царь спросил его:
— Сказывают, отрок твой царём себя объявил?
Лицо царя оставалось спокойным и как будто не предвещало грозы. Но Никита Романович представлял себе, что могло последовать за этим вопросом. Смутись он хоть немного или помедли с ответом, и грозы не миновать. Его спасла находчивость.
— Намедни лекарь-голландец маскарад в хоромах затеял. Ну, смеху-то было!.. Маски диковинные смастерили, а Федьку моего нарядили львом и нарекли царём зверей. Ну, а прочие звери — бояре, значит. Федька и начал шашкой махать. Всех зверей распугал...
— Ты скажи своему лекарю: в моём тереме також маскарад на днях затеем...
Помолчав, царь добавил:
— Добро, что твой Федька бояр распугал. Толк из него будет...
Никиту Романовича спасла на этот раз любовь Иоанна к маскарадам. Он повеселел, стал разговорчив, благодушен.
Никита Романович подумал, что люди зря говорят, будто царь злой. А ты, человече, сам не плошай, умей сказать царю верное слово. А ежели разумом худ, то кто тебе в том виноват? Или не пример доброго разума судьба Ивана Шереметева? На пытке царь спросил его:
— Где твоё богатство?
Шереметев ответил:
— Богатство моё руками нищих перенесено в небесное сокровище, ко Христу.
Иоанн умилился и велел снять с Шереметева тяжёлые оковы, перевести его в тюрьму, где он дал запись о невыезде из державы. Вскоре он был освобождён и постригся в монахи...
Весь тот день Иоанн провёл в добром расположении духа. Даже на заседании Боярской думы состояние его духа было добрым, в воздухе не пахло грозой, как это было в иные дни. Царь сыпал примерами из Священного Писания, но все почувствовали, что особенный смысл он вложил в слова из Евангелия от Матфея:
— «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям».
Смысл нравоучения не был, однако, ясен. Но Никита Романович понял, что на них надвигаются какие-то перемены... Видимо, царь хотел сказать, что бояре «ни к чему не годны», и если это так, то их ожидают новые беды.
ГЛАВА 3 НОВЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Недобрые предчувствия Никиты Романовича вскоре подтвердились. Вместе со своим семейством и двором царь выехал в село Коломенское на праздник Николая Чудотворца. Казалось бы, какие тут основания для тревоги? Благочестивый государь любил выезжать на богомолья. Но на этот раз сборы на богомолье были похожи на основательный переезд. Царь взял с собой иконы, кресты, золото, сосуды дорогие, платье и казну. Боярам велел брать с собой жён и детей. Дивно было и то, что детям боярским, которых он подобрал себе на службу из других городов, наказано было ехать с конями и оружием.
Вскоре стало известно, что после праздника всем надо ехать в Александровскую слободу, однако задержались в Коломенском ещё на две недели по причине непогоды. Ожидали, пока станут реки, чтобы ехать в село Тайнинское, оттуда в Троице-Сергиеву лавру и далее — в Александровскую слободу. О подлинном замысле царя не ведал никто. Можно было строить любые предположения, но никто не осмелился бы высказать их вслух.
Никита Романович хоть и наезжал порой в Коломенское, но тут был особый случай. На этот раз с ним был Федя, и, слушая литургию в Вознесенской церкви, он почему-то думал, что нынешняя поездка в дворцовое село оставит в их жизни какой-то след.
На другое утро долго стояла изморозь, но зимнее солнце понемногу пробило свои лучи, подул холодный ветер, и Никита Романович, не терпевший изнеженности, велел седлать коней.
Расположенное на высоком крутом берегу Москвы-реки, Коломенское издавна привлекало великокняжеский двор красотой местоположения и разнообразием охотничьих забав. В центре села был поставлен дворец, а далее — к урочищу и оврагам — охотничьи домики. Когда у Василия III родился долгожданный сын Иван, он возблагодарил Бога — построил необычайной красоты церковь Вознесения. С той поры и завёлся обычай — приезжать сюда на церковные праздники. Иван Грозный умножил славу Коломенского, построив новую великолепную церковь Иоанна Предтечи — тоже в честь рождения сына, царевича Ивана.
Удивительно ли, что Коломенское стало любимым подмосковным селом Ивана Грозного. Но сегодня почему именно в Коломенском сделал он остановку? Хотел ли он окрепнуть душой накануне грозных событий или думал напомнить строптивым боярам о былом величии своих прародителей? Никита Романович чего только не перебрал в своём уме! Царь что-то готовил им, оттого-то он так страстно молился в церкви Вознесения.
Отъехав немного в сторону вдоль берега реки, Никита Романович остановился и велел остановиться Фёдору. С этого места храм Вознесения казался словно бы парящим в воздухе. Это впечатление создавали, видимо, кокошники и стрелы, сделанные из белого камня. Возле белой сетки, накинутой на шатёр, мягко струился свет. Заметив, как замер Фёдор при виде этого чуда, Никита Романович вспомнил о постоянных побегах сына, когда возводился храм Покрова «что на рву». А накануне он просил построить храм в селе Преображенском. «Эк его проняло!» — подумал Никита Романович о сыне.
— Эта церковь будет стоять на земле вечно и встретит пришествие Господа... — произнёс Фёдор.
И такая глубокая печаль была в его голосе, что боярин снова внимательно посмотрел на своего сына. Ужели завидует славе царской? Вспомнилось, как Фёдор ещё в детстве сказал, что ежели бы он был царём, то стал бы оберегать матушку и батюшку, дабы они никого не боялись.
— И подумать только, что сию красоту породили безмерная любовь родителя и его попечение о сыне, — с той же печалью в голосе произнёс отрок.
— Будь я царём, разве я не воздал бы сыну такой чести! Не сетуй, сын, понапрасну! Наши дни також увенчаются славой!
Фёдор молчал. Они выехали к урочищу, спешились, затем спустились по узкой тропинке и остановились перед церковью на каменистом пригорке. Фёдору она напоминала церковь Покрова «что на рву». Тот же восьмерик, лишь здесь он сложен башенками. И было то же устремление ввысь столпа храма.
Никита Романович хотел обойти храм кругом, но Фёдор угрюмо произнёс:
— Дале не пойду!
— Докука мне с тобой, сынок! Али нездоровье приключилось, что ты тёмен лицом стал?
— Спал ныне худо. Юрода снился.
— Ужели испугал тебя чем? Не думай худого, Федя... Старые люди верят — юрод к добру снится...
Никита Романович придумал это, чтобы успокоить сына. Последнее время Василий Блаженный многих пугал недобрыми пророчествами и обличительными речами. Он то войну предрекал, то смуту. И когда собирались ехать в Александровскую слободу, Блаженный смутил царя предсказанием, а прочих удивил. Иоанн в ту минуту вместе с семейством и боярами спускался с паперти собора Покрова «что на рву». Блаженный, стоявший внизу, вдруг поклонился царевичу Фёдору.
— Пошто царевичу-отроку — особый поклон?
— Ему после тебя царством владеть.
— Ты хоть и Блаженный, — сурово прервал его царь, — и почитаем нами, но смуту насевать я тебе не дозволю!
Или не знал Блаженный, что старший сын царя Иван в добром здравии, умён, хорош собой, а Фёдор — болезненный с виду отрок? В своём ли уме юрод? Или Фёдор будет наследовать престол помимо старшего брата? Смутен Иоанн. Видно, недоброе подумал: не изведут ли его сына-наследника, как извели царицу Анастасию?
Всё это припомнилось Никите Романовичу, и он строго сказал своему Феде:
— Ты бы, сын мой, не слушал речей мятежных. Мало ли что люди понаскажут, а ты не слушай! Оно и сниться не будет...
— Батюшка, юрод так долго и тяжко смотрел на меня во сне, будто беда какая приключится. А потом юрода не стало, только голос слышно: «Корень царский переведётся». Потом звоны начались, и снова голос: «Вашему роду царством владеть...» И плач раздался, и крики, и сабли засверкали...
— Забудь про этот сон, родимый! — произнёс Никита Романович.
Он тревожно огляделся.
— Времена ныне грозные приближаются...
Во время пути в Александровскую слободу двое суток стояли в Троице, слушали заутреню и литургию в церкви Сергия Радонежского. Монастырская трапеза была скромной. Царь выглядел чем-то раздосадованным, и Никита Романович не раз ловил на себе его сумрачные взгляды. Бояре держались замкнуто. Видимо, многие опасались, что неровный, непостоянный нрав царя сулит недобрые перемены. Казалось, и царь тяготился чем-то. Он устал от тяжёлых мыслей. Переписка с князем Курбским, обвинявшим его в жестокости, в том, что он был губителем своего царства, дорого стоила ему.
Не приняв на себя эти обвинения, Иоанн вооружился новой злобой против бояр. Его воображение разыгралось вовсю. Ему чудилась крамола и всякие козни против него, в сердце копилась злость.
Едва Иоанн вместе со своим двором приехал в слободу, как в Москву к митрополиту был отослан список, в котором исчислялись измены боярские и воеводские, убытки, какие причинили лиходеи царской казне. Припомнил царь и те обиды, что пережил ещё до совершеннолетия.
Писал, что из Москвы он отъехал, «не могши многих изменных дел терпеть».
Духовенство и бояре тотчас явились в слободу с челобитьем: «Увы, горе нам, согрешили мы перед Богом! Помилуй нас, государь! Как могут быть овцы без пастыря? Увидав овец без пастыря, волки расхитят их. Владей и правь нами, государь, по старине! А за государских изменников и лиходеев мы не стоим!»
Иван Грозный принял это челобитье. В слободе находились опричный двор, бояре, окольничьи, дворецкие, казначеи, дьяки. Во дворцах были назначены особые ключники, хлебники, мастера, а также особые же стрельцы для дворцовой охраны. Отныне на содержание опричнины передавались доходы многих городов и волостей. Князья, бояре, дети боярские, ставшие опричниками, получали в дар волости и селения, отнятые у прежних владельцев, не пожелавших служить в опричниках либо попавших в опалу. При этом земская казна должна была оплатить переезд государя в Александровскую слободу. Определена была и сумма: сто тысяч рублей.
Для земцев это было началом разорения и опалы. Летописец впоследствии написал, что Иван Грозный словно топором разрубил державу на земщину и опричнину, и разорение земщины послужило исходной точкой многих смут и нестроений. На Русскую землю опустился карающий меч. В те годы немало ни в чём не повинных людей сложили головы на плахе, были замучены пытками, лишились наследственных имений и дворов. Многие иноземцы поспешили покинуть Русь, ибо оставаться в ней было небезопасно. По улицам Москвы разъезжали молодчики в невиданном снаряжении. К сёдлам были привязаны метла и собачья голова: знайте, мол, люди добрые, что слуги царёвы выметут из державы измену метлой, а изменников загрызут как собаки.
За короткий срок в Александровской слободе поднялись новые терема, потешный дворец, царские покои, приказы, тюрьмы и многие дома для ближних бояр и челяди. На глазах у всех вырос новый державный город. Но всё в этом городе было чужим, всё было не по старине.
Людей, привыкших к жизни размеренной и спокойной, пугали то опричники, то царские гонцы, скакавшие из слободы в Троицкую лавру, из лавры в слободу. Ни один человек не мог проникнуть в слободу, не будучи остановлен опричниками. С проезжих, особенно с купцов, взимали мзду. И плохо приходилось иногда тем, кто не мог ничего дать. С такими не церемонились, кидали в тюрьмы, пытали. Слобода — от слова «свобода» — называлась теперь «неволею».
Ошеломлённые происходящим, люди и не пытались понять, отчего всё так незнакомо переменилось. Забредавшие в эти места богомольцы думали, что царём Иваном завладели слуги сатаны. Оттого-то царь и молится денно и нощно, чтобы спасти от них свою душу. Оттого-то и во дворце своём монастырские чины и обычаи завёл. Опричников, что служили при дворце, именовал «братией», себя называл «игуменом», князя опричника Афанасия Вяземского — «келарем», палача Малюту Скуратова — «параклисиархом». Всем дал тафьи[5], или скуфейки[6], или чёрные рясы. Эта монашеская одежда надевалась на богатые, расшитые серебром и золотом кафтаны.
Понимал ли Иоанн, что оскверняет тем монашеские одежды? Но поклоны он бил особенно ревностно и даже сам сочинил монастырский устав и старался придерживаться его.
Но что видели люди? «Монахи», привязав к сёдлам метлу и пёсью голову, носились по слободе, давя встречных. «Параклисиарх», также не снимая монашеской рясы, пытал несчастных в застенках, и крики их разносились по всей слободе. Сам «игумен» ходил на колокольню с царевичами, а несколькими часами позже затевал содомские гульбища либо спускался в застенок и сам истязал страдальцев.
Зачем было Иоанну устраивать во дворце подобие монастыря, если сам он и его «монахи» жили в роскоши, а «монастырь» стал увеселительным жилищем? Вино в новом царском дворце лилось рекой. По соседству с ним были построены погреба и погребцы, куда закатывались привезённые из Европы бочки с мальвазией, романеей, мускателем, рейнским. Были особые погребцы для медов и прохладительных напитков. Самыми просторными были погреба, набитые льдом, где хранилась рыба всевозможных сортов и битая птица: журавли, павлины, перепёлки, жаворонки. Длинными рядами тянулись поварни, похожие на расписные терема. Дворец вмещал до трёхсот гостей, и блюд подавалось великое множество. Секреты их приготовления забыты за ненадобностью. Потомкам не оценить ни перепелов с чесночной подливкой, ни жаворонков с шафраном. Деликатесом будет разве что заяц с лапшой.
Не менее трудно примениться и к нравственному настрою тех лет. Неподалёку от окон, за которыми сидели пирующие, тянулся залитый водой ров, куда метали головы казнённых, и порой до стен дворца долетали стоны и вопли несчастных, подвергаемых пыткам. А во дворце звенели потешные колокола, играли гусли, смеялись гости. Они были одеты со всевозможной роскошью. Царь и его приближённые сбрасывали монашеские маскарадные одежды. Даже слуги были одеты богаче иных земских дворян. За время пира они трижды являлись в новом убранстве: бархатную одежду сменяли парчовые доломаны (длинная одежда с пуговицами), доломаны — кунтуши с собольей опушкой (своеобразные кафтаны со шнурами).
Это был памятный пир в судьбе Никиты Романовича. Его томили предчувствия. Казалось, что и свет в палате горел ярче обычного, хотя светильники на стенах были старинные, именуемые паникадилами. Вдоль стен на некотором возвышении располагались столы для гостей. Сам царь сидел много выше, в богатом кресле, обшитом золотным[7] бархатом. Он был в серебряном кафтане с короной на голове. В приближении у царя сидели опричники, среди них князь Вяземский, Мосальский, боярин Басманов. Остальные сидели поодаль. Боярин Никита Романович и князь Мстиславский, хотя и почитались ближниками царя, должны были потесниться и уступить место новым выдвиженцам — опричникам. Посередине палаты стоял поставец для посуды. Тут было много золотых и серебряных сосудов и чаш и четыре жбана. Возле стола хозяйничали два дворянина с салфетками на плечах и в шапках на головах. Они поставили перед царём блюда с хлебом, и тот каждому из гостей посылал по большому ломтю. При этом прислуживающий за столом дворянин называл имя того, кому выпала царская милость.
Дошла очередь и до того, кого ещё недавно царь прежде всего дарил своим вниманием.
— Боярин Никита Романович, Иван Васильевич, царь русский и великий князь московский, жалует тебя хлебом!
Никита Романович стоя выслушал эти слова, как и было положено, поклонился царю, чувствуя на себе его пристальный тяжёлый взгляд. Все эти дни прошли для боярина в смутном тревожном ожидании. Но царь продолжал одаривать хлебом других гостей, и тот, чьё имя ещё не было выкрикнуто дворянином-стольником, ждал в смятении. Не приведи Бог, если царь обойдёт кого-то своей милостью... Участь того предрешена: либо на плахе сложит голову, либо упадёт замертво на пиру, выпив чашу с отравным зельем.
Между тем внесли угощение из лебедей. На блюдах лежало по лебедю, нарезанному кусками. Тем гостям, кого царь миловал ныне, он посылал от себя это угощение. Особо, как царский дар, отсылались золотые и серебряные кубки с высоко ценимым при дворе вином — мальвазией. Соблюдался тот же ритуал, что и с хлебом.
Царь казался щедрым хлебосолом и как будто был весел. Многие думали: «Авось Господь помилует, и лихо минует нас». Все насторожились, когда Иоанн стал говорить, сколько обид и поношений претерпел он от бояр, какую безмерность они чинили, как возносились. Бог наставил его привести бояр к ответу за их изменные дела...
— И ныне от великой жалости сердца оставил я своё государство и престольный град... Но, благодарение Богу, опричники мои верные не оставили меня в беде, сыскали измену.
Велев наполнить кубок, украшенный драгоценными каменьями, Иоанн осушил его со словами:
— За здоровье слуг и воинов моих верных!
Гости пили за здоровье опричников. Вдруг царь метнул быстрый взгляд в сторону Никиты Романовича.
— Сказывай, Никита Романов, пошто изобидел моего верного слугу?!
Боярин поднялся, склонил перед царём голову, молвил:
— Не вели, государь, казнить, вели миловать. Не взыскивай с меня вину напрасную, слугам твоим верным я обиды не чинил!
— Или не велел ты своим холопам запереть передо мною ворота? Или я не верный слуга государю моему?! — злобно оскалился опричник Басманов.
Он намедни рассчитывал на гостеприимство Романовых, мнил породниться, прикидывал, что родившаяся недавно дочь их станет невестой его сыну. Его раболепную завистливую душонку жгла обида. Или он не первый государев слуга? Он был далёк от мысли, что вскипевшая в нём злоба исказила его черты, испортила его женоподобную красоту, столь утешную для царя. Иоанн покосился на своего верного опричника. В душе он понимал правоту боярина Микиты: каждый у себя на подворье хозяин. Но в гневе царь остывал не вдруг.
— Чем тебе неугоден мой слуга? — продолжал он строго допрашивать боярина.
— Я не говорю, что неугоден, да по заведённому обычаю гостей принимают не во всякий день...
— Так ли, Микита, ты ответ перед царём держишь? И пошто в усадьбе своей запёрся? Пошто не хочешь служить царю в опричнине?
Никита Романович почувствовал, как со всех сторон его обступила выжидательная тишина, которая показалась ему зловещей. Он слегка побледнел. «Не запирайся... Правда лучше увёрток», — сказал ему внутренний голос.
— Государь! Мои прародители испокон веков с великими князьями дело делали, как им Бог помогал.
— Верно. Твои прародители оберегали наше царство от губительных волков. Да и ныне також надобны сберегатели стада нашего...
— Я плохой пастух, государь. Моя служба тебе придётся не по нраву. Опасаюсь, что, сослужив тебе худую службу, я буду подобен тому злодею, что не уберёг царя и царство от беды. Да будет помощь моя тебе словом правдивым! Дозволь мне вознести молитву Господу нашему, дабы помог тебе отогнать подальше волков-душегубцев, дозволь воспеть вместе с Давидом: «Ненавидящих тебя, Господи, возненавидел и гнушаюсь врагами твоими, и стали они врагами моими».
По лицу Никиты Романовича струился пот, но он не ощущал этого. И словно во сне услышал он слова царя:
— Благодарствую тебе, Микита, за добрый ответ. Но гнева своего я с тебя не снимаю.
Резкий голос царя был спокоен и оттого особенно страшен. Многие упали духом, как это бывает при недобром предчувствии. Если царь положил свой гнев на ближнего боярина за столь малую вину, как спастись им, боярам-земцам, коли царь и без того смотрит на них немилостивым оком?
Притихли бородатые мужи, опасаются даже глаза поднять. Подчиняясь общему настрою, оставил свои ужимки Басманов.
Лишь один из пирующих, казалось, не страшился царя и не замечал всего общего состояния. Он сам был страшен и обликом своим и делами. Его большая волосатая голова с низким лбом тяжело покоилась на массивных плечах. Угольно-чёрные глаза зорко следили за пирующими, словно отслеживали что-то. Мало кто выдерживал его взгляд. Сейчас опричник смотрел на Никиту Романовича, и многозначительно зловещ был его взгляд.
Опричник был любимцем царя и главным палачом. Звали его Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским, но известен он был больше своим прозвищем — Малюта. Был он мастером самых изощрённых пыток. Говорили, что в пытке он находил душевную отраду, и не по одной лишь страсти к мучительству. Многие, не выдерживая его пыток, начинали клепать на себя, а ему только это и надо было. Главное — доложить царю, что он, его верный раб, выведал «измену».
У Малюты имелись на это свои расчёты. Человек он был худородный, но предприимчивый, царю полюбился собачьей преданностью и собачьим нюхом на измену. Он был усерден в сыске, ибо кое-что из имущества несчастных опальных бояр перепадало и ему, палачу. Его заветной мечтой было выбиться в бояре. Но царь был глух к его намёкам, и Малюте ничего не оставалось, как удваивать своё усердие.
Гнев царя на любимого боярина был бальзамом для худородного опричника, тоскующего по боярству. Он злобно смотрел на Никиту Романовича, словно торопил его опалу. Обычно спокойный, он на этот раз волновался и, чтобы подавить непривычное для него состояние, захватил лакомый кусок жареной перепёлки и впился в неё острыми зубами.
Но что это? Царь благодарит боярина за добрый ответ и отпускает его вину. Малюта размышляет. Ужели гнев государя стал отходчивым? Малюта, однако, не удержался, чтобы не шепнуть гордому боярину:
— Я уж чаял видеть тебя в гостях, Никита Романович. Думал ныне дать наказ Сидорке, дабы топор для тебя поострее наточил. А ты ан и вывернулся. Ну да придёт и твой черёд.
Он слегка склонил голову, отчего стала видна бугристая выпуклость за ухом, а выступающая вперёд нижняя челюсть казалась особенно уродливой.
«За что он злобствует на меня? — думал Никита Романович. — Или видел от меня какое лихо?»
Между тем причина Малютиной злобы была простой и очевидной, да не спешил Никита Романович думать худое о любимом царёвом слуге. И никто, кроме, может быть, самого царя, не догадывался, что, дай волю Малюте Скуратову, он вывел бы весь корень боярский. Его приводило в бешенство, что он слыл худородным, а «они» были наверху. Чем он был хуже других? Наверное, если бы царь пожаловал ему боярство, которого Малюта долго добивался, он помягчел бы. Но отказ царя лишь распалял в его душе злые страсти. По свидетельству летописцев, Малюта лично рассекал топором трупы казнённых им бояр и отдавал их на съедение псам.
Таков был человек, стоявший сейчас перед Никитой Романовичем. Он видел, что к их разговору прислушивались, что рядом были и те, что желали ему зла. И, поискав, Никита Романович дал достойный ответ:
— В нашем животе вольны Господь и государь.
ГЛАВА 4 «УМНОГО ЧЕЛОВЕКА УЗНАЕШЬ ПО ОСТОРОЖНОСТИ»
Нравом своим, склонным к злодейству, Иоанн был недалёк от Малюты. Видимо, и особенная любовь к нему Иоанна объяснялась неким сродством душ.
Тем удивительнее бывали минуты царского милосердия и доброты. Сам Иоанн не раз говорил, что проливает слёзы о казнённых им «злодеях» и готов осыпать милостями своих подданных, но его удерживает опасение, как бы окружающие не увидели в этом царского послабления. Он не хотел, чтобы его перестали бояться. Он и Никиту Романовича начал отдалять от себя, чтобы, не дай Бог, тот не осмелел и не стал заноситься в своём дерзновении. Человек недоверчивый и опасливый, Иоанн был склонен к самой свирепой подозрительности. «Не иначе как боярин Никита умышляет противу тебя, ежели дерзнул не допустить к себе во двор твоего близкого слугу, — шептал ему на ухо Малюта. — Коли будет на то твоя воля, государь, я на любом подворье сыщу измену...»
При слове «измена» царь мрачнеет и задумывается. Он уже давно не делает исключения для своей родни. Её-то он более всего и опасается. «Подрастает царевич Иван, и не станет ли Микита, дядька родной, подвигать его на то, чтобы похитил у меня царство?» — роятся смутные подозрения в душе царя.
Он отдаляет от себя Никиту Романовича, велит ему жить в Москве на своём подворье, на Варварке.
Смутно и тревожно на душе боярина — верного царёва слуги. Сердце подсказывает ему, что это не опала. Он чувствует, что душа Иоанна словно бы горит на мучительном огне. Его переезд в Александровскую слободу и казни, им учинённые, были выходом сжигавшей его тоски. Раздумается Никита Романович — и жалко станет ему царя. Всё же не чужой он ему. Немало добра видели от него Захарьины. Держать ли на него обиду теперь?
Никите Романовичу хочется понять, какая душевная смута гложет царя, почему он отдаляет от себя преданных слуг и приближает людей неведомых? Пошто взял в свои царёвы палаты двух сирот — Бориску Годунова и его сестру Ирину? Кто знает? Бояре только головами покачивают, а всё же норовят сказать «приёмышам» ласковое слово, особливо при самом царе. Отец их, покойный, был незнатным московским боярином, потомком татарского мурзы Чета, принявшего православие. Но царь не любил, если кто-то вспоминал о татарских корнях обласканных им брата и сестры.
Почему мысли об этих отроках так заботят Никиту Романовича? Почему он так много думает об этом ловком, не по летам смышлёном и осторожном в ответах сыне безвестного боярина? Вспоминается встреча возле Вознесенского монастыря, когда Годунов с сыном Борисом шли неподалёку и могли слышать пустые слова Феди Романова: «Дай срок, стану царём, я княжатам головы снесу...»
И кто, как не они, Годуновы, донесли о тех словах Иоанну, вызвав его подозрение и гнев?
Не обронил ли и ныне Федя-то каких опасных слов в слободе? Когда Никите Романовичу стало известно, что Фёдор рассказывал на подворье о царских пирах, он позвал его к себе в кабинет. Остановил на нём строгий взгляд, хотя и любовался им. Высокий не по годам, ловкий и красивый у него сын. Но в глазах бесенята прыгают: не вошёл ещё в разум.
— Откуда тебе ведомо, что было на царёвом пиру?
— Ивашка Щербатый сказывал, царь-от с тобой грозно разговаривал...
— А ты не доверяй Щербатому! Ишь, нашёл кого слушать! Наши прародители блюли осторожность и нас этому учили.
— Или я повинен в слухах?
— А ты не доверяй! И запомни: умного человека завсегда узнаешь по осторожности.
— А ежели Малюта Скуратов станет тебя оговаривать?
— Или царь всякому его слову верит? Коли будет в том нужда, и я своё слово скажу. Но знай, что прародитель наш Фёдор Андреевич любил повторять: «Кошка никогда не пойдёт против силы».
— За то его и Кошкой прозвали?
— Может, и за то. Кошкины были первыми при великокняжеском дворе.
Никита Романович не раз рассказывал сыну, как Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву, оставил Москву и великокняжескую семью Фёдору Андреевичу Кошке. И роднились Кошкины с самыми именитыми князьями. На дочери Фёдора Кошки был женат князь Михаил Александрович Тверской. А сколь славными и знатными были Яков Захарьевич Кошкин, воевода коломенский, и брат его Юрий, наместник новгородский, и Михаил Юрьевич Захарьин, боярин великого князя Василия Иоанновича!
Многое из рассказов отца припомнилось Фёдору в эту минуту. Он гордился славой своих прародителей и доверием великих князей к ним, но не понимал, почему теперь-то надо осторожничать, когда его отец — шурин царя?
Однако наказ отца быть паче всего осторожным помнил всю жизнь. Вовремя успел поговорить с сыном Никита Романович. Ближайшие события потребовали от них великого остережения. Неожиданно царь велел Никите Романовичу приехать с сыном в его новые хоромы в Александровской слободе. Приглашённый в эти хоромы вельможа должен бы считать это великой честью, но Никита Романович был более озабочен, нежели обрадован.
Кабинет, куда он вошёл, царь именовал кельей, но в целом мире нельзя было сыскать «кельи», похожей на эту. Стены её и два столба по углам расписаны узорами. Одно окно из трёх тоже в разноцветных узорах. Пол выложен коричневыми и жёлтыми плитами. Две лавки у стены покрыты не простыми полавочниками, как было принято даже в привилегированных монастырях, а коврами. На полу тоже ворсистый персидский ковёр, в котором утопали ноги. Такая обстановка располагала не к суровому иноческому бдению, а к неге.
Царь сидел в просторном кресле, обтянутом красным бархатом. Руки лежали на подлокотниках. До самых запястий спускались чётки. На царе было тёмное одеяние до пят, какое носили игумены, но похожее более на хламиду, чем на торжественное облачение игумена. На голове нечто среднее между клобуком и восточной чалмой.
Царь выглядел усталым. Он не встретил вошедшего своим обычным пронзительным взглядом. Глаза его казались опустошёнными. Можно было понять, что в душе повелителя происходила изнурительная борьба. И остывшее к царю сердце боярина тронулось внезапной жалостью и укором себе. Как мог он помыслить худое о своём владыке, от коего знал одно добро! «Видно, тревожится о своей царице», — подумал Никита Романович. Пока он ждал, чтобы опричник позвал его к царю, он слышал разговоры, что Мария Темрюковна стала очень плоха, до Пасхи, наверно, не дотянет. Никита Романович видел её более месяца назад. Это была исхудалая старуха, а ведь ей не больше двадцати четырёх лет! Щёки провалились. Нос заострился и стал похож на выгнутый птичий клюв. Говорили, что царицу опоили зельем. Опасался Никита Романович, чтобы недруги не пустили слухов, будто царицу «испортили» Захарьины. Кому же ещё? Захарьины за всё в ответе. Неприятно кольнуло известие, что к царице часто наведываются брат и сестра Годуновы и царица их очень ласкает, а Ирине подарила серёжки, сказав: «Как придёт срок и станешь невестой — носи их и вспоминай царицу». И снова вспыхнул в уме безответный пока вопрос: для чего царь Иван приблизил к себе детей покойного боярина Фёдора Годунова?
— A-а, Микита... — словно очнувшись от дремоты, произнёс Иван. — А я уж думал, забыл ты своего государя.
Никита Романович склонился перед царём в низком поклоне.
— Прими моё благодарение, великий государь, что дозволил видеть твои пресветлые очи!
— Садись! — прервал его царь и приказал стоявшему в углу Басманову, которого Никита Романович не сразу заметил:
— Налей боярину мою царскую чару... и подай с великим поклоном!
Басманов исполнил приказ.
Никита Романович пригубил золотую чару с незнакомым шипучим вином и глянул на царя.
— Пей... Али вино не по вкусу?
— Вино отменное, государь...
— Ишь ты... Отменное... У немчина научился хвалить? Он, немчин-то, знает толк в вине...
Никита Романович понял, что царь Иван имеет в виду лекаря в долгополой немецкой одежде. Имя мудрёное, не выговорить... Никита Романович в душе относился с недоверием к его врачебному искусству. В своей державе его, видно, не очень величали, оттого и приехал к нам за почётом да деньгами, да ещё нас же и честит яко «туземцев». Но мыслей своих Никита Романович царю не доверял и сейчас предпочёл отмолчаться.
— Ты Федьке-то своему невесту сыскал? — неожиданно спросил царь.
— Не рано ли, государь?
— А я своему царевичу Фёдору сыскал...
Встретившись со взглядом гостя, в котором было неведение, он добавил:
— Али не слыхал, что Арина Годунова мной с семи лет взята в царские хоромы? Вырастет — невестой сыну станет.
Никите Романовичу показалось, что царь догадывается о его недоумении, зачем он взял к себе детей покойного боярина Фёдора Годунова — Бориску и Ирину...
Видимо, так, догадывается... Недаром царя считали многозрительным, то есть наделённым даром внутреннего зрения.
— «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он нищего». Так говорят боговдохновенный Давид и пророчица Анна, — продолжал царь Иван. — Для чего? Так изволит Господь. Чтобы посадить нищего с сильными среди людей и престол славы в наследие дать ему.
Сердце боярина учащённо забилось. «Ужели царь возвысит Бориску Годунова помимо моего Фёдора?»
А царь безжалостно говорил:
— Самосмышленым растёт у тебя сын, и нрава гордого. Мне более по нраву Бориска Годунов, аще смиряет себя... Родителем, видно, научен и рано постиг: кто не умеет выю склонять, тот и повелевать не научится. И затейник он добрый, Бориска... Мой царевич Фёдор души в нём не чает. Бориска то игрушку ему занятную сыщет, то игру с ним затеет...
И, может быть, почувствовав огорчение своего верного боярина, царь Иван несколько умягчённо продолжал:
— Али помочь тебе невесту для сына сыскать? Я и Бориске присмотрел — старшую дочь Мал юты, Марью. А твой Фёдор — чем не молодец? И царевичам моим братом приходится. Есть у меня на примете отроковица из рода старинного бояр Морозовых... Ну да после столкуемся... А допрежь мне охота посмотреть, как они меж собой ладят — твой Фёдор и Бориска Годунов. Басманов, что стоишь? — неожиданно обратился он к опричнику. — Аль не слыхал царёва приказа? Велю тебе привести сюда Фёдора Захарьина и Бориса Годунова. А ты что, Микита, молчишь? — так же резко повернулся он к Никите Романовичу. — Или думы от меня особые имеешь?
— Государь, коли ты что надумал, то мы и подавно согласны, — произнёс Никита Романович, усиленно соображая, о какой отроковице для его сына говорит царь, но спросить не решился.
— Одолжил ты меня своим согласием, Микита, — насмешливо глянул на боярина царь. — Благодарствую и жалую тебя царской чарой. Эй, стольник, налей боярину вина!
Между тем вошли Фёдор и Борис, ступили с таким видом, словно их насильно свели вместе. Да и разные же они были — это любому бы в глаза бросилось. У Бориса сдержанные жесты, ласковое выражение восточных глаз, но в линиях узкогубого рта уже прорезывается жёсткая складка потаённого своеволия. Фёдор выше ростом, осанистее. Взор более открытый, в лице более достоинства и ума.
Оба низко поклонились царю.
— Здрав буди, царь-государь! — проговорил Фёдор, как это делали бояре.
Борис ниже выгнул шею и, чуть помедлив, молвил несколько позже:
— Да будут дни государя нашего долгими и обильными плодами радости. А я денно и нощно молю Пречистую о здоровье твоём, государь!
— То добрые слова, Борис, достойные московского боярина. И видит Бог, ты станешь им, когда придёт срок, — произнёс тронутый царь.
«Как же сказывается кровь прародителя, хоть и в далёком потомстве, — думал Никита Романович, глядя на Бориса. — Вот он, истый потомок Мурзы Чета, умевшего служить московским князьям. А ведь куда ему до моего Фёдора! Низкорослый, кривоплечий, никакого тебе величества. И в буквенном учении слаб. А поди же ты!»
Тут царь перевёл взгляд на сына своего боярина Никиты.
— А ты что, Фёдор, светишься, яко ясный месяц? Али гостинцем тебя кто одарил?
— Нет, государь. Гостинцев или каких прочих милостей я давно в глаза не видел.
Царь рассмеялся.
— Хочешь завтра пойти на царскую охоту? Мои молодцы обещали мне трёх медведей изловить. Дозволяю и тебе моей царской милостью показать свою силу. И коли Бог даст удачи, затеем на славу звериный бой.
— Благодарю, государь, за твою милость. Только ты скажи своим охотникам, дабы научили меня, как идти с рогатиной на зверя.
— Царь-государь шутить изволит. Куда тебе на зверя ходить? — заметил отец.
Царь недовольно посмотрел на боярина.
— В его-то годы меня на царство посадили.
— Государь, дозволь сказать! Ты так велик и на такой недосягаемой высоте — какому безумному придёт в голову равнять себя с тобой! Дозволь токмо уповать на твою милость!
Это произнёс Борис, поразив своей выходкой и царя, и Никиту Романовича.
— Или я не милостив к тебе, Борис? О чём ныне просишь? Или на царёву охоту взять тебя?
— Не о том моя просьба, государь... Ежели будет на то твоя милость, допусти меня в хоромы твои, когда станешь игральные фигуры на шахматной доске ставить. Дозволь поглядеть на твоё великое мастерство!
— Дозволяю, Бориска... Угоден ты мне ныне.
На лице Никиты Романовича появилась усмешка, но он вовремя погасил её, сказав, как бы одобряя слова Бориса:
— Многомудрый отрок... Многомудрый...
До конца дней будет он остерегаться выказывать хотя бы малое неодобрение Борису Годунову. Как заповедь хранил в душе своей древнее изречение: «Кто мудр, врага боится и бессильного».
ГЛАВА 5 ЗВЕРИНЫЙ БОЙ
В слободе знали, сколь любил царь зрелище звериного боя. Для этой цели откармливали в железных клетках медведей. В день потехи принимались их дразнить, стравливая друг с другом. Ражий детина проталкивал сквозь решётку рогатину и, возбуждая в зверях ярость, умело вызывал единоборство между ними.
Не все знали, что царь любил разнообразить потехи звериного боя, и как только ему наскучит смотреть на звериный бой из окна терема, он велит выпустить медведей на волю. Большая утеха для него — смотреть, как звери начинали кидаться на людей. Много было в такие дни увечных. И тут царь оказывал своё милосердие. Он велел выдавать пострадавшим деньги, а ежели медведь задирал кого-то насмерть — того хоронили за счёт царской казны и вписывали его имя в синодик для поминовения в ближайшем монастыре.
Легко представить себе, в каком страхе жила слобода в день царской потехи. Беда была в том, что жестокие забавы царя заставали людей врасплох. И хотя слобода давно перестала жить своим обычным порядком, тихим и мирным, какой сложился в ней со времени её основания в XIII веке, жители её никак не могли привыкнуть к переменам и оттого пребывали в вечном страхе. Многие тогда говорили, что царь держит на слобожан гнев и повинны в том шептуны, которые оплели его дурными измышлениями.
Накануне слобожане отрядили ходатаев к боярину Беклемишеву, ведавшему медвежьими боями. Но боярин не вышел к ним и послал дворецкого, который, выйдя на крыльцо, сказал ходатаям:
— Вы деревенские дурни, не понимаете своей пользы, не цените царского внимания к вам.
Его поддержал слободской сотник:
— Вы царю своему во всём правды не говорите, оттого он и положил на вас свой гнев.
Слобожане не разумели смысла этих слов. За что им сей укор? Этого они не понимали. Но выводы их наблюдательности были безошибочными. Они не однажды замечали, что ежели царь усердно молится в церкви, то на другой день бывает особенно строг и немилостив.
Так оно случилось и на этот раз. Царь поздно вернулся в свою «келью» после всенощной, а наутро начались жестокие забавы. Вдруг словно из преисподней вырвались опричники в чёрных одеждах и на чёрных конях. Они гнали медведей, не давая им остановиться. Слободу огласили резкие крики, гиканье, рычание медведей. Поднялся дикий гвалт. Будто шальные залаяли собаки, загоготали гуси, взлетели утки. Всё это неслось вдоль улицы, вперёд вырвались гончие. Одна из них, настоящий четвероногий бес, буйно наскакивала на отстававшего медведя, но он лениво отмахивался от неё, не желая поспешать, и больно пришиб её тяжёлой лапой.
Люди попрятались по домам, испуганно выглядывали из окон, иные недоумевали, как бы спрашивая про себя: «Какой смысл в этом движенье? Зачем вся эта трата сил?»
Дворовые мальчишки улюлюкали, налетали на отстававшего медведя, кидали в него камнями. Седой старик, отворив калитку, погрозил им палкой, крича:
— Ужо вам!
Неожиданно эта орава придержала ход, ибо наперерез ей кинулся непривычного вида медведь, которого выпустили из большой клетки, стоявшей особо. Говорили, что этого медведя привезли не то из Индии, не то из Китая, что жил он в горах. На зиму рыл берлогу в лесу, на склоне гор, либо располагался в расщелинах скал. А выписали медведя издалека, потому что свои отощали, ослабли оттого, что овсы и хлеба не уродились: стебель стебля не докличется. И ушли за многие десятки километров в лес медведи, дабы промышлять пропитание. Доискаться тех медведей было трудно, потому что они так запутывали свои следы, что оставляли после себя одну толоку[8].
Заморский медведь был огромен, с широкой грудью, на которой красовалась белая грива, напоминающая ожерелье. Морда у него была хорошей формы и умная, как у собаки. Сделав два внушительных прыжка, словно был не медведем, а буйтуром, зверь внезапно остановился перед охотничьим урядником. Видимо, его привлёк красочный наряд человека — цветной кафтан с золотыми нашивками, блестевшими на апрельском солнце. Сапоги на нём были жёлтые.
Не ожидавший к себе такого интереса заморского медведя, урядник несколько растерялся. Видя, что медведь собирается наступать на него, он направил рогатину так, чтобы выколоть зверю глаза, но тут же был сбит ударом лапы. На выручку уряднику кинулся опричник, норовя стоптать зверя лошадью, но медведь с такой силой рванулся к ней, что она, заржав, поднялась на дыбы и сбросила всадника.
Начался переполох, который мог бы окончиться трагически. Но случилось нечто непредвиденное, что спасло людей. За несколько дней до этого произошло следующее.
...Узнав, что отец зовёт его, Фёдор представил себе сурово-озабоченное отцовское лицо, каким оно было накануне, и понял, что разговор будет особенным. Но угадать, что за мысли у отца, ему и прежде не удавалось. Жизнь была полна неожиданностей.
Отца Фёдор нашёл в его кабинете, обставленном просто: ни росписей на стенах во вкусе царя, ни ковров. Взор мог задержаться только на шкафу с книгами. Никита Романович понемногу приобретал библиотеку, достойную его наследника: Фёдор охотно проводил вечера за чтением.
— Фёдор, я позвал тебя, чтобы сказать, что царица наша болезная... — Никита Романович помолчал, не решаясь произнести вслух страшное слово. — Беда случилась... Не углядели... Окормлена отравою от изменников.
— Кто злодей?
— Стольник Василий Хомутов с товарищами...
Фёдор представил себе стольника. Лицо простое, строгое, глаза большие, смотрит мягко. Как-то не верилось, что этот молчаливый добрый человек способен на злодейство.
Фёдор чувствовал, что отец вложил в свои слова какой-то особенный смысл и хочет вести речь дальше, но затрудняется.
— И какую казнь уготовили злодеям? — спросил Фёдор, хотя не желал об этом спрашивать.
— В котле сварили.
Фёдор зажмурил глаза, вспомнил, что возле рва вечером горел огонь и на железных обручах стояли котлы. Ему захотелось встать и попросить отца разрешить ему отлучиться в Москву, чтобы не думать об этой страшной смерти. Но отец продолжал:
— И всю родню Хомутовых, что живут за слободой, царь повелел извести вместе с женой и детьми.
Фёдор подошёл к окну.
— Батюшка, отпусти меня в Москву.
— Я не всё сказал, сын мой. Видишь ту дверь, цветами расписанную? Пойди туда к царице, засвидетельствуй ей своё почтение и пожелай здравия. Твоё печалование о царице будет царю за ласку.
Никита Романович замолчал. Видя расстроенное лицо сына, подошёл к нему, перекрестил.
— Христос с тобой, родимый! Иди!
Ещё раз повторил:
— Иди!
Едва Фёдор отворил дверь в царицыну палату, как в нос ему ударил тяжёлый спёртый воздух, запах ладана, каких-то трав и лекарств. Первое, что кинулось ему в глаза, — в углу перед киотом коленопреклонённо молились Борис Годунов и сестра его Ирина. Промелькнула мысль, что отец опасался, как бы царь не заподозрил отрока Захарьина в равнодушии к его печали: Бориска-то был ему, Фёдору, живым укором.
Царицыно ложе возле окна было освещено ярким апрельским солнцем. Фёдор медленно приблизился к нему и еле удержался, чтобы не отшатнуться. На ложе была не царица, какой он видел её ещё три месяца назад, а старуха. Рот ввалился, на щеках горел яркий румянец. Она подняла глаза на звук шагов. Но что за безжизненный взгляд, словно сама смерть обратила свой взор на Фёдора. Чтобы не видеть этого страшного лица, он упал на колени и молитвенно произнёс:
— Дай Бог тебе здоровья, царица-матушка!
— Господи... — послышалось в ответ.
Потом почудилось шевеление на ложе и шелест губ. Будто царица благодарила его за низкий поклон и печалование.
...Уехать в Москву на следующее утро Фёдору не пришлось, хотя отец и дозволил ему. Помешало происшествие. Собравшись в дорогу, он услышал невообразимый шум в слободе.
Прискакав к месту звериного боя и увидев опричника в беде, Фёдор подступил к медведю сзади и схватил его за уши. Они были длинные, как у собаки. Зверь опешил от неожиданности: за уши его ещё никто не драл. Тряхнув головой, он освободил уши и злобно оглянулся. Фёдора поразило хмурое, по-человечески суровое и недоумевающее выражение глаз медведя. Он как бы хотел что-то понять и в то же время грозил: «Ты посягнул на меня и за это должен поплатиться!»
Зверь стал наступать на лошадь, и она, как в случае с опричником, взвилась на дыбы, Фёдор слетел на землю.
Но медведь, подойдя к нему и обнюхав, пошёл прочь, не причинив человеку никакого вреда.
Когда Фёдор пришёл в себя, лёжа в кабинете своего отца, то услышал за дверью голос боярина Беклемишева:
— Государь изволит спрашивать, не задрал ли медведь твоего отрока?
— Слава Господу, здрав еси!
— Царь жалует твоему отроку золотую чащу и шубу со своего плеча за спасение опричного слуги.
— Низкий поклон и благодарение наше государю за ласку. Отрок нижайше просит государя уберечь заморского медведя от беды и прозывать его отныне Белое Ожерелье.
ГЛАВА 6 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Случай, когда Фёдор спас опричника от верной гибели, сблизил его с царевичем Иваном. Царевич стал держать его при себе как лучшего друга. То-то счастье пролилось на Фёдора! Он любовался и всё не мог налюбоваться царским дворцом. Здесь не было даже малого уголка, не расписанного золотом или серебром. Всё убрано коврами, на поставцах серебряные кубки, на стенах золочёные светильники, а от них сияние, как в сказочном тереме. Волшебство, да и только.
Фёдор впервые увидел во дворце палаты, где имелись все виды оружия. Тут были сабли, мечи, конусовидные шлемы, алебарды, пистолеты и пищали. Было оружие с замками и фигурными рукоятками. Число их было невелико. Царевич говорил, что их завезли из Речи Посполитой. На видном месте красовалась рогатина тверского князя Бориса Александровича, а неподалёку — древний шлем Ярослава Всеволодовича.
Показал царевич Фёдору и тронную палату, где стоял белый трон. Царевич называл его «костяным стулом». Он был весь украшен резными пластинами из слоновой кости, на которых были изображены сцены из Библии, батальные картины.
Дворцовая роскошь воспламеняла воображение Фёдора, он видел, как умело пользовался этой роскошью царевич, но он так восхищался царевичем, что дворцовое великолепие не вызывало у него зависти, и тот, видимо, чувствовал отроческую чистоту своего двоюродного брата и во всём доверял ему.
Как-то во время беседы с отцом у Фёдора вырвалось:
— Батюшка, я хочу быть таким же, как царевич Иван!
— Таким, как царевич, ты не можешь быть, сын мой, ты у нас сам собою хорош.
Но Фёдор как бы не слышал этих возражений:
— Благолепен царевич, яко и самому царю быти.
— До времени лучше о том помолчать, отроче...
— А как хорош на нём кафтан!
— Кафтан на нём добр, из персидского бархата сшит.
— Батюшка, закажи купцам заморским кусок такого же бархата!
— Или мы с матушкой жалеем на тебя денег? Дай только срок, когда в возраст да разум войдёшь!
— И так же золотом и дорогими каменьями будет шит мой кафтан?
— Чисто дите ты малое у меня.
Но в душе Никита Романович одобрял честолюбивые устремления сына. Он гордился его поступком, когда тот не убоялся отвести медведя от поверженного наземь опричника, коего ожидала неминуемая гибель. Зато и царь к ним теперь добрее стал.
В одном ошибался Никита Романович: его Фёдор не был «дитём», он серьёзно обдумывал своё новое положение при царском дворе, свои отношения с приближёнными царя. Его уже не задевало, как прежде, то, что во дворце жили худородные Годуновы — Бориска и сестра его Ирина. Он чувствовал, что его, как и отца, не любит Малюта Скуратов, но тот и царевича не любит. А с той поры, как Фёдор стал бывать во дворце, он заметил особую приязнь Малюты к Бориске и, случалось, замечал их недобрую приглядку к царевичу и самому себе. Но Малюта откровенно выражал свои чувства, а Бориска затаился, как зверёк, и лишь случайные всполохи в его глазах выдавали его настроение.
— За что ты так не люб Малюте? — спросил Фёдор как-то у царевича.
Царевич презрительно усмехнулся, словно не находя нужным говорить о злобном палаче, но всё же ответил:
— Невелика честь угодить Малюте. Не ведаю, как призвал его к себе мой державный родитель. А силу Малюта взял при дворе — оттого, что сумел вывести измену, унять крамольных бояр. А зол он потому, что влиянием на государя не хочет делиться ни с кем.
— Говорят, Малюту гложет чёрная зависть на бояр, ибо сам он вышел из простонародья. А скажи, царевич, как думаешь, за что Бориска так люб Малюте?
— Думает породниться с ним, выдать за него старшую дочь Марью.
Помолчав, царевич продолжал:
— Великие выгоды чает при дворе Бориска, и Малюта это знает, оттого и согласился сосватать за него свою дочь.
Как же любил Фёдор царевича за эту его откровенность с ним.
— А ты, отроче, пуще всего опасайся не Малюты, а Бориски, — продолжал царевич. — Этот татарин хоть и молод, а дай ему волю — любому горло перережет. Посули только ему награду.
Позже не раз вспомнит Фёдор эти слова царевича Ивана и убедится в их правоте. Он поймёт, что больше всего надо опасаться не явного врага, а тайного. А пока в жизни он видел другое: злобные дела вершили люди, которым была дана власть на это.
ГЛАВА 7 МУЖЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ
В миру митрополит Филипп назывался Фёдором и происходил из древнего и богатого рода бояр Колычевых. Казалось, судьба готовила ему славу мирскую. Его любил малолетний великий князь Иоанн. После венчания на царство он взял Фёдора Колычева ко двору. Всё обещало ему земное величие, ибо он был любим царём, получил глубокое образование и отличался твёрдым характером. Но не по дружбе приблизил к себе царь Фёдора Колычева, а по тщеславию и любви к людям мягким и смиренно мудрым, благочестивым.
Но именно в смиренномудрии и благочестии Колычева был источник их дальнейшего расхождения. В душе Фёдора зрело стремление посвятить себя Богу. Однажды в церкви во время богослужения он услышал слова Евангелия: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного, или другого будет ненавидеть, а другого любить, или одному усердствовать, а о другом не радеть станет». Эти слова запали в душу Фёдора Колычева, потому что он не хотел служить миру и богатству. Интересы духовной жизни он ставил выше мирских интересов. Это было время, когда монастыри были средоточием учёности и опорой духовного совершенствования человека. Удивительно ли, что Колычев решил поступить в Соловецкий монастырь, который своей отдалённостью от мира и строгостью правил отвечал лучшим движениям его души.
Игумен монастыря Алексий принял его благосклонно. Однако новый послушник попал в обстановку суровую и безжалостную. Он безропотно носил воду, колол дрова, работал на огороде и на мельнице. Ему приходилось сносить оскорбления и побои, что было тяжело человеку, жившему до этого в почёте и роскоши. Только через четыре года он был пострижен и получил новое имя — Филипп.
Став иноком, Филипп ещё усерднее исполнял свои обязанности, памятуя совет Екклесиаста: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни занятий, ни мудрости».
Добродетели, терпение и мудрость инока Филиппа покорили игумена Алексия, и, уходя на покой, он велел монахам избрать настоятелем Филиппа. Избрание было единодушным.
Началась новая страница в судьбе будущего московского митрополита. Он подавал братии пример трудолюбия, послушания и благочестия. Бедная обитель при нём процветала. Он привёл в порядок её многообразное хозяйство, улучшил земледелие, завёл новые промыслы, выстроил мельницы, выкопал пруд. Им было изобретено несколько орудий для облегчения тяжёлого труда иноков.
Царь во всём поддерживал начинания соловецкого игумена. С его помощью был сооружён каменный храм Успения Божией Матери, построены больница, каменные кельи, скит на одном из островов, пристань. Обновив Соловецкую обитель, Филипп соорудил и второй храм — в честь Преображения Господня.
Но, как говорит Екклесиаст, «всему своё время, и время всякой вещи под небом». Царь призвал Филиппа в Москву, чтобы тот занял опустевшее место митрополита. На душе у Филиппа было грустно и тревожно. Грустно было расставаться с Соловецкой обителью, которая стала ему родной. Тревожно, потому что он чувствовал, что едет в Москву на трудный подвиг. Он знал, что многое изменилось с тех пор, как он покинул Москву. От бывшего духовника царя, попа Сильвестра, сосланного в Соловецкий монастырь, он знал о том, как изменился за последние годы нрав царя, и мог предвидеть, какая участь ожидает того, кто осмелится сказать ему правду.
Приехав в Москву, Филипп убедился в правдивости слов опального попа Сильвестра. Его ужаснул сам вид Грозного. Он помнил его красивым, благообразным. Теперь же перед ним был старик с измождённым лицом, опустошённым взглядом и выражением жестокости в сухих чертах лица. Думая о том, что царь и сам страдает от своего неукротимого нрава, Филипп стал убеждать его уничтожить опричнину, говоря ему о том зле, которое она причиняет народу. Он просил царя облегчить положение бояр-земцев и земледельцев, снизить непосильное налоговое бремя.
Ему показалось, что царь слушает его благосклонно. Тогда Филипп мягко и убедительно произнёс решительные слова:
— О, государь! Я знал тебя благочестивым поборником истины и искусным правителем своей державы. Поверь, и ныне никто не замышляет против неё; оставь же небогоугодное начало и держись прежнего своего благочестия. Сам Господь сказал: «Аще царство разделится на ся, запустеет». Общий владыка наш Христос повелел нам любить ближнего: в любви к Богу и ближнему заключается весь закон.
Царь и эти слова выслушал благосклонно, но потребовал от Филиппа, чтобы он не вступался в дела двора и опричнины. Поколебавшись немного, Филипп принял это условие. Он надеялся, что отечеству может пригодиться его правдивое слово.
Митрополит Филипп не ошибся в своих расчётах. Вначале царь прислушивался к его слову. Казни стали реже, присмирели и опричники. Но только на время. Они нашли повод вызвать недоверие царя к митрополиту: один из Колычевых участвовал в переговорах с польским королём. И вновь царя пугали словом «измена»: митрополит-де заодно с твоими врагами.
Мрачная душа Иоанна легко поддавалась подозрениям. Снова начались пытки и казни, наводившие ужас на людей.
«Молчанием предаётся Бог». Эти слова из Писания стали заповедью Филиппа. Уединённая монашеская жизнь научила его тщательно обдумывать свои речи. Он явился к царю во всеоружии Божьего слова.
— Государь, — сказал он ему, — почти Господа, давшего тебе царское достоинство! Соблюдай данную тебе от Господа заповедь, управляй в мире законно. Земные блага преходящи, сохраняется лишь одно небесное сокровище — правда. Хотя ты и высок саном, но естеством ты подобен всякому человеку: ты почтён образом Божием, ты и причастен земному праху. Тот поистине может назваться властелином, кто владеет самим собою, не рабствует страстям и побеждает любовью.
Помолчав немного, Филипп проверил впечатление от сказанных им слов. Царь казался спокойным. Филипп продолжал:
— Слышно ли когда-нибудь, чтобы благочестивые цари сами возмущали свою державу?
Царь рассердился, услышав эти слова.
— Что тебе, чернецу, до наших мирских дел?! — воскликнул он. Но, сдержав свой гнев и поискав весомый довод, сказал: — Или не знаешь, что мои же подданные хотят меня погубить?
— Не обманывай себя напрасным страхом, — отвечал Филипп. — Мы все заодно с тобой для попечения о благе народа.
— Молчи, честной отец! — вновь воскликнул Иоанн. — И дай нам своё благословение.
— Наше молчание налагает грех на твою душу и всем приносит вред, — отвечал святитель. — Если на корабле один из служителей впадает в искушение, то кораблю от этого небольшая опасность; но если это случается с самим кормчим, то весь корабль может погибнуть. Мы должны говорить тебе правду, даже если бы пришлось положить за это жизнь.
И снова царь обратился к доводам, которые казались ему убедительными:
— Владыко святой, друзья и близкие мои восстают на меня и хотят меня погубить.
— Государь! — сказал святитель. — Есть люди, которые обманывают тебя. Прими совет: не разделяй державы своей. Ты поставлен Богом, чтобы судить в правде людей Божиих, а не образ мучителя воспринять на себя. Всё проходит: и слава, и величие; бессмертно одно житие в Боге. Отсоедини от себя клеветников и устрой воедино народ свой, ибо благословение Божие пребывает там, где единодушие и нелицемерная любовь.
— Филипп! Не прекословь державе нашей, ежели не хочешь лишиться сана, — грозно возразил Иоанн.
— Я не искал этого сана, — ответил митрополит, — а во время подвига не должен ослабевать.
Царь удалился в гневе и с той поры начал избегать встреч с Филиппом.
В Александровской слободе не дозволено было произносить имя Филиппа. Священник церкви Покрова попал в опалу только за то, что на праздник навестил свою московскую родню. Его обвинили в том, что он якобы прельстился, принял еретическое учение.
Это было время, когда оправданий не слушали. Всё было, как в той поговорке: «Пьян ты или не пьян, но ежели говорят, что пьян, то ложись спать». И многие в те дни засыпали навеки. Люди затаились на своих подворьях. Не только соседи, но даже родственники перестали общаться между собой.
Присмирела Александровская слобода, как и матушка-Москва. Снова казни и злобные набеги опричников на подворья. Обездоленные стали обездоленными ещё больше. Одни лишь пленные ливонцы чувствовали себя привольно. Царь одаривал их имениями и деньгами, Эти чужие люди наполняли свои руки чужим богатством и со снисходительным недоумением поглядывали на «туземцев».
Как удержаться москвитянам от гнева? Стихийно возникали стычки и потасовки. Опричники принимали сторону ливонцев, а над москвитянами чинили расправу.
Однажды Фёдор и царевич Иван возвращались верхами с охоты. Фёдор думал о наглой выходке соседа-ливонца, который самохватом прирезал себе их землю и на которого нельзя было найти управу. Фёдор заговорил об этом со своим спутником:
— Царевич, ты зришь мудро. Скажи, долго ли нам терпеть засилье немцев?
Царевич резко повернулся к Фёдору и зло произнёс:
— С дурной речью сиди за печью.
Он быстро поскакал вперёд.
Фёдор пожалел о своих словах. Царевич во всём придерживался взглядов державного родителя, и о государственных делах с ним лучше не говорить.
После этого случая царевич стал избегать его и привечать Бориса Годунова. Но Фёдор заметил, что Бориска не принимает участия в охотничьих забавах царевича. Он припомнил беседу в царских хоромах, когда Бориска хитро перевёл речь на шахматы, а государь говорил об охоте. Да что с него взять — столь же труслив, как и хитёр. И Фёдор подумал, что татарин скоро наскучит царевичу.
Так оно и сбылось. Однажды во время верховой езды Фёдора нагнал царевич. Он огрел коня Фёдора кнутом, тот взвился, едва не сбросив седока. Царевич громко рассмеялся. В тон ему смеялся и Фёдор. Чувствовалось, что за время размолвки они соскучились друг по другу. Между ними, несмотря на многие несогласия, было чувство родственной близости, и оно действовало подобно магниту. Оба отличались тем особенным себялюбием, что сродни жизнелюбию. Каждый считал себя великим, справедливым, умным. Попробовал бы кто заговорить с царевичем о его недостатках — ничего, кроме негодования и дерзкой отповеди в ответ, он бы не получил. Таким же был и Фёдор. Зная его способность опаляться гневом, даже Никита Романович бывал осторожен, когда требовалось сделать сыну внушение.
И сейчас, когда Фёдор и царевич Иван как бы помирились, радости их не было конца. Фёдору захотелось подзадорить царевича.
— Ты что-то приуныл, Иван. Али не по душе пришлись тебе умные речи Бориски?
Царевич рассмеялся:
— Речи-то у него умные, да скучно с ним. Всё бы ему тишь да гладь да Божья благодать.
— Благодать? А ты и поверил? О таких, как Бориска, говорят: «С виду тих, да обычаем лих».
Чтобы оставить за собой последнее слово, царевич сказал:
— Бориска-то и худ, да царю угоден. Во всём видит правду царя. И с опричниками в дружбе живёт. Знает, что благочестивые цари во все времена врагам своим головы снимали. Да тем и утверждались.
Царевич Иван сообщил, что государь собирается в Москву, в церковь Успения. Там будет служить обедню Филипп — просвещать прихожан светом истины.
В последних словах царевича звучала явная ирония. Помолчав, он продолжал:
— А ты не верь Филиппу. Он отжил своё. И стоят за него люди отжившие, как поп Сильвестр и собака Адашев.
Фёдор не понимал значения этих слов. Что значит «отжившие»? Или их загодя хоронят? На душе у Фёдора было тревожно.
ГЛАВА 8 В ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ
Как ни опечален был Фёдор размолвкой с царевичем, но в душе стоял на своём. Или неправ митрополит Филипп, обличая злодеев-опричников? Царевич живёт по примеру своего державного родителя, оттого и гневается на мятежные речи митрополита. И чает, видно, что Филипп смирится перед царской грозой. Да мыслимо ли, чтобы у такого великого раздора был добрый конец?
Фёдор провёл беспокойную ночь, а к утру было готово решение ехать в Москву. Ныне митрополит Филипп должен служить обедню в Успенском соборе. Об этом накануне толковали отец с матушкой.
— Авось Бог милостив, и государь замирится со святителем, — заметила матушка.
Батюшка смущённо кашлянул: видно, опасался, как бы не услышал кто запретного имени, произнесённого в его хоромах. Долго молчал, прежде чем ответить:
— Конь вырвался — догонишь, а слова сказанного не воротить.
Что скажет отец, узнав, что он собрался в Москву? Сам-то отец по болезни не может.
— Батюшка, царевич велел в Москву ехать, обедню слушать.
Никита Романович снова смущённо крякнул:
— Ну, коли царевич...
Он, видимо, и сам не знал, что лучше: быть его старшему сыну на обедне или не быть.
Выйдя на крыльцо, Фёдор услышал, как на опричном дворе переговариваются меж собой царёвы слуги, как язвительны их речи. Ясно, что затевалось недоброе.
Отец дал ему в дорогу несколько охранников, и к полудню Фёдор был уже в Москве. На окраинах шли какие-то приготовления, говорили, что вечером на кострах будут жечь еретиков. Люди вели себя по-разному. Одни молчали, опасаясь проронить хотя бы слово, другие изрекали: «И поделом им, царёвым изменникам».
К сердцу Фёдора понемногу подступал страх. Зря он говорил царевичу раздорные слова. А ну как тот скажет государю: Фёдор-де против немцев стоит? Надо бы сыскать царевича, повиниться перед ним... Ох, трудно будет переломить себя. Разве можно согласиться с царевичем, когда он говорит: «Жестокость — не порок, а право силы». Но тут Фёдор вспомнил, что и родитель его, Никита Романович, не осуждал жестокость царя Ивана, а родитель его — справедливый и мудрый человек.
В Кремле было людно и шумно, точно в съезжий день. Можно было заметить, что возле храма Успения толпилось много богомольцев. Он решил дождаться появления царевича со свитой возле южного портала. Несколько ветхих старушек, не осмелившихся, видно, пробиться в людскую гущу собора, крестились перед образами святых, что на створках портала. Тихо лились слова, из которых можно было понять, что в толпе осуждали отступничество мирян.
— Всяк уклонится. Помочи святителю не от кого ожидать.
— А то... Люди ныне сделались непотребными.
— О себе токмо и помышляют...
— Дак что толку молвить инако, ежели за правду на костёр посылают!..
— Господи, спаси и помилуй!
«Именно, именно! Нельзя говорить, что думаешь! Ужели митрополит Филипп не отречётся от своих слов? Сегодня всё должно решиться. Ежели он прилюдно благословит государя, то и прощён будет», — думал Фёдор.
Вскоре показался царевич с немногочисленной свитой, и Фёдор поспешил встретить его радостным взором. Успенский собор сиял золотом, и словно бы сулило людям добро это сияние. Но сурово смотрел с высоты «Спас Ярое око», и сердце Фёдора сжалось от недоброго предчувствия. Он видел, что царское место пустовало. Там неподалёку толпились прихожане.
Между тем началась воскресная служба. Обедню служил митрополит Филипп. Людям на диво и на радость, что лицо у него весёлое и светом благодати проникнуты слова его проповеди. Под митрой видны завитки чёрных волос. Седина не тронула их. Сам он был бодр и свеж.
В глазах прихожан, устремлённых на него с тревогой и надеждой, можно было прочитать: «Живи долго, пастырь добрый, ибо среди нас ты, как поучал Пётр, пасёшь Божье стадо не по принуждению, но охотно и богоугодно».
— Господи, расположи сердца наши воспринять божественную истину. Даруй властям мудрость и мужество, пошли им многие советники благочестивые, мудрые и мужественные, направь на истинный путь. Искорени убийства и непотребства.
Слова проповеди звучат под самыми сводами, и кажется, что они падают с неба. Филипп произносит их с веселием в сердце.
— Господи, отыми от сердец наших вражие наваждения, исторгни из сердец наших жало бесовское и пошли нам росу благодати духа твоего. Да не прельстимся кознями лукавыми!
Стоя в алтаре по чину ветхозаветных Захарии и Аарона, первосвященников, он возносил кадило, угождая Господу, укрощая его ярость пречистыми молитвами. Но вот во время богослужения в собор вошёл царь, облачённый в чёрные ризы, с боярами и синклитом[9]. На головах их были высокие шлыки[10], подобные тому, какие носили древние халдеи[11].
Филипп продолжал службу строго по чину и словно бы не видел царя, остановившегося неподалёку от него. Ничто не выдавало его душевного смятения. У него было такое чувство, будто к алтарю устремились чёрные вороны. Пошто царь вошёл в святую церковь в сатанинском облачении? Или царь дерзает низвести Бога до себя и тем уподобить себя Богу?
Филипп словно не слышал, что царь уже третий раз испрашивает у него благословения, и не отвечал ему. Тогда стоявший рядом боярин Салтыков сказал:
— Владыко святой, благочестивый государь всея Руси, Иван Васильевич пришёл ко твоей святости и требует от тебя благословения.
Митрополит поднял глаза на царя и произнёс:
— Царь благой, кому поревновал, что таким образом красоту свою изменил и неподоболепно преобразился? С тех пор, как солнце в небесах пребывает, не слыхано, чтобы благочестивый царь свою державу возмущал. Убойся, о царь, Божьего суда! Мы, царь, приносим жертву Господу чистую и бескровную за спасение мира, а за алтарём неповинно льётся кровь христиан и люди напрасно умирают. Ты, царь, хотя и образом Божиим почтён, но и праху земному причастен, и ты прощения грехов требуешь. Прощай и тех, кто против тебя согрешает, поскольку тому, кто прощает, даруется прощение.
Глаза царя побелели от гнева, дуги бровей на искажённом злобой лице поползли вверх. Он ударил жезлом об пол и воскликнул:
— Чернец! Нашей ли власти прекословишь? Наши ли решения хочешь изменить? Не лучше ли тебе хранить с нами единомыслие?
Святитель отвечал:
— О, царь, тщетна будет вера наша, тщетно и проповедание апостольское и не принесёт пользы Божественное предание, которое нам святые отцы передали, и все доброделание христианского учения. И даже само вочеловечение Владыки, совершенное ради нашего спасения. Он всё нам даровал, чтобы непорочно соблюдали мы дарованное, а ныне мы сами всё рассыпаем — да не случится с нами этого! Взыщет Господь за всех, кто погиб от твоего царственного разделения. Но не о тех скорблю, кто кровь свою неповинно пролил и мученически скончал жизнь свою, поскольку ничтожны нынешние страдания для тех, кто желает, чтобы в Царстве Небесном им воздалось благом за то, что они претерпели. Пекусь и беспокоюсь о твоём, царь, спасении.
Размахивая руками от гнева, царь угрожал митрополиту изгнанием и смертью. Филипп отвечал:
— Господь мне помощник, и не устрашусь. Что сделает мне человек, хотя бы и царь? Как и все отцы мои, за истину благочестия подвизаюсь, даже если и сана лишат или лютее надлежит пострадать — не смирюсь!
...После того как царь со своей чёрной свитой покинул собор, люди начали расходиться, пугливо потупив головы. Не приняв апостольского обличения святителя, бояре и служители церковного клира стали тесниться к царевичу Ивану, который кипел негодованием против митрополита Филиппа и гневался на своих слуг за то, что они упустили тот момент, когда митрополит вышел из собора через внутреннюю дверь, и не дали знать о том ему, царевичу. Гнев царевича перекинулся на бояр и церковников:
— А вы, длиннобородые, как посмели отдать своего государя в поношение чернецу недостойному? Или сатана наложил на ваши уста печать молчания?
— Винимся! Не подобало Филиппу прекословить царской воле, — произнёс новгородский епископ, низко склоняя шею перед царевичем.
И тотчас послышались голоса:
— Не по сану взял на себя Филипп обличение помазанника Божия!
— Не по сану!
— Государю нашему от Бога дана мудрость постижения всего сущего!
Много было таких, что желали святителю опалы и погибели. Один боярский отрок крикнул:
— Да покарает Господь ворогов государя!
Вдруг царевич резко повернулся к Фёдору Захарьину:
— А ты что стоишь и ничего не говоришь?
Не успел Фёдор ответить, как боярин Ведищев, известный своей лаской к Никите Романовичу, сказал:
— Не гневи свою душу, царевич. Или не видишь, что нас собрала здесь одна забота и думка? Надлежит всей державе принять постановление, дабы Филипп принёс государю свою вину.
— Разумно молвишь, боярин! — поддержали его голоса.
— Да отпустит ли государь вину Филиппу?! — злобно выкрикнул опричник Василий Грязной. — Всем ныне ведомо, каков чернец безбожный. А вы, церковники, или не видели, какое предательство готовил тот, кого царь облачил высоким саном?
— Довольно, слуга опричный! — остановил Грязного не любивший его царевич. — Вина Филиппа ведома ныне всем! Отпустит ли государь ему вину или покарает как недостойного смерда — на то будет воля государя!
ГЛАВА 9 И СНОВА МЯТЕЖНЫЕ МЫСЛИ
Когда царевич показался на паперти церкви Успения, его суровое лицо устрашило собравшихся богомольцев. Москвитяне были напуганы приготовлениями к новым казням. Они знали, что на торговой площади города и прилегающих к ней улицах были поставлены виселицы. На перекладинах висел огромный котёл. В конце площади стояли столбы с цепями, и между ними в эти часы сооружался костёр. В стороне высилась дыба в окружении орудий пыток.
Не надо было иметь богатое воображение, чтобы представить себе это зрелище преисподней с адскими муками людей ещё при их жизни. Москва в иные дни бывала похожа на застенок.
Не по себе было, видно, и царевичу. Он прибавил прыти своему коню, чтобы быстрее проскочить мимо страшного места. За ним поспешал и Фёдор. Но конь его вдруг упёрся, заржал, словно чуя недоброе, и долго так упрямился. Поэтому Фёдор несколько отстал от царевича, нагнав его уже у заставы. Улицы, которыми они проскакали, были пусты: люди прятались по домам.
Впереди лежала дорога, ведущая к святилищу Троице-Сергиевой лавры, она же вела и в город-вертеп — Александровскую слободу, куда спешили наши путники. Там был и царский двор, где больной Никита Романович ожидал возвращения сына.
Лихой аргамак под царевичем нёсся так лихо, что было слышно, как он грудью рассекает воздух. Оба они, и царевич, и Фёдор Захарьин, любили быструю езду, когда кажется, что не на коне скачешь, а несёшься по воздуху и в теле лёгкость и сила.
Вот уже проскочили монастырские угодья, что тянулись вдоль Москвы-реки; и сам монастырь остался позади. Всадники свернули на дорогу, которая недавно была проложена через дремучий лес — ради краткости пути. В лесу было темно, и не вдруг можно было понять — то ли зверь ломает кусты, то ли пробирается сквозь чащу человек. Присмотревшись, Фёдор разглядел острым отроческим оком, что их, видно, испугались мужики, дравшие лыко. Неподалёку были разбросаны мотки белых древесных нитей. Послышался тихий говор:
— Не боись. Сказываю тебе, не боись. То не люди царёвы. Чёрные вороны ныне на Москву слетелись. А это — бояре добрые.
В придорожном посаде путники остановились напоить лошадей. Боярин велел слугам накрыть стол. От долгой скачки и тяжких впечатлений в Москве Фёдор казался усталым.
— Ты никак сомлел? — насмешливо спросил царевич.
— Невмочь тебе с царевичем тягаться... — поддержал высокомерный тон царевича стременной.
Фёдор не понимал, что с ним. Вытер пот с лица рукавом золочёного кафтана. Продолжая наблюдать за ним, царевич протянул ему чашу с вином. Опорожнив чашу, Фёдор почувствовал, как силы возвращаются к нему. Царевич выглядел по-прежнему угрюмым и держался высокомерно. Им владела какая-то забота, и Фёдору показалось, что он хочет поговорить с ним. Тут к царевичу подошёл боярин и, поклонившись, просил пройти в хоромы, ежели державной милости угодно отдохнуть.
Слуги помогли царевичу снять кафтан и сапоги. Фёдор разделся сам. И вот они уже растянулись на пуховых постелях и тихо беседуют.
— Ты, Фёдор, навык в древней истории, — начал царевич, заложив руки за голову. — Скажи, бывало от миру в благочестивых державах, чтобы святители указывали властительным князьям и царям в мирских делах? Чтобы отказывали им в благословении?
— Видно, что нет, — ответил Фёдор, понимая, какого ответа ожидает от него царевич.
Тот пристально глянул на него сбоку. Подозрительный, подобно Иоанну, и столь же скорый на суд, сказал:
— Сдаётся мне, ты мирволишь мятежному чернецу.
— Нет-нет, царевич, не о том моя тоска... Отец болен...
Фёдор смолк на полуслове. Мог ли он позволить себе быть откровенным с царевичем? Ему было не по себе от своего лукавства. Так ведь и царевич лукавил с ним. Или он не знал древней истории? Или сам же не вспоминал о преподобном Мартиниане Белозерском? Или не читали они вместе «Книгу летописную Русской земли»? Или, молясь у Живоначальной Троицы в Сергиевом монастыре, не говорили о Мартиниане, шестом игумене святой обители после Сергия-чудотворца? Да и случай с ним был памятный. Это было время княжения Василия Тёмного. Князь послал к Мартиниану с просьбой, дабы он возвратил к нему боярина, отъехавшего от него к тверскому великому князю. Когда преподобный вернул беглеца, Василий Тёмный, не сдержав мстительной ярости, велел заковать его в цепи и кинуть в темницу. Разгневанный и опечаленный Мартиниан поехал к великому князю. Войдя к нему и помолившись Богу, он сказал: «Так ли праведно ты, самодержавный князь, научился судить? Почто душу мою грешную продал и послал в ад? Почто боярина, душой моей призванного, повелел заковать и слово своё нарушил? Не будет моего благословения ни на тебе, ни на твоём великом княжении!»
Не убоялся игумен князя и не только обличил его, а и запрет на благословение наложил. И князь не прогневался на него, не возмутился, но подумал: «Виноват я перед Богом, согрешил, нарушил слово своё». А с боярина в тот же день опалу снял, и вотчину ему дал, и приблизил к себе.
Но как напомнить царевичу о праведном смирении великого князя Василия Тёмного? Опасался Фёдор опечалить царевича, вызвать его досаду.
И снова дорога и быстрая езда. Ближе и ближе слобода, ставшая для Фёдора вторым домом. Вот замелькали её крыши, словно бы самим лукавым цветисто украшенные... Там, в одном из теремов, дожидается его возвращения отец. Открыть ли ему всё, что было между царём и Филиппом в соборе, или утаить, дабы душа его была покойна?
У самого Фёдора на душе смутно. Не по силам отроку эти тяжкие вопросы. И, подъезжая к слободе, он с чувством облегчения отдался на волю живым впечатлениям.
Сколь же пестры толпы людей, бредущих на богомолье в лавру. Не оторвать взгляда от скоморохов с гудками, балалайками и свистульками. То-то привольная у них жизнь! Опричники не трогают их и задерживают бег коней, чтобы посмеяться. Один скоморох что-то поёт, играя на волынке. Фёдор прислушивается.
Ты слобода, слобода, Невольная сторона...Что такое? Почему «невольная сторона»? Опричник хмурится. Явно дьявольская игра слов настораживает его. Слово «слобода» значит «свобода». Отчего же «невольная сторона»? Он подступил к скомороху с волынкой. Но тот понял его и запел весёлую частушку:
Вы не все, цветочки, вяньте! Хоть ты, аленький, алей! Вы не все меня корите, Хоть ты, опричный, пожалей!Дивясь находчивости скомороха, опричник хохотнул и отъехал в сторону. Фёдор бросил скомороху деньгу. Хотя что ему эта мелочь. Ночью скоморохи вместе с разбойниками ограбят обоз. Вот где они поживятся!
...Матушка первой увидела из окна Фёдора, въехавшего во двор. Перекрестилась, вознося благодарение Пресвятой Богородице. Москва, куда он ездил, казалась ей страшнее Александровской слободы. Выбежала навстречу в сени, кинулась на грудь, тоненькая, словно девочка, маленькая. После казни родителя Иоанном она так и не пришла в себя, жила, каждый день ожидая беды.
— Чтой-то щёки у тебя горят... И лоб горячий.
Она приказала сенной девушке приготовить липовый цвет. Велела накрыть стол в покоях Никиты Романовича и сама кинулась к супругу с радостной вестью, опережая сына.
Никита Романович выпаривал недуг на горячей лежанке, хотя дни стояли тёплые. Сына встретил взглядом ещё у самой двери. Его встревожило, что Фёдор вошёл понурив голову. Романов-старший, отец четверых сыновей, с тревогой думал, что горе земли не обходит ныне и молодых. Но судьба старшего, Фёдора, тревожила его более других. Он скрывал эту тревогу от супруги и сердился, видя на её лице слёзы, унимал её чрезмерную заботливость и любил вспоминать слова Евангелия от Матфея: «...не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы».
Но лукавил Никита Романович перед своей супругой: завтрашний день не только заботил его, но и тревожил.
Фёдор опустился на колени перед изразцовой лежанкой, расписанной цветами и птицами, поцеловал руку отца.
— Говори, сын мой, что повидал на матушке-Москве, с чем ныне приехал?
Фёдор рассказал о том, что было в Успенском соборе между царём и святителем.
— Вишь, притча какая бывает, — растерянно произнёс Никита Романович. И, помолчав, добавил: — Хоть Филипп и владыка наш духовный, да не должен он так перечить государю на виду у всех...
Фёдору снова пришёл на память святой Мартиниан Белозерский. Он обличал великого князя, однако не при народе.
От Никиты Романовича не укрылись следы раздумий на лице сына. Он взял себе за правило не лукавить с сыном и не обходить стороной острые вопросы. Некогда он и сам указал Фёдору на слова из Писания: «Муж обличающий лучше льстящего».
— А царевич Иван не толковал с тобой дорогой о бедственном деле?
— Толковал и, паче того, серчал на меня.
Фёдор рассказал о том, что было между ними. Никита Романович призадумался.
— Сыщи, сын мой, в шкафу «Послания старца Филофея» и найди его послание великому князю Василию.
Фёдор принёс тяжёлую книгу посланий знаменитого псковского игумена, открыл нужную страницу.
— Читай после слов: «Увы, как долго терпит милостивый наш Господь, нас не судя».
Найдя нужное место, Фёдор стал читать:
— «Всё это я написал, много и горько рыдая, и сам я, окаянный, полон грехов, но боюсь и молчать, подобно рабу, что скрыл свой талант. Ибо я грешен и недостоин во всём и невежда в премудрости, но ведь и бессловесная валаамова ослица разумного поучала, и скотина пророка наставляла, так и ты не зазри о том, благочестивый царь, что дерзнул я писать твоему величеству».
— Видишь, сын, и прежде не один только святой Мартиниан обличал, но и старец-игумен Филофей.
Заметив, как вспыхнули глаза сына, Никита Романович решил дать остуду его порыву, отличавшему от века всех правдолюбцев. Припомнилось, как ещё в детстве Фёдор сказал ему: «Батюшка, или велишь мне в неправде жить?»
Посмеялись тогда они с матушкой над его словами, но с той поры оба избегали прямых укоров сыну за оплошки. Вот и теперь как остеречь его?
— Так было, сын мой, но не таково ныне. Филипп творит наперекор державе. Рассуди сам, какая смута начнётся в ней, ежели царю станут указывать да поучать... Или не понимает Филипп, что царь хоть и грозен, но самим Богом поставлен государить над нами?
— Царь ли правит нами? А ежели царь, то пошто такая воля опричникам дана? Сдаётся мне, отец, что ныне всё свершается по Писанию: «Но теперь ваше время и власть тьмы...»
Слушая сына, Никита Романович думал: «Видно, моя вина в том, что мой сын стал много себе в голову брать». Любуясь им — истый Захарьин! — Никита Романович спросил:
— Помнишь, Федюня, как гусляр сказывал былину о Добрыне Никитиче и слова матушки?
Уж ты, гой еси, дитя моё рожоное! Ты малёшенек, Добрынюшка, глупешенек, Да неполного ума, да пути-разума.Так оно и ныне, сын мой: опасно довериться раздолью-то широкому. И мой совет тебе: поди повинись перед царевичем Иваном, дабы не был гневен на тебя.
Всё дальнейшее совершилось с неожиданной быстротой. Фёдор начал глотать воздух, как если бы ему не хватало дыхания. Голова упала на грудь. Никита Романович испуганно крикнул людей, слез с лежанки, стал тереть побелевшие щёки сына. Вбежала мать. Но Фёдор к этому времени очнулся. Отец дал ему вина. Боярыня причитала:
— Ох, Микита Романович, умучил ты речами мудрыми дитя наше любезное!
Она увела сына, хотя Никита Романович собирался посидеть с ним за столом. Редко противилась Прасковья Александровна воле супруга, но на этот раз, видимо, подчинилась материнскому чутью и вовремя прекратила их разговор.
ГЛАВА 10 ЖЕСТОКИЙ ИСХОД ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
Внезапный недуг сына, горячечное состояние его души встревожили Никиту Романовича. Он не лёг, подошёл к окну, стараясь собраться с мыслями. Знакомые быстрые и тяжёлые шаги за дверью заставили его вздрогнуть. В горницу вошёл царь, гремя посохом о порог.
— A-а... Ты встал, а сказывали, нездоров. А я, проведав о том, решил навестить тебя в твоей болезни.
Чувствовалось, что не с добром пришёл к нему царь. Верный признак его гнева — спокойный, с характерным придыханием голос. «Какую вину он сыскал во мне? — лихорадочно соображал Никита Романович. — Или царевич привёз ему недобрые вести? Или Бориска, коего он к себе приблизил, насевает в его душе недоверие ко мне? Никогда не узнаешь, что у царя на душе. Неподвижные, будто что-то стерегущие глаза. Смотрит мимо. Лицо опавшее, как после долгой болезни».
Никита Романович поклонился царю, молвил с лаской в голосе:
— То тебе правду сказывали, государь-батюшка. Нездоровье, вишь, одолело. Ноги так скрутило, что думал, не встать мне боле.
Никита Романович запнулся, словно пристальный взгляд царя сковал его язык.
— Так ли худо у тебя со здоровьем, как сказываешь? Или пустое наносят на тебя, будто ты, Микита, помышляешь, как бы в Литву отъехать? Собака Курбский всем изменникам путь указал.
Говоря это, Иоанн незаметно наблюдал за шурином, и ни одна чёрточка в его лице не выдавала коварного лукавства.
Чувствуя, как тяжело забухало сердце, Никита Романович, молитвенно сложив руки, произнёс со спокойной твёрдостью в голосе:
— Великий государь! Захарьины испокон веков поступали честно перед великими князьями и царями. Чёрные изменные дела за ними не водились. И ты, государь, шептунов не слушай! Я, московский природный человек и твой верный холоп, готов живот свой положить за твою державную милость...
Царь продолжал пристально смотреть на него. Улови он малейший ропот в голосе Никиты Романовича — и несдобровать бы боярину. Ни в голосе его, ни в лице не было даже намёка на подобную «крамолу». Но Грозный был упорен в своих подозрениях.
— Ты знаешь, Микита, что Захарьины были у меня в чести, да тем тебе боле не отговориться. Ты дерзко повелеваешь мне: шептунов-де не слушай. Ты, может, думаешь, что бояре истину мне приносят? Или, может быть, не знаешь, что у бояр правды нет?
— Не ведаю, о каких боярах изволишь говорить, государь, но я тайны от тебя не таил.
Иоанн бросил на своего шурина недобрый взгляд.
— Или ты не держишь у себя латинские образа и книги? Или неправда, что людям своим ты не велишь ходить в церковь?
— Государь, шептуны наклепали на меня. Тебе открыты моя душа и мои помыслы. Доселе я жил твоими милостями и мудростью.
— Коли так, пошто сын твой в неправде и неверии живёт? Весь в деда-крамольника, казнённого мной князя Суздальского-Шуйского!
Никита Романович почувствовал, как от лица отлила кровь, как похолодели губы. Кто наклепал на Фёдора? Царевич? Бориска?
Собравшись с силами, он произнёс:
— Дозволь сказать тебе, государь: мой сын Фёдор — истый Захарьин. Будет тебе верным слугой.
У Никиты Романовича не случайно вырвались эти слова. Иоанн ненавидел Шуйских. Когда же по его велению псари затравили до смерти князя Андрея Шуйского, он уже не гневался на представителей этого рода. В своё время сами Захарьины в борьбе за место у трона теснили Шуйских. Но после того как Никита Романович женился на дочери князя Горбатого-Суздальского при содействии царя-свата, можно ли было отрекаться от родства с древним княжеским родом Шуйских?
И всё же в эту опасную минуту Романов-старший отрекался, как бы забыв, что Фёдор был внуком достойного деда — князя, большого боярина и казанского наместника Александра Борисовича Суздальского. Но именитый князь был казнён Иоанном. Станешь ли гордиться таким родством?
Царь молчал. В его лице чувствовалась скрытая досада. Казалось, мысли его были далеко. Наконец он поднялся с кресла и строго, но без гнева произнёс:
— Ныне мне недосуг говорить о твоём сыне. Ныне мне надобна твоя служба.
Помолчав некоторое время, он продолжал с приливом раздражения:
— Соберём Боярскую думу, игумен Паисий привёз из Соловецкого монастыря свитки. Ты в Писании горазд, прочитаешь перед боярами те свитки, дабы сыскать вину Филиппа... Суд учиним над Филиппом, сведём его со святительского престола.
Никита Романович задрожал, не зная, как уклониться от богопротивного дела. Или не знает Иоанн, что не подобает царям расследовать дело святителей? Согласно правилам и чину Филиппа могут судить только епископы. Никита Романович опустил голову и произнёс:
— Как будет воле твоей угодно, государь!
Кровожадная мстительность Иоанна определила неотвратимо-беспощадное решение судьбы митрополита Филиппа. Задумано было по-иезуитски. Для начала царь послал своих прислужников в Соловецкий монастырь, где ранее Филипп был игуменом, чтобы привезли в Москву дурные вести об его игуменстве. Или неведомо было ему, что дурных вестей не могло быть, ибо Филипп во время пребывания в Соловецком монастыре прославился святостью?
Известно, что посланные царя применили и самые тяжкие угрозы, и льстивые обещания. Но самыми верными оказались угрозы. Ими и удалось склонить к предательству игумена Паисия — ученика Филиппа. Печальный пример того, что охваченный страхом человек перестаёт быть человеком. Составленные Паисием обвинения были недостоверными и, что особенно прискорбно, глумливыми. Клеветника привезли в Москву лжесвидетельствовать.
Суд над Филиппом вершили не в новой столице царя, а в Москве. Хотя и перенёс Иоанн столицу в Александровскую слободу, Москва продолжала оставаться центром государственной жизни Руси. Многие понимали, что переезд царя в слободу был вызван не столько разумной волей и необходимостью, сколько желанием устрашить подданных своим отъездом и тем сделать их более послушными. Да и привольная жизнь в слободе позволяла Иоанну тешить свою плоть содомскими развлечениями.
Поначалу Иоанн надеялся образумить Филиппа и призвал его к себе.
— Филипп, отрекись от ложного свидетельства, дабы не навлечь на себя позор вечный. Ведаешь ли, что тебя обличает лучший ученик твой игумен Паисий?
По знаку царя боярин Беклемишев подал свитки.
— Ведаю и скорблю о грешной душе Паисия, ибо страх перед царём земным затмил в нём страх перед Царём Небесным. Но ты, Иоанн, самовольно и неправедно чинишь суд. Не подобает царям вину святителей расследовать.
— Или я не властен в своих подданных и не вправе лишить тебя живота? — закипел гневом царь.
— Государь! Думаешь ли ты, что я боюсь твоих угроз или смерти? Честно дожил я до старости; честно предам душу мою Господу, который рассудит нас. Лучше мне умереть за свидетельство истины, нежели в сане митрополита безмолвно взирать на ужасы этого несчастного времени. Вот жезл святительский, вот клобук и мантия, которыми ты хотел возвеличить меня, — возьми их назад!
Говоря это, Филипп снял клобук и мантию. Царь, наблюдавший за ним с гневной гримасой, надменно велел ему взять назад знаки его достоинства и исполнять святительские обязанности до конца следствия.
Дальнейшее было задумано Иоанном по-мучительски.
Был день архангела Михаила. Святой Филипп готовился начать обедню в храме Успения, Вдруг с шумом вошёл Басманов с опричниками. У руках у него был свиток. Он развернул его и велел читать. Присутствующие вначале молчали в немом изумлении. Затем послышался слабый ропот. Под сводами храма прозвучал чей-то горестный голос:
— О Господи!
Филипп обвинялся в чревоугодии, нарушении постов, глумливых речах, неповиновении царю, за что и лишался святительского сана как недостойный его.
Вслед за этим опричники бросились на митрополита, сорвали с него святительскую одежду, надели ветхую ризу и мётлами выгнали из храма. Филипп всё перенёс спокойно и утешал народ и духовенство:
— А вы, служители алтаря, пасите верно стадо Христово, готовьтесь дать Богу ответ и помните, что надо страшиться Царя Небесного ещё более, нежели земного.
На другой день Филиппа привезли на митрополичий двор. В митрополичьей палате его ожидали архиереи. Вошёл царь. Но Филипп смотрел не на царя, а на обвинителя своего Паисия. С выражением печальной кротости, без всякой укоризны он сказал ему несколько ободряющих слов, затем обратился к царю:
— Удались, государь, от столь нечестивых деяний!
Вспомни, что добрые цари ублажаются и по смерти, о злых же никто не вспоминает с благодарностью. Постарайся принести плоды добродетели и собрать себе сокровища на небесах, ибо каждому воздаётся по делам его.
Удивительнее всего, что царь ничего не ответил на эти слова. Что думал, что чувствовал он, некогда так любивший Филиппа?
Вдруг среди всеобщего молчания подал голос казанский епископ Герман:
— Государь, какую вину ты сыскал в сём праведнике? Или поверил клевете безумной?
Сурово глянув на Германа и не желая слушать продолжение его «крамольной» речи, царь вышел. Он велел опричникам заключить Филиппа в темницу. Святителю забили ноги в колодки, заковали руки, хотели уморить голодом, но, привыкший поститься, Филипп остался жив. Тогда в его земляную тюрьму поместили голодного медведя в надежде, что тот растерзает Филиппа, но медведь не коснулся его. Это более всего потрясло суеверного царя. Когда ему донесли об этом, он воскликнул:
— Чары, чары готовит враг мой и изменник Филипп!
Филиппа перевели в Никольский монастырь. Начались казни его родственников — бояр Колычевых. Царь послал в монастырь отрубленную голову любимого племянника Филиппа и велел передать ему: «Чары твои не спасли его». Святой Филипп облобызал голову, благословил её и сказал только: «Блаженны те, кого избрал и принял Господь! Память их из рода в род».
Филипп понимал, что настали его последние дни на земле. Между тем народ беспрерывно толпился возле Никольского монастыря, жалел святителя, говорил о чудесах, совершенных им. Тогда царь решил удалить Филиппа из Москвы в Тверь, в Отроч монастырь.
Наступили декабрьские морозы. Плохая одежда едва защищала Филиппа от холода. Ему по несколько дней не давали пищи, сторож обращался с ним грубо и жестоко. Но святой Филипп всё переносил с кротостью и так провёл в заточении целый год.
За три дня до смерти он сказал:
— Приспело время завершить мой подвиг, скоро моё отшествие.
Святой старец обладал тайновидением сокровенных вещей. Предчувствуя близкую смерть, он принял причастие и всю ночь молился.
Внезапно в его келью вошёл Малюта Скуратов. С коварно-льстивым умилением он припал к ногам Филиппа и проговорил:
— Подай благословение царю, владыко святой, чтобы идти ему в Великий Новгород!
Филипп ответил:
— Напрасно меня искушаешь! И желаешь лестью похитить дар Божий.
Затем он поднял глаза на Малюту Скуратова. В эту минуту вспомнились ему из Евангелия слова Христа, обращённые к предателю Иуде: «Что делаешь, делай скорее». И, помолчав немного, Филипп произнёс:
— Делай то, для чего ты послан, не обманывай меня, испрашивая дар Божий.
Малюта бросился на святителя и задушил его. После этого, выйдя из кельи, он сказал игумену и братии, что Филипп умер от печного угара, и велел поскорей похоронить его. Слуги царя боялись святителя и мёртвого.
ГЛАВА 11 ДУРНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ
Погода чудила всю осень. После затянувшегося лета сначала ударили холода, выпал снег, но скоро растаял, и начались затяжные дожди, такие тёплые, что на деревьях по-весеннему набухли зелёные почки. К добру ли обманное тепло? Видно, что к худу. Какое ныне добро! После свержения святителя Филиппа царь надумал идти походом на Новгород и Псков. Вновь литься кровушке на русской земле... Ужели будет, как в старину: «Своя своих посекоше»?
Тревожно было и на душе Никиты Романовича. На днях на охоте видел он лисицу. Бежала она стороной и смотрела на него и вдруг залаяла по-собачьи.
— Бес тебя возьми! — выругался Никита Романович.
Примета-то недобрая. Не прошло и получаса, как он сломал ногу, и, пока его подсаживали на лошадь, по-дурному и не вовремя заухал филин, словно пророчил ему беду. На душе у Никиты Романовича было сумно. И будто кто-то нашёптывал рядом: «Вражий сын... Вражий сын». Что ещё за «вражий сын»? А, Бориска, Бориска...
Последнее время Никита Романович немало думал о Борисе Годунове. Слышал, как многие бояре завидовали ему: «Бориска-то Годунов в великой милости при царе находится». Никита Романович знал, что старая мамка царя была недовольна его новым любимцем. Можно было догадаться, что она знает больше других. Но для прочих оставалось тайной, за что Иоанн осыпал Бориса милостями и почему он держал его при дворе вместе с сестрой Ириной как родных детей. А вскоре многих удивила неслыханная новость: царь, известный своей скупостью, подарил Годунову богатый кремлёвский двор ныне опального князя Владимира Старицкого. Любой князь считал бы для себя за честь купить за богатый взнос этот двор, расположенный в центре Кремля — по соседству с Успенским собором.
«Сколь же обласкан царём этот малый, ежели царь задаром отдал ему поместье рядом со своими кремлёвскими палатами... Стало быть, ожидает от него важной услуги, — думал Никита Романович. — Да мы-то что же? Али немощными сделались, и царь не чает от нас помощи? Нет, видно, нашёл Борис важную отмычку к сердцу царя. Пошто ни одного из бояр либо князей не почтил он столь глубокой привязанностью, как Бориску?»
Тёмные предчувствия сулили Никите Романовичу неясную беду. К добру ли, что безвестный потомок Мурзы Чета норовит обойти Фёдора? Или Фёдор хуже его? Красив, статен, ловок. Пошто царь отвратил от него взор? Пошто хмурится, когда видит его?
В минуту этих горьких и тревожных раздумий и вошёл, как на помине, Фёдор. В эти часы у него заведено было скакать верхом вдоль поля. Декабрьский морозец порозовил его щёки. Вид решительный, но как будто смущённый.
— Садись, сын.
Фёдор приблизился к лежанке, на которой Никита Романович грел больную ногу, но садиться не стал.
— Сказывай, какие новости.
— Государь собрался походом на Новгород.
— Про то мне ведомо.
— Царевич меня с собой зовёт.
Никита Романович смотрел на сына, что-то обдумывая. Он знал, что Фёдору надоела тревожная и однообразная слободская жизнь. Он рвался в Москву. И вот поход на Новгород. Никита Романович знал также, что царь, задумав идти на Новгород, готовился к пиру кровавому, доселе неслыханному... По силам ли невинному отроку участие в деле столь жестоком? Не будет на то его отцовской воли! Но отказал не сразу, на всякий случай спросил:
— Бориска-то Годунов також в поход едет?
— Ну, где ему! Царевич говорил, что отступился Бориска: «Я-де в таких делах не горазд».
— Так и сказал: «не горазд»? Добро. Токмо ты его, сынка, не замай. Он, видно, и впрямь не горазд в делах походных. Однако же и ты в бранных делах не бывал. Я потолкую с царевичем, надо ли ему брать тебя в поход?
— Христом Богом молю тебя, отец: не мешайся в мои дела с царевичем. Он подумает, что я трус, что избегаю опасности!
— Ежели ты пришёл просить у меня дозволения, скажи царевичу, что не велено покинуть больного родителя!
Фёдор не стал возражать, почтительно поцеловал руку отца, но от царевича решил не отставать. Да и великий соблазн был попробовать себя в деле.
Весь тот день он был сам не свой. Не было ни ясности в мыслях, ни порядка в душе, да и всё вокруг было так неустойчиво и ненадёжно. Главное — он не знал, к чему предназначен. Прежде была детская мечта стать царём, была цель в жизни. А теперь? Нет, от царевича ему отставать нельзя. Ему надоела пустая сутолока будней. Настоящая жизнь мужчин — в походе.
А вечером у самого входа в терем царевича Фёдор столкнулся с Годуновым. Он был в тёмной хламиде вместо кафтана. Во взгляде его бархатных глаз была как бы тихая печаль. Он остановил на Фёдоре ласковый взор, но тот сурово спросил:
— Ты что же, Борис, укручиваешься, как монах? Тебе к походу надо готовиться, а ты монашеское одеяние примеряешь.
Но вместо недоброго ответа Фёдор услышал примиряющие слова:
— Ты понапрасну опаляешься гневом, Фёдор Никитич. Как мне выйти из воли государя? Я его верный холоп.
Фёдор долго не мог ничего ответить и только смотрел на Годунова, дивясь его спокойствию, его змеиной мудрости. Он ещё не освоился с мыслью, что, будучи скупым, царь подарил самое богатое подворье Кремля сыну незнатного московского боярина. И за какие заслуги? А у Бориса и тени спеси не видно. Стал ещё более тихим и замкнутым. Фёдор чутьём улавливал, однако, коварство Бориса и решил раззадорить его:
— Тебе государь подарил дорогое поместье, ты взял, а в поход не идёшь. Ты награду прежде дела получил.
Годунов внимательно посмотрел на Фёдора. У него был удивительный приветливо-хитроватый взгляд. Казалось, этот взгляд вбирал в себя всё. Но кто бы сказал, какая работа совершалась в его душе и на какие выводы способен был этот человек!
Помолчав немного и как бы давая возможность собеседнику взять свои слова назад, он произнёс:
— У государя нашего нет обычая награждать прежде дела и обсуждать такие дела непристойно. И ты бы о том поразмыслил, Фёдор Никитич, прежде чем говорить. Ведь коли люди узнают, какие речи ты вёл, и станут о том болтать, тебе дурно будет.
Фёдору хотелось крикнуть: «Да какие опасные речи я говорю тебе, татарская твоя душа!» — но вместо этих слов сказал спокойно:
— От тебя или, может, от меня узнают люди, какие мы с тобой вели речи? Ты, Борис, говори да не заговаривайся!
— Наш государь — тайновидец! И ты бы, Фёдор, отдал мне своё нелюбие. Запальчивость — не к добру.
Вдруг, круто повернувшись, он пошёл прочь.
Позже Фёдор не раз корил себя, что не нашёл слов для резкой отповеди ловкому выскочке. В душе он был смущён ещё и недобрыми приметами, о которых поведал ему отец. Но заботы предстоящего похода помогли ему одолеть дурные предчувствия.
ГЛАВА 12 ПИР КРОВАВЫЙ
Готовясь идти на Новгород, Иоанн велел царевичу ехать вперёд, во всём накрепко разузнавать и разведывать, нет ли где какой измены. Однако послушный сын своего державного родителя имел свои задумки и затеи. Он спешил приехать пораньше в Тверь, дабы попировать на свадьбе в доме боярина Акиндиева, женившего своего сына Андрея, с которым царевич находился в приятельстве.
Царевич Иван и Фёдор, освежённые декабрьским морозцем, стали беседовать.
— Ты не имей более никаких дел с малым, — начал царевич. Так меж собой они называли малорослого Годунова. — А пуще того не замай его. Или, мыслишь, государь о том не проведает?
— Ужели Бориска успел пожалобиться?
— А то! Не замай его более!
— Ладно. Отдам ему своё нелюбие за его малый рост.
Царевич засмеялся, хлестнул лошадь и поскакал вперёд. А Фёдор обругал про себя Годунова и помчался за царевичем. С этой поры он будет обходить стороной опасного ябедника.
Между тем у боярина всё было готово к приезду почётных гостей. Собрались и чиновные люди, и бояре. Свадебный стол богатыми яствами не уступал московскому. Осушив чару вина, Фёдор незаметно вышел вон. Кружило голову, но морозный воздух быстро освежил его. Он дошёл до городской площади, где в центре трёхлучевой застройки возле церкви Белая Троица толпилось много самого пёстрого люда. Живой и любопытный Фёдор не удержался, оставил знатных гостей, чтобы посмотреть на город.
Чудное зрелище открылось ему. Белая Троица, устремив ввысь узорчатые кокошники, была подобна освещённому солнцем светлому облаку с замысловатыми очертаниями, и воздух над нею лучезарно струился тоненькими, вытянутыми к небу струйками. Вспомнив слова матушки, Фёдор представил себе, что такими струйками восходят к Богу молитвы верующих, и ему самому тоже хотелось молиться. На душе было тревожно. Ладно ли он сделал, что вопреки воле родителя поехал с царевичем? И ладно ли он теперь сотворил, покинув свадебный стол? И пригоже ли ему быть на чужой свадьбе? Лица незнакомые. А царевич нехорош и много пьёт. Взгляд тяжёлый, губы язвит недобрая усмешка, словно он что-то затеял.
Тем временем на площади началась суматоха. Не ведая о её причине, Фёдор вернулся за свадебный стол. Царевич казался возбуждённым. Взгляды гостей были опущены. Боярышня-невеста была очень бледна, а жених неспокоен.
А случилось в отсутствие Фёдора нечто неожиданное, не ко свадебному чину. К царевичу приблизился царский гонец и сказал ему, что государь по дороге в Тверь разорил Клин, а жителей его сгубил. Узнав о том, тверичи кинулись кто куда.
— Вели их остановить! Скажи, государь, слово царское!
Гонец произнёс эти слова, склонившись перед царевичем в низком поклоне.
— Эй, воевода! Или не слышишь? Вели поставить рогатки на всех улицах! Вели всем тверичам встречать царя с хлебом-солью! Кто станет говорить, что государь немилостив и казнит людей, то отвечать: государь милостив, а лихих людей везде казнят. А про клинчан государь сыскал, что они мыслили над ним и над его землёю лихо и что меж бояр свары делают. И государь волен в своих людях: добрых жалует, а лихих казнит.
И, обратившись к хозяину, царевич крикнул:
— Эй, боярин, зови скоморохов и гусляров!
Двери отворились, и в просторную палату на свадебный пир ввалились бедно одетые люди в армяках и сильно изношенных кафтанах. Это были скоморохи. Они внесли с собой морозные запахи, смешанные с запахами пота, сухих трав и лошадиного стойла. Их голодные глаза скользили по богатому столу.
Слуга поднёс им ковш вина, к которому они поочерёдно прикладывались, и каждый прижимал к груди единственную драгоценность: одни — самодельные гусли, другие — рожки и погудошники. Утолив жажду, артисты обратили к хозяину неуверенно-вопросительные взоры, по губам расползлись приветливые улыбки. Старшим среди скоморохов был самый старый. Он и повернулся к царевичу:
— Дозволь спросить у твоей царской милости, о чём велишь сказывать — о старине ли дальней...
— Тебе ли, седой лис, смущать честной люд лживыми байками! — гневно перебил его царевич. — Али ты не слыхивал про славные деяния благоверного государя нашего, царя всея Руси Ивана Васильевича?
— Как не слыхивал? От века славен наш царь-батюшка делами многотрудными...
Старый гусляр немного помолчал, будто споткнулся на слове, и продолжил:
— И не токмо делами многотрудными, но и грозой своего праведного гнева на своих подданных. Не одно токмо простонародье живёт перед ним в страхе, но и бояре многие, и ближники его...
Седой гусляр пристально смотрел на царевича, словно желая понять, что ему нужно, потом положил пальцы на струны и запел. В песне говорилось о том, как Никита Романович спас от верной смерти царевича Фёдора, своего родного племянника и крёстного сына, которому уготовил её Малюта Скуратов — по воле самого царя. Гости слушали молча, испуганно. Царевич казался бледным, безжизненным.
Тут наехал старый Никита Романович, Соскочил он со добра коня, Как взимал он племничка да крестничка, Взимал со плахи со дубовые, Кидал немилого постельничка На плаху на дубовую, И отсекли ему буйную голову, Окровавили саблю кровавую... Тут Грозный-царь Иван Васильевич Велел всем надеть платья чёрные, Платья чёрные, все печальные. Старый Никита Романович Надевал шубу, которой лучше нет, Племничку и крестничку тоже надевал Платья, которых лучше нет. Пошли они к обедне воскресенские, Приходили во собор да во Успенский. Тут старый Никита Романович Становился подле Грозного царя Ивана Васильевича, Племничка-крестничка брал под полу под правую, Сам крест кладёт по-писаному, Поклон ведёт по-учёному, Клонится на все четыре стороны, Грозному-царю Ивану Васильевичу в особину С царицей Настасьей Романовной: «Здравствуй, Грозный царь Иван Васильевич, Со своей царицей благоверною, Со всеми со царскими семенами!» Как тут говорит Грозный царь Иван Васильевич, Говорит таковы слова: «Ай же ты старая курва, седой пёс! Разве ты про невзгоду не знаешь и не ведаешь, Разве тебе да не известно было, Аль ты надо мною насмехаешься? Выйду от обедни воскресенские, Публикую я указы все строгие, Что со всех господ, со всех князей Со живых шкуры сдеру, А с тебя, старая курва, Шкуру сдеру и в волчью зашью!» Опять проздравствовал он и в третий на кон: «Ты здравствуй, Грозный-царь Иван Васильевич, Со своей царицей благоверною, Со всеми со царскими семенами И с Фёдором Ивановичем!» Тут он выпущал из-под полы из-под правые, Становил перед Грозного-царя Ивана Васильевича, Тут говорил Грозный-цнрь Иван Васильевич: «Ай же, шурин мой любезный, Старый Никита Романович! Аль тебе жаловать сёла с присёлами, Города с пригородками, Улицы с переулками, Аль жаловать тебя несчётной золотой казной?»Внезапно царевич оборвал певца и грозно повернулся к хозяину терема.
— Так-то ты бережёшь честь царскую! За это примешь позорную смерть на плахе со своим скоморохом!
Испуганный боярин стал на колени перед царевичем.
— Благоверный, всемилостивый государь, отдай мне мою вину, прости холопа твоего! А скомороха я сам накажу!
— Эй, дворецкий, вели страже схватить его!
Но гнев царевича не унялся. Эта дьявольская песня словно бы пророчила его собственную судьбу. Как посмел скоморох вывести наружу запретное, тайное: страшный родительский гнев царя против своего семени...
Царевич Иван едва сдержал порыв снести певцу голову саблей. И, может быть, если бы певец упал перед ним ниц, он сделал бы это. Но певец с достоинством поклонился и начал говорить:
— Государь, ты волен меня казнить, но дозволь молвить слово ответное. Господь всякому судил своё: тебе, государь, царевать, мне, недостойному скомороху, песни складывать. И уж так повелось исстари, что во всякой песне есть своя быль. Не гневайся, государь, на убогих скоморохов!
Правдивая речь гусляра в другое время понравилась бы царевичу, но не теперь, когда недостойный скоморох посмел недобрым словом отозваться о делах великого государя.
— Вы что стоите? В темницу его! Отрезать его недостойный язык!
Слуги царевича кинулись к певцу, но в эту минуту в свадебную палату с шумом ворвались опричники в чёрных одеждах. Гости тотчас же выскочили из-за столов, кинулись к дверям. Раздался звон сабель, и полетели боярские головы. Вину не спрашивали, к ответу не призывали... Разбойничья орда не привыкла церемониться со своей жертвой. Пол боярской палаты обагрился кровью. Кто не успел спрятаться под стол, был посечен, и уже не имело значения, кого посекли.
Не дай Бог оказаться во власти этой жестокой неистовой силы! Запятнал себящевинной кровью и царевич. Он снёс голову боярину, хозяину богатого терема, где только что шумела свадьба.
Так свадебный пир окончился пиром кровавым. Спастись удалось немногим.
...Фёдор, сидевший недалеко от двери, выскользнул первым. За спиной слышал грозный рык царевича, напоминавший его державного родителя, и удар его сабли. Фёдор бежал по направлению к пологому спуску реки, думая найти там лодку, чтобы удалиться на ней от опасного места. Мысли неслись беспорядочно. В ушах стояли дикие крики, женский визг и рык царевича. Оглянувшись, он увидел, как над городом подымались всплески огня. Пламенем и дымом был охвачен боярский терем, где ещё недавно праздновали свадьбу. Мелькнула пугливая мысль: «А ежели дознаются, где чаял укрыться, и настигнут?»
Никогда прежде он так жарко не молился: «Боже, прости мои прегрешения и паче всего мою вину перед родителем, что ослушался его! Не за грех ли сей был подвигнут внимать глумливой песне скомороха о моём родителе?» В ушах, словно в наказание ему, звучали ругательства, кои будто бы источались из уст самого царя: «курва», «седой пёс»... Но ежели царь и ругался на Никиту Романовича — прости его Господи! — отколь сие ведомо гнусному скомороху? И потто ему дана воля изрыгать скверные слова на царёва шурина и первого боярина?
Не успел, однако, Фёдор свернуть к реке, как его нагнал стременной царевича и велел садиться на лошадь и торопиться к нему.
В поспешном исчезновении Фёдора царевич увидел не страх перед опричниками, а гнев против боярина Акиндиева и скомороха, глумившегося над благоверным государем. Оттого он и был ласков со своим брательником, терпел его хмурое молчание. Сам и заговорил первым, едва миновали заставу:
— Тверичи искони мешали московским князьям утвердиться на своей московской вотчине. Бог гордым противится...
Он оглянулся, проверяя впечатление для верности. В Твери полыхали пожары. На берегу Волги, в том месте, где некогда стояли корабли Афанасия Никитина, теперь лежали посеченные опричниками люди, несчастные потомки сподвижников и современников героического путешественника, которым не удалось спастись бегством.
Царевич был весёлый, пока не повстречали у дороги странника. На нём была рваная пестрядинная рубаха, едва прикрывавшая лохмотьями тело, на груди висела тяжёлая цепь, обёрнутая три раза вокруг шеи. Это был юродивый.
Царевич сошёл с коня и, поклонившись ему, произнёс:
— Благослови, человек Божий!
— Отыди, душегубец! От тебя кровью пахнет. Сыроядец, зверь плотоядный! Как тебя земля держит!
— Благослови, юрод! Господь да простит наши грехи.
Юродивый три раза постучал посохом о землю и гневно ответил:
— Простит ли Господь сатану и дела сатанинские! Да будет вовек на тебе проклятие Божие вместе с воинами твоими! Да разразится над тобой гнев Божий!
От этих слов многие вздрогнули. Фёдора трясло. Ещё минута, и с ним случился бы нервный припадок. Но царевич зло выругался и быстро вскочил на коня. Войско тронулось в путь. Скакали быстро, так что к вечеру подъезжали к Новгороду.
Фёдор знал, что благодаря торговле и удачному местоположению Новгород был самым богатым, обширным и благолепным городом Северо-Восточной Руси, что московские цари испокон веков не любили Новгород. Сердце Фёдора сжималось от тяжких предчувствий. Озёрное раздолье и красота вечернего заката понемногу уняли его тоску. Авось всё обойдётся миром. Вот уже показались розовевшие на солнце древние храмы Новгорода.
Первой величественно выступала София — хранительница и вестница седой старины, построенная сыном Ярослава Мудрого, князем Владимиром. За нею высились огромный Георгиевский собор и церковь Рождества, а далее празднично, словно встречали дорогих гостей, золотились маковки церквей — Благовещения, Спаса-на-Нередице, Феодора Стратилата.
Всадники въезжали в город со стороны озера Ильмень. Оно голубело в невысоких берегах, и только приблизившись к нему, можно было увидеть, что по краям озеро покрылось белой кружевной кромкой льда, спокойно дожидаясь, пока студёная зима скуёт его. А широкий Волхов, вытекающий из озера, зима ещё не тронула. Он плавно нёс свои воды, будто гордясь тем, что течёт мимо славного Новгорода.
ГЛАВА 13 РАСПРАВА С ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ
Царских воинов встречали в Новгороде хлебом-солью. Кто бы мог тогда предвидеть роковой исход событий! Правда, новгородцы знали, что бродяга из Волыни, именем Пётр, наказанный на Торговой площади кнутом за воровские дела, воспылав местью за обиду, уехал в Москву с доносом. Над этим посмеялись. Или царь поверит бродяге?
Между тем донос Петра-волынца имел вид правдоподобия и возымел силу. Доносчик дерзко явился к царю с «уликой». Он довёл до царя, что в Софийском соборе, за образом Богоматери, находится грамота Новгорода польскому королю с прошением принять Новгород под своё подданство. Грамота была составлена, как говорили, самим Петром, и стояли под ней искусно подделанные подписи архиепископа Пимена и лучших граждан Новгорода.
До сих пор остаётся тайной: как мог бродяга проникнуть в Софийский собор, строго охраняемый? Не менее удивительно, каким образом человек, посланный от Иоанна, мог без ведома новгородцев извлечь эту «грамоту» из божницы? Да и как сам волынец Пётр проведал о «грамоте» и её местонахождении? Оснований для недоумения было много. Мог и Иоанн подумать о том, что крамольные послания не держат в общедоступном месте.
Но, очевидно, царю нужна была любая улика, хотя бы и фальшивая, чтобы разгромить и опустошить Новгород. Уж не с согласия ли царя был спровоцирован донос? На эту мысль наводит задуманная Иоанном жестокая расправа с жителями всей новгородской земли. Опустошены были даже посады, отстоявшие от Новгорода за несколько сот километров. И цель везде была одна — беспощадный и циничный грабёж. Царские посланцы шастали даже по отдалённым монастырям, грабя всё подчистую.
Длилось это шесть недель.
Передовой отряд царской дружины, подойдя к Новгороду, начал строить крепкие заставы вокруг города, «чтобы даже мышь не проскочила». Царевич приказал боярам и детям боярским опечатать казну Юрьевского монастыря, сам же вместе со своим державным родителем и его свитой выехал на Городище. Никто из них даже не взглянул на горожан, молитвенно склонившихся перед ними с хлебом-солью. Стояла тревожная тишина, даже ветерка не было слышно. И вдруг поднялся ветер. Как заметил летописец, «всё переменилось от тихости до воздвижения бури». Низко над городом залегли мрачные облака. Людей охватил мистический ужас. В городе стало известно, что игуменов и монахов поставили на правёж, забивают палками.
Простые ратники смело и дерзостно приступали к высоким духовным особам, изгоняли их из домов и многих убивали. Чинили немало злых дел, и люди в ужасе бежали куда придётся.
Ночь была тревожной. Если бы не были закрыты все городские ворота, люди мчались бы куда глаза глядят.
После ночи, которую новгородцы провели в страхе и трепете, вышло повеление развозить трупы монахов по монастырям для погребения. В городе стоял плач великий. Царские воины «растеклись по дворам и домам, яко волки, из леса набежавшие...». Разоряли дворы и лавки. Перехватили поначалу всех знатных горожан, бояр, торговых людей, приказных. Их жёны и дети содержались под стражей.
В исторической песне говорилось о воинах царских:
Которыми улицами ехали, На воротах записи повыписывали, По углам номера выставляли, Что эти улицы пленные, казнённые.Все ожидали, что скажет владыка Пимен, и чаяли от него защиты. Но владыка молчал.
И вот наступило воскресенье. Иоанн отправился в Кремль к обедне, что должна была состояться в Святой Софии. Согласно обычаю, его на мосту дожидался архиепископ Пимен, чтобы дать ему своё благословение. Он был бледен, но казался спокойным и твёрдым. При взгляде на него отпадало всякое подозрение в дурном умысле. В облике его была мудрая простота, во взгляде — правдивость и отрешённость от всего мирского. Поклонившись царю, владыка поднял крест, чтобы благословить его. Какое-то мгновение он искал его взгляда, но Иоанн отвёл глаза, кипевшие чёрной злобой. Отойдя в сторону, он произнёс своим резким голосом, срывавшимся на крикливые ноты:
— Ты, злочестивый, держишь в руке не крест животворящий, а оружие и этим оружием хочешь уязвить наше сердце; со своими единомышленниками, здешними горожанами, хочешь нашу отчину, этот великий богоспасаемый Новгород, предать иноплеменникам, польскому королю Сигизмунду-Августу; с этих пор ты не пастырь и не учитель, но волк, хищник, губитель, изменник, нашей царской багрянице и венцу досадитель.
Владыка сделал движение, указывающее на то, что он хотел что-то сказать, но царь не желал замечать этого движения. Он повелел Пимену идти с крестами в Софийский собор и служить там обедню.
Однако у входа в храм царя подстерегала неприятная неожиданность. Увидев на паперти юродивого, он обратился к нему, прося благословения. Это был небольшого росточка человек в лохмотьях, в шапочке, наподобие монашеской, и с огромным металлическим крестом поверх лохмотьев. Он слегка отодвинулся от царя и произнёс хрипловатым голосом:
— Нет тебе моего благословения. Ты почто владыку изобидел? Или забыл, как Давид сказал: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце?
— Ты забыл али не ведал, юрод, как устроил Давид скинию для ковчега Божьего и возносил Богу всесожжения и прочие жертвы, ибо он считал совершаемые им убийства жертвами, угодными Господу!
После обедни царь пошёл к владыке в pro столовую палату, мирно отобедал с ним, ничем не обнаруживая своих далеко не мирных целей. И вдруг, будто изготовившись к чему-то, издал страшный рык, словно он был не царём, а разбойничьим атаманом. Этот рык и был условным сигналом, который вошёл в обычай при царском дворе. По этому сигналу служившие за столом бояре и опричники кинулись грабить покои архиепископа, его казну и двор. Слуг его перехватали. Самого владыку, сбросив с него священные одежды и облачив в монашеские, отдали под стражу.
После этого началось беспримерное на Руси ограбление священного собора — своими же. Это было страшное зрелище. Важные мужи в долгополых кафтанах с квадратными воротниками, именуемых охабнями, неловко натыкаясь на старинные установки с горящими свечами, спешили похитить оклады, иконы, сосуды, шитые золотом пелены, золотые и серебряные подсвечники и прочую церковную утварь.
И вдруг под самыми сводами раздался густой голос, прозвучавший словно с самого неба:
— Святотатцы, трепещите!
Расхитители, вздрогнув, остановились на миг. Голос продолжал:
— Бог поругаем не бывает! И мор и глад на вас за многие неправды! Вечное проклятие вам, антихристовы дети!
На паперти стояли дворецкий Лев Салтыков и протопоп Евстафий. Они распоряжались, куда сносить похищенные церковные богатства. Стоявшие в сторонке прихожане молили:
— Смилуйтесь, государи! Оставьте святые иконы! Коли надо, берите прочее! Иконы оставьте!
Но опричники кинулись на людей с великим неистовством и шумом. Остальные бояре двинулись за царём по направлению к Городищу. Там их ожидал Малюта Скуратов. Он приехал позже остальных. Он ещё не совсем остыл от яростного гнева на митрополита Филиппа, и даже расправа с жертвой не утихомирила его ярость. Бедные новгородцы! Они ещё не знали Мал юту Скуратова. Он приготовил для них испытание воистину адово — пострашнее раскалённого железа и дыбы. А чтобы пытка стала ещё мучительнее, среди очередных страдальцев пустили слух, что их будут пытать завезённой из-за кордона «составной мудростью огненной». Истязая людей, Малюта имел обыкновение заранее распалять в себе злость.
Отсветы пыточных костров и пожары зловеще озаряли город, отражаясь в реке. Снег, покрывший улицы Новгорода, был всюду обагрён кровью, и красный след тянулся за санями, к которым привязывали мучеников, чтобы свезти их на волховский мост и оттуда сбросить в реку. Малых детей, чтобы их не спасли, привязывали к матерям. А стрельцы и дети боярские ездили на лодках с рогатинами, копьями и баграми, погружая в глубину всякого, кто пытался спастись.
Вот что рассказывают о трагических событиях того времени летописец, уроженец Новгорода: «От чужих и неверных не предполагал я получить столько зла и страданий, сколько принял от моего владыки, от его рук, из-за наговоров на меня лживых доносчиков, ибо он всю землю мою напоил кровью, подвергая моих людей различным мучениям; не только землю кровью полил, но и воду ею сгустил. Всякое место от рук убивающих до того наполнилось телами мёртвых, что не было возможности пожрать их трупы всяческим животным, по земле рыскающим, и в водах плавающим, и по воздуху летающим, так как они сыты были выше меры; а для многих тел, которые из-за страха не оберегались и сгнивали, то место было и гробом их. Кто и где был свидетелем сему? Небо со светилами и вместе земля с теми, кто живёт на ней. А всё имение моих людей царь равно разделил по жребию между рабами.
Подробного описания обрушившегося на меня царского гнева невозможно и поместить на этой убогой хартии, и никому из земных не исчислить количества погубленных людей — их число объявится лишь в день суда Божия, в его пришествие».
ГЛАВА 14 «ЖИВИТЕ БЛАГОДАРНО!»
Царские люди так неистовствовали против жителей Новгорода, что страх объял даже иноземцев, хотя у них была своя слобода, именуемая Немецкой, и опричные люди там не ярились.
Однако вскоре опустела и Немецкая слобода. Последними собрались в свои земли врач из Швеции и аптекари. Дороги к тому времени стали небезопасными, и царевич дал им для охраны стрельцов, а для верности послал с ними Фёдора Захарьина.
Да будет благословенно милосердие судьбы: человек находит спасение там, где не чает его найти. Фёдор чувствовал себя в Новгороде словно в западне. Но, видно, матушка усердно молилась за него. Удачный случай с иноземцами, задумавшими покинуть Новгород, спас его от беды. Впоследствии Фёдор не раз вспоминал те чёрные дни, когда он въехал в Новгород и вдруг громко и тревожно ударили колокола; когда бояре, уподобясь опричникам, кинулись убивать и грабить; когда город осветили всполохи пожаров и Фёдор, не владея собой от ужаса, носился на коне по улицам, будто ища для себя спасения.
И вот дорога до пограничной таможни. Первые часы ехали в суровом молчании. Чувство страха, сопряжённое со столь тяжкими впечатлениями, объединило этих людей подобно сильному родственному чувству. Первым заговорил шведский врач. Среди прочих иноземцев он выделялся аристократической осанкой и богатой одеждой. Под тёплой шубой на медвежьем меху, слегка распахнутой, виднелись шитый узором жилет из дорогого английского сукна и белоснежная рубашка, застёгнутая на модные, частые и мелкие пуговицы из тёмной эмали. Он казался замкнутым, и поэтому удивительной могла показаться его общительность.
— Такого не бывало ни в одной державе, чтобы сами государи возмущали свой народ. Сказывают, младенцев метали в реку и никто не смел противиться, а паче прочих ярились честные бояре.
— Бояре суть самые злодеетворцы, — поддержал аптекарь.
— И на кого ярились, яко дивные звери?
— Вознесём хвалу Господу, что ныне целы остались.
Фёдор ехал впереди, не принимая участия в разговоре.
Вскоре, однако, все заметили, что селения на их пути были оставлены людьми. Видимо, они ушли в понизовые посады, думая спастись от царёвых людей. За целый день путникам встретился только цыганский возок, но ездовой на облучке даже не посмотрел в их сторону. Из возка выглядывали любопытные глазёнки цыганят. Возле колеса деловито бежал пёс.
Понемногу Фёдор начал приходить в себя. Погода располагала к дрёме. Лошадь месила ногами сырой снег. Небо было бледно-синим, дома в оставленных селениях смотрели одиноко: не светились огни, из труб не видно было дымков. Глухо и протяжно шумели леса. Редкие озерки в заснеженных берегах радовали глаз живописными очертаниями и слегка курились парком. Над чёрными камышами висел сонный туман. Леса сменились белыми полями. Но сколь ни безотрадной была эта картина, необъятные пространства русской земли врачевали душу, давали выход вольным мыслям.
Но едва Фёдор доставил иноземцев на таможню и, переночевав там, пустился в обратный путь, как душой его вновь овладели несвобода и страх. Необходимость возвращения в Новгород нагоняла на него тоску. Что ожидает его: участие в казни новгородцев, грабежи? Царевич ждёт от него верной службы. Не он ли, Фёдор, обещал царевичу служить государю «со всякой верностью, без всякой измены»? Но что есть верность? И что измена? Фёдор думал о словах врача-иноземца: «Такого не бывало ни в одной державе, чтобы сами государи возмущали свои народы»; «Ярились, яко дивные звери». Вспомнил Фёдор, как грабители пустошили Святую Софию.
Это были «мятежные» мысли о царе, и Фёдор пытался разобраться в них. Но, припоминая виденное и слышанное, он склонялся к недобрым мыслям о царе. Ещё в раннем отрочестве из разговора заезжих монахов Фёдор словно случайно подслушал слова о том, что во время штурма Казани царь укрылся в церкви и молился там. Его позвали, когда битва была окончена и Казань сдалась русским. Фёдора поразили эти слова. Что же, царь — трус? Но ежели припомнить всё бывшее и нынешнее, предводительствовал ли царь своим войском хотя бы в Ливонскую войну? Зато охотно повёл своё войско в Новгород — убивать и грабить беззащитных людей. Но сие не храбрость, а злодейство. Фёдор ужасался своим «крамольным» мыслям, но они не отпускали его. И коли так, за что же он, Фёдор Захарьин, ратует?
Между тем показался Новгородский Кремль и златоглавые купола его церквей. Что ожидает его там?! Ранние улицы Новгорода были пустыми и страшными: залитый кровью снег, неубранные тела, недалеко от звонницы Софийского собора свежевырытые могилы. Ужели убили владыку Пимена? Припомнилось его кроткое, вдохновенное лицо, когда он служил обедню. Фёдор поднял глаза на храм, и ему почудилось, что сама София будто сжалась и потемнела, сиротливо вознося к небу своё пятиглавие.
Фёдор поскакал к Городищу. Все церкви с Торговой стороны были окружены свежевырытыми могилами, словно рвами. Ручей возле церкви Фёдора Стратилата был красный от крови. Вся арочная часть храма Благовещения завалена трупами. Деревянное крыльцо храма Жён Мироносиц взорвано. У каменного крыльца церкви Успения рылись в отбросах собаки. Издалека доносилось блеяние овец. Только маковки недавно построенной церкви Бориса и Глеба сияли первозданной чистотой. Но, Боже, какое запустение на Владычьем дворе! Будто здесь Мамай побывал: сорваны ворота, выбиты оконные рамы.
Фёдор узнал царевича ещё издали. Он сидел на коне рыжей масти и, казалось, ещё не остыл от пролитой им крови. Резкий в движениях, с диковатым взглядом, словно необъезженный конь.
В это время к костру подвели связанных людей. Один из них — высокий, бледный, с лицом святого мученика — показался Фёдору похожим на владыку Пимена. До сознания вдруг дошло, что этих мужей бросят в костёр. Фёдора охватил ужас. Ещё не зная, что станет делать, он погнал коня к южным воротам Детинца. Едва не стоптав оборонявших выход стрельцов, он потребовал открыть ворота.
— Именем царевича!
— Ишь скорый какой! Давай грамоту! — потребовал здоровенный детина.
Видя, что всадник словно не в себе и уже роняет голову на грудь, стрельцы сволокли его с коня и связали, приняв за беглеца.
Когда царевичу доложили о случившемся, он не сразу понял, что произошло, а поняв, резко приказал:
— Запереть в церкви!
Ум царевича был воспалён от частых злобных выкриков, но когда он пришёл в себя и вспомнил о Фёдоре, то переменил своё решение и велел перенести лежавшего без памяти в холодном притворе в свои покои. Фёдору влили в рот целительной романеи, и, когда он пришёл в себя, царевич сказал:
— Ну и наделал ты мне хлопот, брательник!
Фёдор поднял на него глаза. Как изменился царевич Иван за то время, что Фёдор был в отъезде! Чёрная злоба к «изменникам» состарила его, лицо обрюзгло. Углы рта опустились, как у батюшки-царя, и сейчас он был особенно похож на него.
— Не измену ли затеял? — спросил царевич, вглядываясь в лицо Фёдора. — Куда задумал убечь? Али изменнические единомышленники у тебя завелись?
— Ты за что велел людей в костёр кидать и на огне жечь? — вместо ответа спросил Фёдор.
— А ведомо ли тебе, что сии мужи хотели над царём злое умышление учинить?
— Что же, все новгородцы — злодеи?
— По делам своим восприяли зло. Не умея в своём доме распорядиться, желали великим городом управлять, мужи длиннобородые.
— А церкви пошто осквернили, чем виновата Святая София?! Или её тоже на правёж?
— Мудрён ты больно и сам не ведаешь, что говоришь.
Фёдор вспомнил слова аптекаря-иноземца. Он тогда не понял смысла сказанного им и сейчас спросил царевича:
— А кто посылал к аптекарям и спрашивал их, не могут ли они придумать такую мудрую составную жидкость, чтобы зажечь церкви?
Царевич посуровел лицом, гневно глянул на Фёдора.
— Ты, брательник, помалкивай об этом, лишнего на себя не бери.
Удивительно тих и милостив с Фёдором был в этот вечер царевич. Видно, и вправду заметили люди, что, подобно своему державному родителю, он питал слабость к мужчинам красивым и ловким. А Фёдор, вопреки пережитым испытаниям, был и красив собой, и статен. Лицо его выражало ум и волю.
— Ныне время худое, брательник. Ты бы поостерёгся. Нашлись шептуны, царю вести про тебя носят. Я велел их казнить, а тебе велю завтра быть со мной при государевом деле.
Фёдор вздрогнул, подумав о новых казнях. Царевич продолжал:
— Государь ныне милость дарует новгородцам. Будь и ты при государевом деле. И родителю твоему за это також царская ласка будет.
Местом задуманного Иоанном действа стала небольшая площадь возле церкви Спаса-на-Нередице. Это был княжеский храм, выстроенный ещё в 1198 году правнуком Владимира Мономаха, потомком его старшего сына Мстислава — князем Ярославом Владимировичем. Поставленный рядом с княжеским Городищем, он был своего рода домовой церковью нескольких поколений русских князей. Обставленный без видимой роскоши, он менее других подвергся ограблению слугами Иоанна. Во время пребывания в Новгороде царь ходил туда молиться. Здесь же он решил явить оставшимся в живых новгородцам зрелище своего «милосердия».
Небольшая одноглавая крестово-купольная церковь Спаса находилась на возвышении, и когда царь со своей свитой поднялся на это возвышение, задуманное им действо выглядело внушительно и торжественно.
Внизу находились трепетавшие в страхе новгородцы. Царь велел привести к нему по «лучшему человеку» от каждой улицы, чтобы сказать им милостивое слово и тем излить на жителей Новгорода своё «милосердие».
Унылые, обессиленные от выпавших на их долю бедствий, горожане не вдруг уразумели смысл пышной, горделивой речи царя:
— Жители Великого Новгорода, оставшиеся в живых! Молите Господа Бога, Пречистую Его Матерь и всех святых о нашем благочестивом царском державстве, о детях моих благоверных, царевичах Иване и Фёдоре, обо всём нашем христолюбивом воинстве, чтобы Господь Бог даровал нам победу и одоление всех видимых и невидимых врагов.
Стоявший на переднем плане и дрожавший от холода, едва одетый, измождённый новгородец вдруг упал. Царь нахмурился, но продолжал:
— А судит Бог общему изменнику моему и вашему, владыке Пимену, его злым советникам и единомышленникам: вся эта кровь взыщется на них, изменниках; вы об этом теперь не скорбите, живите в Новгороде благодарно, я вам вместо себя оставлю правителем боярина своего и воеводу, князя Петра Даниловича Пронского.
Никто не посмел поднять упавшего человека. Все ожидали приказаний царя. Вдруг находившийся рядом с царевичем Фёдор кинулся к несчастному и влил в его рот вина из царского кубка, стоявшего тут же на одном из поставцов рядом с другими кубками и чашами, из коих после речи Иоанна должна была пить его свита — за здоровье царя и окончание его «подвига великого». Поэтому все опешили, когда Фёдор поднёс безвестному полумёртвому новгородцу царский кубок. Беспокойство отразилось и на лице царевича. Но общее замешательство длилось не более минуты. Глоток вина вернул новгородцу силы. А царь, обычно не терпящий каких-либо помех себе, на этот раз взглянул на несчастного кротким, милостивым оком и повторил:
— Ныне не время скорби. Живите благодарно. Ныне не токмо ваш государь, но и холопы милуют вас.
И, обратившись к Фёдору, он добавил:
— Ты верно угадал движение моего сердца, и за это государь жалует тебя царской чашей!
Так была разыграна Иоанном циничная комедия великодушия и справедливости, достойная самого Сатаны.
...Ограбив Новгород и тем пополнив свою казну, опустошённую праздно-разгульной жизнью в Александровской слободе, Иоанн с тою же целью обогащения казны прямо из Новгорода выехал со своим войском в Псков. Наслышанные о новгородских погромах псковитяне с ужасом ожидали неизбежного бедствия. Но «поход» Иоанна на Псков ограничился грабежом и опустошением города. Массовых казней не было. Современники приписывали это юродивому Николе-Салосу, необычной встрече с ним царя. День был морозный, Никола стоял без шапки, в рубище, в руках держал кусок сырого мяса и протягивал его царю.
— Бери, царь... Поешь малость...
— Мясо? Где ты его взял? Ныне пост Великий — грех мясо есть.
— Или ты, Ивашка, не пил крови христианской в Великий пост? Или в могилках новгородских не лежат люди, порубленные тобой на куски? Бери же и мой кусок мяса.
Царь нахмурился, но не велел трогать юродивого. Псков был спасён от кровавых расправ. Но начертанный Иоанном круг злодейств ещё не был пройден им до конца.
ГЛАВА 15 НОВЫЕ КАЗНИ В МОСКВЕ
Передовой отряд, высланный из Пскова ранее остального царского войска, навёл на москвитян страх: ожидать ли добра от царя после новгородского погрома? Многие, однако, надеялись: «Царь вдосталь напился народной кровушки. Авось сменит гнев на милость». И хоть не лежала душа москвитян к царю, всяк вышел к нему с хлебом-солью. Над Москвой плыл густой торжественный колокольный звон. Царя встречали как победителя, встречали, как много лет назад, когда он возвращался в Москву после взятия Казани.
День стоял тёплый. Приближалась Пасха, но люди дрожали как будто от холода и низко-низко кланялись царю и его войску, словно под пулями. Только мальчишки бесстрашно усеяли крышу деревянной церковки. Им хоть бы что! Известное дело, дети. Увидели — впереди едет царь на буланом коне. Всё разглядели.
— Седло-то под царём с подушкой на бархате.
— Оправа-то золотая...
— А что это там голубое?
— Эмаль называется.
— Говорят, из Туретчины седло царю прислали.
— А ковёр под царём тоже из Туретчины?
— А на уздечке чеканка знатная...
И вдруг ребята услышали разговор стрельцов:
— Дай, Степан, твой самопал. Я из него этих малоумков на церковной крыше постреляю...
Мальчишек тотчас же точно ливнем смыло с крыши. Но один из них, постарше, красивый черноглазый отрок, спустился пониже к церковной пристройке и громко возгласил:
— Здорово, царь-батюшка!
От неожиданности царь нахмурился: он не сразу понял, откуда шёл голос. Дворецкий Лев Салтыков грубо спросил отрока:
— Кто велел тебе царю кричать? Пошто не сидишь дома благочинно?
Иоанн остановил коня и велел, чтобы отрока привели к нему. Но мальчишка отказался спуститься с крыши и стоял начеку, думая, видно, в случае опасности дать стрекача. Иоанн усмехнулся и подъехал к мальчугану сам.
— Ты кто будешь такой упёртый?
— Я Мишатка...
— Да родителя твоего как величают?
— Боярин Никита Романович Захарьин.
— Ишь ты! Здоров ли твой родитель?
— Слава те, Господи, выздоровел! Да матушка занемогла. За всю зиму не подымалась: врачи не велят.
Царь снова нахмурился. Он вспомнил, что супруга Никиты Романовича была дочерью казнённого им воеводы Александра Борисовича Горбатого-Суздальского. И такова уж была природа Иоанна, что к детям опальных бояр он питал тяжёлую нелюбовь. Ему легче было казнить их вместе с родителями, чем помнить об их существовании. Оттого-то меч его не щадил даже младенцев. Напоминание в эту торжественную минуту о дочери казнённого князя было некстати. Иоанн строго всмотрелся в лицо отрока. Подумал, что это, видимо, меньшой в семье Захарьиных и на боярина Микиту похож. Добро, что не на дочь «изменника». Царь не удержался, чтобы не кольнуть:
— А матка твоя знахарок, знать, призывает к себе?
Он смотрел на отрока, думая найти в его лице подтверждение своих слов. Но Мишатка каким-то чутьём понял недобрые чувства царя. Слышал он и о том, что царь не милует за ведовство да знахарство, и поспешил ответить:
— Не... В нашем дому знахарок не привечают...
Царь дал знак стременному. Тот подъехал к церковке, но Мишатка кубарем скатился вниз. После в народе много говорили, сколь милостиво беседовал царь с отроком. Это было добрым знаком и для Никиты Романовича. Утешил его и старший сын Фёдор, благополучно вернувшийся из похода. Никита Романович с гордостью рассказывал при случае, что сын его в Новгороде был «при государевом деле».
Вскоре, однако, люди убедились, что с новгородскими погромами не кончились кровавые смуты на Руси. Красный след потянулся из Новгорода в Москву, и тяжёлая участь постигла многих невинных людей. «Дело» новгородского владыки Пимена, вступившего якобы в связь с польским королём, стало для Иоанна удобным поводом для расправы над его единственным соперником на престол — прямым потомком Калиты, двоюродным братом царя Владимиром Старицким. Он давно и тщательно готовился к тому, чтобы убрать со своего пути «крамольного» брата. И вот итог — следствие о сношениях новгородского архиепископа Пимена и новгородских приказных людей с боярами Алексеем Басмановым и сыном его Фёдором, с казначеем Фуниковым, печатником Висковатовым, Семёном Яковлевым, с дьяком Василием Степановым, с Андреем Васильевым, с князем Афанасием Вяземским.
В чём же состояла «крамола»? Все названные лица хотели якобы сдать Новгород и Псков польскому королю, царя Ивана извести, а царём сделать князя Владимира Старицкого. Судя по всему, это «сыскное изменное дело» было шито белыми нитками. Не случайно Иоанн решил погубить даже своих любимцев — Алексея и Фёдора Басмановых и князя Афанасия Вяземского, чтобы придать крамольному сыску вид убедительности. Но если сыскное дело до нас не дошло, если и летописи не винят казнённых в измене — значит, «сыск» не удался.
Обогатив свою казну разбойными грабежами, убрав со своего пути мнимого претендента на престол, подвергнув жестокой расправе его семью (убиты были и сын-младенец с матерью и даже слуги), царь Иван заболел душевно и физически. В «Завещании» (1572 год) он признается: «Тело изнемогло, болезнует дух, струпы душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил; ждал я, кто бы со мной поскорбел, — и нет никого, утешающих я не сыскал, воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь».
Наставляя сыновей, он советует им беречься от людей, а меж собой избегать разногласий: «Пока вас Бог не помилует, не освободит от бед, до тех пор вы ни в чём не разделяйтесь: и люди бы у вас заодно служили, и земля была бы заодно, и казна у обоих одна — так вам будет прибыльнее. А ты, Иван, береги сына Фёдора и своего брата как себя, чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен, чтоб ему на тебя не в досаду, что не дашь ему ни удела, ни казны. А ты, Фёдор-сын, у Ивана-сына, а своего брата старшего, пока устроитесь, удела и казны не проси, живи в своём обиходе, смекаясь, как бы Ивану-сыну тебя без убытка можно было прокормить, оба живите заодно и во всём устраивайте как бы прибыточнее».
Но, видимо, ещё долго томила мнительного Иоанна мысль, что в его расправах над людьми увидят опасения за прочность своего престола. Оттого и посадил на Москве царём касимовского хана, крещёного татарина Симеона Бекбулатовича, и венчал его царским венцом, а себя называл Иваном Московским и жил на Петровке как простой боярин.
Между тем казни в Москве продолжались, только отныне именем нового царя Симеона. Желание укрыть свои кровавые дела за его спиной было не последним в решении Иоанна временно сложить с себя царство.
Никто не верил, что Иоанн, назвавший себя Иваном Московским, удалился от державных дел, и оттого он был особенно страшен людям своей новой личиной. Фёдор видел, что отец его стал тревожно-задумчив. После новгородской резни и казней в Москве Фёдор заметно повзрослел. Он ещё больше вытянулся, отросли усы, закурчавилась борода. Он стал сдержаннее в ответах и всё больше походил на Никиту Романовича: так же усердно следовал обычаям своей среды, был твёрд в исполнении задуманного и хорошо знал Священное Писание. Но была ещё в нём юношеская неопределённость и горячность нрава, и горячность эта пугала отца. Любое неосторожное слово могло погубить Фёдора, как погубило оно князя Старицкого.
Никита Романович понимал, что паче всего сыну надобно беречься от ближников-шептунов. Или не они навели беду на опального князя? Страсти — вот что выдаёт человека, — страсти! Сын его запальчив, и не в меру. Более того — прямодушен. Там, где самое пекло, — туда и норовит. Кто надоумил его после Пскова искать встречи с родичами княгини Старицкой и говорить с ними о деле новгородского владыки Пимена, вызвавшего гнев государя? И кто тянул его за язык и заставлял рассказывать о новгородских казнях?
Никита Романович решил призвать сына в кабинет. Как остеречь его, когда он как конь без узды? И страха не ведает. Надо бы попугать сына, что словом дерзким и неосторожным он может досадить царевичу Ивану и навредить ему.
Когда, однако, Фёдор вошёл в кабинет, отец, залюбовавшись красивым сыном, забыл заранее подготовленные слова и вместо них сказал другие:
— Садись на креслице, Федюня, да послушай родительского совета: избегай ныне думать о делах державных, а то ненароком услышат тебя любители составлять ведомости[12] с умыслом хитрым.
Фёдор склонил голову, всем видом выражая понимание. Никита Романович продолжал:
— Успеть бы свои дела справить. Васятка приболел, надо бы пойти к царю на поклон, чтобы дал своего лекаря. Думаю взять тебя с собою. А ты приготовь для царя Ивана слово доброе.
— Не отослал бы он тебя к царю Симеону. Ужели пойдёшь? — спросил Фёдор.
Никита Романович погрустнел и, помолчав, заметил:
— Отнесись, Фёдор, с должным пониманием к делам и случаям, кои тебе не изменить, и склоняйся перед силой, кою тебе не одолеть.
Глаза Фёдора насмешливо сощурились.
— Коли так дела пойдут, скоро нам придётся кланяться Бориске.
— Упаси боже! — воскликнул Никита Романович. — Допустит ли сие царевич Иван?
Оба некоторое время молчали.
— Сын мой, — продолжал Никита Романович, — Господь сподобил тебя быть в приближении у царевича Ивана. Ныне он в гневе на Годунова. Думал ли ты, как остеречь царевича от оплошки? Гневаясь на Годунова, ведает ли он об его силе? Бориска стерпит его возмущение и этим терпением возьмёт силу над ним. У кого ещё есть такое терпение — сносить недостатки людей и знать им точную цену!
«Это так, — подумал Фёдор, — в Бориске, видно, сам дьявол сидит и помогает ему».
— И знаешь, чем одолеть Бориску? — говорил Никита Романович. — Так же терпеливо сносить его.
— Ну уж нет!
— Жалею, сын мой, что не научил тебя разумению улаживать дела спорные.
— Кошка никогда не пойдёт против силы.
— А что в том худого?
ГЛАВА 16 ЦАРЬ ИЗВОЛИТ ШУТИТЬ
Ближайшее время показало, что москвитяне напрасно тешили себя надеждой, что после возвращения из кровавого похода на Новгород царь станет искать тишины и спокойствия. Жизнь омрачили новгородские сыскные дела. Казни продолжались. А в довершение этих бед на Москву с огромным войском пришёл хан Девлет-Гирей. Позже будут говорить, что это было отмщение москвитянам за кровь Великого Новгорода. Татары пришли под Москву 24 мая 1571 года, в день Вознесения, и зажгли предместья. Был сильный ветер, пожар за три часа истребил деревянную громаду Москвы, уцелел лишь Кремль, погибло великое множество людей. Как и в Новгороде, числа погибших никто не знал. Одни сгорели, другие в бессмысленной давке во время бегства через дальние ворота так стеснили друг друга, что пришлось в три ряда идти по головам находящихся внизу. В страхе и пагубном беспорядке люди давили друг друга. Много пропало людей именитых, князей и княгинь, дворян и бояр. Трупы запрудили Москву-реку. Пришлось отрядить стрельцов, чтобы баграми спускать тела по воде.
Что делал в это время царь? Он приближался к Москве со своим войском, когда она была сожжена. Но Девлет-Гирей, видимо, был ещё нерешительнее его, если не стал брать Москву, ограничившись угрожающей грамотой, которую послал царю: «Жгу и пустошу всё из-за Казани и Астрахани, а всего света богатство применяю к праху, надеясь на величество Божие. Я пришёл на тебя, город твой сжёг, хотел венца твоего и головы; но ты не пришёл и против нас не стал, а ещё хвалишься, что-де я московский государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты пришёл против нас и стоял. Захочешь с нами душевною мыслию в дружбе быть, так отдай наши юрты — Астрахань и Казань; а захочешь казною и деньгами всесветное богатство нам давать — не надобно; желание наше — Казань и Астрахань, а государства твоего дороги я видел и опознал».
Однако навстречу хану приблизилось русское войско. Благодаря стойкости московских воевод на берегах Лопасни и личному мужеству князя Михаила Ивановича Воротынского хан вернулся за Оку и, переменив тон, пошёл на мировую с Иоанном.
Тем временем Москва вновь поднялась из руин и пожаров, как и в былые годы. Снова сияли первозданной чистотой её светлые купола.
Терпеливые русские привыкли быстро залечивать раны. Благодатное лето вернуло многим погорельцам понесённые убытки. Московские леса на сотни километров были богаты ценной пушниной. Иностранцы охотно покупали русских соболей, лисиц, белок. Им были по нраву и шубы на медвежьем меху. В московских речках добывали жемчуг. В цене была и искусная чеканка по металлу.
Отстроился и зажил прежней жизнью боярин Никита Романович. Его каменный дом за тяжёлыми в два кирпича воротами мало пострадал: подпалило лишь деревянный верх. Удалось спасти и конюшню, и житный двор, и многие постройки на подворье.
За трудами да хлопотами лето пролетело быстро. Наступило бабье лето. Приближалась пора охотничьих забав.
И вдруг в гости к Захарьиным пожаловал сам царь. Переполох в доме начался великий. Испугался и сам Никита Романович. Что только не пришло ему на память! Вспомнил и слова Мишатки, рассказавшего, как царь спрашивал его, не ходят ли к его матери знахарки. Весной казнили многих людей, обвинённых в знахарстве. Знахарство да колдовство вменили в вину и князю Вяземскому. Страшно... Откуда было знать Никите Романовичу, что на уме Иоанна было иное: тайных мыслей ближнего ведь никто не ведает. Можно было лишь заметить, что царь особенно озабочен.
Действительно, Иоанна волновали в этот час думы чрезвычайной государственной важности. В июле умер польский король Сигизмунд-Август, не оставив наследника. После некоторых колебаний Польская и Литовская рады объявили Иоанну о своём желании видеть царевича Фёдора королём Польским и великим князем Литовским. Грамота от польских и литовских панов обрадовала русского царя. Он верил, что утвердит свои собственные права на польско-литовские земли помимо сына Фёдора. Он ответил гонцу Воропаю: «Ежели ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в государи, то увидят, какого получат во мне защитника и доброго государя; сила поганская тогда выситься не будет, да не только поганство, Рим и ни одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут одно с нашими. В вашей земле многие говорят, что я зол: правда, я зол; и гневлив, не хвалюся, однако пусть спросят меня, на кого я зол? Я отвечу, что кто против меня зол, на того и я зол, а кто добр, тому не пожалею отдать и эту цепь с себя, и это платье».
Пока паны медлили с ответом, Иоанн надумал жениться в пятый раз. Судьба четвёртой его жены, Анны Колтовской, менее всего заботила его. Велит ей постричься — и весь сказ. У него давно было на мысли взять в жёны иноземку. Ещё при жизни Сигизмунда-Августа он хотел жениться на одной из его сестёр. Но этот замысел не удался. Ныне же, когда ему предложили польско-литовскую корону, какая родовитая иноземка устоит перед соблазном стать русской царицей! Малюта Скуратов сказал ему: «Царь и государь преславный! Казна твоя не убога, в ней ты найдёшь, чем одарить любую знатную принцессу».
Малюта знает, как укрепить душу своего царя, он и слово верное умеет найти. Иное дело — бояре, князья да коварные и поперечные во всём люди духовного сана. Вот и надумал Иоанн пойти к Никите Романовичу, старому «ведуну», знавшему многие дворцовые тайны и людей церковного и монастырского чина. С его мнением считались и члены синклита, и духовные особы.
— Слыхал, Микита, поляки грамоту нам прислали, корону королевскую нам предлагают?
— Как не слыхал. Ныне дворяне многие и бояре говорят, что сия честь достойна великого государя земли Русской.
Никита Романович знал, что корону предлагали не Иоанну, а Фёдору, но промолчал.
Между тем чувствовалось, что царь сказал не всё важное, с чем пришёл, что им сделан только почин. Но, как это нередко случается даже с важными особами, царь начал издалека, а поскольку он был человеком с наклонностями к злу, то и вышла у него каверза.
— Я пришёл к тебе, Микита, по доброй памяти. Пришёл сватать тебя. Хорошую невесту тебе сыскали. У боярина Ивана Головина девка Дарья на выданье. Род свой Головины ведут от Ховриных — ты знаешь про то. И скажу тебе ещё: прародитель их Иван Голова прозванье своё получил после крещения, а крестил его мой дед, великий князь Иван Васильевич. И девка Дарья в самой поре: телом бела и статью хороша.
Никита Романович слушал всё это в немом изумлении. Или шутит царь? Глаза хитровато прищурены. Смотрит в сторону, но самым краешком глаза следит за ним.
— Воля твоя, государь, шутки надо мной шутить, — произнёс Никита Романович, покорно разводя руками.
— Когда я над тобой шутки шутил, Микита?
Никита Романович всмотрелся в лицо царя — вид такой, словно и в самом деле не шутит.
— Или при живой супруге посылают сватов к невесте?
— Любишь ты поперечить мне, Микита! — как бы с досадой воскликнул Иоанн. — При живой-то жене кто же сватов засылает? Или у вас не сладилось дело с игуменшей? Или до меня довели вести неверные, что и жена твоя не хочет постригаться в Вознесенском монастыре? А дело-то божеское...
— Ты правду сказал, государь: до тебя довели вести неверные.
Пока Никита Романович ошеломлённо соображал, кто же это ведёт с царём такие потешные речи, Иоанн продолжал, пропустив мимо возражения Никиты Романовича:
— Я вот тоже думаю постричь свою Анну-плаксу. Или мало на свете цариц достойных?
— Государь волен в своей царице. Но дозволь молвить тебе, государь: коли и возьмёшь новую царицу, такой, какой была наша Анастасия, тебе не найти...
— Про то я сам знаю, Микита... А думаю я найти царицу в Польской земле. Сказывают, у воеводы минского Николая Сапеги дочь хороша...
«Господи Боже мой, что же мне на это ответить? — в растерянности думал Никита Романович. — На Анне Колтовской царь женился совсем недавно. Это была уже четвёртая жена царя. Духовенство разрешило этот брак после некоторых колебаний, но наложило на царя епитимью[13]: не входить в церковь до Пасхи и только на следующую Пасху причаститься Святых Тайн. Да вправду ли царь думает постричь царицу? Чем она стала ему неугодна?»
Словно почувствовав затруднение Никиты Романовича, Иоанн продолжал:
— Вишь, какая кручина, Микита! Знаю, ты один печалуешься о моей судьбе — доброй памяти об единородной сестре твоей, царице Анастасии. Так, видно, Богу угодно — испытывать душу мою смертной печалью. С царицей Марфой один лишь месяц прожил, а думаешь, мало слёз по ней пролил?
Марфа Собакина, дочь новгородского купца, была третьей женой Иоанна.
— А всё бояре... Ты ведаешь, Микита, о злобе их. Царицу мою Анастасию свели со свету: неугодна, вишь, им была. Царице Марии яду в питьё подсыпали. А Марфу зельем опоили... Ну да кто копает яму для ближнего, сам упадёт в неё...
— Ежели возьмёшь царицу-иноземку, авось поопасятся против неё ковы ковать, — заметил Никита Романович, чтобы привести к концу тяжёлый и опасный разговор.
Иоанн внимательно посмотрел на него, будто добывая что-то своим взглядом.
— Спасибо, Микита, за добрые слова. Вижу, от души говоришь. Дозволь и мне тебе душевный совет дать. Ведомо мне, что ты думаешь о невесте для сына, и ежели сватом будет царь, то какую хочешь невесту выбирай. И моё слово тебе: не ходи ты далеко и не ищи долго. У Шестова Ивана в самой поре дочка. А род свой они ведут от бояр Морозовых, как и вы, Захарьины. Токмо их прародитель — Михайло Иванович Морозов, а ваш род пошёл от его братца, Бориса Ивановича.
Никита Романович молчал, обдумывая слова царя, хотя в душе понимал, что, помимо произнесённого царём, иному не бывать: и то сказать, что Шестовы в русском дворянстве — не из последних, к тому же родня дальняя и соседи по имению.
— Ну как, Микита, весёлым пирком да за свадебку?
Иоанн пришёл к своему ближнему боярину говорить о царской невесте, а свёл разговор на женитьбу Захарьина-старшего, затем Захарьина-младшего. Это было в обычае царя — сродни звериному обычаю — запутывать следы. Хоть и давним шурином приходился ему Никита Романович, но царская гордыня чувствовала себя всё же уязвлённой необходимостью искать посредничества своего родича в столь щекотливом деле, как пятая женитьба... Ему и невдомёк было, сколь был обеспокоен Никита Романович таким оборотом дела. Шестовы были незнатные дворяне, и, сказывали, дочь Ивана Ксения нехороша собой. Его ловкий красивый сын был достоин не такой невесты. Удручён был Никита Романович и шутливо-ироническим тоном царя. По горькому опыту знал боярин, что царь изволил ёрничать, когда бывал немилостив.
ГЛАВА 17 ВЕСЕННЕЕ СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ
Шли годы без особых перемен в судьбе Фёдора. Не ведая о планах отца, он жил своей жизнью — весь в охотничьих заботах и радостях. Он ещё и не помышлял о женитьбе. Жизнь, как большая река, сама несла его на своих водах, и ему казалось, что он на самом стрежне этой реки и не будет конца её течению. Отец раза два заговаривал с ним о женитьбе, но как-то вскользь, не всерьёз. Само сватовство пришлось отложить на следующую осень по причине матушкиной болезни. Фёдор продолжал жить прежней привольной жизнью. Осенью и весной со всей страстью отдавался охоте. Зимой усердно корпел над книгами в царской библиотеке. Он ничего не делал вполсилы, с ленцой.
Наступила памятная в его судьбе весна. Звон колоколов в тот день причудливо сливался с гомоном птиц. Фёдор любил охотиться на глухарей, которых пропасть водилось в лесу рядом с имением Захарьиных Кисели. Стременной приезжал туда первым и разжигал костёр. Ещё стояла полная луна, ещё только обозначалась на восходе заря, а лес уже пел. Слышнее других были нетерпеливые и бодрящие крики журавлей и звучно-нежное пение дроздов. Чуть позднее на болоте просыпались бекасы и цапли. Их суматошный галдёж покрывал грозящие кому-то, похожие на бычий рёв выкрики выпи. Слышнее становилось дыхание анемонов и молодых берёзок, к которым примешивались запахи моха и древесной коры.
После охоты тело приобретало лёгкость и силу. Хотелось мчаться неведомо куда. Он не помнил, сколько проскакал по весеннему выгону в тот день, но, увидев перед собой уютную усадьбу, привязал коня в сарае, а сам забрался на сеновал и заснул воистину богатырским сном. Он не помнил, как попал сюда. Да не всё ли равно? В дни охоты он мог выспаться на первой попавшейся соломе. И удивительно, как это совмещалось в нём со стремлением к роскоши, которое будет отличать его всю жизнь.
Разбудила его песня. Он стал слушать.
— Что, соловушек, невесело сидишь, Повесил головушку, корму не клюёшь, В золотой клеточке песен не поёшь? — Не надо мне вашей клеточки с золотым шестом, А надо мне рощинки с зелёным листом. Зелёная моя рощинка сердце моё развеселит, А золотая ваша клеточка помирать мне велит. На ветках подруженьки, чай, тужат обо мне. Плачут мои малы деточки, Богом даны мне. — Вылетай, соловушка, вылетай ты мой! Я построила себе горенку к рощице лицом, А сама сяду, девушка, с добрым молодцом. — Что ты грустен больно, молодец, ненаглядный мой? Иль любишь ты других девушек, сведался с тоской? — Люблю, люблю красную, что она молчит? Ретиво моё сердечушко крушит и сушит. — Ты брось, милый, думу думати, брось ты, позабудь! Склони свою головушку на мою белу грудь. Словно темна ноченька, сердце у меня, Об тебе, мой размиленький, тоскую я. — Вы подуйте, ветры буйные, унесите вы меня, Унесите вы меня, где отроду не был.Русскому уху Феодора было сладко слышать старинный грустный напев. Припомнилось, что слышал его в детстве. Голос доносился из сенника[14]. Сенная девушка? Нет, выговор искусный и слишком нежный для простой девки.
Певица меж тем смолкла, затем скрипнула дверь, послышался звук осторожных шагов и лёгкий вздох. Сердце Фёдора дрогнуло от жалости: ему почудилось чужое страдание. Душа его, как это бывало после охоты, настраивалась на минуты светлые и чистые. Он продолжал прислушиваться. Вздох повторился.
Ему пришла на ум шутливая поговорка, и он тихо, но внятно произнёс:
— Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко...
Фёдор сразу почувствовал, как испуганно затаилась девушка.
— Не пугайся, красавица, я незаметно зашёл сюда после охоты. Незаметно и уйду... А ты, видать, чародейка. Прознала, что я почиваю рядом, и песню запела.
— Тебе помстилось, боярин.
— И ты не ведунья? — спросил Фёдор, обрадованный тем, что девушка заговорила.
— Бог миловал, боярин...
— А как ты прознала, что я боярин?
— По выговору...
— Дозволь мне поглядеть на тебя?
Вместо ответа скрипнула дверь. Видимо, девушка поспешно скрылась в горнице. И столь желанной показалась она Фёдору, что он едва не решился переступить чужой порог. Но осторожность требовала оставить чужое подворье, так и не дознавшись, кто была прекрасная певунья. Да и расспрашивать не полагалось: не было бы какого позора для боярышни. Он узнал, однако, что подворье принадлежало Шереметевым. Ужели певунья была дочерью знаменитого боярина-монаха?
История этого монаха была не столь давней. Боярин Иван Шереметев едва не угодил под беспощадную секиру грозного Иоанна, виновный лишь в том, что был богат, а царь повадился к тому времени отрубать богатеньким головы, чтобы их состоянием пополнять свою казну. Ивана Шереметева спас остроумный и достойный ответ. Когда царь спросил, где его богатство, опальный боярин ответил:
— Ныне оно ко Христу отошло.
Спасённый от топора, он, однако, понял, что судьба подсказывает ему верное решение — уйти в монастырь. Вскоре умерла его жена, оставив дочь-отроковицу на руках тётки, его сестры Юлиании.
Всё это понемногу вызнал Фёдор и однажды утром поскакал через широкий выгон к боярскому подворью, распугивая пасущихся там коров. Затем он придержал жеребца, подъехал к знакомому сеновалу, привязал коня и направился к крыльцу, на котором ещё совсем недавно незнакомая певица выводила свою чудную песню. Крыльцо было мокрым от мелкого дождя. Раннее утреннее солнце отражалось в слюдяных оконцах.
Фёдор пригладил волосы неуверенной рукой, поправил расслабленный кушак, быстро оглядел полы ферязи[15]: не забрызгал ли, скача по лужам. Он решился пройти прямо к Юлиании Даниловне. Видимо, у него вид был решительный, ибо заспанный сторож, выглянувший из конюшни, поглядел на него с особенным вниманием. Фёдор всё же задержался на крыльце, в который раз обдумывая, что скажет хозяйке. И вдруг послышались голоса:
— Уж больно ты пуглива, душа моя... Чуть стук какой — побледнеешь, встрепенёшься. Помстилось тебе.
— Тётушка... Право слово, пошли сенных девушек разведать. Кто-то чужой на крыльце.
Фёдор узнал голос, который проникал до сердца, и весь задрожал.
— Ах, душа моя, наскучило мне потакать всякому твоему капризу... И когда я тебя замуж выдам?
— Прости, родимая, не буду!
— Слышь, звонят к заутрене? Пора в церковь.
Фёдор поспешно сошёл с крыльца, довольный тем, что случай избавил его от опрометчивого поступка. Что бы он сказал Юлиании? Я, мол, слышал, как пела песню ваша племянница, и надумал просить своего родителя, чтобы засылал сватов...
Старая матрона посмеётся, и только. Такие дела делаются согласно свадебному чину... Или её племянница — простая девка, чтобы без родительского слова являться в дом к невесте?! «Ох, горячая голова! Едва не наделал бед, — корил он себя. — И кого ты чаял прельстить сей поспешностью? Худой молвы захотелось? Вспомни, как родитель учил тебя: «Опрометчивость да глупость рядом живут».
Как радостно пели в то утро колокола!
Фёдор выехал огородами на улицу, по которой люди шли в церковь. Лишь теперь он понял, что это было не господское подворье Шереметевых. Боярышня жила с тётушкой в хуторке, и церкви домовой у них не было. Стало быть, и собирались они в сельскую церковь.
С пригорка Фёдору хорошо было видно, как боярышня вместе с тётушкой вышли с подворья. Боярышня в кокошнике, из-под которого спадает толстая чёрная коса, в летнике из камки, шитой серебром. У неё бледное продолговатое лицо. Черты тонкие, как на иконе. Она с трудом поспевает за широкими шагами тётушки и пытается оглядеться. Что-то беспокоит её. Ему почудилось, будто она увидела его боковым зрением и в её лице что-то затрепетало. О, милая!
Восторженное возбуждение любви было в нём столь сильным, что он, не помня себя, поскакал по знакомым косогорам и не сразу заметил, что конь привёз его в родной костромской хутор.
В тот день Фёдор узнал, что она боярышня Шереметева, узнал её имя. Только она была дочерью не Ивана-монаха, а его младшего брата, тоже Ивана, прозванного Меньшим.
Нетерпеливый и горячий, он не стал раздумывать, а поклонился в ноги родителю и попросил сосватать за него Елену Ивановну Шереметеву. Никита Романович окинул сына суровым взглядом. Никогда он так не смотрел на него.
— Матушка больна, а ему, вишь ты, жениться приспичило!
— Она благословит меня, я знаю!
— Ишь ты, благословит, да я не благословлю...
Фёдор понял, что причиной отказа отца была не болезнь матушки, а неведомая и важная причина. Но думать об этом не хотелось. Понимая, что толку от отца не добьёшься, он начал размышлять, как бы встретиться с Еленой. Приехал наугад ранним утром, как и в прошлый раз, но голоса её не было слышно, а постучать в дверь не решился. Несколько раз проскакал на коне мимо её окон — напрасно. Тут взгляд его упал на деревенского мальчишку лет десяти, стоявшего у ворот. На нём была посконная рубаха с разорванным воротом, достававшая ему чуть ли не до пят. Лицо его было унылым и бледным, но в глазах сквозили острая приглядка и живой интерес к молодому боярину, объявившемуся в их хуторе. Фёдор поманил мальчика пальцем. Тот охотно приблизился.
— Ты чей будешь?
— Степахи-кузнеца.
— А зовут как?
— А тебе на што?
— Дело доброе можешь мне сделать, а я тебе за то грошик дам.
Мальчик метнул быстрый взгляд на кошель, привязанный у пояса всадника. Фёдор протянул ему монетку.
— Бери! Да скажи боярышне Елене Ивановне, что завтра поутру я буду ждать её в церковном саду после службы. Скажи, что у меня к ней есть важное дело...
Мальчик взял монету и кивнул головой.
— Только никому не сказывай!
— Нешто я сам себе ворог!
Елена появилась внезапно в самом начале запущенной аллеи, когда Фёдор отчаялся дождаться её. Светло-зелёный летник, искусно вышитый гладью и серебром, казался на ней свободным, словно слегка наброшенный плащ. Она шла так, будто ничего не видела и не слышала, и, если бы он не остановил её, она так бы и прошла мимо, не поднимая глаз.
— Елена!
Она вздрогнула и встала, но глаз не подняла.
— Разреши называть тебя этим прекрасным именем!
— Зови меня Еленой Ивановной!
— Подними на меня глаза, Елена. Я не обижу тебя. Я говорил со своим родителем, чтобы засылал к вам сватов, а слова твоего ещё не слышал.
Она взглянула на него с ласковым удивлением, но тотчас же смущённо опустила глаза. А как много выразил этот взор в одно мгновение! В нём было и зарождающееся чувство, и тоска, и мольба о чём-то.
— Согласна ты стать со мной под венец, Елена?
— Как Бог изволит, а мы своей волей ничего не установим. Пора, боярин.
Она быстро огляделась: не увидели бы злые люди, не то оплетут сплетнями да наговорами. Фёдор и сам опасался за неё.
— Скажи, радость моя, как устеречь минутку, чтобы увидеть тебя?
Елена молчала. Раздавшиеся вблизи голоса разлучили их. Они расстались, так и не договорившись о встрече.
Но хмельные ароматы весны вновь привели Фёдора на знакомое подворье на другой же день. Ещё не пропели первые петухи, а он уже издали сторожил её двери и скоро был вознаграждён за любовное нетерпение. Елена показалась на крылечке. Увидев его, она слегка вскрикнула, но пошла ему навстречу. Они договорились встретиться вечером.
Самым потаённым местом на подворье был густой орешник. Укрыв Елену плащом, Фёдор повёл её в этот укромный уголок. Господь даровал им эту лунную ночь. Как красивы в лунном сиянии, как лучезарны были её глаза, как трепетно отозвались губы на его поцелуй!
Это свидание тоже было недолгим. Она пугливо вздрагивала при малейшем шорохе в ночи.
— Ничего не бойся, моя царица! Нынче же поклонюсь родителю, чтобы слал сватов безотлагательно.
— Ах, нет... Ныне ещё не пришло время. Станем ждать батюшку. Он должен скоро вернуться из похода. А поначалу с матушкой обговорить надобно. Она ныне за больным братом ходит. Это недалеко от хутора. Я скоро вернусь.
— Ах нет... Мне надобно поначалу в монастырь съездить к батюшке, дабы благословил меня...
Фёдору пришлось долго ждать, пока Елена через сенную девушку не подала ему весточку о своём возвращении. А без неё даже солнце казалось тусклее и дни тянулись, точно годы.
При встрече он так сжал её в объятиях, что она вскрикнула.
— Елена, я потерял из-за тебя весь разум.
Она засмеялась каким-то новым грустным смехом.
— Так скоро?
— Тебе смешно, а я сам не свой. Забываю выполнить поручения отца, книги не идут мне на ум. Я забросил даже охоту.
Но вскоре неясные печальные предчувствия Елены оправдались. Судьба послала ей тяжёлые испытания и большое горе. Не вернулся из похода её отец. Мужественный воевода, он погиб в битве под Колыванью. После его похорон Елена слегла от горя. Сам царь навестил её, больную. Боярин Иван Шереметев Меньшой был у него в приближении, не в пример своему старшему брату-монаху. Иван Васильевич Меньшой был обласкан при жизни царским вниманием.
Не определит ли это впоследствии и судьбу Елены Ивановны?
Но в то время думалось о другом. Фёдор с нетерпением ожидал конца траура.
Однажды, чтобы сделать ей приятное, он сказал:
— А верно ли говорят, что ты похожа на своего родителя?
Она печально опустила голову. Подавляя непонятную, внезапно подступившую к сердцу тревогу, Фёдор произнёс:
— Я буду твоей защитой, Елена!
И такая неизъяснимая безмерность любви была в его голосе, что лицо её просияло от счастья.
— И ты не станешь думать о печальном.
Она покачала головой.
— Как не думать, коли на сердце тяжело?
— Дай срок, и я возьму твои тяжести на свои плечи!
— Нет, родимый, нет! Ты не волен взять на себя мою горькую долю!
Он вздрогнул: таким страдальческим было её лицо. Вспоминая позже этот разговор, он станет думать, что Елену посетило в те минуты пророческое видение. Ещё не испив до конца отпущенных ей страданий, она словно бы предчувствовала грядущие беды...
Ему же эти страхи казались излишними. Жизнь в избытке наградила его упорством, неистребимой верой в свою счастливую судьбу. Все эти дни он жил как в хмельном тумане, не помня себя от радости, и был далёк от мысли, что его подстерегает злая судьба.
Но в тот вечер и его коснулась неясная тревога. Луна светила тускло, вся в белой наволочи, а над лугами неслась песня. И пел её, видимо, табунщик, пасший лошадей:
— Ах, что ж ты, молодчик, невесел сидишь. Невесел сидишь и нерадостен? — Как же мне, молодчику, весёлому быть, Весёлому быть и радостному? Вчера у меня девица была, Девица была, со мной сидела, А нынче девицу замуж отдают, Замуж отдают, просватывают.ГЛАВА 18 РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Матушка, слава богу, выздоровела. Минувшие годы были для неё тяжёлыми. Уже и не надеялась подняться с постели. Но то ли Бог помог, то ли врачи заморские, то ли знахари, но в нынешнее лето она окрепла. Вернувшись домой, Фёдор решил с ней первой поговорить о сватовстве к Елене. Он нашёл матушку в кабинете отца. Она делала запись расходов по кухне и вся углубилась в это занятие. Её по-девичьи нежное лицо низко склонилось над скоро сшитой книжицей, именуемой «едальня». Никита Романович лично следил, чтобы в записях был порядок. Он говорил: «Коль в счету что просчитаешь, то мошною доверстаешь». Похоже, матушка не была создана для этих строгих занятий. Она постоянно что-нибудь «просчитывала». Случалось, Никита Романович корил её за это, но что поделаешь, она была прирождённой княгиней, а женщины в её роду не привыкли вести хозяйство.
Фёдор гордился матерью. Её род потомков Александра Невского отличался благородством осанки и облика и славянской широтой характера.
Она ожидала супруга и, увидев вошедшего сына, расцвела в счастливой улыбке. Мягко очерченные щёки слегка заалели. Она почувствовала озабоченность сына и тотчас осведомилась о причинах заботы в присущей ей, чуть иронической манере:
— Что, сынок? Отщебетали пичужки, лето кончается, пора свадеб начинается?
— Тебе батюшка сказал?
— О чём, сынок?
Настроение у Фёдора упало. Если отец не поговорил с матушкой, значит, он не придал значения их давнишнему разговору. И всё же он с решительностью, свойственной влюблённым, поделился с матёрый надеждами связать свою судьбу с Еленой.
Как захлопотала матушка, как зачастила радостными словами, сыпит ими, словно бисером! Как нежил его слух этот словесный бисер! Как ловил он её слова, вливавшие в него живительную силу!
А она, хваля его выбор, говорила о том, как они с сестрой Ириной Александровной дадут ход сватовству и всё будет любо да мило. Она же возьмёт в дом Елену как родную дочь.
Фёдору бы радоваться нежной заботе матери о его судьбе, но слова её, вопреки её воле, будили в нём тревогу. Почему она говорит о тётушке Ирине и ни слова об отце? И не навредит ли делу тётушкино вмешательство? Забыть ли, как гневался царь на супруга тётушки Ирины — первого боярина, князя Ивана Мстиславского? От отца Фёдор знал, что после нашествия на Москву Девлет-Гирея Иван Мстиславский давал царю повинную запись, где признавался в своей измене: навёл на Москву Девлет-Гирея. А вскоре последовали казни. Головы метали под двор Мстиславского — грозное предупреждение! После этих событий Никита Романович несколько отдалился от свояка, князя Мстиславского. К добру ли ныне затея матушки довериться тётушке Ирине? Надо ли мешать в столь тонкое дело семью Мстиславского?
В минуту этих тревожных сомнений Фёдора неожиданно вошёл Никита Романович. Фёдор смутился, и это не укрылось от отца: о чём-то потаённом толковали мать с сыном. Уж не о сватовстве ли к Шереметевой?
Никита Романович внимательно посмотрел на супругу, отчего она тотчас же вышла в трапезную, которая находилась за дверью в кабинет. В это время дворецкий распоряжался, как накрыть стол для важных гостей (ожидался приезд царевича Ивана), и появление хозяйки было кстати.
— Рад, что нам удалось свидеться. Что долго дома не показывался? — строго спросил Никита Романович. — И службу забросил. Вон Бориска Годунов, чай, слыхал, до рынды[16] дослужился. Где все дни находился?
— Ныне охота удачная выдалась.
— Охота не причина устраниться от дел. Пошто не поехал в Преображенское, как было велено?
В этом подмосковном селе дела давно шли ни шатко ни валко, как выразился сам Никита Романович, и то, что сын ни разу не побывал там, гневило его.
— Я на днях собирался туда выехать...
— Не сказав ни отцу, ни матери? Без советов с управляющим? Пошто себе столь высокую волю взял? Может, ты окольничий? Может быть, боярин?
— Не боярин, но стану им. И понижаться не собираюсь.
— А ведомо ли тебе, Фёдор, что сказано в Писании о таких, как ты: «Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким».
— Прости, батюшка, святого праздника ради!
А был день Успения Пресвятой Богородицы. В Москве звонили колокола, накрывались праздничные столы.
— Вижу, матушка тебе большую волю дала. О чём шептался с ней?
Фёдор замялся, чувствуя, что с отцом сейчас говорить не время, но, коль спросили, надобно отвечать.
— Советовался с матушкой о невесте своей...
— Или тебе мало было нашего слова? Или ты хочешь жить не по Божьему изволению, а по безмерному человеческому хотению?!
— Батюшка, ты забыл, каков был сам в мои годы! Ужели увидел мою дерзость в том, что захотел повидать свою невесту? Или я не волен просить тебя, чтобы ты засылал к ней сватов?
— Сватов?! Кто тебе сказал, что у тебя есть невеста? Сам царь удостоил найти тебе невесту. И долго ходить не надо: наши сваты-соседи по имению: Иван Васильевич Шестов...
Фёдор замер в горестном изумлении.
— Батюшка, я не думал о дочери Шестовых...
— Эка важность: он не думал! Твоего помышления никто и не спрашивает. На то родители, чтобы думать загодя.
— Воля твоя, батюшка, на Шестовой вы меня не ожените. Мне по сердцу Елена Шереметева!
— Вижу, мы тебе большую волю дали... Это, значит, ты к ней на свиданки ездил? Далеконько! Таки не устрашился мерить по сто вёрст туда и сто вёрст назад.
— Она ныне тут на хуторе с тётушкой живёт...
— А ты слышал, что древние заповедали нам: «Не прелюбодействуй»? А «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своём»! Такой-то отчёт ты дашь своей чистой невесте!
— У меня не будет другой невесты, кроме Елены!
Никита Романович усмешливо покачал головой, но на лице его появилась озабоченность.
— Сын мой, я велю тебе сходить к исповеднику. Это дьявол искушает тебя. Об Елене не думай и не тревожь сердце своё. С Шереметевыми я мыслю породниться иначе: дочку нашу, Марфу — как подрастёт, за братца Елениного, Фёдора, отдадим.
Никита Романович поднялся, что означало: разговор окончен. А в смятенном уме Фёдора роились планы один противоречивее и мятежнее другого. Или сначала посоветоваться с царевичем?
ГЛАВА 19 ПРОНЫРА ЛУКАВЫЙ
Бунтарский настрой Фёдора несколько ослабел после того, как он с царевичем побывал на могиле царицы Анастасии. Царевич оставил Вознесенскому монастырю богатые дары — на поминовение души матери. «Не поговорить ли с царевичем о своей беде?» — думал Фёдор.
На пиршественном обеде царевич пил мало. Чувствовалось, что его тоже тяготила какая-то дума. Даже не присматриваясь к нему, можно было заметить, что за последнее время он очень изменился. Он стал угрюмее, раздражительнее и недоверчивее. Но с Фёдором он был мягок и общителен. Они часто встречались в царской библиотеке. Царевич сочинил «Житие Антония Сийского», и Фёдор немало дивился его умению владеть живописным слогом.
Отобедав, брательники устроились в маленькой комнате Фёдора. Потолки в ней были столь низкими, что царевич и Фёдор едва не доставали их головами, а под притолокой пришлось сильно нагибаться. Устроились на лавке, покрытой ковром.
— Скажи, царевич, брату своему, о чём ты уединённо молился в часовенке после того, как время заупокойной молитвы по матери отошло?
— A-а... Ты заметил? Я молился святому Никите. Молитвами ему во время оно моя незабвенная матушка спасла мне жизнь во младенчестве, когда я был опасно болен. С той поры святой не раз спасал меня от ярости Малюты Скуратова.
— Я рад, Иван, что Господь порадовал тебя и Малюта зло окончил дни свои...
Главарь царских опричников погиб в Ливонскую войну, во время жестокого приступа, после которого русские овладели крепостью Вейссенштат. Это было в 1572 году. Сие известие ещё не успело быльём порасти, и многие до сих пор страшились упоминания самого имени Малюты.
— Не спеши радоваться, Фёдор. Место Малюты в моей жизни занял тот, кто страшнее любого опричника.
— Кто же это?
— Бориска Годунов... Ты знаешь, как его зовут ныне? Проныра лукавый... И скажу тебе, такого злого лукавства не было у Малюты. Тот был искусен в зле, причиняемом телу, Бориска имеет искусные отмычки к душе — ловок, ох и ловок! Побудет у государя в его палатах часок-другой, а государь после на меня зверем кидается.
— Да прогони ты его прочь!
— Как прогонишь? Он взял большую волю над государем. Бориска в особом приближении у него. Он теперь у него вместо Малюты. Государь верит, что Бориска, как и Малюта, выведывает измену, токмо особым способом: искусным словом. Недаром говорят: «Коня ведут уздечкой, а человека словом». Узнав слабости государя, Бориска руководит его волей.
— И чего он от царя добивается?
— Он хочет моей погибели!
Какое зло он в тебе видит?
— Бориска любит власть. Государь стал слабеть телом и духом, вот и вселилось в Бориску сатанинское мечтание завладеть троном.
— Но помимо тебя есть ещё Фёдор...
— Фёдора оженят на Ирине Годуновой, и царевать будет Бориска. А допреж того надобно меня погубить.
— Нет, царевич Иван! Нет! Господь не допустит такого злодейства!
— На Господа и я уповаю. Да на молитвы святого Никиты.
В комнате было душно. Бабье лето выдалось на редкость жаркое. Где-то утомительно жужжала муха, угодившая в тенёта. Фёдор и царевич расстегнули верхние пуговицы кафтанов.
Царевич вдруг поднялся.
— Не уходи, Иван! Давно мы так с тобой не толковали...
— Не об чем более говорить.
— Постой! Может, родитель мой чем поможет?
— Дядюшка Микита добр ко мне, да как ему услышать то, что Бориска шепчет на ухо государю?
Царевич помолчал.
— В том-то и беда: всё видишь и знаешь, да ни в чём не поймаешь. Раньше надо было думать. Доподлинно про то сказано в Писании: «Посели в доме твоём чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для других».
Сочувствуя брату, Фёдор забыл рассказать ему о своих бедах. Позже он поймёт, что это было к лучшему. Мог ли он, жалея царевича, думать о том, что скоро ему придётся жалеть самого себя.
ГЛАВА 20 ПТИЧЬЯ ОХОТА
Царевич Иван, подобно своему державному родителю, любил соколиную охоту. Но в тот день у Иоанна опухла нога, и с царевичем поехал Фёдор, хотя и без особого желания. Он предпочитал ходить на лося либо на медведя. Но случай был особый. Царевич сказал:
— Тебе интересно будет посмотреть, каков в бою рыжий сокол Адамант.
Это прозвище было дано царскому любимцу недаром. Адамант — значит алмаз. У царя было много именитых птиц, но Адамант превосходил всех. Словами тут мало что объяснишь: Адаманта надо было видеть в бою.
Царевич и Фёдор ехали молча, опустив поводья, словно им нечего было сказать друг другу. Под царевичем был лихой буланый конь. Ему был в тягость мерный шаг, и он иногда прибавлял ходу. Долгогривый конь Фёдора был послушен воле хозяина. Время от времени он косил глазом на буланого соседа и его седока. Возможно, его внимание привлекал сверкавший золотым шитьём кафтан царевича, а возможно, унылое выражение его лица. Умный глаз коня выражал интерес и как будто сочувствие.
Фёдор потрепал его по шее и обратился к царевичу:
— Ты, Иван, али не в себе?
— Заболел вечор, да, вишь, оклемался. Токмо в сон клонит.
— Ну да авось разгуляемся. Сердце на охоте утешается и переменяется доброй охотой.
Стояли лучшие дни бабьего лета. Подсокольничий, начальные[17] люди и рядовые сокольники были уже возле изб, разбросанных между перелесками. Издалека со стороны Владимирской дороги доносились радостные звуки благовеста.
Возле просторной передней избы, представлявшей собой бревенчатый сруб, выстроились соколиные охотники. Они были нарядно одеты, все в цветных суконных кафтанах, с золотыми нашивками у сокольничего и подсокольничего и с серебряными нашивками у прочих. А сапоги у всех были жёлтые. Сокольники незаметно наблюдали за царевичем и его гостем. Ещё издали ударили челом, едва царевич направился к передней избе.
— Рады видеть твои пресветлые государевы очи, — произнёс подсокольничий Трифон, снимая парчовую шапку перед царевичем.
Сокольники расступились, пропуская в избу царевича и Фёдора. Изба была убрана для соколиной охоты. На просторной лавке постлан ковёр серо-голубого цвета, на ковёр положены бархатные подушки, набитые пухом диких уток. Напротив поставлены четыре нарядных стула, между которыми аккуратно постелено сено, покрытое попоной. Возле стола по правую сторону расположились сокольники, ожидая своего часа.
Пахло свежесрубленной сосной и лугом. Всё проникнуто торжественностью минуты. К царевичу приблизился подсокольничий Трифон, молодой бородач с внимательным умным взглядом, и осторожно спросил:
— Время ли, государь, образцу и чину быть?
— Время. Объявляй образец и чин, — ответил царевич. И, обратясь к Фёдору, произнёс: — Соколиной охоте, яко и всякой вещи, надлежит иметь и чин, и честь, и образец.
Слышавший его слова Трифон добавил:
— Без чести ум не славится, а дело малится.
Подсокольничий отступил к столу, покрытому ковром, и велел сокольнику Максимову поднести к нему рыжего Адаманта на большой нарядной рукавице. Остальных соколов — кречетов и челигов[18] — велел держать до указа. Царевич что-то тихо молвил Фёдору, показывая глазами на Адаманта. Фёдор разглядывал рыжего разбойника. Этот сокол и впрямь разбойник. Сам рыжий, и, в отличие от остальных птиц, короткие перья которых плотно прижаты к туловищу, Адамант — мохнато-рыжий. Крылья у него приспущены, словно опахала, под глазами — тёмное пятно. Растекаясь в стороны, это пятно образовало подобие усов. Клюв у сокола тоже бурый, но с синеватым оттенком и чёрной загогулиной на конце. Когти чёрные, а лапы жёлтые. Но особенно впечатляли глаза рыжего Адаманта. Они лениво шныряли по избе и, когда взгляд их останавливался на людях, либо выражали унылое презрение, либо прятались за сонной плёнкой.
Адаманта посадили на первый стул, остальные стулья были предназначены для челигов и кречетов. На столе сокольники сложили птичьи наряды.
Но вот приблизилась торжественная минута, подсокольничий произнёс:
— Начальные сокольники, настало время наряду и час красоте.
Сокольники взяли со стола птичий наряд, как-то: бархатный клобучок, шитый серебром, красивую совку, серебряные с позолотой колокольцы, тканый должик[19].
Подойдя к подсокольничему, нарядили сначала Адаманта. Он сопротивлялся, но лишь для вида, потом стих. Затем нарядили кречетов и челигов. После этого сокольники отступили к своим прежним местам.
Подсокольничий приблизился к царевичу:
— Время ли, государь, принимать, и посылать, и украшение уставлять?
— Время. Принимай, и посылай, и уставляй.
И подсокольничий повелел сокольнику Ермолаю:
— Подай рукавицу.
Взяв рукавицу, Трифон принял Адаманта и бережно передал его царевичу.
Началось время птичьей потехи, птичьего боя и ликующего лета сокола. Толпа сокольников, нетерпеливо дожидавшаяся этой минуты, устремилась на волю. Рад и царевич, наскучавшись во время охотничьей церемонии, столь угодной его державному родителю. Унылое лицо царевича несколько оживилось. Вид его, казалось, говорил: «Да утешатся мысли наши от печалей и скорбей».
Сокольники пёстрой толпой бросились к перелескам и озеркам, вспугивая уток, тетеревов, куликов, цапель. Поднялся птичий гомон, заглушая шум камышей и всплески воды.
Стоявшие близко от царевича охотники из опричников выпустили сначала челигов и кречетов. Проворнее прочих взвились серо-белые кречеты. Местность им давно знакома, ибо гнездятся они обычно в вороньих гнёздах неподалёку. Охотники легко приручают их, эти хищники лучше всякого ружья убивают уток и куропаток, только успевай подбирать. И ныне уток да куропаток была такая пропасть, что небо враз потемнело, будто покрытое тучами. Пущенные им вдогонку челиги, дермлики и прочие соколы помельче телом перехватывали заметавшихся птиц, нападали на них сверху. Убитая птица камнем падала вниз. Спустя время сюда придут крестьяне собирать добычу.
Между тем рыжий Адамант уклонялся от славного боя. Два раза напускал его царевич, и все неудачно. Адамант отлетал далеко в сторону от птичьего базара, словно пренебрегая добычей. Третий раз он спрятался в кустарнике. Знавший его повадки Трифон легко нашёл его и принёс царевичу, приговаривая:
— Ништо... Он своё возьмёт. Это он уросит. Норов любит показать.
При этих словах, будто понимая их смысл, Адамант скосил глаза на царевича. Его мохнатые рыжие крылья опустились.
— Царь-птица... Вишь, власть свою чует, хотя бы и над самим царём, — произнёс Трифон.
И вдруг, когда птичья туча на небе начала рассеиваться, из-за кустов вылетела неведомо как там очутившаяся голубка — молодая, крупнотелая, нежнейшей белизны.
— Государь, время Адаманта выпускать, — нетерпеливо произнёс подсокольничий, но, почувствовав особенное состояние царевича, смолк.
Между тем Адамант, казалось, не замечал голубку, хотя его тёмные «усы» вытянулись, что случалось с ним при виде добычи. Но сам он сохранял невозмутимо-хитроватый вид.
Царевич неожиданно резко дёрнулся и подбросил Адаманта вверх. В мгновение ока сокол взмыл так высоко, что его не стало видно. Все взоры устремились в небо. Ещё секунда — и Адамант вошёл в пике, застыл в воздухе и, камнем упав вниз, вонзил клюв в темя голубки. Трифон взял её, слабо трепыхавшую нежно-белыми крыльями, и, отдав царевичу, произнёс:
— Вот подарок тебе, государь, от Бориса Фёдоровича Годунова!
Царевич слегка отпрянул в сторону. По его лицу прошла судорога гнева, но сказал спокойно:
— Поди прочь, смерд! И скажи рынде Годунову, что державным особам не передают подарки с оказией.
Трифон низко склонился перед царевичем и вымолвил:
— Не изволь гневаться, государь! Передам, непременно передам твои слова «рынде Годунову». А ныне в избу не соизволишь пойти?
Царевич, ничего ему не ответив, велел стременному седлать коня. Трифон же, повернувшись к сокольникам, приказал:
— Начальные, время отдохновения птицам, а нам час обеду и перемене платья!
...Царевич скакал во весь опор. Фёдор едва поспевал за ним. Царевич унял бег коня уже на подъезде к Александровской слободе. Когда Фёдор сравнялся с ним, то увидел, что царевич очень бледен, между бровями и возле рта легли глубокие резкие бороздки.
— Не гневи сердце, Иван! Бориска не стоит того, чтобы о нём думать...
— Ой ли? Мамка родителя, Онуфриевна, часто говаривала: «Грозен враг за горами, а ещё грозней — за плечами...»
— И какой бедой он тебе ныне грозит?
— А такой, что судьбу мою дерзает решать. Ты думаешь, он спроста прислал мне на охоту голубку? Бориска уже давно наладился клевать моих жён...
Фёдор вспомнил, как постригли в монахини первую жену царевича Евдокию Сабурову. Она была доброй женой и необыкновенно хороша собой: глаза темнее ночи, а взор огненный. Царевич души в ней не чаял. Но, говорили, Годунов не терпел своих соплеменников, а Сабуровы происходили от того же корня, что и Годуновы: их прародителем был татарин, Мурза Чет. Имея ближайшее влияние на царя, Годунов добился, чтобы Сабурову постригли.
— А чем Бориске не по нраву твоя невеста Параскева Соловая? Или её тоже постричь надумали?
— Мне мамка Онуфриевна сказывала: «Дай Бог один раз креститься, один раз жениться и один раз умирать».
Царевич казался спокойным, но был печален и бледен.
— Добрые слова молвила Онуфриевна, — продолжал царевич, — токмо государь волит по-своему. Ныне послал в Суздаль сказать, чтобы келью Параскеве нашли.
— И, значит, тебе вновь невесту искать будут?
— За этим добром дело не станет, — тяжело пошутил царевич.
— А что государь?
— Государь своё слово сказал: Параскеву постричь, а в жёны взять Шереметеву Елену.
Ужас сковал язык Фёдора, и некоторое время они ехали молча. Но понемногу Фёдор овладел собой, спросил всё ещё заледеневшими губами:
— Она... о том ведает?
— Ты о ком это? — не понял царевич.
— Об Елене Ивановне Шереметевой...
— Зачем ей ведать до времени? Успеется.
— И ты ни разу не виделся с ней? А ежели она придётся не по нраву тебе?
— Пошто? Сказывают, она хороша собой... Не хуже Параскевы.
— Слушай, Иван... Коли так и ты ещё не видел её — отступись! Меня матушка благословила жениться на ней...
Царевич вдруг резко повернул коня в сторону и замахнулся хлыстом на Фёдора, но не ударил, только выкрикнул резким гортанным голосом, похожим на своего державного родителя:
— И ты смеешь говорить мне это, смерд?!
В состоянии какого-то дикого беспамятства Фёдор поскакал прочь от царевича. В ушах звучали злые слова, но он так и не мог вспомнить, ответил он царевичу или нет... Опомнился, когда был уже недалеко от выгона, что стоял между хуторком, где жила Елена, и посадом.
ГЛАВА 21 НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
С возвышения, где стояла церковь, лился колокольный звон. Привязав коня к пряслу возле дома кожевника, Фёдор подозвал мальчика, который смотрел на него с соседнего подворья, но тот убежал в избу.
Это было дурным знаком. Ужели слухи о его жениховстве стали всеобщим достоянием? Горячий и упрямый Фёдор едва не наделал ошибок. Он был уже на полдороге в церковь, когда, одумавшись, понял, что его внезапное появление будет всеми замечено и принесёт урон репутации Елены.
Не имея ещё определённого плана действий, он вышел к её подворью, но его сразу озадачили боязливые взоры, которые бросали на него из окон сенные девушки. Выглянула одна, потом вторая, третья. С чего бы это они так испуганно заметались? Слышно было, как щёлкнули задвижки на дверях. Испугались, глупые, как бы он не проник на подворье, чтобы дождаться возвращения боярыни и боярышни.
Эти наблюдения несколько развеселили его. Скоро случай и в самом деле помог ему проникнуть на подворье. К воротам подъехал в расписанной узорами бричке важный господин в богатом кафтане и парчовой шапке, судя по всему, управляющий. Заметив Фёдора, господин поклонился ему и спросил, кто он и откуда. Фёдор ответил, добавив, что желал бы видеть боярыню. Управляющий сам отворил ему калитку, и Фёдор вошёл, смеясь тому, как испуганно расступилась дворня, пропуская его на крыльцо. Ясно, что боярыня велела им не отворять ему, и теперь они опасались её гнева.
Его догадка вскоре подтвердилась. Едва успел он удивиться безвкусному, хотя и богатому убранству горницы (особенно поразил его большой кованый сундук, занимавший почти весь боковой угол, и аляповатая, в деревенском вкусе картина на самом видном месте), как щёлкнула ручка входной двери, издававшая неприятный металлический звук, и на пороге появилась боярыня. Сенные девушки, очевидно, оповестили её о его приходе, потому что лицо её было властно-гневливым. Но на этом грубом вытянутом лице с маленькими глазками Фёдора поразило не столько выражение гнева, сколько неуловимое сходство с Еленой.
В ответ на его почтительный поклон она холодно спросила:
— С чем пожаловал к нам сын боярина Никиты Романовича Захарьина?
— С нижайшей просьбой...
— Не будет тебе ничего! — резко перебила его боярыня. — Вижу, очи у тебя соколиные и брови соболиные, но ты не наш сокол!
— Вы не дослушали мою просьбу, боярыня!
— Говори!
— Прошу у боярыни дозволения поговорить с Еленой Ивановной...
— Сего никак не могу дозволить.
Боярыня пристально смотрела на него. Она чего-то боялась. Фёдор решился.
— На днях я с царевичем охотился... — И, словно бросаясь в холодную воду, добавил: — Весточку Елене Ивановне надобно передать...
Боярыня недоверчиво поглядела на него, поколебавшись, отворила дверь и позвала:
— Поди сюда, душа моя!
Вошла бледная и трепещущая Елена. У Фёдора упало сердце при виде её. Исхудавшее лицо выражало муку.
— Прошу вас, боярыня, оставить нас вдвоём.
Боярыня вышла, недобро глянув на Фёдора. Он приблизился к Елене, сжал её холодные руки.
— Люба моя! Параскева ещё во дворце, её не постригли. Царевич не может свататься к тебе. Я вижу, что тётушка твоя в мыслях своих уже считает тебя его невестой, но да не допустит Господь такой беды! Или думаете, что судьба третьей жены царевича будет лучше? А мне лучше умереть, нежели отдать тебя на муки и поругание!
Он притянул её к себе, шепча:
— У меня есть знакомый священник. Он тайно обвенчает нас, соглашайся, царица моя!
— Нет-нет, Фёдор! Ты хочешь всё тайком да украдкой. Я так не приучена. Батюшка мне говорил: «Токмо Божие крепко, а дьяволово лепко»[20]. Я все эти дни думала: коли мы не засватаны, значит, не судьба нам любиться с тобой. На, возьми на память обо мне!
Елена что-то сунула ему в карман.
Ему так и не удалось убедить её на тайный брак. И всю дорогу звучали в ушах её слова: «Не судьба нам любиться с тобой!»
Как исступлённо желал он царевичу смерти в эти минуты!
Господь да не покарает его за то, что он, несчастный, сулил зло такому же несчастному!
Безжалостно погоняя коня, Фёдор что-то выкрикивал и сам казался исступлённым.
...Прошёл год, но о пострижении Параскевы и о новой свадьбе царевича не было слышно. Фёдор жил надеждой, что свадьба эта не состоится и отцу ничего не останется, как женить его на Елене Шереметевой. Он не заметил, как миновала зима, а за нею — весна и лето. Жил в суматохе дел, часами просиживал в Посольском приказе, и эта служба, связывавшая его с дипломатическими кругами, была ему по нраву более всего.
Однажды Никита Романович заговорил с ним о женитьбе на Ксении Шестовой. В ответ Фёдор напомнил отцу его собственные слова:
— Кто женится скоро, у того редко бывает в дому споро.
— Ну, коли ты считаешь «скоро», можно и погодить.
Никита Романович не сомневался, что оженит сына на дочке Ивана Шестова. Но он знал также, что любая задумка, любое дело должны перебродить на дрожжах.
— Можно и погодить, — повторил он, — токмо стар я уже и сед, чтобы долго ждать. Сколько же ещё? Али тебе невдомёк, что и мать в тоске живёт: не чает, бедная, внуков дождаться.
Никита Романович видел, что задел чувствительное место сына: он любил мать более отца. Но чуял Никита Романович, что в сердце Фёдора не отзвенела старая струна. Коли кто полюбится, то и ум отступится. Былые тропки не скоро быльём порастают!
Женитьба царевича на Елене Шереметевой, однако, состоялась. Сославшись на нездоровье, Фёдор не был на ней. Он и в самом деле занемог. Никита Романович не на шутку испугался за сына. Но недуг так же быстро сошёл с Фёдора, как и налетел на него.
У Никиты Романовича появилась надежда переломить упрямство сына. Поехали они как-то охотиться на лося. С ними были только двое стременных. Сидели возле костра над рекой. На гладкой поверхности воды ярко отражались огни костра. По небу тянулась стая журавлей, за ней вторая, третья... Небо враз посерело от птиц, а воздух наполнился прощальным курлыканьем. Фёдор был особенно задумчив. Раза два взглянул на небо и снова уставился в костёр.
— Видел?
— Что? — не понял Фёдор.
— Журавлей... Всегда клином летят и ни разу не собьются. И не оглянутся назад, токмо курлычут печально.
— Ну, так...
— Люблю на небо смотреть, когда журавли летят. Доброе предзнаменование человеку они дают.
— Какое предзнаменование?
— А такое, что ежели человек мнит себя токмо в минувшем, он отпадает от Бога. Господь полагает силу и благодать в дне грядущем.
— Ты ошибаешься, отец. Для меня Елена Ивановна Шереметева — не минувшее...
— Ну, не рад, что заговорил, имя её назвал. Но я скажу, что всё это в тебе пустые мечтания... Поверь мне, сын, ибо я на свете и пожил много и всего насмотрелся. Так вот что я скажу тебе ещё. Любовь — это когда девка бывает с тобой счастливой. А ежели она не познала с тобой счастья — какая тут любовь? Один морок и опять же пустые мечтания. Твоя настырность приносит Елене лишь страдания.
Фёдор озадаченно молчал. Он смутно чувствовал правоту слов отца. Елена действительно не была с ним счастливой. Встречи с ним пугали её, она всё чего-то боялась. Но он не хотел соглашаться с отцом. Разве он не любил Елену? Фёдор представил себе её кроткое лицо, любящий взор. Они оба страдают, и оба несчастны. Но разве в том их вина?
— Я к тому говорю, — продолжал Никита Романович, — что не судьба была тебе любиться с ней. Правду в народе говорят: «Кому на ком жениться, тот в того и родится». Я много на своём веку перевидал девок и баб и скажу тебе: суженую и на коне не объедешь.
— Суженую? А как же любовь? Или всё начинается без любви?
Этот вопрос несколько смутил Никиту Романовича. Он помедлил с ответом, произнёс неопределённо:
— Бывает и так...
И, словно спохватившись, что выдал сыну ранее никому не выговоренное, он сказал как о деле решённом:
— Однако суженого, как и суженую, на коне не объедешь!
Фёдору стало больно. Каждое слово язвило ему душу. Вспомнилось вдруг, как боярыня Шереметева сказала ему: «Очи у тебя соколиные и брови соболиные, но ты не наш сокол». Преодолевая в себе эту боль, Фёдор ответил отцу:
— Не торопи меня, батюшка... Дай мне срок самому решить.
ГЛАВА 22 ПОТАЁННАЯ СВАДЬБА
Горем, нежданным была для семьи Захарьиных смерть Евдокии Александровны, хотя в последние годы она часто болела. Всем казалось, что беда случилась как-то вдруг. Домочадцы ходили как потерянные, среди челяди начались настроения всякие и досады многие. Накануне похорон к подворью Захарьиных стеклись люди. Народу было множество, московских и приезжих из уездов. В боярском доме и на подворье ставилось немало поминальных столов. А так как погребение, согласно церковному чину, было к ночи, то силу взяли люди разбойные и делали всё по своей воле. На улицах грабили и убивали. Опасные людишки содеяли много зла и на подворье Захарьиных. Сыскались убитые, изувеченные, были разграблены подвалы с винами и запасами зерна.
Как говорится, беда не приходит одна. Смерть супруги Никиты Романовича была лишь предвестием печального конца его жизни. И не раз скажет он, мысленно обращаясь к покойной жене: «Ох, матушка моя, кому-то радость, а нам одно лихо».
На плечи Никиты Романовича сразу легли все заботы о взрослых детях. Дочь Анастасию он без особых хлопот выдал замуж за князя Лыкова-Оболенского. А с сыновьями было полное неустройство. Невест для них было труднее приискать, чем жениха для дочери, да и жениться не хотели, точно бирюки, попрятались в усадьбе. Все — в покойную матку-нелюдимку. А сын Александр начал ещё и поучать отца: «Семейные люди, батюшка, созревают втайне». Никита Романович нет-нет да и подумывал о том, чтобы жениться самому... Как ему, больному и старому, доживать свою жизнь одному?
Но пока он думал да гадал, как обустроить свою жизнь, случилось событие, с которым историки станут связывать грядущие перемены в государственной жизни Руси. Состоялась свадьба царевича Фёдора и сестры Бориса Годунова — Ирины Фёдоровны. Новые узлы завязались в личных судьбах людей, а более всего — в жизни Захарьиных-Романовых, спустя несколько лет после этой свадьбы. Новой болью отозвалось минувшее. Но кто тогда мог это предвидеть! Недаром говорится: «Голос судьбы подсказывает тихо».
Не простая то была свадьба. Не случайно её будут называть потаённой. Царь взял к себе во дворец Бориса и сестру его Ирину ещё малолетними и питал от своего стола. Ирину он предназначал в невесты своему сыну, и когда настало время свадьбы, она прошла без торжественного свадебного пира, без соблюдения всех свадебных обрядов, как бы утайкой. Позже станут говорить, что такова была воля Бориса Годунова.
И это было похоже на истину. Годунов был человеком суеверным. Он так дорожил этой свадьбой, с которой связывал свои виды на будущее, что пуще всего опасался сглаза, и, значит, чем меньше будет на свадьбе людей, тем безопаснее. Известно также, что он избегал досужих разговоров и старался как можно меньше привлекать внимания к собственной особе. И это тоже не без основания, ибо Годунов в короткий срок проделал немыслимо быструю карьеру. Ещё в 1570 году он исполнял должность рынды, не сулившую как будто особенных успехов, так как для рынды требовалась лишь красивая внешность. Но в 1577 году Годунов уже кравчий, в особом приближении у царя, как лицо, ответственное за его стол. А в 1580 году он стал боярином. Случай исключительный: служилое лицо получило боярство, минуя окольничество. Этого безуспешно добивался Малюта Скуратов, не говоря уже о людях, менее значительных при дворе.
Годунов имел великое бережение к себе. Разумеется, он скрывал это, царю же говорил, что свадьбу лучше справить в домашней церкви: не помешали бы бояре. Царевич Фёдор, опасаясь измены, согласился с Борисом и, видимо, похвалил его за предусмотрительность.
И вот потаённая свадьба.
Известно, что старинный свадебный чин на Руси был богат строго соблюдаемыми обычаями, и если царь задумал женить царевича, ему надлежит прежде посоветоваться с патриархом, с боярами, с думными людьми. Невесту до свадьбы берут в царские покои. Накануне венчания свахи обряжают невесту.
Для бояр и отдельно для боярынь настилают богатые столы. Для царевича с невестой — стол особый. Духовник царя благословляет молодых крестом и велит им учинить целование. А венчаются в соборной церкви. Молодые прикладываются к образам и святым мощам.
Тем временем раздаются богатые дары — патриарху, священнику, тысяцкому, боярам, дружкам. Перед тем как пойти в церковь для венчания, бывает три стола. А как пойдут в церковь, то звонят во все колокола, а в церквях молят Бога о здоровье царевича и его невесты и о сочетании их законным браком.
Однако на свадьбе царевича Фёдора пышные церемонии были устранены. Палата, где должна быть свадьба, была не обита бархатом, а расписана в духе Александровской слободы, полы и лавки устланы персидскими и турецкими коврами. Для царя отвели отдельное место, для царевича с невестой тоже. Невеста была в царственном одеянии, на ней красовался девичий венец. Она сидела рядом с царевичем на устроенном для них месте, находившемся на возвышении. Остальные стояли, ожидая прихода царя. Не было обычного в таких случаях многолюдства, не было и свадебного поезда. Обращало на себя внимание отсутствие лиц духовного звания. Слуг тоже не было — их место занимали стольники, окольничие.
Одежда гостей отличалась необычайной пышностью. Бархатные и парчовые кафтаны удивляли шитьём редкой красоты. На пальцах блестели драгоценные перстни.
Но вот запели колокола, затрубили трубы, и появился царь. Он был оживлён, хотя и не так бодр, как бывало. Плечи ссутулились, спина слегка горбатилась. Вместе с ним вышел и его духовник — дворцовый протопоп — такой же старик, как и царь. Он благословил жениха с невестой, затем дружек и прочих гостей, осенил их крестом, произнеся: «Благослови, Бог!» Все склонились перед ним в низком поклоне.
Когда Иоанн занял царское место, все сели. Он был в красной парчовой одежде с узорами. Кайма вдоль разреза сверкала драгоценными каменьями. На шее — ожерелье с изображением Спасителя, Богоматери и апостолов. На груди — большой крест на золотой цепи.
Протопоп читал молитву, остальные крестились, глядя на образа.
Было замечено, что царь весел, что, войдя в палату, он особенно внимательно посмотрел на Бориса Годунова, который вместе с родственниками жениха и невесты сидел по правую сторону от них. Затем Иоанн перевёл взгляд на царевича Ивана, и когда передавали блюда, первое и второе, он ещё не раз переводил взгляд с царевича Ивана на Годунова. Царевич и Годунов как будто не замечали этого и усердно занимались насыщением. Стольники едва успевали вносить и выносить блюда. Тут были жареные павлины, осётры, курники, перепела с чесночной подливкой, кулебяки.
Царевич Иван много пил. Казалось, он был занят досаждавшими ему мыслями. С правой стороны рта у него появилась новая резкая складка — след недавно пережитого страдания. Он чувствовал, что против его новой жены тоже пошли какие-то козни, как это было с прежними его жёнами, недаром родитель не велел ему брать Елену с собой на пир. Царевич видел в этом недобрый умысел Годунова: хочет, видно, чтобы его сестра Ирина была единственной царской невесткой.
Вот отчего царевич то и дело поглядывал на Годунова. Побледнее время ни о ком он столько не думал, как о том, кого не смел называть татарином даже в кругу друзей. Но воспоминания разве запретишь? И отчего-то чаще всего припоминалось, как Бориска несколько лет назад, тогда ещё рында, был на царской свадьбе дружкой со стороны невесты — Марфы Собакиной. Всех тогда поразило, что она занемогла на свадебном пиру и вскоре умерла. Царь обвинил бояр в отравлении. Но как сие могло случиться, ежели за царскими блюдами на пиру был строгий досмотр и кравчего и стольников?
В те дни царевич Иван впервые был не согласен со своим державным родителем, казнившим бояр по подозрению в отравлении Марфы. Кто же, однако, был повинен в её смерти? Кто, как не Бориска? Чего бы ради он захотел быть дружкой со стороны невесты? В Новгороде, откуда привезли Марфу, он не был, об отце её — новгородском купце Собакине — не ведал. И видно было, что лукавил дружка, хваля невесту. Мнилось царевичу, что и державному его родителю невеста была не по сердцу. Сгубили добрую девку. О многом думалось царевичу, в чём и себе самому не признался бы.
После новгородской резни царевич сильно изменился. Унаследованный от родителя жестокий нрав смягчился. В характере стала появляться материнская мягкость. Он всё чаще обнаруживал склонность к нравственной оценке людей, свободной от лицемерия и хитрости. Всё это не нравилось Иоанну. Во взаимоотношениях отца и сына возник холодок...
Однако на сегодняшнем пиру Иоанн был настроен добродушно и милостиво. У него была даже мысль сблизить сына с Борисом. В недобрых отношениях между ними он винил Ивана: горяч, неопытен, скор на злое слово. Ему и в голову не приходило, что Борис Годунов был потаённым врагом царевича Ивана, подобно Малюте Скуратову, который, однако был, лишён лицемерия и ненавидел открыто.
Странно проявлялись привязанности Иоанна. Малюту он любил за близкий себе нрав. Честолюбие, суровое недоверие к человеку, сладострастная жестокость сочетались в Малюте с открытым вызовом человечности. Бориса же Годунова Иоанн любил за несходство их нравов. Борис-сирота сразу привлёк его сердце смирением, тихостью и непритязательностью поведения, рассудительностью, склонностью к уединению, цельностью характера. Ему и в голову не приходило подозревать своего подопечного в лицемерии. К тому же Борис был красив, а царь любил красивых мужчин.
Заметив на пиру внимание сына к Борису, он первым делом подумал, что царевич Иван неравнодушен к нему, и решил поддеть сына весёлой насмешкой:
— Иване, ты пошто глаз с Бориса не спускаешь? Али он девка?
Царевич, однако, шутку не поддержал:
— Тебе ведомо, государь: на девок я не заглядываюсь.
Иоанну не понравилось, что сын как будто недоволен его шуткой. Иоанну почудилась в этом неприязнь к Борису. Но сын Иван и прежних его любимцев не жаловал. Но ранее это не так задевало царя, как ныне. Он продолжал хмуро наблюдать за сыном и вдруг спросил:
— Иване! Об чём думаешь? Сказывай!
— Думаю о том, какой милости ныне удостоился Борис... Сей благозаконный брак царевича Фёдора с Ириной...
Царевич хотел продолжать, но Иоанн, отвернувшись от него, обратился к гостям:
— Да будет ведомо всем, что Борис в милости нашего царского величества как есть сын, а не раб...
Тотчас послышались голоса:
— По достоинству сие... По достоинству...
— Нам ведомо твоё добронравие, государь.
— Вестимо, сироток возле сердца взлелеял.
— Богу-то угодно.
— Благодатный брак учинил...
Между тем стольники сняли с поставца и подали свадебный пирог, пышный, пахучий, весь в замысловатых вензелях и фигурках, искусно выложенный засахаренными сливами и кусочками груш, облитых янтарным мёдом. Гости, довольные тем, что можно было не продолжать опасную тему, занялись мальвазией. Это привозное сладкое вино обычно подавали на десерт. Первые князья и бояре, словно соревнуясь в красноречии, провозглашали здравицы молодым.
Когда гости после многочисленных здравиц осушили свои чаши и принялись за пирог, встал Никита Романович и, бросив взгляд на Годунова, взял кубок. Он произнёс, обратившись к царю:
— Дозволь, государь, поднять этот кубок за того, чьё усердие радует твоё сердце... Кто из нас, превосходящих его чином и знатностью рода, может сравниться с ним ловкой службой? В чьих советах более других нуждается государь? Кто умеет не перечить государю, а меж тем государь делает по его слову? Буди здрав, Борис Фёдорович! Нам ещё долго и не единожды учиться у тебя уму-разуму.
Все замерли — столь неожиданной была речь Никиты Романовича. Замечено было, что Годунов слушал его, не спуская взора с Иоанна. В бархате глаз Бориса была ласковая мягкость и одновременно звериная настороженность. Можно было понять, что он изучал каждое движение царя и делал свои выводы.
Но вот Иоанн повернулся к Никите Романовичу.
— Добро, Микита, добрую здравицу сказал. Давно не слышал от тебя столь мудрых слов...
И сразу все зашевелились.
— Ну ты, Микита, молчал долее всех и сказал лучше прочих, — первым отозвался боярин Мстиславский.
Во всё время речи Никиты Романовича он слушал особенно внимательно, и его похвала была искренней.
Старый князь давно навык в хитрых дворцовых интригах. Он знал, что царёв зять, как и сам царь, держал нелюбовь ко всем княжатам, стоял за выдвижение служилых людей, что в этом деле он был одних мыслей с Борисом Годуновым. Родовитому князю Ивану Фёдоровичу Мстиславскому, потомку Гедимина, было тяжко видеть, как нарушались старые обычаи, как начали брать силу новики и выдвиженцы. Да что станешь делать, коли мир раскололся надвое? И если нельзя разделившимся людям жить в мире, то без лукавства жить можно. Князь знал, что Никита Романович не любит Годунова, и, однако же, ради правды сказал слово верное, не лукавое, за что и похвалил его Мстиславский.
Князь Иван не умел говорить долго, но и того, что он сказал, было довольно, чтобы на пиру возобладал благостный настрой. Много добрых речей было говорено, много было и вина выпито, свадьба удалась на славу. И уж больно невестка Ирина была хороша. Красотой она затмила и женоподобного брата своего, облик неземной, как на иконе.
Но такая уж судьба была у Иоанна. Когда он бывал всего добрее, а в душе его устанавливался покой, с ним непременно случались какие-нибудь казусы и неприятности. Когда на другой день он со всей семьёй отправился на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, ему повстречался Василий Блаженный. Он стоял у самого входа в церковь. Был день преставления преподобного Сергия Радонежского. Лавра чудно сверкала золотом своих церквей. Сюда нескончаемым потоком текли люди — поклониться мощам святого и получить исцеление от недуга либо исполнение насущной просьбы.
На пятачке возле церкви было особенно людно. Но возле входа в храм было заметно какое-то движение — люди почтительно расступались перед юродивым. Он был высок ростом, полунаг и бос, на шее и груди не было привычных для Божиих людей вериг. Низко склонившись, он молился на изображение святого Сергия.
— Вася... И ты здесь? — тихо и обрадованно произнёс царь: из всех блаженных он особенно чтил этого юрода и любил слушать его пророчества.
Блаженный только что окончил молитву и, обернувшись на голос, назвавший его по имени, увидел Иоанна в окружении семейства. Лицо его оставалось бесстрастным. Так же бесстрастно оглядел он каждого из семьи царя и задержался глазами на Фёдоре. Затем сказал:
— Тебе править державой. Блюди род свой от волков в овечьей шкуре. Да не иссякнет корень царский, да не падёт царство...
Все онемели от этих слов. Здесь же, рядом с Фёдором, стоял его старший брат, которому судьбой было назначено первым наследовать престол. Или не видит юрод Ивана-молодого? Или забыл о нём? Но никто не смеет оспорить пророчество либо выказать недоумение. И лишь трепетно ожидают: что ещё напророчит юрод?
Василия Блаженного почитали за святого ещё при жизни, а после его смерти была написана икона «Василий Блаженный». Иконописец точно передал мудрость и суровую пророческую зоркость взгляда юродивого, несколько смягчённую чувством смирения, которым проникнуты его тонкие черты.
И сейчас, когда Блаженный стоял перед царским семейством, всех поразила именно пророческая суровость юродивого взгляда. Неожиданно глаза его остановились на Годунове, и из уст его зазвучали слова из Ветхого Завета:
— «И сказал Соломон: если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадёт на землю; если же найдётся в нём лукавство, то умрёт».
Снова в глубоком молчании потонули эти пророческие слова. Внезапно юрода повернулся и пошёл прочь, сопровождаемый могучим колокольным звоном.
Вскоре Грозный-царь вспомнит эту встречу с Блаженным, когда на своих плечах будет нести тело почившего, чтобы похоронить его у стены собора Покрова, «что на рву», ныне — Василия Блаженного. Царя сопровождала его семья, на судьбу которой уже легла тень пророчества святого Василия.
ГЛАВА 23 МЯТЕЖНЫЙ СЫН
Весть о свадьбе царевича Фёдора с Ириной Годуновой скоро облетела всю Москву. Толковали всякое. Молва не по лесу ходит — по людям, расходится шумно, что волна.
В Москве хорошо знали Никиту Романовича. Недаром в народных песнях будет не раз склоняться его имя. Вот и ныне не осталось без внимания его похвальное слово Годунову. Многие гадали, что бы оно значило, и многие склонялись к тому, что Захарьиным-Романовым быть теперь под властью Годунова.
Легко представить себе, как был раздосадован этими слухами Фёдор, не терпевший Бориску. Он догадывался, что его отец, гордый своим родством с царём, испугался опасного соперника. Фёдору было горько, что отец его показал как бы свою слабость перед человеком менее значительным, чем он сам. Или наше родство с царями не более древнее? Или неведомо всем, сколь сильно влияние Никиты Романовича «при дворе»? — роптал он.
Фёдор вспомнил, с какой гордостью рассказывал отец родословную Захарьиных. Дочь его прародителя Фёдора Кошки вышла замуж за князя Тверского, внучка стала женой князя Боровского, сына князя Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Донского, а на внучке Фёдора Кошки, Марии Ярославне, женился Василий Тёмный, отец Ивана III. Значит, у Никиты Романовича и царя Ивана Грозного была одна прабабушка — племени Кошкиных.
В жилах Захарьиных-Романовых текла царская кровь! Вот и злобится на них потомок татарского мурзы Чета.
Фёдор с нетерпением ожидал, что скажет ему отец о свадьбе царевича и о своём заздравном слове Годунову, и сам готовился к этой встрече. Последнее время он особенно усердно читал книги по древней истории и писания античных мудрецов. Он знал многие примеры, какой жестокой испокон веков была борьба за власть, и не знал ни одного примера отказа от этой борьбы в пользу соперника.
Ужели отец думает добиться успеха в жизни, отступая перед Годуновым? «Чья сила, того и действие». «...Сильнее тот, кто первый». Кто оспорит эту мысль Горация?! И он, Фёдор, будет добиваться своего, пока полон сил и далёк от старости. И добиваться всеми силами, изо всех сил, как поучал его любимый мудрец. Иначе власть и влияние станут перехватывать разные выходцы, чужеродные потомки.
Была среда. Десятый час утра. По заведённому порядку Фёдор должен был являться в этот час к отцу с докладом о своих занятиях и выполненных поручениях. Но на сей раз он подготовил ещё «подковырки». Может быть, отныне отец велит ему кланяться Годунову? Или уже ничего не значат слова, кои родитель любил повторять: «Доброе имя значит больше, чем богатство»?!
Но, сколь ни вооружённым чувствовал себя Фёдор для разговора с отцом, сколь ни разумными казались ему пришедшие на ум доводы, где-то в подсознании мелькала мысль, как бы снова отец не взял над ним перевес. Тогда все заранее заготовленные слова окажутся ничтожными.
По взгляду, какой отец бросил на него, Фёдор понял, что он его ожидал. Широкий стол в середине кабинета был завален книгами и бумагами. В развёрнутой перед отцом книге Фёдор узнал «Поучение» Мономаха.
Последнее время Никита Романович заметно изменился. Борода стала совсем сивой, а щёки одутловатыми. Только взгляд был по-прежнему ясен и проницателен.
Предчувствия Фёдора оправдались. Заранее заготовленные слова не сгодились. Отец не задал обычных вопросов о здоровье, о занятиях, а начал с ходу:
— А, Фёдор! Садись. Перед тем как войти тебе, из сей книги вынулось мною слово. А я давно заметил: какое слово вынется, то и нужно душе. Слушай: «Научись, верующий человек, быть благочестивым свершителем, научись, по евангельскому слову, очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех».
Оторвавшись от книги, он внимательно вгляделся в лицо сына.
— Что хмуришься, Федя? Али не люба тебе сия грамотка?
— Дозволь сказать тебе, отец, по правде. Мономах слагал сие «Поучение» в старости, отходя к жизни вечной. А в жизни земной он творил немало противного сему...
— То так, — произнёс с некоторой досадой Никита Романович, — однако, ежели бы у наших прародителей не превозмогала любовь к правде, мне не довелось бы ныне говорить о «Поучении» Мономаха. И государю по душе сия книга.
— Тебе лучше знать, что по душе государю. Но где она — правда? Станем ли говорить о государевых делах? Но где правда о деяниях нашего племени? Борьба за власть, за достоинство и честь, усердная служба великим князьям... Но где борьба за правду? А может быть, самой правды в помине не было и нет?
Никита Романович смотрел на сына в горестном изумлении. Он не ожидал от него этих слов. А Фёдор от волнения даже поднялся с места и, приблизившись к отцу, начал вспоминать исторические события, но отчего-то концы с концами у него вязались худо...
Никита Романович устало махнул рукой.
— Садись. И откуда ты такой умный взялся? Из какого яйца вылупился? О-хо-хохоньки, сыночка родного вырастить... Сам узнаешь, как сына родишь. Сыночка воспитать — это тебе не курочек посчитать.
Окинув Фёдора насмешливым взглядом, Никита Романович продолжал:
— Тебе, Фёдор, не пристало бездельные речи вести. Не забывай, ты из рода Захарьиных, а Захарьины умели выстоять перед любой бедой, сын мой! Чего токмо не испытали прародители наши, но — устояли. И ныне крепко стоим. И, чаю, царствование племени нашего будет прервано лишь с концом света.
— Царствование племени нашего? — переспросил Фёдор.
— Или мы не царствовали при великих князьях? Кто нас одолел? Кто опередил? Никто! И знаешь почему, сын мой? Порода у нас такая. Придёт беда — мы склоняемся, но не гнёмся. Временем в горку, а временем — в норку. Ты осуждаешь меня, что я поклонился Годунову. Вижу, осуждаешь.
— Или это не срам Захарьиным?
— А ежели и срам? Али запамятовал слова мудреца: «И срам хорош, коли за дело доброе»? Чуешь? «За дело доброе»! Али забыл, как Александр Невский поклонился хану, признал его властелином и тем добился мира с ним, дабы отвести беду страшную с севера, угрозу рыцарей-меченосцев...
— Какую угрозу видишь ты в Борисе? — спросил Фёдор.
Никита Романович почувствовал, что слова его возымели действие.
— Борис зело хитроумен, и гроза может прийти, откуда не ждёшь. Ныне пора изготовиться к защите.
— На предмет чего ворог мой начнёт зло умышлять?
— Помнишь, я рассказывал тебе о войне нашего племени с Глинскими? — вместо ответа спросил Никита Романович.
— Да, помню. Глинские не хотели уступать своих прав. У царя Ивана не было родни ближе их. Анне Глинской он приходился родным внуком, а её сыновья были ему дядьями.
— И всё же одолели мы, Захарьины. Ты спросишь — почему? Этого до сих пор никто не знает. Никто, кроме меня. Был один коварник, что доводил до царя, будто его бабка Анна — ведьма. А слабостью царя, его ахиллесовой пятой был страх перед чародейством и колдовством, и ради этого страха он не пощадил бы и родной матери.
— И не было никого, кто защитил бы Глинских, отвёл наветы?
— А какая у них родня? Все Глинские — царёвы дядья — были неженаты. Заступничества откуда им было чаять?
Никита Романович помолчал.
— Мы, Захарьины, також все бы сгибли, ежели не пустили бы свои корни в самых сильных родовых кланах.
«Вот оно, ради чего батюшка затеял сию беседу», — промелькнуло в уме у Фёдора.
— Ныне, чаю, новая гроза на племя наше надвигается, — продолжал Никита Романович, — а дабы ослабить действие грозы, мы через дочерей наших породнились с влиятельными князьями Черкасскими да Сицкими. А что у меня наперёд на думке — ты знаешь. Борис Годунов в дружбе с Михайлой Салтыковым...
«Значит, не отступил отец от задумки женить меня на Ксении Шестовой», — понял Фёдор, готовый к бунту.
— Ты, вижу, понял, к чему я клоню. Женитьба на Ксении Шестовой укрепит нашу партию при царском дворе. Ксения — родня Салтыковых.
— Гроза — когда она ещё будет, а может, и стороной пройдёт, — возразил Фёдор.
Он понимал, что трудно будет ему одолеть упорство отца. Он сам надумал завести новую семью, да неудобно старому жениться раньше сына.
Никогда ещё Фёдор не чувствовал себя столь одиноким, как в эти дни. Он начал скучать по царевичу, часто приходили на память счастливые часы, проведённые с ним на охоте. Даже с братом Александром не был он в таком единомыслии, как с царевичем. Его уже не удивляло, что даже по Елене он не тосковал так, как по брательнику Ивану. Что ж, коли не судьба сойтись вместе на веки вечные... Иван — иное дело.
И Фёдор стал подстерегать случай повидаться с царевичем наедине.
ГЛАВА 24 «СТРОГИЕ ГЛАЗА — НЕ ГРОЗА»
После Новгорода в жизни Фёдора наступила мрачная полоса. Неожиданно умерла его мать, которую он особенно любил и которой был обязан духовностью и аристократическим воспитанием. Будучи из рода князей Суздальских-Шуйских, Евдокия Александровна внушила сыну высокие понятия о чести и достоинстве древних княжеских родов.
Чтобы легче было перенести горе, Фёдор поехал в Москву, где занялся чтением книг, на которые указала ему мать. Кроме того, он опасался, что отец станет понуждать его к женитьбе, о чём было говорено до смерти матушки.
Но события развивались по иному руслу: отец по окончании срока траура решил жениться сам.
После свадьбы, сыгранной скромно, в узком домашнем кругу, в доме Захарьиных появилась новая хозяйка — Дарья Головина. Это была пышнотелая, русоголовая, большеглазая женщина, довольно пригожая собой. Выбор Никиты Романовича определился, очевидно, богатством невесты и знатностью её рода.
Фёдору не понравилась мачеха. Она была полной противоположностью покойной матушке, разбитная, говорливая, общительная. В доме Захарьиных, некогда строго патриархальном, появилась шумная родня мачехи. Приходили какие-то люди, за порядком следили новые слуги. Мачеха затеяла заново обить стены в доме.
Фёдор повесил на двери своей комнаты замок, опасаясь непрошеных гостей. Сам он часами не бывал дома. Часто гостил у своих родственников, к чему прежде был не склонен. Отец строго поглядывал на него, словно хотел сказать: «Пора тебе, мой старший сын, жениться. За тобой и остальные станут склоняться, чтобы зажить собственным домом». Никита Романович не только думал об этом, но и действовал: на обширной усадьбе Захарьиных строились новые хоромы.
Никита Романович что-то обдумывал. Однажды он позвал Фёдора в конюшню. В руках у него была уздечка.
— Вот подарок соседа нашего Ивана Васильевича Шестова.
Фёдор знал толк в лошадиной сбруе. Это была сборная упряжная узда, явно иноземная. Ремни покрыты узорчатой отделкой, нащечные ремни, налобник и намордник мягче и шире обычных. Подвесок с красивой турецкой кистью. Надглазники из обычной мягкой кожи. Четыре повода у мундштука попрочнее наших. Недаром говорят: «Узда дороже лошади». А турки не только говорят, но и делают отменную узду.
Довольный впечатлением, которое произвёл подарок, Никита Романович положил уздечку на широкую полку и взял в руки седло. Фёдор впервые видел такое седло. Это был небольшой остов с подушкой, пристегивающейся к сиденью. Золотая оправа на седле украшена чеканным орнаментом, на рисунке — диковинные травы, львы и какие-то неведомые птицы.
— Турецкое?
— Персидское, — с гордостью ответил Никита Романович, и на лице его было написано: «Такого и у царя нет!»
«Неужели мне?» — промелькнуло в уме Фёдора. Однако Никита Романович тут же рассеял его надежду, сказав:
— Ежели подарок хорош, доброму быть и отдарку. Да и сосед наш, Иван Васильевич, знатен и добронравен. Ему сия честь по душе будет.
— Меня-то пошто в грех вводишь, дразня этакой красотой? — усмехнулся Фёдор, стараясь за шуткой скрыть раздражение.
— Не завидуй. И тебе будет подарок не хуже. Не торопи события. А пока свези сие седло соседу нашему, князю Шестову.
— Не неволь, отец! Не поеду!
Никита Романович вгляделся в хмурое лицо сына. Ишь как упрямо и сердито застыли уголки рта!
— Я бы тебя не неволил, Федюня, да слово сорвалось. Сказал соседям: приедет-де к вам сын с отдарком. Али хочешь, чтобы отца брехуном ославили?
— А в посмех нас обратят — это лучше?
— Как так? — не понял Никита Романович.
— Уздечку тебе соседи прислали в подарок — думаешь, без умысла? Мы, мол, Захарьиных уздою подтянем, в шоры их возьмём...
— Ты, Фёдор, скоро в умники попал, да из дурней вышел ли? Зачем бы наш сосед стал строить такие каверзы, ежели он ждёт, когда мы сватов засылать к нему будем? Да ежели бы и пришло ему такое на ум, наш отдарок також в кон попадёт. Тех, кто захочет нас в шоры взять, мы и сами заседлать можем.
Долго ли, коротко ли длился разговор отца с сыном, но утром следующего дня Фёдор уже подъезжал к усадьбе Шестовых. Давно не бывал он у соседей, оттого вначале он подумал, что забрал несколько левее. Места показались ему незнакомыми. Там, где были обширные кустарниковые заросли, за которыми начинался выгон для гусей, ныне широко раскинулся сад с примыкающими к нему огородами и с разбросанными по ним чучелами. Но вскоре Фёдор узнал деревеньку Шестовых, хотя вид её тоже был не прежний. Заметно выделялись новые хаты, покрытые добротным тёсом. Многие подворья были хорошо обихожены. Слышался скрип колёс и колодезного журавля. Только боярский терем, казалось, не был подвержен влиянию времени и не хотел меняться. Обширный дом в два этажа с пристройкой радовал глаз дивным деревянным узорочьем. Карнизы под крышей, наличники окон ласкали взгляд тонкой искусной резьбой. Чисто выскобленный тёс, прикрывавший пристройку, блестел на солнце точно зеркало.
На подворье была суета. Запрягали лошадей, загружали мешками телеги, раздавались звуки ручной мельницы, две девки замешивали возле скотного двора еду для визжавших от нетерпения поросят. Чувствовалось, что хозяева имения хлопотали от зари до зари. Из верхних окон доносилось тонкое жужжание прялок. Видимо, женская половина дома была уже за работой.
Фёдор поднял глаза. Из окна выглянула пригожая девица в кокошнике. Тугие щёки и выбившиеся из-под кокошника тёмные пряди волос нежно золотились на солнце, но небольшие глаза были строгими. Девица, думая, что её не видно за слюдяным покрытием окна, внимательно смотрела на спешившегося в эту минуту Фёдора, смотрела так, словно знала, кто он и зачем приехал. Фёдору стало немного не по себе. Он догадался, что это и была хозяйская дочь Ксения.
В эту минуту раздался резкий властный голос хозяйки:
— Огрей его плетью, не смотри, что барин!
Показалась и сама хозяйка, низенькая, полная, в красном, тканном серебром сарафане, с кикой на голове. Но тут её маленькие острые глазки заметили знатного гостя, и она перестала браниться.
Фёдору захотелось тотчас же уехать. С ним и прежде такое случалось. Стоило ему появиться среди людей, как с него слетала свойственная ему насмешливая беспечность, возникала хмурая приглядка к окружающему. Он плохо воспринимал то, что творилось, собственная мысль билась, словно в тенётах, и хотелось скорее оседлать коня.
Между тем лицо хозяйки при виде Фёдора враз смягчилось. Она спросила:
— Издалека, чай, прибыли? И чей же будете?
— Сын Никиты Романовича Захарьина.
— Пойдёмте, гостечка дорогой, в наши палаты! Пропуская гостя вперёд, она пошла за ним следом и, пока шли в столовую, всё смотрела на ящик в руках гостя.
Чувствуя её женское нетерпение, Фёдор вынул из ящика седло и положил его на скамью.
— Это от Никиты Романовича твоему хозяину.
Хозяйка даже руками всплеснула — так понравился ей подарок.
— Знатное седло... Ни у кого такого нет, — произнесла она, погладив рукой голубую эмаль и чеканный орнамент на золотой оправе.
С минуту она благоговейно молчала, затем сердито зыкнула на дворецкого, который робко заглянул в дверь, пропуская в столовую ароматы кухни.
— Чего уставился? Вели нести угощение.
Тем временем дом наполнился соблазнительным запахом блинцов на топлёном масле, расстегая с сомом и травяными приправами и ароматом колбасы, запечённой в луке. Для любителя поесть эти запахи были приятным искушением. Фёдор, ещё минуту назад собиравшийся уехать, теперь сидел с хозяйкой, отвечая на её вопросы.
— Эко оружие у тебя... Не видывала такого.
Хозяйка потрогала серебряную фигурную рукоятку оружия, погладила пальцами дорогие каменья, которыми она была отделана.
— Где добыл такое-то?
— В оружейной лавке.
— И сколько денег отдал?
— Много... — улыбнулся Фёдор.
— А в сумке у тебя что?
— Пороховница.
— Покажь и пороховницу.
«Ну ты, матушка, и дотошная», — подумал Фёдор, но пороховницу показал. Она была из блестящего перламутра в оправе. На дне пороховницы имелось углубление, напоминающее раковину.
Когда было подано угощение, разговорчивая хозяйка сникла. Она была охотница покушать.
Вилок в те времена не было. Ели руками. Фёдор то и дело вытирал руки вышитым полотенцем, удивляясь, как хозяйка обходится без него. Убранство столовой было неприхотливым — по старине. Добро да богатство напоказ не выставляли, опасаясь нашествия гостей незваных. Минуло иго татарское, но оставались набеги крымского хана, столь же внезапные, сколь и опустошительные. Оттого и не обзаводились дорогой утварью, а какая была прятали подалее.
Но для дорогого гостя хозяйка велела накрыть стол камчатой скатертью и поставить мальвазию, а к ней два серебряных кубка — гостю и себе. А ещё чаши с мёдом. Одно не понравилось Фёдору: хозяйка вела разговоры всё больше о пеньке да тёсе и, провожая гостя, не удержалась, дала наказ:
— Ты батюшке-то своему скажи: больно дёшевы и пенька, и тёс. И дёгтю ныне много накачали. Чем в Москве втридорога платить, купили бы у нас за полцены.
Фёдор обещал, но поспешил встать из-за стола, торопясь отделаться от старухи, которая становилась не в меру назойливой.
Вернувшись домой, он дал волю своим чувствам.
— Что хмуришься? — спросил Никита Романович, взглянув на вошедшего сына. — Али подарок мой не по нраву хозяину?
— Иван Васильевич в отъезде. Сама взяла подарок, хвалила.
— Что же ты не весел? Али худо приняла? Али хоромы у Шестовых тебе не понравились?
— Грех сказать так. Хозяйка была добра со мной. И хоромы у них важные. Да что с того? Мне в них не жить...
Никита Романович внимательно посмотрел на сына.
— Не зарекайся, Фёдор. Скажи лучше, чем тебе Марья Шестова не по нраву пришлась?
— Не по нраву — и всё...
— Пошто не захотел невесту повидать?
— Разговору о том не было. Да я видел её в окошке.
— А она тебя видела?
— Ну! Глазами так и ест... Волчица. И сколько смотрела — ни разу не усмехнулась. Глаза строгие, не девка, а матка...
— А ты, сын мой, ещё мало жил на свете. Строгие глаза — не гроза.
— Всё одно — жениться на девке Шестовых я не буду!
Никита Романович ничего не ответил, сказав себе самому: «Дай тесту перебродить на своих дрожжах!»
ГЛАВА 25 «ПОСЕЛИ В ДОМЕ ТВОЁМ ЧУЖОГО...»
Последнее время Фёдор вновь сошёлся с царевичем Иваном, подтверждая тем заведомую истину, что люди, живущие в единомыслии и подвластные одним интересам и одним бедам, не могут надолго поссориться. Фёдор первый не выдержал одиночества. У царевича была Елена и многие обязательства, налагаемые на него государем. А Фёдор, утратив дружбу царевича, лишился духовного очага и важных для него связей. Но царевич и сам скучал по Фёдору, и, хотя прошлое как будто мешало полному доверию между ними, когда стало известно, что Елена ждёт ребёнка, Фёдор первый понял, что все серьёзные недоразумения между ним и царевичем остались позади.
Отныне их разлучали лишь частые поездки царевича по поручению родителя — то в Польшу, то в Швецию. Положение русского государства в войне с этими державами было тяжёлым. Поляки упорно осаждали Псков, но облачённые в доспехи иноки Псково-Печорского монастыря мешали осуществлению их планов. Король Стефан Баторий безуспешно посылал льстивые грамоты защитникам крепости. Безуспешными были и вражеские подкопы под крепостную стену. Поляки не понимали, отчего, делая подкопы, воины не могли идти дальше: не иначе как это место — свято.
Сознание святости монастыря сковывало действия поляков.
Между тем шведы наносили один удар за другим по нашему войску и в короткое время взяли города Лоде, Нарву, перерезав пути торговли русских с Западом через Балтийское море. Военные действия были перенесены на русские земли. Шведы взяли Ивангород, Копорье, вторглись в новгородскую землю.
Как при таком раскладе сил воевать с двумя державами разом? Разумнее было замириться с польским королём Стефаном Баторием, чтобы пойти против общего врага — Швеции. Но Польша потребует всю Лифляндию, а, лишившись всей Лифляндии, как будут русские сноситься с Западом? Польша, однако, намеревалась идти на некоторые уступки при одном жёстком условии. Она требовала принятия Русью католицизма и была уверена в успехе. Посланец папы Григория XIII иезуит Поссевин писал кардиналу де Кома с циничной откровенностью: «Хлыст польского короля, может быть, является наилучшим средством для введения католицизма в Московии».
Чтобы уйти от этого бесполезного и опасного затягивания переговоров, царевич Иван настаивал на ускорении военно-дипломатического решения всех спорных вопросов. Благодаря его энергии и настойчивости появился «Приговор» царя с сыном и боярами: «Теперь, по конечной неволе, смотря по нынешнему времени, что литовский король со многими землями и шведский король стоят заодно, с литовским бы королём помириться на том: ливонские бы города, которые за государем, королю уступить, а Луки Великие и другие города, что король взял, пусть он уступит государю; а помирившись с королём Стефаном, стать на шведского, для чего тех городов, которые шведский взял, а также и Ревель, не писать в перемирные грамоты с королём Стефаном».
Однако выехать для участия в военно-дипломатических переговорах царевич не успел. Его домашние дела неожиданно приняли трагический оборот.
На всю жизнь врезался в память Фёдора этот роковой день. Тяжелее всего ранит печальное известие, которое не ожидаешь. Накануне у него расковался конь, а это дурная примета. Фёдор был ещё в том возрасте, когда над приметами смеются. Но тут смеяться не пришлось. Ненастным днём, под вечер, Фёдор сидел в кабинете с отцом, когда вошёл брат Александр. Он был бледен, проговорил вдруг не своим голосом:
— Царевич занемог. Сказывают, помереть может. — И, обратившись к Фёдору, добавил: — Велел тебя звать.
Фёдор вскочил, схватил брата за плечи.
— Не томи душу! Какая беда приключилась с царевичем?
Александр убавил голос почти до шёпота:
— Государь прибил посохом.
До царского терема рукой подать, но Фёдору этот краткий отрезок пути показался долгим. Лихорадочно припомнилась последняя встреча с царевичем и весь разговор с ним. Фёдор спросил его:
— Что, Иван, хмур ныне?
— Государь сердится, опалился на мои слова, когда я заметил, что наша покойная матушка вспоминала из Писания: «Посели в доме твоём чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для других». «Твоя матушка это к слову говаривала, когда я сказывал ей, в какой тесноте сызмальства держали меня бояре, домашние вороги мои. А ты пошто матушкины слова на память взял?» — «Государь-батюшка, ныне мы сами в тесноте живём, как ты Бориса поселил. Он всё в свою волю переводит, а нам житья не стало. Да и ты, батюшка, начал отдаляться от нас. Взор твой стал строже, а слова запальчивее. Ты Борису более веры даёшь, чем нам. Скажи, родимый, каким ведовством овладел Борис твоим сердцем?» Я понял, что о ведовстве не надо было упоминать. Государь гневно сверкнул очами и сжал в руке посох, но понемногу остыл и произнёс спокойно: «Впредь не говори мне дурно о Борисе».
Весь этот разговор живо припомнился Фёдору, когда он спешил в хоромы к царевичу на его зов. Ужели государь прибил его за Бориса?
В палате царевича было душно, окна занавешены. Горели свечи. Фёдор приблизился к его ложу. Царевич дремал. Белая повязка на его голове усиливала впечатление мучнистой бледности лица. Звуки шагов разбудили его. Увидев Фёдора, царевич слабо улыбнулся и отослал сидевшую у его изголовья монашку. Фёдор нагнулся к нему.
— Иван, глубока ли твоя рана? Я велю послать к тебе нашего доктора.
— Лекарей тут много перебывало. За мной досматривает знатный целитель ран из Неметчины.
— Чем мне помочь тебе, родимый?
— Ежели что... Блюдите государя-батюшку. Очень он убивается, яко повинен в болезни моей.
Царевич замолчал, собираясь с силами.
— Брательник, болеет сердце о батюшке. Слушай меня: коли пойдёт худая молва про батюшкину вину, пресекай молву. Во всём повинен Бориска. Не будь его рядом, я уклонился бы от шального удара. Но Бориска упёрся в меня тяжёлым взглядом, а рукой будто хотел отвести удар государева посоха. Это ещё больше разгневало батюшку.
Фёдор знал, что так и было. Как искусно ни притворялся Годунов доброжелателем царской семьи, но в душе оставался достойным потомком мурзы Чета, которого привела на Русь жажда власти и богатства.
Царевич на короткое время забылся, а когда пришёл в себя, на его хмуром лице появилось выражение тревожной заботы.
— Нам неведома воля Господа. Может быть, эта ночь будет для меня последней. Не погнушайся моей просьбы, брательник. Елена с дитём ходит. Коли со мной приключится беда, я велел ей дать тебе знать, когда придёт ей время... Так ты загодя найди лекаря и бабку повивальную. Да чтоб никто о том не ведал!
Бедный страдалец! Он не только жил с постоянной опаской, он и умирал с мыслью, как уберечь жену и дитя от тайного коварного врага — Бориса Годунова.
Фёдор обещал всё исполнить. С лица царевича исчезло хмурое напряжение, он уснул успокоенным.
Через четыре дня его не стало.
Дальнейшие события развивались тяжко и непредсказуемо, а многое тайное сделалось явным. Верный данному слову, Фёдор поручил несчастную Елену попечительству своей мачехи — Дарьи Головиной. Ей-то и доверила убитая горем вдова свою тайну. Будучи нездоровой,.Елена лежала у себя в комнате в исподнем платье. Распалённый запретной страстью, к ней вошёл царь. Встретив отказ, он разгневался и избил Елену, а сыну Ивану объяснил свой гнев тем, что нашёл её неприбранной, а это считалось неприличным для знатной женщины.
Иван Грозный принадлежал к числу людей, коих в народе зовут снохачами. Сластолюбивый царь распалялся страстью и к Ирине, супруге Фёдора, и, получив отказ, почему-то не разгневался на неё, как это было в случае с Еленой. Не оттого ли, что гнев к Елене исподволь подогревался то седьмой супругой царя Марьей Нагой, то Борисом Годуновым? Царице Марье Елена была нелюба уже тем, что, родись у неё сын, он мог бы соперничать в борьбе за трон с наследником, коего могла бы родить она.
Объяснение с сыном состоялось в присутствии Годунова. Сострадая жене, которая ждала ребёнка, царевич запальчиво возразил родителю, за что и был прибит им.
Дарья обещала хранить молчание, ходила с опущенным взглядом, и последнюю тайну своей жизни Елена унесла с собой в могилу.
Почему у неё родился мёртвый ребёнок? Если бы это случилось сразу же после смерти царевича или его похорон, можно было бы объяснить эту беду тяжёлым потрясением. Но это произошло несколько позднее. Почему не была предуведомлена о том Дарья Головина-Захарьина о том, о чём было заранее условлено, а похороны мёртвого ребёнка совершились негласно? О самой Елене Ивановне толковали всякое. Одни говорили, что она умерла, другие — что была пострижена.
...Угнетённый сознанием, что ему не удалось исполнить предсмертную волю царевича, Фёдор решил поехать в Суздаль, где, по слухам, Елена была пострижена в Покровском монастыре. Смутная надежда увидеть её и желание вырваться хоть на время из привычных условий жизни побудили его пойти против воли родителя, остерегавшего сына от этой поездки. Не навлечь бы гнева царя!
ГЛАВА 26 ЖАЛОСТНАЯ ИСТОРИЯ
Был мягкий декабрьский морозец, сковавший раскисшие от осенних дождей дороги. Фёдор ехал лёгкой рысью, чувствуя, как дорога смягчает боль утраты, рождает мысли, которые, наверно, и не пришли бы ему в обычной жизни. Есть ли у него полная надежда, что он найдёт Елену в Суздале? Нет. Да и какая может быть надежда в этом безбожном мире, который его окружает! Так пусть хотя бы истина откроется ему. Вспомнились слова из Писания: «Вся земля взывает к истине, и небо благословляет её, и все дела трясутся и трепещут перед нею. И нет в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины... а истина пребывает и остаётся сильнее ввек, и живёт, и владычествует ввек века. И нет у ней лицеприятия и различения, но делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела её. И нет в суде её ничего неправого; она есть сила, и царство, и власть, и величие всех веков, благословен Бог истины!» Эти слова запали ему в душу, когда он перечитывал Писание после ссоры с царевичем, и он затвердил их наизусть. И не раз ещё они освежат ему душу и поддержат его на трудном пути жизни...
Дорога на Суздаль шла то полем, то лесом. Она была знакома ему. Несколько лет назад он ездил в село Борисовское, что лежало на полпути меж Владимиром и Суздалем. Иоанн подарил его Никите Романовичу за какую-то тайную услугу, а недели через две взял обратно. Это было древнейшее село. Оно принадлежало Ивану Калите, затем было завещано им сыну — Симеону Гордому.
Фёдор прислушался к журчанию ручья в низине. Он тёк со стороны села Батыево, названного так в память о том времени, когда здесь располагалась ставка Батыя на его пути к Суздалю. А вот и павловские дворы, далеко разбросанные друг от друга. Предание сохранило память о хозяйке этого села — жене Александра Невского, купившей Павловское из-за его соседства с великим Суздалем. Сам город открывался издалека, с высоты Поклонной горы. Он казался зубчатым от множества колоколен и храмов и располагался на продолговатой возвышенности, как бы опушённой лесами. Но оголённые от листьев деревья тоже делали эту «опушку» зубчатой. Некогда, в княжение сына Мономаха — Юрия Долгорукого — Суздаль был столицей Русской земли. Этот город долго жил в распрях меж боярством и княжеской властью. Отголоски этих распрей и ныне сотрясали Московию.
Фёдор издавна был наслышан о Покровском монастыре. Это была привилегированная обитель, где спасались женщины из именитых семей. У Фёдора имелось небольшая, домашнего изготовления карта, на которой было видно, что монастырь расположен на низменном берегу реки Каменки. Чтобы выехать к нему, надо было миновать старинный Рождественский собор с его знаменитыми «златыми вратами», архиерейские палаты и несколько церквей.
Подъехав к ограде Покровского монастыря, Фёдор с удивлением заметил, что она была в основе своей деревянной. Меж высоких кольев располагались редкие башенки с конусообразным верхом. Карта показывала, что вход в монастырь был с южной стороны через Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью.
Спешившись и привязав своего аргамака недалеко от ворот, Фёдор позвонил в колокольчик и справился у отворившего ему привратника, как пройти к игуменье. Ему объяснили. В смежной с аркой стене помещалась лестница. Спросив, кто он и по какой нужде хочет видеть настоятельницу, монашка провела его наверх.
Не успел Фёдор осмотреться, как его позвали к игуменье и ввели в просторную палату, которая поразила его богатым убранством. На полу — богатый персидский ковёр. Лавки покрыты не сукном, а малыми коврами. На стенах — серебряные светильники. В центре киота иконы в серебряных окладах, украшенных драгоценными каменьями.
Игуменья приветствовала его, поднявшись из-за столика, на котором горели свечи. Фёдор поклонился и, приблизившись, поцеловал ей руку. Суровые черты игуменьи как будто смягчились. Она усадила его на лавку рядом с собой и пристально посмотрела в лицо. Он несколько смутился, подумав: «Ежели пострижение Елены тайна, захочет ли эта строгая настоятельница монастыря сказать мне правду?»
Игуменья, видимо, поняла его затруднения. В глазах её промелькнула мягкая усмешка.
— Мать Манефа поведала мне, какая нужда привела тебя, отец мой, в святое место. Не ведаю, каким обычаем насевалась в Москве молва о пострижении царевны Елены из рода Шереметевых. В нашей обители её нет.
Прочитав на лице гостя не то сомнение, не то тяжкое раздумье, она вдруг сказала:
— Скоро послушницы пойдут в трапезную. Из моего окна хорошо будет видно, как они пересекают двор. Я дозволю вам, если вы пожелаете, посмотреть на них, чтобы вы могли убедиться, что царевны Елены среди них нет.
Фёдор поблагодарил. Вскоре появились монахини. Впереди шли наставницы и пожилые либо средних лет монахини. Поодаль поодиночке шли молодые. Казалось, и мысли их выстраивались столь же уныло и однообразно, какими были их мерные неслышные шаги. Среди монахинь было два-три свежих личика. Взор Фёдора выделил среди них одно лицо. Оно так напомнило ему Елену, что он слегка побледнел. Брови соболиные, глаза опущены. Полные губы твёрдо сжаты. Чувствовалось, что монашеский обет не убил в ней жажду жизни. Упорная воля и сила души были в её чертах...
Фёдор хотел спросить, кто она, но удержался, закусив губу. Между тем игуменья пригласила гостя в трапезную. Угощение было скромным: рыба, грибы, пирог с капустой и яйцом. Но вино из монастырского погреба было отменным. Словоохотливая игуменья рассказала гостю, что богатыми угодьями и добротными постройками монастырь обязан тому, что в нём была пострижена первая супруга Василия III, отца Ивана Грозного, Соломония Сабурова. Фёдор знал о тех событиях, но игуменья сообщила ему подробности, которые придали этим событиям новое освещение.
Начало жалостной истории Соломонии Сабуровой было хорошо известно Фёдору: дядя его отца Никиты Романовича — Михаил Юрьевич Кошкин — был близким человеком Василия III. Этот дядя неплохо знал историю князей Глинских, что смутьянили против Соломонии, дабы свести её с престола, а в жёны Василию дать свою княжну Елену, из рода Глинских. Мать Елены, Анна Глинская, подкупив слуг, опоила Соломонию зельем, отчего царица стала неплодной. Много лет Глинские вели интриги при дворе великого князя. Как говорили тогда, Анна Глинская колдовством внушила ему решение развестись с Соломонией и взять в жёны Елену Глинскую. Не сразу удалась колдунье эта затея: разводу Василия III препятствовала Церковь. Великий князь посылал дары в Царьград, надеясь, что Верховная церковь даст ему согласие на развод, заранее обустраивал Покровский монастырь, дабы сослать Соломонию подальше от Москвы. Началось следственное дело о «неплодии» царицы. Московский митрополит Даниил, известный своей беспринципностью, дал согласие на развод, и несчастная царица была пострижена.
Но конца этой жалостной истории и некоторых происшествий, с ней связанных, Фёдор не знал, поэтому с интересом слушал мать-игуменью.
Соломония не была женщиной бесстрастной. Она мужественно сопротивлялась жестокому решению своего державного супруга. Она кричала о насилии над ней и вероломстве, несколько раз срывала с себя монашеский куколь. Тогда великий князь велел своему ближнему боярину — Ивану Шигоне-Пожогину — укротить «бесноватую», и подлый временщик исхлестал её плетью. Еле живую, связанную, словно окованную цепями, привезли царственную красавицу Соломонию в Покровский монастырь.
По высочайшему повелению эту историю не дозволялось предавать огласке, и всё же замолчать её не удалось. Вскоре появились слухи, что Соломония, в монашестве София, ждёт ребёнка. Слухи подтвердились: Соломония-София родила сына, которого нарекли Георгием. Было срочно назначено следствие. Чтобы спасти ребёнка, которому угрожала верная смерть, мать отдала его чужим людям и пустила слух, что ребёнок умер. Похоронили куклу, наряженную наподобие царственного младенца.
Так родилась ещё одна легенда о спасённом царском сыне Георгии. Но и саму легенду держали в таком секрете, что Фёдор о ней не слышал. Ещё более поразил его рассказ игуменьи о том, что Иоанн затребовал следственное дело о «неплодии» Соломонии и выслал в Покровский монастырь доверенных ему людей с дознанием, действительно ли Соломония-София родила младенца.
Оба, хозяйка и гость, некоторое время молчали, поглощённые едой. Фёдор ел машинально, хотя монастырский пирог пришёлся ему особенно по вкусу. Лицо игуменьи казалось непроницаемым, словно не она открыла гостю подноготную печальной и секретной истории русской царицы. Намёками она дала понять гостю, сколь опасным может быть разглашение их беседы. Да Фёдор и сам это понимал: государь не помилует любознательного охотника до дворцовых тайн, хотя бы и ушедшего времени. Как же обеспокоен был царь слухами о якобы уцелевшем брате своём Георгии! Он и двоюродного брата, Владимира Старицкого, не помиловал, вывел весь его корень, и вдруг узнать, что живёт и здравствует родной по отцу брат!
Жесток род московских царей! Предки их прошли суровую выучку в борьбе за власть, во времена шемякинской смуты, и одному Богу ведомо, кто из них прав, а кто виноват.
Чем больше думал Фёдор о прошлом, соотнося события минувшего с тем, чем жил он сейчас, тем больнее становилось на сердце. Он решил наведаться в Спасо-Ефимьевский монастырь, который был виден из окна трапезной. Но надежды в душе не оставалось. Мог ли такой человек, как Иоанн, оставить в живых Елену? Смерть сына ещё более ожесточила его, и его злобная натура взывала к мести. Фёдор корил себя за то, что доверил безопасность Елены своей мачехе, устрашился гнева отца, отступился из ложного чувства.
Так и не пришлось Фёдору доискаться, что сталось с Еленой Ивановной. Это было первым суровым уроком ответственности в его богатой испытаниями судьбе.
ГЛАВА 27 В ЦАРЁВОЙ МЫЛЬНЕ
Давно замечено, что люди жестокие склонны к сильным отцовским чувствам, и порой они сами об этом не подозревают. После смерти царевича Ивана Иоанн впал в глубокое отчаяние. Он не принимал пищи, забывал молиться. Казалось, на него нашло умопомрачение, но силу он обнаруживал необычайную. Почти не сменяясь, нёс он на своём плече передний край гроба с телом сына от Александровской слободы до Архангельского собора, где оно и было погребено.
А после похорон Иоанн собрал Боярскую думу и обратился к своим вельможам с тихим словом, объявив, что не хочет больше царствовать и предлагает им подумать, кто из них способен занять царский престол.
На этом он оборвал свою речь и удалился. Следом за ним вышел Борис Годунов. Ошеломлённые бояре молча переглядывались между собой. Они помнили ещё не столь давние времена, когда Иоанн ложно отказался от престола, чтобы выведать их тайные мысли. Их насторожило, отчего царь вышел вместе с Борисом Годуновым. Бояре поглядывали на Никиту Романовича, опасливо роняя слово-два. Ведь как оно молвится в пословице: «Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол».
— Дак что нам теперь делать? Либо совет держать будем меж собой? — спросил думный дьяк Игнатий Татищев.
Вопрос прозвучал в пустоту, ибо никто не знал, у кого спрашивать и как им далее дела делать.
— Дьяку да не знать, как рядить дела! — шутливо отозвался оружничий Иоанна Богдан Бельский.
Все головы разом повернулись к нему. Богдан был в большом приближении у Иоанна и по службе шёл рядом с Борисом Годуновым, спальником и мыльником царя. Вместе они были дружками на его свадьбах в 1571 и 1580 годах. Но к Богдану у бояр было больше приязни, чем к Борису Годунову. Богдан был не менее коварен, чем Борис, и с опричниной был связан. Многие опасались Бельского за его родство с Малютой Скуратовым. И всё же у него бывали честные порывы, он был смелее и общительнее Бориса. Богдан Бельский больше проявил себя на государственной службе, чем Борис, участвовал в походах. За причастность к Ливонской войне получил высокие награды. Словом, он выгодно отличался от осторожного Бориса Годунова.
Почувствовав на себе вопросительные взгляды, Богдан сказал:
— Достопочтенные вельможи! Да будет вам ведомо, что царю Иоанну не придётся по нраву ваше молчание. Надобно ответ держать. Хотим-де, государь, видеть на престоле тебя, а после — твоего сына, и никакого другого нам на царство не желать.
Бояре молчали. Им было страшно от слов царя, от одной мысли, что он ждёт их ответа, кого поставить на царство. Неудачное слово могло стоить головы. Поэтому одни опустили глаза: мол, не с них спрос. Другие делали вид, что разглядывают новый кафтан Богдана и его голландскую сорочку. Кафтан был темно-красного бархата, подложен тафтой, петли сплетены из серебряной нити, сам кафтан унизан жемчугом. На вороте сорочки — зёрна жемчужные, а штаны из белой тафты. Сказывают, у Бельского все сундуки набиты дорогой одеждой. И дивно ли? Богдан богат, одному лишь царю уступает в богатстве. Не им, боярам, чета. Он и с купцами да послами иноземными сносится. У него и выговор иной, чем у прочих: «Достопочтенные вельможи...» Кто бы из них повёл такие речи? И сам он будто нерусских кровей. Волосы густые, чёрные, синевой отливают большие чёрные глаза. И только борода у Богдана русская, окладистая, густая. Он её холит и немало гордится ею.
Богдан Бельский ожидал ответа на свои слова. Он-то знал, что надо сказать царю.
— Ты, Богдан, дело говоришь.
— Так за нас и скажи царю.
На том и порешили. Расходились молча. Лишь насмешливый дьяк Игнатий Татищев не удержался, спросил Богдана:
— А ты, достопочтенный вельможа, отчего не пошёл с Годуновым? Али вы уже не напарники с ним? Али ты не такой же, как он, ближник царю?
Бояре знали навыки Иоанна. Из Думы он пошёл в мыльню. Случай был действительно исключительный. Направляясь в мыльню, царь взял с собой одного Бориса Годунова, хотя Богдан тоже был при нём мыльником и спальником. Насмешливый вопрос Игнатия Татищева смутил многих. Всем было ведомо, сколь осторожен Иоанн. Прежде у него в приближении были родственники — князь Мстиславский да боярин Никита Романович. Когда они постарели, он взял в мыльники родственников Малюты Скуратова — Бориса Годунова и Богдана Бельского. А ныне что же он не взял с собой Богдана? Али оплошал чем?
Нет, ничем не оплошал родич Малюты. Так же скор он на исполнение кромешных дел царя, так же находчив в досужих беседах. Но в минуты, когда болит душа, Иоанну нужнее всех Борис Годунов. Кто умеет так послушать тебя, что вроде бы и не слушает? Кто поможет только одним молчанием собрать вместе разбросанные, растревоженные мысли? Страшен Иоанн, когда душа его, казалось, пребывавшая в горних высях, вдруг падает в пропасть... Один Борис умеет угадать эти опасные мгновения и удержать Иоанна на самом краю бездны. Не он ли, Борис, схватил его за руку, державшую посох, занесённый над головой сына? За то и казнил Иоанн боярина Кашина, что тот усомнился в искренности порыва Бориса.
И в этот час, когда царь решил отречься от власти, он надумал открыть перед Борисом душу, поговорить о грядущем...
Царёва мыльня находилась во дворце, но помещалась она в подклети. В неё вели мовные сени, или предбанник. По стенам шли простые лавки, но стол был накрыт красным сукном. На столе стояли ковши с распространёнными в то время сортами квасов: медовым, или сытой, малиновым, вишнёвым и другими. На лавках лежали рубахи, домашние кафтаны, штаны; на полу — сафьяновые туфли. Мыленка была менее просторной, но и здесь вдоль стен тянулись лавки, в углу находилась большая изразцовая печь с каменкой, называемой так за то, что была наполнена раскалёнными камнями. Когда на них плескали воду, мыльня окутывалась паром. Вверху был полок, где парились. Туда вели широкие ступени. Мыльня освещалась днём слюдяными оконцами, вечером — стенными светильниками. На лавках и возле них стояли вёдра и шайки, которые наполнялись водой из чанов, то горячей, то холодной — по необходимости. В медных лужёных тазах находился щёлок. Был и отдельный столик с многочисленными ящиками, наподобие раздувшихся карманов. Там хранились баночки с притираниями, пахучими мазями, как в турецкой бане. Но стоял в мыльне — русской бане — берёзовый дух, господствовавший над прочими ароматами. По лавкам и углам были набросаны душистые травы. Иногда их укладывали плотным слоем, накрывали полотном и на этом тюфяке из сена мылись.
К тому часу, как войти царю с Годуновым, спальники успели поддать пару. Царь любил мыться в хорошо нагретой бане, хотя париться не любил. Спальники помогли Иоанну разоблачиться и тотчас же вышли. Раздевшийся тем временем Борис повёл царя в мыльню. Взгляд Годунова был прикован к ногам царя. Они были полусогнуты в коленях, казались слабыми и слегка дрожали. Да и сухие стали, словно палки. После смерти царевича Иоанн заметно похудел, но как будто не видел этого. Ещё менее был он восприимчив к внешнему виду своего спутника: он не заметил его странного взгляда, который в прежнее время вызвал бы в нём подозрительность и гнев. Иоанн чувствовал заботу Бориса, мягкое прикосновение его женственных рук, и ему хотелось расслабиться, забыть своё горе, отбросить прочь все заботы.
Борис уложил царя на широкую скамью, покрытую травяной постелью, облил его тёплым яичным квасом и начал слегка втирать его в тело. Иоанн почувствовал приятное содрогание. Он отдыхал и набирался сил перед парной.
— Любы мне твои добрые руки, Бориска.
Когда оба легли на полок и мовщик поддал лёгкого пару, плеснув на камни водой, настоянной на травах, Борис, стараясь поспеть за царём, приговаривал, взбадривая самого себя, ибо не терпел париться:
— С гуся — вода, с царя-батюшки — худоба. Болести в подполье, а на тебе, государь, здоровье.
Иоанн кряхтел в ответ, посмеивался:
— Ты гляди, сам худобы не захвати!
Первым не выдержал удушливого пара Борис: чуть не кубарем скатился по широким ступеням, провожаемый гортанным, резким смехом Иоанна. Ему нравилось чувствовать свою крепость и силу перед Борисом, который был значительно моложе его. Впрочем, он недолго парился. Берёзовый веник показался ему нехорошим. Захотелось кваску, малинового, пожалуй.
А Борис уже угадал его охоту, принёс ковш с малиновым квасом.
— А ты, Борис, как поглядеть на тебя, статью не вышел. Ну да не беда... Девкам люб? Что молчишь? Люб али не люб?
— А зачем мне девки? У меня жёнка лихая...
Иоанн снова засмеялся, произнеся забористое словечко. Борис, избегавший таких разговоров, перевёл на другое:
— Недужные мысли в баньке смываются лучше, чем на молитве.
— Ты о каких недужных мыслях говоришь, Борис?
— А таких, что дьяволом насеваются.
— Отчего-то про дьявола в бане вспомнил?
Борис многозначительно молчал. Некоторое время оба плескали на себя из шаек щелочной водой, потом водой лёгкой, душистой. Иоанн понимал, что в молчании Бориса был намёк, но не спешил переходить к тяжёлой теме.
Вышли в предбанник. В былые времена царь пел тут песни. Любил он петь про казака, который «гуляет по Дону», про Ермака Тимофеевича, про взятие Казани, а то запевал песню кабацкую, непристойную. Но ныне песни на ум не идут, хотя миновали сороковины по смерти сына. Песен царю уже не петь. Посмеяться — на это его ещё хватало.
Из мыльни набивался пар, тускло светили шандалы со стен. Тихо текла беседа, которой суждено было иметь громкие последствия.
— Ты пошто ведомостям на Микиту хода не давал? — спросил Иоанн.
«Ведомости» — это донос на Никиту Романовича: он через несколько дней после похорон царевича Ивана устроил дома праздник. И песни пели, и танцев много было. Царю — горе, а им веселье. Усердные Годуновы хотели сослужить службу царю, доведя до него «правду» о непристойном поведении дядьки покойного царевича. Но Борис якобы удержал родственников от этого шага, о чём и стало известно царю.
— Отпусти, государь, вину неразумному, ибо истинно по неразумию допустил он веселие в дни такой горести.
— По неразумию, говоришь?
Голос Иоанна набирал гневную силу.
— Не сердись, государь! Испей кваску!
Борис подал царю по особому рецепту приготовленный «моржовый» квас. Иоанн сделал несколько глотков. Борис мельком взглянул на длинные ноги царя, прикрытые исподним бельём, потом перевёл глаза на слюдяное оконце, заиндевевшее от мороза. Ему явно не хотелось встречаться взглядом с царём. Он знал, что, уклоняясь от прямого доноса на Захарьиных, он распаляет гнев Иоанна на своего шурина. Выждав время, Годунов посмотрел прямо в лицо царя и сказал, будто бы и не в обличение Никиты Романовича:
— Дьяк Андрей Щелкалов принимал ныне иезуита Поссевина и с ним пана Сапегу.
Он произнёс это как бы между прочим, помогая царю облачиться в домашний кафтан.
Иоанн нахмурился. Какие виды у этого иезуита на дьяка и ведомый им Посольский приказ? Когда Поссевин был во дворце, он ни словом не заикнулся, есть ли у него нужда посетить Посольский приказ, и вдруг пожаловал в хоромы к дьяку. Неспроста это. Иоанну припомнились речи Поссевина, хвала польскому королю. Усерден без меры. Даже пристава, что сопровождал его, хотел обратить в латинство. А ныне вместе с ним «усердствует» и главный дьяк. Надо бы дознаться, отчего Щелкалову немила отеческая вера? Какую выгоду для себя увидел он в планах посланца Папы Римского? Окатоличить Русь и подчинить её короне польского короля? Сначала поляки завоюют Ливонию, а затем и все важные русские земли?
— И как ты думаешь, Борис, что на мысли у Андрея Щелкалова? Ужели он захочет переметнуться в безбожную Литву?
— Не ведаю, государь!
Но в голосе Годунова опасная уклончивость, намекающая на измену. Щелкалов давно нелюбезен ему. Слишком большую силу взял в державе и богат так, что хоть с царём потягаться. Нелюбезен он Борису и дружбой с Захарьиными и Богданом Бельским. Вместе они составляют опасное противодействие Годуновым. Им нипочём и то, что Годуновы с самим царём породнились.
От Иоанна не укрылись уклончивые нотки в голосе любимца. Он зорко вгляделся в его лицо.
— Ежели Щелкалов куёт измену, пошто нам о том ране было неведомо?
Царю не хотелось затевать изменное дело против своего всесильного канцлера. В руках Щелкалова все наследственные акты, все родственные книги. Он во всех делах сведущ. Иоанн часто прибегал к его совету и не раз признавался, что его главному дьяку ведомы все дипломатические хитрости и с его указания он, царь, правит многие дела в сношениях с иноземными державами. Кого сравнять с ним?
Годунов некоторое время молчал. Он твёрдо держался правил уклончивой игры и ответил ещё более уклончиво:
— Бездельна та мышь, что токмо одну лазейку знает.
Это был намёк на связи дьяка Щелкалова с влиятельными вельможами в державе. Мысли Иоанна лихорадочно заработали. Он знал, что Щелкалов вместе с Бельским и Никитой Романовичем недобро относится к английскому послу Боусу. Тот жаловался, что вельможи чинят ему тесноту. Иоанн не одобрял действий своих вельмож. Сам он был настроен на дружбу с Англией, надеясь, что она в союзе с ним пойдёт против Польши и Швеции. Но ежели и далее Щелкалов вкупе с Никитой Романовичем да Богданом будут вредить Боусу, дело порушится.
— Про лазейки мы проведаем. А ты, Борис, пойди к постельничему и спроси, хорошо ли нагрета постель. И так ли подогрето вино? Я ныне рано лягу почивать. А поутру заходи ко мне: совет твой нужен.
Они шли тёмным коридором, что вёл из мыльни в царёву спальную палату. Тускло светили стенные шандалы. Годунов помог царю подняться по лестнице. Их встретил царский постельничий. Борис ушёл в свои хоромы.
ГЛАВА 28 ВРАГИ
После смерти сына Иоанн начал часто недомогать. В один из таких недужных дней царь созвал в малой тронной палате своих ближников. Он был слаб, спиной опирался о мягкую спинку трона. Руки лежали на подлокотниках, на запястьях подрагивали чётки. При взгляде на него многие думали: «Горя в миру и самому царю не скрыть».
— Вам ведомо, что я объявил боярам свою волю. Божиими судьбами, а по моему греху царевича Ивана не стало. Фёдор не может править государством, и я сам понуждаю вас назвать того, кто способен занять царский престол, ибо я в своей кручине не чаю себе долгого живота, — тихим голосом произнёс Иоанн.
Он обвёл присутствующих долгим взглядом, остановился на Борисе Годунове, который стоял смиренно, потупив глаза, едва видимый за спинами первых вельмож. Царь продолжал:
— В своей кручине полагаю я сына своего царевича Фёдора и Богом данную мне дочь царевну Ирину на Бога, Пречистую Богородицу, великих чудотворцев и на ближника своего Бориса Годунова. Он безотступно был при моих царских очах, с великой радостью служил державе, о здоровье моём радел и помышлял. В нашей милости он всё равно мне как сын.
Точно искра промелькнула на лицах бояр при этих словах, осветив вдруг скрытые тревоги, испуг и растерянность. Вот сделал неловкое движение плечами, словно желая скинуть опашень[21], всегда невозмутимый, никогда не претендовавший на власть родственник царя, первый боярин Мстиславский. Тихонько крякнул в кулак приземистый князь Черкасский. Смуглый до черноты уроженец гор стал важным русским боярином благодаря родству со второй женой царя — Марией Темрюковной. Годунова он считал безродным выскочкой.
Можно было заметить, что остальными боярами тоже овладело беспокойство. Одни от страха опустили глаза, другие незаметно обменялись взглядами. Многие ещё помнили то опасное время, когда Иоанн занемог и потребовал от бояр, чтобы они целовали крест на верность его сыну-младенцу, рождённому царицей Анастасией. И многими тогда овладело смятение, и, не скрывая страха, они говорили: «А править-то нами будут Захарьины!» Многие тогда поплатились головами за эту смуту. Царь выздоровел, а ныне — надежды плохи...
Бедные бояре! Годунова они боялись больше, чем грозного Иоанна... Что сказать царю, ежели Годунов каждое слово их возьмёт на заметку? Первым пришёл в себя Никита Романович:
— Не осуди моей дерзости, государь, ежели скажу супротивное слово. Не вводи себя в грех, говоря, что не чаешь себе долгого живота. Правь нами по дарованной тебе Богом благодати! А в животе твоём волен единый лишь Бог.
Бояре чувствовал, что у Никиты Романовича нет прежнего красноречия, нет и прежней важной повадки. Поредевшая борода отливает серебром, плечи ссутулились.
Иоанн презрительно сузил на него глаза, по лицу прошла судорога гнева.
— Никак, Микита, ты обо мне кручинишься? То-то, сказывают, ты и об сыне моём Иване, коего Бог прибрал, тоже кручинился!
В голосе царя была издёвка с намёком, но Никита Романович простодушно ответил:
— Ещё как кручинился, государь.
— И песни не певали в доме твоём? И танцев не было много?
Богдан Бельский угодливо поддакнул:
— Кому беда да напасти, а кому смехи и потехи.
Никита Романович сначала онемел, потом проговорил хриплым, не своим голосом:
— Государь! Лихие люди усердствуют в наносе на нас!
Приблизившись к царю, он низко склонился перед ним:
— Помилосердствуй, государь! Рассуди по правде!
Произнося эти слова, он со скорбным гневом через головы глянул на Годунова. Тот ответил ему спокойным взором, всем своим видом показывая, что не причастен к доносам...
От Иоанна не укрылся этот обмен взглядами. Он гневно сверкнул глазами, резким движением встал, выкрикнул пронзительным голосом на высокой ноте:
— Смутьянить, пёс седой?! Вот тебе правда!
Сильным и точным движением он вонзил остриё своего посоха в ступню Никиты Романовича. Выступила кровь. Никита Романович поднял глаза на царя, но в них не было укора. Подумал: «Слаб и стар стал и не нужен царю...» Держался твёрдо, хотя сафьяновый сапог разбух от крови и пятна крови были на каменном полу. Не хотел Никита Романович показать слабость, боялся, что царь наложит на него опалу. Первым делом подумал о сыновьях: «Что станет с ними, бедными, ежели я ослабею! Вон даже князь Черкасский, что почитал за честь породниться с Захарьиными, ныне стоит и глядит в сторону, а мог бы и плечо мне подставить, да посадить на скамью, да доктора позвать. Ан нет, боится, как бы царь не отобрал его богатое подворье в Кремле, которое получил хлопотами покойной царицы Марии Темрюковны!»
— Родион, — обратился царь к своему любимцу, дворянину Биркену, — вели позвать моего доктора Лоффа и скажи ему, что царь-де по оплошке ногу боярину Захарьину посохом проткнул...
Слова «по оплошке» были бальзамом для угнетённой души Никиты Романовича. Он понял, что царь смягчился, как это случалось у него и ранее после приступа злобы. Опасность опалы миновала, с чувством облегчения Никита Романович обвёл взором окружающих. Бояре понемногу приходили в себя и не без сочувствия смотрели на него.
— А вы что глядите? — недовольно зыкнул царь на бояр. — Или не видите в углу кресла? Усадите на него больного.
И первым, кто кинулся к Никите Романовичу, был Борис Годунов. Он услужливо подставил ему плечо и повёл его к дальней скамье. Взгляды их встретились. Доброту, одну лишь доброту и участие излучали глаза Бориса. Будто и не было у него никакой вины перед старым боярином и не были причастны Годуновы к унизительной расправе царя над своим шурином. «А может, и вправду он не виноват передо мной?» — подумал Никита Романович, но тут ему пришли на память слова боярина Колычева, сказанные о Борисе: «Взгляд добрый, обычай волков». И Никите Романовичу стало тяжко при мысли, что только один Годунов вроде бы пожалел его, да и тот из лукавства. Он вдруг остановился.
— Ступай, Борис! И дай ответ Богу за то, что ты сделал моей седине!
Но Годунов, продолжая поддерживать Никиту Романовича, с недоумением, сокрушённо смотрел на него:
— Не гневи свою душу, боярин! Не моя вина в твоей беде!
Помолчав, он добавил:
— Как перед Богом! Я ничего не сделал над тобой!
И снова такая правота звучала в голосе Бориса, что Никите Романовичу стало не по себе. «Да пропади ты пропадом, что мне на старости лет разбираться с тобой!» — в сердцах подумал старый боярин и, сделав усилие, оттолкнул руку Бориса и заковылял дальше, опираясь на посох и морщась от боли. Но Борис и тут не отстал от него: когда Никита Романович тяжело опустился на сиденье, услужливо подставил под окровавленную ногу удобный пуфик.
Никита Романович вспомнил, как однажды такой же пуфик подкладывал Годунов под ноги царевичу Фёдору и как добрый царевич вдруг испуганно отдёрнул ногу. Блаженные и нищие духом бывают особенно чутки. Каково-то ему, бедному, с таким шурином!
Прикованный к постели, пока не затянуло рану на ноге, Никита Романович многое обдумал и передумал на досуге. Подобно людям сильным, он обретал в беде твёрдость духа и ясность мысли. Ему впервые чётко представился характер Бориса. Почему многие люди заблуждались, считая его добрым? Такова, видимо, его обманная завистливая природа. Она может подсобить человеку, ежели не навредит ему. А как приметлив! Ничего не упустит, всё возьмёт на заметку, а придёт время — мигом даст ход делу, преувеличит, прибавит, ежели понадобится. И плохо придётся тому, кому он позавидует.
Горькими были мысли Никиты Романовича. Сомневаться не приходилось. Годунов — лукавый и коварный враг всему роду Захарьиных. Знает, случись беда с царевичем Фёдором, у Захарьиных более прав на престол, чем у него, Годунова. Вот и неймётся ему: ковы строит, прикрываясь добрыми обычаями. А кому неведомо, что самый опасный враг тот, что прикидывается благодетелем? И где спасение от такого врага, ежели сам царь благоволит ему? «Бедные дети мои! Как уберечь вас от завистливой злобы? Что присоветовать? Фёдор больно запальчив, а люди запальчивые первые в беду попадают. Александр — жизни не знает. Его проще простого обвести вокруг пальца... А Борис и самого чёрта надует, да ещё плясать под свою дудочку заставит».
Чувствовал Никита Романович, что нынешние его невзгоды — лишь начало горчайших бед. Что придумает Борис? Какие беды нашлёт на его сыновей, ежели умрёт царь? А может, и ранее. На самого царя надежды плохи, он слушает одного Годунова, верит каждому его слову.
Никогда прежде не роптал так Никита Романович в душе своей на царя, а ныне думал, что смерть сына-царевича послана царю за грехи. И не устрашился он возмездия, а опалился гневом на своего верного слугу — единственно по доносу своего лукавого раба. И знал ведь, знал, что писал великий Афанасий: «Смерть детей часто случается для вразумления их родителей по Божьему промыслу, чтобы родители, увидев это, устрашились и, опечалившись, вразумились». Видно, не пошло царю впрок сие святое наставление, ежели он не вразумился, а озлобился.
И хотелось помолиться Никите Романовичу за несчастного царя, но слова молитвы не шли с языка. В душе было чувство неуверенности и тревоги. Всё ли он сделал, чтобы обеспечить безопасность своих детей? Он готов был кинуться в ноги царю, только бы тот вернул Захарьиным свою милость. Иоанн бывает гневлив, но и милостив. Помоги, Царица Небесная!
ГЛАВА 29 ТАЛАННАЯ ДЕВКА
В то время Никита Романович ведал пограничной службой. Должность эта перешла к нему от князя Михаила Воротынского и считалась важной и почётной, но и тяжёлой. Охрана южных границ Русского государства, особенно в районе татарских поселений, поручалась жителям степных городов и станиц. Здесь требовалось и знание местности, и знакомство с татарскими обычаями, чтобы предупреждать внезапные разрушительные вылазки коварных соседей.
Военно-служилое сословие на южных границах Руси было в особой милости у царя, но и условия службы отличались принудительными обязательствами, которые многим бывали не под силу. Оттого и случались опасные промашки и драматические происшествия. Устав службы определял суровые распоряжения: «Стоять сторожами на сторожах, с коней не ссаживаясь, и ездить по урочищам попеременно же, направо и налево, по два человека, по наказам, какие будут даны от воевод. Станов им не делать, огонь раскладывать не в одном месте; когда нужно будет кому пищу сварить, и тогда огня в одном месте не раскладывать дважды; в котором месте кто полдневал, там не ночевать... А некоторые сторожа, не дождавшись смены, со сторожи сойдут и в то время государевым украинам от воинских людей учинится война, тем сторожам от государя быть казнёнными смертью... Воеводам и головам смотреть накрепко, чтобы у сторожей лошади были добрые и ездили бы на сторожи о двух конях».
Но если сторожа расплачивались за оплошки своими головами, то воеводы лишались поместий. Какая же в этом случае кара ожидала вельможу, ведавшего заграничной службой? Немилость. Когда татары, прорвавшись через южную границу, овладели двумя станицами, царь объявил Никите Романовичу о своей немилости к нему и назначил определить для него кару после службы в Благовещенском соборе.
Эту весть в дом Шестовых принёс сын Никиты Романовича Александр, находившийся в дружбе с братом Ксении, крестником Никиты Романовича. Она опечалилась и, не сказав о том матери, отправилась в Кремль, чтобы просить царя о милости к Никите Романовичу. Она знала, что скоро царь будет сходить со своими боярами с Красного крыльца. Ксения была полна решимости, хотя в душе была смута и не было ясного представления о том, что она станет делать.
Все дальнейшие действия совершались как бы помимо её воли.
Когда царь в окружении бояр спустился по ступеням, чтобы идти в Благовещенский собор к обедне, Ксения кинулась ему в ноги и склонилась перед ним так низко, что кокошник коснулся земли.
— Девка Шестовых, — доложил дворецкий. — Просила допустить к твоей милости. Я не дозволил. Она самовольно.
— О чём просит?
— Не сказывает...
Опасаясь гнева царя, дворецкий кинулся к Ксении, начал поднимать её.
— Ступай, касатка. Не до тебя ныне...
Подчиняясь властной руке дворецкого, Ксения приподнялась, словно не понимая, что от неё хотят, но, взглянув на царя и увидев, что он не сердится, она снова кинулась на колени.
— О ком просишь, касатка?
Царь был бледен, говорил с усилием, но ласково.
— Великий государь! Помилуй крёстного!
— Кто же он?
Она подняла на него глаза с детским недоумением.
— Как, государь, тебе неведомо?..
Он рассмеялся, дивясь её простодушию, подошёл к ней.
Ксения закраснелась от стыда, закрыла лицо руками.
— Подымайся... Сейчас мы твоё дело уладим. Как сказано в Писании: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»
Девка понравилась царю. Всё в ней дышало первозданной силой и здоровьем. Она, казалось, была создана, чтобы нарожать кучу детей. Низкая полная грудь, округлые плечи. Покрытые нежным пушком, алели тугие щёки. И сама словно наливное яблочко. Иоанн помнил её отроковицей и дивился столь разительной перемене.
— А ты всё же скажи, кто крёстный. Не заставляй царя долго думать да гадать.
Он оглядел бояр, точно они были сообщниками в этой игре, и все тотчас заулыбались.
— А хороша у Шестова девка!
— Таланная девка...
Видя, что никто не гневается на неё, Ксения понемногу пришла в себя.
— Я скажу, государь, кто крёстный, токмо ты не сердись на него, — ответила она. — А крёстный — вон он стоит, — совсем осмелев, добавила она и показала рукой на Никиту Романовича, который стоял позади царя, опираясь на посох.
Никита Романович не знал, куда деваться от неловкости и страха перед царём: ещё подумает, что подучили девку.
Царь оглянулся на Никиту Романовича, слегка нахмурился, но чело его быстро разгладилось, когда он поднял глаза на Ксению.
— Говоришь, сей греховодник старый и есть крёстный? Ну, ты в том не виновна. Крёстных не выбирают, как не выбирают отца и мать. Иди, девка, с миром...
Он, кажется, догадался, что её прочат в невесты сыну Никиты Романовича.
Весь этот день царя не покидало доброе расположение духа. Никите Романовичу он назначил денежный штраф за невнимание к службе, но не прогнал с очей, не лишил своей милости, ибо захватчики были изгнаны с русской земли с большими для себя потерями.
...Мысль о том, что отца ожидает наказание, что его вновь унизят, причинят боль его чувствительному сердцу, не давала Фёдору покоя. В тот день он не мог заниматься делами и ожидал возле Красного крыльца выхода царской свиты. Народу собралось много, но на этот раз с появлением царя в толпе началось какое-то непонятное движение. Тут Фёдор увидел, что в ноги царю кинулась девка в нарядном сарафане. Когда она подняла голову, он узнал Ксению Шестову, хотя видел её всего один раз и то через слюдяное оконце. Она мало изменилась за это время: всё те же толстые щёки и тяжёлые черты. Но необычайная страстность её порыва, женственная беспомощность и нежность и вместе с тем выражение упрямой силы подкупили его. Вслушавшись, он понял, что она просила за его отца, и к его сердцу прилила теплота. Он видел, сколь благосклонно смотрел на неё царь. Казалось, один вид Ксении радовал его сердце. Доброе настроение царя оживило толпу, и в душе Фёдора Вспыхнула надежда, что он не будет суровым к его отцу. Ужели всё благодаря Ксении Шестовой? Кто это сказал: «Таланная девка»? Кажется, Богдан Бельский... Да, не всякая, даже княжеская, дочь решилась бы на такое и так умело разговаривала бы с самим царём.
На другой день после заседания Боярской думы, когда дело с татарами разрешилось спокойно и безобидно, отец позвал Фёдора к себе в кабинет, и тот догадался, что разговор пойдёт о женитьбе на Ксении. Что он ответит ему? Попросит отложить свадьбу или упрётся, как прежде?
Никита Романович встретил сына весёлым взглядом.
— Велико милосердие Господа к нам, сын мой! Помянем же его пресвятое имя в своих молитвах и возблагодарим!
Оба перекрестились, глядя на образа.
— А про царя и его обиду никому не сказывай. Кого чёрт рогами под бока не пырял! Умные люди не сетуют на всякие нестроения, а думают, как приобщиться делом и милость за то сыскать. Разумей и то, — продолжал Никита Романович, — что без жены да без детей века не прожить... Или хочешь ещё погодить? Мне твои думки ведомы. Никак не забудешь Елену-красу?
Фёдор опустил голову.
— То болезнь в тебе, сын мой. Вперять очи в минувшее — одна тоска и досада сердечная.
Помолчав, он спросил почти с обидой:
— Чем нехороша тебе Ксения?
— Я не говорю, что нехороша. Ежели желаешь, считай её моей невестой, только ныне не сватай...
— Э!.. Невеста не просватанная — это песня не спетая. А Ксения в самый раз по тебе. Она будет тебе опорой в жизни. Другой такой, чтоб приходилась впору нашему роду, я не знаю. Домовита, как и матка её, не то что Орина, жёнка князя Мстиславского. Ни в жизнь я не хотел бы такой жёнки. Ей бы лишь разводить побасёнки с бабами да судачить. До всего ей дело. Услышит, что принц где-то скончался, — и об этом толкует. Не такова будет Ксения. Она предназначена к жизни семейной, хлопотливой да заботливой. И возьми в толк: Шестовы богаче нас. Одних только сыновей вас пятеро, да ещё мачеха ваша Дарья принесла сына и дочку, и ежели разделю своё достояние меж вами, много ли придётся на твою долю, Фёдор? Как будешь обустраивать свою семью?
Никита Романович знал, что задел в сыне чувствительную струну. При характере мужественном, даже суровом, не склонном к излишествам да изнеженности, он любил роскошь, любил тонкое бельё из Голландии, у немецких торговых людей приобрёл модный, пышный, с кружевами воротник. Богатством его и прельстишь. Вспомнилась и мудрая пословица: «Коня ведут уздечкой, а человека словом», — а тем паче сына родного.
— Ты хочешь занять положение при дворе, — продолжал Никита Романович, — так оно, богатство-то, и пригодится. Вот помыслишь: «В думках-то всё есть, да в руках ничего нет» — и пожалеешь, что невесту добрую упустил. А ведь оно недаром молвится: «Кому невеста годится, для того и родится».
Подумав немного, он добавил:
— Ты не смотри, что она не так красива, как Елена в невестах была. Красота — до венца, а ум — до конца.
Договорились на том, что Фёдор поедет к Шестовым, повезёт от крёстного подарок имениннице.
Фёдор ехал к Шестовым в самом неопределённом состоянии духа. Жених поневоле — роль незавидная. Ладно хоть то, что чувства его к будущей невесте потеплели. А там видно будет.
Когда Фёдор подъезжал к усадьбе Шестовых, совсем завечерело. Закат ещё алел, но над головой сгущались дождевые тучи. В воздухе стояла предгрозовая тишина. Фёдор прибавил прыти своему коню, и скоро показался высокий господский дом. Знакомое подворье встретило Фёдора по-домашнему, будто своего. Уютно кудахтали куры, важно выступал индюк. Само подворье было вымощено камнем, и всё там радовало глаз порядком и чистотой.
Сама хозяйка увидела Фёдора из окна, вышла на крыльцо важная, дородная. На ней было тёмное платье из плотной ворсистой ткани, прошитое серебряной нитью, — свободное, слегка подпоясанное. Вместо ворота — шитьё с мелким жемчугом. Она немного изменилась со времени их встречи. Под глазами — тени, но щёки стали ещё круглее.
— Проходи, проходи, гостечка дорогой, — приветствовала она Фёдора.
Шестова не сетовала в душе на Захарьиных, что они тянут со свадьбой. «Кто женится скоро, у того редко в доме споро», — говорила она. Дочь свою она считала красивой и завидной невестой. Она не спешила выдавать её замуж: «Красуйся, дочка, пока вдоль спины коса, под повойник попадёт — краса пройдёт». Она кичилась своим богатством и думала, что они, Шестовы, делают честь Захарьиным, отдавая свою дочь замуж за их старшего сына. Хоть он и красив и ловок, да что-то не спешат знатные люди сватать своих дочерей за сыновей Никиты Романовича!
Однако все эти соображения не мешали ей радоваться приезду гостя, да ещё в именинный день дочери. Она собралась было ставить на стол угощение, но Фёдор сказал, что приехал с отцовским поручением — передать Ксении подарок. Хозяйка несколько смутилась, пытливо посмотрела на Фёдора. В нетерпении, которое она прочитала на его лице (это был порыв избавиться от разговора с ней), она увидела свидетельство нежных чувств к своей дочери и, смягчившись, дозволила ему пройти в девичью светёлку.
Ксения стояла возле окна, и Фёдор понял, что она боялась упустить тот момент, когда он будет выходить из дому, чтобы увидеть его хотя бы издали. Это тронуло Фёдора. Заметив его, она переменилась в лице и замерла.
— Здравствуй, Ксения... — как-то нерешительно произнёс он.
Ксения не отвечала, но не спускала с Фёдора неподвижного, смятенного взгляда. Он приблизился к ней.
— Вот подарок тебе от отца... серёжки.
Он протянул ей нарядную коробочку. Она быстро открыла её, взяла в руки яхонтовые серёжки, и глаза её вспыхнули радостью. Потом она робко подняла их на Фёдора и сказала:
— Передай крёстному моё благодарение.
— Передам непременно. Он велел спросить тебя: пойдёшь за меня замуж?
Она снова вспыхнула, опустила глаза.
— Пойду!
— Тогда надобно объявить твоей матушке, что мы жених и невеста.
— Погоди...
Он смотрел на неё, как бы спрашивая: «А чего годить?!» Потом понял, что она хочет каких-то слов от него. Он подошёл к ней и поцеловал её в щёку. Она закраснелась и была в эту минуту чудо как хороша. В смущении отошла от него. Взгляд её упал на зеркальце в простенке между окнами. Она примерила серёжки и обернулась к Фёдору. Глаза её заблестели, как яхонты.
— Да они тебе в самый раз к лицу! А знаешь, есть примета: ежели невесте дарят яхонты, то она родит первенца-сына. Ксения, подойди ко мне...
Она подошла. Он притянул её к себе и крепко поцеловал, затем отвёл её голову в сторону и, точно заклинание, произнёс:
— Так непременно сына мне роди! Знатного сына!
Ксения сомлела от счастья. Накануне она жарко молилась, чтобы Господь помог ей свидеться с Фёдором. О том, чтобы он поцеловал её, она даже не мечтала. Всё ещё не веря, что всё это наяву, она погладила борт его однорядки[22]. От Фёдора пахло конским потом, сбруей, сеном и степным ветром.
— Чай, на охоте был?
Он кивнул.
— Оженишься — не пущу на охоту! — полушутя-полусерьёзно сказала она.
— Что так?
— Не стану ночами спать, думать буду, кабы тебя медведь на охоте не задрал.
Тут Ксению позвала мать. Свидание было окончено, но оно решило судьбу Фёдора.
ГЛАВА 30 НЕУДАЧНОЕ СВАТОВСТВО ЦАРЯ
С первых дней замужества Ксения усердно занялась домашним хозяйством, изрядно запущенным после смерти первой супруги Никиты Романовича — Евдокии Александровны.
Отныне дом Захарьиных, или дом Никиты Романовича, стал называться романовским. Ксения затеяла перестройку подворья, обновление было заметно и в доме. Были приобретены новые прядильные станки, и гул веретён на верхней, женской половине дома раздавался днём и ночью, точно там была прядильная мастерская. У самой Ксении руки редко оставались свободными. Её шитьё да узорочье были столь искусными и замысловатыми, что боярыни и боярышни приходили к ней за советом.
Подвальный этаж романовского дома она обустроила заново. Там появились новые большие сундуки для хранения добра.
— Зачем тебе столько-то? — спрашивал Фёдор.
— А приданое дочерям? А сыновьям кто справу сделает? — с недоумением и достоинством отвечала она.
И во всём остальном Ксения являла собой идеал хозяйки и жены, описанной в «Домострое»: «Умела б сама и печь и варить, всякую домашнюю порядню знала бы и всякое женское рукоделье; хмельного питья отнюдь не любила бы, да и дети и слуги у ней также бы его не любили; без рукоделья жена ни на минуту бы не была, также и слуги. С гостями у себя и в гостях отнюдь бы не была пьяна, с гостями вела бы беседу о рукоделье, о домашнем порядке, о законной христианской жизни, а не пересмеивала бы, не переговаривала бы ни о ком; в гостях и дома песней бесовских и всякого срамословия ни себе, ни слугам не позволяла бы...»
Как-то так случилось, что дом Захарьиных стали называть домом Романовых. Замечено было также, что его хозяйка начала обнаруживать признаки властолюбивого характера. Ей до всего было дело. Особенно зорко следила она за интригами внутри боярских кланов. Однажды спросила мужа:
— Ты пошто у царевича Фёдора давно не был? Али не зовёт к себе? Али Годунов им завладел?
— Думаешь, Годунов худа мне желает?
— А то добра!
Слова Ксении неприятно поразили Фёдора. После смерти царевича Ивана меж ним и Годуновым завязались как будто добрые отношения. О том же хлопотал и Никита Романович. Но Ксению, ежели она вбила себе что-то в голову, не переупрямишь.
Так подумал Фёдор, но на душе отчего-то кошки скребли. Ему не раз приходилось убеждаться, что догадки Ксении были верными.
— Ты бы сходила к Скуратихе и её к себе в гости позвала.
— Ты никак думаешь, что меня там ждут? Но коли хочешь — схожу.
Скуратихой они между собой называли жену Бориса Годунова — Марью Григорьевну, дочь Малюты Скуратова-Бельского. Ксения не раз собиралась сходить на подворье Годуновых, да всё откладывала. Бывало, соберётся с духом, а ноги будто ватные. Но думки не оставляла, ждала случая.
Случай вскоре представился. Марья Григорьевна занедужила. Ксения пошла навестить её. Больная сидела в кресле. Она была бледна. Взгляд её больших красивых глаз потускнел. Ксения поклонилась ей.
— Бог помочь, Марьюшка! Будь здрава!
Марья Григорьевна смотрела на неё, ничего не отвечая.
— Не прислать ли тебе нашего доктора? Добрый Штофф искусен во многих болезнях.
— Не надобно. Ныне меня отпускает... Порчу на меня навели.
Ксения перекрестила её.
— Господи, спаси и помилуй! Кто же эти лихие люди?
Марья Григорьевна ответила ей пристальным взглядом, так что Ксения подумала, уж не на неё ли грешит Скуратиха. Она знала, что Годуновы пуще всего опасались порчи от волхования и дурного глаза. Ей стало жаль Марью, и она сказала:
— Ты, Марьюшка, не бери себе в голову дурные мысли. На днях я тоже занедужила, да после оклемалась.
Она хотела добавить: «Как выздоровеешь, заходи, я тебе шитьё знатное покажу», — но почему-то смолчала. Недаром говорят: «Коли вымолвить не хочется, так и язык не ворочается». Напоследок хозяйка всё же проявила словоохотливость, не удержалась, чтобы не поделиться важной новостью: царь задумал сватать племянницу английской королевы Елизаветы. Ксения с интересом выслушала хозяйку, но от высказываний воздержалась, ограничившись ничего не значащими восклицаниями.
Расстались они холодно, без всякого желания поддерживать отношения.
Новость, однако, была важной. Ксения спешила домой, чтобы обо всём рассказать Фёдору. Ужели царь надумал развестись с Марьей Нагой? Но дома она нашла гостя, давнего приятеля Захарьиных — старого боярина Ивана Умного-Колычева. Это был интересный гость. Он помнил ещё великую княгиню Елену, мать Грозного-царя, и одно время состоял при ней «для бережения». Боярин Иван Иванович сидел в покойном хозяйском кресле, а мать Ксении — Марья Ивановна — угощала его взваром. Так назывался особый настой на целебных травах и сухих ягодах, приправленный майским мёдом. Говорили, что взвар и мёртвого поднимет, и старый боярин, выпив его, действительно оживился. Он начал рассказывать новость, которая дня через два стала крылатой и облетела всю Москву: царь надумал свататься к знатной англичанке.
В эту минуту вошёл Фёдор. Он низко поклонился гостю, поцеловал шершавую морщинистую руку, затем вежливо возразил ему:
— Мне говорили ныне, что коварники пустые речи про царя ведут!
Боярин Иван заморгал подслеповатыми глазами, сказал не без обиды:
— Стар я, чтобы уши развешивать на коварные речи. Вести про сватовство царя верные. А шептуны Бориса Годунова скоро разнесут их по Москве.
— Зачем это надо Борису? Или сестра его не замужем за царевичем Фёдором, наследником престола?
— Новая женитьба царя не ослабит наследственные права царевича Фёдора. Но Годунову должно ославить царицу Марью Фёдоровну: седьмая-де она жена и неугодна царю. В умах людей станет насеваться недоумение, а это и надобно Борису.
— Да зачем ему это надобно? Ежели царь женится в восьмой раз и родится новый наследник престола, какая выгода в том Борису?
Ксения внимательно следила за выражением лица мужа. Отчего это упорство в его речах, почему так стоит за Годунова? Не хочется тревожить душу опасениями? Так-то спокойнее — думать о человеке доброе. А ежели не думается? Как было не заметить, что не с добром встретила её Марья Скуратиха? Старый боярин, тоже вглядываясь в лицо Фёдора, хотел понять его мысли.
— Царь женится в восьмой раз? — повторил он. — Так не будет же того. Господь всё сделает по-своему. Не будет восьмой женитьбы, — пророчески изрёк он.
Боярин поднялся и медленно направился к двери, потом обернулся и сказал Ксении:
— Слушай, дитятко, сходи к царице Марье Фёдоровне. Она ныне в горести великой, а ты утешь её: не будет-де восьмой женитьбы, но пусть готова будет к испытаниям грядущим. Царя нашего скоро не станет, и он чудит накануне своей погибели. А Борису неймётся: видно, чует, что трон ему заповедан.
Онемевший Фёдор и встревоженная Ксения проводили боярина Ивана до колымаги, в которой он приехал, и долго потом обсуждали его пророчества.
...Между тем начались приготовления к сватовству царя. Дела завязывались круто, и волей судьбы в них был втянут Фёдор Романов, хотя и косвенно. Не раз он вспомнил эти дни десятилетия спустя, когда его частная жизнь определялась столкновением интересов двух держав — русского государства и Польши. Ныне сталкивались интересы русского государства и Англии, и умение стоять на страже интересов своей державы определяло человеческое достоинство участников этих событий.
Но столь же старой была тяга иноземцев урвать у Руси побольше благ, ничего не давая ей взамен, и как можно сильнее уязвить её державную гордость.
Убеждённый в том, что ему не вернуть прибалтийских берегов без помощи других государств, Иоанн всячески стремился заключить союз с английской королевой. Он разрешал свободную торговлю на Руси английским купцам, одновременно воспрещая проникновение в неё торговым людям из других стран. Взамен он требовал, чтобы королева была другом друзей и врагом врагов его державы. Хитрая королева отвечала уклончиво, добиваясь единственно особых льгот для своих купцов. Получив желаемое, она старалась отделаться от русского царя мелкими подачками: прислала хорошего врача Якоби, аптекарей. Тогда Иоанн решил добиться своего другим способом — породниться с королевой, заключив брак с её племянницей. Чтобы начать дело о сватовстве, он послал в Англию дворянина Фёдора Писемского. Елизавета любезно приняла русского посла, но когда он повёл дело о сватовстве, она, не желая родниться с Иоанном, ответила со всевозможной хитростью: «Любя брата своего, вашего государя, я рада быть с ним в свойстве; но я слышала, что государь ваш любит красивых девиц, а моя племянница некрасива, и государь ваш вряд ли её полюбит. Я государю вашему челом бью, что, любя меня, хочет быть со мною в свойстве, но мне стыдно списать портрет с племянницы и послать его к царю, потому что она некрасива да и больна, лежала в оспе, лицо у неё теперь красное, ямоватое; как она теперь есть, нельзя с неё списывать портрета, хотя давай мне богатства всего света».
Понимая, что «лихие люди» хотят поссорить Елизавету с Иоанном, чтобы расстроить сватовство, тем более что для этого были основания — у Марьи Нагой родился сын Димитрий, — Писемский попросил королеву показать ему невесту. В этом ему невозможно было отказать, и русский посланник, увидев Марию Гастингс в саду, докладывал царю, так описывая невесту: «Ростом высока, тонка, лицом бела. Глаза у неё серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках тонкие и долгие». Однако на встрече с Писемским королева дала ему почувствовать прежнее неодобрительное отношение к сватовству:
— Думаю, что государь ваш племянницу мою не полюбит, да и тебе, я думаю, она не понравилась.
Посланник отвечал:
— Мне показалось, что племянница ваша красива, а ведь это дело становится судом Божиим.
Тем не менее Елизавета отправила в Москву посла Боуса с коварным поручением — вести уклончивую политику, затягивая дело о сватовстве, но не давая решительного отказа, чтобы не помешать выгодным торговым отношениям с Русью. Ради этого посол пошёл на уловку, объявив, что у королевы есть другие родственницы-девицы, и обещал списать с них портреты и послать царю. Но через некоторое время он отказался от своих слов. Царь поддел его насмешкой:
— Говорил ты о сватовстве: одну девицу исхулил, о другой ничего не сказал. Но безымянно кто сватается?
Между тем были перехвачены грамоты, какими английские купцы обменивались с врагами Руси — шведами и датчанами, а в письмах на родину англичане высмеивали московских людей, будто они ничего хорошего не ведают, и советовали посылать в Москву товары худые да гнилые: москвитяне-де всё равно толку не знают.
Это послужило началом конфликтов, которые вскоре стали известны всем москвитянам. В любом обществе, в том числе и в высшем, всегда найдутся люди «для завода», было бы, как говорится, болото. А «болото» в московской жизни было создано усилиями чужеземцев. Одни поддакивали им, другие гневались, когда они поносили всё русское. А тут ещё посол Боус водил царя за нос, что также немало задевало патриотическое чувство москвитян. Боусу решили отомстить. Первым объявил ему войну дьяк Андрей Щелкалов. Он был главой Посольского приказа. Занимаемая им должность была однозначна положению канцлера. Это был великий знаток всех приказных дел, с ним считался сам Иван Грозный, ибо без него не спорилось ни одно дело. Могущество его усиливалось ещё и тем, что после царя он был самым богатым человеком на Руси.
Этого было достаточно, чтобы его невзлюбил другой могущественный человек — Борис Годунов, укрепивший к тому времени своё первенствующее положение при царе. Щелкалов знал об этом, хотя при людях Годунов выказывал ему расположение. Но они были ещё и политическими противниками. Годунов был сторонником союза с Англией, и такие «мелочи», как лукавство Боуса и недостойные проделки английских купцов, его не смущали. Андрей Щелкалов был склонен поддерживать в дипломатических связях немецкую партию и терпеть не мог высокомерных англичан. Когда ему представился случай отомстить им в лице посла Боуса, он велел чинить ему «тесноту», давать дурной корм: вместо кур и баранины, о чём просил посол, ему давали ветчину и прочую пищу, к которой он не привык. Боус не находил в русских, посланных к нему для беседы, и уважения к себе, а боярин Богдан Бельский назвал его неучёным.
Боус пожаловался царю. Дело это рассматривалось в кругу близких к царю вельмож. Это походило на судилище, устроенное Годуновым. Вопреки усвоенному им вежливому, спокойному тону он горячо обвинял Богдана Бельского и Андрея Щелкалова в оскорблении королевского посла. Он говорил о необходимости закрепить за английскими торговыми людьми право исключительной торговли. С ним не согласился Никита Романович, сказав, что посол Боус — человек грубый и невежливый, что он приехал не дело делать, а отказывать, дела же он не знает. А давать королевским купцам особые права помимо других держав — мыслимо ли наложить такую тяжесть на русскую землю?
Царь слушал эти речи и молчал, стараясь держаться как бы над схваткой между двумя партиями. Он был подавлен сознанием, что ему так и не удалось вернуть потерянное побережье Балтийского моря. Наступательный союз против Польши и Швеции не состоялся.
Но, верный необходимости считаться с чувствами королевы английской, Иоанн объявил дьяка Щелкалова виновным и удалил его от дальнейшего общения с английским послом, а кормильщиков и слуг Боуса велел примерно наказать.
Партия Никиты Романовича потерпела поражение в этой схватке, но не сложила оружия. Никита Романович со всей очевидностью убедился в том, что Борис Годунов лукавит, делая вид, что выступает в интересах царя. Это он, Никита Романович, защищал интересы царя, да Андрей Щелкалов, да Богдан Бельский. А Борис, по всему видно, заботился о себе, думая, как установить хорошие отношения с королевой Елизаветой. Видимо, загодя помышлял о том времени, когда ему предложат трон...
Увы, ближайшие события подтвердили самые мрачные предчувствия бедного Никиты Романовича.
ГЛАВА 31 УСТИМ БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ
Узнав, что сватовство Иоанна к англичанке не состоялось, многие вздохнули с облегчением. Расчёта царя на то, что Англия пойдёт на союз с Русью и втянется в войну с поляками и шведами, никто всерьёз не принимал. Зато многие справедливо опасались, что английские торговые люди будут чинить «тесноту» русским купцам и сократят торговый оборот Московии с другими странами. Примеры тому уже были. Всё это немало способствовало начавшемуся оскудению русского государства. Финский залив находился теперь в руках шведов, и Нарвская пристань была закрыта с его стороны. Сухопутное сообщение с Западом через Смоленск и Полоцк также было пресечено по случаю войны с Польшей. Как изволите торговать, русичи? Контрабандой, окольными дорогами? И чему тогда удивляться, что суда, вывозившие пеньку и лен, простаивали в гавани, а чаны с салом и ящики да мешки с воском, кожами и прочими товарами застревали на таможнях либо бездействовали на попутных прогонах! Следствием такого упадка торговли было оскудение государственной казны и многих частных лиц.
К этому следует добавить и неполадки в землевладении, притеснение царём знатных земцев, которые были искони крупными землевладельцами. Иоанн перетасовал большие земельные наделы, точно карты, либо урезал их в пользу служилого люда, разорил монастырские угодья, также дававшие немалые доходы, а во время неурожая кормившие голодных людей. Всё это вместе привело к общему обеднению, тесноте и разжиганию взаимной злобы. Особенно тяжёлым было положение крестьян, попавших в зависимость от мелких землевладельцев, которых по воле царя расплодилось великое множество. Пленным из Лифляндии он дал поместья и земли, а пришлых людей сделал дворянами. Эти пришлые становились самыми жестокими эксплуататорами. Крестьяне бежали от них к прежним хозяевам — боярам, и это усиливало смуту, разжигало ненависть военно-служилого сословия к московской знати. Не менее страдали от новых русских хозяев и города: посадских людей выживали из усадеб и насиженных гнёзд. Новички проникали и в приказы, намереваясь подчинить себе законы. Воеводы разрешали ратным людям буйствовать на русской земле.
Этой стихии вседозволенности бессилен был положить предел и сам царь. Лишённые наследственных угодий и прав дворяне и посадские поселенцы страдали, как и торговые люди, и многие обездоленные либо бежали за рубеж, либо подавались в вольные казаки, либо собирались в шайки и разбойничали на дорогах. Судебный «правёж», когда провинившихся наказывали на Ивановской площади батогами или плетьми и нередко забивали до смерти, не способствовал наведению порядка и очищению нравов.
Фёдор Романов, с недавней поры заживший собственным домом, должен был в полной мере испытать на себе все тяготы переживаемого времени. Поселившиеся по соседству с его угодьями царские выдвиженцы из военнослужилого сословия досаждали ему всеми способами: то добрый клин земли отхватят, то крестьян к себе сманят в самый разгар полевых работ, то затеют бесчинствовать в его поместье либо самовольно рубить деревья в его лесу. Не раз Фёдор думал с горечью, что ему приходится расплачиваться за политику, какую в поддержку царя проводил отец, Никита Романович. Притесняли «княжат» в пользу служилых людей, и вот чем это обернулось. А бояре, вместо того чтобы дружно держаться вместе, тягались между собою о местах, заводили свары.
Приближалась весна, и надо было думать, где найти кузнеца — прежний недавно умер, и кем заменить сеятелей, коих сманил к себе бравый воевода из соседней волости. Москва населена воровскими людьми. Они, случалось, и нанимались на работу, но от них сплошной урон. И красть научились так ловко, что не уследить. Наловчились тёмной ночью перебрасывать краденое добро через забор своим людям, караулившим на ту пору. Мошенничество становилось повсеместным. Никогда прежде не сталкивался Фёдор с такой шаткостью в людях и ненадёжностью. Надо было следить и за казначеем. И за приказчиком. Думаешь найти в них правду, смотришь — свернули на кривду. И каждый норовит разбогатеть, обзавестись поместьем, пробиться среди прочих, заявить о себе. Силёнок маловато, но всё равно пыжится, завидует, разгуливает большим барином, а норовит стянуть, что худо лежит. Иные не выдерживали этой борьбы за превосходство над ближними, становились жертвой спиртного либо ударялись в мошенничество. Фёдора всегда поражало, как много любителей выдвинуться даже среди простого люда, иные из них не были лишены ума и достоинства. И однажды случай послал ему человека, которому суждено было сыграть заметную роль в его судьбе.
Стояли мартовские морозы. На подворье собралось много пришлых людей. Они нанимались на работу. С каждым из них должен был особо беседовать приказчик, но его не было. Фёдор выглянул из окна, и в глаза ему бросился средних лет мужик в поношенном жупане и высокой шапке из барашка. Он был далеко не стар, среднего роста, широкоплечий и обращал на себя внимание острой приглядкой к окружающему и независимым видом. Слышно было, как он громко сказал проходившему мимо слуге:
— Спроси там, до коих пор нам тут стоять. Напомни про нас...
Фёдор велел слуге привести к нему этого мужика. Когда он вошёл, можно было заметить, что он не ожидал такой чести. Это не помешало ему смело взглянуть на боярина, затем внимательно оглядеть его кабинет, и всё это с таким видом, словно ему не в диковинку видеть боярское дородство и роскошь убранства.
— Пришлый?
— Ты верно угадал, боярин.
— Приехал искать в Москве работу?
Большие серые глаза мужика слегка сощурились. Он ответил, явно лукавя, но не теряя важного вида:
— Царя захотел посмотреть. Сколько живу на свете, а даря ни разу не видел. Дай, думаю, на царя посмотрю, будет чем перед людьми похвалиться.
— И как тебя зовут, весёлый человек?
— Устимом Безземельным меня зовут. Халупники мы.
— Что значит «халупники»?
— А то значит, что какая-никакая хата есть. А земли нет. На пана робыв. А панщина — это не дай бог. Хуже, чем на Москве кабальщина. Я севрюк, житель северной Украйны, из Конотопа, такие халупники, как я, гурьбой уходили в донские казаки. Я был с рязанцами. Нас называли отвагами. Мы великую тесноту чинили ногайскому мурзе, а потом поехали с Ермаком в Сибирь воевать царя Кучума. Поначалу жили у Строгановых, помогали им одолеть мурзу Беквелия. Строгановы нас не вдруг отпустили. Много повидал я неправды и горя. Нас троих заставил служить себе один колонист-христопродавец, а чтоб мы не сбежали, нас посадили на цепь, и так работали мы в кузнице. Но мы разрубили цепь. Про те времена мы сложили песню:
А бежал я из Сибири, Из тяжкой неволи. Кандалов хоть не имею, А всё ж не на воле.«Каких только людей не принимает в своё лоно русская земля», — думал Фёдор, дивясь упорству этого человека, так много успевшего в свои годы. На вид ему было не более тридцати лет.
— Ты, Устим, смелый человек.
— Смелый? Дай-то бог! Без смелости сила попадает на вилы.
— Хочешь попробовать свои силы в дальнем поместье? Там много беглых холопов. Приказчик один не справляется. Пришлю тебя в помощники. Станешь ему помогать.
— Спасибо на добром слове, боярин. Давай, пожалуй, буду у тебя служить... Токмо дозволь, боярин, просить тебя, дабы определил меня на службу не в далёкое поместье, а на работу при себе... Я и за конями могу ходить.
— За конями ты можешь ходить и в дальнем поместье, — заметил Фёдор, которому не понравилась настойчивость Устима. — Для этого не требуется непременно быть при своём господине.
Устим некоторое время молчал, переминаясь с ноги на ногу, потом произнёс с новой настойчивостью:
— Я господскому языку хочу научиться, боярин.
Фёдор поднял глаза, желая понять, не лукавит ли мужик, не посмеивается ли неведомо над чем, как в начале беседы. Но Устим держался с достоинством, смотрел строго и мял в руках шапку, что выдавало его волнение. Нет, тут не лукавство и не смех неведомо над чем. Мужик хочет выбиться в люди. И чем-то он располагал к себе, что-то надёжное было в нём.
— Скажешь управляющему, я велел служить тебе на конюшне. Будешь ездовым при хозяйстве.
— Премного благодарен, господин!
«И всё же странно держит себя этот мужик... Словно он не такой, как все», — подумал Фёдор.
Дня через три Устим пришёл к нему. Вид у него был таинственный и значительный. В ответ на долгий вопросительный взгляд своего господина сказал неожиданно:
— Я тебе, боярин, важные вести принёс.
Начал он издалека:
— Я тут со стрельцом одним спознался. Мой батька служил у его батьки. Земляки, значит. Вот он и зовёт меня: «Приходи, Устим, как стемнеет, к Дворцовому приказу. Я там приставлен доглядать за волхвами. По-нашему это колдуны. Ночью страшно одному стоять. Ты будешь в соседней каморе сквозь оконце смотреть, как волхвы колдуют. Тебе они ничего не сделают. Ты же сам сказал, что тебя сам чёрт боится». Я согласился пойти в ту камору, только не подумал, что земляк мой не зря боится. Ну и насмотрелся же я, боярин. Там такие страсти да напасти! Стоят два мужика, а по полу ползает черепаха. Один мужик книгу листает толстую, как бревно, и сам толстогубый, бровастый, пучеглазый. Потом между собой шу-шу-шу, а слов мне не разобрать. Вдруг что-то как зазвенит, как засвистит! Пучеглазый мужик ударил себя по коленке, и опять что-то как зазвенит! Прямо боже мой! Я перекрестился, молитвы шепчу. Вдруг входит какой-то господин, не старый собой и чернявый, невысокого росточка, весь кафтан на нём сияет. Спрашивает: «Скоро ли ваше гаданье?» — «Гаданье наше готово...» — «Ну?!» — «С помощью книг мы прочли в звёздах: царь помрёт на Кириллин день». — «Но царю сегодня лучше». — «Кириллин день ещё не наступил». — «Смотрите, ворожеи, царь велит казнить вас, если вы солгали». Гадальщик как стоял, так и застыл на месте. Не шелохнётся, потом тихо произнёс: «Звёзды не лгут».
Фёдор долго молчал. Он знал от Богдана Бельского, что царь вызвал волхвов для гадания, но о предсказании царю смерти слышал впервые. Поразило его и то, что к волхвам ходил Борис Годунов. Царь его послал или сам надумал? Фёдор так глубоко ушёл в свои думы, что, казалось, забыл об Устиме.
— Боярин, а боярин... Ты не молчи. Дело-то тёмное. Мне почудилось, тот чернявый в золотом кафтане хочет смерти дарю. Ты отпусти меня, боярин. Пойду к своим севрюкам. В Москве жить небезопасно.
Фёдор строго посмотрел на Устима.
— Ты мой холоп, а я твой господин... Таких гулевых, как ты, и в бегах могут сыскать. И не думай хоть одному человеку сказать, что ты видел!
В тот же день Фёдор разговаривал с Богданом Бельским.
— Смелого и опасного мужика держишь ты на своём подворье, — начал Богдан, — только я скажу тебе...
Он вдруг смолк, испуганно дёрнулся, подошёл к окну, привычно погладил окладистую густую бороду и проговорил:
— Коли вымолвить не хочется, так и язык не ворочается, однако и молчать негоже. Меня давно тревожит то, о чём сказал тебе этот мужик.
ГЛАВА 32 СМЕРТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО
Прославленный эскулап Иоганн Лофф готов был признать своё бессилие. Тело царя начало пухнуть, внутренности гнили. Чтобы продлить дни жизни царя, мало было одной врачебной помощи, нужно, чтобы и сам больной боролся со своим недугом. Лофф, лечебное искусство которого основывалось на тонком понимании душевного состояния больного, его чувств и настроений, знал, что пока царь находится во власти страха перед смертью, он бессилен ему помочь. Лофф был ценителем древних авторов и хорошо помнил высказывание римского поэта Публия Сира: «Страх смерти хуже самой смерти».
Находясь при больном почти безотлучно, Лофф мог видеть, как лицо царя искажала судорога страха и сколь изобретателен он был, стараясь победить в себе дурные предчувствия. Лоффу казалось, что и сватовство к племяннице королевы царь затеял, надеясь найти в этом сватовстве душевную опору. Как только рухнула эта надежда, вернулись прежние страхи. Болезнь взяла над царём силу: ноги стали пухнуть и слабеть, появился и начал усиливаться дурной запах. Да, страх — плохой лекарь, он забирает у человека силу.
Лофф стал думать, чем бы отвлечь внимание царя от болезни.
— Государь, хочу сказать тебе: ты давно не веселил себя видом своих сокровищ. Не повелишь ли перенести тебя на кресле в ту комнату, где ты их хранишь?
Больной внимательно посмотрел на своего лекаря.
— Ты прав, старик.
Царь велел находящемуся при нём постельничему выполнить совет доктора. Позвали царевича с супругой Ириной, её брата Бориса Годунова, Богдана Бельского и многих знатных иноземцев. В просторном теремном помещении стояло по стенам много сундуков. Слуга зажёг шандалы. Сидя в кресле, Иоанн приказал принести ему царский жезл и положить его на стол возле кресла.
— Запомни, царевич, он сделан из рога единорога, и в сём указание на божественное предназначение царской власти, — обратился он к сыну Фёдору. — Единорог — яко имеющий власть по прямому родству. Не токмо от Рюрика и благодаря ему мы начали царствовать, но от самого римского кесаря Августа, обладателя вселенной...
Царь любил порассуждать об этом, и всякий раз у него бывало такое чувство, словно говорил он впервые. Насладившись впечатлением, какое производил на окружающих царский жезл, оправленный сверкающими драгоценными камнями, царь сказал:
— Я купил его за семьдесят тысяч марок. Сей жезл был в руках богачей города Аугсбурга и был доставлен мне Давидом Гауэром.
— Как прекрасен этот алмаз! Подобно тебе, государь, кто славится признанным царём среди царей, алмаз — царь драгоценных камней, — угодливо заметил английский посол Боус.
Он по-прежнему испытывал притеснения от слуг и надеялся на царскую милость.
Иоанн недовольно посмотрел на него.
— Я никогда не пленялся алмазом, он укрощает гнев, сохраняет воздержание и целомудрие. Он даёт силу, но и забирает её... Я люблю сапфир, он хранит и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем жизненным чувствам... Богдан, — обратился царь к Бельскому, — принеси мне мою казанскую шапку.
Казанская шапка, принесённая Богданом, представляла собой царский венец, подобно шапке Мономаха, но существенно отличалась от неё по исполнению и по материалу. Её золотая тулья была украшена мелким цветочным чернёным орнаментом. К ней внизу параллельными рядами были прикреплены резные кокошники, а в центре находился драгоценный камень. Венчал «казанку» не четырёхконечный крест, как Мономахову шапку, а вытянутый, наподобие свечи, жёлтый сапфир в девяносто каратов. Царь погладил соболью оторочку шапки, коснулся сапфировой свечи и вдруг надел шапку на голову. Лицо его как-то сразу осветилось, глаза ожили. Золотая резьба радостно оттенила бирюзу — мелкую вверху и крупную по центру кокошников.
Видно было, что Иоанн любил эту шапку, как любил и воспоминания о Казанском походе, с которым она была связана. Он припомнил сейчас один памятный случай героического одоления русскими воинами жестокого натиска татар.
Но получилось так, что рассказывал он одно, а видел перед собой другое: как в момент штурма Казани он молился в церкви о победе. Потом за ним пришли: «Государь! Казань наша! Татары сдались».
Иоанн не любил признаваться в своих слабостях, но как забыть чувство страха, когда воображение рисовало сцены одну ужаснее другой: он, русский царь, в плену у татар!
Этот страх долго преследовал его. Позже ему добыли эту казанскую шапку. Удивительное чувство уверенности в себе давала ему эта шапка...
Словно угадав, о чём думает царь, старый боярин Скурлятев сказал:
— Слышно было, государь, тебе эта шапка досталась от Епанчи, коего одолел князь Горбатый-Шуйский.
Царь с досадой отвернулся от него. Он не любил, когда при нём упоминали князя Александра Борисовича, которого он казнил.
Спохватившись, Скурлятев решил исправить свою ошибку и добавил:
— И бирюзы-то сколь на шапке, почитай, одна бирюза — будто под твои глаза подбирали.
Тут царь повернулся к боярину-говоруну и резко произнёс:
— Или тебе, старый хрыч, случалось видеть разумных и добрых людей с голубыми глазами? Может ли достойный муж иметь голубые глаза? Никак! Голубыми глазами Бог шельму метит, и примером тому может быть наш изменник — князь Курбский.
Боярин Скурлятев сразу сник и стоял ни жив ни мёртв. Но кто знал, что Иоанн считал свои глаза серыми, какие были у богов древности!
— А ты, наш батюшка, как токмо осерчаешь, сразу и видно, что оздоровел.
Это сказал другой угодник, боярин-земец Титов, и тоже невпопад. Царю вдруг стало плохо. Теряя сознание, он успел произнести гортанным ослабевшим голосом:
— Унесите меня!
Свежий воздух в царских покоях и примочки к вискам скоро привели царя в чувство. Он подозвал к своей постели Бельского и велел ему идти к ворожеям (Устим ошибочно принял их за мужиков) и спросить их, по-прежнему ли они стоят на том, что в Кириллин день ему приключится смерть? Не составили ли они по планетам и созвездиям новое гадание? Бельский даже растерялся от такой поспешности. Он не торопился исполнять поручения царя и смотрел на окружающих, как бы ища поддержки. Но они опустили глаза, не зная, что думать.
Один только Борис Годунов, стоявший в эту минуту у изголовья царя, доподлинно понимал его состояние и был уверен в себе. Он знал, что Иоанн не был в душе таким стойким и мужественным, как полагали многие, что он был даже трусоват; знал он также, что Иоанном владел мучительный страх за свою жизнь. Оттого и шапку с сапфировым наконечником велел принести, ибо верил, что сапфир вселяет в душу мужество.
Будучи сам не храброго десятка, Годунов не без оснований думал, что царь, истерзанный болезнью, неудачами, но упорно цепляющийся за жизнь, не выдержит испытания объявленным сроком смерти.
— Государь, ты бодр и здоров. Или не видишь — солгали ворожеи? Вели их казнить, — сказал Бельский.
Годунов продолжал молчать, упорно опустив глаза вниз. Бельский медлил.
— Богдан, ступай... А я тут партию в шахматы с Родионом сыграю.
Иоанн повёл себя странно. Он вдруг велел вернуть Бельского, оставил партию в шахматы, хотя явно выигрывал, и объявил вошедшему Бельскому, что ему охота попариться в мыльне. Богдан вновь вышел, чтобы сделать распоряжения, хотя царская мыльня была готова во всякий час дня.
Было два часа пополудни. Лёгкая парная во вкусе царя была готова, пахло его любимыми травами: золотником, таволгой. Бельский с радостью замечал, что царь мылся в своё удовольствие, обещал его наградить, как и не мнилось Богдану. Затем они вместе пили любимый царёв можжевеловый квас, что взбадривал лучше вина, и заедали его густым овсяным киселём на медовой сыте.
Царь разговорился, вспомнил вдруг о переписке со старцами Кирилло-Белозерского монастыря.
У Иоанна сложились с этим монастырём давние и особые отношения. Он чтил память игумена обители преподобного Кирилла Белозерского и сам ездил на молебен в обитель Белозерской пустыни, часто вспоминал житие святого, описанное митрополитом Макарием в Четьях минеях, много был наслышан о чудесах, что творил святой при жизни.
Каково было Иоанну, столь почитавшему этот монастырь, узнать, что постригшийся в нём боярин Иван Шереметев нарушает его устав, а монахи потворствуют опальному: разрешили ему завести двор с поварней? Каково? Монах услаждал себя вкусной пищей. Грозный потребовал, чтобы Шереметев питался за общей трапезой, но братия ходатайствовала за боярина «ввиду его болезненного состояния». Царь пытался усовестить их: «Отцы святые! В малом допустите послабленье — большое зло произойдёт. Так от послабленья Шереметеву и Хабарову чудотворцево предание у нас нарушено... Но тогда зачем идти в чернецы, зачем говорить: «Отрицаюсь от мира, от всего, что в мире»? Шереметев сидит в келье что царь, а Хабаров к нему приходит с другими чернецами да едят и пьют, что в миру; а Шереметев, невесть со свадьбы, невесть с родин, рассылает по кельям пастилы, коврижки и иные пряные составные овощи, а за монастырём у него двор, на дворе запасы годовые всякие, а вы молча смотрите на такое бесчиние? Так это ли путь спасения, это ли иноческое пребывание? Или вам не было, чем Шереметева кормить, что у него особые годовые запасы?»
Долгой и бесполезной была эта тяжба царя с монастырём. И сейчас Иоанн припомнил о ней. До конца дней своих он был неусыпно строг к людям. Это сочеталось в нём со снисходительностью к собственным грехам и слабостям.
Телу Иоанна было вольготно в просторной полотняной рубахе. Дышалось в предбаннике легко, не то что в тереме. В воздухе стоял лёгкий парок, пропитанный запахом целебных трав. Освежённый баней, порозовевший Иоанн с помощью любимца натянул на себя мягкий ворсистый халат.
— Государь, глаза у тебя играют, яко у жениха, — заметил Богдан Бельский.
— А чем я не жених? Ныне, как свататься стану, тебя сватом-то пошлю... Оно делом-то и сговоришься.
Приунывший за время болезни царя Бельский повеселел. Пришли в опочивальню. Богдан радостно приговаривал, укладывая царя:
— Али не сподобит Господь? Ещё и посватаемся... Ушло лихо-то на чужое подворье. А нашему государю-батюшке Бог здоровья дал...
Царь действительно казался здоровым, словно сам дьявол играл его жизнью, как некогда и он играл своей короной.
— Не вели ко мне никого пускать, а вели позвать Родю Биркена. Партию с ним я таки не сыграл.
Но не успел Богдан отдать распоряжение, как в опочивальню государя вошли Годунов с Ириной и Фёдором, а следом за ними — царица Марья. Царь хмуро окинул взглядом вошедших.
— Зачем явились? Кто вас кликнул?
Он подозвал Биркена, несмело выглядывавшего из-за широкой спины царицы Марьи. Царевич испуганно вышел, следом Ирина с царицей Марьей. Годунов остался. Он следил глазами, как царь расставляет шахматы на доске. Видно, что-то дьявольское было в этом взгляде: фигура короля трижды упала, пока подоспевший Биркен не поставил её.
— Сказывай, какие вести принёс? Колдуньи, поди, опять погибель мне сулят? Ступай и скажи им, чтобы сами приготовились к смерти. Я здоровее, чем был.
— То так, государь. И колдуньям было говорено о том, да они стоят на своём. До солнечного заката-де ещё далеко.
Ничего не ответив Годунову, Иоанн сделал ход. Он как будто погрузился в игру, но чутко наблюдавшему за ним Бельскому показалось, что царь ослабел. Он ещё успел подвинуть фигурку на доске, потом поднял голову, хотел что-то вымолвить и рухнул навзничь. Стоявший неподалёку аптекарь вскрикнул.
— Послать за водкой! — приказал Годунов. — Ты, Богдан, чай, не давал ему освежиться после бани?
— Лекаря! — потребовал Бельский, не слушая его.
— Принесите розовой воды! Зело помогает при обмирании, — распорядилась Ирина Годунова, первой прибежавшая на крик.
Пришёл Лофф, пощупал пульс царя, коротко произнёс:
— Духовника!
Вскоре у постели царя появились архимандрит Чудова монастыря Иона, митрополит и несколько менее важных духовных особ.
Царевич Фёдор заплакал навзрыд, как ребёнок, прислонясь к плечу Ирины. Она прошептала едва слышно:
— О, Господи помилуй!
— Всё в воле Господа! — отстранение и безучастно произнёс Борис Годунов.
Эти слова и сам тон их словно пробудили царицу Марью, которая стояла у изголовья царя в оцепенении и не отрывала взгляда от его лица.
— Не покидай нас, родимый, — заплакала она. — На кого ты оставляешь Митю, голубчика нашего ненаглядного, херувимчика...
— Не вой, Марья! — резко оборвал её плач Григорий Годунов.
Между тем над умирающим совершили обряд пострижения. Иоанн в новом святом житии получил имя Ионы.
Последние слова святого напутствия, едва ли слышанные Иоанном, были и последней связью его с жизнью.
Теперь, когда всякий мог безбоязненно вглядеться в черты царя, многих поразило, сколь безобразным стало его лицо, казавшееся прежде пригожим. Рот ввалился, над ним крючком навис нос, точно у хищной птицы. Многие поспешно отводили глаза, будто опасались, что царь может ожить.
Среди духовенства было заметно непривычное оживление. Отовсюду стекались в Кремль митрополиты, епископы и прочие духовные особы. Им предстояло первыми на Святом Писании принести присягу новому царю и целовать крест, давая тем клятву верности.
Борис Годунов в сопровождении своих приближённых и родных, выйдя на Красное крыльцо, объявил собравшимся:
— Царь Иоанн скончался!
На лицах людей были недоверие и страх. Грозный-царь и мёртвый был им страшен.
Годунов повторил:
— Царь скончался, приняв иноческий образ.
Трудно было привыкнуть к мысли, что начнётся новая жизнь. Люди внимательно вглядывались в лица тех, кто ныне был с Борисом Годуновым. Многих не видели ранее. Вот Годунов позвал начальника стражи и велел зорко охранять ворота дворца, держать наготове оружие и зажечь факелы. Дворцовому воеводе он приказал закрыть ворота Кремля и хорошо охранять их.
Можно было заметить, что с одними Борис был холоден и строг, с другими любезен, особенно с иноземцами. Когда к нему подошёл торговый агент Горсей, глава московской конторы «Русского общества английских купцов», Годунов обошёлся с ним ласково, попросил передать послу Боусу, что отдано распоряжение о дополнительной охране английского подворья, а самому Горсею заметил: «Будь верен мне и никого не бойся. Ты услышишь многое. Но верь только тому, что я скажу тебе».
Вскоре Горсея поразило, однако, странное поведение с ним правителя Годунова. Он перестал вдруг оказывать ему внимание, через подчинённых предъявил необоснованные обвинения в сношениях с польским королём, в том, что Горсей вывез из страны большие сокровища.
Чем, как не насмешкой, звучали слова Годунова, которые он шепнул английскому негоцианту, что ни один волос не упадёт с его головы!
Вспоминая впоследствии эти дни, иноземцы говорили, что их очень удивило быстрое и полное обновление и аппарата управления, и прислуги. Будто это была совсем другая страна. Но многие из них были в тревоге и не знали, что лучше: страх перед жестоким царём или наступление безвластия, неопределённости и опасения — не стало бы хуже.
С этими мыслями провожали царя в последний путь. Похороны были пышными, при великом стечении народа. Люди крестились: одни — церковного обычая ради, другие — от страха, чтобы царь не воскрес тайным колдовством. Иначе зачем было ставить крепкую охрану возле его могилы? Сыну его Ивану никакой охраны не ставили, хотя похороны тоже были пышными.
Но и те, что опасались колдовства, не были склонны исполнять последние повеления покойного царя. Страх перед силой и неуёмная дерзость всегда уживались в народе русском, и многие думали: «Эх, была не была... Мёртвая собака не кусается».
Со смертью Грозного окончилось так много, но от прежнего царствования осталось ещё больше, чтоб продолжиться с новой силой. И дурного осталось больше, чем хорошего. Недаром в народе говорят: «Всякое лихо споро, не минёт скоро». Ещё Фёдор не был увенчан царским венцом, но уже утверждали, что за него станет править Годунов, ибо он и ранее знал все предназначения царя. Находились скептики, которые говорили, что на Руси не было ещё случая, чтобы татарин ведал державными делами. Но и они скоро смолкли, видя, как властно распоряжается делами Борис. А где остальные ближники Иоанна? Где Богдан Бельский? Где Никита Романович? И многие думали, что Годунов не захочет иметь соперников.
ГЛАВА 33 В ПРЕДВЕСТИИ БЕДЫ
Фёдор венчался на царство 31 мая 1584 года. Был он слабоумен, безволен и недеятелен. Главное его занятие — церковная служба, богомолье, любимая забава — бой людей с медведями, смешные выходки шутов и карликов. Челобитчиков слушать не любил, отсылал к Борису Годунову.
Удивительно ли, что всё правление державой перешло в руки царского шурина, и случилось это ещё до венчания Фёдора. Чтобы взять власть в свои руки, Годунов спровоцировал смуту и сам же её подавил. Был пущен слух, что Нагие хотят видеть на престоле царевича Димитрия, хотя он был ещё младенцем. Нагие были схвачены и вместе с бывшей царицей и её сыном — царевичем Димитрием — сосланы в Углич. В Москве начались допросы, пытки. Многих бояр, которых Годунов считал своими противниками, он отправил в ссылку, разорил их имения либо отписал в казну. В числе опальных был и родственник Никиты Романовича — казначей Головин.
Труднее Годунову было справиться с могущественным и богатым Богданом Бельским, которого, кстати, он все эти годы ласкал как своего друга. Поэтому и понадобилось Годунову все его хитроумие и коварство, чтобы выдвинуть против Богдана убедительные «улики», правдоподобные даже в глазах иностранцев. Был распространён слух, что Бельский ищет смерти царевичу Фёдору и смутьянит в пользу царевича Димитрия, воспитателем которого он был.
Чтобы придать этим слухам наглядность, подкупили лихих людей — рязанцев Кикина и Ляпунова, известных дурной репутацией. Они взволновали чернь и ратных людей. Дерзость смутьянов была столь велика, что они выкатили пушку на Красную площадь и обнародовали свою угрозу — выбить Спасские ворота, за которые затворился-де «лихой Богдан». Царь велел выйти к ним боярам Никите Романовичу Захарьину и Ивану Мстиславскому и дьякам Щелкаловым.
— Кто возмутил вас не по делу? — резко спросил главный дьяк Андрей Щелкалов.
— Поговори ещё! — грубо огрызнулся Кикин.
— Ужели хотите пролития крови христианской? — более милостиво обратился к ним Никита Романович. — И на кого вы пришли?
— Выдай нам Богдана Бельского. Он хочет извести царский корень и боярские роды...
Никита Романович видел лукавое коварство Кикина и Ляпунова. В его уме впервые мелькнула догадка, кто за ними стоит. Но он был стар, слаб и чувствовал на себе давний обычай рода Захарьиных: Кошка против силы не пойдёт. Он сделал царю доклад, какого и ожидал Годунов.
Богдана Бельского сослали в Нижний Новгород. Мог ли он думать, что опальная судьба выпадет и на долю его семьи! И всё же опаска за сыновей у него появилась. Разве захотел бы такой человек, как Годунов, терпеть рядом со своей властью сильного соперника!
Ближайшие события стали тому подтверждением. У Годунова был воистину дьявольский обычай: прежде чем навести на человека опалу, он начинал его ласкать, особенно если человек был знатный. К этому времени в большой чести был первенствующий боярин — князь Иван Мстиславский. Это сделалось его бедой.
У Годунова на памяти было немало случаев расправы с боярами, неугодными царю Ивану. В ходу было отравное зелье, поэтому не стоило особых трудов пустить слух о якобы злом умысле Ивана Мстиславского, пригласившего Годунова на домашний пир. Близкие Годунова поверили слухам. Доказательств не искали, зато распространили новый слух, будто бы Мстиславский признался в «злодействе», и этот слух, видимо, сошёл за доказательство вины боярина. Его постригли в Кириллове монастыре.
Поступив так с Мстиславским, коего почитал за «отца названого», Борис развязал себе руки в расправе с остальными именитыми князьями и боярами. Схватили Воротынского, Головиных и заключили их в темницу либо разослали по другим городам. Не удалось Годунову добраться до Шуйских, ибо за них стоял весь московский люд и грозил побить Годунова каменьями в случае их опалы. Не тронули и Никиту Романовича, вероятно, по той же причине. В народе почитали родного дядьку царя, к тому же он был стар и болен.
Однако Романовы не чувствовали себя в безопасности. На именинном обеде предстояло обсудить ближайшие дела. Всяк думал о том, что им, Захарьиным-Романовым, надлежит опасаться беды и, стало быть, надобно принять меры, дабы не навлечь на себя гнева правителя. Более других был озабочен Никита Романович. Много раз бывал он свидетелем гнева царского, но всякому была очевидна его причина. Прежде не бывало такого, чтобы хватали людей ни за что, а ныне попавшие в опалу не давали никакого повода для гнева. Они были повинны лишь в том, что Годунов видел в них своих соперников. Пострадали сильнейшие: Богдан Бельский, Иван Мстиславский, Воротынские, Головины. И не потому ли были отправлены в Углич Нагие вместе с царевичем Димитрием, что в нём Годунов видел соперника себе? Ужели так далеко простирались замыслы правителя, ужели он в мыслях своих посягал на трон русских царей?
Ослабевший, больной Никита Романович жил эти дни лихорадочной, пока тайной жизнью. Искал, думал, что ему надлежит сделать? Читая Писание, он нашёл у Екклесиаста слова: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни занятий, ни мудрости». И самое тяжкое — вместе с ним уйдёт в могилу и его мудрость. А как передать её детям своим, если она личное достояние человека? Это не совет на каждый день. Мудрость не примешь из чужих рук, подобно тому, как принимаешь пищу. И сама мудрость крепнет, вбирая в себя соки жизни. Некогда он учил сына: «Мы, Захарьины, от корня Фёдора Кошки, и наукой нам стали его слова: «Кошка против силы не пойдёт». Да только ныне этой науки мало. Сама сила век от века становится сильнее да коварнее. Как её упредить, дабы она тебя не сломила, как сломила она Богдана Бельского и Ивана Мстиславского? А какие мужи были! И силы им было не занимать, и богатством с царём могли сравняться...
«Что спасёт моих крепких ныне сыновей, когда я помру?» — думал Никита Романович. Он только что оправился от болезни, когда внезапно утратил дар речи и обезножел. Но вот, благодарение Господу, оклемался. Значит, угодно Богу его наставление детям.
Тем временем родные и близкие сидели за столом, ожидая приезда Романова-старшего, но не было слышно живых разговоров меж них, будто всё было в поминальный день. Кажется, и слуги предчувствовали недоброе и, когда увидели старого хозяина, были поражены произошедшей с ним переменой. Лицо его, в былые времена розовевшее на морозе, было бледным, рот почти совсем ввалился, и лишь в глазах его, внимательных и озабоченных, ещё была жизнь. Фёдор встретил отца у ворот, провёл знакомой лестницей в дом. Войдя в столовую, Никита Романович перекрестился на образа, затем поклонился собравшимся родным. Они встали из-за стола, кланяясь.
— Дорогой батюшка, буди здрав!
— Буди здрав!
— Дорогому тестюшке низкий поклон! — заглушая остальные голоса, произнёс князь Борис Камбулатович Черкасский, женатый на дочери Никиты Романовича.
Когда унялась суета и все расселись по своим местам, Никита Романович оглядел каждого, потом сказал:
— Не вижу за столом хозяйки, Ксении Ивановны...
— Она на женской половине, — ответил Фёдор.
— А позовите-ка сюда Ксению Ивановну. Ныне её место рядом с хозяином.
Пока собравшиеся старались понять, что могли значить слова Никиты Романовича, ибо испокон веков не было принято, чтобы женщины участвовали в совете мужчин, Фёдор строго прикрикнул на слугу, разделявшего общее недоумение:
— Что стоишь? Или не слышал приказания?
Ксения Ивановна появилась быстро, поклонилась сидевшим за столом, затем остановилась возле Никиты Романовича и отвесила ему низкий поклон особо.
— Здрав буди, дорогой свёкор-батюшка!
— Здравствуй и ты, Аксинья, здравствуй, дорогая! Отныне твоё место за столом рядом с хозяином.
— Не стою я такой чести, свёкор-батюшка!
— А вот и стоишь! — весело возразил Никита Романович, любуясь снохой.
После рождения первенца Ксения стала красивее. Её румяное лицо дышало здоровьем. Природно полные щёки лоснились от модных белил. Высокий нарядный кокошник делал её стройнее. Никита Романович подвинулся, освобождая ей место на скамье между собой и Фёдором.
Пили за здоровье Никиты Романовича. Борис Камбулатович провозгласил тост, суля тестю многие лета. Никита Романович усмешливо отмахнулся:
— Где мне, старцу! В летах моих волен Господь. Возвестим лучше здравицу за молодых! Ты, Фёдор, старший. Будь обороной для своих братьев.
Он остановил взгляд на красавце сыне, который взял у своего деда Романа Захарьина всё лучшее: ловкость, сноровку, храбрость, превзошёл умом и учёностью своих сверстников. Куда братьям до него! Александр одно в уме держит — стать царедворцем. На него и Василий смотрит... А того не понимает, что всё прежнее ушло со смертью царя Ивана. Что их ожидает — один Бог ведает.
— Ты не тревожься о нас, отец, — сказал Фёдор.
— Батюшка, мы и сами себе оборона... — самодовольно проговорил Василий.
— Ты, отрок, наперёд старших-то не выступай! — поправил его отец. — Не научился-то ещё укора стыдиться.
Обведя взглядом сыновей-отроков — Василия, Михаила и калеку Ивана, произнёс назидательно:
— Брата своего старшего чтите, как отца чтили. В дому своём не ленитесь. И за всем сами наблюдайте. Учитесь хозяйствовать. А ты, Фёдор, за весь род наш ответчиком остаёшься перед Богом и людьми. Не посрами чести и досужества нашего. Страх Божий имей превыше всего. Жену свою люби как свою душу... Настанут времена иные, и жена твоя, как орлица в непогоду, будет укрывать твоих детей. Меня на свете уже не будет, но будет всё, как я сказал: и непогода, и орлица верная...
Он поднялся, вышел из-за стола, поклонился всем, окинул взглядом богатое застолье, подумал: «Придёт время, когда трапеза ваша обеднеет. Осётры, да стерляди, да пироги с сочнями лишь во снах станут сниться...»
Фёдор встал из-за стола, чтобы проводить отца.
Он смотрел на его ссутулившиеся плечи, чувствовал его неверный шаг, и сердце Романова-младшего сжималось от тоски.
...После встречи с детьми на Никиту Романовича напала такая слабость, что его вынесли из колымаги на руках и сразу уложили в постель. Благополучно проспав до утра, он велел позвать Годунова. Его не покидали дурные предчувствия. Казалось, что жизнь его детей висит на волоске, ибо, как говорит древняя притча, «от беззаконных исходит беззаконие». Оставалась всё же возможность — попросить всесильного правителя поклясться на кресте, что выполнит предсмертную волю Захарьина-старшего, с которым вместе служил царю. Пусть вспомнит, что Никита Романович оказывал ему услуги многие.
Годунов пришёл скоро. Никита Романович зорко взглянул на него, но не прочёл в его глазах ничего, что могло бы вызвать на размышления: участливый, ласковый взгляд, низкий поклон. Есть лица, на которых и ясновидец ничего не прочитает. Недаром говорится: «Человек смотрит на лица, Бог видит сердца».
— Ты, чай, и сам знаешь, Борис Фёдорович, зачем тебя позвал?
— Может быть, и знаю. До тебя, видно, дошли ложные вести. Ты слышал много такого, чему не надобно верить. На днях до меня довели опасные слухи, будто жизнь покойного даря завершилась не по звёздным законам, а была прервана насильственно. Или верить тому, что всё сделалось по Божьему предназначению?
Никита Романович опечалился.
— Смута в умах к беде ведёт. Ты, Борис, большого разума человек. Ты досуж в делах державных и всё устроишь к общему согласию. А ныне моя речь с тобой не о том. Ты, Борис Фёдорович, садись у моего ложа. Давно мы с тобой не толковали, чтобы душа в душу было. Мне недолго осталось обременять собой белый свет и хотелось бы отойти в иной мир со спокойной душой. Ты знаешь, о чём тревожусь... Мои сыновья...
Борис Фёдорович придвинул табурет к ложу Никиты Романовича, положил свою руку на его руку.
— Нашёл о чём тревожиться. Или я не говорил тебе, что моими хлопотами Фёдор через год станет боярином? Александру дадим окольничего... Василий, коли захочет, получит службу в приказе. А для покоя твоей души могу в том поклясться.
Он взглянул на крест, лежавший на столике у изголовья Никиты Романовича, взял его в руки.
— Хочешь правды? Ежели будет у твоего Фёдора нужда, я стану ему помогать и в том готов целовать крест.
Годунов быстро поднёс крест к губам, но Никита Романович так и не уследил, поцеловал он крест или только коснулся его губами. Охваченный внезапным волнением, он произнёс:
— Борис, проверь сначала своё сердце, можешь ли на том устоять. На том и целуй, дабы не погубить души своей, преступив крестное целование.
— Или я изменял когда прежнему расположению к тебе? — с укоризной спросил Годунов.
— Тогда пусть страдают души тех, кто хотел нас поссорить... Боже храни тебя, Борис Фёдорович! Ныне вижу в тебе не токмо правителя, но и царя своего, коему можно верить!
В глазах Годунова вспыхнуло выражение, говорившее о том, что слова эти понравились ему.
— Всё будет исполнено, как ты думаешь! Ни единого волоса не упадёт с головы твоих сыновей!
Никита Романович вспомнил рассказ Горсея, усомнившегося в верности точно таких же слов, сказанных ему Годуновым, подумал и о том, как быстро изменил Годунов прежнему расположению к Горсею: против него были выдвинуты необоснованные обвинения, сам он подвергался опасности смертельной отравы, а его повар и дворецкий умерли от яда. Верить ли обещаниям Годунова, хотя бы и клятвенным? Эти сомнения, видимо, не ускользнули от Годунова. На лице его появилась тень смутного недовольства. Он зорко и как-то отстранённо посмотрел на Никиту Романовича.
— Пошто хмуришься? Али вспомнил что-то неладное? — спросил Никита Романович.
— Ты угадал, Никита Романович. Я вспомнил, как покойный царь любил повторять слова из Писания: «Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».
— Добрые слова, и в добрую минуту ты вспомнил о них. Паче всего учил я сыновей не замышлять втайне ничего, что может причинить урон людям. Тайна — обман. Не бывает ничего потаённого, что не вышло бы наружу.
Прощаясь с Никитой Романовичем и думая о том, что он уже недолго протянет, Годунов обещал ему иметь «бережение великое» к его сыновьям.
ГЛАВА 34 ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ
После смерти отца Фёдор стал замечать, что Годунов избегает его. На царском семейном обеде, куда царь Фёдор пригласил своего брательника, Годунов был неизменно приветлив, но обходил нежелательного ему гостя взглядом либо отсутствовал, ссылаясь на занятость. Фёдор делал вид, что не замечает его уловок, но на память приходили слова покойного Никиты Романовича: «Больше друзей, больше и врагов». Однако он с интересом ожидал, чем закончатся эти уловки Бориса.
Был погожий апрельский день, когда Фёдор возвращался с царской трапезы. Он остановился перед церковью Успения перекреститься на образ Спаса и вдруг увидел через плечо Бориса, который тоже осенял себя крестом. Взгляды их встретились. Борис казался приветливым.
— Фёдор Никитич, — начал он тихо, — есть причины, по которым я не могу открыто высказать тебе мою любовь и бережение, о чём было говорено с незабвенным Никитой Романовичем. Ныне я не волен назвать причины.
Годунов удалился так быстро, что Фёдор не успел ему ответить. Он понял, что из каких-то видов Борис Фёдорович нашёл нужным отдалиться от него, но до времени не решался выказать ему нелюбовь.
Дальнейшие события показали, что самой неотложной заботой Годунова было удаление родовитых бояр и князей. Он цепко держал в руках бразды правления и сурово расправлялся с теми, кто хотел ослабить его власть при царе либо умалял его авторитет одним своим присутствием при дворе. Только на Шуйских он до времени не посягал. Правитель ожидал случая подвергнуть их опале.
Тем временем митрополит Дионисий убедил Годунова помириться с Шуйскими. Правитель лукаво обещал быть с ними в дружбе, и патриарх рода Шуйских, выйдя на площадь к народу, ожидавшему развязки, объявил о мире с Борисом Фёдоровичем. Люди отнеслись, однако, с недоверием к этим словам, а два купца сказали:
— Эх, Иван Петрович, помирились вы нашими головами. И вам от Бориса пропасть, и нам погибнуть.
Эти купцы в ту же ночь были схвачены. Шуйские поняли, что согласие с Борисом невозможно. Они решили всем миром при поддержке многих князей и московских влиятельных людей просить царя Фёдора развестись с неплодной Ириной — по примеру его деда, великого князя Василия Ивановича. Их совет был поддержан митрополитом Дионисием. А чем всё завершилось? Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских сослали в их вотчины и там удавили. Остальных разослали по городам и монастырям.
Опасаясь нежелательных толков за рубежом, Годунов дал наказы послам и в тех наказах искусно перемешал правду с ложью: «Спросят, за что на Шуйских государь опалу положил и за что казнили земских посадских людей, отвечать: государь князя Ивана Петровича за его службу пожаловал своим великим жалованьем, дал в кормление Псков и с пригородами, с тяглом и кабалами, чего ни одному боярину не давал государь. Братья его, князь Андрей и другие братья, стали перед государем измену делать, неправду, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками, а князь Иван Петрович им потакал, к ним пристал и неправды многие показал перед государем. То не диво в государстве добрых жаловать, а лихих казнить. Государь наш милостив: как сел после отца на своих государствах, ко всем людям милосердие и жалованье великое показал, а мужики, надеясь на государскую милость, заворовали было, не в своё дело вступились, к бездельникам пристали; государь велел об этом сыскать, и которые мужики-воры такое безделье учинили, тех пять или шесть человек государь велел казнить; а Шуйского князя Андрея сослал в деревню за то, что к бездельникам приставал, а опалы на него никакой не положил; братья же князя Андрея, князь Василий, князь Димитрий, князь Александр и князь Иван, в Москве; а князь Василий Фёдорович Скопин-Шуйский, тот был на жалованье на Каргополе и теперь, думаем, в Москве; боярин князь Иван Петрович поехал к себе в вотчину новую, в государево данье, на Кинешму: город у него большой на Волге, государь ему пожаловал за псковскую осаду; а мужики, все посадские люди теперь по-старому живут. Если спросят, зачем же в Кремле-городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили, отвечать: этого не было, это сказал какой-то бездельник: от кого, от мужиков в осаде сидеть? А сторожа в городе и по воротам не новость — так издавна ведётся: сторожа по воротам и дети боярские прикащики живут для всякого береженья».
На самом же деле везде была поставлена крепкая стража, хватали людей, лилась кровь на пытках. Годунов действовал нагло. Он снял с митрополичьего поста Дионисия, лишил архиерейства Варлаама и заточил их в отдалённые монастыри.
Все поняли, что Годунов был правителем по имени, по власти — царём. Важнейшие места в государстве занимали Годуновы и их приспешники. А сам Борис Фёдорович придумал для себя особый титул: «царский шурин и правитель, конюший боярин и дворцовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского». Он закрепил за собой особое право сноситься с иностранными государствами от собственного имени.
К этому времени Годунов был самым богатым человеком в России. Он имел около ста тысяч годового дохода. При этом он особенно заботился о славе царицы, своей сестры, выдавал огромные суммы на её благотворительность, любое царское благодеяние делалось от её имени. Был создан особый полк царицыных телохранителей, была построена, в дополнение к уже имевшимся, особая золотая царицына палата.
Замечено было, что свой двор Борис устроил наподобие царского, где принимал иностранных послов, давая при этом почувствовать, что всё зависит от него. И, понимая его силу, послы величали его «пресветлейшим вельможеством», «пресветлым величеством». От иностранных послов не отставала английская королева Елизавета. Она называла его в письмах «своим самым дорогим и любимым двоюродным братом». Прослышав о неплодии его сестры, царицы Ирины, она прислала ей врачей. В благодарность Годунов разрешил беспошлинную торговлю английским купцам, что лишало казну ежегодного дохода в двадцать тысяч рублей и более — по тем временам огромные деньги. Англичанин Горсей, которому до этого чинили всякую «тесноту» и который, спасая свою жизнь, поспешил вернуться в Англию, получил большие запасы, необходимые для столь долгого путешествия. Не иначе как хотел Годунов удивить англичан необъятностью русского гостеприимства. После того как Горсей со своими единомышленниками выехал на княжеском судне, снабжённом нужной для дороги провизией, ему во след на второй день было послано: 16 живых быков, 70 овец, 600 кур, 25 окороков, 80 четвериков муки, 600 караваев хлеба, 2000 яиц, 10 гусей, 2 журавля , 2 лебедя, 65 галлонов[23] мёду, 40 галенок[24] водки, 60 галенков пива, 3 молодых медведя, 4 сокола, запас лука и чеснока, 10 свежих сёмг и дикого кабана. Всё это было доставлено Горсею одним дворянином от имени государя, а другим от Бориса Фёдоровича.
Было о чём задуматься москвитянам: суровый к своим, Годунов был усердно-угодлив к иноземцам.
Почему он не терпел рядом с собой соправителей, которые составляли круг близких вельмож при Иване Грозном? Или они не хотели добра державе? Почему притеснял своих торговых людей и готов был кланяться последнему англичанину?
Фёдор видел, как поочерёдно и круто расправлялся Годунов с некогда всесильными вельможами. После гибели героя псковской осады Ивана Петровича Шуйского из прежних могикан оставался в силе глава Посольского приказа Андрей Петрович Щелкалов. Никому даже в голову не приходило, что опала может постичь и его. Иностранные послы называли его канцлером, и он действительно был всесилен, подобно канцлеру в Англии. К нему прислушивался сам Иван Грозный, который не считался ни с кем, даже с Малютой Скуратовым. На Щелкалова было много доносов и жалоб, но он всегда выходил сухим из воды. Поэтому, когда до Фёдора дошли досужие разговоры, что Годунов «подбирается» под самого всесильного дьяка, он не поверил, но на душе стало тревожно. Почудилось, будто неведомая опасность надвигается и на него самого.
Как-то ранним утром из окна кабинета он увидел подъехавшую к их подворью колымагу. Из неё выходил Щелкалов. Что-то дрогнуло в сердце Фёдора при виде знакомой сухощавой фигуры в длиннополом кафтане. Андрей Петрович был другом его покойного отца и часто бывал у них в доме. Тонкий знаток приказного делопроизводства, умеющий найти правильное решение в любой чиновничьей кляузе, он был необходимым советчиком отцу в затруднительных ситуациях. Без него не обходился и царь Иван. Именно при нём дьяки вошли в силу. Сложилась даже поговорка: «Быть так, коли пометил дьяк». Фёдор помнил, как во время Ливонской войны начали местничать меж собой воеводы из бояр и это мешало их совместным действиям и как Андрей Петрович, взяв разрядные книги, всех уравнял. И так бывало не раз. Где бывал бессилен сам царь, приходил на выручку главный дьяк.
Когда Андрей Петрович вошёл в кабинет Фёдора, при одном взгляде на него можно было понять, что он попал в беду. Это был «цветущий глубочайшими сединами старец» — так писали о нём летописцы тех лет. Морщин было немного, но они пролегали глубокими складками на лбу и возле рта. Небольшие глаза были пронзительно-голубого цвета. Лицо усталое, видно, не спал ночь. Фёдор взял с поставца кувшин с вином, налил себе и гостю. Андрей Петрович выпил, но лицо его оставалось хмурым.
— Ты, наверно, думаешь, зачем я прибыл к тебе в столь ранний час? «Худо быть единому» — говорил Никита Романович, мой незабвенный друг.
— У тебя было много друзей, Андрей Петрович...
— То так, «было». Но недаром в народе говорят: «Много друзей — много и врагов». Ныне все повернулись от меня в другую сторону, как узнали, что всё моё достояние Годунов хочет отказать в казну.
— Какая причина?
— Со мной он и словом не перемолвился. Через дьяка Истомина передал. Я-де брал поминки великие.
Поминками в то время называли подарки. Их брали все, не исключая иноземных послов. Эти поминки вошли в обиход на Руси со времён татаро-монгольского нашествия, когда хан и его мурзы брали поминки со всякого, кто обращался к ним с просьбой. Это была своего рода добровольная дань. Но взятка, как её ни называй, есть взятка, и со временем она стала великой бедой в державе. С этой бедой начал бороться царь Иван, ибо за взятку всё можно было купить, даже титул. Но царь Иван, не желая того, и содействовал широкому распространению этого недуга. Он обновил должности дьяков, подьячих, тиунов и более мелкого «крапивного семени». В приказы пришли новые люди. Их так и называли — новики. Они сосредоточили в своих руках всю власть в значительной степени благодаря взяткам. Фёдор всё это хорошо знал от отца и, слушая теперь Щелкалова, в смятении думал, как ему помочь.
— Мне бы ныне сохранить наследственное достояние отца и матери, — продолжал Андрей Петрович.
— Оно, однако, принадлежит тебе по праву.
— По праву-то да, но права-то ещё по суду надобно отстоять. А бумаги на родовое поместье у меня нет.
— У тебя?! Такой умелый да ловкий в делах, а себя не обеспечил?
— Кто бы подумал, что Годунов учинит такой разбой? Мне бы тот разум наперёд, что приходит после!
— Так свидетелей али не сыщешь?
— Как не сыскать? Сыскал. Да они отпираются: всяк боится Годунова.
— Ужели сам Годунов не опасается, что за неправду отвечать придётся? Он же труслив по природе своей.
— Был труслив, да теперь осмелел. Волхвов при себе держит. Они советуют ему ничего не бояться...
«Надо было пойти в свидетели... Скажу на суде, что был с отцом в родовом имении Щелкалова, — думал Фёдор. — Или поговорить с царём Фёдором. Может быть, Андрей Петрович и надеется, что я с брательником побеседую. Да будет ли толк? Фёдор либо заплачет, скажет, что не понимает в делах, либо станет смеяться. Вот и весь разговор».
— Я с самим Годуновым поговорю. Посмотрю, как он будет отрицать неправду. Сам слышал, как ране он величал тебя отцом названым. Так ли с отцами-то поступают?
Щелкалов молчал, опустив глаза. Он был безмерно уязвлён унижением, выпавшим на долю его старости. Уязвлён он был и тем, что унизил его человек, который был обязан ему своей карьерой. Это он привёл к царю брата и сестру Годуновых, указав при этом на миловидную девочку: «А хороша будет невеста для твоего Фёдора». Это он приоткрыл перед Годуновым важные тайны, хранившиеся в разрядных книгах. Было за что Борису кланяться отцу своему названому.
— Ну, коли надумал к нему идти — иди. Вместе станем думать, как избыть злодея.
Нетерпеливый и запальчивый Фёдор в тот же день отправился к Годунову. Он догадывался, что Щелкалов что-то задумал. Было время обеда — лучшее время договариваться с Годуновым о встрече. К его подворью невозможно было подступиться из-за обилия стражников. Во дворце тоже не у кого узнать, когда он будет. Никто не знал и не должен был знать, куда он идёт.
Фёдору, однако, повезло встретиться с Годуновым до обеда, у входа в трапезную. Фёдор попросил его согласия на беседу. Годунов ответил недоверчивым взглядом, словно Фёдор затеял что-то недоброе, и, поколебавшись некоторое мгновение, согласился.
Трапезная помещалась в небольшой палате по соседству с царской спальней. В этом было то удобство, что прямо от стола царь шёл почивать. В центре палаты находился овальный стол, накрытый камчатой скатертью. Обычно стол накрывался на несколько персон, ибо на обеде непременно бывали царские родственники.
Пока Борис и Фёдор крестились на образа, появился царь и тоже стал креститься, шепча молитву. Потом стольник помог ему сесть. Далее стольник всем подал по чаре вина. Выпили молча.
Бросалось в глаза, что во время трапезы Годунов был мрачен, ни разу не улыбнулся. Глядя на него, молчал и Степан Годунов. Царь Фёдор, словно ребёнок, чутко реагирующий на поведение взрослых, часто менялся в лице, виновато смотрел на своего шурина, наконец, встав из-за стола, сказал, что пойдёт к своей царице: Ирина оставалась в своей комнате по причине недомогания.
Годунов велел своему родичу удалиться. Они остались вдвоём с Фёдором.
Почувствовав по решительному виду Фёдора, что разговор будет серьёзный, Годунов спросил:
— Челом бить пришёл али браниться?
— Челом бить... за дьяка Щелкалова Андрея Петровича.
Годунов посуровел. В такие минуты на его лице отчётливо проступали татарские черты.
— Какое тебе дело до дьяка?
— Ради памяти отца моего незабвенного хочу доискаться правды для его друга.
— Доискаться правды в бессудстве, лихоимстве? Ведомо ли тебе, что именем царя дьяк Щелкалов похищал почести и саны и во многом мздоимстве упражнялся?
— Но царь Иван вину ему отпустил. Или одна вина бывает взыскуема дважды? Или не сам ты любил говорить: «Не люто пасть, люто, падши, не восстать»?
— Люди не все едины. Или станем дарить милосердие губительным волкам?
— Кто же эти «губительные волки»? Не те ли вельможи, коих ты сгубил? Князь Иван Мстиславский? Или Богдан Бельский? Или герой псковской осады князь Иван Петрович Шуйский? Ты посягнул на людей, что были в государской милости! Кои крепили державу!
Годунов молча смотрел на Фёдора, сузив глаза.
— На них, о ком ты бездельно печалишься, сыскана вина... Ты бы о себе лучше помышлял, ибо боле некому.
Фёдора задели эти слова. Или царь Фёдор уже не брательник ему? Уже не сдерживаясь, в запале гнева он воскликнул:
— Видно, правду о тебе говорят: «Кто в чин вошёл лисой, тот в чине будет волком».
Годунов с любопытством посмотрел на него и ответил спокойно:
— Не ведал я ранее, что крутоват ты в словесах. Иди! Я отдаю тебе твоё нелюбие!
— Премного благодарен. Но ты лучше отдай Щелкалову наследственное имение родителей да хотя бы часть нажитого им добра. Смотри, твоя старость тоже не за горами.
Не дожидаясь ответа, Фёдор вышел. Он был доволен, что осадил высокоумного завистника и лиходея, но в душу понемногу закрадывалось опасение. Отец всегда остерегал его: «Во всём должна быть последняя черта, кою нельзя переходить. От излишней смелости до трусости — один шаг. Опалился гневом — греха не миновать».
ГЛАВА 35 ДЕЛА ПОЛЬСКИЕ И ПАН САПЕГА
Щелкалов, которому Фёдор рассказал о встрече с Годуновым, успокоил его.
— Добро, что сказал ему правду. Вас судьба разделила, а не гнев твой. Будь ты хоть сладкий, хоть горький, он тебя всё равно съест, как только представится случай. Ты — родня царю по крови — вот чего не может снести его душа. Бориска-то ведь к трону подбирается. Фёдор здоровьем слаб... Наследников нет.
— А царевич Димитрий?
Не отвечая на этот вопрос и как будто без всякой видимой связи, Щелкалов рассказал о том, что Годунов вызвал в Москву вдову Магнуса, родную дочь князя Старицкого, потомка Ивана Калиты, погубленного Грозным, и обещал ей милость, но вместо милости постриг её в монахини, а малолетняя дочь, что была при ней, вскоре умерла.
Фёдор впервые слышал об этом случае, но особого значения ему не придал. Внучка князя Старицкого могла умереть своей смертью.
— Видишь, какое беспокойство Борису от Калитиного племени! Изведёт он Калитин корень, а там и за тебя примется.
Известно, что беда, ещё не подступившая к самому порогу, — не беда. Фёдор хоть и не принял всерьёз опасений Щелкалова, но совет его — познакомиться с литовским послом паном Сапегой — пришёлся ему по душе.
— Лев Сапега — враг Годунова и, стало быть, при случае может быть твоим другом, — говорил Щелкалов.
Бывший глава Посольского приказа знал многие тонкости дипломатических игр и междоусобиц. Внутреннее чутьё, основанное на этом знании, подсказывало Щелкалову, что хитроумный Сапега, русский по рождению, но умелый проводник польских интересов, сразу поймёт, что Фёдор Романов может оказать услугу польской партии.
Польский король Баторий собирался с силами, чтобы нанести решительный удар по русскому государству, отнять у него Северскую землю и Смоленск. Московская смута, боярские заговоры, слабовольный царь — всё это поддерживало в нём уверенность в успехе. В Москву для переговоров был послан Лев Сапега. Он был мастер интриг, склонный скорее разжигать страсти, нежели примирять их. Долгие годы он служил подьячим на Руси, был умелым крючкотворцем, и если прибавить к этому ненависть к ней, то легко понять, почему польский король так ценил его: сначала посол, затем канцлер литовский. В годы смуты он вмешивался во внутренние дела России и с особым бездушием способствовал разорению Московского государства. О нём говорили: «Кто даст Льву Сапеге пару соболей, тот дьяк думный, а кто сорок — тот боярин и окольничий». И чем больше он брал взяток, тем сильнее ненавидел народ, руками которого обогащался.
Во время царствования Фёдора Ивановича Сапега ещё не успел войти в желанную силу. Перед ним стояла задача более скромная — запугать московское правительство турецким султаном, который-де приготовился к войне с Москвой. А с людьми запуганными, ясное дело, легче сладить, то есть навязать свои условия. В расчёты Сапеги входило получить выкуп за московских пленников — 120 тысяч злотых — и потребовать бесплатного освобождения литовских пленных, удовлетворения всех их жалоб.
Расчёты Льва Сапеги были верными. Московское правительство, опасаясь войны с Польшей, удовлетворило его требования, исключая одно — чтобы Фёдор убрал из своего титула название «ливонский». Но хитрый Сапега заключил кратковременное — десятимесячное — перемирие с Русью, надеясь внушить своему королю уверенность в успешном давлении на неё. Сохранились его письма к польскому легату, где он с пренебрежением пишет о московских делах и о самом царе Фёдоре: «Великий князь мал ростом, говорит тихо и очень медленно; рассудка у него мало или, как другие говорят и как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, смотря на скипетр и державу, всё смеялся. Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные; так и нынче, сказывали мне, чуть-чуть дело не дошло у них до кровопролития, а государь не таков, чтобы мог этому воспрепятствовать. Черемисы свергли иго, татары грозят нападением, и ходит слух, что король шведский собирает войско. Но никого здесь так не боятся, как нашего короля. В самом городе частые пожары, виновники их, без сомнения, разбойники, которыми здесь всё наполнено».
Переговоры между двумя державами продолжались, но безуспешно. Тем временем умер король Баторий, не оставив наследников. В Москве об этом узнали с чувством облегчения. Многие давно поняли, что далёкий отказ Иоанна от польского престола был ошибкой. Ставший королём Баторий, в недавнем прошлом бедный трансильванский князёк, скоро повёл политику, враждебную Москве. Не ожидавший от него такой вражды и напористости Иван Грозный потерял в войне с ним прибалтийские берега и вынужден был заключить постыдный разорительный мир. После смерти Батория положение русского государства ещё более усугубилось бы. На польский престол претендовал шведский король, который мог бы объединить под одной короной Польшу и Швецию. Под боком у русской державы возник бы могущественный враждебный ей сосед.
Ситуация была не простая и для польской стороны. Кого избрать королём? Активнее других действовала партия коронного гетмана и канцлера Речи Посполитой Яна Замойского. Ярый противник Москвы, он хотел разом покончить с ненавистным соседом. Он видел один путь к этому — избрание королём Сигизмунда III. Наследник шведского престола, тот сумел бы объединить Швецию и Польшу и, двинув мощное войско, овладеть для начала Смоленском, Псковом и загородить Московскому государству дорогу в Белое море.
Этот расчёт был весьма сомнительным, и одним из первых, кто это понял, был пан Сапега. Он видел в надеждах Яна Замойского проявление одностороннего ума, непонимание сути религиозного движения в Европе. Как соединить под одной короной протестантскую Швецию и католическую Польшу? Не разумнее ли соединить Польшу с русским государством под короной для Фёдора?
В тот день Сапега ожидал прихода Щелкалова с молодым Романовым и был готов к разговору с ними. От этого разговора он ожидал многого. Покойный Никита Романович позаботился о том, чтобы его сыновья жили в дружбе с царевичем Фёдором. Молодой Романов, как говорили, умён и ловок, а царь Фёдор по-родственному привязан к нему. И Сапега надеялся воспользоваться этой привязанностью, чтобы через молодого Романова внушить царю, страдающему слабоумием, многие действия в пользу Польши. Щелкалов заверил его в успехе. Да вот беда: караульные могут не пустить. Правитель Годунов так страшится польского посла, что велел замазать в заборе щёлочки и поставить новые ворота, чтобы в Посольский двор и мышь не прошмыгнула. Ну да бывает и на старуху проруха... Бывший глава Посольского приказа — старый лис, всех людей знает, и новыми порядками его не остановить.
Услышав за дверью глуховатый протяжный голос Щелкалова, Сапега сел к окну спиной, чтобы лицо его оставалось в тени, а сам он мог наблюдать за гостями. На нём был сюртук из серого сукна, скроенный по фасону, им сочинённому, — что-то вроде более позднего вицмундира на пуговицах. Рука его опиралась на посох, с которым он никогда не расставался. Сам он пристально вглядывался в лицо молодого Романова, который стоял в дверях за Щелкаловым, и как бы старался вызнать заранее, что от него можно получить. Но ничего, кроме любопытства и некоторого стеснения, на этом красивом, полном молодой энергии лице не было. Щелкалов слегка подтолкнул его вперёд и сказал:
— Ясновельможный пан, прошу любить и жаловать. Это Фёдор Романов. Человек он великий и близкий к царю.
Фёдор остановил его:
— Ты много хвалишь меня, Андрей Петрович... Всё это грех и суета...
Но Сапега непререкаемо возразил ему:
— При твоём достоинстве ты заслуживаешь московского трона, и, зная это, тебе надобно остерегаться правителя Годунова.
Фёдор упрямо вскинул голову:
— Ясновельможный пан не дело говорит. Мы надеемся на милость Божию и государское счастье Фёдора Иоанновича. А мы все служим великому государю и радеем о нём.
— Что ж, слова достойные, — согласился Сапега. — Но будем откровенны. Царь Фёдор — ума не сильного, и не подобает ли ближайшему родичу помогать ему в делах государственных? Ныне просим царя русского принять корону польскую. Но у нас много недругов и в Польше, и у вас... Об этом речь. Было бы вам ведомо, самым большим противником избрания Фёдора королём соединённого государства является коронный гетман Ян Замойский. Он хотел бы избрать королём Сигизмунда, а с русским государством покончить одним военным ударом. Да из этого ничего, кроме пшика, не выйдет. Тут надо действовать постепенно.
Фёдор слушал, хмуря лоб и не понимая, к чему клонит Сапега. Поляки хотят отдать свою корону русскому царю? Что ж, мир и согласие — всем и нам! За чем же дело стало? Любят поляки длинные речи...
Но Фёдор ещё от покойного отца знал, что Литва способна на каверзы и коварные вымогательства. Не затеял ли Сапега каких-нибудь хитростей? Слава о нём не весьма добрая.
Между тем Сапега продолжал:
— Проезжая ныне Виленское братство, я нашёл в тамошнем монастыре богатую библиотеку. Я люблю загадывать на книгах. Беру в руки — Плутарх. Слыхал о таком?
— Плутарх есть в царской библиотеке.
— Читал?
Фёдор усмехнулся высокомерному тону Сапеги. Он знал, что иноземцы называют русских туземцами. Как бы в подтверждение этих мыслей Сапега сказал:
— Не хочу обидеть тебя, но польские именитые мужи полагают, что русские — это неотёсанные неучи. Ты, стало быть, составляешь исключение.
— Ясновельможный пан, однако, жил на Руси и считал себя русским. Или я ошибаюсь?
— Я давно исправил ошибку своего рождения, — криво улыбнулся Сапега.
— Мне чудно слышать это.
— Я слыхал о тебе, что запальчив бываешь. Оставим слова спорные да горячие... Вспомним лучше, что рассказывает многомудрый Плутарх. Вот что нашёл я на странице, открытой наугад. Представь себе, это был рассказ, как полководец Серторий воспитывал туземцев.
— Ты имеешь в виду тех испанцев, которые отличались горячностью и безрассудством?
— Именно их.
— Плутарх говорит о туземцах не в том унизительном смысле, как это делают ясновельможные паны, когда употребляют это слово.
— Экий ты настырный! Или забыл, какие уроки Серторий преподал туземцам, которые не умели быть послушными и во всём полагались только на силу? Он созвал туземцев на сходку и велел вывести двух лошадей. Одну — могучую и статную, с густым и красивым хвостом. Её вёл человек маленького роста и жалкий на вид. Второй конь был дряхлым, и вёл его человек огромного роста и сильный. По знаку богатырь схватил лошадь за хвост и начал тянуть, стараясь выдернуть его. А второй, немощный человек стал по волоску выдёргивать из пышного хвоста могучего коня. Богатырь вскоре отказался от своей затеи и отошёл в сторону, а слабый человек продолжал выщипывать хвост по волоску, и в недолгом времени лошадь осталась без хвоста. Для туземцев это было убедительно: одним махом ничего не добьёшься.
— «Спеши медленно». Это и ранее Плутарха было говорено великими мудрецами.
Сапега опустил подбородок на рукоятку трости и внимательно вгляделся в лицо Фёдора Романова.
— Разумно сказано, но не в полную меру. Серторий учил туземцев, как важно выбирать свой час.
— Лев Иванович, — обратился к нему молчавший до того Щелкалов, — не довольно ли будет мудрёных словес? Не пора ли к делу прибиваться?
— Именно это я и намерен делать, и ты, надеюсь, будешь доволен моими словами. Кое-кто думает, что Руси пора вырвать её старозаветный хвост и на это надобно бросить силушку великую. Так думают иные вельможи в Польше и находят поддержку здесь. Коронный гетман Ян Замойский собрал голоса в пользу короля Сигизмунда, чая от него соединения шведской и польской корон, чтобы двинуть на Русь сильное войско. Да так ли разумно это решение? Не лучше ли по примеру, преподанному Серторием, выщипывать «русский хвост» по волоску?
— Так-так, — подтвердил Щелкалов.
Видя, как дёрнулся Фёдор, он добавил:
— Лев Иванович разумеет таких вельмож, как Годунов. У него есть на это и свой порядок, и свои дипломатические обычаи.
— Да меня-то зачем позвали для таких речей? Я не дипломат, — возразил Фёдор, обеспокоенный неожиданным поворотом разговора.
— Здесь-то ты и нужен, — заметил Щелкалов.
— Сын Никиты Романовича достоин играть важную роль при московском дворе, — поддержал его Сапега.
Фёдор дипломатично промолчал. Внимательно наблюдавший за ним Сапега продолжал:
— Я думаю, меж нас двух мнений быть не может. Фёдор достоин престола польско-русского королевства.
— Лев Иванович, а ты не обмолвился часом? На первом месте надлежит быть короне русской. Царь-то русский.
— Нам о том ведомо, — усмехнулся Сапега. — Ясновельможные паны стоят на том, чтоб королевство именовалось польско-русским. И важным условием сего объединения должно быть принятие русским царём латинской веры.
— Сие невозможно! — не сдержался Фёдор. — Наш православный царь набожен и усерден в своей православной вере ещё с малолетства.
— Различие меж православным и католическим вероисповеданиями не столь существенно, как думают, — примирительно заметил Сапега. — Авось и придут в интересах сторон к взаимному согласию. Договорились же об отпуске польских пленных без выкупа.
— Доброе слово доброго человека может горы своротить, — вставил от себя Щелкалов, любивший подчеркнуть при случае, что польским пленным помог Фёдор Романов, замолвивший за них «доброе слово» перед царём-родичем.
— Зачем горы сворачивать? Вы лучше дайте нашим шляхтичам земельки, — пошутил Сапега.
— Или наш царь не изрёк своего милостивого слова? Многие угодные земли дарит он шляхтичам по Дону и Донцу, — возразил Фёдор.
— В таких далёких и пустых местах какая прибыль будет нашим шляхтичам? Они просят землю в Московском государстве, да в Смоленске, да в Северском краю! Оно и самому царю прибыль будет.
— Русский царь землёй не торгует! — отрезал Фёдор, которого давно смущал этот разговор.
Эти люди явно преувеличивали его возможности влиять на царя. Да и станет ли он хлопотать о том, чтобы отнять у русских людей землю в пользу иноземцев?
«Каков зверёныш вырос! — подумал Сапега, с явным подозрением приглядываясь к Фёдору Романову. — И не зверёныш, а зверь!» Обратившись к Щелкалову, он произнёс с притворно горестным видом:
— Ну что ж, Андрей Петрович, видно, справедлива русская поговорка: «Богатого с бедным не верстают».
Ему показалось, что Фёдор зол по тайной злобе к Годунову, который лишил Романовых после смерти их отца прежнего величия при дворе. Это соображение примиряло Сапегу с резкостью Фёдора. Как у всякого умного человека, у него не было в обычае прилаживать к себе чужой нрав. Он думал, как самому приладиться к чужому нраву. Фёдор будет нужен ему, значит, стоило и потрудиться.
— Волей Божией это дело уладится. Без союза с Польшей быть Руси в великом разорении, — как бы подводя итог беседе, сказал Сапега. — А на тебя, Никитич, многие надежды у людей. В Годунове мы никакой правды не чаем. Всё делает проволокой. Больше с ним дела делать не станем.
Провожая гостей до двери, он произнёс, обращаясь к Фёдору:
— Ты бы сказал своему государю, чтобы прислал нам к столу рыбки всякой да солёностей разных московских. Больно они у вас хороши!
«Каков Сапега! — думал Фёдор, возвращаясь домой. — То угрожает, то просит и юлит. Начал с великого запроса: землю им московскую подавайте! А кончил рыбкой. Кто из них хуже — Сапега или Годунов? Борис всё же блюдёт интересы державы... А Сапега смотрел на меня как на врага, которого задумал покорить».
ГЛАВА 36 ТРАГЕДИЯ ВЕКА
Когда Фёдор вернулся домой, Ксения, заметив его особенное состояние, выспросила о разговоре с Сапегой и, ничего не сказав, вышла. А на другой день как бы ненароком молвила, что думает наведаться к Марье Годуновой: та давно уже приглашает её в гости. Фёдор тоже ничего не сказал ей на это, а сам подумал: «Не оплошкой ли я так круто разговаривал с правителем? Хоть оно и говорится: «Кто без храбрости, тот без радости», — да осторожность не мешает». Вспомнил, как незабвенный родитель его Никита Романович говаривал: «Легче переносится суровость судьбы, чем коварство врагов. Мирись с ними, елико возможно. Кстати бранись и кстати мирись».
Между тем вездесущий Годунов проведал, что меж Фёдором Романовым и Сапегой, с которым его свёл Щелкалов, состоялся разговор. Это насторожило правителя. Сапега был его заклятым врагом. Надо бы задобрить старшего Романова. Тут он вспомнил (который раз!) о клятве, какую дал Никите Романовичу — «держать бережение великое» к его сыновьям, и решил милостиво обойтись с Фёдором. Вскоре они встретились в царских покоях. Рядом никого не было. Годунов отозвался первым:
— Здрав буди, Никитич!
— Тебе такого же здравия желаю, Борис Фёдорович!
— Радуюсь досужеству твоему да ловкости в делах, Фёдор Никитич! Ныне думаем дать тебе боярство. Самое время. А там заступишь место дворцового воеводы.
— Кланяюсь тебе на добром слове, конюший боярин!
Годунов особенно пристально посмотрел на него, словно бы что-то прикидывал либо в чём-то не был уверен. Лишь позже, по воспоминаниям, Фёдор понял значение этого взгляда.
Это было время, когда Годунов укреплял собственное могущество, хлопоча о всеобщем расположении к себе, одних задабривал подарками от имени царя, другим выражал ласку и сулил многие выгоды в будущем. Он преследовал казнокрадов и взяточников, заботился о порядке и особенно о том, чтобы его считали справедливым правителем. Он чувствовал ревнивое отношение к себе представителей именитых родов, якобы ничего не замечая, а между тем делал своё дело. Стараниями Годунова общество становилось ещё более разношёрстным, чем при Грозном. Вражеские легионы, взятые в плен Иоанном и состоявшие из лавочников, бюргеров, купцов и просто голодранцев, осели на русских землях. Они становились детьми боярскими, служили дьяками в приказах, пополняли отряды стрельцов. Составляя прослойку «новых русских», они осмеивали русскую старину, культуру, обычаи, нравы. Корысти ради многие из них крестились, получали русские имена. Русские же окрестили их своим именем — новики.
В этой разношёрстной среде Годунов и находил себе опору. Что касается среды боярской, то отношение к ней у Годунова было избирательное. Подвергая опале одних либо обходя их вниманием, он приближал к себе, оделяя милостями тех, кто мог бы сослужить ему службу. Более сложным было его отношение к Романовым. В случае преждевременной смерти наследников Грозного у Романовых будут самые весомые права на престол, и Годунову всего разумнее до времени ладить с ними, чем враждовать. В его честолюбивой душе давно поселилась надежда сесть на царство. После женитьбы царевича Фёдора на Ирине и смерти царевича Ивана эта надежда овладела всеми помыслами Годунова. Она, эта надежда, и определила его отношение к Романовым.
Как-то после царской трапезы Фёдор отошёл к окну. К нему приблизился Годунов.
— Что невесел стоишь, Никитич?
Фёдор быстро оглянулся. Ему не удалось скрыть опасливого недоумения. Показалось ему, что Годунов спросил с каким-то умыслом.
— То так... Думки всякие.
Годунов сделал вид, что не заметил сторожкого выражения глаз Фёдора.
— Поведай о своих заботах. Я всегда хотел быть с тобой в дружбе и братстве. Люди обо мне разное говорят, да мне их не унять. А ты верь тому, что я говорю тебе.
— У меня ничего на мысли не было худого о тебе.
— Ты человек досужий. И добрый. За то тебя и Бог милует. Верю, что недружбу ты мне не учинишь...
— Помилуй, Борис Фёдорович! — воскликнул Фёдор, не понимавший, к чему клонит Годунов: в глазах правителя сияла сама доброта, но на лице лежали тени. — Сам-то отчего смутен? — думая, как повести разговор к концу, спросил Фёдор.
— Смутен? А? Ты заметил? То я тревожусь о тебе, ибо держу тебя возле своего сердца. Много у тебя завистников всяких. Да авось Бог милует. А я тебе подарок приготовил.
Годунов выдержал паузу и бросил взгляд на Фёдора:
— Службу тебе важную хочу сослужить. Будешь премного доволен. Чего и не мнилось тебе — получишь.
Годунов принял таинственный вид и внезапно покинул Фёдора; обратившись к вошедшей сестре Ирине:
— Государыня!
Фёдор оставил царскую палату, не зная, что думать о словах Годунова.
В скором времени стало известно, что в Швецию двинулась большая рать, возглавляемая царём Фёдором. Вместе с ним выехали Годунов и Фёдор Романов. Тонкими намёками Годунов дал почувствовать Фёдору, что тот обязан ему участием в этом важном походе. Вперёд был выслан отряд во главе князем Хворостиновым. Шведы потерпели поражение под Нарвой и поспешили заключить мир с русским государством. Чтобы не потерять Нарву, они сдали города — Копорье, Ивангород, Ям. Для дальнейших действий нужны были военная смелость и дипломатический ум. Руководивший этой военной экспедицией Годунов не обладал ими, поэтому русские потеряли Нарву, которая была для России важнее городов, сданных шведами. Однако Годунов считал этот поход своим триумфом: мы-де показали шведам и полякам, что владеем военной мощью. И действительно, вскоре Польша, до этого водившая русских за нос, заключила с ними перемирие на двенадцать лет. А Годунов всем доказал, что он ныне сила большая, с которой всем придётся считаться.
Во всё время похода он держал Фёдора возле себя. Фёдор должен был видеть, с какой важностью вёл Годунов дипломатические переговоры со шведами, как почтительно обращался к нему командовавший шведами генерал Банер. Фёдору казалось смешным это петушиное тщеславие Годунова. Однако не все так думали. Не только на Руси, но и за рубежом многие видели, что Годунов стал самовластным правителем и что преследует он далеко идущие цели. Очевидно, нездоровье и бессилие царя Фёдора внушали ему надежду на престол. Подобные мысли приходили и Фёдору, но он не придавал им значения, ибо жив был царевич Димитрий.
К сожалению, в характере Фёдора Романова было много благодушия. Да и был ли в России того времени человек государственного ума и сильной воли, который понимал бы, какие беды ожидают державу, мог бы предупредить о грядущей беде! Впрочем, и голос такого человека не имел бы желанных последствий, а жизнь смельчака была бы насильственно прервана.
Фёдор понимал это.
Ему не раз приходилось думать о судьбе царевича Димитрия. Он знал, что Годунов ненавидел царевича, не скрывал недовольства, когда упоминал его имя, и не раз с не свойственной ему едкой насмешкой говорил, что Димитрий и не царевич вовсе, ибо мать его, Марья Нагая, не была царицей, что сын седьмой жены Иоанна не может иметь прав на престол. Имя царевича запрещено было поминать на ектеньях[25], заздравных молениях «О государе и доме его». Тем самым царевич как бы отлучался от царского рода. Служки Годунова распространяли в народе слухи о кровавых повадках царевича. Он-де любит мучить животных, а зимой лепит из снега бояр и рубит им головы, приговаривая: «Так будет в моё царствование».
Когда до Фёдора дошли эти слухи, он посмеялся, подумав, что Борис верит им. Сам он не верил, ибо знал, сколь умна и предусмотрительна мать царевича Марья Нагая. Если бы Димитрий и был склонен к подобным играм, она увела бы его в терем, понимая, сколь предосудительно истолковывают зложелатели каждое слово царевича. А они были рядом: и в тереме царевича, и вокруг были слуги, преданные Годунову.
Фёдору это достоверно было известно от Устима. Все эти годы он жил на подворье Романовых. Устим водился с Михайлой Битяговским, которому был поручен надзор за царевичем. Последнее время Битяговский жил в Угличе с семьёй, но часто бывал в Москве, где ранее служил дьяком в приказе. Фёдору была не по нраву дружба его дворового человека с игроком и пьяницей Битяговским. Устим научился от него игре в зернь и посещению кабака.
Первой забила тревогу Ксения. Она не терпела пьяниц на своём подворье, и Устим был наказан плетьми на глазах всей дворни. Строгая была барыня Ксения. Она велела ему прийти на другой день, узнав, что он водится с Битяговским. А тот, бывший дьяк, имение своё проиграл в зернь да пропил, а ныне выслуживается перед Годуновым — на большие деньги, наверно, рассчитывает. У Ксении зрела догадка, не думает ли Битяговский перетянуть на свою службу Устима. Бывший полячишка, желая услужить Годунову, не стал бы выведывать у дворового человека о житье-бытье хозяев. Вернее всего такого слугу прогнать, но поначалу лучше выведать правду.
Устим вошёл, немного заплетаясь. Густые волосы всклокочены, на губах запеклась кровь: видно, искусал их во время наказания. Судя по виду, виниться не хотел.
— У-у, каторжный! Думал, от меня уйдёшь?
— А я, почитай, ни об чём не думал, боярыня! Говорят: «Дума за морями, а смерть за плечами».
— Умирать-то не рано ли собрался? У тебя дети, сын подрастает.
При мысли о детях лицо Устима омрачилось. Видно, в душе его была тревога за них. От Ксении не укрылась перемена в его лице.
— Выбирай ныне, о чём твоя забота: о детях либо как лучше Битяговскому услужить?
— Что ему моя служба! У него чутьё, яко у той собаки: на три аршина под землёй унюхает.
— Какого добра ждёшь от него?
— А никакого! Либо зла дождёшься...
— Какое зло затеял Битяговский?
— Про то я не ведаю.
Помолчав немного, Устим добавил:
— Думки у меня такие, как бы угличскому царевичу зла какого не приключилось.
Этот разговор Ксения передала Фёдору. Видя, что он не принял всерьёз её слов, добавила:
— Ворон старый не каркнет даром. Ежели Годунов велит погубить угличского царевича, нас он тоже не помилует.
— Царевич, чай, в Угличе-то при матери живёт да при дядьях его Нагих, — возразил Фёдор. — Надзор за ним строгий.
— Или думаешь, Битяговский не учинил за ним свой надзор? Чай, каждый шаг его стерегут. Там и Данила Битяговский, и Никитка Качалов. Сделают смуту. Смутьяны они и есть смутьяны. А при смуте и царевича недолго погубить. Ныне многие беду чуют. Сколь знамений люди видели на небе!
Фёдор и сам чувствовал: в воздухе носилось что-то недоброе. Многие понимали, что болезненный Фёдор долго не протянет. Романов с прискорбием видел угасание сил у царственного родича, замечал и обстоятельную настойчивость, с какой Годунов окружил себя льстецами и угодниками. Сам патриарх Иов во всём услуживает ему. Когда Иов был ещё в Ростовской епархии, Годунов облагодетельствовал его. Знал он, что учинится патриаршество в России, а в патриархи по его совету выберут Иова. Так оно и случилось. И ныне царь души не чает в этом боголюбивом, твёрдом в вере, смиренном человеке. А Иов во всём потакает Годунову, оттого и наложил запрет на упоминание имени царевича в ектеньях, как того хотел Годунов. Не к добру это. Ксения права. Погубит Годунов царевича по своему злому упорству.
Ему припомнился один рассказ, которому он прежде не придавал значения, ибо всегда относился с недоверием к случаям волхвования. А тут речь шла именно об этом. В Москве жила волхвовательница Варвара. Она предрекла Годунову царствование. «Только царствовать ты будешь недолго, — добавила она, — всего семь лет». Годунов же, как свидетельствует о том автор «Сказания о царстве царя Фёдора Иоанновича», воскликнул радостно: «Хотя бы семь дней, лишь бы имя на себя царское положить и желание своё совершить!» Фёдор не сомневался в достоверности самого факта гадания, но было бы легковерием думать, что оно сбудется. Годунов поверил ему. Не подтолкнёт ли его эта вера к новому злодеянию?
Тревога Ксении передалась и Фёдору. Погубив царевича, Годунов начнёт убирать со своего пути всё, что покажется ему помехой. Он не посмеет тронуть Романовых при жизни царя. А после его смерти? Фёдору стало страшно. Или он не в ответе за весь Романовский род?
Фёдор привык побеждать страх, идя навстречу опасности. Он не спал ночь, обдумывая решение. А утро изменило все его планы: Годунов с царём и всей царской свитой выехал на богомолье в Троице-Сергиеву лавру.
Стоял жаркий май. В комнате было душно. Кто-то причитал навзрыд:
— И что же это учинилось с тобой, дитятко-царевич!
Фёдор в тревоге поднялся на постели. Тотчас же раздался чей-то резкий голос:
— Подымайся, колода пьяная! Слышь, государя нашего не стало!
Фёдор прислушался. В доме была тишина. Он попытался встать, но тут же повалился на ложе. Позвал:
— Кто там есть? Эй, кто там есть?
Вошла Ксения. Лицо у неё было заплаканное.
— Ксения, что там кричат? Какого государя не стало? Что с Фёдором?
Ксения села рядом, взяла мужа за руку.
— Не о том твоя тревога... Царевича Димитрия нет. Зарезали.
Он выдернул руку, словно она была в том виновата, опустил голову. Ксения почувствовала, что он не в себе, помогла ему снова лечь.
— Что уж теперь? Царевича не вернуть. Ты сам-то больно не горюй, береги себя!
Фёдор закрыл лицо руками.
— Кто убил?
— Дьяки... С сыном мамки царевича Осипом Волоховым.
— Поди, Ксения. Не теперь...
Но через некоторое время он позвал её:
— Расскажи всё как есть.
— Мамка Василиса вывела царевича во двор и передала его своему сыну Осипу. Тот повёл его дальше, наклонился к нему, спросил: «Это у тебя, государь, новое ожерельице?» Царевич вытянул шейку, ответил: «Нет, старое». Осип вонзил ему в шейку нож, царевич упал, Осип кинулся бежать от страха. Тут подошёл Данила Битяговский с Никиткой Качаловым, они перерезали царевичу горло.
— Когда это случилось?
— В субботу, в шестом часу.
Фёдор закрыл глаза.
— Ступай, я побуду один.
Ему вспомнился вдруг случай, когда царица Марья Нагая показала ему пелену, на которой она вышила изображение Сергия Радонежского. Рядом бегал царевич, живой, резвый мальчик. Ему было годика три. Фёдора поразило тогда сходство святого Сергия на пелене с ликом царевича, особенно в верхней части лица: резкий прочерк бровей и характерный, упорно-внимательный взгляд. Видимо, мать, может быть бессознательно, запечатлела на пелене это почудившееся ей сходство своего ребёнка со святым, которому она поклонялась в сердце своём. Потом припомнились ему слова Богдана Бельского. Назначенный царевичу в дядьки ещё при Иоанне, Богдан искренне привязался к ребёнку. «Из него вырастет великий государь. Ум у него острый, а характером царевича Ивана напоминает», — сказал он.
Ксения вскоре вернулась, сидела тихонько у изголовья мужа, прислушиваясь к его шёпоту. Так прошла ночь. Под утро он вдруг закричал. Она склонилась к нему, потрогала губами лоб. Он открыл глаза.
— Во сне ты так страшно кричал.
— То не я кричал. То тоска моя смертная кричала во мне.
Она поняла слова его по-своему, сказала:
— Ну да авось Бог милостив.
— Поди, Ксения, и пошли ко мне лекаря, чтобы выгнал из меня болезнь. Мне надобно скорее выздороветь. Я... — Он смолк, не договорив.
А через день случилось то, что вошло русские в летописи как продолжение великой трагедии.
Во время послеобеденного сна Фёдор проснулся от набата. Сидевшая возле его ложа старая мамка помогла ему одеться и вывела на крыльцо. Со двора донёсся крик:
— Москва горит!
Со стороны Занеглимья тянуло дымом. На подворье высыпала челядь. Конюх подошёл к Фёдору, спросил, не отвести ли лошадей ближе к реке. Фёдор велел ему сначала подняться на башню и посмотреть, что делается на Москве. Вскоре раздался его голос:
— Горит! Мгла над Москвой насевается!
— Да где горит-то? — тревожно и громко прокричало враз несколько голосов.
— Арбат горит. Да ещё Никитская и Тверская. Огонь на Замоскворечье идёт!
— Труба занялась! — подсказал отрок, поднявшийся с отцом на башню.
Набат усилился. Звонили со стороны Мясницкой, в церкви Святого Флора. Молено было различить тонкий звон колоколов церкви Святого Василия на Покровке.
Фёдор спросил, где Ксения, ответили, что уехала в село Преображенское: там собирались косить. Фёдор велел приказчику послать мужиков к Варварке, вдоль которой раскинулось родовое поместье Романовых. Надо было рыть канавы и держать наготове багры да топоры с лопатами, чтобы остановить огонь, ежели начнёт приближаться к Варварке. Челядь извлекала из сундуков своё добро и переносила его в погреба.
Между тем мгла в воздухе понемногу рассеивалась, и суета на подворье стала стихать. В город послали разведывателей — узнать, что там делается. Вернувшиеся сообщили, что погорело всё в Белом городе и на Арбате. Огонь остановился возле церквей Святого Флора и Святого Василия. Люди крестились, благодарили Бога, что лихо миновало их.
— По-мучительски задумано. Запалили в самую жару, когда многие люди спали после обеда. Так и сгорели во сне.
— Злодеи не побоялись Бога.
— То кара нам, что отдали в руки злодеев своего государя.
— Пришельцы сказывают, что Москву подожгли люди Годунова.
— Что ты, что ты! Годунов — родич нашего милостивого царя Фёдора.
— Родич-то он родич, да двусмыслен, аки змий...
— Да пошто он станет Москву жечь? Чай, и его подворье может сгореть.
— То же и пришельцы сказывали: мол, Годунов велел пожечь Москву, дабы люди не горевали об царевиче.
«Да, он мог это сделать, — думал Фёдор о Годунове, слушая эти разговоры. — Пожары — всегдашний бич Москвы. Многие ещё помнят, как горела Москва при Иоанне, люди прятались в погребах и колодцах. Но и там их настиг огненный бич, они задохнулись в жару и дыму. И некому было хоронить мёртвых. Отец рассказывал, что за десятки вёрст от Москвы ветром доносило зловоние от разлагающихся трупов».
К вечеру вернулась встревоженная Ксения, и, хотя никто из домашних не пострадал от огня, тревога её не проходила. Она привезла достоверные слухи, что по приказу Годунова над жителями Углича началась расправа, перехватали многих людей, а Нагих повезли в Москву — пытать. Ксения была напугана случившимся, и чувствовалось, что она скрывала страх за семью.
Фёдор решил дождаться, когда Годунов вернётся с богомолья, и крепко поговорить с ним. Он велел брату Александру, ставшему к этому времени окольничим и бывавшему на дворцовых приёмах, просить конюшего[26] боярина Годунова наведаться к больному Никитичу-старшему.
Конюший боярин не заставил себя долго дожидаться. Он приехал в царской карете, одетый со свойственной ему пышностью. Поверх малинового бархатного кафтана, шитого жемчугом и мелкими драгоценными каменьями, — большой золотой крест, какой носили цари и высшие духовные особы. Боярская бархатная шапка оторочена чёрным соболем. Вошёл он в покои хозяина с ласковым видом. Фёдор подумал, что эта ласковость была в нём и в те часы, когда, возвращаясь с богомолья по Троицкой дороге в царской карете, он выходил к погорельцам, которые встречали царя со своими просьбами и нуждами. Видимо, Годунов решил, что у Фёдора Романова тоже имеется прошение к нему, за тем и позвал к себе.
Ксения поспешно накрывала стол. Достала по этому случаю столовое серебро и новые рушники.
— Садись. Гостем будешь, конюший боярин. Как это говорится среди людей: «Кто редко приходит, того хорошо угощают».
— Спасибо за ласку, боярин. Дозволь мне расположиться возле твоего ложа, дабы услышать твоё прошение. Ежели у тебя нужда какая на обустройство имения, я велю выдать тебе деньги из царской казны.
Фёдор внимательно посмотрел на него, подумал: «Ксения права. Годунов переменился. Глаза стали совсем бесстыжие».
— Не о том моё прошение, Борис Фёдорович. Душа болит, когда слышу о расправе над угличанами. Верно ли, что ты велел казнить смертью угличан и резать им языки либо рассылать их по тюрьмам, не сыскав на них никакой вины? А тех, что остались живы, сослал в Сибирь?
— Ты слушаешь шептунов! Не думал я, что достойный боярин, сын Никиты Романовича, допускает к себе глумников и смутьянов!
— Зачем мне надобны шептуны, когда вся Москва о том говорит! Дивятся москвитяне, что языки резали не токмо людям. Колоколу отрезали язык. Или он сам по себе бил в набат?
Говоря это, Фёдор видел, как менялось лицо Годунова, как на него набегала гроза, затем оно снова успокаивалось.
— Негоже нам, Никитич, неистовые речи слушать. И время ныне опасное. Хан собирается на Москву.
— Москву сожгли. Теперь можно и хана призвать.
В глазах Годунова что-то сверкнуло, однако он сделал вид, что не понял намёка.
— Нам ведомы сии злодеи, — с угрозой в голосе произнёс он, — и смутьянам, замышляющим зло против царя, недолго осталось таиться. Мне многие бояре, и дворяне, и люди служилые приносят ведомости.
Фёдор рассмеялся, и это было так неожиданно, что Годунов слегка вздрогнул и с недоумением посмотрел на него.
— Ты делаешь ошибку, Борис Фёдорович. Древние мудрецы учили: «Или не делай тайны, или знай её только сам».
Слова эти смутили Годунова.
— О какой тайне говоришь, боярин? У меня нет и не было тайны от царя. И он, господин мой, знает, что я всегда говорил и делал по правде. Да убоятся злодеи моего правдивого слова!
Он посмотрел на Фёдора так, словно тот и был злодей. Фёдор усмехнулся.
— Не много ли будет злодеев вокруг тебя? Не сбылось бы на тебе древнее пророчество: «Кто многим страшен, тот многих станет сам бояться».
Годунов спохватился, что выдал себя, чего прежде с ним не бывало, сказал примиряюще:
— Отвечу тебе також древней мудростью: «Муж обличающий лучше льстящего».
«Кому, как не тебе, ведать о том, — насмешливо подумал Фёдор, — Твоя лесть Иоанну превосходила всех прочих вельмож».
Чуткий Годунов уловил насмешку на его лице. Гнев и злоба поднялись в его душе. Или мало они с царевичем Иваном насмешничали над ним (слава тебе, Господи, что прибрал царевича!). Им и неведомо было, что ему были открыты все тайны державной власти. Кто из них был более достоин трона? Запальчивый и неразумный в своей запальчивости царевич Иван, малоумный Фёдор, который всё управление державой передал ему Годунова? Или, может быть, Фёдор Романов, так и не достигший в досужестве своём умелого управления собственным имением? Жёнка его более смыслит в хозяйственных делах, нежели он сам.
Годунов знал свою силу. Никто не мог бы укорить его неосторожностью или запальчивостью. Его спокойствию и выдержке завидовал Иоанн. Когда было надо, он умел быть жестоким и непреклонным не только к другим, но и к самому себе. Жена Марья до сих пор винит его в смерти сына-первенца, который занемог после крещения в холодной воде. Но мог ли он отступить от ритуала, он, считавший себя безупречным во всех отношениях! Он и в эту минуту нашёл в себе силы подавить злобу и гнев, хотя твёрдо знал, что если после смерти царя трон захватит Фёдор Романов, его, правителя, ожидает опала и смерть.
Но, думая так, он спокойно произнёс:
— За твою правду, Фёдор, скажу и тебе правдивое слово. Убоюсь ли страха? А ежели Господь сулил мне быть опасливым, как пойти против его предначертаний?
Фёдор не знал, что ответить. Он не первый раз поражался нечеловеческому спокойствию Годунова. Перед ним был истукан, восточный божок. С таким же спокойным сознанием правоты его далёкие предки жгли русские церкви, стирали с лица земли селения и города, были безучастны к горю людей. Такой человек воистину страшен. И какой прицельный взгляд, он как будто всё читает на твоём лице! Не дай бог стоять у него на пути!
Фёдор впервые дрогнул в душе перед Годуновым. А он, гость, держался невозмутимо. Уходя, ласково поклонился хозяину:
— Ты, боярин, ныне худо выглядишь. Я пришлю тебе своего лекаря Якоба.
Помолчав, он добавил:
— Надейся на меня и никого не бойся!
ГЛАВА 37 ВЕЛИКАЯ ТЕМНОТА
По совету Годунова царь посылал Фёдора наместником то в Новгород, то в Псков. Видимо, правитель не хотел видеть рядом с собой человека именитого и сильного, тем более родственника царя. В делах державных Фёдор был как бы его совместником, как некогда сам Годунов был совместником Никиты Романовича. Фёдор понимал это. Беседа с Годуновым с глазу на глаз, когда он удостоил его, больного, своим посещением, оставила у Фёдора чувство страха перед правителем.
Этот страх поддерживала в нём и Ксения. Она боялась, как бы Годунов не отравил её сына. Первые дети — две девочки — умерли, не достигнув и двухлетнего возраста. Ксения была наслышана о разных способах отравления младенцев. Ей рассказали, что княгиню Марью Владимировну, дочь потомка Калиты князя Старицкого, Годунов вызвал в Москву, обещал ей блага, но вместо них её безуспешно пытались отравить, затем постригли. А когда её ребёнка постигла внезапная смерть, многие говорили о ведовстве.
Москва полнилась слухами о ведунах, которые портили людей, вызывали смертельные немочи. Известно было, что ведуны сгубили в Астрахани крымского царевича Мурат-Гирея. Они испортили его так, что вылечить было нельзя.
Распространение чародейства в державе связывали с именем Годунова. Ему же приписывали и ослепление великого тверского князя Симеона Бекбулатовича, который при Иване Грозном одно время сидел на троне. После смерти царевича Димитрия надежда Годунова на царство в случае кончины Фёдора усилилась. Он был так предусмотрителен, что запретил жениться Фёдору Мстиславскому и Василию Шуйскому, опасаясь, как бы их наследники не стали спорить о троне с его наследником — Фёдором. Станет ли Годунов терпеть рядом с собой такого совместника, как Фёдор Романов?
Время было тревожное и опасное. Царь слабел здоровьем. Люди со страхом внимали слухам, верили в знамения. А тут случилось ещё и ужасное событие. Гора, на которой стоял Печерский Нижегородский монастырь, треснула и «в сотрясении рванулась к Волге», разрушила и засыпала землёй церковь, монастырь, кельи и ограду. Это был знаменитый монастырь, где спасались угодники Божии Дионисий Суздальский и Макарий Желтоводский. В сём событии увидели опасное знамение, ожидали бедствий неминуемых и крушения царства. Многие предчувствовали, что со смертью царя начнутся великие беззакония. В тревожном ожидании грядущих бед был и сам царь, надеясь предотвратить их. Вероятно, по совету Годунова он задумал переместить мощи святого Алексия — митрополита — в новую серебряную раку. Он велел Годунову взять их в руки, сказав при этом:
— Осязай святыню, правитель народа христианского! Управляй им и впредь с ревностью. Ты достигнешь желаемого; но всё суета и миг на земле.
Видимо, эти слова царь загодя обговорил со своей царицей Ириной, ибо они отвечали желаниям и намерениям Годунова. «Ты достигнешь желаемого» — эти слова укрепляли волю Годунова в достижении желаемого, выдвигали его в глазах людей на первое место среди претендентов на трон в случае смерти Фёдора.
Фёдор Романов знал, что бояре открыто говорили об этом, и сам с тревогой ожидал кончины царя. Ужели троном завладеет «проныра лукавый»? Фёдор не раз возвращался мысленно к своим отроческим надеждам на трон и понемногу находил в них опору. У него больше прав на царство, чем у Годунова. Он в кровном родстве с царём. Допустим, после смерти Фёдора он откажется от скипетра, а царём станет Годунов, успокоится ли душа правителя, достигшего желаемого? Он, погубивший столько душ, остановится ли перед опалой и смертью Романовых?
Последнее время Фёдор часто беседовал с бывшим главой Посольского приказа. Андрей Щелкалов знал, что скоро умрёт, и давал своему названому сыну последние наставления. Фёдор в тоске великой смотрел на лицо, покрытое предсмертной бледностью, в потухшие, некогда василькового цвета, глаза... Умирал последний друг незабвенного Никиты Романовича. Кто мог так остеречь, так наставить, как он! Фёдор жадно прислушивался к его словам:
— Мы давно с твоим родителем обговаривали, что тебе пристало быть русским самодержцем. Во всём волен Господь, а всё ж у Романовых более, нежели у других, прав на престол. Слушай меня, Никитич. Ежели Бориска вскочит на трон, пуще глаза своего береги детей своих. А затем надо думать, как спихнуть Бориску с трона. Есть у меня на примете отрок, похожий на царевича Димитрия. Зовут того отрока Юшкой. У него литовские корни, и будет тот отрок силён именем царевича Димитрия и польской подмогой. Пан Сапега ведает о том. Скоро он будет на Москве. Я, может, и не дождусь, но знаю, что Годунов устрашится «воскресшего» царевича. Тут на него и погибель придёт, и весь род его будет истреблён.
— Чем же лучше Годунова будет сей Юшка? — с насмешливым недоверием спросил Фёдор.
— Я не говорю, что лучше. Его царство будет недолгим. И все будут согласны венчать его на царство, только бы погубить Годунова. А царствовать в России — Романовым.
— Но кто поверит новому Димитрию?
— Сохранился нательный крест угличского царевича. Сей крест ныне у князя Мстиславского, его крёстного отца. Он и снабдит им «воскресшего» претендента на престол. Мы с боярами толковали о том, что смерть угличского царевича — дело тёмное, и, стало быть, кто станет спорить, что царевичу удалось спастись от Борисовой грозы?
Помолчав, Щелканов добавил:
— Пойдёшь к пану Сапеге, как приедет, он всё знает. Он ныне в Польше. Я, может, и не дождусь его.
Разговор со Щелкаловым сильно озадачил и смутил Фёдора, а посоветоваться не с кем. Было от чего прийти в смущение Фёдору. Друг его покойного родителя завещал ему дружбу с Сапегой. Или времена так изменились, что зло начало почитаться добром? Фёдор хорошо помнил, как отец незадолго до смерти говорил ему: «Никогда не сносись с Сапегой Львом Ивановичем, он из подьячих стал важным паном и выслужил у короля честь себе бездушием и московским разорением».
Смущало Фёдора и то, что какого-то неведомого Юшку хотят объявить царевичем Димитрием и князь Мстиславский заодно. И никто не думает, что начнётся смута и прольётся кровь.
Но тайный голос в душе Фёдора говорил: «Пусть себе затевают смуту, лишь бы избыть Годунова. Или не прольётся кровь, когда он сядет на трон? Погибли князья Рюриковичи: Мстиславский, Шуйские, многие в ссылке и тюрьмах. И это только начало. Кто станет удерживать Бориса, когда он захватит царство?»
...Через несколько дней умер Андрей Щелкалов. Вместе с чувством скорби Фёдор ощутил тоску одиночества. У старинного друга своего отца Фёдор находил теплоту, понимание в своей непростой судьбе. Он часто говаривал: «Доброе слово сказать — посошок в руки дать». Старый дьяк, видно, и умирая, мыслил, что дал Фёдору в руки надёжный посошок и путь указал — боярский заговор против Годунова.
О многом передумал Фёдор, вспоминая разговор со Щелкаловым. Будь жив Андрей Петрович, он бы знал сейчас, что возразить ему. Называть ли добром заговоры и смуты, хотя бы во имя хорошего конца? Покойный родитель любил повторять: «Добро не умрёт, а зло пропадёт. У лиха — недолгий век. Оно, лихо-то, минёт, а добро и правда останутся».
Фёдору хотелось думать, как мыслил его отец. Но отчего же разговор со Щелкаловым оставил такой тревожный осадок в душе?
Между тем ему предстояло свидеться с Сапегой и вопреки неприязни к нему прийти к обоюдному согласию с ним. Встреча произошла на сороковинах по Щелкалову. На пышный поминальный обед сошлось много бояр, дворян и дьяков. Каждый из них был обязан некогда главному дьяку: кто боярством, кто выгодным местечком, кто именьицем. Никого не надо было созывать на поминальный обед. Всяк пришёл почтить память своего милостивца.
Фёдор и Сапега отыскали друг друга глазами в потоке людей, устремившихся к столу, сели рядом как бы случайно. Разговор не клеился: кругом были уши, да и Сапега был занят. Он усердно попивал русскую водку, закусывая солёностями, до коих был охотник, и духмяными пирогами, что таяли во рту. Фёдор думал, глядя на него, что, при всей своей ясновельможной выправке, Сапега был прост и груб. Его былое подьячество так и не соскочило с него.
После поминального обеда они нашли случай уединиться в небольшой комнате-боковушке. Возле столика помещалась широкая скамья, покрытая синим сукном. Она показалась им уютной и удобной. Сапега привычно опустил подбородок на рукоятку трости, скосил глаза в сторону Фёдора:
— Важная просьба до тебя, боярин: возьми на своё подворье Юшку Отрепьева. Он может выполнять для тебя любые работы. И при лошадях его можно держать, и на охоте первый слуга.
— Такого холопа любой боярин возьмёт. Какая нужда тебе хлопотать за него особо?
— Этого человека надобно содержать в тайне.
— Что так?
— Или тебе Андрей Щелкалов не сказывал?
— Может, и сказывал. Но скажи ты.
Сапега огляделся, понизил голос:
— В нём признали царевича Димитрия.
— Или царевич не умер и угличане не похоронили его?
— Нашли свидетелей, кои знают, что гроб, где лежал царевич, был похищен из Преображенского собора города Углича, а похоронили отрока, схожего с царевичем.
— Да кто из разумных людей поверит? Что станут говорить о нас в иных государствах?
— Нет ничего доверчивее молвы. Люди правду по каплям принимают, а выдумку по ложке.
— Для державы решения одной молвы не довольно.
— Можно будет назначить новое следствие. Свидетели ещё не сказали, как учинилась смерть царевичу. Тут начинается великая темнота.
— Да кто станет затевать новое следствие, когда есть соборное решение!
Сапега молчал.
— Скажи, ясновельможный пан, зачем тебе мешаться в наши русские дела?
— Иль забыл, сколь говорено было о вашем согласии с Польшей? О том, что жить нам вместе под одной короной?
— Скажи лучше, что забыл о том ваш король Сигизмунд. И что ныне о том вспоминать?
— Вспомните! И ещё не раз вспомните. Или думаете, Годунов не достигнет царства? Руки у него длинные, а ухват у рук ещё более велик.
Фёдор возразил ему словами, какие не раз приходили ему в голову:
— Прежде всего, как Годунов вздумает вскочить на царство, Господь покарает его за злые дела и помышления. Покарал уже смертью его сына-младенца. Бог призвал к себе его дитя раньше времени, чтобы вразумить родителя. Как сказал пророк, «нанёс ты им раны, Господи, а они не почувствовали боли, не захотели принять наказания, ожесточили свои лица, словно каменные».
Сапега с любопытством посмотрел на Фёдора:
— Полагаясь на Господа, полагайся, друже, прежде на себя самого да гляди кругом себя, ищи силу, на какую мог бы опереться. И запомни мои слова: сей Юшка, наречённый царевичем Димитрием, зело пригодится вам, когда надобно будет избыть Годунова.
Фёдор молчал. Условились, что Юшку возьмёт к себе на подворье брат Фёдора — Александр Никитич. Ныне он окольничий, сей чин обязывает его бывать на дворцовых приёмах и при важных делах. Худо ли для Юшки, ежели он станет сопровождать его во дворец?
Фёдор поступил как русский человек. Махнув на всё рукой, сказал себе: «Чему быть, того не миновать».
Вдруг неожиданная встреча внесла в его душу смятение. К нему в кабинет пришёл Устим, дожидавшийся его накануне всё утро. Стал на пороге кабинета, поклонился в пояс, долго мял в руках шапку, наконец произнёс:
— Боярин, к брату твоему Александру Никитичу поступил на службу дурной человек. Юшкой прозывается.
Фёдор строго посмотрел на Устима. В позе старого холопа была тревога и неуверенность. В кудлатой голове появились седые волосы.
— Ты как его знаешь?
— Добре знаю, я ему проигрался. А как проигрался, то и догадался, что играет он нечисто. И пьяница он знатный. Где мне до него!
— Не твоё дело судить такого человека.
— Такого человека? Милостивый боярин, люди болтают про Юшку, что он царевич. И сам он не отказывается. Упаси вас Господь поверить ему, боярин!
— Ты никак решил учить меня, холоп?! Вон с моих глаз! Я велю высечь тебя на конюшне!
Устим поклонился.
— То как твоя милость изволит. Однако выслушай поначалу. Люди говорят: «Ежели следствие учинили по добру да по совести, зачем поспешили тело царевича земле предать? Тут-де великая темнота. Всем ведомо, что царевич порезался, да сродственники спасли его».
Фёдор, услышав от Устима слова Сапеги «великая темнота», вздрогнул, поняв, что в народе усиленно распространялись слухи о «спасённом царевиче».
— Ты, Устим, не разводи мне здесь «темноту» и лучше поищи себе другое подворье!
— Не гони меня, боярин! Я к твоему подзорью сердцем прирос, у меня и тут сын Малой к делу пристроен.
Фёдор вспомнил Малого. Усердный отрок, тихий, молчаливый. Лицо его и весь вид выражали услужливость и преданность. Фёдор слегка остыл.
— Поклянись мне, что и впредь будешь верно мне служить и ни разу не обмолвишься об Юшке.
Устим упал в ноги боярину.
Фёдор и впредь воспрещал любые досужие разговоры о Юшке. Ксения была с ним согласна и как-то сказала в сердцах: «Лучше чёрту угодить, чем Годунову».
А тут ещё вышел горячий случай. Годунов призвал к себе Фёдора и велел уменьшить стражу на подворье. Фёдор протестующе дёрнулся. Это движение не укрылось от Годунова. На лице его показались желваки. Он выжидающе-угрюмо смотрел на Фёдора. Наконец тот резко произнёс:
— Я тебе не Симеон Бекбулатович!
Фёдор имел в виду печальную историю ослепления великого тверского князя. Сначала ему приказали сократить личную стражу, затем на его подворье ворвались стрельцы и, быстро истребив малочисленную охрану, ослепили.
— Боярину Романову надлежит подчиниться решению Боярской думы!
После этого разговора с Годуновым Фёдору оставалось признать правоту Сапеги и подумать о том, как защитить себя и своё семейство. Он стал реже бывать в Кремле, всё чаще наведывался в Коломенское, в бывший дворец Ивана Грозного. Там ещё сохранились палаты Никиты Романовича. Порядок в них поддерживал старый слуга первого вельможи Иоанна. Ныне он радовался приезду его старшего сына. Время для него как бы возвратилось вспять, когда он был столь необходим. Здесь находили приют и молодой князь Мстиславский с Голицыным, не любившие Годунова, и многие бояре. Частым гостем был здесь и Сапега. Тут тебе и дворец царский, и охотничьи угодья рядом, а повар Романовых готовил отменные обеды.
Однажды Сапега приехал вместе с Юшкой Отрепьевым. Фёдор впервые так близко присмотрелся к Юшке и был поражён его некрасивостью. Лоб узкий, глаза маленькие, нос широкий, всё лицо в бородавках. Хорош будет новоявленный «царевич»! Кто видел Димитрия, вспомнит, что отрок был пригож собой и даром что мал — держался с царским достоинством. Вскоре Фёдор заметил одно важное обстоятельство: одна рука Юшки была короче другой, и он старался Скрыть этот недостаток, что, очевидно, мешало ему держаться свободно. На Юшке была венгерка, входившая в моду среди европейской молодёжи, и, красуясь новым нарядом, он понемногу забыл о своём недостатке. В нём появилась свобода и даже обаяние. Сам князь Мстиславский любезно беседовал с ним. Спустя немного князь подошёл к хозяину и спросил:
— Ты не замечаешь, Фёдор Никитич, что у протеже Сапеги есть что-то приятное и достойное?
Слышавший эти слова Сапега решил блеснуть своей учёностью. Он процитировал Плутарха, несколько видоизменив его слова:
— Успех возвышает даже низких людей. При счастливых обстоятельствах в них обнаруживается и величие, и достоинство.
Все закивали головами, с почтительным интересом поглядывая на Юшку.
Князь Голицын усомнился:
— Достанет ли у него мужества на такое рискованное дело? Кажется, он даже не думает об опасности.
— Это обличает в нём смелость, — возразил Сапега.
— Смелость, но не мужество, — возразил князь непререкаемо, так что Сапега внимательно на него посмотрел. Впрочем, всё покажет время, — заключил Голицын.
Похоже, никто из присутствующих здесь не подумал, какие потрясения ожидают Русь, если Юшка-«царевич» при поддержке сил, враждебных Годунову, заявит о своих правах на престол.
ГЛАВА 38 ЗАВЕЩАНИЕ ЦАРЯ
Царь Фёдор умирал как святой. Не хотел слышать о мирских делах, которые и в прежнее-то время, когда ещё было здоровье, он считал за докуку. День у него проходил в молитве, беседе с царицей и духовными особами.
Да, умирал Фёдор, как и жил: ничего не решал сам. После него не оставалось потомства. Единственная дочь Феодосия умерла младенцем. Трудный вопрос избрания нового царя ложился на патриарха Иова и бояр. Патриарх, державший сторону Годунова, надеялся, что Фёдор укажет на него и что поможет ему в этом царица Ирина. Этим указанием царь освободит народ и его, патриарха Иова, от многочисленных испытаний в избрании нового царя.
В тот час у ложа умирающего Фёдора были лишь патриарх и бояре. Годунов с царицей вышли, и патриарх знал, что Годунов оставил его, надеясь на окончательное решение вопроса о наследнике престола. Поэтому Иов приступил к царю с твёрдым намерением получить ответ:
— Государь, кому приказываешь царство, нас, сирот, и свою царицу?
Фёдор вздохнул, понимая, что ему не уйти от этого вопроса, и ответил тихим голосом:
— Во всём царстве и в нас волен Бог: как ему угодно, так и будет. И в царице моей Бог волен, как ей жить. Об этом у нас с ней улажено.
В эту минуту, стараясь ступать неслышно, вошли в царскую палату братья Романовы. Фёдор Никитич заметил, с каким смятением смотрел на них патриарх, когда они, низко поклонившись ему, прошли к ложу царя. Фёдор поцеловал вялую, бессильную руку того, кто был ему братом. Кое-кто не хотел об этом помнить. Но ведь всё это было: лучшие дни и часы, проведённые с этим добрым ласковым братишкой. Может быть, царь тоже вспомнил об этом. По лицу его покатились слёзы, и чувствительный Фёдор заплакал вместе с ним. Кто мог бы вычислить, сколько воспоминаний в иные мгновения в состоянии вместить душа! Говорят, что перед смертью в такие мгновения спрессовывается вся прожитая жизнь. В чертах Фёдора царь в эти минуты узнавал черты незабвенной матушки, с портретом которой он никогда не расставался. Он и теперь лежал у него под подушкой, и куда потом исчез этот портрет, никто не знал. Одни говорили, что захоронили его вместе с царём, другие указывали на Годунова, сгубившего-де портрет царицы Анастасии, чтобы и память о ней не жила.
— Не оставляй нас, надёжа-государь! Царствуй, как и всегда царствовал. А болезнь твоя пускай идёт на сухой лес.
Фёдор слабо махнул рукой.
— Какой я царь! Ныне пришло, видно, время тебе царствовать. А я с лёгкой душой вручу тебе в руки свой скипетр.
— Спасибо тебе на добром слове, государь! Только при живом царе соглашаться на его царство мне невозможно. Да и не мыслил я быть на таком превеликом государстве.
Тут внезапно появился Годунов. Он внимательно оглядел присутствующих, и по лицу его нельзя было понять, слышал ли он слова Фёдора Романова. Приблизившись к ложу царя, он сказал:
— Твоя благоверная великая государыня Ирина Фёдоровна в неутешных слезах и молитве. Как приказываешь ей жить после себя?
Большие печальные глаза Фёдора наполнились слезами:
— Мою неутешную добрую царицу я оставляю после себя на всех превеликих государствах. Остаётся она достойно на престоле своего отечества.
Взгляды Годунова и Фёдора Никитича встретились. Годунов смотрел победителем.
Через несколько дней, 7 января 1598 года, Фёдор умер, не примирив своей смертью враждующие стороны. На другой день его похоронили в Архангельском соборе.
Дальнейшие события развивались по плану, начертанному Годуновым. Фёдор был последним царём Рюрикова племени, и, чтобы избежать смуты, все присягнули царице Ирине. Но вопреки завещанию Фёдора царица отказалась от престола, хотя патриарх и бояре с народом били ей челом, чтобы не оставляла их, сирот, была на государстве, править велела брату своему — Борису Годунову. Но Ирина в своём отказе была непреклонна, на девятый день после смерти Фёдора приняла постриг и под именем Александры поселилась в Новодевичьем монастыре. Многие были в недоумении: что же, присяга Ирине была напрасной, и ныне вновь надо думать, кому присягать?
Междуцарствия люди страшились более, нежели грозного царя. Да и само междуцарствие складывалось не по обычаю. Править делами должен был патриарх как первое лицо в государстве после царя. Но все указы писались именем царицы. Да вправе ли инокиня, удалившаяся от мирских дел, быть государыней? А коли нет, то почему же затягивалось дело с избранием царя?
Умные люди видели в этом тайные расчёты Годунова. Это он, «проныра лукавый», и сестру свою, царицу, заставил постричься — вопреки воле покойного Фёдора, оставившего её «на всех государствах». Ясное дело — не хотел он быть правителем при сестре-царице, задумал сам добиваться царства и будет делать это по-хитрому.
Между тем дела в государстве делались по царицыну указу, но в них угадывалась рука Годунова. Бояре, читая эти указы, укреплялись в мысли, что правитель помышляет о царстве. Они знали, что патриарх Иов за него, что везде — и в Думе, и в приказах, и в управлении — были поставленные им люди. Да и кому другому, как не родному брату, передаст царица-инокиня скипетр? Многим в те дни приходили столь неутешительные мысли.
Тогда-то и собрались бояре в Думе, чтобы перехватить власть у Годунова. Решили обратиться к народу с требованием дать присягу на имя Боярской думы. К народу вышел дьяк Василий Щелкалов, но в ответ на это требование, им оглашённое, услышал:
— Не знаем никаких бояр! Знаем лишь царицу!
— Царица постриглась и ныне находится в Новодевичьем монастыре.
Но толпа и слышать не хотела о присяге боярам. Настойчивость дьяка её раздражала. Послышались голоса:
— Да здравствует Борис Фёдорович!
Настроение складывалось в пользу Годунова, и надо было думать, как избежать беды. Некоторые именитые князья и бояре собрались в царском дворце в селе Коломенском, чтобы решить, как помешать Годунову занять престол. Знали, что патриарх с боярами и служилыми людьми всех сословий отправились в Новодевичий монастырь просить царицу-инокиню, чтобы она благословила брата на царство. Это не тревожило гостей Коломенского дворца. Знали, что помыслы брата и сестры совпадают, но что царица-инокиня столь же хитроумна и неправдива в речах, как и её брат. Патриарху не добиться от неё скорого согласия.
Тем временем князья и бояре, враждебно настроенные к Годунову, расположились в бывших палатах Никиты Романовича в Коломенском дворце. С часу на час ожидали возвращения боярина Биркина, который выехал вместе с патриархом в Новодевичий монастырь. Дорога по лёгкому морозцу взбодрила вельмож. В романовских палатах было тепло и пахло сосной, уютно потрескивали дрова в старинных печах. Хотя хозяева бывали здесь редко, оставшиеся слуги сумели соблюсти в палатах жилой дух. Всегда были наготове любимые романовские пироги и вина. Гости расположились по-домашнему на скамьях за дубовыми столами, скинули кафтаны, сидели в однорядках, расспрашивали князя Голицына, из-за чего вышел у них спор с князем Трубецким. На красивом и породистом лице князя Андрея Ивановича появилось упрямое хмурое выражение.
— Или не знаете князя Тимофея Романовича? Ему бы всех, кроме разве царя и патриарха, подвести под своё начало. Начал учинять мне зло, дабы я стал делать всякие мелкие дела, понижающие княжеский сан. А как я от дел тех удалился, начал бить на меня челом государыне Александре Фёдоровне. Патриарх писал мне по царицыну указу, дабы я всякие дела с Трубецким делал, а не стану делать — выдадут меня-де Трубецкому головою... Я и приехал к патриарху искать правды, ибо князю Голицыну неможно быть ниже его, князя Трубецкого. Патриарха ныне нет. Я и приехал к вам искать совета.
Князья и бояре слушали, опустив головы. Они знали, сколь своенравным был князь Трубецкой, сколь любил себя возвеличивать, а других принижать. Как было князю Андрею Ивановичу уступить ему, не причинив обиды всему роду Голицыных? То-то возрадовалась бы душенька Годунова, не терпевшего Голицыных за их дружбу с покойным дьяком Андреем Щелкаловым. А Трубецкой угождает Годунову, за то и в чести у него. Воля же правителю большая дана, чего доброго и выдаст князя Андрея Ивановича Трубецкому головою. А тот будет волен хоть на конюшню его послать и там выпороть. Это его душеньке великая услада станется — обесчестить князя, чей род познатнее его будет.
— Так что, может, станем бить челом патриарху, дабы вызволил от обиды князя Андрея Иваныча? — спросил молодой князь Темкин.
Он понимал, сколь опасно местничество, да кто откажется защитить честь своего рода?
— У патриарха нет своей воли, — возразил князь Буйносов, известный своей опытностью и умением избегать спорных дел, касающихся княжеской чести. — Он будет делать, как велит ему Годунов. Помните, как он сказал: «Превеликую милость имел я, смиренный, от Бориса Фёдоровича и в давнее время, когда был на Коломенской епископии, и ныне...»?
В разговор вмешался всё это время молчавший Фёдор Никитич:
— Я думаю, тебе, князь Андрей Иванович, будет больше чести, ежели оставишь обиды разрядные. А спустя малое время бей челом патриарху, дабы перевёл тебя на другую службу.
Не успел князь Голицын ответить, как в палату вошёл боярин Биркин. Взгляды присутствующих разом устремились на него. По тому, как боярин оглядел собрание, как неспешно снял опашень, можно было понять, что он привёз важную новость.
— Что молчишь, Петрович, ничего не сказываешь? — обратился к нему Фёдор Никитич. — Садись к нашему столу да мальвазии отведай — язык-то и развяжется.
Биркин выпил чару, поданную ему дьяком Щелкаловым.
— Никак Годунов принял благословение сестры-инокини на царство? — спросил Щелкалов.
Биркин отрицательно покачал головой.
— Что же ты молчишь, будто в скорби великой?
— А то и молчу, что не сподобил Господь уразуметь хитрости Бориса Фёдоровича.
— Сказывай! — раздались нетерпеливые голоса.
— Борис Фёдорович отказался от венца и тем поверг молящих его в великую горесть.
— Каков отказник!
— А резоны какие выставил?
— Себя умалял!
— Ну, это у него в обычае...
— Как-де мне помыслить на такую высоту, на престол такого великого государя, моего пресветлого царя! Мне никогда и на ум не приходило о царстве...
— И, чай, нашлись простецы? Поверили речам лукавым?
— Как не найтись!
— Худо, что и сам патриарх поверил лукавцу и ну пуще прежнего его умаливать!
— Поверьте моему слову — патриарх учинит крестный ход в монастырь, где затворился Годунов с сестрой.
— Видно, что так, — согласился Биркин, — потому как Борис Фёдорович долго толковал, как станет помышлять об устройстве праведной и беспорочной души усопшего царя.
— А что Иов?..
— Прослезился при этих словах. И Годунов, глядя на него, прослезился да и говорит: «Тебе, отец наш, и боярам ныне помышлять о государстве и земских делах».
— А что же Иов?
— Молебен велел служить, дабы склонить Бориса Фёдоровича принять царство, а затем слёзно молил отказника явить Москве свои пресветлые очи.
— А что Годунов?
— Одно токмо и твердил: «Ежели Москве пригодится моя работа, то я за святые Божии церкви, за одну пядь Московского государства, за всё православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить».
— Так и сказал: «За грудных младенцев»? — полюбопытствовал Фёдор Никитич.
— Так и сказал.
— Видно, нейдёт у него из мыслей царевич убиенный, — произнёс как бы про себя князь Хворостинин.
Все с любопытством посмотрели на смельчака. На лицах князей Сицкого и Черкасского появилось испуганное выражение, они дёрнулись, словно хотели немедленно выскочить из палаты. Наконец Черкасский сказал с грубой назидательностью:
— Ты, князь, попридержал бы язык. Стены ныне не из кирпича, стены ныне из ушей.
На некоторое время воцарилось молчание.
— Вы, родичи мои дорогие, правителя опасаетесь более, чем некогда опасались грозного царя, — с лёгкой насмешкой заметил Фёдор Никитич.
— Ты, Никитич, никак думаешь, что в Борисово царство люди избудут грозу? — насмешливо отозвался князь Буйносов.
— Ты сказал, князь, «в Борисово царство»? — спросил Василий Иванович Шуйский с лукавыми искорками в глазах. — И не ошибся ты, князь Пётр... Оно грядёт на нас — Борисово царство.
— Грядёт-то грядёт. Да ещё долго будет отказник играть свою комедь, — со свойственной ему прямотой заметил князь Буйносов.
Он был храбрым воеводой на поле брани (буйное — молодец, смельчак), а в мирной жизни любил правдивое слово.
При этих словах со скамьи поднялись Сицкий с Черкасским и направились к выходу с явной поспешностью. За ними стали прощаться с хозяином молодой Воротынский с Шереметевым. Князь Шуйский весело посмеивался, глядя на Буйносова:
— Напугал ты честных бояр!
Фёдор Никитич с озабоченным видом провожал испуганных гостей. Вернувшись, он остановился перед князем Буйносовым.
— Впредь это наука нам, Пётр Иванович. Осторожнее будем. Не дай бог, дойдёт до Годунова!
— Ты прав, боярин, — согласился с ним Шуйский, — осторожность сродни мужеству.
Положив руку на могучее плечо Буйносова, он добавил:
— Горяч ты, князь Пётр! Не по нынешним временам — горяч!
— Каким Господь сотворил, таков и есть, — хмуро отозвался князь Буйносов.
Много лет крепилась их дружба. Князья Рюриковичи, они умели ценить верность и прямоту. Нелёгкой была их боярская служба при таком правителе, как Годунов. Каждый из них понимал его опасную силу и коварство, и не раз меж ними было говорено, что если на троне утвердится новая династия Годуновых, русскому боярству придёт окончательная погибель. Худо будет и народу. Годунов ловок давать посулы, умеет подсластить пилюлю, а русская деревня в его правление пришла в полный упадок. Плохо стало и землевладельцам, и служилому люду.
Шуйский вдруг обернулся к Фёдору Никитичу.
— А что, боярин, может быть, и прав князь Пётр Иванович. Есть осторожность мудрая и осторожность неразумная, что повергает человека в страх. Ныне самое время остановить Годунова. Коли он отвергает царский венец, на то его добрая воля. Медлить не будем: созовём собор да выберем нового царя.
При этом князь Василий так внимательно поглядел на Фёдора Никитича, что не могло быть сомнений, кого партия князя Шуйского станет выдвигать в цари.
Фёдору с трудом удалось скрыть внезапно охватившее его волнение. Неужели его отроческим мечтам суждено сбыться? Слово потомка святого Александра Невского, более других имеющего право претендовать на престол, имеет решающее значение, а он, Фёдор Романов, двоюродный брат покойного царя.
— Боярин, ежели сбудется, о чём я думаю, сам Бог велел тебе принять скипетр из рук царицы-инокини... Ужели дозволим царствовать Годунову?
Они обменялись прямыми взглядами, исключающими любую недоговорённость.
— Я благодарен тебе, князь. Однако...
— Словами нам не решить сего дела, — перебил Фёдора князь Буйносов. — Поедем ныне к патриарху. Откладывать соборное избрание царя будет во вред делу.
На том и порешили. Шуйский с Буйносовым поехали к патриарху. Фёдор отказался ехать в Москву: ему надо было побыть одному на досуге.
На другой день рано поутру он выехал на охоту. Голова была тяжёлой. Накануне не спал ночь, и первой мыслью, когда проснулся, была забота о братьях. Добро, что не взял их с собой в Коломенское. Не дай бог, проведает Годунов! Первым делом отыграется на братьях. Кому-кому, а Романовым он не простит участия в «собрании». А там — опала...
«Так вот оно, твоё завещание, Фёдор! Умирая, ты верил, что благоденствие державы будет незыблемым. Но ныне к Москве направляется крымский хан, а поляки с надеждой ожидают, когда можно будет ввести свои войска в ослабевшую Московию... Ты хотел, чтобы правила твоя царица, и передал ей скипетр. Как же ловко тобой управляли! То, что казалось тебе твоей державной волей, было волей Годунова, который считал твои дни на земле в надежде, что ты недолго будешь на царстве. А далее пострижение твоей царицы, и Годунов получит скипетр из её рук — такой путь был осмотрительнее и вернее. Завещай Фёдор царство Годунову — это могло бы вызвать возражения, нарекания и сомнения. Как бы он стал объяснять людям, почему Фёдор оставил власть ему? Слишком осторожен проныра лукавый. Пересуды да споры ему ни к чему. А теперь попробуйте опорочить решение царицы-инокини передать скипетр самому близкому ей человеку! Сумеете законно отвести её решение? Никак!»
Трезво взвесив все возможности Годунова на получение царства, Фёдор понял, как мало возможностей у него самого. Спасибо князю Шуйскому за его добрую заботу. Но удастся ли ему склонить на свою сторону патриарха?
Лёгкий морозец освежил голову Фёдора. Выехав к лесу, он увидел переплетение многих заячьих следов, и так захотелось ему свежей зайчатины с лапшой! Давно не пробовал он этого любимого в детстве блюда...
И потекли иные воспоминания. И так отрадно было хоть на время отвлечься от тяжких забот, тревог, опасений.
ГЛАВА 39 ПОРТРЕТ
На следующий день дворецкий Ермолай доложил Фёдору Никитичу о приезде пана Сапеги с незнакомым паном. «Проведал-таки хитрый лис, что я укрываюсь в загородном дворце», — подумал Фёдор Никитич, начинавший не доверять литовскому послу, но встретил гостей приветливо. У Сапеги вид был хмурый и озабоченный. На нём был новенький, с иголочки камзол со стоячим гофрированным воротом, который вошёл в моду в Европе. Волосы взбиты вверх и припомажены. Стоявший рядом с ним пан был молод и тоже модно одет. Он с любопытством оглядывал палату и, очевидно, удивлялся её простому убранству, но особенно внимательным взглядом задержался на столе, за которым обедал хозяин. Сапега потянул носом.
— У вас на Руси говорят: «Доброе слово лучше вкусного пирога».
— А что, разве не так? — рассмеялся хозяин.
— А по мне, так нет ничего лучше пирогов, — возразил Сапега.
— Садитесь к столу, дорогие гости. Пироги здесь готовят отменные. Но и за добрым словом у нас дело не станет.
Дворецкий подал иноземным гостям по малому блюду, а вместо салфеток — рушники. Куски зайчатины полагалось брать руками.
После здравицы в честь хозяина Сапега выпил и, выбрав самый аппетитный кусок зайчатины, заметил:
— Признаться, отощал я за постные дни.
Когда гости вдоволь отведали вина и насытились, Сапега начал рассказ о слухах, что насевались по всей Москве. Говорили о великом огорчении патриарха, которого князь Шуйский упрекал в том, что, радея Годунову, он откладывает выборы царя — явно во вред державе. Шуйского поддерживали многие бояре, они настаивали на незамедлительном созыве Земского собора, и когда патриарх спросил: «Кого станем выбирать царём?», многие ответили: «Фёдора Никитича Романова».
Рассказывая об этом, Сапега поглядывал на хозяина, но его невозмутимый вид ни о чём не говорил. Тогда он напрямую спросил:
— А было у тебя говорено с князем Шуйским, кого ставить на царство?
— Здесь палата, а не собор, и мне не должно было вести сии досужие речи с князем Шуйским.
Встретившись с недоверчивым взглядом Сапеги, Фёдор Никитич укрепился в догадке, что, случись его избрание на царство, Сапега был бы огорчён этим избранием. Но лишь много времени спустя понял Фёдор Никитич тайную политику Сапеги. Напрасно было бы искать в нём скрытое недружелюбие. Он, Фёдор Романов, был, однако, нехорош Сапеге уже тем, что мог стать русским царём. Он же, Сапега, представлял те силы в Польше, что хотели бы видеть на русском троне самозванца, который служил бы польским интересам. А там недалеко и до соединения русского государства с Польшей под короной Сигизмунда. Потому, если выбирать между Годуновым и Романовым, он, Сапега, выбрал бы Годунова: убийцу царевича Димитрия нетрудно будет заменить самозванцем, ложным Димитрием.
Фёдор не мог знать этих соображений польского посла, однако, уловив его недобрый порыв, спросил:
— Дозволь спросить тебя, ясновельможный пан, зачем ты пожаловал ко мне? Или твоё ясновельможное достоинство дозволяет тебе учинить допрос хозяину дома? Или ты, Лев, не жил у нас и не знаешь русских обычаев?
— Ты что-то строг ныне, Фёдор Никитич. Где ты увидел допрос? — с небрежным простодушием произнёс Сапега. — Не в моём обычае затевать свару. Я веду беседу, достойную высоких особ.
— Ты не ответил на мой вопрос, Лев Иванович. Какая нужда привела тебя в сей загородный дворец?
Сапега ответил не вдруг, дожевал кусок ароматной зайчатины, вытер руки рушником, лежавшим у него на коленях, потом указал глазами на пана Стадницкого.
— Сей гость твоей боярской милости — отменный рисовальщик. Он делал артистичную парсуну[27] пану Замойскому, и пан щедро наградил его и держит парсуну у себя в замке... Пан Стадницкий учился сему ремеслу у италийских рисовальщиков. Ныне он хочет подарить тебе твою парсуну.
Фёдор с удивлением посмотрел на молодого поляка. Вытянутое бледное лицо, рыжие волосы, взбитые хохолком, общее впечатление одновременно слабости и упорства.
— Я должен огорчить пана Стадницкого. У меня и на. мысли не было о парсуне.
Молодой гость понял из речи хозяина только слово «огорчить» и, весь встрепенувшись, заговорил по-польски. Сапега перевёл:
— Художник говорит, что не посмеет затруднять ясновельможного боярина. Позировать ему не надо. Рисунок у него готов. Он сделал его на пиру у князя Сицкого, никто не заметил его работы. И ныне пан просит боярина посмотреть парсуну. Коли что не так — можно будет исправить.
Не успел Фёдор ответить, как пан Стадницкий развернул перед ним среднего размера холст. Рисунок был тонким, искусным. Фёдор с живым любопытством вглядывался в собственное изображение. Чутьё это какое-то или дар особый, но поляк уловил в лице русского боярина важность без малейшей спеси и аристократическое достоинство. В портрете можно было угадать тонкие породистые черты покойной матери Фёдора, княжны Горбатой-Суздальской, из рода Шуйских. Фёдор и сам не подозревал, что так похож на неё.
Художник был доволен произведённым впечатлением. Но Фёдор молчал. Мелькали совсем иные мысли: о незабвенной матушке, о князе Василии Шуйском, что был так добр к нему. Не оттого ли, что угадывал в нём отдалённые черты своего рода?
— По какому случаю художник намалевал сию парсуну? И чего он хочет от меня? — спросил Фёдор, стараясь понять, какой интерес имеет Сапега в сей парсуне.
— Он чает завершить свой помысел в присутствии вашей светлости, — ответил Сапега с самым бесстрастным видом. — Мы с тобой сядем к окну. Я привёз тебе важные вести и доподлинно их тебе передам. А пан Стадницкий будет рисовать.
Фёдор смотрел на Сапегу, догадываясь, что на уме у него какая-нибудь каверза. Он не понимал таких людей. Сам жил по обычаю: «Коли вымолвить не хочется, так и язык не ворочается». А у Сапеги чем злее весть, тем охотнее слетает она у него с языка.
— Да будет ведомо твоей боярской милости, — со свойственной ему иронической приправой начал он, — собор, о коем так хлопотал князь Василий Иванович, состоялся. Годунов всем собором избран на царство. Об иных лицах никто и не помышлял, — колко добавил он, имея в виду под «иными лицами» самого Фёдора Никитича.
Некоторое время Сапега молчал, вглядываясь в лицо Фёдора Никитича и желая понять, как он проглотит эту пилюлю.
— Об этом многие знали загодя. Новость твоя невелика, — спокойно отозвался Фёдор, хотя в глазах его появился опасный блеск. — Нам ведомо было, что патриарх учинит малый крестный ход в Новодевичий монастырь.
— Не знаю, малый или великий, но возле монастыря на Масленицу собралось всенародное множество и моление было слёзным. Ваш верховный поп добре знает своё дело.
— И всё же отказ тот был затейливым?
— Отнюдь. Все доводы Бориса Фёдоровича были прежними. Вот доподлинные слова вашего великого отказника: «Как прежде я говорил, так и теперь говорю: «Не думайте, что я помыслил на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя».
— И много пришло бояр?
— Довольно. Кручинились меж собой, исчисляли все доводы, на чём им стоять, чтобы и впредь слёзно молить отказника согласиться на царство.
— Довольно о том. Доводы те ведомы нам. В них прямая неправда.
В глазах Фёдора снова появился жёсткий блеск. Помолчав, он продолжал:
— Царь Иван поручал сына Фёдора и супругу его Ирину не Годунову, а родителю моему незабвенному Никите Романовичу, да Богдану Бельскому, да князю Шуйскому.
Недовольный своей запальчивостью, Фёдор остановился.
— Не помышляет ли боярин довести о том до соборного множества народа? — спросил Сапега в знакомой Фёдору манере допроса.
— Ясновельможный пан ныне зело язвителен.
— Что поделаешь! Таким меня Господь сотворил. А в тебе мне то не нравится, боярин, что речи ты не до конца ведёшь.
— У нас на Руси говорят: «Не любо — не слушай».
Фёдор сделал движение встать. Сапега миролюбиво положил руку ему на плечо:
— Не сердитесь, боярин. Будь ласка!
За окном раздался звук подъехавшей колымаги. Фёдор вгляделся и узнал своего родича князя Сицкого.
Встретил его ещё на пороге, обнял. От него не укрылось, однако, как неприятно был поражён Сицкий, увидев Сапегу. Когда князь обменялся с польским послом холодным поклоном, тот вышел из палаты.
— Сказывай, с какими вестями прибыл, — обратился к Сицкому Фёдор.
— Двинулся крестный ход к Новодевичьему монастырю. Патриарх Иов поднял все чудотворные иконы. Из монастыря вынесли икону Смоленской Божией Матери. За нею вышел Годунов и остановился перед образом Владимирской Богородицы. Перекрестился на икону, упал перед ней на колени и со слезами возопил: «О, милосердная царица! Зачем такой подвиг сотворила, чудотворный свой образ воздвигла с честными крестами и со множеством иных образов? Пречистая Богородица, помолись обо мне и помилуй меня!» Всё с тем же видом умиления приложился он к другим иконам, затем подошёл к патриарху и обратился к нему с горестной укоризной: «Святейший отец и государь мой Иов-патриарх! Зачем ты чудотворные иконы и честные кресты воздвигнул и такой многотрудной подвиг сотворил?»
Тут Сицкий увидел сидевшего в углу поляка и смолк. Фёдор успокоил его.
— Это рисовальщик из Литвы. Он не разумеет наш язык. Что же ответил патриарх?
— Патриарх обливался слезами и тихо отвечал: «Не я этот подвиг сотворил, то Пречистая Богородица со своим предвечным младенцем и великими чудотворцами возлюбила тебя, изволила прийти и святую волю сына своего на тебе исполнить. Устыдись пришествия её, подчинись воле Божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня».
— Довольно! — произнёс Фёдор.
На его лице появилась надменная складка, губы скривились в холодной насмешке. Он не заметил, как вернувшийся Сапега подошёл к художнику.
Сицкий суетливо начал прощаться, отказываясь от угощения.
— Я к тебе по дороге заскочил. Ныне еду в Тайнинское навестить больную тётушку.
Видно было, что он напуган предстоящим избранием Годунова на царство и не знает, как выпутаться из рискованного положения, что заехал к Фёдору Романову, коему не миновать опалы при Годунове. А тут ещё и Сапега, которого не терпел Годунов.
Фёдор угадал причину суетного поведения князя Сицкого, и это ещё больше прибавило горечи его душе, Сапега ничего не заметил. Он был занят портретом.
— Фёдор Никитич, да идите же подивиться на свою парсуну! Ежели это не чудо творения, то что есть чудо?
Слова Сапеги вернули Фёдора к действительности. Он обернулся в сторону художника, о котором забыл, и машинально подошёл к нему. Сапега хлопнул пана Стадницкого по плечу.
— Хотя бы и царю такую парсуну.
Обернувшись к Фёдору, он добавил:
— Сей рисовальщик угадал твою тайную тайных. Ты, боярин, знаешь, подобно доблестным римлянам, что можно взвалить на свои плечи, а чего нельзя.
Фёдор смотрел на портрет, удивляясь тому новому, что появилось в нём за короткий срок. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту напряжённой вспышки. В глазах неожиданно проступило что-то восточное, упорное, чего сам он не замечал в себе, но что видели другие.
— Портрет, кажется, верен, — заметил он.
— Верен! И только?! — вскрикнул Сапега. — Да хотя бы и царю такой портрет! — повторил он.
Фёдор вгляделся пристальнее. Неужели в его лице столько нетерпеливой силы? В глазах спокойно-повелительное выражение. «Хотя бы и царю такой портрет»? Не по дьявольскому ли наущению написана сия парсуна? Не сулит ли она погибели? Сапега не станет молчать. Узнает Годунов....
Все эти мысли с быстротой молнии пронеслись в его охваченном смятением уме.
Художник между тем посмотрел на Сапегу и, как бы сговорившись с ним глазами, быстро написал внизу портрета: «Русский царь Фёдор Микитич Романов». Когда он отошёл в сторону, проверяя впечатление, Фёдор выхватил нож и кинулся к парсуне. Художник опередил его, закрыв собой портрет.
— Ни... Сего не можно! — закричал он тонким пронзительным голосом.
— Или ты малевал парсуну и писал сии слова не по вражескому наущению? — резко произнёс Фёдор, отталкивая его.
— Ни-ни. Матка Боска! — кричал пан Стадницкий, продолжая защищать портрет.
Фёдор понемногу остыл.
— Я покупаю сию парсуну! Ермолай! — позвал он дворецкого, — Неси сюда кошелёк.
Вошёл Ермолай и подал хозяину кошелёк. Это был расшитый Ксенией Ивановной подарок. Он лежал в столе, неизменно набитый серебром. Фёдор кинул кошелёк художнику, и тот, на лету подхватив его, несколько раз поклонился в пояс щедрому боярину.
— Сверни портрет да отнеси его на чердак, — приказал Фёдор дворецкому.
Сапега с художником раскланялись. На прощание Сапега сказал:
— Дозволь дать тебе совет: «Живи, как можешь, раз нельзя, как хочется. Но помни: за глупость Бог простит, а за дурость бьют».
Оставшись один, Фёдор добрел до ложа и сразу провалился в сон. Проснулся он ночью и стал вспоминать События дня: рассказ Сицкого, от которого он сделался едва ли не болен, потом этот портрет. Откуда взялся этот пан Стадницкий? И что задумал Сапега? Ведь это он подвёл к тому, что портрет сей — «царский». Тут есть умысел. Но какой? Почему Сапега сказал: «За дурость бьют»? Или он, Фёдор Романов, должен заявить о своих притязаниях на царство? И это в то время, когда вопрос об избрании Годунова решён?
Фёдору не удалось более уснуть. Перебирал события и впечатления прожитой жизни. Почему ему всё время внушали, что в нём есть что-то царственное? В детстве — шутя, позже говорили о сходстве с царевичем Иваном. Постепенно в душе его, словно по бесовскому наваждению, насевались мысли о царстве. Мысли эти брали над ним силу, когда он думал, что на трон сядет Годунов, человек чужой в исконной боярской среде, хитрый, злобный в душе, неспособный принять царство ещё и по невежеству своему. Он не был сведущ как должно даже в Священном Писании.
Фёдор знал: добром это не кончится. Да и сам Годунов всего опасается и бегает гадать к волхвам. Как хотелось надеяться Фёдору, что в последний момент Бог не допустит, чтобы скипетр взял проныра лукавый! Но, судя по рассказу Сицкого, все смирились с происходящим, и всех привёл в смирение Иов. Видно, это имел в виду Сапега, когда говорил: «Живи, как можешь, если нельзя, как хочется». А что означает это «как можешь», видно теперь. Но это ещё лишь начало. Ему, Фёдору, не отсидеться в загородном дворце. Годунов его везде достанет. И ждёт его ссылка или тюрьма. Вот чем закончились мечты о царствии: избранием Годунова и отверженностью его, Фёдора.
— «Русский царь Фёдор Микитич Романов», — язвительно произнёс он некоторое время спустя.
«Хорошо ещё, что догадался спрятать этот портрет. Авось детям и внукам моим любопытно будет посмотреть на мою парсуну», — думал Фёдор, стараясь привести свои мысли в порядок.
Портрет сохранился и был обнаружен в Коломенском дворце по прошествии многих лет, когда на русском троне прочно утвердились Романовы.
ГЛАВА 40 «ПОСЛЕДНЮЮ РУБАШКУ РАЗДЕЛЮ СО ВСЕМИ»
Многие годы дожидался Годунов этого вожделенного часа — своего избрания на царство — и потому не хотел быть умолённым скоро. Патриарх Иов, ставший его угодником, затевал то один, то другой крестный ход к Новодевичьему монастырю, где отказник укрылся со своей сестрой, царицей Ириной, ныне монахиней Александрой. Только на Масленицу, 26 февраля 1598 года, Годунов совершил торжественный въезд в Москву. И снова Иов устроил торжественный молебен в Успенском соборе, который почитался матерью русских церквей. После молебна Годунов принимал поздравления ото всех, кто спешил поздравить его с избранием на царство. Под клики «Да здравствует царь Борис!» Годунов прошёл в Архангельский собор, там он омочил слезами гроб каждого великого князя и государя. Сопровождавшие его лица могли слышать его умилительно-торжественный голос:
— Великие государи, хотя телом вы от своих Великих государств и отошли, но духом всегда пребываете неотступно и, предстоя перед Богом, молитву творите. Помолитесь и обо мне и помогите мне!
Из Архангельского собора Борис пошёл в Благовещенский собор, который был домашней церковью всех русских государей. Всюду его сопровождали духовенство и бояре. Неизменно рядом был патриарх Иов. Было замечено, что они долго разговаривали наедине, и после этой важной приватной беседы Годунов вновь вернулся в Новодевичий монастырь.
Москва жила ожиданием присяги, но Годунов не спешил. На второй неделе поста — 9 марта — патриарх созвал духовенство, бояр, весь царский синклит и, на удивление многим, начал речь с того, о чём все не только слышали, но и исполнили сказанное им — просили Годунова на царство. Речь Иова была пересыпана «премудрыми глаголами»:
— Уже время молить нам Бога, чтоб благочестивого государя нашего Бориса Фёдоровича сподобил облечься в порфиру царскую, да установить бы нам светлое празднество преславному чуду Богородицы в тот день, когда Бог показал на нас неизречённое своё милосердие, даровал нам благочестивого государя Бориса Фёдоровича, учредить крестный ход в Новодевичий монастырь каждый год непременно.
Тотчас же разосланы были по областям грамоты с приказанием петь молебны «по три дня со звоном».
И лишь 30 апреля Годунов торжественно переехал из монастыря в Кремлёвский дворец.
И опять он был встречен крестным ходом. В Успенском соборе патриарх надел на него крест Петра-митрополита. Ведя за руки детей, сына Фёдора и дочь Ксению, Годунов торжественно обошёл все соборы. Был дан большой обед, особо — для знатных людей, а для простонародья было поставлено великое множество столов за стенами дворца. Щедро раздавалась богатая милостыня.
Народ казался благодарен новому государю. Но чем же так озабочен патриарх? Зачем он вновь собирает духовенство и синклит, торговых и служилых людей и снова обращается к ним с торжественной речью? Или мало было речей, молитв и обещаний? Или затевается новый крестный ход?
Затаив в душе недоумение, люди слушали:
— Мы били челом соборно и молили со слезами много дней государыню царицу Александру Фёдоровну и государя царя Бориса Фёдоровича, который нас пожаловал, сел на государстве, так я вас, бояр и весь царский синклит, дворян, приказных людей и гостей, и всё христолюбивое воинство благословляю на то, что вам великому государю Борису Фёдоровичу, его благоверной царице и благородным чадам служить верой и правдой, зла на них не думать и не изменять ни в чём, как вы им, государям, души свои дали у чудотворного образа Богородицы и у целебноносных гробов великих чудотворцев.
Синклит, духовенство и все православные христиане вновь клятвенно заверили патриарха, что мимо Бориса Фёдоровича иного государя на царство не станут искать. Успокоенный патриарх благословил собравшихся и сказал:
— Если вы такой обет перед Богом полагаете, то надобно утверждённую грамоту написать и руки свои к ней приложить, чтоб было впредь крепко, неподвижно и навеки.
И все собравшиеся единодушно возгласили:
— Святого духа преисполнены все глаголы твои, владыко!
— Подобает так быть, как глаголешь!
Венчание на царство было назначено в день 1 сентября, на самый праздник Нового года (по летоисчислению того времени). Увенчанный короной, сидя на троне со скипетром в руках и державой, Борис произнёс, обращаясь к патриарху, небольшую речь как царь Божией милостью. Напомнив о том, что покойный царь Фёдор приказал патриарху, духовнику, боярам и всему народу избрать, кого Бог благословит, он торжественно закончил:
— По Божиим неизречённым судьбам и по великой его милости избрал ты, святейший патриарх, и прочие меня, Бориса.
Всех поразило необычайное волнение нового царя, когда, повернувшись к патриарху, он воскликнул:
— Отче великий, патриарх Иов! Бог свидетель, что не будет в моём царстве бедного человека!
Затем, тряся ворот своей сорочки, он возгласил:
— И эту последнюю рубашку разделю со всеми!
Волнение и усердие были неподдельными. Но зачем же так усердствовать? Достойно ли это истинного царя?
С этого времени и прилипло к Годунову слово «рабо-царь», и называть его будут за глаза Годуновым, хотя он и оповестил: «Нет ныне Годунова. Есть царь Борис!» Но уже в этом волнующем жесте, когда, не помня себя от радости, новый царь начал трясти ворот рубашки, многие поняли, что Годунов остался Годуновым. И если одни проливали льстивые слёзы умиления, то многие отвели глаза от этого зрелища, унижающего царское достоинство русского государя.
Вдруг отчётливо раздался непонятный звук — не то заглушаемый смешок, не то неуместное покашливание. Одни решили не заметить эту неподобающую неуместность, другие обернулись в сторону Фёдора Романова, нарушившего торжественность минуты. Он, видно, и сам был не рад невольно вырвавшемуся смешку, но, видя, как Годунов трясёт ворот сорочки, Фёдор припомнил ещё один недавний жест Годунова. Было это в Новодевичьем монастыре, когда подкупленные людишки усиленно вопили, умоляя отказника принять царство. Он же отвечал: «Не будет этого!» — и клятвенно уверял в этом людей. Затем, встав на церковном крыле, так, чтобы все могли его видеть, он поднял тканый платок, которым отирал пот с лица, обвёл этим платком вокруг шеи, давая понять людям, что ежели они не перестанут его умолять, то он удавится. Это притворство насмешило Фёдора. Он подумал тогда: «Воистину комедианта-лицедея зовут люди на царство». Сколь же слабодушным был этот человек, если в радости забыл о достоинстве и приличии!
Фёдор понимал, что Годунову донесут на него, но что случилось — то случилось. Все эти дни его преследовало ощущение нереальности происходящего из недели в неделю, из месяца в месяц: моления принять царство, многочисленные крестные ходы, стенания доверчивых людей, притворные слёзы, льстивое угодничество патриарха Иова — от всего этого хотелось скрыться.
Не спасало и Коломенское. Доброхоты присылали за Фёдором. Как боярин он обязан был принимать участие в торжественных церемониях. А он говорил себе, как покойный родитель: «Дьяволом всё это насевается, и тьма мрака закрывает очи людей».
Фёдор ожидал, когда же рассеется мрак. Насмешка над происходящим была его единственной отдушиной. Лицемерие высоких священных лиц его особенно поражало. И это епископы? Это архиереи и архимандриты? Наёмники. О, какая тьма ослепляет их разум! Не эта ли их слепота и лесть без меры сделали Годунова дерзающим на царство? Забыли, что в народе его называют «мужем крови» и «царём Иродом», все его злодейства отпустили ему, как бы ничего не зная.
Позже Фёдор отречался от этого скорого и сурового суда, вспомнил, что покойный родитель учил его высказывать суждения осмотрительнее. Всё на земле надлежит понимать как исполнение Божьего суда. Если бы Бог не захотел допустить случившееся, разве удалось бы Годунову бесстыдно и хищнически вскочить на царство? И прав ли он, Фёдор, навлекая на себя гнев сего хищника, ставшего неисповедимыми судьбами помазанником Божиим? Не учил ли его Никита Романович приноравливаться к сему миру? Ежели не можешь сие делать, как хочется, делай, как другие — что доступно делать, дабы спастись в юдоли! Или не согласился Никита Романович выдать свою единокровную дочь за родича всесильного тогда правителя — Ивана Годунова? И кто кинет камнем в князя Дмитрия Шуйского, женившегося на младшей дочери Малюты Скуратова — Екатерине?
Но в те дни эти разумные доводы не приходили в голову Фёдора Романова. Он был суров и непреклонен в своих мыслях и, осудив даже родственников своих — князей Сицкого и Черкасского, снова удалился на житьё в свои коломенские палаты. Случилось это после одного кощунственного деяния, виновником которого был царь Борис.
Кощунство было совершено в Успенском соборе. Как отметили летописцы, царь Борис, научаемый своими льстецами, повелел снять печать с гроба святого Петра-митрополита и положить в золотом ковчеге в раку к святым мощам русского первосвятителя хартию о своём избрании, скреплённую подписями подданных, начиная с синклита. Чему воздавал такую честь царь Борис? Всенародной ли присяге или этой хартии — ненадёжному утверждению своего лукавства?
Фёдор вспомнил слова присяги. Сколько в ней мелочной подозрительности! Какая дьявольская уверенность в силе волхвования, какой унизительный страх за свою жизнь! Какой государь какой державы мог бы умалить себя до такой постатейной предусмотрительности в измышлении неведомых бед, заведомо дурно думать о людях, подозревая их в злом умысле! И он, гордый своим достоинством Фёдор Романов, поставил свою подпись под этой постыдной хартией.
Вот слова подкрестной записи, которые многими были восприняты как поругание душе: «Мне над государем своим царём, и над царицею, и над их детьми, в еде, питье и платье и ни в чём другом лиха никакого не учинить и не испортить, зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать, и мне такого человека не слушать, зелья лихого и коренья у него не брать; людей своих с ведовством, со всяким лихим зельем и кореньями не посылать, ведунов и ведуний не добывать на государственное лихо. Также государя царя, царицу и детей их на следу никаким ведовским мечтанием не испортить, ведовством по ветру никакого лиха не насылать и следу не вынимать никаким образом, никакою хитростию. А как государь царь, царица или дети их куда поедут или пойдут, то мне следу волшебством не вынимать. Кто такое ведовское дело захочет мыслить или делать и я об этом узнаю, то мне про такого человека сказать государю своему царю, или его боярам, или ближним людям, не утаить мне про то никак, сказать правду, без всякой хитрости; у кого узнаю или со стороны услышу, что кто-нибудь о таком злом деле думает, то мне этого человека поймать и привести к государю своему царю или к его боярам и ближним людям вправду, без всякой хитрости, не утаить мне этого никаким образом, никакою хитростию, а не смогу я этого человека поймать, то мне про него сказать государю своему царю или боярам и ближним людям».
Царь Борис, убивший всех, кто мог бы спорить с ним о троне, ныне трусливо опасался даже ослеплённого им татарского царя Симеона: «Царя Симеона Бекбулатова и его детей и никакого другого на Московское государство не хотеть, не думать, не мыслить, не семьиться, не дружиться, не ссылаться с царём Симеоном, ни грамотами, ни словом не приказывать на всякое лихо; а кто мне станет об этом говорить или кто с кем станет о том думать, чтоб царя Симеона или другого кого на Московское государство посадить, и я об этом узнаю, то мне такого человека схватить и привести к государю».
«Ежели Борис так боится старого слепого Симеона, то какие же чувства может он иметь к нам, Романовым, кровным родственникам покойного царя Фёдора», — думал Фёдор и в смертной тоске искал выхода.
Неожиданная встреча с царём Борисом подтвердила опасения Фёдора, что его семью подстерегают беды. Накануне он вернулся с охоты, освежённый душой и несколько успокоенный. Венчание Годунова на царство, крестные ходы, тканый платок, коим Годунов «грозил» удавиться, ежели станут понуждать его принять скипетр — всё это было где-то в прошлом. Таким же прошлым скоро будет воцарение Бориса. Всё — туман и комедь, и всё минёт по слову Божьему, одна правда останется.
Думать так было легко. Минувшие потрясения казались как бы и не бывшими. Но это обманчивое и неверное состояние души продолжалось недолго. Однажды Фёдор увидел из окна, как на коломенский двор въехала царская колымага, из неё вышли сначала человек в италийском платье, князья Мстиславский и Воротынский, затем показался Годунов в венце и бармах, и первые в синклите князья помогли ему выйти из колымаги. Рассмотрев всё это, Фёдор почувствовал щемящее внутреннее стеснение, понемногу переходящее в страх перед новым венценосцем. Зачем он пожаловал в Коломенское, где прежде не любил бывать? Ужели проведал о портрете и хочет сыскать какую-нибудь вину?
Словно подтверждая подозрения Фёдора, царь Борис остановил взгляд на окнах коломенских палат Романовых.
Первым порывом Фёдора было немедленно уехать из Коломенского, как бы не ведая о прибытии Бориса. Но вместо этого он, словно околдованный, смотрел, как царь что-то сказал Воротынскому и направился к романовскому крыльцу. Можно было успеть скрыться через тайный выход, но Фёдор продолжал стоять, пока дворецкий Ермол ай не вошёл в палату со словами:
— Государь Борис Фёдорович изволил пожаловать к вам...
Фёдор поспешил встретить нового венценосца у порога, распахнул перед ним старинные широкие двери и, бессознательно приняв вельможную выправку покойного родителя, почтительно склонился перед высоким гостем. Он первый раз видел его в царском венце и в бармах. На лице его было сияние власти.
— Спаси Господь тебя, государь, что не забыл своего боярина, пожаловал к нему. Буди здрав еси, Великий государь!
— Буди здрав и ты, Фёдор Никитич! Вижу, не ожидал, что окажу тебе честь великую. Мои князья во дворе остались, толкуют с италийским мастером.
Пройдя вперёд, царь Борис огляделся с некоторым чувством разочарования. Простота убранства в палатах была ему не по вкусу.
— Ныне пришёл к тебе для беседы. Твой покойный родитель был мне знатным другом.
— Челом бью, государь! — произнёс Фёдор, приблизившись к Борису, и, подведя его к маленькой, обитой бархатом тахте, добавил: — Прошу тебя: будь гостем. Ермолай!
Выглянувший дворецкий всё понял и через минуту вернулся с подносом, на котором стояли кувшин с вином и две чаши.
— Ныне привёз сюда князей Мстиславского с Воротынским да иноземного мастера. Что скажет нам итальянец о коломенских храмах? Покойный Никита Романович был великим ценителем каменного чуда в Коломенском и передал тебе многие сведения о его постройке, так ты италийскому мастеру всё то передай, как явится к тебе. Великие храмы и чудные строения станем возводить на Москве. Огородим Кремль белым камнем. По всей державе новые города поставим. Подобно драгоценному ожерелью раскинутся те города в моей державе. Слыхал о грузинском царе Давиде-строителе? Мы превозможем его славу.
Царь Борис не скрывал волнения. Глаза его блестели.
Строительные замыслы царя Бориса не были для Фёдора полной неожиданностью. Градостроительство начало шириться ещё при Фёдоре. В то же время в волнении Бориса Фёдор чувствовал, что тот что-то не договаривал.
— Пора Москве стать вровень с европейскими городами. Чай, ты был в Швеции, сравни тамошние дворцы и наши. Погляди и на свои палаты.
Царь Борис вновь оглядел нехитрое убранство палаты. Фёдор машинально повторил это наблюдение.
— Или забыл, как хвалил устройство знатных домов в Швеции? Станем ли гордиться, что у нас лучше? Вот и Коломенский дворец устарел, обветшал.
«Он хочет согнать меня с родного пепелища», — мелькнуло у Фёдора.
— Или опасаешься, что отниму у тебя достояние твоего родителя? Мы тебе такие палаты построим! Да что палаты! Я последней рубашкой готов с тобой поделиться!
Царь Борис знакомым жестом поднёс руку к вороту сорочки. Ему показалось, однако, что Фёдор ему не поверил — таким странным и напряжённо-неподвижным был его взгляд. Но увлечение игрой было столь сильным, что царь Борис и в самом деле ощущал себя добрым и потому добавил:
— Надейся на меня и никого не бойся!
В его природно-мягком голосе звучала ласка. В больших блестевших, красивых глазах была обволакивающая теплота.
— Или я не обещал твоему покойному родителю иметь к тебе бережение великое?
Фёдор догадался, наконец, поклониться царю и тем выразить ему благодарность.
Борис неспешно удалился.
Фёдор понемногу приходил в себя. Сомнений быть не могло: его ожидает ссылка или тюрьма. Задержался взглядом на подносе с вином и чашами. Забыл угостить высокого гостя. Дурной знак.
ГЛАВА 41 ИМЕНИНЫ И ЯВЛЕНИЕ «СКОМОРОХА»
Жизнь Романовых текла обычным порядком, и казалось, ничто не сулило перемен. Дети Фёдора, слава богу, росли здоровыми. Сын Мишатка рос смышлёным, но нравом был тих. Не было у него живости, свойственной детям его возраста. Однажды его напугали стрельцы, учинившие погром на подворье, и с той поры он всего боялся. Ксения с самого младенчества жалела его более остальных детей и много баловала. Это рождало несогласие между мужем и женой. Фёдор говорил: «Жалеть сына — учинить его дураком». Ему хотелось бы взять сына под свой норов, чтобы рос упорным, давал волю характеру, но жена всё делала против. Она задаривала Мишатку игрушками, гостинцами, сластями, но ни в чём не давала ему воли. За ребёнком, и без того робким от природы, был установлен строгий надзор. Недовольному этим Фёдору она говорила: «Кто без призора в колыбели, тот весь век не при деле».
Позже Фёдор не раз вспомнил своё несогласие с женой в воспитании сына. Семейные нелады сказались на характере Михаила — первого царя из рода Романовых, а несходство между супругами во взглядах на сына, как и в понимании многих вопросов, осложнило жизнь молодого монарха.
Но с этими воспоминаниями у Фёдора связывалось ещё и тягостное ощущение тех дней, будто из жизни его ушла радость.
Мудрые люди давно заметили: «Никогда нельзя заранее сказать, на что способен человек, пока его хорошенько не испугаешь». Трудно представить себе более печальный именинный праздник, чем тот, что вызвал впоследствии новые подозрения царя Бориса. Недаром после пожара на родовом подворье Романовы ожидали новой беды, и собрала их вместе тоска.
Ближние родичи хозяев съезжались загодя. Покойный Никита Романович, бывало, говаривал: «День именинный — разговор длинный». Где ещё и услышишь правдивое слово, как не у родни. Ранее других прибыл князь Борис Камбулатович Черкасский с княгиней Анастасией, сестрой Никитичей. За ними — князь Иван Репнин да князь Иван Сицкий, за ними — Оболенские да Шестуновы. В трапезной на столах дубовых — миски серебряные и золотые, полные всяких яств: и рыбы из речек московских, и янтарно-белой осетрины с Волги, и каши с бараньим боком, и студня, и пирожков горкой. Отдельно на столике романея, рейнское и напитки заморские. Хлебосольно и богато жили Романовы... Всё было в той трапезной, Всё, кроме праздника.
Прежде в боярских палатах Романовых много песен пелось по праздникам и танцеванья было много. А ныне по всему чувствовалось, что того прежнего больше не будет. Может быть, он действительно существует, едва слышимый голос судьбы? Недаром же сложилась поговорка: «Голос судьбы подсказывает тихо». Молчал в углу под божницей всегда разговорчивый Иван Никитич, безжизненно лежала на столе сухая от природы рука. Чем-то похож он на двоюродного брата, покойного царя Фёдора, только в монголоидных глазах не мягкость и доброта, а готовое вспыхнуть раздражение. Брат Василий тоже всем своим видом выражал беспокойство и смотрел на старшего, Фёдора, словно он один ведал, как остеречься беды.
В большой семье Никитичей Фёдор считался самым ловким и красивым, а его спокойная рассудительность придавала его слову особую крепость, и оттого оно обнадёживало. Но Фёдор пока молчал и мрачно, сурово смотрел, как за отдельным столиком князь Сицкий играл в шашки с князем Репниным; они доигрывали партию. Заметив внимание хозяина, Иван Сицкий, любивший во всём подводить черту, сказал:
— Ты, боярин, много не задумывайся: всё в Божьей воле...
— В Божьей-то в Божьей, да ныне время пришло мятежное. Не Бог, но Сатана людьми правит...
Он произнёс эти слова как бы в рассеянности и при этом погладил чёрную кудрявую бороду . Его слова тотчас подхватил князь Черкасский, и вот уже под низкими сводами прозвучал его глухой бас:
— Чую, в наносе живём. От своей же братии, от бояр, беда надвигается.
Его огромная тень занимала чуть ли не всю стену. Большая кудлатая голова этого коротышки была посажена, казалось, на самые плечи. Эта уродливая телесная пышность князя Черкасского была наследственной. Недаром прозвище Черепаха прилипло к его потомкам. Впоследствии князья Черкасские взяли силу при дворе Анны Иоанновны. Были они из рода кабардинских князей, но выдавали себя за выходцев из Египта.
— Правдиво твоё слово, князь, — быстро отозвался из угла сухорукий Иван Никитич. — Да как отвести беду? Всякое лихо споро — не минёт скоро.
— Они на нас царю наносят. Да знают ли, что делают? Сами помрут ране нас, — желчно продолжал князь Борис Камбулатович.
— А ты на кого думаешь? — спросил Александр Никитич, пощипывая редкую бородку.
В его вопросе была болезненная нервность. Казалось, этот человек острее других предчувствовал горестную участь своего клана.
— На Салтыкова Михайлу... Помяните моё слово: наведёт он на нас разбойников!
Говорили, что князь Черкасский отличался способностью предсказывать то, что никогда не случится. Поэтому его слова пропускали мимо ушей. Но, удивительное дело, это его пророчество сбылось.
— Беседовал ныне с княжичем Василием? — перевёл разговор Александр Никитич, обращаясь к старшему брату.
Речь шла о князе Василии Шуйском, хотя все, кто слышал этот вопрос, и тот, кто его задал, понимали, что говорить о Шуйском — пустое дело. Княжич Василий держался в сторонке и делал вид, что не замечает боярского заговора против Бориса, хотя знали, сколь он гневен на даря.
Романовы не любили Шуйских. В этом они странным образом сошлись с Годуновым. Так обычно не любят людей, которым сделали зло.
— С князем Шуйским? — переспросил Фёдор Никитич. — А какой резон с ним толковать? У него одна речь — про женитьбу. Годунов не разрешает ему жениться. И Мстиславскому також. О том ныне был разговор в Думе. Всяк молчал, да всяк понимал: опасается Борис, как бы потомки Шуйских и Мстиславских не стали спорить с наследниками самого Годунова.
— Теперь-то так, да после как? — неопределённо произнёс князь Сицкий.
Чувствовалось, что его угнетает какая-то своя забота.
— А так, что Борис начал всех нас в свою волю переводить, — сказал князь Репнин, но угадывалось, что его тяготит тоже своя забота.
Одна общая беда нависла и над ним, и над князем Сицким: они прямые Рюриковичи, как и Шуйский. Станет ли Годунов миловать их род? По всему видно, как перенимает он обычаи грозного Иоанна. Широкие плечи князя Репнина удручённо опущены. Тонколикий Сицкий рядом с ним кажется моложе, хотя они ровесники. Он и характером потвёрже будет, и в речах смелее. Он и теперь выразил то, о чём другие думают лишь про себя:
— Авось Бог милостив. Волхвы нагадали ему недолгое царство.
— Есть такая присказка: «Долго ждать, когда чёрт умрёт. У него ещё и голова не болела».
— Не болела, так заболит. Али забыли уговор? — спросил князь Черкасский. — Али в прятки собрались играть?
Все поняли, что князь Борис Камбулатович намекает на дело секретное и опасное. Про то ведал покойный канцлер Андрей Щелкалов. Он-то и сказал боярину Фёдору Никитичу, что холоп их Юшка Отрепьев царского рода, и нарёк его царевичем Димитрием: про то-де ведают иезуиты от Рима до Польши и чают видеть в добром здравии русского царевича... Ныне на именинный вечер ждали в гости брата канцлера — Василия Щелкалова, главу Посольского приказа. Поэтому князь Черкасский, которому нравилась эта затея с «царевичем», был неприятно озадачен, услышав слова Фёдора Никитича:
— Тот уговор да не на наш двор.
Оглядев пышнотелого Бориса Камбулатовича, он добавил насмешливо:
— А в прятки тебе, князь, играть — статочное ли дело?
Все разом вскинули глаза на Фёдора Никитича. Али недоброе что стряслось? Недаром боярыня Ксения была невесела после того, как сходила к царице. А пока гости строили догадки, хозяин сидел словно бы не в себе. Жена смешала все его планы. От царицы Марьи Григорьевны она пришла вся в слезах и, как узнала, что муж собирается родню на совет позвать, заплакала в голос:
— Родной мой Фёдор Никитич, не замай злодея! Деток своих пожалей да и родичей наших. Ныне всех нас одно лихо повязало. Ежели нам беда какая приключится, то к ближникам не уйти, а моя бедная хворая матушка не снесёт нового горя.
Заставив жену повторить свой рассказ, боярин долго молчал. Угроза царицы Марьи испугала его. Что у царя на уме, то у царицы на языке, а у злого умысла, как известно, быстрые крылья... Какой новой беды ожидать?
Но, думая так, боярин крепился, чтобы ещё больше не напугать жену.
— Какое зло причинил я царю Борису, чтобы он пошёл против нас и нашей родни? Не иначе как вельможи зло про нас говорят. Все они каверзники и завистники. Да ложь-то выйдет вон, истину не спрячешь.
— Да ужели царь Борис станет доискиваться истины? — вскинулась Ксения Ивановна.
«То верно, — подумал Фёдор Никитич, — всё есть в нашем пресветлом царстве. Только правды нет».
— Ужели не знаешь, что у Бориса семь пятниц на неделе? — продолжала боярыня. — Концы умеет спрятать так, что и не сыскать. Пошто ране не доспели, что сей сладкоречивый доброделатель — злодей!
— Оттого и не доспели, что поначалу отведали его сладости. Зато ныне не ведаем, отчего столько горечи.
Слова мужа успокоили Ксению Ивановну. Она подумала, что он отказался от опасных «затеек», и всё же на всякий случай спросила:
— Ужели станешь со всеми совет держать? Али забыл, как Щелкалов сказывал: «Ныне стены не из камня, а из ушей»?
Посмотреть со стороны на Фёдора Никитича и его жену да послушать, что они говорят, — не ошибёшься, решив, что верховодит в семье боярыня. Казалось, в неведомых глубинах её души таится огромная сила. В глазах — суровая приглядка к человеку. В приветливом лице боярина — больше мягкости и добродушия. Он, видимо, давно смирился с тем, что правит в доме жена, но спорить с ней не велит ему здравый смысл.
— Ладно... Подождём Михаила. Послушаем, что он скажет...
Михаил — младший брат Фёдора Никитича. Он в чине окольничего. По долгу службы часто бывает во дворце, на царских выходах и трапезах. Его привечает сам царь Борис. Михаил доволен своей службой, и братья часто узнают от него последние новости: о чём вели речь за царским столом, есть ли какие-либо перемены, какие новости донесла молва до царских палат... Обычно Михаил после службы заходил в покои старшего брата, но ныне он прошёл прямо в трапезную.
Вся родня была в сборе. Но чем они так озабочены? Весёлому, беспечному Михаилу эта озабоченность показалась подозрительной. Он остановил взгляд на Фёдоре и подумал, что не зря говорится: «Хозяин невесел — и гости нерадостны».
Молчал, поглаживая бороду, Фёдор Никитич. Бороздили лоб думы тревожные. Или в палате жарко натоплено, или хозяина в жар бросило от опасливых догадок, только рука его распахнула полу ферязи, открывая рубаху из заморского полотна, белизну которой радостно оттеняет красное сукно ферязи. Затем также машинально Фёдор забрал в кулак бороду. Младший брат что-то сказал ему, но он не слышал.
Позже, когда случилась беда, поведал он, будто привиделось ему в Ту минуту, что стоит он на клиросе, и люди кругом все в чёрном, будто монахи, и кто-то говорит ему: «Монах, монах».
Очнувшись, он услышал, как брат Михаил заметил ему:
— Ты что же это, брат, невесел сидишь, точно монах? Ты, Фёдор, ещё заздравную не пил. Печаловаться после будешь...
Он налил в серебряную чашу брата рейнского, и они вместе со всеми выпили заздравную.
Младший Михаил — любимый брат Фёдора. Они и похожи между собой больше остальных братьев. Оба большеглазые, цыгановатые, с продолговатыми овалами лиц. В честь Михаила Фёдор и сына своего нарёк.
Вот он подсел к брату-«монаху».
— Слышь, брат, явится холоп Юшка — не вели отворять ему ворота... Отправь его назад к матери.
Он подозвал дворецкого и передал ему распоряжение хозяина, потому что сам Фёдор Никитич молчал, словно ещё не пришёл в себя. Дворецкий почтительно выслушал повеление. Он был в такой же ферязи, что и бояре, только сукно на ней поплоше и не шито золотом.
Гости вскинули глаза на Михаила Никитича. За что попал в немилость к нему Юшка? Сам взял его в свою свиту и нахвалиться не мог: разумен-де и в грамоте горазд. Брал его с собой на царские трапезы, хвастался, что Юшка умеет с достоинством вести беседу с самим патриархом. Замечен был самим царём: «Кто сей проворный молодец?» Бывал зван к столу Василием Щелкаловым, именитым главой Посольского приказа. Привечали его и в доме Басмановых. А в минувшем месяце Никитич-младший особо хвалил Юшку за храбрость при отражении набега стрельцов на подворье Фёдора Никитича.
Михаил Никитич читал на лицах гостей эти немые вопросы, да не охоч он был вести на пиру важные разговоры. Всему своё время...
Смутен, озабочен Фёдор Никитич: жена опечалила его своим рассказом о царице Марье... Теперь вот брат. Нехотя пил он заздравную и смотрел на Михаила. Никогда прежде не распоряжался брат на его подворье и тоже смутен лицом.
— Ты, брат, речи-то до конца веди... — произнёс Фёдор, следя глазами за Михаилом.
Ксения Ивановна подкладывала своему деверю кушанья на блюдо и строго смотрела на мужа: не велела ему более спрашивать. Она первая догадалась, чем озабочен Михаил Никитич. Перед глазами так и стоит злое лицо царицы Марьи. Видно, до царя дошли нелепые речи Юшки. Но боярыня Ксения не знала всего. Юшка-то по наущению дьявола сильно дерзок стал. Многие в свите Михаила слышали, как Юшка сказал, когда приближались к царским хоромам: «Всё это мне по праву принадлежит». А когда на праздник шли поклониться царским гробам, Юшка произнёс возле могилы Ивана III: «Душа трепещет, когда я приближаюсь ко гробам моих славных предков. Я чувствую, как их державная кровь струится в моих жилах... Они ждут, владыки земли Русской, чтобы я отвоевал наследный трон». Его слушали с насмешкой, как слушают скоморохов, и, видимо, довели те речи до царя Бориса.
— Ты волен привечать своего скомороха особо, — сказал Михаил Фёдору. — А я велел отставить его и не показываться мне на глаза, дабы обо мне не говорили: «Не сумел с доброй славой прожить и верно государю служить».
Фёдору было горько слушать брата, и весь он как-то сник. А прежде какая удаль молодецкая была в его быстром взгляде... Осторожный Иван Никитич советовал ему: «Не гордись своими удачами. Счастье переменчиво...»
Помолчав, Фёдор произнёс:
— Обсуждать твои слова излишне. Наш дом всегда честно служил величию трона русского. Кто посмеет открыто высказать нам ненависть и угрозы? А злые люди всегда были також и среди вельмож. Помнишь, как незабвенной памяти отец наш Никита Романович говаривал: «Зло надо перетерпеть, ибо зло найдёт погибель в себе самом. Всё в воле Божией».
— Будем жить, как можется, коли нельзя, как хочется, — вставил своё словечко Иван Никитич. — Тебе зло творят, а ты умом его одолей.
Несчастный калека, он всегда оберегал своих братьев и был им за няньку.
— У меня спокойная кровь. Она не вскипит от обид, — с достоинством отозвался Михаил. — Меня другое заботит. Дерзкие речи холопа — это не скоморошьи погудки. А коли ему удастся взбунтовать чернь именем царевича Димитрия? Из Польши, нам враждебной, мигом слетится воронье. Даже думать о том страшно. Столь тяжкой опасности для нашей державы ещё не было в веках минувших.
Эти слова ошеломили присутствующих. Ксения Ивановна испуганно посмотрела на мужа.
— Слепой не увидит, глухой не услышит... — попытался шуткой смягчить слова брата Василий Никитич.
— О какой опасности ты говоришь, окольничий? — отозвался князь Сицкий. — Кто так напугал тебя?
— Большое несчастье может пройти и в маленькую щель, — заметил старый князь Борис Камбулатович. — Так говорили у нас на Востоке...
Эти слова словно кнутом обожгли Михаила Никитича.
— Боярам ли Романовым держать на подворье дерзкого холопа!
Но отчего вдруг смолкли голоса? Михаил, будто кто-то толкнул его в спину, оглянулся и ошеломлённо посмотрел на возникшего в дверях Юшку. Гневно и громко, так, чтобы слышал дворецкий Берсень, которому Михаил Никитич почему-то не доверял, он произнёс:
— Тебя, холоп, видно, сам бес водит. Когда надо — уходишь, и когда не надо — возвращаешься...
Он хотел добавить ещё что-то, но его резко перебил неприятно-звонкий голос Юшки:
— Ты пошто коришь меня, боярин? Я не затем пришёл к вам, чтобы служить холопом, Богу было так угодно. Положил я своё упование на Спасителя и Пречистую Богоматерь...
Эти слова в устах невзрачного низкорослого отрока хоть кому показались бы странными. Сколько дерзкой уверенности в голосе и какой бесовский огонь в глазах! Голова, покрытая короткими жёсткими волосами, слегка откинута назад, рот кривится готовой сорваться насмешкой.
«Ишь, как дьявол-то им вертит...» — думал Михаил Никитич, припоминая его неожиданные выходки, его умение подражать кому-то, кого-то передразнивать. Как-то доигрался до настоящей истерики. Захлёбываясь слезами, начал рассказывать, как злодеи едва не лишили его, царевича, жизни, но милостивый Господь спас его от Борисовой грозы, дабы не пресёкся на Руси корень царский. Потом особо подчеркнул, что имя его Димитрий по-гречески значит «двоематерен» — так оно и сбылось. Первый сын Иоанна по имени Димитрий, от царицы Анастасии, умер младенцем, второй, Марьи Нагой, хоть и претерпел от злодеев, да жив остался.
А сколько знал он историй из жизни «отца» своего — грозного царя! Начнёт рассказывать — откуда что берётся! Но Михаил Никитич ведал, откуда. Когда покойный отец Юшки, стрелецкий сотник Богдан-Яков Отрепьев, ехал со своими стрельцами по Москве — со всех сторон сбегались смотреть на него. Голос, осанка, словечки — даровое представление!
— Доблий отрок, доблий! — проговорила старая княгиня, мать Бориса Камбулатовича. — Велите накормить его!
Но Юшка и без того красноречиво поглядывал на стол, потом отошёл к двери, возле которой стояла покрытая платком дородная баба, о чём-то пошептался с ней, затем вопросительно оглянулся на хозяина. Тот разговаривал с гостями, словно Юшки здесь не было.
— Гроша не стоит, а глядит рублём, — сказал Александр Никитич, отличавшийся среди братьев ядовитой насмешливостью.
— У всякого скомороха свои погудки...
И хотя голоса были тихими, Юшка расслышал последние слова.
— Я вам не скоморох, боярин, а Божьей волею природный царевич...
Наступило опасливое молчание. Все посматривали на хозяина. Фёдор Никитич мрачно поглаживал бороду. Он что-то обдумывал. Вдруг он подозвал дворецкого Берсеня и приказал ему послать за Василием Щелкаловым, затем отпустить дворню и самому отправиться на отдых, да не проспать ранний час. Лицо дворецкого вытянулось: он-то рассчитывал быть при гостях до утра.
Поведение дворецкого ещё раз подтвердило опасения боярина Фёдора. Завтра царь Борис будет знать, что у Романовых был главный дьяк Посольского приказа. Но он, Фёдор Романов, ни перед кем ответа держать не станет, едино лишь перед самим Господом, и что допущено Господом, то и будет. Да одному только Богу угодное творит человек.
Когда за дворецким закрылась дверь и послышался звук отъехавшей со двора колымаги, Фёдор дал знак хозяйке, чтобы она пригласила Юшку к столу.
— Выпьем чару за природного царевича! — предложил боярин и сам налил ему в чару романею.
Юшка приблизился к столу и одним духом выпил вино. Тем, кто видел его впервые, бросилось в глаза, как бойко отставил он короткую правую руку.
— Просим царевича разделить нашу трапезу, — продолжал хозяин.
Он с новым вниманием присматривался к своему холопу и, казалось, что-то обдумывал. Юшка придвинул к себе креслице и сел напротив Фёдора Никитича, с тайным удовольствием чувствуя на себе взоры присутствующих.
Заметив, что Юшка ни разу не перекрестился — ни тогда, когда вошёл в трапезную, ни садясь за стол, — богобоязненная хозяйка Ксения Ивановна спросила его:
— Божьи молитвы и покаяние али не блюдёшь?
Юшка торопливо перекрестился короткой рукой. Замечено было, что он избегал встречаться взглядом с боярыней. Тиха и строга, точно монахиня. Падкий на женскую красоту Юшка, видимо, считал её некрасивой. На голове кика и повойник, повязанный как платок. Чернавка и лицом, и волосами. Ему и в голову не приходило, что сам он вызывал у неё жалость и сострадание.
— Млад еси... Не соромься. Всё в Божией воле.
Она лучше других знала о его дурных наклонностях к бродяжничеству, пьянству, сквернословию. А теперь ещё и деньги у него завелись. В азартные игры стал играть. Весь в батюшку своего покойного. Да на то Божья воля. Только зачем бояре дозволяют ему царевичем себя называть?
Боярыня, предчувствуя неладное, начала незаметно прислушиваться к тому, о чём тихонько толковали её супруг с князем Иваном Сицким, но услышала лишь, как хитроумный князь Иван с уклончивой усмешкой произнёс:
— Наше дело — сторона. Но я так думаю: смолчится — себе пригодится.
Она поняла, что говорили о дьяке Василии Щелкалове. Волей покойного Никиты Романовича его поставили во главе Посольского приказа. Вместе с братом Андреем они и затеяли это сомнительное дело с «царевичем». Да как ныне избыть эту беду, ежели царь Борис обо всём дознался и обрушил на их подворье грозу немалую? И сейчас боярыня не без тревоги в душе думала о приезде дьяка Василия. Ежели по чести, он должен сказать царю Борису, что Романовы здесь ни при чём, канцлер Андрей Щелкалов то дело замыслил, да с покойника какой спрос.
«Господи, отведи от нас беду грозную!» — молила Ксения. Она опасалась опалы и пуще всего боялась далёкой ссылки.
Дьяка Щелкалова долго не было, и боярина Фёдора обожгла досада. Не братья ли Щелкаловы потакали «царевичу», а в ответе Романовы! Прознал, поди, дьяк Василий о грозе Борисовой да и отъехал в своё имение, дабы отсидеться.
ГЛАВА 42 КЛЕВЕТА
Тревога понемногу овладела душой Фёдора.
Как-то на дворе к нему подошёл Устим.
— Спасибо, боярин, за моего сына. Малой служит в имении. Премного благодарны. Токмо чего-то смутно на душе, боярин. Вон что насевается. Люди говорят, звезда хвостатая появилась. А у меня конь ни с того ни с сего начал землю копытами бить, упёрся и ни с места. Долго так уросил, пока не пошёл рысью.
— Что поделаешь. У меня вон конь расковался, тоже, говорят, дурная примета.
Устим с сомнением покачал головой. Фёдор прогнал его: и без того тошно на душе. Сегодня ему сказали, что поступил донос на родственника Ксении — князя Шестунова. Что было в том доносе, никто не знал, но дворовых князя приводили к допросу, допытывались о замысле их господина.
Дело стало громким. На площадь у Челобитного приказа был созван народ, и объявлена была царская милость доносчику за его службу: царь дал ему поместье и велел служить отныне в детях боярских. Народ известили также, что тех слуг, что не хотели доносить на своего господина, подвергали пыткам и жгли им языки.
Событие было неслыханным. Клевета и донос возводились в ранг подвига. Этого ли хотелось царю Борису, но пагубное поветрие доносов охватило всю державу. Не было такого сословия, которое не выставило бы своих доносчиков. Наушничали князья, дворяне, дьяки, люди духовного звания. Родственники доносили на членов своих семей. Общество было охвачено взаимным недоверием и враждой. Многие вынуждены были измышлять доносы. Не доносишь — значит, таишь дурной умысел против царя и его семьи.
Это вело к нравственной гибели людей. На государство надвигалась смута.
Лучшие люди того времени понимали это и думали, как избыть Бориса Годунова. Среди князей, бояр, искренне озабоченных судьбой государства, постепенно созревал замысел, подсказанный паном Сапегой.
Суть этого замысла состояла в том, чтобы воспользоваться неясностями в деле смерти царевича Димитрия. Следственная комиссия, посланная в Углич царём Борисом, извратила факты по его указке. Согласно выводам комиссии царевич не был зарезан, а зарезался сам: во время игры накололся на ножик. Показания свидетелей были противоречивы. Всё это было на руку сторонникам самозванца. Царевич-де спасся от Борисовой грозы.
Отныне у Бориса появился опасный противник. Заговорщики собирались у князя Димитрия Шуйского, ибо его подворье менее других было на подозрении у Бориса. Супругой князя Димитрия была сестра царицы Марьи, дочь Малюты Скуратова — Екатерина Григорьевна. Зная это, как не подумать, почему княгиня Екатерина Шуйская желала зла родной сестре? Лишить Бориса короны — значит, и семью его обречь на опалу и погибель. Но княгиня Екатерина сама хотела быть царицей, и эти честолюбивые замыслы были сильнее сострадания к сестре.
В доме князя Димитрия бывал и Юшка. Постриженный в монахи, он получил и другое имя — Григорий Отрепьев. Постриг он принял после того, как наделал долгов во всех шинках и ему нигде не было веры. Собутыльникам он задолжал деньги, играя с ними в зернь и часто проигрывая.
В монахи он, однако, не хотел идти — нужда заставила. Часто повторял: «Монастырщина что барщина». Его долго увещевали, и только надежда, что бояре избудут Бориса и посадят на царство «царевича», что недолго ему носить ряску, подвигла этого склонного к авантюре малого принять участие в опасной игре. Бояр он не любил, знал, что они потешаются над ним, смеются над его фамилией — Отрепьев. Сам слышал, как боярин Лыков говорил: «Мудрено выйти из посконного ряда без отрепьев».
Фёдор Никитич не позволял себе уничижительного отношения к Юшке. У него издавна сложились добрые отношения с Отрепьевыми. Костромское имение Романовых Домнино находилось по соседству с небольшим поместьем — несколько дворов — Отрепьевых на берегу притока Костромы — речушки Монзы. Ещё одно поместье Романовых — Кисели — тоже соседствовало с именьицем Отрепьевых — Железный Борок. Но доходы с этих имений Отрепьевых были столь незначительными, что их не хватало на содержание семейства, и Юшке пришлось служить у Романовых холопом. Работник он был так себе, но человек занятный. Действиям его часто не хватало здравого смысла, но порой обнаруживался острый ум, изобретательность.
Фёдору Никитичу нередко случалось наблюдать за ним. «Ужели этому некрасивому, но ловкому молодцу суждено успешно сыграть роль природного царевича? Но, судя по всему, задуманному не будет препон. Пути Господни неисповедимы. Российский трон надобно освободить от Бориса Годунова. Не доспели силой — доспеем хитростью».
Так мыслил Романов-старший. Он знал обо всём, что было говорено в доме князя Димитрия Шуйского. Его оповещал о том друг семьи Василий Щелкалов. Сам он, будучи паче всего осторожным, не посещал боярских сходок и не произносил опасных речей. Ещё на опыте своего родителя познал он, что осторожность — родная сестра мужества.
Но, увы, осторожность не спасла его от беды.
...Говорят, грядущему предшествует его тень. Этим словам суждено было сбыться в судьбе Фёдора Романова.
Казалось, ещё ничто не предвещало грозы. Взор царя Бориса был по-прежнему приветлив. Но отчего так томительно было на душе у Фёдора? И чувствовалось, как затаились бояре, словно чего-то ожидая. После воцарения Бориса никто из них не пригласил Фёдора на дружеское застолье. Молчаливее обыкновенного стала Ксения. Да и о чём говорить? И без того все понимали, что в воздухе насевалось что-то тревожное.
Фёдор запрещал себе опасные мысли, но они являлись сами собой. Куда-то исчезло вдруг ощущение телесной ловкости, которое он так любил в себе. На охоту выезжал без прежней радости, и, хоть по-прежнему бил птицу на лету, на душе не было привычного праздника.
А тут ещё брат Александр с видом самой хмурой озабоченности сказал, что надо усилить стражу на подворье.
Александр бывает на дворцовых приёмах: слыхал что-то или догадывается о чём? Но ныне и с братом родным не поговоришь открыто. Более ни слова не добавил Александр к сказанному, но как в воду глядел.
Новость или уже не новость? Царские стрельцы устроили набег на романовское подворье. Силу пришлось отражать силой. Поднялась и дворовая челядь. В ход пошли топоры и вилы. Царские воины поспешно отступили.
Было, однако, ясно, что новая беда не заставит себя долго ждать. Романовы опасались умышления на жизнь домочадцев. Но царь Борис оказался хитрее подобного рода подозрений...
Как известно, истинная хитрость — в простоте приёмов. Царю Борису не надо было долго искать эти приёмы. В памяти поколений ещё были живы многие случаи расправы Ивана Грозного с неугодными ему людьми. Где тут правда и где вымысел, но люди нередко кончали жизнь на плахе — по подозрению в умышлении на жизнь царя отравными зельями. В народе таких людей считали злодеями. Толпа, понятно, суеверна и доверчива.
На это доверчивое суеверие толпы и рассчитывал царь Борис. Он не сомневался, что люди поверят в злодейский умысел бояр Романовых. Того ради и был им пущен слух, что они домогались трона.
Чтобы утвердить свою победу над Романовыми в общественном мнении, Борис Годунов задумал явить своё милосердие. Он, не в пример царю Ивану, решил даровать своим недругам жизнь, ограничив свой гнев на них опалой и ссылкой.
В этой истории обращает на себя внимание простота и очевидность улик со стороны подкупленных лиц. Казначей боярина Александра Романова — Бартенев второй — тайно прибыл к Семёну Годунову и сказал, что готов исполнить царскую волю над своим господином.
Борис поощрял доносы холопов на своих хозяев и публично награждал доносчиков. В расчёте на такую награду казначей Александра Никитича наложил в мешки кореньев, как свидетельствует летописец, и положил их в кладовую своего господина. Выполнив таким образом царскую волю, Бартенев явился с доносом, будто у его хозяина припасено отравное зелье.
При избрании Годунова на царство присягавший по подкрестной записи клялся не учинить царю и его семейству в еде, питье и прочем никакого зла, «зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать».
Словом, человека по первому же доносу легко было обвинить в злом умысле. Как было доказать боярину Александру Романову, что мешки с опасным зельем подброшены ему тайными недругами? Зачем надо было запасать целые мешки отравы, чтобы погубить одного человека? И, наконец, достаточно ли только одних подозрений, чтобы обвинить в умышлении на жизнь самого царя?
Впрочем, доказательств и не требовалось. Достаточно было доноса и малой толики «улик». За уликами и послал царь окольничего Ивана Салтыкова, с тем чтобы обыскать боярина Романова.
То-то было торжество! Мешки с зельем принесли во двор к самому патриарху. Почему к патриарху? Разумеется, для впечатляющей очевидности, чтобы молва о «злодеях» Романовых была громогласнее, удар по ним был сокрушительнее. Если кто-либо и усомнился бы в праведности действий царя, то как усомниться в патриархе?
Для того и собрали на площадь как можно больше людей. Событие было столь исключительной важности, что приставам велено было привести к народу бояр Романовых.
Стоустая молва быстро разнесла эту весть по Москве, и домочадцы Романовых узнали о ней ещё до появления приставов. У Фёдора было время собраться с мыслями, и, хоть он давно ожидал «Борисовой грозы», коварно задуманная история с ядовитым зельем ошеломила его. Всё было замыслено по-злодейски, и Годунов предвкушал расправу над Романовыми. В полной растерянности Фёдор огляделся кругом, машинально произнёс: «На кого полагаться?» — и сам себе ответил: «Не на кого». Припомнилось, как Борис, будучи всего лишь правителем при царе Фёдоре, без всякого сопротивления со стороны царя и Боярской думы расправился с именитыми князьями Мстиславским и Шуйским. Правитель жестоко пресекал каждое неугодное ему слово. А ныне какое неугодное слово слышал Борис от Романовых? Его гнев против них — одни только домыслы да наветы бояр...
В душе Фёдора таилась слабая надежда, что всё обойдётся... Сколько раз угрожали беды его покойному батюшке, а всё же судьба миловала его. И это при царе Иване, который не любил миловать...
Когда к нему в кабинет вошла печальная Ксения, он поспешил поделиться с ней этими мыслями, но она хмуро остановила его:
— Не о том думки твои, Фёдор! Ты бы подумал, как детей спасти! Да, вижу, ты нынче сам дитё малое... Даром что дожил до седин...
— Остановись, Ксения! — строго оборвал он её ворчливый голос.
Оба на некоторое время смолкли, прислушиваясь. Сомнений быть не могло: в отворенную привратную калитку входили приставы. Ксения сурово посмотрела на мужа, будто виня его в случившемся.
Фёдор тяжело поднялся из-за стола, проследил взглядом за приставами, которые приближались к крыльцу, произнёс тихо и непривычно для него мягко:
— Не сердись на меня, Ксения... Чему быть, того не миновать... Иди укройся у себя наверху да следи из окошка. Как только приставы уведут меня, немедленно ступай к царице Марье Григорьевне.
Он озабоченно замолчал, словно подбирая слова, и настоятельно добавил:
— О чём просить её и как просить — сама знаешь.
Ксения быстро вышла. Сердце Фёдора сжалось от непривычного для него чувства страха, но он овладел собой, приняв решение. Он велит приставам вести его к царю Борису. Ужели не удастся смягчить его сердце? Дети! Бедные дети! Но о них — ни слова... Он скажет другое: «В моём бедственном положении обращаюсь к твоему милосердию, государь! Не приемли клеветы. Умысла злодейского у меня не было. Вспомни наши с тобой беседы и твои добрые посулы. Но ежели видишь на мне какую вину, смени гнев на милость».
В ответ на просьбу Фёдора вести к царю старший пристав грубо осадил его:
— Или злодеев допускают к государю?
Фёдора вместе с братьями привели на патриарший двор, где многоголосо гудела толпа.
Любое обвинение в адрес людей, некогда стоявших близко к государственной власти, всегда повод для обнаружения скрытых до времени страстей, чувствований и намерений. На патриаршей площади собралось много бояр и дворян, будто на открытое заседание Боярской думы. Они расположились кланами — по родственным связям либо по родству обычаев и мыслей. Одни втайне радовались, что беда затронула не их, другие торжествовали, что Захарьины-Романовы, столь долго державшиеся у власти и помогавшие царю Ивану карать иных, теперь сами понесут кару.
Дикая злоба выплеснулась наружу. Романовым плевали в лицо, шипели, точно гусаки:
— Потешились на охоте медведями да лисицами, ныне потешьтесь на пытке!
— На государстве своровать не удалось, так зельем царя решили извести!
Никогда прежде не думал Фёдор, что у него так много врагов. В знакомых боярских лицах проступало что-то неожиданно-бесовское. Вспомнилось: «По злобе их узнаете их...»
Особенно неистовствовал князь Тюфякин. Рыжий, ехидный, он ближе других придвинулся к Фёдору Никитичу и произнёс, словно ударил:
— А ловко ты, боярин, надумал своровать! Злодейством, значит, хотел трон для себя добыть? Ишь, какой доброхот нашёлся!.. И шапку по случаю, значит, себе сшил...
Кругом закричали:
— Ему бы о Боге подумать, а не об шапке!..
— Что скажешь, Никитич? Али живот свой тебе недокучил?
— Кого Господь хочет наказать, того лишает разума...
— Ты чего это не винишься, коли тебя поставили перед боярами?!
— Ты — старший, за старшего и говори!
Фёдор Никитич не пытался отвечать, да его и не стали бы слушать: голоса заглушались шумом. Он потемнел лицом, плечи опустились, и глаза уже не хотели смотреть на людей. Злое слово жжёт сильнее огня.
ГЛАВА 43 ОПАЛА
Так и увели его вместе с братьями — униженного, оплёванного. Он просил, чтобы ему дозволили свидеться с царём, — не дозволили. Его не захотел выслушать и князь Мстиславский, главенствующий в Боярской думе. Это особенно потрясло его. Никита Романович и Мстиславский-отец были свояками и дружили, как теперь говорят, домами. Романовы часто охотничали и гостили в кунцевском поместье Мстиславских. Уклонились от встречи и князь Голицын, и князь Лыков.
Нет ничего горше, чем сознание предательства недавних друзей! И никакая мудрость не в состоянии постичь причину человеческого коварства. Причина эта сокровенная и вечная, как мир. Наши глаза и уши воспринимают лишь малую долю того, что знает душа. Оттого-то человек чаще всего бывает крепок задним умом.
Позже Фёдор Никитич не раз корил себя за то, что не нашёл достойного ответа на клевету. Или, в самом деле, на крутых поворотах судьбы, лицом к лицу со злобой людской человек теряет весь свой ум? Как хотелось забыть ему эти минуты! Никогда прежде не испытывал он такого горестного унижения, как ныне на патриаршем подворье. Мог ли его незабвенный родитель, так гордившийся своим старшим сыном, подумать, что когда-нибудь на его долю достанутся публичные плевки ничтожной толпы?
И вот застенок, мрачное подземелье. В нос ударил тяжёлый, скверный запах. Фёдор машинально оглянулся, задержавшись на каменном выступе, но пристав подтолкнул его в спину.
Понемногу освоившись с темнотой, Фёдор понял, что его поселили одного. Крошечное оконце и топчан в углу, покрытый соломой. «Эти смерды боятся меня, однако. Поместили-то отдельно». Эта мысль была утешительной и бодрящей. «И пусть себе боятся. Они ещё узнают, каков я буду».
В мгновенном озарении ему припомнилось, что батюшка его тоже сидел в застенке, да вновь возвысился над своими недругами. Подумал: «Також и я. Нам это, видно, самим Богом заповедано было. А всё боярская злоба. «Они достоянию моему завидуют», — говорил батюшка о боярах. Не удалось им избыть его силу первого боярина. Наверно, тут был страх перед ним, главным советником царя, и эту злобу ныне их сыны и внуки вымещают на мне».
Фёдор вдруг почувствовал слабость в ногах. Горько усмехнувшись, он опустился на топчан и обхватил голову руками. Нет, так просто он им не сдастся. Надо же, как свела их всех вместе злоба к нему...
Память Фёдора выхватывала то одни, то другие лица... Теперь, когда всё это несколько отодвинулось от него, он мог и посмеяться, к чему по своей натуре был склонен. Молодой князь Оболенский и боярин Шереметев наскакивали на него, будто два гусака. Рано огрузневший Шереметев шёл на него всей статью, а невысокий Оболенский всё прыгал сбоку, словно норовил укусить. И как учинилось, что они соединились в злобе?
Фёдор знал, что князья Оболенские и бояре Шереметевы издавна показывали своё нелюбие к Романовым — ещё с того времени, как царь Иван объявил многим боярам и князьям свою немилость. Они же видели в этом злую волю царицы Анастасии Романовны. Завидно им было, что Романовы были в чести у государя. Им бы самим хотелось решать, кого казнить, кого миловать, и думают, видно, что нынче пришло их время. А про то забыли, что Господь всё устроит по-своему.
Фёдору отрадно было думать, что во все времена Бог неизменно помогал Романовым и в беде, и в нужде. Перед его глазами возникло Евангелие, которое оставалось раскрытым на столе, когда его уводили приставы. Он стал припоминать псалмы Давида и вдруг потихоньку запел:
«Господи! Как умножились враги мои! Многие восстают на меня;
Многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге».
Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей».
Неожиданно на ступеньках подземелья показалась представительная фигура боярина Салтыкова. Вид этого вечного баловня судьбы, умевшего находить удачу при любом государе, был неприятен Фёдору. Но вдруг мелькнула мысль, не Ксения ли послала его: Михайла Глебович приходился родственником его жене. Пока гость медленно оглядывал подземелье, привыкая к темноте, Фёдор нетерпеливо спросил его:
— Зачем пожаловал, боярин?
— Экий ты скорый. С важным делом к тебе пришёл. Ныне позовут тебя на допрос, и мой тебе совет: покайся и признай свою вину.
— Ступай, боярин! — нетерпеливо перебил его Фёдор. — Мне не с руки толковать с тобой. Но скажу тебе напоследок: Романовым не в чем каяться, они верно служили прежним царям.
— То-то и оно, что прежним. Нашёл чем хвалиться. Род царя Ивана был издавна кровопийственным.
— Издавна?! Может быть, со времён Рюрика все великие князья, а потом и цари повинны в крови людской?
Лицо Салтыкова исказила злобная усмешка.
— Все великие русские князья и цари кровью залили земли соседних держав да и свою землю опустошили.
— И царь Борис?
— И царь Борис.
— Ты, однако, верно служишь ему.
— Тебе оттого какая досада? — буркнул Салтыков.
— Скажи мне по-родственному, что думаешь, отчего бояре ненавидели Романовых, а перед Борисом угодничали, когда он ещё не был царём?
Салтыков отвёл глаза, словно не хотел отвечать прямо, но всё же решился:
— Значит, опасались вас. Бориску, ежели он не угодит, будет легче свалить.
— Так-так... И кого же на его место?
Салтыков отозвался быстро, будто ответ был припасён заранее.
— А хотя бы кого из поляков, токмо не своего туземца.
Фёдор молчал. В эту минуту он и сам готов был согласиться, что лучше уж власть поляков, чем ненавистное Борисово царствование, однако удержался высказать эту мысль и лишь спросил:
— Не боишься, что нас подслушивают?
— Меня?! Не посмеют. Борис знает, что я ему верен.
Об этом Фёдору говорила жена. Ближайшее будущее подтвердило это. Борис доверил боярину Салтыкову важное семейное дело: встретить жениха дочери Ксении, датского принца Иоанна, и быть при нём ближайшим доверенным лицом во всё время его пребывания в государстве.
Почему, однако, принц вскоре умер? Иностранцы свидетельствовали о признаках отравления, но никто это дело не расследовал, и никто не задумался, кому была нужна смерть датского принца. Между тем к этому времени было ясно, что больше всего хлопотали об ослаблении Годунова сторонники Польши. Вот тут-то и всплыло имя Михаила Салтыкова, ибо во всей Московии нельзя было сыскать человека, более преданного интересам польского государства, чем он.
Фёдор знал об этом, и ненависть родственника Ксении к царю Борису примиряла с ним боярина, хотя в душе он всегда недолюбливал его.
Что поняли оба в эту минуту затянувшегося молчания? Но Салтыков вдруг встал. Видимо, слова Фёдора о том, что их подслушивают, обеспокоили его. Фёдор тоже машинально поднялся, чтобы проводить гостя.
— Скажи царю Борису, что злого дела я против него не затевал и готов на том крест целовать. Поговори с боярами, пусть не держат на меня зла. А коли будет в том нужда, сами снимут с меня допрос.
Салтыков ответил не сразу, размышляя о чём-то своём, потом обронил:
— На всё Божья воля.
Оставшись один, Фёдор тяжело задумался. Приход Салтыкова был для него дурным знаком. «Ишь, «ныне позовут тебя на допрос». А то я не знаю. Позовут... Да себя-то ты ко мне зачем позвал? Такой осторожный, а пошёл к опасному злодею. И подслушивания не испугался».
Фёдору были ведомы нравы Салтыковых. Боярин Михаил ничего не станет делать без личной выгоды. Теперь он верно служит Борису и, значит, пойдёт к нему с доносом на своего родича. Ему дай только повод: был-де у твоего злодея, Фёдора Романова. Да прибавит с три короба. Фёдор подосадовал на себя, что наговорил лишку. Как некстати сорвалось: «Перед Борисом бояре-де угодничали». Такие речи Борису будут не по душе. Михаил это знает. Тут он подцепит его, Фёдора, на крючок, чтобы показать свою верную службу новому царю и войти к нему в полное доверие. «Значит, напрашивается на какую-то службу к царю, — думал Фёдор. — Поговорить бы об этом с Ксенией, да нам не дадут свидеться. Повидаться бы с кем из родни, да все в опале. И вот что дивно: боярин Михаил хоть и родня Романовым по Ксении, однако в опалу не угодил. У Бориса он в особой милости».
Фёдор представил себе Салтыкова, его суету и горячность, и понял, что боярин что-то замыслил: себе на добро, Борису — на пагубу. Будь Фёдор на свободе, он сумел бы дознаться, какую завидную службу у Бориса нашёл Михаил Глебович и какую пагубу он затевает. Позже, когда Фёдор начал догадываться о роковой роли Салтыкова в судьбе датского принца, жениха дочери Бориса — Ксении, он припомнил свои смутные догадки и недобрые предчувствия ещё за год до беды. «Как в воду глядел», — скажет он себе.
В застенке подземелья ему суждено было провести целую ночь. Удивительно ли, что он много думал о Борисе, его близорукости, столь поразительной в человеке осторожном и способном многое предусмотреть. Для Фёдора навсегда осталось тайной, догадался ли царь Борис, хотя бы год спустя после кончины принца, что Салтыков причастей к его погибели и, значит, он, Борис, приблизил и обласкал самого злого своего врага.
Фёдор многое провидел и угадал в те дни, ибо горе и запоздалая злоба к врагу — лучшие угадчики. Считал ли Фёдор чаяния и мечты боярина Салтыкова — видеть на московском троне польского короля Сигизмунда — изменой? Нет. Скорее, считал их пустой затеей. Авантюрные помышления Салтыкова больше забавляли его, чем возмущали, потому что и сам он был склонен к авантюризму. Если Михаил Глебович надеялся, что Бориса свалит польский король, то Фёдор Никитич все свои надежды возлагал на Григория Отрепьева.
Он всё просчитал вперёд. Григорию Отрепьеву долго на троне не удержаться, и держава будет обречена на долгую смуту. Что будет далее, одному Богу ведомо. Но Фёдор Никитич таил в душе веру, что трон со временем достанется его сыну Михаилу, когда он войдёт в возраст.
А пока приходилось думать о ближайшей выгоде, какую можно извлечь из воцарения «Димитрия». Кто-нибудь из родных или близких, может быть князь Сицкий, самый ловкий из них, намекнёт новому царю, чтобы посадил его, Фёдора, на ростовскую митрополию, а ростовский митрополит — второе лицо в московской епархии после патриарха.
Или неугодно будет Богу вознести боярина из опального рода Романовых за пережитые ими муки и неправедные гонения?
В ту ночь его сон был особенно чуток. Фёдору чудились шорохи за стеной, томило предчувствие, что вот-вот послышатся чьи-то шаги. Он не сомневался, что его навестит кто-то из верных слуг, скажет, удалось ли Григорию Отрепьеву миновать таможенные границы. Ему казалось, что удалось. То-то будет досада Борису, когда он узнает об этом! Спохватится, да поздно. Боялся Романовых, а того не ведал, что патриарх Иов по незнанию и доверчивости приблизил к себе Гришку, обласкал, каноны духовные доверил петь.
Неожиданно послышался шёпот:
— Боярин, слушай! Добрые вести. Юшка Путивль миновал. И крестик при нём.
Фёдор узнал голос Малого, сына Устима, но не вдруг понял, о каком крестике тот говорит. За стеной раздался стук, и Малой поспешно выскользнул вон.
Крестик... Фёдор вспомнил давний разговор о том, будто князь Мстиславский, приходившийся Димитрию крёстным отцом, сохранил его нательный крестик, затем при неясных обстоятельствах крест был похищен и передан Григорию Отрепьеву.
Лишь теперь Фёдор понял, какой успех это сулило Григорию Отрепьеву, ибо крестик был личным достоянием царевича. Это стало великим искушением в будущем для доверчивых людей. Каково ныне Борису? Он мог бы легко одолеть монаха-расстригу, но бессилен против природного царевича.
У Фёдора даже появилась слабая надежда, что сейчас, перед этой новой опасностью, Борис смягчит свой гнев на Романовых. Он вспомнил, что Ксения должна пойти к царице, и теперь это будет кстати. На Ксению можно надеяться. В её характере было много родственного ему самому: та же склонность к решительным и рискованным действиям, то же властолюбие.
Ксения, выполняя волю Фёдора Никитича, вновь отправилась к царице Марье Григорьевне. То ли от неуверенности в себе, то ли по чувству справедливости, она укоряла себя, что в прежнее время не обдумала, какой подход найти к царице-гордячке. Она спешила переговорить с царицей до решения боярского суда. В памяти стояли слова Фёдора, сказанные ей на Пасху, когда он просил: «Сходи к царице. Узнай, за что Борис держит нелюбие на Романовых, на весь наш род». Она же тогда заметила ему: «Зачем ты пошёл супротив Бориса? Зачем говорил, что мы близки к царской семье Фёдора? Всё это ныне ушло. Нам бы о животе своём подумать. Если дела твои с Борисом не заладятся, все наши недруги подымутся на нас». Он же, Фёдор, ответил ей: «Скажи царице Марье, что всё старое в прошлом и Романовы станут служить Борису со всей верностью. А лиха роду Годуновых Романовы никогда не желали».
То была правда. Когда случилось несчастье с братом Марьи Григорьевны Максимом, они всем домом печаловались о беде Годуновых. И позже не раз Ксения с матерью приходили к ним на праздники с подарками.
Итак, помолившись Владычице Небесной, Ксения отправилась к царице Марье. О, сколь мучительной для её своенравной и гордой натуры была эта необходимость! Унижаться перед Скуратихой, которую она прежде ни во что не ставила! Она заранее обдумывала каждое своё слово и готовилась к тому, чтобы смирить себя, но в душе не была уверена, что это удастся ей. Природа отпечатала на её лице признаки сурового нрава. Черты лица у неё были крупные: большой нос, полные щёки, крутой подбородок, огромные надменные глаза. При медленных повадках лицо её, однако, выдавало властные движения души.
Волевая натура, Ксения павой проплыла в царицыну палату. Марья Григорьевна сидела за пяльцами возле окна. Она любила вышивать. Ксения низко поклонилась ей, подумала: «Красивая и надменная», — но слова её были мягкими и ласковыми:
— Доброго здравия тебе, царица-матушка!
— И ты будь здрава, — ответила царица Марья, не отрываясь от работы. — Зачем пожаловала? — холодно осведомилась она, зная, какая беда привела к ней эту гордячку.
— Нужда моя ведома тебе, свет-царица. Пришла ныне молить тебя быть заступницей в беде нашей.
— Может быть, я и ведаю о твоей беде, но ты расскажи сама, коли пришла...
Голос был недобрым. В нём таилась издёвка. Ксения почувствовала, как лоб её покрылся потом. Она достала платок, отёрла лицо. Взор царицы Марьи был по-прежнему опущен на пяльцы, но она всё видела и была довольна.
Стараясь совладать с волнением, Ксения рассказала о злых умышлениях бояр.
— Всё в воле Божией, — сухо заметила царица, — не захочет Господь, и ни один волос не упадёт с головы... Желать зла ближнему — великий грех. Зло упадёт на твою же голову.
— Я на то и уповаю, царица-матушка, что злодеи себе самим худо сделали. А мы соблюли правду перед Господом и своим государем.
Царица бросила на неё быстрый резкий взгляд.
— Все встанем перед лицом Господа. Была правда, или не было её — решит суд Божий. Иди, Ксения, я не держу тебя более!
Марья всё же поднялась и проводила гостью до дверей. Ксения снова склонилась в низком поклоне.
— Помилосердствуй, царица-матушка! Попроси государя, дабы не пострадал невинный супруг мой, спаси от сиротства деток моих и меня, грешную!
— Все дела вершатся не царским, но Божиим судом. Государь-батюшка милостив и не держит нелюбия на злодеев своих.
Так и ушла Ксения ни с чем, как это уже было однажды. «Ужо тебе, злодейка! — в сердцах твердила себе она. — Отольются тебе мои слёзы!»
Но пока плакать приходилось ей. Не только Фёдора Никитича с братьями, но и всех его родных, в том числе и кровных родственников Ксении, взяли под стражу, будто опасных преступников. Ксения с детьми оставалась под домашним арестом. Свидеться с супругом не удалось. На подворье царила смута, всех слуг приводили к пытке, и многие приняли смерть в застенке, но о своём господине не сказали ничего дурного. От верного Устима, которого тоже приводили к пытке, Ксения узнала, сколь плачевна была участь Фёдора Никитича и его братьев и что не столь пытки были ему тяжелы, сколь невыносимое сознание утраты всего, что было дорого сердцу.
Ксения поняла, какой безотрадной была скорбь супруга, ибо он слишком надеялся на себя и свою судьбу.
Тем временем Фёдор ожидал вестей от своих верных слуг. Действительно, Устим, которого вместе с прочими дворовыми кинули в застенок, сумел проникнуть к Фёдору Никитичу и шепнуть ему:
— Боярин, тебе станут говорить, будто твои холопы давали на тебя затейные доводы о твоём злом умысле на царя. Вот те крест, твои холопы показали, что ты о царе ничего не говорил. Царёвы слуги мучили нас понапрасну.
Фёдора допрашивали бояре Туренин и Стрюцкий. Полнотелый, похожий на татарина Туренин в кафтане из пёстрой ткани жёг ему руку раскалённым железом и, когда Фёдор пошатнулся, спросил:
— Не нравится? Думал, даром обойдётся тебе злой умысел? Государю нашему Божьим милосердием, постом, молитвой Бог дал царство, а ты, изменник, хотел его достать ведовством и кореньями!
— Зла на царя я не думал и не изменял ему ни в чём!
— А брат твой для чего коренья припас?
— Отнюдь он никаких кореньев не припасал. Посягать на царя у него и на мысли не было. Царь наш правит крепко, навеки.
Недовольный результатами допроса Годунов велел быть на пытке Фёдора Никитича и другим боярам. Он знал, что многие из них осуждали опальных Романовых, чтобы о них самих не подумали, что они с ними заодно. Иные затаились в своих домах от страха и помалкивали, но когда их звали в свидетели, на допросе Фёдора Никитича они шипели на него:
— Злодей окаянный!
— Через тебя, властолюбец, вся смута!
Фёдор молчал. Он боялся новых пыток, молился: «Господи, да минует меня чаша сия».
Не добившись от Фёдора покаяния, его вновь кинули в застенок. Дух его не был сломлен, но он был ожесточён неправедной судьбой. За что же покарал их Господь? За какую ложь? Была у них жизнь, обустроенная прародителями, был мир, известный до мелочей. Его прародители испокон веков служили царям. А ныне всё порушилось по одному лишь ложному доносу. Это ли угодно твоему человеколюбию, Господи?!
Фёдор Никитич ожидал боярского приговора, но не страшился его. «Годунов слишком труслив, чтобы погубить его, но его самого погубит трусость», — думал Фёдор. Ужели в державе не найдутся силы, чтобы сбросить Ирода с неправедно захваченного трона? Царство захватил человек, не сведущий в Священном Писании. Сколько помнит Фёдор, Годунов не был прилежен к буквенному разумению. Видно, и ведать не ведает, что в книге «Второзаконие» есть остережение ему: «Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днём и не будешь уверен в жизни твоей».
Про себя он решил, что не станет трепетать перед судом боярским. Он скажет им слова из Писания, что помнил наизусть: «Горе тем, кто мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного! Зато как огонь съест солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их и цвет их разнесётся, как прах».
Но он так и не сказал этих слов. Ему не дали говорить, обрывали злыми выкриками.
Только теперь Фёдор Никитич узнал, сколько у него было тайных врагов.
Боярский приговор состоялся лишь в июне 1601 года. В своём решении боярский суд руководствовался тайной волей царя Бориса. Видимо, оттого так долго тянулось это дело, что царь Борис трусил в душе, обдумывал, взвешивал, чтобы и Романовых убрать со своего пути, и остаться в стороне. Приходилось считаться и с мнением соседних держав. Он-то хорошо знал, как в своё время вредила царю Ивану его дурная репутация.
В приговоре Боярской думы была видна Борисова предусмотрительность. Фёдора Никитича решили постричь в Москве и под именем Филарета сослать в Антониев-Сийский монастырь на Северной Двине. Просьба его — не разлучать с супругой и детьми — уважена не была. Ксению также решили постричь и сослать в один из заонежских погостов. Пострижение супругов, кровно близких к царствующей некогда династии, делало их неопасными для династии Годуновых. И всё же царь Борис разбросал по дальним пределам всех их родственников: видимо, боялся заговора. Мать Ксении — Шестову — сослали в Чебоксары, в монастырь; Александра Никитича — в Усолье-Луду, к Белому морю; Михаила Никитича — в Пермь, в Ныробскую волость; Ивана Никитича — в Пелым; Василия Никитича — в Яренск; мужа сестры их, князя Бориса Черкасского, с женой и племянниками, детьми Фёдора Никитича, пятилетним Михаилом и его маленькой сестрой, с тёткой их, Настасьей Никитичной, и с женой Александра Никитича — на Белоозеро; князя Ивана Борисовича Черкасского — в Малмыж, на Вятку; князя Ивана Сицкого — в Кожеозерский монастырь; других Сицких, Шестуновых, Репниных и Карповых разослали по разным дальним городам.
Братьев Романовых заковали в кандалы. Каждого из них сопровождал преданный царю пристав. Стражи порядка отличались добросовестной тщательностью слежки. Они посылали донесения лично царю Борису. Им было ведомо тайное желание царя — погубить «злодеев».
Сохранилось письмо царя Бориса приставу, что сопровождал Василия Никитича Романова: «Приехавши в Яренск, занять для себя и для Василья двор в городе от церкви, от съезжей избы и от жилых дворов подальше; если такого двора нет, то, присмотря место, велеть двор поставить подальше от жилых дворов, да чтобы прохожей дороги мимо двора не было. На дворе велеть поставить хоромы: две избы, да сени, да клеть, да погреб, чтоб около двора была городьба. С двора Василья и детины его никуда не спускать и беречь накрепко, чтобы к Василию и к человеку его никто не подходил. Корму Василью давать с человеком: по калачу да по два хлеба денежных; в мясные дни — по две части говядины да по части баранины; в рыбные дни — по два блюда рыбы, какая где случится, да квас житный; на корм послано сто рублей денег. Что Василий станет говорить, о том пристав должен описать государю».
Эта мнимо добрая царская опека не обманула, однако, пристава. Он обращался с Василием Никитичем жестоко, заковал его в кандалы, кормил худо, и несчастный пленник вскоре умер, не прожив в ссылке и полугода. Но Годунов и в этом случае выставил себя невиновным в смерти опального Романова. Приставу он пишет: «По нашему указу Василья и Ивана Романовых ковать вам не велено. Вы это сделали мимо нашего указа». Но какой пристав мог бы позволить себе подобное своеволие? Очевидно, он действовал согласно устной инструкции. С Иваном Романовым обращались более человечно, оттого он и выжил, хотя находился в тех же условиях, что и Василий Никитич: их свели вместе. Убивать Ивана Романова не входило в замыслы Годунова. Он был калекой, хромым и одноруким, и потому не мог быть опасным претендентом на трон. Филарету Романову Годунов тоже решил сохранить жизнь: монах был не опасен ему.
Из мужского поколения Романовых уцелели только двое: Иван Никитич и Филарет Романов. Сын Филарета, Михаил, был слишком мал и не мог представлять угрозу трону Годуновых. Борис всё предусмотрел. Он думал в скором времени передать царство сыну Фёдору. Для этого были важные причины. Сам Борис был болен и мыслил успеть помочь сыну в управлений державой. К тому же он знал, что многие видят в нём убийцу царевича Димитрия и узурпатора царской власти. Сын же его будет царить по праву.
ГЛАВА 44 «УВИДИТЕ, КАКОВ Я ВПЕРЁД БУДУ!»
Итак, по решению боярского суда Фёдора Никитича постригли. Противиться было и бесполезно и опасно. Ссылка страшнее. Всё взвесив, он успокоился: «Ну что ж, пути обратного нет. Но Бог мне свидетель, я не дам Годунову сломить меня».
Фёдор — после пострижения Филарет — знал, что принуждение делает сильных людей ещё сильнее. Годунов решил сослать его на край земли, в Антониев-Сийский монастырь. Край дикий, лесной, там, сказывали, медведи подходят к стенам монастыря, а зайцы забегают прямо во двор. Ну и что? Он, Фёдор, ещё заставит Годунова пожалеть об этой опале. Поднять руку на Романовых! Вспомнит он о своём злодействе, когда под ним зашатается трон!
Годунов отнял у Фёдора права, имения и всё достояние, но лишить его связи с миром было ему не по силам. Оставались бояре, тайно сочувствующие Романовым, и дьяк Щелкалов, и Сапега. И не дознаться Борису о Григории Отрепьеве, которого бояре спровадили на выучку к казакам, чтобы после он мог уйти в Польшу и оттуда грозить Годунову.
Как из далёкого северного края держать связь с миром? И это обдумано. Устим снарядил своего сына следовать за боярином. Фёдору Никитичу он сказал, проникнув к нему в застенок:
— В монастыре при тебе будет находиться Малой, и хоть бедного с богатым не равняют, а всё же он тебе сгодится. Вести тебе будет приносить и во всём верную службу сослужит.
В то же время Фёдор ещё и представить не мог, как необходима будет ему служба сына его холопа Устима. Кто бы подумал, что среди монастырского безмолвия Малой найдёт людей, связанных тайными связями с казаками и крамольными дворянами да детьми боярскими! С ними-то и станет сообщаться Малой.
Дорога в Антониев-Сийский монастырь лежала через Галич. Там в одном из монастырей, до своего бегства к казакам, временно пребывал Григорий Отрепьев. Среди служек этого монастыря был человек, который держал связь с казаками, получал от них верные вести и передавал их Малому. Всё это держалось в строгой тайне. С великой осторожностью и волнением допускал к себе Филарет Малого, которому удавалось в пути сделать вылазку в монастырь Галича.
Мог ли Филарет когда-нибудь помыслить, что будет чаять себе добра и спасения от молодого авантюриста, сына бывшего холопа! Отныне в далёкую ссылку его сопровождала надежда. «Рабо-царь» ещё пожалеет о своей злобе. И бояре пожалеют», — думал он. В памяти вставали слова из Писания: «Вожди слепых, комара оцеживающие, а верблюда поглощающие». Он повторял эти слова вслух и мысленно обращался к предавшим его боярам: «Сами-то как мыслите спастись? Никак. Недаром говорится: «Доносчику — первый кнут». Вы ещё пожалеете, что возвели поклёпы на Романовых».
Эти надежды на возмездие своим врагам и торжество над ними долго скрашивали угрюмое безмолвие его жизни в Сийском монастыре.
Филарет долго не мог войти в колею монастырской жизни. Не всегда ходил в церковь. Молился у себя в келье. О неизбежной беседе с настоятелем монастыря игуменом Ионой думал как о докуке, хотя и слышал о заболевшем старце слова добрые и похвальные. У Романовых, сколько он помнил, была давняя неприязнь к монахам и монастырям, ещё со времён Ивана Грозного, который притеснял монахов, а монастырские владения отписывал в царскую казну. Это, впрочем, не мешало ему оставаться благочестивым, ездить в монастыри на богомолье и чтить монастырский устав. Но всё это — на свой лад.
Что же спрашивать с бояр?
Многие из них далеко не всегда придерживались строгого благочестия. В Москве не новостью были домашние церкви, где служили попы по найму. Среди них нередко встречались обыкновенные бродяжки — тем самым понижалась роль духовного сана вообще.
Романовы не были исключением. Удивительно ли, что боярин Иван Романов грубо обошёлся с самим патриархом Гермогеном, выговаривая ему, что он «мешается в мирские дела»? И кто возмутился, узнав, что святейшего бросили в подземелье?
А монастыри? Из обителей спасения они волей самих царей превращались в обители наказания, которое пожизненно отбывали там насильно постриженные.
Вынужденное монашество стало для Филарета тяжким бременем. Если бы у него была возможность выбора, он предпочёл бы обыкновенную ссылку, где было больше внутренней свободы. Впрочем, не склонный терять присутствия духа, Фёдор Никитич рассчитывал на послабление со стороны настоятеля. Приставленных к нему старцев Леонида и Иринарха он прогнал посохом и заявил им, что будет жить не по монастырскому чину, а своей волей. Отказался принимать участие в общих трапезах. Еду и питьё ему приносили в келью особо. Чтобы не стоять в церкви вместе со всеми, он заявил о своём желании петь на клиросе[28] за загородкой, отделявшей его от остальных. Ему сказали, что на то было милостивое согласие игумена Ионы, но Филарет и сам догадывался об этом.
Встретились они случайно, на прогулке. Игумен только что выздоровел, был ещё слаб и пригласил опального боярина в свои покои. Филарет пошёл следом за старцем и немало изумился, оглядев покои настоятеля монастыря. Скромным убранством они напоминали просторную келью. Единственной «роскошью» был богатый киот. Две деревянные лавки, у противоположной стены — жёсткое ложе. В углу — столик. Какие-то бумаги, Библия. В покоях было прохладно и сумрачно, но вошедший келейник зажёг свечи у киота, и они осветились мягким уютным светом.
Игумен сел у столика, Филарет — напротив, на лавке.
— Старец Филарет хочет сказать мне о своих нуждах? — спросил настоятель монастыря.
— О нуждах? Да, — откликнулся Филарет, которого задело обращённое к нему слово «старец». — Легко ли подчиняться насилию судьбы? В моей прежней жизни были воля, красота, лад.
— Всё в воле Божьей, — заметил игумен. — Молись, Филарет, о милости Божьей.
— Люди говорят: молиться — молись, а злых людей берегись!
Ответ был едким, но Иона терпеливо смолчал. Лицо ещё не старого игумена было спокойным. Низкорослый, хилый, он казался довольным своей жизнью. Филарет был значительно моложе его. Он сохранил статность и красоту, но выглядел старше игумена. В его густых волосах пробивалась седина, щёки ввалились. На лице, особенно в горящем, суровом взгляде можно было прочесть следы недавних потрясений.
Всё это видел и постигал игумен. Он, сжившийся с совершеннейшим послушанием, хотел понять человека, привыкшего жить раскованно, богато, со своевольным размахом.
— Не всякому по плечу монашеский подвиг, — осторожно заметил он. — Поначалу обучайся монастырской жизни и её нравам, по силам налагай на себя воздержание и бдение, соблюдая чистоту во всём, как украшение уединённой жизни.
— К уединению я не склонен, святой отец. С отрочества навык к беседе и застолью.
Помолчав, Филарет добавил:
— Ты бы не поучал меня так строго, святой отец, ежели бы видел, каков я был. На пальцах у меня были перстни, какие носили иноземные принцы. Пояс золотой, сапоги, шёлком шитые.
— Какая нужда человеку носить дорогие перстни, а ноги обувать в сапоги, шитые шёлком? — произнёс игумен, с сочувственным любопытством вглядываясь в лицо Филарета.
— Что ты понимаешь в земной жизни, святой отец! У меня псарня была на зависть богатая, и псам кидали пищу вкуснее и сытнее, чем ныне за моим столом. А для охоты мы соколов знатных держали да кречетов.
— Какая нужда человеку иметь много псов? Какая выгода тратить время над птицами?
— Человеколюбец Бог всё на пользу людям творит, — возразил Филарет.
— Не будет тебе пользы в монастырской жизни, ежели ты одержим земными заботами, — печально заключил Иона.
— В чём ты видишь пользу монастырской жизни, святой отец?
— Соблюдать род человеческий от волков, душе пагубных, спасать души людские от искушения дьявола.
— От себя ли учишь, отче игумен?
— Отнюдь! Учу от свидетельства Божественного Писания.
— Вижу, от Бога дана тебе мудрость в Священном Писании, чтобы все разумели, что ты говоришь, но моя душа больна тем, что я отчаялся в жизни, и твоя мудрость не для меня.
Филарет помолчал с видом человека, предающегося горестным воспоминаниям, потом промолвил:
— Прости меня, святой отец, что поведаю тебе горькую правду. На опалу меня обрекла не только злоба царя Бориса. Бояре давно мне великие недруги. Они искали голов бояр Романовых, а ныне научали говорить на нас холопов наших. Я сам это видел не однажды. Нет среди них разумного.
— Да умягчится сердце твоё, Филарет, ибо сказано: не судите да не судимы будете.
Душа была готова вспыхнуть гневом: «Как смеет сей монах намекать на что-то дурное в роде моём, славном роде Романовых, который удостоен был родства с Великим Иваном!»
Филарет подавил, однако, этот порыв, но Иона что-то уловил, потому что произнёс:
— Блюди себя, сын мой, чтобы, угождая себе памятью о былой славе, не погубить себя и других.
Он поднялся, благословил склонившегося перед ним Филарета, и ничего не было в его душе, кроме сострадания и жалости к опальному боярину. Он сделает всё от него зависящее, чтобы облегчить его положение. Сохранилось донесение царю Борису, в котором пристав жаловался на послабления сийского игумена Филарету.
Первым таким послаблением было согласие, чтобы Малой жил в келье Филарета, против чего выступал пристав, ибо подозревал Малого в связях с мирскими людьми. Обвиняя Филарета в нарушениях монастырского устава, в том, что, ложно ссылаясь на разрешение государя, тот позволяет себе многие вольности, пристав доносил царю: «Твой государев изменник, старец Филарет Романов, мне говорил: «Государь меня пожаловал, велел мне вольность дать, и мне б стоять на крылосе». Да он же мне говорил: «Не годится со мною в келье жить Малому; чтобы государь меня, богомольца своего, пожаловал, велел у меня в келье старцу жить, а бельцу с чернецом в одной келье жить непригоже». Это он говорил для того, чтоб от него Малого из кельи не взяли, а он Малого очень любит, хочет душу свою за него выронить. Я Малого расспрашивал: «Что, с тобою старец о каких-нибудь делах разговаривает или про кого-нибудь рассуждает? Друзей своих кого по имени поминает ли?» Малой отвечал: «Отнюдь со мной старец ничего не говорит». Ежели мне вперёд жить в келье у твоего государева изменника, то нам от него ничего не слыхать, а Малой с твоим государевым изменником душа в душу».
Хоть и догадывался пристав, что Малой доставляет Филарету вести, но поймать его ни в чём не мог. Между тем благодаря Малому Филарет знал доподлинно о том, что делалось в Москве. Не только в Московии, но и за её пределами всё лето шли дожди и держались холода. В северной земле солнце не выглянуло ни разу. От обильных дождей всё погнило, хлеба стояли в воде, дурная погода мешала убрать их. А на праздник Успения Богородицы ударил мороз, который всё побил. Купцы вздули непомерные цены на хлеб, что оставался от прошлого года.
Начался голод, который в народе называли мором. У людей не было надежды на спасение. Вымирали целыми семьями. Люди, некогда состоятельные, уходили в понизовые селения просить милостыню. Пустели дома, распадались семьи. Мужья покидали жён, а матери — детей. Такого бедствия не помнила русская земля: люди торговали человечьим мясом.
Когда страшные вести дошли до монастыря, Филарет в первые минуты ощутил как будто облегчение. Голод — конец царствию Годунова. Но скоро он понял, что для Годунова народная беда станет поводом прославить себя благотворительностью. Так оно и случилось. Благотворительность царя была неумелой, раздачей денег на голодающих воспользовались ловкие люди, а бедным досталась лишь малая толика, которая не спасла их от голодной смерти. В одной Москве погибло от голода пятьсот тысяч человек. Хоронить было некому. Началось моровое поветрие, холера. К этому добавился ещё ужас перед разбоями. В разбойники уходили и те из мирных жителей, что надеялись прокормиться за счёт других. Москве угрожало организованное насилие. Разбойничьи шайки сколотились в настоящие войска под водительством Хлопко Косолапа. Царь вынужден был послать против него воеводу Ивана Басманова. Разбойников удалось разбить ценой больших потерь, погиб и сам Басманов, а уцелевшие шайки удалились в Северскую землю, чтобы в недалёком будущем влиться в отряды Лжедимитрия I.
С наступлением зимы многие важные вести доходили до Филарета с опозданием либо вовсе не доходили. Филарет переживал мучительную тревогу о жене и детях. Он даже не знал, в какой край их сослали, и часто вёл с Малым тайные беседы, как разузнать о судьбе своей семьи. Сохранилось свидетельство пристава, позволяющее представить личные тревоги Филарета тех дней: «Велел я сыну боярскому Болтину расспрашивать Малого, который живёт в келье у твоего государева изменника, и Малой сказывал: «Со мною ничего не разговаривает; только когда жену вспомянет и детей, то говорит: «Малые мои детки! Маленькие бедные остались, кому их кормить и поить? Так ли им теперь, как при мне было? А жена моя бедная! Жива ли уже? Чай, она туда завезена, куда и слух никакой не зайдёт? Мне уж что надобно? Беда на меня жена да дети: как их вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкает; много они мне мешают: дай, Господи, слышать, чтоб их ранее Бог прибрал, я бы тому обрадовался. И жена, чай, тому рада, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали, я бы стал промышлять одною своею душою; а братья уже все, дал Бог, на своих ногах».
Но «промышлять душой» Филарет тоже был не волен. Заключённый в своей келье, словно в тюрьме, он находился во власти приставленного к нему монаха Иринарха и вёл с ним постоянную ожесточённую войну. Пока Малой был при Филарете, в его жизни была отдушина. Но однажды Малой ушёл и не вернулся. Вскоре его нашли убитым. Иринарх угрожал и самому Филарету:
— На всех государствах казнят людей, поправших образ земного царя.
Филарет прогнал Иринарха от себя и сказал, чтобы впредь не заходил в его келью самовольно. Но в другой раз он застал Иринарха, обыскивающего его личные вещи, и, накинувшись на него с посохом, едва не прибил.
Тем временем царь Борис, досконально осведомлённый о жизни опального боярина, писал игумену Ионе: «Писал к нам Богдан Воейков, что рассказывали ему старец Иринарх и старец Леонид: 3 февраля ночью старец Филарет старца Иринарха бранил, с посохом к нему прискакивал, из кельи его выслал вон и в келью ему к себе и за собою ходить никуда не велел; а живёт старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеётся неведомо чему и говорит про мирское житьё, про птиц ловчих и про собак, как он в мире жил, и к старцам жесток, старцы приходят к Воейкову на старца Филарета всегда с жалобою, бранит он их, и бить хочет, и говорит им: «Увидите, каков я вперёд буду!» Нынешним Великим постом у отца духовного старец Филарет не был, в церковь не приходил и на крыл осе не стоит. И ты бы старцу Филарету велел жить с собою в келье, да у него велел жить старцу Леониду, и к церкви старцу Филарету велел ходить вместе с собою да за ним старцу, от дурна его унимал и разговаривал, а бесчестья ему никакого не делал. А на которого он старца бьёт челом, и ты бы тому старцу жить у него не велел. Ежели ограда около монастыря худа, то ты велел бы ограду поделать, без ограды монастырю быть негоже, и между кельями двери заделать. А которые люди станут к тебе приходить, и ты бы им велел приходить в переднюю келью, а старец бы в то время был в комнате или в чулане; а незнакомых людей ты бы к себе не пускал, и нигде бы старец Филарет с прихожими людьми не сходился».
Зачем царь Борис писал сийскому игумену о том, что тот и сам знал? Видимо, здесь срабатывало свойственное ему чутьё: он догадывался, что игумен сочувствует опальному боярину, и решил в письме ему выставить в неприглядном свете действия монаха Филарета. Но Борис не ведал, сколь своеобычен был сийский игумен, несмотря на его смирение. Иона считал, что Борис овладел престолом хитростью, и не мог простить ему убийства царевича Димитрия. Он знал, что имя царевича, якобы спасённого от Бориса, вновь обрело силу. На Русь надвигалась смута. Мудрый старец понимал, что Борис не удержится на троне. Мог ли он осуждать надежду Филарета на спасение? В душе он сочувствовал ему и делал многие послабления, дабы облегчить жизнь монаху-невольнику. Не надо бы ему лишь похваляться: «Увидите, каков я вперёд буду!»
...Филарет не ошибся, предчувствуя своё освобождение. Но прежде ему пришлось пережить не одну беду. В ссылке погибли все его братья, кроме Ивана Никитича. Оплакивая их смерть, он трижды умирал сам и временами его оставляла всякая надежда на спасение. Силы его поддерживали вести, приносимые от Устима. Это были вести о победах Григория Отрепьева — «царевича Димитрия» — о скором свержении Годунова. Однажды Филарету тайно привезли грамоту Лжедимитрия, в которой были слова укоризны Борису: «Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворённую, так осквернил и в упорстве своём гибель ей готовишь: разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал, но ты в противность воли Божией, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольской помощью».
Вот отчего был смех Филарета «неведомо чему». Ныне на государство русское рвался Гришка Отрепьев. А почему бы и нет? Возвели же на царство Годунова. Приставу ли догадаться о причинах смеха Филарета, смеха сквозь горючие слёзы? Он знал, что братьев загубили по воле Бориса. Какой пристав осмелился бы самовольно сгубить знатного вельможу, хотя бы и опального?! Первой жертвой был Василий. Правдивый и честный, он и в беде великой умел сохранять достоинство. Пристав заковал его в кандалы и, чтоб сильнее уязвить, сказал о царе Борисе:
— Ему Божиим милосердием, постом, молитвой и милостью Бог дал царство, а вы, злодеи-изменники, хотели царство добыть ведовством и кореньями.
Василий, сызмальства отличавшийся находчивостью в споре, ответил приставу:
— Не то милостыня, что мечут по улицам, добра та милостыня, чтобы дать десною[29] рукою, а шуйца не ведала бы.
Филарет гордился смелостью брата, осмеявшего рабскую похвалу пристава царю. Это ведь он сказал о Борисе, что тот метал милостыню по улицам, думая покорить народ своей добротой. Но где была его милостыня, когда народ умирал от голода? Трус он, а не милостивец! Из страха посягал и на важных вельмож в своём государстве, лишал их жизни.
Каждое новое известие о смерти родных было для Филарета новой Голгофой. Третья Голгофа была самой тяжкой: уморили голодом в далёком Вятском краю меньшого брата Михаила. Красивый, ловкий, умный, он был гордостью семьи. Как он любил жизнь, как пел песни, и какой это был охотник!
Бессонными ночами думал Филарет, поддерживая свои силы жаждой мести Борису: «О, злобный, трусливейший из царей Борис! Столь попечительно заботливый к себе и столь немилосердно жестокий к прочим! Ты думаешь, что, убив моих братьев, ты предусмотрительно обезопасил свой трон? Не обольщайся, мысля, что монах Филарет тебе не опасен. Придёт время, и я сорву эту ряску, в кою ты насильно облачил меня. А пока за меня мстит тот, о ком ты не ведал, о ком тебе и не думалось, — подобный тебе проныра лукавый. То-то страху ты натерпишься! И поделом!»
От верных людей Филарет узнавал, какие слухи шли о Годунове. Он получал самые достоверные сведения о судьбе самозванца, его первых успехах. После того как казаки обещали ему помощь в борьбе против царя Бориса, он ушёл в Польшу, рассчитывая на более высокую поддержку. На русского «царевича» обратил благосклонный взор сам Сигизмунд III. Польский король ничем не рисковал, мировым державам не обязательно знать, что претендент на русский трон получил его тайную поддержку.
Филарету были понятны тайные расчёты Сигизмунда. Он помнил, как в своё время хитрили паны, мечтая объединить русское государство с Польшей под польской короной. Ныне эти надежды вновь ожили. Не беда, что у панов нет денег на политическую авантюру — русские раскошелятся. А что до войска, то на Руси много беглых холопов и любителей смуты. Они охотно встанут под знамёна «Димитрия» против царя Бориса, который отменил Юрьев день, даровавший им волю.
Каждый день приносил новые вести. Многие знатные воеводы без боя сдавали русские крепости. Положение становилось столь опасным, что патриарх Иов велел петь в церквах молебны, дабы Господь отвратил праведный гнев, не дал бы русское государство в расхищение и плен.
В Сийский монастырь тоже пришла грамота. Велено было читать всем людям, что «литовский король Жигимонт преступил крестное целование и, умысля с панами радными, назвал страдника, вора, беглого чернеца расстригу Гришку Отрепьева князем Димитрием Углицким, чтобы им бесовским умышлением своим в Российском государстве церкви Божии разорить, костёлы латинские и люторские поставить, веру христианскую попрать и православных христиан в латинскую и люторскую ересь привести и погубить».
Эти патриаршую грамоту читали и по сёлам. По церквам пели молебны, был даже крестный ход. Однажды, когда Филарет стоял на клиросе, к нему приблизились странники. Один из них спросил Филарета:
— А скажи, отец честной, ужели весь народ станут обращать в езовитскую веру?
Филарет успокоил их, а когда они ушли, много смеялся. То-то нагнал на всех страху Гришка Отрепьев! Но больше всего он смеялся над успехами самозванца, хотя и ликовал в душе, предвидя скорое освобождение. Не дивно ли, что самые именитые воеводы сложили боевые знамёна перед человеком, не искусным в ратном деле? Сколько помнил Филарет Григория Отрепьева, он был отнюдь не храброго десятка, да и в ратном деле не отличался.
«Именем, одним лишь именем царственного отрока — вот чем он берёт города, а потом и троном завладеет, — думал Филарет. — Видно, ты не ошибся, Филарет, когда пророчил скорый конец кровавому царствованию Годунова».
С этой надеждой он встречал ныне каждое утро. Он знал, что воцарение «Димитрия» вызовет смуту. Но разве в правление Бориса не было смуты и само его царствование не стало бедой для державы? О таких, как он, сказано в Писании, что они умствовали и ошибались, ибо злоба ослепляла их.
Филарет помнил, сколько жизней было загублено Годуновым ещё в те годы, когда он был правителем при царе Фёдоре. Он уже тогда расчищал себе дорогу к трону. Один ли царевич Димитрий был погублен по его злодейскому умыслу, как думали многие? Случайно ли Борис пытался отвести руку грозного царя, когда тот замахнулся на своего старшего сына Ивана? Зная нрав царя, он тем самым только сильнее распалил его гнев. Он окончательно вывел корень князя Владимира Старицкого, умертвив его единственную внучку, и был столь заботлив о своём царственном будущем, что ускорил кончину несчастного касимовского хана, великого князя всея Руси Симеона Бекбулатовича. А кому был опасен герой Пскова князь-Рюрикович Иван Петрович Шуйский, которого Годунов приказал убить в тюрьме?
И чем закончились для Бориса эти столь кровавые попечения о самом себе? Истинно так: кто копает яму другим, сам упадёт в неё. Филарет с чувством мстительного удовлетворения предвкушал пострижение Бориса в монахи и ссылку его в отдалённый монастырь. Неплохо бы в Антониев-Сийский. Филарет даже представил, как везут Бориса в том же самом возке, в сопровождении пристава Воейкова, а его, Филарета, здесь уже не будет. Воображая себе эту картину, Филарет смеялся. Никто не мог понять, отчего он смеялся. Это был тот смех «неведомо чему», о котором некогда пристав доносил царю Борису.
Тем временем пришла весть о смерти Бориса. Филарет догадывался, что его отравили, и не спасти его было ни врачам заморским, ни друзьям рачительным. Да и были ли у него надёжные друзья? Сколько лет царь Борис пестовал боярина Михаила Глебовича Салтыкова, доверив ему заботу о женихе дочери. Не заботами ли этого «друга» подсыпали яду принцу Иоанну, а через три года, выждав роковую минуту, отравили и самого Бориса? Как же он, такой предусмотрительный во всём, что касалось собственного здоровья, не предусмотрел коварство друзей, тех, кто способны творить зло, а следы умело заметать? Или ему была неведома древняя мудрость: «Ищи, кому это выгодно»? Разве Борису была неизвестна тайная приязнь любимого боярина к польскому королю? А коли так, сколь же ты был неумён, Борис, ежели не разглядел тайной опасности!
И снова пришли на ум слова из Писания: «Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Всё это прошло, как тень и как молва быстротечная». А покойный Борис был тщеславен, как все цари, вместе взятые. Сколько лет он копил в себе тайную жажду власти! Ещё будучи правителем, превзошёл своим богатством самого царя Фёдора и не потерпел рядом с собой такого же богатого человека — главного дьяка Андрея Щелкалова, сгубив его лютой опалой. А кого миловал? Филарет вновь представил себе боярина Салтыкова, неповоротливого, пучеглазого и столь же неумного, как царь Борис. Чаял, видно, боярин Михаил, что злодейство укрепит его положение и возвеличит в глазах Сигизмунда, которому он давно тайно потворствовал, и сейчас, верно, думает, что «Димитрий» станет преданно служить польскому королю. Как же, захотел верной службы от лихого молодчика. Ему власть самому надобна.
И Филарет впервые глубоко задумался о том, как «Димитрий» распорядится своей властью. Поначалу окружит себя надёжными людьми. В числе их мнил себя и Филарет. Чай, он приходится роднёй Димитрию, ибо Димитрий — единокровный брат царя Фёдора, а он, Филарет, брательник Фёдора.
Между тем события тех дней развивались трагически стремительно. После смерти царя Бориса 13 апреля 1605 года жители Москвы присягнули сыну его, Фёдору, целовали крест «государыне своей царице и великой княгине Марье Григорьевне всея Руси и её детям, государю царю Фёдору Борисовичу и государыне царевне Ксении Борисовне».
Однако можно было заметить, что присягали по необходимости, настроение людей не отвечало торжественности минуты. Москва полнилась слухами о царевиче Димитрии, о том, что бояре и воеводы, посланные воевать против него, перешли на его сторону. Михаил Глебович Салтыков упустил город Кромы, велел отвести наряд от городской крепости, «норовя окаянному Гришке». Воевода Басманов соединился с Салтыковым и князьями братьями Голицыными, объявив войску, что истинный царь — Димитрий. Воеводы послали князя Ивана Голицына в Путивль с донесением самозванцу о переходе царского войска под его начало.
3 июня к Лжедимитрию в Тулу прибыли послы от бояр и донских казаков. В Москву были отправлены князья Василий Голицын и Василий Мосальский для расправы с семьёй царя Бориса и патриархом Иовом. Патриарха с бесчестьем вывели из Успенского собора во время службы, сорвали с него святительские одежды, облачили в рубище и на простой телеге отправили в ссылку в Старицкий монастырь. Затем с неслыханной жестокостью покончили с семьёй царя Бориса: царицу Марью задушили, а юного царя Фёдора умертвили самым постыдным образом.
После этих трагических событий совершился торжественный въезд Лжедимитрия в Москву.
Филарет знал об этих событиях, и, хотя его радовали успехи самозванца, сулившие ему волю, поведение поддержавших Лжедимитрия бояр вызывало у него самые злорадные мысли. Те, кто некогда предал Романовых в угоду Борису, теперь предали самого Бориса и его сына — в угоду самозванцу. А задуют новые ветры — бояре и от «Димитрия» отрекутся. «Мало Грозный рубил боярские головы, — думал Филарет, — среди них нет ни одного достойного и разумного».
Была ли в этом приговоре горячка мыслей, или он был выстрадан годами лишений — показало время. Но и в более поздние годы Филарет не раз повторял: «С боярами знаться — греха не обобраться».
ГЛАВА 45 РАВНОДУШИЕ НЕ СКРОЕШЬ
Хоть и далеко Сийский монастырь от Москвы, но и туда доходили важные вести из стольного града. Не зная, что думать, монахи были обеспокоены тем, что с «царевичем» шли поляки. Монахи опасались, что поляки станут переводить православных в католическую веру. Об этом только и говорили. Многие косились на Филарета, который, по всему видно, радовался победам Лжедимитрия. Временами Филарет бывал словно бы не в себе, сам с собою разговаривал, всех сторонился.
Первым необычное состояние Филарета заметил игумен Иона. Все эти годы он пристально присматривался к нему, пытаясь его понять. У него сложилось впечатление о Филарете как о человеке с мятежной волей, беспокойном властолюбце, запальчивом нетерпеливце, привыкшем ублажать себя земными утехами, отнюдь не склонном к посту и молитве. Дай ему волю — ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего.
Думая так, Иона вспомнил давно усопшего монаха Варсонофия. Игумена поразила вдруг мысль о сходстве его с Филаретом. Они даже внешне были чем-то похожи. Варсонофий был старец могучего телосложения, со странным и резким характером. Он пришёл в их края из чужих полуденных земель, много кочевал от монастыря к монастырю, жил как отшельник, потом принял православие и постригся. В Сийском монастыре он обосновался до конца дней своих. С монахами он сошёлся не сразу, жил молчальником и даже ему, игумену, рассказывал о своей прежней жизни мало и неохотно. Говорил, что в молодости звали его Паоло Гвичиоли, был он сеньором, жил у одного венецианского дожа. От него перенял учение Макиавелли, влиятельного у себя на родине деятеля, и в своей беспокойной судьбе всюду возил с собой листы с записями его мыслей. Листы были все потёртые, надорванные по краям, но Паоло, теперь уже монах Варсонофий, держал их в руках, словно великую драгоценность, и в свой смертный час велел положить их в свой гроб.
Странный был этот человек, Паоло-Варсонофий. Непонятный человек. За что он так почитал Макиавелли? Может быть, из чувства любви к своему господину «дожу» или по чувству верной памяти ему? Когда Иона спросил Варсонофия об этом, тот загадочно посмотрел на него и начал что-то быстро-быстро говорить по-итальянски, но понемногу перешёл на русскую речь.
Иона впервые услышал из уст монаха странные слова о праве силы как опоры мира и залога благоденствия людей на земле. Иона сказал ему, что это не речи монаха, ибо божеское в них попиралось человеческим. Как согласиться, что любые средства, любая жестокость и вероломство дозволялись правителями в их борьбе за власть? Варсонофий не спорил, но и не соглашался.
Так он и ушёл из жизни непонятый Ионой.
И сейчас, наблюдая за поведением Филарета, Иона представил себе Варсонофия. Могучий разворот плеч, резкие, необычные для монастыря жесты и ошеломляющие порой суждения. Что сказал бы о нём Филарет? Игумену вдруг пришло на ум рассказать Филарету об этом удивительном монахе, подобного которому не было за всё время игуменства Ионы, и хотя многое забывается и уносится временем, зато и вспоминается с особенным волнением.
Иона был склонен к воспоминаниям. Он часто извлекал из прошлого поучения и любил повторять слова Публия Сира: «Всякий день есть ученик для вчерашнего». Что давало, однако, самому Ионе общение с Варсонофием? И уверен ли он, что история того монаха заинтересует Филарета? У Филарета ныне не то на уме. Он радуется успехам самозванца, ибо чает от него освобождения из ссылки. Зачем ему знать историю человека, который добровольно обрёк себя на монашество?
Подойдя к окну, игумен увидел вдруг Филарета, шедшего по тропинке, недавно расчищенной монахами. Шаги решительные, будто спешит куда-то. В руках посох, этим посохом он рубил сухие прошлогодние стебли багульника, точно чинил расправу над своими врагами. У него был вид человека, который долго жил в неволе, и теперь судьба сулила ему перемены. Ионе стало жаль, что Филарету недолго оставалось жить в Сийском монастыре. Захотелось потолковать с ним.
Дождавшись конца трапезы, он пригласил Филарета к себе. Из окна кельи было видно небо. Оно было резко прочерчено полосами — жёлтыми, сине-розовыми. Природа Севера праздновала приход весны. На столе Ионы лежала самодельная книга мудрых мыслей. Полистав её, он нашёл записанные суждения Варсонофия, которые, как казалось Ионе, могли бы заинтересовать Филарета.
Однако вид Филарета, когда он вошёл и сел на лавку, разочаровал игумена. Это был человек, который мысленно перенёсся в иной мир, далёкий от монастырской жизни. На его лице, когда он смотрел на Иону, были лишь нетерпение и скука.
— Пошто позвал меня? Или вести какие пришли?
— Вести тебе ведомы самому. У меня для тебя припасена одна история. Послушай её.
Иона начал рассказывать историю Паоло Гвичиоли. Филарет с удивлением вскинул на него глаза: к чему клонит игумен? Но чем дальше рассказывал Иона, тем внимательнее слушал Филарет. Но вопреки ожиданиям Ионы судьба Паоло-Варсонофия не заинтересовала его. Когда же зашёл разговор о Макиавелли, Филарет оживился, выразив немало удивления, почему служба у такого человека в Италии не помогла Паоло стать влиятельным сеньором. Чего ради он сделался монахом? Иона молчал, потому что он сам отказался от житейских благ и карьеры и стал монахом, и Филарет знал об этом.
— Или ты не ведаешь, Филарет, что иное слово действует сильнее примера? Мог ли человек с такой мягкой душой, как у Паоло, благословлять любую жестокость правителя во имя поставленной цели? Хотя он и допускал, что лучше быть милосердным, чем жестоким, чтобы управлять множеством людей.
— «Лучше быть милосердным, чем жестоким, чтобы управлять множеством людей»? — переспросил Филарет.
Усмехнувшись, он добавил:
— Управлять — не править. Без жестокости не обойтись. Ваш мудрец сам же признает за властителями право на жестокость.
Иона решил немного поучить Филарета, хоть и не был склонен к резким выходкам.
— А коли так, вправе ли ты, Филарет, судить царя Бориса за жестокое решение твоей судьбы и судьбы твоих братьев?
— У жестокости тоже должны быть основания, — резко возразил Филарет.
Спор получался нешуточным.
— Кто поручится, что основания эти разумные? Жестокость чаще свидетельствует о страхе и слабости, нежели о силе.
— В любой силе должна быть мудрость, — в не свойственной ему поучительной манере опять возразил Филарет.
— Но правитель — человек, а человек может обмануться.
Филарет снова усмехнулся:
— Опасны только ошибки, за которые рубят головы.
«Однако ты зол, Филарет, — подумал игумен, — хотя, когда прибыл в монастырь, не казался таким». А вслух он произнёс:
— Прав был Макиавелли, когда говорил о человеке: «Каждый видит, каким ты кажешься, но мало кто чувствует, каков ты есть».
Филарет долго молчал, словно стараясь понять, зачем игумен сказал ему эти слова. Он вдруг почувствовал усталость после тревожной и беспокойной ночи и мягко заметил:
— У тебя чистая душа и благие помыслы, святой отец, но мир лежит во зле. Я более тебя жил в миру и знаю, что благо — это всего лишь наименьшее зло.
Иону поразило совпадение мыслей Филарета и Макиавелли. Он машинально открыл свою тетрадь, и взгляд его упал на слова Макиавелли: «Наименьшее зло следует почитать благом».
Заметив внимание Филарета к своей рукописи, Иона пояснил:
— Сие рукоделие — плод моего досуга, усыпальница прошлых деяний. В смирении умолкаю перед памятью о минувшем.
Глаза Филарета небрежно скользнули и по рукописи.
— В молодые годы у меня был доступ к библиотеке царя Иоанна. А ныне думаю: что дало мне чтение многих книг?
— Мудрость древних помогает уразуметь предначертания Всевышнего, — заметил Иона.
— Этому и меня учили. Но скажи, святой отец, разве книги избавили людей от страданий и мук? Разве помогли тебе книги решить свои дела? И не книги ли, не мудрствования учёных мужей погубили твоего Паоло? Я вот слушал тебя и думал о его судьбе: родиться в благословенном краю, а кончить жизнь в монастыре чужедальней северной земли...
— Пути Божии неисповедимы, а судьбы людские — неисчислимы, и кому дано постичь чужие обретения и потери? — задумчиво возразил игумен.
— Ты, однако, извлекаешь поучения из прошлого. А что делать грешному человеку, подобному мне, которого беды минувшие держат в плену?
В словах Филарета Иона уловил горечь и словно бы укор ему. Только за что? Видимо, он, невольный монах, не мог сладить с мрачными воспоминаниями о прошлом даже в эти минуты. Поддавшись внезапному порыву, Иона подошёл к нему и благословил крестом.
— Надейся, сын мой, на друзей своих, ибо, как сказано в Писании, «каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись!».
Филарет ничего не ответил и лишь склонил голову перед благословившим его игуменом. Иона печально подумал: «Бедный Филарет, где его товарищи и братья? Не все ли оставили его в беде, ибо богатство его было присвоено царём и боярами, и все его имения пошли прахом и негде ему преклонить голову свою». Вслух же он промолвил:
— Не уходи, Филарет. Справим с тобой малое застолье. У меня добрый мёд, вересковый.
Филарет снова поклонился и отказался мягко, но сухо:
— Спасибо на добром слове, игумен, да не до медов мне ныне. На душе маета великая.
Когда он выходил, Иона заметил, что спина у него сгорбленная, а поступь тяжёлая. Иона печально смотрел ему вслед и чувствовал, что это была их последняя встреча наедине.
Действительно, Филарет вскоре уехал из монастыря в роскошном возке, который прислал за ним Лжедимитрий. Уехал, не дождавшись конца обедни, которую служил Иона. Уехал, ни с кем не простившись, будто мстя обитателям монастыря за притеснения и обиды, которые чинили ему пристав Воейков и монахи Иринарх и Леонид.
«Как понять сие? — думал Иона, потрясённый внезапным отъездом Филарета Иона. — Или мало видел он от меня послаблений? Или я не облегчал тяжкое бремя его одиночества и удаления от семьи? Или я не разрешал ему общаться с надёжными людьми, передававшими вести от родных? И я часто приглашал его к своему столу, хотя иные и косились на меня за это».
Дав волю своим чувствам, Иона устыдился этих сетований и попросил у Бога прощения за них, но заставить себя не думать о случившемся он не мог. Он понимал, что не одни только беды и потрясения были повинны в странном поведении Филарета. У него было ещё и равнодушие к людям, с которыми его свела судьба. А равнодушие — это такая сила, которая целиком завладевает человеком, ибо правят ею, этой силой, природный нрав и характер. Иона не раз замечал, как равнодушие убивает в людях все добрые порывы души. Оно сродни жестокости и, может быть, опаснее, чем жестокость. Равнодушие не скроешь, не спрячешь.
Ионе припомнились иные минуты общения с Филаретом, его унылый вид, отстранённость от других. Они же, видя тоску Филарета, склонны были усматривать в его порывах одну лишь ненависть к своим гонителям. «Господи, спаси и помилуй раба твоего Филарета, сподобь его радостно жить среди людей», — молился Иона.
ГЛАВА 46 «КАКО СИЕ РАЗУМЕТИ?»
Дождавшись освобождения, Филарет должен был торжествовать, но что-то смутное насевалось в его душе. Ему сказали, что «Димитрий» спрашивал о нём ещё в Туле и лично распорядился послать за ним карету, чтобы вернуть из ссылки. Зная нрав прежнего Юшки, Филарет решил, что тот чем-то встревожен. «Ужели опасается, что я стану его втайне обличать? — думал Филарет. — Да я готов молиться на него за своё избавление, за эту волю, за то, что увижу родных, сына своего возлюбленного. И дай мне Бог спокойной старости! Ужели Юшка мог помыслить, что я стану крамолить?» И хотя думы в общем-то шли спокойные, из ума не выходило, что в Туле «Димитрий», отставив другие заботы, вспомнил их вместе, «мать свою» Марью Нагую и его, Филарета, и обоих поспешил призвать к себе. Видимо, в монахине Марфе Нагой, матери царевича Димитрия, Юшка тоже не был вполне уверен.
Однако, думая об этом, Филарет не сомневался, что всё обойдётся и Марфа также не станет заводить смуту. Упаси Бог от всяких смут! Душа её тоже, поди, устала бороться с судьбой. Оба они пострадали от Бориса, и каково было ей, царице, привыкать к тяготам монастырского бытия!
В окно кареты задувало прохладным бодрящим ветерком. Далеко позади остался опостылевший монастырь. Бедному Ионе не понять причину равнодушия Филарета к монастырской жизни, не мог он сочувствовать его одиночеству и тоске. На мгновение Филарет ощутил лёгкий укол сожаления, что не дождался конца службы и не простился с Ионой, который был добр к нему, да продлит Господь его дни на земле!
Но чем ближе к Москве, тем менее благостны были мысли Филарета. Росло нетерпение увидеть Москву, родное подворье, вернувшихся домой жену с Мишаткой, брата Ивана...
Однако, странное дело, ему чудились какие-то раздоры и смуты. Откреститься бы от опасных видений! Вместе с тем из каких-то глубин его души росла уверенность, что, войдя в возраст, его Мишатка сядет на царство, и сбудутся давние чаяния Романовых, и воспрянет их род, так гордившийся родством с великим царём Иваном.
Но временно может быть иначе...
Значит, того захотел Господь. Мишатке ведь ещё не пришёл срок царствовать.
«Так присягнём же и мы временно новому царю, и пусть им будет хотя бы Юшка», — успокаиваясь на этой мысли, решил Филарет.
...И вот Москва. Торжественный въезд «царевича» на белом коне, в великолепном царском одеянии, в золотой короне, украшенной драгоценными камнями, в ожерелье, сверкающем на ярком солнце.
В толпе шептали:
— Бог, значит, спас.
— Воскрес яко из мёртвых...
Восторг охватил людей, они старались протиснуться к «царевичу». Проворным удавалось облобызать его башмаки. Это зрелище вызвало новый прилив чувств:
— Здравствуй, отец наш, Богом спасённый на радость людям!
— Ты солнце Руси! Сияй и красуйся!
«Како сие разумети? — спрашивал московский летописец. — Яко бесом прельстилися... Бесом насеяно было прельщение сие...»
Наблюдатели отмечали, однако, что восторг толпы был словно бы подогрет кем-то. Так оно, видимо, и было. Накануне через таможни в Московию проникло много подозрительных людей с литовско-польской стороны, и они пополнили ряды уличных клевретов Лжедимитрия: ведь он обещал озолотить тех, кто будет с ним в его торжественный день. Они-то и подогревали энтузиазм толпы и были главными участниками представления. Известно, что русские люди хотя и любят смотреть всякие зрелища, но участвовать в них не склонны: публичное выражение чувств претит православной душе. Удивительно ли, что самозванец, задумавший этот торжественно-умилительный спектакль, не верил своим «добрым подданным». Его чиновники скакали из конца в конец, из одной улицы в другую, чтобы доносить ему, что делается в округе, в то время как он громко приветствовал москвитян и велел молиться за него Богу.
Но отчего впереди царской колесницы шли поляки с литаврщиками и литовская дружина, а не русское духовенство и полки? Не сразу поняли русские люди, что новый царь во всём полагался на польских друзей, им-то он и обещал горы золотые. Позже поляк Бучинский вспоминал слова Лжедимитрия: «Кто въедет со мной в Москву, тот в бархате да соболях будет ходить. Награжу друзей по-царски и золотом, и серебром».
Смелые суждения самозванца соседствовали с опрометчивостью, но это мало кто замечал. Поначалу терпимо относились и к тому, что новый царь отдавал явное предпочтение полякам перед русскими — столь сильной была молва о доброте «Димитрия».
Ничто так не располагает людей к правителю, как его доброта. Москву облетели слова нового царя: «Добрым надлежит быть не на словах, а на деле. И не тот добр, кто говорит о своей щедрости, а кто воистину щедр». Последние слова были намёком на Годунова, который остался в памяти людей щедрым лишь обещаниями.
Сердца москвитян, измученных видом людских страданий, живших при царе Борисе в трепете перед опалами и гонениями, самозванец сразу покорил милостью к опальным. С почётом был принят бывший царь Симеон Бекбулатович. Годунов ослепил его, опасаясь в нём соперника, хотя страхи Бориса были смеха достойны, ибо Симеон Бекбулатович был слаб и стар, да и на царстве он был недолго — по прихоти Ивана Грозного. Но самозванец милостиво разрешил ему именоваться царём.
Родственники Годунова были посланы воеводами в Сибирь, и многие были возвеличены «паче меры». Михаила Нагого, своего мнимого родственника, самозванец пожаловал чином «великий конюший». В этой почётной боярской должности Годунов был некогда сам при царе Фёдоре. Всех Нагих, вернувшихся из ссылки Ивана Никитича Романова, князей Голицыных, Долгорукого, Шереметевых, Куракина новый царь сделал боярами, наставника своего — дьяка Василия Щелкалова — произвёл в окольничие.
Но особой милостью одарил он Филарета, назначив его ростовским митрополитом. От этой самой почётной митрополии — прямая дорога к патриаршему престолу. Чтобы возвеличить Филарета, Лжедимитрий отправил в заточение ростовского митрополита Иону за то, что в 1601 году он донёс на него царю Борису. Причина для опалы была, однако, найдена другая.
Прежний верный слуга Годунова Басманов, а ныне «верный пёс» нового царя, как его называли, с особым почётом провёл Филарета в царский дворец. Когда Басманов открыл перед ним двери, Филарет узнал бывшую любимую комнату царевича Ивана. Она была светлой и уютной. Польские шпалеры придавали ей нарядный вид. Едва Филарет успел оглядеться, как быстрой походкой вошёл «царевич». Он был в синем камзоле, золотое шитьё у ворота и петли из золотых нитей вместе с непривычным для русского глаза покроем придавали его наряду нездешний вид. Филарет окинул «царевича» взглядом, словно видел впервые. Кому он подражает? Сигизмунду? Взгляд милостивый, но манеры простоватые, и заметно, что одна рука у него короче другой. На рыжеватых волосах покоится соболья шапка, тканый верх которой украшен драгоценными камнями. Но роскошный наряд «царевича» не скрашивал некрасивость лица: нос будто расквашенный, глазки маленькие, на лбу и на носу бородавки. Тем не менее «царевич», кажется, был доволен собой. Во взгляде, каким он окинул монашеское платье Филарета и его седеющую бороду, промелькнуло снисходительное сочувствие.
— Садись, Филарет.
Самозванец указал гостю на кресло, а сам сел на невысокий трон, изготовленный для него и обшитый восточной тканью. Трон назывался малым и предназначался для частных бесед.
— Вижу, рад, что дождался моего воцарения, — продолжал самозванец. — Поставленный мною патриарх Игнатий жалует тебя ростовской митрополией. Будешь митрополитом в Ростове Великом.
Филарет поклонился. Лучшего назначения и желать было трудно. Это возможность жить в Москве, а в Ростове он будет наездами, по необходимости. Он догадывался, что ростовский митрополит Иона отправлен в изгнание. Самозванец воздал ему злом за зло. Но за что он наказал патриарха Иова, глубокого старца? Когда «царевич» был ещё монахом Чудова монастыря, не Иов ли приблизил его к себе и не дал хода доносу ростовского митрополита, чем не только спас жизнь самозванца, но и позволил ему бежать? И где прославленная доброта «Димитрия»? Где снисхождение к девяностолетнему старцу? Он согнал Иова с патриаршего престола, приказал унизить и опозорить его.
Обо всём этом Филарет узнал ещё в дороге. Не то чтобы ему было жаль Иова, нет: Филарет помнил, как в присутствии патриарха Салтыков высыпал коренья и бояре бесчестили Романовых. И всё же с Иовом поступили не по-христиански, а ведь некогда он был благосклонен к монаху Григорию, дал ему духовный чин и велел быть при себе. Видимо, люди со слабой совестью лишены и чувства благодарности. Такие люди ничего не прощают другим, хотя сами грешат без оглядки на совесть.
Возможно, самозванец уловил в лице Филарета какое-то сомнение, потому добавил:
— Мы не чиним крутой расправы над недругами, подобно Годунову. Иов спас свой живот...
При этих словах в глазах самозванца мелькнуло злобно-мстительное выражение, противоречащее его словам, и он тут же ушёл от затронутой темы и спросил:
— Что невесел, Филарет? Али духовная служба не по тебе?
Не дождавшись ответа, что было свойственно его манере вести беседу, он продолжал:
— Не понимаю, почему Борис упёк тебя в Сийский монастырь?
Озорно сверкнув глазами, добавил в шутку:
— Мог бы и в Соловецкий монастырь сослать, к белым медведям.
— Медведей и в Сийском монастыре было довольно. Подходили к монастырской ограде, один медведь сломал заделанный перелаз и очутился во дворе.
— Да ну?
Самозванец хохотал.
— Монахов-то, чай, всех перепугал?
Но вдруг, перестав смеяться, снова спросил:
— Что невесел, Филарет? Знаю, тебе там было не до смеха. Но, слава Всевышнему, Бориса уже нет. Воистину, кто другому копает яму, тот сам попадает в неё. Знаю, он пощадил тебя, потому что монах ему не соперник на троне. А братьев твоих Василия, Александра и Михаила станут упоминать в литургии: я велю Игнатию.
Филарет поднялся, поклонился.
— Жалую тебе и твоей семье жить в Ипатьевском монастыре, как тебе заблагорассудится.
Филарет вновь склонился в низком поклоне, произнёс:
— Доброта — величайшая добродетель повелителя.
Губы самозванца тронула улыбка тайного удовлетворения. Он любил при случае подчеркнуть своё знание римской истории и потому сказал:
— Мудрец Сенека оставил нам наставление: «Никто не записывает благодеяний в календарь».
Филарет ответил улыбкой, воздающей должное учёности «царя». Он был чрезвычайно доволен, что Ипатьевский монастырь был отныне в его «епархии». Это добровольное место уединения могло укрыть семью в случае столь возможных потрясений. Добро и то, что по соседству с монастырём расположены наследственные вотчины Романовых и Шестуновых-Шестовых. Будучи рачительной хозяйкой, старица Марфа давно болела душой, что хозяйство без неё пришло в запустение. Теперь в её воле навести там порядок. Он в её дела мешаться не станет. Она и в ссылке сохранила властолюбивый нрав. Удары судьбы не смягчили её характера, скорее наоборот.
Так получилось и на этот раз — Марфе пришлось хозяйничать самой. В костромские владения её провожали боярин Иван Никитич и её родня, ибо Филарету надо было остановиться в Ростове Великом. После любезной встречи у Лжедимитрия он направился к патриарху Игнатию, и ему впервые пришлось ощутить на себе его властитную волю и нелёгкий нрав. Не затрудняя себя приятной беседой, он повелел Филарету не мешкая ехать в Ростов и отслужить благодарственный молебен в главном Успенском соборе города — по случаю благополучного возвращения в Москву «царевича Димитрия». Далее Филарету надлежало учинить досмотр всему ростовскому клиру и заменить близких к опальному митрополиту Иову служителей церкви теми, на кого указал он, Игнатий.
В ростовскую епархию входили Ярославль, Углич, Молога, Белоозеро, Великий Устюг. В ростовском краю были боярские владения именитых вельмож, ибо Ростов расположен на нескольких сухопутных и водных путях. Филарет знал, что этот город мало пострадал от татарских нашествий, а его выгодное положение способствовало быстрому восстановлению. В Ростове совершались пышные богослужения, а церкви его отличались богатством и красотой.
Во время ссылки Филарет часто вспоминал, как он, будучи подростком, вместе с матушкой посетил ростовский Успенский собор. Ехали они в костромское имение Домнино, но по воле матушки остановили карету в Ростове Великом, возле собора. Никогда прежде не переживал он ничего подобного. Звуки церковного пения, когда казалось, что они лились с высоты, чудное сияние от икон, оправленных в золото и драгоценные каменья, слёзы умиления на глазах молившихся прихожан — всё это возымело на отрока такое сильное действие, что он разрыдался.
Сийский игумен Иона, которому Филарет поведал об этом, понимающе кивнул головой и в свою очередь припомнил древнерусскую повесть «Сказание о Петре, царевиче Ордынском», где есть рассказ о том, как племянник татарского царя Берке, придя в ростовскую церковь, украшенную золотом, жемчугом и драгоценными камнями, был так поражён её красотой и великолепием, что принял православие и в крещении стал Петром.
Иона начал расспрашивать Филарета об иконах Ростовского собора, но он, к стыду своему, смог вспомнить лишь «Спаса Вседержителя, поясного». Мать подвела его к этой иконе, сказав, что она — древняя, писанная в XIII веке, и перекрестилась перед ней трижды. Он, в то время отрок Фёдор, на всю жизнь запомнил спокойные мудрые глаза Вседержителя. Краски на иконе были тёмно-коричневого цвета, смягчаемого жёлтыми пятнами и голубыми блестками на оплечьях.
Выслушав ответ Филарета, Иона показал ему кусок полотна с вышитым на нём изображением Сергия Радонежского и спросил, не видел ли он в ростовских церквах иконы святого Николая-угодника, похожую на сие изображение. Не получив утвердительного ответа, он продолжал: «У нас была монашка Евлампия — великая мастерица. До прибытия к нам обреталась в монастырях около Москвы. В Троице-Сергиевой лавре она вышила на этом полотне, что ты видишь, изображение святого Сергия. Евлампия говорила, что в ростовской церкви есть икона святого Николая-угодника, писанная ростовским художником для Сергия, «добрый сколок» с этого полотна». Но позже Иона слыхал, что та икона в ростовской церкви делана уже с келейной иконы святого после его смерти. Этот рассказ сийского игумена припомнился Филарету, когда он вошёл в ростовский храм. Обратившись к сопровождавшему его настоятелю ростовского Успенского собора, Филарет спросил его об иконе Николая-угодника, о которой слышал от игумена Ионы. Настоятель провёл Филарета в другой конец храма, и Филарет остановился перед иконой, смутно напомнившей ему кусок полотна, который он видел в руках Ионы.
Перекрестившись на икону, Филарет проникновенно всмотрелся в лик Николая-угодника. Резкие, тонкие черты человека не от мира сего. Глаза зоркие, взгляд углублённый, нездешний. Вместе с тем простота и смирение во всём облике святого отражали молитвенное состояние его души.
Почему иконописец наделил Николая-угодника чертами Сергия Радонежского? Любил, видимо, игумена Троицкой лавры. Вглядишься в это лицо, и оно держит тебя в своей власти. Филарету вспомнилось предание о том, как святому Сергию нравилось заходить в дома поселян. Молча постоит у киота, оглядит жилище и так же молча уйдёт. А людям было довольно одного его говорящего взгляда.
Но почему сам святой Сергий любил эту икону Николы Ростовского и, как говорит предание, не расставался с ней? Кто ответит? Можно ли угадать тайные движения души, тем более святого? И какая сила в лице! Филарет вспомнил, что ещё в молодые годы Сергий поселился в непроходимом лесу и соорудил сам себе избу для одинокого бытия. «Мудрость бывает от Бога, а не от рождения, — думал Филарет. — Ты, Сергий, знал, что только в одиночестве человек может победить себя и свои страсти. Не оттого ли у тебя такой странный взгляд — взгляд человека, который учил полагаться на свои силы и помощь от Бога? Лицо у тебя коричневое, как у крестьянина, но родом ты боярин. В крещении наречён Варфоломеем, в пострижении Сергием. Рождённый в Ростове от благочестивых родителей, ты оказался в Радонеже, где твоя семья нашла пристанище от бед. Твои родители всю жизнь несли тяжкое бремя этих бед, и ты видел одни лишь страдания. Не оттого ли ещё в отрочестве был устремлён к монашескому житию?»
Филарет вспомнил, что в монастырь ушла вся семья Варфоломея. После него постриглись мать, отец, брат. Была, значит, на то воля Божья. Филарет подумал о своём роде — Захарьиных-Романовых. У них не было монахов, не было, сколько он помнил, и усердного молитвенного служения Богу.
Сейчас, стоя перед иконой святого Николы Ростовского, свободный от суетных забот, Филарет, наверно, впервые в жизни проникновенно задумался о том, каким благом для Руси были молитвенники-монахи. Своей верой они крепили державную силу земли русской, поддерживали надежды несчастных и обездоленных. Что давало силу этим подвижникам духа? Воля к подвигу духовного служения? Но что может один человек, ежели в душе его нет Бога, чьё присутствие столь благодетельно на земле? Не Богом ли насевается в души людские и благодетельная вера православная?
Филарет слышал, но не был уверен, что предки его вышли из Неметчины. Сам же он чувствовал себя сыном русской земли, и ему хотелось думать, что не было его вины в том, что он не прикипел душой к суровому северному краю, где судьба свела его с игуменом, что Сийский монастырь не оставил в нём добрых воспоминаний. Неволя есть неволя. «Прости мне мою невольную вину, святой Сергий, и дай мне силы в предстоящей трудной жизни».
Всю дорогу до своих костромских владений Филарет творил молитвы, благодарил Господа за то, что даровал ему эти минуты душевного просветления. Едва показались знакомые поля и лесные угодья, он не сумел сдержать слёз. Но слёз своих он не стыдился. Родные с детства места. Красота такая, что не наглядеться, и воздух такой, что не надышаться.
Когда Филарет полюбовался окрестностями реки Костромы, поднялся на взгорье, где был расположен монастырь, и осмотрел отведённые ему покои, его охватило благостное чувство. Он понял, что нельзя было и желать лучшего. Добротно обустроенные покои привилегированного монастыря, основанного некогда предком Годунова мурзой Чётом, были просторными и светлыми. Выйдешь на крыльцо — слышно, как плещется Кострома. Недалеко его наследственное село Домнино, а далее починок Кисели. Эти милые сердцу картины часто возникали перед ним в изгнании, словно райские видения. Теперь к радости возвращения примешивалось ещё и чувство, в котором ему не хотелось бы себе признаваться. Это было чувство мстительного удовлетворения оттого, что Бог покарал его мучителя Бориса. Знаком судьбы было и то, что эти палаты помещались ныне в величавых стенах, возведённых предком Годунова. Свершилось-таки возмездие над кровавым Борисом. Да будет благословенен Бог во веки веков.
Всю жизнь верил Филарет, что Господь всё устраивает к лучшему. Перемену в своей судьбе он объяснял благим промыслом. О самозваном царе старался не думать. Видел от него ласку да внимание, ну и добро. Люди благословляют его за доброту и благодарят Бога, что избыли тирана, царя Бориса. Сам он, Филарет, о том молчит: слишком много тревожных вопросов поднимется из прошлого.
Будучи человеком основательным и положительным, Филарет не любил сомнений. Может быть, и не след доискиваться истины? В жизни да и в нём самом всё переменилось. Тот, кто сидел на троне, ничем, казалось, не напоминал холопа по имени Юшка, что служил у брата на конюшне: величие в глазах, благосклонная речь и та особая манера держаться, что бывает у особ, отмеченных высокой судьбой. Ну а коли то царь не природный, надлежит ли о том не токмо говорить, но и думать особо?
Значит, судьба была сыну боярскому Юшке Отрепьеву принять царский венец. Может, и видение ему какое было, потому как с достоинством исполнил он боярскую волю. И указов Борисовых не испугался: я-де воззвание к дворянам составлю. А получат воззвание — как им пойти против царя природного! И ведь доказал свою правоту: в одном имени царевича Димитрия было больше силы, чем во всех Борисовых указах. Дерзнул к самому патриарху честь держать великую...
«Ну, значит, так тому и быть, — повторял про себя Филарет. — Человеческие деяния, ежели они без умысла бесовского совершаются, в назидание людям даются, и сами люди меняются с переменой судьбы». Филарет был далёк от мыслей о боярском заговоре, который возвёл на трон самозванца, и тем более не думал о том, что сам как бы имел касательство к этому заговору, ибо сочувствовал притязаниям дерзкого холопа на трон.
К чему Филарет не был причастен действием, то он и не считал за действие.
Живя в своей резиденции под Костромой, Филарет избегал лишний раз появляться в Москве. Не приехал он и на зов Богдана Бельского — чтобы вместе выйти к народу, дабы крестным целованием опровергнуть наветы злоумышленников, что «царь» — не истинный Димитрий. Грех клятвопреступления Филарет почитал самым смертным грехом.
Легко было грешить Богдану Бельскому. При грозном царе он был в большой чести как родственник Малюты Скуратова. При Годунове попал в опалу. И вот новый виток судьбы: Лжедимитрий дал ему чин великого оружничего. Рассчитывая, очевидно, на новые милости, Бельский и решился на клятвопреступление: бывший дядька царевича Димитрия должен был публично принести клятву, что самозванец — истинный Димитрий. Не захочет ли самозванец ложных клятв и от него, Филарета? Уж очень он милостив к нему. Боже упаси!
С тревогой думая об этом, Филарет шёл к Лобному месту. Никогда прежде он не был так несвободен в душе, как ныне. Даже в сийском заточении он был крепче духом. Он не любил жить в Ростове Великом, где всё напоминало о несправедливо изгнанном Иове Ростовском. А между тем там была епархия, коей он должен был управлять. На самом видном месте у Спасских ворот торгуют немчишки всякие. На паперти Успенского собора сегодня хозяйничают поляки. И всюду наглодушные наёмники с алебардами и бердышами.
Притихли некогда хлебосольные хозяева богатых застолий. Нерадостно и у родственников. Попрятались по углам Сицкие, Черкасские, Репнины. Бояре при встречах косились на него, но не решались открыто проявлять недружелюбие. В большинстве своём это были люди, не склонные к душевной беседе, и книжное разумение им было недоступно.
Думалось ли ему когда-нибудь, что столькими огорчениями встретит его Москва, когда он вернётся из опалы? Он не мог освободиться от чувства, словно обретённая свобода тяготила его.
И вот новое искушение — быть свидетелем обращения Богдана Бельского к народу, о чём тот его просил особо.
Возле Лобного места собралось много любителей всякой публичности. Богдан в роскошном кафтане, в красных, шитых узорами сапогах стоял на возвышении. Он заметно волновался и знакомым жестом поглаживал чёрную курчавую бороду. Некогда Годунов велел выщипать её по волоску, чтобы унизить бывшего любимца Грозного. Борода отросла, хотя не была столь пышной, воистину библейской, как прежде, но с той поры в душе униженного боярина укрепилось мстительное чувство к Годунову. Филарет понимал, что и в эту минуту Бельским руководила злоба на Бориса.
Вот Богдан снял с груди образ святого Николая и, поцеловав его, поклялся, что новый государь — истинный Димитрий. Позже, когда стало известно, что клятва его была ложной, о Бельском скажут: «По бороде хоть в рай, а по делам — ай-ай!» Но в те минуты на глазах у доверчивых москвитян появились слёзы восторга.
— Многие лета государю нашему Димитрию Иоанновичу!
— Да погибнут враги царя природного!
Ближе к Спасским воротам там и сям кучками стояли люди, обсуждая услышанное. До Филарета донеслись слова монахов:
— Как разумеешь, брат, что будет дале-то?
— А дале будет то, что попустит Господь.
— Да как жить-то станем? Ныне поляки да литовцы в Москве свою волю творят. К чему бы это?
— На Господа надо полагаться. До чего мы достигли, по тому правилу надобно жить.
«То так, — подумал Филарет. — До чего мы достигли, по тому правилу полагается жить, но кто скажет, «до чего мы достигли»? В умах людей смута насевается. Видели, как новый патриарх Игнатий службу справлял по римскому обычаю, да у кого ныне сорвётся с языка слово мятежное?!»
ГЛАВА 47 НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Филарет осознавал всю шаткость и непредсказуемость переживаемого времени, ощущал непрочность прежнего бытия и был в мучительном поиске, на что опереться. Тем временем самозванец, казалось, набирал силу. Он находился в деятельной переписке с иезуитами и Сигизмундом. Польского короля он подвигал объединить усилия с русским государством и пойти на общего врага — турецкого султана. Не забывал он и о себе лично, добивался от Сигизмунда согласия на титул императора для русского царя, а тем временем стремился к турецкому походу. Под Москвой стояли наготове новгородские полки. Филарет понимал, что добром это не кончится. Упрямый Лжедимитрий, не добившись поддержки от Сигизмунда, поведёт русские полки, не готовые воевать с турками. В народе говорили о недобрых предзнаменованиях. Хитрые бояре делали вид, что поддерживают планы «императора». Духовенство помалкивало, лишь патриарх Игнатий на каждом слове поддакивал самозванцу.
Между тем у самозванца начались разногласия с поляками. Сначала они были недовольны тем, что он не принимал мер против подозрительных людей, на которых ему указывали. Он отвечал, что дал обет Богу не проливать без нужды христианской крови. Вскоре возникли осложнения с поляками, что пришли с самозванцем в Москву. После своего венчания он отпустил иностранное войско — в большинстве своём поляков, — щедро наградив его. Но, верные привычке жить за чужой счёт, они быстро прокутили жалованье и потребовали новое. Не получив желаемого, они отправились в Польшу с громкими жалобами на неблагодарность «Димитрия».
Едва улеглась эта история, как в Польше на сейме возникли сомнения в подлинности «Димитрия-господарика». Канцлер Речи Посполитой Ян Замойский заявил: «Никак не могу себя убедить, чтоб рассказ Димитрия был справедлив. Это похоже на Плавтову или Теренциеву комедию: приказать кого-нибудь убить, и особенно такого важного человека, а потом не посмотреть, того ли убили, кого было надобно! Величайшая была бы глупость, если бы велено было убить козла или барана, подставили другого, а тот, кто бил, не ведал. Притом и кроме этого Димитрия есть в княжестве Московском настоящие наследники престола, именно князья Шуйские; легко увидеть их права из летописей русских».
Однако склонный к политическим авантюрам Сигизмунд был заинтересован в дружбе с авантюристом Лжедимитрием I. Он рассчитывал, что новый русский царь отдаст в распоряжение Польши некоторые русские земли, войско, чтобы он, польский король, мог одолеть и турок, и немцев, и шведов. А коли вся сила соберётся у поляков, не резон ли будет «Димитрию» отказаться от царского титула своих предшественников?
Надо ли говорить, как была задета гордость самозванца, мечтавшего о титуле императора, когда ему намекнули на это соображение! Всё же, при всей своей горячей заносчивости, он снёс эту обиду, хотя вначале ничто не предвещало примирения двух сторон. Вскоре в Москву приехали польские послы, дабы уладить эти трения, а заодно попировать за царским столом. Лжедимитрий решил устроить им торжественный приём, рассчитывая поразить их новым престолом, предназначенным для особо важных случаев. Но поляки лишь высокомерно оглядели это помпезное сооружение, сделанное во вкусе нового царя. Престол был вылит из чистого золота и весь обвешан алмазными и жемчужными кистями. Внизу престол был укреплён на двух серебряных львах и крестообразно покрыт четырьмя богатыми щитами, над которыми сияли золотой шар и красный орёл из того же металла, что и щиты.
Самозванца задела усмешка на лице польского посла. Он не спешил взять из его рук королевскую грамоту, затем, прочитав её, вернул обратно, сказав:
— Русский царь в сей грамоте не титулован цезарем.
Посол Николай Олесницкий вскипел:
— Вы оскорбляете короля и республику, сидя на престоле, который достался вам дивным промыслом Божиим, милостью королевской, помощью польского народа; вы скоро забыли это благодеяние.
Лжедимитрий надменно отвечал:
— Мы не можем удовольствоваться ни титулом княжеским, ни господарским, ни царским, потому что мы император в своих обширных государствах и пользуемся этим титулом не на словах только, как другие, но на самом деле, ибо никакие монархи, ни ассирийские, ни индийские, ни цезари римские, не имели на него большего, чем мы, права. Нам нет равных в полночных краях касательно власти: кроме Бога и нас, здесь никто не повелевает.
Ему, однако, пришлось взять королевскую грамоту и, значит, смириться с тем, что присвоенный им себе титул «император» остался не признанным Сигизмундом. Спор о титуле он решил отложить на будущее. В характере самозванца не было упорства. Он легко уступал, к тому же с Олесницким они были приятелями: некогда в Кракове они вместе бражничали. Более сговорчивому самозванцу трудно было выдержать твёрдо-непримиримый тон поляка. Он взял грамоту, заметив, что делает это лишь ради предстоящей свадьбы. Но польский посол ни в чём не отступил от своего долга:
— Пусть наш великий король узнает во мне верного подданного и доброго слугу.
Как бы ни сложились отношения между «Димитрием» и Сигизмундом, внутри самой Руси зарождалась смута, грозившая положить конец царствию самозванца. Москвитяне видели, как щедро раздаёт новый царь деньги, имения и земли иностранцам, о своих же подданных не заботится. Православную душу народа омрачало пристрастие «Димитрия» к «папижной вере», как именовали на Руси католическое вероисповедание. Люди скорбели, слыша в старинных православных храмах латинское пение.
Первый, пока ещё глухой ропот в народе понемногу переходил в гнев, начали раздаваться обличительные речи. Сперва тайно, среди монахов, узнавших в «Димитрии» Григория Отрепьева. Монахи были казнены. Но недаром же говорится, что молвою и море колышет. Гнев против самозванца понемногу охватывал все сословия.
Вскоре Москве стали известны новые обличители: дьяк Тимофей Осипов, дворянин Пётр Тургенев и мещанин Фёдор Калачник. Москвитян особенно поразили слова Фёдора Калачника. Видя, что ему не верят, да ещё и ругаются над ним («Поделом тебе смерть!»), он перешёл от обличений к дурным пророчествам. На всю Ивановскую площадь раздавался его звучный голос:
— Приняли вы вместо Христа Антихриста и поклоняетесь посланному от сатаны! Тогда опомнитесь, когда все погибнете!
Филарет услышал эти слова, когда проходил мимо Успенского собора. Его поразили и сами слова, и голос, сильный, уверенный, голос человека, непоколебимого в своей правде. Филарет шёл в Чудов монастырь, где в келье у старца Амвросия должны были сойтись бояре, недовольные действиями самозванца. Многих чувствительно задело выселение бояр и духовных особ из родовых вотчин и домов, чтобы поместить там польских гостей. Для этой цели взяли лучшие дома в Китай-городе и Белом городе, а русских людей сослали за Москву, в Немецкую слободу. Не посчитались даже с Нагими, слывшими за родственников «Димитрия». За черту города были выселены все арбатские и Чертольские дворяне и священники. Переполох в Москве был великий. Раздавались крики, что поляки хотят захватить Москву.
Филарету донесли, что поляки хозяйничают в его родимом гнезде — старинном доме на Варварке. Охваченный тревогой, он и спешил в Чудов монастырь, чая услышать слова утешения и узнать новости. Однако келью Амвросия он нашёл пустой, а находившийся по соседству монашек таинственно сообщил, что бояре решили все дела поручить боярину Ивану Безобразову. Он выехал в Краков с благодарственным письмом «Димитрия» к польскому королю, между тем ему было дано от бояр тайное поручение к литовскому канцлеру Льву Сапеге — передать королю желание бояр видеть на русском престоле его сына Владислава. Бояре кручинились о том, что им навязали в цари негодного человека, тирана и распутника. Но Сигизмунд отказал им в свидании с Сапегой. Ясное дело, Сигизмунд опасался, как бы крамольный замысел русских бояр не бросил на него тень. В Кракове находился лично преданный «Димитрию» Бучинский, и от него не укрылось бы свидание русских бояр с человеком, занимающим важный пост.
Сигизмунд был доволен делегацией, но он был недоволен самозванцем, от которого видел одни досады. Да и сама мысль о русском престоле отвечала его давним замыслам. Он сумел незаметно шепнуть боярам, что не станет им препятствовать «промышлять о самих себе».
Услышав этот рассказ, Филарет подумал: «Оно бы верно: промышлять о себе давно пора, да, видно, Господь лишил нас разума, ежели сами допустили возвести на престол еретического волка».
...Филарет понимал, что отпадением от православия Лжедимитрий был обязан польской подмоге в его борьбе за престол да ещё умелым интригам иезуитов. Но знал ли самозванец, что они вели интриги за его спиной, умышляя заменить его польским ставленником? Многие замечали, что царь доверчив паче меры. Иные же говорили, что он слишком полагается на самого себя.
Филарет думал о нём другое. Ставший волей судьбы русским царём, бывший дворовый человек бояр Романовых, а затем монах Григорий Отрепьев остался всё тем же Юшкой, которого он хорошо знал. Та же подростковая порывистость и неумение просчитывать вперёд свои действия, та же шалость в отношении к вере и непонимание греха, та же легкомысленная дерзость в обращении с достойными людьми. И этому человеку, неспособному управлять самим собой, боярским попущением доверено управлять державой?!
Но, думая так, Филарет не позволял себе вдаваться в воспоминания о том времени, когда Юшка жил на романовском подворье, а затем Романовы вместе с другими боярами заботились о судьбе будущего «Димитрия»: поместили его в привилегированный Чудов монастырь, определили на службу к самому патриарху Иову. А тем временем в державе насевалась смута, имевшая роковые последствия для царя Бориса.
Нет, Филарет отгонял от себя эти воспоминания. По складу своего ума, признающего только То, что обеспечивало ему личную выгоду, Филарет обращался с фактами по своему усмотрению. Будущее благополучие было ему дороже истины. Она в его рассуждениях часто затушёвывалась тонким расчётом. Человек многоопытный, мудрый, он мог предвидеть, что поведение самозванца, давшего полную волю полякам, вызовет смуту, но и об этой беде он думал применительно к собственной выгоде. Нет худа без добра. Не смута ли погубила Годунова? Погубит и самозванца.
Филарета, разумеется, не могло не тревожить разрушительное действие смуты на общество и державу, но мыслил он главным образом о том, укрепятся ли права Романовской династии на трон, как это было при царе Фёдоре.
Всё это позволяло Филарету терпимо относиться к самозванцу и его польскому окружению. Он чувствовал, что время Романовых ещё не пришло. Мишатка мал, значит, надо переждать непогоду: «Временем в горку, а временем в норку».
«Димитрию» было по душе мудрое спокойствие Филарета, тем более что в среде бояр были многие нестроения. В то время в ходу были доносы, но наушникам нечего было сказать дурного о Филарете.
Однажды самозванец призвал его для приватной беседы. Сам он казался расстроенным. Невзрачное лицо выражало беспокойство. Маленькие глазки искательно всматривались в Филарета, словно новый царь нуждался в его участии.
Филарет всё это видел и понимал. «Димитрий» был удручён тем, что Марина Мнишек, его долгожданная невеста, долго не ехала. Видимо, она не была уверена в прочности положения своего будущего царственного супруга, оттого и не спешила уезжать из Польши. Самозванец догадывался об этом, и самолюбие его страдало.
Филарет знал, что верный царский слуга Басманов, искренне привязанный к «Димитрию», в душе сокрушался вместе с ним и за его спиной поругивал «сквернавицу». Лишь из любви к царю он проявлял особое усердие, чтобы добыть лучшие заморские ткани и украшения к её приезду. В царский дворец доставили целый воз соболей, которые ценились иноземцами дороже всех заморских тканей.
На этот раз, однако, озабоченность царя имела другие причины. Он получил известие о том, что Марина, наконец, выехала, но в дороге ей чинили всякие помехи, не устраивали ей торжественных встреч, как было положено. Своими огорчениями «Димитрий» поделился с Филаретом. Тот успокоил его, и царь даже повеселел и разговорился.
— Ты не знаешь, Филарет, с каким нетерпением я жду... Сам знаешь кого... Без неё мне и царство не царство.
Помолчав немного, он сказал:
— Ах, Филарет, если бы ты видел мою панночку!
Маслянистые глазки самозванца ожили. Некоторое время он пребывал в мечтательном умилении. Жажда поделиться своими чувствами заставила его продолжать:
— Какая это будет царица, Филарет! Ангел земной... У русских не было такой царицы. Красоты неописанной, и столь же умна!
Лжедимитрий остановился, словно бы не находя слов.
— А твоя матушка? — с трудом скрывая насмешку, спросил Филарет.
— Матушка? — удивился самозванец, как бы не понимая, о ком идёт речь.
— Да, твоя матушка, Марфа Нагая. По красоте, дородности и уму ей не было равных среди царских невест.
С лица самозванца не сразу сошло недоумевающее выражение. «Он так и не привык считать Марфу Нагую своей матерью», — подумал Филарет.
— Ах, Филарет, я так долго был в разлуке со своей матушкой и счастлив, что после заточения в монастырь Годуновым она вернулась в Москву и ныне снова со мной. Ты правду сказал, что она была достойнейшей из цариц, но мне бы и в голову не пришло сравнивать её с царицей моей души...
...Вскоре после приезда Марины Мнишек самозванец, однако, отдалил от себя «матушку». Видимо, Марина решила, что этой игре в добродетельного сына пора положить конец.
Марина потребовала от царя и других уступок, и эти уступки коснулись Филарета. Теперь он не мог, как прежде, появляться на царских приёмах. Ему снова суждено было пережить «ссылку» — на этот раз в Ростовскую епархию. По чьей воле случились перемены в его судьбе — он узнал совершенно случайно.
Царские покои. Филарет стоял перед дверью, готовый войти, когда до него донёсся капризно-требовательный голос:
— Зачем ты пускаешь этого монаха в мои царские покои?
Самозванец робко возражал:
— Драгоценная моя, это мой родственник, брат покойного царя Фёдора... И потом, драгоценная моя, Филарет не монах, а Божьими судьбами митрополит.
— Нашёл о ком хлопотать! Он же туземец!
Филарет знал, что поляки называли туземцами русских людей.
— Мы дадим тебе своего митрополита.
Филарет поспешил уйти. На патриаршем дворе он приказал запрягать лошадей, чтобы вернуться в Ростов Великий. Не успел он выехать, как пришёл посланец с письмом царя, повелевающего ему отныне безвыездно пребывать в Ростовской епархии.
Некоторое время спустя Филарету опять вспомнилась поговорка: «Нет худа без добра». Действительно, разве «сквернавица» своей ненавистью к людям, над которыми была царицей, не способствовала мятежу и тем переменам в державе, что привели на царство его сына Михаила Романова?
ГЛАВА 48 ПАН САПЕГА ПРОРОЧИТ
Москвитяне были потрясены событиями, ранее неслыханными. Русский царь венчался с некрещёной полькой. Опасным и странным представлялся её отказ принять православие. Между тем венчанная на царство Марина, в отличие от прежних русских цариц, получала особые права московской государыни и в случае смерти супруга могла наследовать царство.
В ряду многих случаев своевольства и разорительного хозяйничанья чужеземцев на Русской земле это стало знаком надвигающейся погибели. Все тревожно ожидали, что принесёт завтрашний день, ловили слухи. Прорицателями становились и люди духовного сана. Говорили, что в Архангельском соборе таинственный голос возвестил: «Близки дни к исполнению всякого видения пророческого». А священник церкви подмосковного села Воробьёва во время проповеди читал из Библии: «...не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом».
Удивительно ли, что пан Сапега, у которого было много знакомых в Москве, уловил эту черту московской жизни и решил использовать её в своих интересах. В своё время он хоть и высказывал сомнение в законности венчания на царство «Димитрия», но быстро свыкся со случившимся и пришёл к выводу, что положение в Московии можно использовать в польских интересах. Об этом он и решил потолковать с Филаретом, как только представится удобный случай.
Филарет много лет не видел Сапегу — со времени своей опалы и ссылки — и с нетерпением ожидал возвращения краковской делегации, чтобы расспросить о нём.
И вдруг Сапега приехал сам в Ипатьевский монастырь, где в то время находился Филарет. Встреча произошла недалеко от ворот монастыря, у дороги, вдоль которой брёл Филарет, опираясь на посох. Сапега спешился, с трудом узнавая в огрузневшем, седовласом владыке знатного боярина, коего помнил красивым, быстрым в движениях, ловким. Филарет тоже нашёл, что Сапега изменился не в лучшую сторону. На его лице появилось выражение старческой брюзгливости, и этот тяжёлый, словно бы издалека, пристальный взгляд. На нём был тёмный дорожный камзол, подчёркивающий его сухощавую фигуру.
— Здорово, старче, — с добродушной иронией произнёс он. — Как тебя Бог милует?
— Сам видишь, как милует, — ответил Филарет.
— А я царя вашего ныне со свадьбой поздравил да попросил дозволения поохотиться в костромском лесу.
— Ну и добро. Гостем у нас будешь. Рад тебе. И природа тебе радуется. Вишь, будто в твою честь, всё буйно распустилось. Забыл, поди, как красивы наши края!
Какое-то мгновение оба молчали, слышно было, как внизу плескалась река. Всё кругом пышно зеленело. Ранние цветы — голубые незабудки да синие кукушкины слёзки — красовались даже по обочинам дороги. Терпко пахло берёзовым листом. Воздух был прозрачен и чист, и только движение ветерка напоминало о том, что и он тоже живой...
После трапезы с белым вином особого приготовления Сапега оглядел пышно обставленную палату Филарета и спросил не без лукавства:
— Таково ли роскошное было твоё житие в Сийском монастыре? Ужели не угодил тебе царь Борис?
— Как видишь, жив и на здоровье пока не жалуюсь.
— А сказывали, надзиратели там хуже разбойников.
— В монастыре разбойничали токмо лисы да медведи. Знатно разбойничали.
— Да ну! Говори. Вот потешу короля нашего!
Филарет рассказал о медведе, как он перебрался через перелаз и перепугал монахов.
— Один монах оцепенел от страха и лишь молитву творил. И медведь тоже будто оцепенел. Так они стояли и смотрели друг на друга. Медведь поворчал и ушёл, а монах после того слёг в горячке и умер. А лиса всю рыбу потаскала из монастырского погреба.
Сапега хохотал, приговаривая:
— Вот потешу я короля нашего!
Вдоволь посмеявшись, он враз посерьёзнел, спросил:
— Чаю, тебе ныне не до смеха?
— Мне ли токмо?
— Горе добру научает. Коли сведёте с престола самозванца, король даст вам на царство своего сына Владислава.
— Знать бы, как свести.
— В твоих руках большая власть, Филарет. После патриарха ты второе духовное лицо в державе. Тебе ли не вразумить священников? За ними пойдёт и народ.
«Всё бы этот Сапега решал за других», — подумал Филарет.
— Что молчишь, Филарет? Думаешь, твои боярские друзья не поддержат тебя? Или священство отложится?
Филарет вспомнил свой разговор с Шуйским и свой ответ ему на сделанный служителям упрёк, что ставят в попы еретиков: «Ты, князь, ежели станешь с попами говорить, то говори от себя, а не моей речью. Не накликай на нас новые утеснения и опалы». Теперь и Сапега подвигает его на то, чтобы он своей речью вооружил священство против нового царя и накликал на себя опалу.
Сапега, казалось, угадал его сомнения и придал беседе новое направление:
— Ныне ваши бояре были в Кракове, просили защиты у короля. Скажу тебе доподлинно, а ты передай боярам, что если они сведут с трона самозванца, то он даст на царство своего сына Владислава, — повторил он.
— Боярам своей силой не доспеть в этом великом деле.
— Так об этом я тебе и толкую: чтобы священство поднимало народ.
— Это бунт, Сапега. И кто станет впереди этого бунта?
Сапега иронически развёл руками.
— Или у вас нет крепкого мужа? Мне ведомо, что на Москве любят князя Шуйского, и народ пойдёт за ним.
Филарет с сомнением покачал головой.
— Шуйский захочет престола себе. Станет ли он сражаться за сына польского короля?
— Ты думаешь, Шуйский сядет на престол? Возможно. Но чем он крепче Бориса? Смута разгорится сильнее прежнего, и Шуйского скинет тот же народ, что возвёл его на трон.
— Дадите нового самозванца?
— Вы сами его найдёте и снова станете просить у нас на царство себе Владислава.
Филарет молчал, но в мыслях своих всё более укреплялся, что Руси нужен царь, который дал бы ей порядок и тишину. Пусть это будет польский Владислав, лишь бы к власти не пришли княжата. Руси не надобны ни Шуйский, ни нынешний легкомысленный царёк.
Вскоре после разговора с Сапегой Филарет выехал в свою Ростовскую епархию. На душе было беспокойство, которое он не умел себе объяснить. Дорогой это чувство усилилось. Он увидел, как в одной вотчине хозяйничали полячишки, кругом стоял крик, в котором ничего нельзя было разобрать. Колымагу окружили крестьяне из ближних домов, прося защиты. Пока Филарет слушал крестьян, к нему подскочили два поляка. Они были в поношенных камзолах, но держали себя как господа.
— Паны-добродеи, пошто в сей вотчине стоит плач великий? — спросил Филарет.
— Тебе помстилось, поп! — грубо возразил один из поляков. — Езжай себе мимо да не оглядывайся!
Второй поляк накинулся на кучера:
— А ты, пся крев, куда оглобли заворотил? Коли не разбираешь дороги, то сидеть бы тебе не на козлах барских, а на конюшне волам хвосты подтирать!
Чтобы смягчить впечатление от наглой грубости своего собрата, поляк достойного вида вежливо заговорил с Филаретом, объясняя, что это селение отошло в царскую казну, а царь подарил его друзьям-полякам.
Филарет печально посмотрел на крестьян, которым он ничем не мог помочь. Он ещё не знал, что разорение коснулось не только Московии, но и понизовых городов и селений. В уме мелькнуло: «То ли будет, ежели на русское царство придёт польский король!?» Но он отогнал от себя это остережение, вспомнив слова Сапеги, что при Владиславе станет больше порядка, чем при самозваном царьке. Поляки любят порядок во всём, они добрые хозяева.
Однако вызывали сомнение и не давали покоя душе иные мысли. «Что проку от такого порядка, ежели на Руси будут царить чужеземцы? И как же твой давний замысел — утвердить на царстве династию Романовых?»
Филарет прятал эти мысли в тайниках души, таил, казалось, даже от самого себя. Никогда не заводил он этих разговоров с братом Иваном, а жене Ксении даже не намекал, она и без того во всём видит опасность для своего дорогого сына Михаила.
Так он и жил в двоемыслии, волей или неволей выполняя завет своего древнего прародителя Фёдора Кошки: «Кошка против силы не пойдёт».
ГЛАВА 49 НА ПИРУ У САМОЗВАНЦА И ПРЕДЧУВСТВИЯ ФИЛАРЕТА
В Ростове Великом, как и в сийской ссылке, Филарет должен был подчиняться однообразному ритму жизни с той лишь разницей, что в Антониев-Сийском монастыре он был вынужден ходить в церковь и тяготился службой, а в Ростове полюбил её. В эту минуту хоть и вынужденного возвращения он с радостной душой смотрел, как золотились купола ростовских церквей. Ему здесь легко дышалось. Он с нетерпением ожидал, когда войдёт в свои уютные покои, помолится с дороги.
И вдруг царский гонец на верховой лошади остановил его карету. Письмо царя повелевало ему немедленно вернуться в Москву. Это встревожило и удивило Филарета, но, подумав немного, он успокоился. Лжедимитрий часто бывал непоследовательным: задумает одно, а делает другое. А ныне он был ещё и под опекой Марины, которая явно не жаловала Филарета.
Зачем и куда его зовут, он узнал только при въезде в Кремль. Царь в короткие сроки, к приезду своей невесты Марины, построил роскошный дворец на Кремлёвской стене. По этому случаю он устраивал новоселье. Званы были самые именитые гости.
У дверей нового дворца Филарета встретил Басманов. Он был в красном польском камзоле и держался точно иноземец. Басманов почтительно поклонился Филарету.
— Вам, владыка, надлежит быть впереди важных особ, приглашённых к столу царя.
Далее его повёл юный князь, белобрысый Хворостинин, и стал показывать ему новые, роскошно отделанные покои царя. Двери, наличники и оконные рамы были из чёрного дерева. Дверные петли и засовы у окон — золотистые, шкафы и столы тоже из чёрного дерева. Печи были зелёные, до половины обнесённые серебряными розетками. По пути в столовую находилась большая зала, вся заставленная шкафами и поставцами с золотой и серебряной посудой. У стен стояли серебряные бочки, стянутые золотистыми обручами, чаны тоже из серебра, несколько сосудов, а в углу — большой серебряный дельфин, из ноздрей которого струилась вода, и три раковины: золотая, серебряная и перламутровая.
Вся эта роскошь била в глаза и казалась вычурной. Той же аляповатой пышностью поразила Филарета и столовая. Она была обита богатой персидской тканью, обшивка у дверей и окон была парчовой. Но особенно впечатлял престол в виде чёрного бархатного навеса, украшенного по швам золотыми галунами. Под навесом был ещё один престол — серебряный, золочёный. Рядом расположился стол на серебряных орлах вместо ножек. Он был накрыт шёлковой, шитой золотом скатертью и предназначался царю. По левую руку стоял другой стол — для важных поляков, как понял Филарет, когда увидел сидящих за ним пана Юрия Мнишека, отца невесты, его родственника князя Вишневецкого, посла Николая Олесницкого и ещё каких-то важных панов. За третий, менее пышный стол посадили Филарета — рядом с князьями Мстиславским, Шуйским, Голицыным, Хворостининым и менее знатными боярами. На столах стояло по большому блюду с хлебом. В вазочках помещались изысканные блюда польской кухни: разнообразные соусы, кусочки ростбифа — жареного мяса, сочившегося кровью.
В стороне на поставце был установлен зажаренный телёнок, украшенный зеленью. Стены поставца составляли серебряные и золотые львы, единороги, лошади, олени.
Вошёл самозванец в венгерском наряде, который он особенно любил. Ментик[30] скрадывал его телесный недостаток — коротковатость левой руки — и придавал ему молодцеватый вид. На ментике из бежевой голландской ткани красовались золотые застёжки. Все встали при появлении царя и поклонились ему, но поляки сделали это как бы нехотя и малым поклоном.
Когда самозванец сел за свой отдельный стол, стольники подали каждому гостю чашу с вином. Боярин Мстиславский провозгласил тост:
— Будь здрав еси, великий государь. Не токмо синклит, но и вся Москва ныне молится о твоём здравии.
Мстиславский хоть и не был речист, но здравицу царю умел сказать вовремя. Самозванец поднял чашу с вином.
— Верю, боярин, от души твой заздравный тост. Службе твоей верю и доброй воле. Тебя не станет на злое.
Он осушил чашу с вином, за ним последовали остальные. Закусывая, самозванец время от времени бросал зоркие взгляды на гостей.
— А ты, Шуйский, что не весел? Или твоя служба государю тебе не в милость стала?
— Нездоровье ныне одолело, государь, однако, видишь, явился по твоему зову.
— Вижу, Василий. Князья Шуйские от века служили своим государям.
Филарет внимательно прислушивался к разговорам, и ему показалось, что на лицо Лжедимитрия легла недобрая тень, когда он разговаривал с Шуйским. Самозванца что-то беспокоило. Отпустив какую-то шутку, он снова обратился к Шуйскому:
— Одного не хватает тебе, князь. Хоть и славен твой род великими делами, а европейского образования у тебя всё же нет. Я знаю, что меня упрекают в пристрастии к иноземцам. Не отрицаю сие. Русские хвалятся досужеством, да годятся лишь в ученики европейцам.
И вдруг, повернувшись к Филарету, самозванец спросил:
— А что думает о том ростовский митрополит? Верно я говорю?
— Спорить ли мне с государем? — уклонился Филарет.
— А почему бы и не поспорить?
— Тогда скажу, что тебе, царю великой державы, надлежит остановить поношение своих подданных. Многие твои бояре — исконные Рюриковичи, а их честят туземцами. Али не слыхал того от поляков, которых ты жалуешь?
Лжедимитрий вспыхнул.
— Ты ныне дерзок, Филарет. К лиду ли сии речи в устах духовной особы?
— Филарет молвил правду, — поддержал ростовского митрополита Шуйский. — Русских людей бесчестят. Мы помним, как покойный царь Борис, показывая иностранцам лопарей, называл их туземцами. Но то были язычники, дикари с далёкого Севера. Однако после крещения, став православными, лопари обижались, когда их именовали туземцами. А ныне так зовут русских людей.
Гости оживились, послышались шутки. Это смягчило напряжение.
Лжедимитрий, вопреки обыкновению, не прерывал дерзкую речь, но лицо его помрачнело.
Это впечатление Филарет не раз вспоминал позже и всякий раз видел перед собой загадочный сумрачный блеск глаз и жалкое выражение лица самозванца, так противоречащее его вельможному виду.
Филарет поднялся из-за стола ранее других, но продолжение дня было не лучше начала. Едва он сделал несколько шагов по направлению к Боровицким воротам, как навстречу ему попался старик в поношенном боярском кафтане. Его седые волосы в беспорядке падали на впалые щёки. Мутные глаза смотрели беспомощно. Речь его была бессвязной.
— Враны чёрные засели в каменных палатах... Христа ради, юродивый, приюти душу грешную. Господь взыщет...
Филарет поклонился старику, но тот не заметил этого. Скакавший навстречу поляк заставил Филарета уступить дорогу, но не успел он отойти в сторону, как в ноги ему кинулась незнакомая боярышня. Она заливалась слезами.
— Встань, дитя моё! Сказывай, какая тебе беда приключилась?
Она обратила к Филарету лицо, и этот порыв отчаяния и надежды, эти глаза, в которых была давняя печаль и мольба о помощи, так напомнили ему Елену Шереметеву, что он вздрогнул.
— Чья ты, дитятко?
— Ежели знаете боярина Никиту Миклешевского, то я его дочь. Батюшку моего схватили царёвы люди и велели, чтобы я шла...
Она болезненно повела взглядом в сторону царских увеселительных палат и снова зарыдала. Филарет склонился к ней, помог подняться, затем огляделся.
Невдалеке стояли два дюжих молодца и не спускали глаз с боярышни. Филарет всё понял. Боярышня понравилась царю, и насильникам велено было доставить её во «дворец разврата», подземные хоромы, сооружённые самозванцем для его тайных увеселений. Ночами туда приводили похищенных красавиц. Вначале никто не знал, куда исчезали боярышни и многие достойные жёны. Похищения были внезапными и дерзкими. Царские разбойники нападали среди бела дня на кареты, проникали на подворья и даже в святые обители. Несчастные жертвы сластолюбивого царя таинственно растворялись, иным удавалось вырваться живыми, но многие тела находили в Москве-реке.
В народе нарастал гневный ропот, но, ослеплённый счастьем своего воцарения, самозванец не видел для себя опасности и ничего не стыдился. Он творил мерзкие дела, думая, что уподобляется тем «своему родителю» — царю Ивану.
В голове Филарета зародился план — отвезти девицу в Воскресенский монастырь, настоятельница которого могла бы укрыть её. Он шепнул боярышне, чтобы она следовала за ним.
Когда это неожиданное и трудное для него дело уладилось, день клонился к вечеру. Он не пошёл на своё подворье, где хозяйничали поляки, уклонился и от приглашения патриарха Игнатия остановиться в покоях патриаршего двора. Он избегал появляться на этом подворье, где пережил столько унижений в тяжкие дни опалы Романовых.
Заночевал Филарет в Чудовом монастыре. Он слышал, как в ночи едва различимыми ручейками текли молитвы монахов:
— Подай мне, Господи, помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна!
— Укрой меня от замыслов коварных, что изострили язык свой, словно меч!
— Избави нас, Господи, от ляхов-христопродавцев!
— Расточи их силою твоею и низложи их, Господи!
— Яко тьма противится свету, так и злочестье благочестью.
— Не дай окрестить нас, Господи, в езовитскую веру!
Сколь же трогательны были для Филарета эти ночные голоса молящихся! Он с детства верил в силу молитвы и знал, что Лжедимитрию не пройдёт даром насилие над православной верой.
Его неотступно преследовала мысль о возмездии самозванцу за грехи — слишком явные, чтобы они забылись Богом. Надругательство над верой предков, содомия и расхищение царского достояния — Богом это не забывается. Покарал же он Годунова и бывших до него злодеев. Настигнет кара и самозваного «Димитрия».
Филарет знал, что венчание на престол некрещёной польки Марины вызвало ропот и гнев у русских людей. Добром это не кончится.
В раскрытые окна архиерейской палаты, где остановился Филарет, вливался свежий запах садовых зарослей, кустившихся вдоль Кремлёвской стены. Дышалось легко, но на сердце оставалась тяжесть пережитого дня. Виделись ему то поляки, разорявшие костромское имение, то безумный старик, то несчастная боярышня, так напомнившая ему Елену. Но о той поре ему не хотелось вспоминать. Всё это давно отболело. В сердце занозой сидели сегодняшние беды. Почему-то перед глазами неотступно стояло лицо самозванца со страдальческой складкой. Не вязалось это страдание с его содомскими увеселениями, с легкомысленной тратой сил и беспечным отношением к богатству.
«Эта безумная роскошь — зачем она? Кому принесёт она счастье? — думал Филарет, вспоминая пышное убранство нового царского дворца — Годунов собирал казну царскую годами, а этот расточает её отчаянным легкомыслием. Вот соблазны, насеваемые дьяволом. Для Годунова весь смысл жизни был сосредоточен в царской власти, достижение коей стало для него венцом славы. Самозванцу царская власть досталась даром. Единственно, чего он будет домогаться, — это славы императора, самого могучего и самого богатого тирана на свете. Ради этого он попирает народ, среди которого родился и вырос, ни во что не ставит его жизнь и веру. Боже, как понять твой промысел? Ужели сие послано нам за грехи наши? И где нам чаять спасения?»
Между тем за окнами архиерейских палат Чудова монастыря сгущалась темнота, а благодетельный сон всё не шёл. Филарет не любил такие беспокойные ночи и сожалел, что задержался в Москве, где всё рождало тревожные раздумья. Он не раз замечал, что в Москве на него находило словно бы предощущение какой-то беды. Хорошо, что Марфа с Мишаткой живут в Ипатьевском монастыре, им там безопаснее, и он поблизости от них. Да и он чувствовал себя в Ростове Великом надёжнее, чем в Москве. Рядом наследственные костромские владения, а дома и стены помогают.
Становилось душно, и Филарет вызывал в своей памяти знакомые поля и лесные угодья, где всё дышало свежестью и простором и будило воспоминания детства. В эти чистые воспоминания врывался Юшка, небольшое имение которого соседствовало с романовским селом Домнино. Плохо кормило Юшку это имение, ибо он был никудышный хозяин, как и отец его Богдан Яков Отрепьев. Вот и нанялся Юшка после смерти родителя на подворье Романовых и стал их холопом. Судьба, значит. Что думает о той поре сам Юшка? Ныне на его долю выпало неслыханное счастье. Он-то считает его заслуженным, верит в свою звезду, хочет быть императором. Дерзость неслыханная. Да на этом и сломит свою голову.
Чтобы успокоить свои мысли, Филарет начал читать Библию. Долго думал над словами: «Надменный человек. Как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и, как смерть, ненасытен». Сказано точно о самозванце: «...как смерть, ненасытен». Думает, видно, что тайное не станет явным, что и Бога обманет, как и людей. Но Бог хоть и долго ждёт, да больно бьёт.
Филарет пытался представить, какое зло ожидает державу. Больше всего он опасался кровавой смуты. С этими опасениями он и заснул.
Проснулся он от колокольного звона и не вдруг понял, что проспал заутреню. Он был в жару, всё тело ломило. В памяти стоял мучительный сон. Будто Лжедимитрий с Басмановым уходили в черноту ночи, и он, Филарет, попросил их: «Возьмите меня с собой». Лжедимитрий сказал: «Ты ещё увидишь войну». Потом на Филарета напали бесы, и он тяжело отбивался от них.
Филарет позвал служку, но в голове всё стоял этот сон, словно самим небом ему дано было пророчество. Но что это было за пророчество?
ГЛАВА 50 ГИБЕЛЬ ЛЖЕДИМИТРИЯ И НОВЫЙ ЦАРЬ
То, что царь не истинный Димитрий, поняли многие россияне после венчания на царство некрещёной польки. Русские князья и цари испокон веков исповедовали православие и не допускали никакого урона для веры отцов. Москвитяне тайком и открыто говорили о том, что ложному Димитрию не удержаться на троне.
Самозванец сурово наказывал за эти слухи и толки, но был, однако, далёк от опасения за свою судьбу и не то чтобы стал меньше усердствовать в подражании иноземным обычаям и правилам — напротив, смело вводил их. Появлялись новые чины, по западным образцам была реформирована древняя Дума. Теперь в ней помимо патриарха заседали четыре митрополита, семь архиепископов, три епископа. Это было открытое подражание уставу королевства Польского.
Судили об этом по-всякому. Многие духовные особы, в том числе Филарет, были не против того, чтобы их именовали сенаторами. Это новшество привилось бы на Руси, если бы тщательно подготовленный москвитянами мятеж в считанные часы не изменил бы судьбу державы.
17 мая ранним утром в Москве загремел набат, сзывая вооружённых жителей на Красную площадь. Там, на Лобном месте, сидели на конях бояре в полных доспехах и ждали народ. Готовые к свержению самозванца люди устремились к Спасским воротам. Князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, а в другой распятие, въехал в Кремль, затем сошёл с коня и вошёл в Успенский собор, где приложился к иконе Владимирской Богоматери и, обращаясь к тысячной толпе, воскликнул: «Во имя Божие, идите на злого еретика!»
Толпа ворвалась во дворец. Самозванец, желая спастись бегством, выскочил из окна. Он мог бы ещё быть спасён стрельцами, которые взяли его под своё покровительство и потребовали свидетельства от матери царя, истинно ли он её сын. Инокиня Марфа отказалась признать в нём сына. Тогда толпа сорвала с него царские одежды и, облачив в рубище, внесла его, окровавленного после падения, во дворец. На допросе он продолжал упорствовать, называя себя Димитрием, и настаивал, чтобы его отнесли на Лобное место, где он обратился бы к народу: видимо, задумал хитрость либо хотел оттянуть свою погибель. Но дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев убили его двумя выстрелами.
...Филарет в это время находился в Ростове Великом. Он был потрясён известиями о мятеже и гибели «Димитрия». В памяти воскресло давешнее сновидение: Лжедимитрий и Басманов уходят в темноту ночи. Вот и сбылось. Погибли-то оба в одночасье. Ужели вправду сбудутся и слова самозванца: «Ты ещё увидишь войну»? Тем временем к Филарету прискакал брат Иван Никитич. Вид у него был сокрушённый. Филарет, с жалостью глядя на дрожавшую, искалеченную руку брата, налил ему церковного вина. Иван выпил, немного успокоился.
Смерть многое меняет в отношении к человеку. Филарет видел, что Иван потрясён случившимся, хотя накануне сам возмущался действиями «Димитрия». А теперь, когда его нет в живых, как не пожалеть о человеке, который вызволил из ссылки, дал боярство? Так и Филарет. Не обязан ли и он «Димитрию» спасением? И не велением ли «Димитрия» он, опальный монах, облачен в митрополичьи одежды?
— Вижу, что и ты скорбишь. Помолимся, владыко, о грешной, но достойной душе нашего «Димитрия».
Оба перекрестились на большую икону Спаса в самом центре палаты.
— Упокой, Господи, душу раба твоего Димитрия, — тихо шелестели слова молитвы.
Затем братья присели к столу, что означало начало беседы. Иван проговорил:
— Что бояре? Забыли о благодеяниях «Димитрия» ради честолюбия! А призвал народ к мятежу князь Шуйский. Он повёл разную чернь в Кремль.
— Мятеж не унялся?
— О Москве не спрашивай. Она во власти клики заговорщиков. Хмельные от вина и крови, ныне хвалятся своей победой.
— Священство что же не призвало к миру?
— Патриарх Игнатий бежал. У прочих не нашлось мужества. А были и такие, что призывали к мятежу. Забыв о сане, священники вооружались кольями.
Филарет думал, как это скажется на его судьбе.
— Люди на этом не умирятся.
— Шуйский хочет сесть на царство, но с ним мы не оберёмся беды, — уверенно произнёс Иван.
Филарет вспомнил о разговоре с Сапегой, который на неделе приезжал в монастырь. Сапега уверял, что на Москве любят Василия Шуйского, но престола ему не достать. Чем он крепче Бориса? Или на него не станет смуты? Те же люди, что возведут его на престол, потом скинут его.
— Все ныне смуту пророчат, — откликнулся брат Иван, — как бы Москву не запалили.
Он тяжело задумался. По лицу его прошла нервная судорога.
— Пан Сапега — мудрый змий... Он и свой интерес знает и других умеет наставить. А всё ж держаться, нам, видно, придётся польской стороны. Коли «княжата» начнут избирать своего царя, будем просить на царство Владислава.
Филарет велел служке, стоявшему у двери, открыть окно. Стало вдруг душно. Слова брата царапнули по сердцу. Хотя он и сам мыслил о Владиславе, но в душе, где-то в самых глубинах, жила надежда на сына Михаила. «Хоть и мал ещё Владислав, за него отец, король Сигизмунд, править станет. Что же, у Романовых нет силы спорить о троне? Или наш род не был издавна в родстве с царями? Но о том ныне — молчание, молчание», — думал Филарет.
— Ужели будем манить народ новым «Димитрием»? — спросил он.
— Авось Бог милостив.
— Распутица, Иван, самая скверная пора в году.
После этого разговора братьев Романовых прошло всего несколько дней, как царём нарекли князя Василия Шуйского. Филарет понял, что ему не избыть смуты в душе. Он потерял сон и с тревогой ожидал того дня, когда царь Василий призовёт его к себе. Что ожидает его? Избрание на патриарший престол? Но отчего такая смута в душе?
Царь Василий не спешил, однако, с созывом Священного собора. Это настораживало Филарета, и, когда царь позвал его к себе, он о многом передумал за дорогу. Станет ли он поддерживать новую политику царя Василия, политику ненавистных Романовым «княжат», политику старины? «Он чает от меня поддержки? Как сказать ему правду? Опала страшна. На Руси люди священного сана испокон веков служили царю. Потерпит ли Василий непокорство нового патриарха? — размышлял Филарет. В том, что его изберут патриархом, он не сомневался. Надеялся, что и бояре не будут чинить препятствий. После опалы Романовых при Годунове стихла вековая завистливая злоба. Станут ли ныне завидовать избранию митрополита на патриарший престол?»
Москва показалась Филарету притихшей и словно бы обезлюдевшей, и на душе его стало ещё тревожнее. Боярин Колычев провёл его в Комнату — так именовались приёмные покои царя.
Оставшись один, Филарет огляделся. Со времени Годунова здесь многое изменилось. Самозванец здесь, как видно, не бывал. Он, тяготевший к роскоши, не потерпел бы этой скудости убранства. Скамьи были покрыты далеко не свежим зелёным бархатом. Тафтяные завесы на окнах и двери полиняли.
Василий пришёл нескоро, и Филарету едва удалось скрыть порыв недоброго чувства при его появлении. Василий не поднялся на царский престол, как это сделал бы любой из царей, а, приветливо улыбнувшись на поклон Филарета, движением руки указал ему на место рядом с собой на скамье. Филарет, приученный ещё со времён Ивана Грозного к царской пышности и великолепию, был неприятно поражён простотой наряда Василия. Он был без барм, в обычном тёмном кафтане. На голове обыкновенная боярская шапка. Мог бы хоть перстни носить, столь приличные и царскому, да и княжескому тоже, достоинству.
— Что пасмурен, владыко?
Филарет встрепенулся, решил отвечать без всякого лукавства.
— Обо мне ли речь, государь!
Василий пристально вгляделся в Филарета, и, чтобы уйти от этого пытливого взгляда, тот сказал:
— Или мы не русские люди? Или не милосердствуем в чужой беде?
— О какой беде говоришь, Филарет? — спросил Василий, уловивший в его голосе как бы укор себе.
— Пошто загубили «Димитрия» и надругались над несчастным цариком? Богом это не забывается.
— Кто копает яму другому, попадает в неё сам. Не это ли ты хотел сказать, Филарет?
Василий посуровел глазами.
— Самозванца убил Волуев. Боярского указа на его смертоубийство не было.
— «Димитрий» помиловал тебя, когда голова твоя лежала на плахе. Пошто не отплатил ему добром?
— И разбойники, случается, милуют насильно захваченных людей. Кто же станет за это миловать разбойников? Древние говорили: «Злому человеку делать добро так же опасно, как доброму зло».
Филарет не любил, когда его посрамляли в ответах, поэтому сухо спросил:
— Зачем позвал меня столь поспешно?
— На моей памяти не было такого, чтобы царям указывали, хотя б и высшие духовные особы.
Василий был недоволен не столько Филаретом, сколько собой. Он уже раскаивался в том, что целовал крест, обязуясь никого не судить одной царской волей, без совета боярского. Прежние цари так не делали. Оттого в доброй воле нового царя увидели его слабость. Також и Филарет.
Помолчав немного, чтобы проверить впечатление от своих слов, и, не дождавшись ответа, Василий сказал:
— Тебе, митрополиту Ростовскому, самое статочное дело вместе с боярами, коих я тебе укажу, похлопотать, дабы перенести мощи царевича Димитрия в Архангельский собор и упокоить вместе с великими князьями и царями.
Филарет молчал, почти не скрывая досады и недоумения. Он-то ехал в Москву, думая, что его зовут на патриарший престол. Видно, до Василия дошли слухи о новом самозванце, вот и затеял перенести мощи царевича в Москву, чтобы удостоверились люди, что царевич мёртв. Ишь как спешит премудрый Василий оборониться от новой беды!
В Москву действительно наползли слухи о царевиче Димитрии, якобы спасённом от боярской грозы. Один из убийц царя Фёдора Годунова, Молчанов, ставший советником самозванца, бежал после его смерти из Москвы с двумя поляками и по дороге к литовской границе распускал слух, что он — царевич Димитрий. Оба боярина знали об этих слухах, и Филарет давно уже втайне решил их поддерживать.
— Ты молчишь, Филарет... Отчего бы это?
— Думаю о твоём решении, государь. Статочное ли это дело — тревожить мощи царственного отрока?
— Ты не волен указывать мне, владыко!
Василий поднялся. Медленно, словно бы огрузнев, встал и Филарет, важно поклонился.
— Мой долг повиноваться тебе, государь!
Он произнёс эти слова, зная про себя, что повиноваться Василию Шуйскому его не принудит и сам дьявол. Он не знал, что предпримет. Многое ещё может перемениться в державе. «Скорее всего, поляки дадут нам нового «Димитрия», и что будет дале — одному Богу ведомо», — думал он.
Впрочем, так мыслил не один Филарет.
ГЛАВА 51 СМУТА В ДУШЕ ФИЛАРЕТА
Затея нового самозванца Молчанова завладеть русским троном, поначалу казавшаяся нелепой и неисполнимой, набирала силу, раскачивая смуту, дремавшую дотоле в западных областях и Северской Украине. Сподвижники бывшего самозванца и поляки подняли головы.
А людей легковерных на Руси издревле было больше, нежели здравомыслящих. Крестьяне, попавшие в вечную кабалу с отменой Годуновым Юрьева дня, легко соблазнялись посулами нового самозванца. Не образумило их и то, что новый «Димитрий» не был похож на прежнего.
Соратник Лжедимитрия князь Шаховской бежал в Путивль, прихватив с собой царскую печать. Отныне эта печать удостоверяла воззвания «Димитрия» к народу. Усердные клевреты самозванца пускали в ход уловки, чтобы посеять в доверчивых умах сомнение: «А может быть, «Димитрий» и вправду был спасён верными слугами?»
Поляк Хвалибог клялся, что труп, выставленный на Красной площади, нисколько не походил на его прежнего господина: лежал там, говорил он, какой-то малый, толстый, с бритым лбом, с косматой грудью, тогда как Димитрий был худощав, стригся с малыми по сторонам кудрями по обычаю студенческому, волос на груди у него не было по молодости лет.
Тайна гибели самозванца обрастала легендами, рождавшими смуту.
Несговорчивость Филарета побудила царя Василия принять скорое решение. Тело царевича Димитрия было перевезено из Углича в Архангельский собор. Москва и жители ближней округи могли убедиться, что грамоты «Димитрия» были заведомо рассчитаны на обман.
Но ложные слухи по-прежнему бунтовали дальние окраины русского государства. На северных и южных окраинах создавались воровские шайки, которые позже влились в «царское» войско, возглавляемое Болотниковым.
Филарету доподлинно было ведомо, какая беда угрожает державе. Но выбор его давно был сделан: пусть лучше смута, которую впоследствии можно будет избыть, нежели царствование Василия Шуйского.
Видимо, Василий почувствовал недружелюбие Филарета, если предпочёл ему казанского митрополита Гермогена. Филарет не испытывал ревности к новому патриарху и в душе уважал его. Но как убить в себе надежду на патриарший престол? Он давно распростился с отроческими мечтами о царстве, но силы его души были настроены на великий подвиг. Держава нуждалась в крепкой руке.
Временами Филарет роптал на судьбу, помешавшую ему воспринять трон от Фёдора. Он знал, что повинен в этом был дьявол — враг рода человеческого. Это его злыми кознями одна беда надвигалась на другую. Утратив любовь Елены Шереметевой, Филарет вскоре потерял и верного друга — царевича Ивана. Лишившись родителей, он быстро почувствовал, как растаял круг друзей. Злоба Бориса Годунова завершила остальное. Ему, опальному монаху, осталась суровая битва за выживание. И вот он — владыка.
Но, Боже Праведный, как устал он от крутых переломов в своей жизни! «Укатали сивку крутые горки»? Нет, он ещё поспорит с судьбой!
Филарет неохотно ездил в Ростов Великий. У него были надёжные помощники, которые ведали делами епархии. Не в Ростове ныне вершились дела судьбоносные. Верные люди оповещали его о событиях, вызывавших смуту в державе.
Он знал о согласованных действиях князя Шаховского и авантюриста Молчанова. Он глубоко презирал их в душе, особенно Молчанова, нечистого на руку волхвователя. Но они раскачивали трон под Василием Шуйским.
Доверчивые люди поверили ловкому мошеннику. Молчанов писал воззвания от имени «Димитрия», но всячески избегал встреч с людьми, которые помнили, как его секли кнутом на Ивановской площади.
Благодаря сатанинской энергии клевретов самозванца вся Россия полнилась слухами о чудесном воскрешении расстриги.
Филарет отдавал должное уму князя Шаховского. Ему рассказали, как смеялся Шаховской над затеей Шуйского перенести в Москву гроб с телом царевича. Не понимает-де Василий бесполезности сей затеи. Вон и царица Марфа достоверно свидетельствует о смерти сына, да что толку?
Вера в волшебство, в чудесное воскрешение «Димитрия» для простонародья сильнее всякой достоверности. Недаром в Москве толковали, как над телом «Димитрия» ворковали голуби и было сияние. Верилось в это легко и потому, что чернь расположена к мятежам, что она готова менять царей, ежели это сулит выгоды.
В этот ясный погожий день Филарету хотелось отдохнуть душой, а лучшим отдыхом он полагал гулянье на лодке по вольно раскинувшемуся в том году озеру Неро. В ширину озеро будет до девяти километров, а в длину кто же считал?
По озеру его катал славный протопоп Савватий. Филарет любил его за тихий нрав и преданность Романовым. В прошлые годы он был в их имении домашним попом. Он зело скорбел, когда царством завладел Годунов, и всюду говорил, что по праву царствовать должны Романовы, первые родственники покойного Фёдора. За правду этих слов его и сослали в Ростов, в один из монастырей, но монахом он не стал и вскоре хлопотами Филарета получил чин протопопа.
Какое блаженство для души! Вдоль берега вода столь прозрачна, что видны мелкие камешки на дне. А далее, по всей поверхности озера, отражается Ростовский Кремль. Белые, словно воздушные, громады увенчаны великим множеством островерхих куполов — больших и малых. По окраинам темнеют монастыри. Вода то золотится на солнце, то отливает жемчугом.
В умелых руках Савватия лодка не плыла, а скользила по озеру, и вёсла бесшумно взлетались на воздух. Отражённые в воде купола церквей то собирались группами, то расходились, причудливо вытягиваясь в длину...
Поначалу думалось легко. Авось Господь будет милостив к своим грешникам. Схлынет смута: Филарет надеялся, что царь Василий откажется от власти, дабы утихомирить державу. Филарет знал, что бывший холоп князя Телятевского Болотников стал ныне воеводой и привёл под Тулу большое войско, надеясь осадить Москву. Шуйскому не одолеть его: в войске царя недовольство и шатание.
Крепкие воеводы предали его, перешли на сторону Болотникова князья Рубец-Мосальский и Михаил Долгорукий. В Астрахани изменили князь Хворостинин и Фёдор Шереметев.
Взбунтовалась Рязанская земля. Прокопий Ляпунов, весьма беспокойный и склонный к крамоле рязанский дворянин, поспешил объявить себя Димитрием, но скоро раздумал и присоединил свои дружины к Болотникову.
Обдумывая эти события, Филарет видел злополучное сходство в судьбах Годунова и Шуйского: обоим изменили ранее преданные воеводы с той разницей, что воины нового самозванца были ещё беспощаднее, они не щадили детей и стариков, а молодых брали в плен, не пропускали запасы в столицу, обрекая её на голод.
— Пошто молчишь, Савватий? Говори, какие вести привёз из Москвы?
Савватий опустил вёсла на воду, помедлил с ответом.
— Сказывают, быть большому кровопролитию.
— Досужие байки, Савватий, мне не надобны. Ты мне новые вести выкладывай.
— А новые вести такие будут: Прокопий Ляпунов принародно заявил, что станет сражаться вместе с Болотниковым.
— Да какой в том резон? Прокопий начнёт добывать власть себе самому.
В эту минуту сильно плеснула щука. Сбоку было видно, как она сделала рывок, чтобы заглотнуть плотвичку, но промахнулась. Мелкая рыбка оказалась проворнее. Филарет и Савватий наблюдали за этой охотой.
— Ужели ты, владыка, полагаешься на Прокопия? Он как проведал, что Болотников будет служить самозванцу, так и возвернулся к царю.
— И Василий принял его? — оживился Филарет.
— А то... Царь прощает всякому, кто покается.
— А ежели покаяние ложное?
— Царь верит любому покаянию. Он говорит о мятежниках: «Они такие же православные христиане, только заблудившиеся. Да раскаются все, и кровь отечества не будет литься в междоусобии...»
Филарет молчал, думая о Василии: «Это станет его ахиллесовой пятой. Доверчивость безразборная погубит его». Помолчав, спросил:
— Ты думаешь, такая доверчивость кончается добром?
— Про то не ведаю, но царь Василий — святой человек.
Филарет с недоумением вскинул глаза на своего протопопа. Прежде он не жаловал Василия, говорил, что он вскочил на царство своим хотением. Савватий понял, о чём подумал Филарет, произнёс:
— Ныне Василий — помазанник Божий. Да будет благословенно его царствие. И дозволь сказать тебе, владыка, что мы берём на душу великий грех, допуская в нашу епархию подмётные письма, написанные будто рукою Димитрия. Дозволь, владыка, я велю от твоего имени сличить те подмётные письма с подписями всех дьяков и заезжих людишек. Или мы не в силах вывести эту заразу из нашей земли?
Филарет озадаченно молчал. Иные грамоты писались с его согласия.
— Не ожидал от тебя, Савватий, что тебе захочется заниматься сыском. Греби к берегу, к Успенскому собору, и никогда не говори со мной о смуте.
ГЛАВА 52 ИДИ И СМОТРИ
Судьба русского государства в те годы решалась на крутых поворотах, как и собственная судьба Филарета. Он понимал это и был готов к любому исходу событий. Но размах смуты был непредсказуем и грозен.
Филарета успокаивало то, что старания царя Василия — погасить смуту — приводили к противоположным результатам. Ни царские грамоты, ни посольство митрополита Пафнутия в очаг бунта — Северскую землю, ни письма царицы Марфы о смерти её сына не имели успеха. Кровопролитие стало неизбежным. Царские войска осадили Елец и Кромы. Но победа была на стороне Болотникова. Разбив царское войско, он шёл впереди мятежников, восстанавливая державу для нового самозванца, сведения о котором были самыми туманными.
Ближайшие к Москве города — Тула, Калуга, Кашира, а затем и Рязань — присоединились к бунту. Осуждая москвитян за убийство «Димитрия», это новое войско со своими предводителями — Истомой Пашковым, Прокопием Ляпуновым и Григорием Сунбуловым — жестоко расправлялось со сторонниками царя Василия, не желавшими нарушать присягу. На Северной Украине мятежники опустошали сёла и деревни, грабили церкви. С неимоверной быстротой пламя восстания охватывало всё новые земли; Вязьма и Смоленск, Дорогобуж и Старица, чтобы спастись от ярости бунтовщиков, вынуждены были встать на сторону «Димитрия».
Положение Василия было тяжёлым: у него не было ни казны, разграбленной первым самозванцем, ни искусных военачальников.
Царь делал всё, что мог. Он выслал против мятежников новое войско и одновременно приказал перенести тела Бориса Годунова, его жены и сына в Троице-Сергиеву лавру. Этим он хотел вызвать жалость к убиенным и ненависть к их убийцам. Мало кто знал, что убийцы Годуновых изменили царю Василию и перешли на сторону мятежников.
Неудачи преследовали Василия. Болотников, соединившись с Ляпуновым и Пашковым, вновь разбил царское войско и в начале октября стал под Москвой в селе Коломенском. В столице появились грамоты Болотникова с воззваниями к беднейшему люду.
Царь Василий с присущей ему твёрдостью духа приказал строить укрепления и готовиться к защите города. Его неустрашимость передалась народу.
Среди мятежников началось брожение. Ляпунов, Сунбулов, стыдясь быть сторонниками бродяг, первыми явились к царю с повинной. Василий, стараясь избегнуть нового кровопролития, торжественно предлагал милость и остальным участникам мятежа. Болотников отвечал: «Я клялся Димитрию умереть за него и сдержу слово: буду в Москве не изменником, а победителем», — однако был разбит двадцатилетним князем Скопиным-Шуйским и бежал в Калугу. Неудачная осада этого города царскими войсками продолжалась четыре месяца.
Духовенство предало анафеме Болотникова и других мятежников. Раньше Василий не хотел этого, он жил ожиданием их раскаяния, но бунтовщики не раскаялись, и 21 мая 1607 года Василий сам повёл войско. Он целовал крест и объявил, что вернётся в Москву лишь победителем. Он одержал победу.
Между тем среди мятежников усиливался ропот возмущения: «Где же тот, за кого умираем? Где Димитрий?» И Шаховской, и Болотников клялись, что «царь» в Литве, и писали друзьям Мнишека, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войско.
Призыв Болотникова и Шаховского «прислать какого-нибудь Димитрия» вызвал ответную волну. На Руси за удивительно короткий срок появилось невиданное количество лжецаревичей. Особенно много объявилось никогда не существовавших «сыновей царя Фёдора»: Фёдор, Клементий, Савелий, Брошка — и это далеко не всё! В конце концов в Польше нашли бродягу — то ли поповича, то ли сына служилого человека, вошедшего в историю как Тушинский вор, или просто Вор.
Подобно первому «Димитрию», второй свободно говорил по-польски, знал Священное Писание, но наружностью и характером отличался от первого самозванца. Надо ли, однако, удивляться, что сторонники смуты, знавшие первого самозванца, приветствовали второго «Димитрия», хотя и видели его несходство с первым. С большим усердием они славили его как царя истинного. Одних побуждала к этому склонность к мятежу и желание получить свои выгоды, других — ненависть к царю Василию.
К счастью, бунт не обрёл той силы, на которую рассчитывали мятежники. Удача отвернулась от них. Угроза голода и затопления, а также надежда на помилование вынудили главных бунтовщиков — Шаховского, Болотникова и Телятевского — сдать Тулу царю Василию. Москва встречала победителей торжественно, как некогда Грозного после завоевания Казани. Огорчённый славой царя Василия и его успехами, Филарет не стал дожидаться его возвращения в Москву и выехал в Ростов.
Тем временем новый «Димитрий» вынашивал планы осады Москвы. Зиму 1608 года он провёл в Орле, где значительно укрепил своё войско за счёт поляков, беглых холопов и казаков. 1 июня 1608 года он был уже в двенадцати километрах от Москвы, в Тушине, начал строить укрепления: окружил Тушино валом и глубоким рвом.
Зима и весна наступившего года были тяжёлыми для царя Василия — это было время заговоров и предательства со стороны знатнейших вельмож. Измена зрела и в самих царских войсках, и в столице. Царь не хотел сражений, кровопролития, он надеялся на возможность переговоров как с тушинцами, так и с поляками.
Марина Мнишек с отцом получила позволение выехать в Польшу, обязуясь впредь, «не именоваться и не писаться московскою царицей». Также и её отец должен был, в свою очередь, «не называть нового обманщика своим зятем и не выдавать за него своей дочери».
Царь Василий свято верил в нерушимость крестного целования и силу договоров, повторив ошибку Бориса Годунова. Ныне никто не верил договорам и не соблюдал их.
Пан Мнишек нарушил данное русскому царю слово, и его дочь Марина с небывалой торжественностью въехала в тушинский лагерь. Марина при виде «спасённого супруга» проявила столько чувства, столько нежности, так искусна была игра этой честолюбивой и властолюбивой женщины, что у многих, присутствующих при их встрече, выступили слёзы умиления. Если же кто-то и догадывался, что это была лишь игра, что из того? Корыстолюбие Юрия Мнишека было удовлетворено записью, по которой «Димитрий» после восшествия на престол обещал ему 300 тысяч рублей и владение 14 городами Северского княжества.
Приезд Марины существенно укрепил позиции нового самозванца. Начался массовый побег в Тушино московских изменников, людей знатнейших фамилий, среди которых были и родственники Филарета — Черкасский, Алексей Сицкий.
В те дни появилось и расхожее слово «перелёт». Так называли тех, кто, целовав крест царю Василию, уходил в Тушино и целовал крест новому самозванцу — Тушинскому вору. Взяв у него жалованье, они возвращались в Москву, однако, получив награду, снова бежали в Тушино за жалованьем.
Всё это свидетельствовало о падении нравов. Мошенничество набирало силу и становилось бытовым явлением. Тех, кто пытался осудить жуликов-перелётов, называли доносчиками. Создавались целые сообщества мошенников, а на сообщество как найти управу? Измена родине возводилась в ранг добродетели.
Царь Василий видел, что за этими процессами в русском государстве внимательно следили поляки, и враги отечества всегда найдут у них поддержку. В Москве один за другим составлялись заговоры против царя. Это воодушевляло поляков. Литовский магнат Ян-Пётр Сапега, двоюродный брат Льва Сапеги, вместе с польским полковником Лисовским осаждали Троицкий монастырь, но безуспешно. Царь Василий добивался, чтобы поляки добровольно покинули Тушинского вора. Он стремился раздробить силы противника, но в конечном итоге вынужден был прибегнуть к помощи шведов, Он заключил договор с Карлом IX, который обещал помочь наёмным войском.
Времени для ожидания не было: неприятельские дружины уже подъезжали к московским стенам.
...В те дни Филарета не покидала тревога за жену и детей. Поэтому, когда вошедший служка доложил о приезде его супруги Марфы, он изменился в лице, не сомневаясь, что случилась какая-то беда, и успокоился, только когда увидел безмятежное лицо жены, важной поступью вошедшей к нему. На ней был обычный монашеский наряд, но на плечи была наброшена дорогая соболья накидка.
Сидевший перед Филаретом архимандрит поднялся и удалился из митрополичьей палаты.
— Садись, Марфа, — потеплевшим голосом произнёс Филарет. — Как дети? Здоровы ли?
— Здоровы, владыка. Скучают по тебе, батюшка.
— Как Мишатка? Не велел ли мне чего передать? Может, поклон?
Филарет не ожидал ответа, ибо Мишатка был не по летам тих и смирен.
— Как же! И поклон, и наказ тебе передавал, — ласково усмехаясь, ответила мать. — Говорил, передай-де батюшке, чтобы шашку прислал: пойду войной на царя Василия.
Филарет смятенно оглянулся, словно бы их подслушивали.
— Ты гляди, Марфа, как бы Мишатка на людях не сказал ничего лишнего.
Помолчав, он спросил:
— Как родичи наши, князь Черкасский, князь Сицкий?
— Али не догадываешься? Родичи наши там...
Марфа что-то рассказывала, но Филарет сумрачно молчал. Он был далёк от осуждения крамольных князей, но их отъезд в Тушино был грозным предостережением ему самому.
Устроив Марфу на ночлег в одном из монастырей, Филарет не мог уснуть всю ночь. Он думал о судьбе, которая грозила неведомо чем ему и его семье. Всё казалось непредсказуемым и пугающе опасным. Тревожила и сама Марфа. В ней постепенно проявлялось что-то чуждое ему, что-то не по-женски решительное. И черты лица её огрубели, и тяжелее стал нрав. Филарету было неловко оттого, что, войдя в митрополичью палату, она не поклонилась архимандриту, чем смутила старика. Как всё это отзовётся на их дальнейшей жизни?
Все последующие дни Филарета не покидала тревога. Вскоре после отъезда Марфы ему приснился знаменательный сон. Увидел он скачущего рыжего коня и на нём всадника, услышал голос: «Иди и смотри!» Филарет подумал, что эти слова сказаны в «Откровении святого Иоанна Богослова», и дрожь не то страха, не то восторга охватила его. Голос снова повелел: «Иди и смотри!»
Он понял, что голос повелевал именно ему, Филарету: «Иди и смотри!» Позже он много размышлял об этом сне, стараясь понять его пророческий смысл.
Проснувшись, Филарет узнал о том, что тушинцы движутся к Ростову.
ГЛАВА 53 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ
С момента нашествия тушинцев на Ростов началась новая страница в судьбе Филарета.
Не сумев одним ударом взять Москву и начав безуспешную осаду Троице-Сергиевой лавры, Лжедимитрий решил действовать против городов, находящихся недалеко от Москвы. Первым изменил законному царю, став на сторону самозванца, Суздаль, жители же Переславля даже вышли навстречу мятежникам с хлебом-солью и приняли их как дорогих гостей. Переславцы соединились с тушинцами и поляками и под предводительством Яна-Петра Сапеги пошли к Ростову.
Осень 1608 года выдалась в Ростове на удивление тихая, сухая и тёплая. Золотые купола церквей и монастырей, отражающиеся в голубой воде озера Неро, синее небо. Спокойная, привычная красота великого и богатого города. В былые времена он, как сказочная птица Феникс, не раз поднимался из пепла. Удивительно ли, что племянник татарского царя Берке, приехав в Ростов и попав в церковь, «украшенну златом и жемчугом, и драгим камением, аки невесту украшенну», был так потрясён этим великолепием, что тут же принял православие и был наречён Петром!
Но как изменился город за последнее время! Казалось бы, жизнь идёт по-прежнему, но ростовчане жили в тягостном ожидании чего-то, и этот отпечаток надвигающейся и неизбежной беды как бы лежал на их лицах. Тревожный звон колоколов не раз собирал жителей на площадях. Никто толком ничего не знал, но слухи пугали, и страх постепенно наполнял души.
В этот роковой октябрьский день звонили колокола всех ростовских церквей. Вести оказались действительно пугающими. Тушинцы подходили к Ростову. Что делать? Как защитить город? Люди бросились к митрополичьему двору. Раздавались голоса:
— И Суздаль, и Переславль сдали!
— И нам надо за ними!
— Да и чем воевать-то? И как с этой силищей совладать?
— Путь на Ярославль свободен, бежать бы туда!
Вперёд вышел воевода Третьяк Сеитов.
— У них сила, и у нас есть сила! Стрельцы да ратные люди — это же немало! Коли и вы встанете на защиту родного города — одолеем и тушинцев, и переславцев!
Сеитов хотел воодушевить народ. Он понимал, что с такими воинами, как у него, не выстоять против казаков, с детства привыкших к оружию. У Ростова не было крепких стен, и встретиться с тушинцами придётся в открытом поле. Как ему выдержать?
Видя всеобщее смущение, Филарет сказал:
— Православные! Неужто всё, что дорого вам, вы унесёте с собой — и храмы, и иконы, и мощи святых мучеников? Вспомните тех, кто погиб за отечество своё, за город свой. Или, как переславцы, хотите выйти навстречу ворогам как дорогим гостям и попросить: разоряйте добро наше да только пощадите нас, робких да смиренных?
Оглядев притихшую толпу суровым взглядом, Филарет гневно продолжал:
— Помните, что смерть за отечество лучше жизни срамной. Бегите, но нет вам на то моего благословения! Я не пойду за вами. На всё есть воля Господа!
Спокойный уверенный голос митрополита произвёл сильное впечатление на толпу. Снова заговорил воевода:
— Хотите бежать — ступайте, путь свободен. А я, как и отец митрополит, здесь останусь, где жил. Здесь, коли Бог повелит, и голову сложу. Кто же хочет остаться верным присяге и царю Василию и с нами быть — выходи, записывайся да крест целуй, что не выдашь нашего дела. Оружия, копий, бердышей на всех хватит, и сабли, и мечи найдутся.
Воинственный настрой охватил горожан. Были образованы два отряда числом до трёх тысяч человек. Они мужественно сражались с мятежниками, но были разбиты. Силы были неравными. Лишь небольшой части ростовчан, измученной и изнурённой, во главе с воеводой Сеитовым удалось вернуться в Ростов, где они продолжали упорно обороняться, но были буквально сметены численностью врага. Только одолев этих стойких защитников, тушинцы начали грабить город. Они врывались в церкви, которые были на их пути.
Филарет в полном митрополичьем облачении, с крестом в руках, окружённый клиром[31], стоял в Успенском соборе. Здесь же находились горожане, подавленные предстоящей бедой. Все исповедались, причастились и ждали...
Филарет передал посох протопопу Савватию, приблизился к мощам святого Леонтия, облобызал их и коленопреклонённо им поклонился. Народ благоговейно следил за ним, и Филарету почудилось, что в соборной тишине раздался подобный шёпоту голос:
— Иди и смотри!
Прошептав слова молитвы, Филарет вместе с клиром двинулся к потайному выходу. Но тут случилась досадная неожиданность. К Филарету приблизился безумный старец и, указывая не него перстом, произнёс:
— Сей ложный духовный пастырь задумал впустить в святой храм волков губительных.
Протопоп строго остановил его:
— Пошто хулу глаголешь на владыку?
Но безумный старик продолжал что-то кричать. Слова его будто толкали Филарета в спину, и он невольно прибавлял шаг. Когда Филарет вышел к соборной площади, мятежники готовились к приступу Успенского собора.
Филарет подумал в эту минуту, что три с половиной века тому назад Батый пощадил Ростов. Что же ждать от христианина-католика Сапеги и своих же православных? Филарет неоднократно слышал, как свирепствовали тушинцы, как они пытали пленников, как не гнушались ни осквернением святых церквей, ни поруганием священного сана. Теперь злодеи перед ним, обрызганные кровью, готовые ворваться в главный ростовский собор.
— Остановитесь, или Божий гнев падёт на вашу голову! Вы призвали три казни, возвещённые от Бога: голод, мор и войну. Пошто предаёте смерти людей без вины? Своим мятежным приходом вы делаете Богу досаду. Или вы не христиане, что чините тесноту и обиду многим православным людям?
К Филарету приблизился Ян-Пётр Сапега, которого митрополит видел впервые. Он не был похож на своего двоюродного брата, но Филарет слышал, что отряд мятежников привёл он. Лицо у него опухло от постоянного пьянства, о нём говорили: «Вечно пьяный Сапега». Не надо было особенно вглядываться в этого человека, чтобы понять, что для него нет ничего святого.
— Тебе, Филарет, мы тесноту чинить не станем. Нам ведомо, что ваш государь Димитрий изволит пожаловать тебя новым духовным чином. Мы возьмём в заложники чернецов твоих!
Взглянув на протопопа Савватия, Сапега добавил:
— И бельца этого. Мы представим их в Сергиевой лавре, дабы обменять на наших храбрых воинов, попавших в плен к чёрным вранам. А ты, митрополит, вели открыть нам двери собора.
Неожиданно послышался громовой голос протопопа Савватия:
— Изыдите, окаянные! Устыдитесь, дабы не бесчестить Божий храм, где положены мощи святого Леонтия! Бог поругаем не бывает!
Это были его последние слова. Убив Савватия, мятежники сбили запоры и ворвались в собор.
Меньше чем через час всё было кончено. Горы трупов наполнили святое место. Тех, кого могли увести, угнали в Тушино. Храм был разграблен. Богатые, шитые золотом облачения, золотые ризы, кадила, митрополичий крест — всё было унесено и разделено между мятежниками.
С Филарета сорвали святительские ризы и как узника, босого, в татарской шапке, повезли в Тушино.
ГЛАВА 54 ТУШИНСКИЙ СТАН
Взятие и разграбление Ростова Великого, осквернение его святынь были лишь страницей трагической эпопеи тех лет. Н.М. Карамзин писал о той поре: «Казалось, что россияне уже не имели отечества, ни души, ни веры; что государство, заражённое нравственною язвою, в страшных судорогах кончалось! Россия была пустынею; но в сие время не Батыевы, а собственные варвары свирепствовали в её недрах, изумляя и самых неистовых иноплеменников: Россия могла тогда завидовать временам Батыевым».
Удивительно ли, что от Москвы отпадали целые города. Богатый Ярославль, напуганный участью Ростова, сдался на выгодных для тушинцев условиях. Верная Шуйскому Тверь и наследственные владения его рода — Шуя — были разграблены мятежниками. Владимир, Углич, Вологда, даже Псков перешли в руки самозванца. На этом фоне поглотившего Русь бунта выделялись некоторые поволжские города — Казань, Нижний Новгород, Саратов — и города сибирские, не подчинившиеся новому «Димитрию».
Тушино стало как бы столицей тех десятков тысяч мятежников, кто не признавал власти законного царя, кто желал свободы совершать любые злодейства — грабить, жечь, убивать.
Зная об этом, Филарет считал царя Василия виновником несчастной судьбы отечества и видел в поляках не врагов, а возможных союзников. Он полагал, что второй Лжедимитрий с его тушинским станом станет сосредоточением мятежных сил, которые уберут царя Василия, и без того обречённого на гибель, как думал Филарет.
Но в мыслях и душе Филарета не всё было так просто и ясно. Он мучился сомнениями, страдал, вспоминая случившееся в Ростове, и его дорога в Тушино была сопряжена с муками совести.
Когда Филарета в числе пленных людей всякого чина повели в Тушино в литовской одежде, в татарской шапке на седой голове, он вначале решил, что его хотят выставить перед новым «царём» как скомороха. По лицу его потекли слёзы слабости и унижения. Но они сразу высохли, как только он подумал о судьбе несчастных, растерзанных в соборе, о судьбе поруганного и ограбленного храма. Он корил себя, что не спрятал раньше икону святого Леонтия. Он видел, как по дороге пустошили церкви и монастыри. «Не боятся Бога, злодеи, закон преступают», — шептали его губы. Он слышал словеса лживые и неправедные. Мучители хвалились добычей и своими удачами. «Господи, грешен я, вельми грешен! Пошто ты не внял моей молитве, не укрыл от сборища лукавых и множества делающих неправду!»
Филарет старался сосредоточиться на молитве, но в душу его постепенно проникал страх. Он слышал, как мятежники говорили между собой:
— Владыку-то куда гонят? Али он в чём провинился?
— Топор палача сыщет виноватого.
Дорогой к войску мятежников присоединились падкие на добычу людишки. Где-то на полдороге к ним с великим невежеством и шумом пристала целая шайка с атаманом, которого звали Федька Ворон. Он был столь свиреп с виду, что приближаться к нему остерегались даже поляки. Время от времени он постёгивал кнутом кого-нибудь из мятежников, приговаривая:
— Ивашка Жареный да Ивашка Гнутый — твои дружки.
Уста Филарета шептали молитву, когда к нему приблизился один из предводителей сапежинцев — так называли воинов Петра Сапеги — и почтительно попросил его сесть в колымагу. Филарет поблагодарил. Передок у колымаги обгорел, но кузов и колёса были целы.
Но едва Филарет устроился в углу возка, как на него роем налетели укоряющие вопросы: «Пошто не послушал воеводу Сеитова и не отошёл к Ярославлю, где русские воины держали рубеж и сидение было крепкое? И Сеитов остался бы в живых». Снова вспомнился тот безумный старик. Ведь всё получилось по его словам. Велев запереть собор, Филарет сильнее раздул огонь ярости мятежников. Или не обрёк он на смерть людей, сказав им: «Уйдёте к Ярославлю — не будет вам моего благословения»?
В душе Филарета слились угрызения неспокойной совести, покаяние и притаившееся где-то в душевных глубинах лукавство.
Не сам ли ты, Филарет, дал волю лукавому?
«Избавь, Господи, душу мою от скверны лукавства! Да взойдут в ней семена чистой правды! Просвети меня, Всеблагой, светом праведным и вразуми меня, что значил тот сон в канун беды и как понять повеление: «Иди и смотри!»? Не ныне ли пришло время исполнения Твоих пророчеств? Наказание ли, приговор ли Твой в том повелении? Да исполнится воля Твоя во всём и до конца! А я из Твоей воли не выйду!»
Молитвенное состояние души, помогало ему победить страх, который всю дорогу не покидал его. Войско мятежников, его окружавшее, напоминало шумный опасный табор. Слышны были выстрелы, брань. Неподалёку от кареты завязалась перепалка. Филарет прислушался. Один из голосов напомнил ему об Устиме:
— Глянь-ка! А сапоги у него разные!
— И верно! Один воровской, а другой — краденый, — отозвался густой голос, чем-то похожий на голос Устима.
— А ты никак Устим? Да откуда ты такой разудалый?
— А из болотца да заднего воротца.
— Оно и видно.
— Ты его не замай, — раздался голос со стороны, — его сам воевода жалует.
— Откель знаешь? Или сам о том сказывал?
— Видать, что сам выхвалялся.
— Опорком щи хлебал да к воеводе попал.
— Что ж ты пешком идёшь, коли воевода тебя жалует? Где ж твой конь?
Устим, молчавший на все насмешки, на этот раз ответил:
— Видишь гнедого в упряжке, что важную персону везёт к самому царю? Это мой конь.
Мятежники, не ожидавшие такого отклика, разом смолкли. Устим явно срезал их своим ответом, но сдаваться им не хотелось.
— Это что ещё за важная персона? Из бояр, что ли? Так мы видали их, бояр-то. Да и наш царь не жалует их.
— Это верно! Он им всем укорот дал.
— В недолгом времени все боярские вотчины нашими станут.
— Вот потеха-то будет, когда заставим их спины на нас гнуть!
— Хоть бы попробовать, какая она сладкая, жизнь боярская.
— Сказывали, Исайка-то Ляпун на боярской девке оженился, а боярин приехал да и прогнал его.
— И что тому дивиться? Допрежь надобно самих бояр со света сжить...
— Оно недаром молвится: «Красны боярские палаты, а у мужиков хаты на боку».
— И хлеба на боярском поле не заработаешь.
Филарету было и тягостно, и чуждо слышать эти разговоры, хотя и сам он, и его прародители были недругами бояр и всегда держали сторону служилого сословия. Крамола и мятеж — плохие помощники, чтобы иначе устроить жизнь. Ему захотелось потолковать с Устимом, и, когда остановились на ночлег в одном посаде, в боярской светёлке, он велел привести его к себе. В мужике, вошедшем в светёлку, трудно было узнать Устима. Зарос бородой, заматерел. Лицо почернело на солнце и ветру. Глаза недоверчивые, недобрые. Он не узнал Филарета и строго смотрел на него.
— Али не признал, Устим?
Услышав этот властный глуховатый голос, Устим вспомнил, что этому человеку верно служил в монастыре его сын и пропал из-за него. Вспоминать о той поре жизни Устиму не хотелось, ответил коротко:
— Вот теперь признал. Ты татарскую-то шапку скинь. Али по достоинству твоему боярскому басурманская шапка?
Филарет вгляделся в его лицо и тихо попросил:
— Не держи, Устим, камень за пазухой.
— Это ты к тому, что я сыночка своего единокровного на верную гибель к тебе приставил?
— Всё в Божьей воле, Устим. Ты уже старик. Я хочу дать тебе прибежище до конца дней твоих. Посылаю тебя на своё подворье, на Варварку, будешь в помощниках управляющего.
— Я старик, говоришь? Нет, боярин. Старик на печи сидит, а я ещё послужу правде. Говорят, неделя красна середою, а жизнь — серединою. А посулов мне не надобно. Бедного с богатым не верстают.
— Так, значит, решил служить новому царю?
— А чем он хуже прочих царей? Люди-то поверили ему. Али они все дураки?
Филарету припомнились слова одного Божьего странника, забредшего в монастырь: «Люди правду по капле принимают, а выдумку — по ложке».
Разговор с Устимом взволновал Филарета. Вспоминалась прожитая жизнь. Он не мог заснуть. Молитвы на ум не шли. Мятежники, расположившиеся на боярском подворье, тоже не спали. До Филарета долетали обрывки разговоров:
— Ну, брат, как оно здесь, на боярском приволье?
— Что — как?
— Так ты ал и не здеся?
— А то не видишь...
— Значит, того... нашёлся?
— Не ведаю, об чём ты.
— Ну, так ты, значит, нашёлся.
— Тебе-то что?
— Ничего. Как есть ничего.
Филарет, невольно рассмеявшись, подумал: «Вот так и у тебя с Устимом получилось. Устим нашёлся. Да тебе-то что?»
Сапежинцы далеко опередили Филарета, колымага которого тащилась медленно и неуклюже. Скрипели немазаные колёса, и это было, кажется, единственным звуком за всю дорогу. Не слышно было ни скрипа колодезного журавля, ни собачьего лая. Многие сёла и посады, близкие к Тушину, были покинуты жителями, огороды оставались неубранными, и на свободных пространствах хозяйничали лишь вороны да галки. Иногда полевые дрозды, сбиваясь в стаи, склёвывали рябину на опустевших подворьях. Такое запустение Филарет помнил только в окрестностях Новгорода, где хозяйничали опричники Ивана Грозного, всё уничтожавшие и сжигавшие на своём пути.
На разъезде возле Тушина колымагу Филарета надолго задержали. Суровый с виду казак в красном жупане придирчиво оглядел Филарета, задержался глазами на его татарской шапке — не басурман ли? — и велел обшарить все углы кареты. Когда в ней ничего не обнаружили, казак грубо спросил:
— Пошто молчишь? Давай бумагу.
— У меня бумага к самому государю.
— Ты не отнекивайся, а подавай бумагу. Молчишь? Кучер, заворачивай оглобли!
Кучер колебался, и казак схватил лошадь под уздцы. Глаза Филарета налились гневом.
— Прочь с дороги, смерд! Здесь тебе не казацкая степь. Или тебе не ведомо, что меня призвал к себе государь Димитрий Иванович!
— Имя «царя» и гнев странного проезжего поразили казака. Выпучив глаза, он почтительно смотрел на Филарета, потом крикнул кучеру:
Езжай!
Но испытания Филарета на этом не завершились. Что ни переулок — то разъезд, что ни улочка — то «таможня», и Филарет понемногу привык к бесцеремонности дорожного досмотра. Эта бесцеремонность означала лишь, что у тушинского царька была верные слуги.
До Филарета дошло немало слухов и легенд о свирепой подозрительности Тушинского вора. Очевидно, он извлёк уроки из ошибок своего предшественника. Самоуверенностью и наглостью он намного превзошёл первого Лжедимитрия.
До чего же быстро люди холопского звания улавливают настрой своего господина и с собачьей преданностью следуют малейшей его указке! Позже это стали называть порчей нравственности. Келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын, оставивший свои воспоминания о тех трагических днях, писал: «Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, умирая за тех, которые обходились с ними как с рабами. Добрый, верный царю воин, взятый в плен ляхами, иногда находил в них жалость и самое уважение к его верности, но изменники... всех твёрдых в добродетели предавали жестокой смерти».
В эту свою поездку в Тушино и в более позднее время Филарет на раз убеждался в том, что у людей всех сословий без исключения понемногу исчезало сдерживающее нравственное начало, веками выработанное поколениями русских православных людей.
Въехав в Тушино, Филарет стал свидетелем одной сцены. Многое в жизни Москвы и Тушина определялось поведением перелётов, которые ездили туда-обратно с выгодой для себя. Двое таких перелётов, знавших друг друга прежде, встретились возле «таможни». Худородный с виду мужичок спрашивал у мастерового в фартуке:
— Ты как здесь?
— Что как?
— Так ты али не перелёт?
— А ты что за допросчик? А ну поворачивай назад!
И вдруг мастеровой повелительно добавил:
— Гривну[32] выкладывай, хохол! Ныне даром лишь зуботычину можно получить.
— Ловок ты, москаль, ни за что гроши тянуть.
— А вот я тебе покажу, за что.
Хохол вскипел:
— Вижу, разжирел ты на дармовых харчах. На тебе, видно, и креста нет.
Москаль внимательно вгляделся в лицо спорщика. Кучер, однако, не стал дожидаться, пока москаль с хохлом разберутся между собой, и самовольно миновал заставу: его никто не остановил. Вскоре они выехали на прямую улицу с деревянными тротуарами и остановились возле «царского» дворца.
Патриаршие палаты, куда привели Филарета, были только что построены. Это было непривычное для глаз Филарета странное сооружение с башенками, чем-то напоминающее готические строения, виденные им в Литве.
Встретил его священник в длинной чёрной рясе и провёл в покои. Первое, что поразило Филарета, — это распятие на стене, привезённое, видно, из Литвы. У него застучало в висках, побежали смятенные мысли. «Велят крестить народ в новую веру? Или я уже не русский митрополит?»
Через несколько минут Филарет был облачен в саккос[33]. Он не был похож на саккос, какой Филарет видел на патриархе Гермогене. Он был сшит из не виданного им ранее аксамита[34]. Золотые нити причудливо сплетались в разнообразные цветы и окаймлялись красным контуром. Филарета, чувствительного к роскоши и драгоценным каменьям, особенно поразило великолепие саккоса. Вмиг отошли пережитые им огорчения. Он не чувствовал тяжести одежды, хотя саккос весил около пуда. Между тем священники подали ему куколь, на котором были вышиты виды Иерусалима. Куколь был также украшен сапфирами и шит жемчугом с золотыми и серебряными нитями.
— Изволь, ваше святейшество, пожаловать к государю!
Когда Филарета ввели к «государю», он уже успел освоиться с новым саном. Взгляд его больших тёмных глаз был спокойным и немного печальным. Что чувствовал Филарет, облечённый высшим духовным саном? Сбылась его потаённая мечта. Испытывал ли он гордость или унижение, что получил святительский сан из рук вора?
Лжедимитрий II восседал на «домашнем» троне Ивана Грозного из Александровской слободы. Был он грузен и, очевидно, старше своего предшественника, но выглядел моложаво. Большие чёрные глаза выражали волю и хитрость. На тёмных курчавых волосах была надета замысловатая шапка, чем-то напоминавшая домашний убор Ивана Грозного, но белое страусиное перо придавало ей экзотический вид. Это впечатление усиливала крупная золотая серьга в ухе.
Филарет слегка поклонился. Самозванец милостиво указал на покрытую цветным расшитым бархатом скамью возле трона.
В эту минуту вошла «царица», в которой Филарет узнал Марину Мнишек. Она мало изменилась, но была одета менее пышно, чем прежде. На ней было нарядное французское платье, на голове — корона. Увидев в её руках икону святого Леонтия, Филарет смутился. Икона была украдена из разграбленного ростовского храма.
— Благослови, отче патриарх, свою царицу сим святым образом!
Филарет ещё более смутился, но постарался скрыть свои чувства. Взяв из рук «царицы» икону, он благословил её и передал образ стоявшему рядом священнику. Марина, казалось, ожидала от Филарета ещё чего-то, но самозванец посмотрел на неё, и она вышла.
— Чаем найти в тебе, ваше святейшество, горячего молитвенника за нашу государственную силу и моць, — произнёс «Димитрий».
Он, очевидно, не заметил, что оговорился, произнеся вместо русского слова «мощь» польское «моць». Слова самозванца помогли Филарету обрести уверенность. Отныне он будет вершить свою волю как патриарх. Он сказал:
— Святые апостолы не заповедовали нам подчинения Божественного начала земной власти, но заповедовали удерживать мир от разлития зла, дабы не пришло время воцарения Антихриста. Божий слуга есть отмститель делающему зло.
Самозванец согласно наклонил голову, ибо в его планы входило воздавать должное величию патриарха. Тушинский «царёк» решил исправить самую большую ошибку своего предшественника. Внешне новый «Димитрий» хотел казаться ревностным блюстителем православной веры. Марина, тоже вспомнив о своём первом муже, уже не гнушалась обрядами православия и, забыв, что в своё время венчалась под пятницу на вешнего Николу, ныне молилась в православных соборах. Она приняла от Сапеги украденную икону святого Леонтия как величайшую святыню.
— Знаю, — продолжал самозванец, — твою нужду, отче патриарх. Годунов лишил тебя и весь твой род законного достояния, нажитого прародителями. Мы вдвое вернём тебе похищенное тем волком. И злато, и дорогие одежды, и утварь возвратятся в твои сундуки. Мы вознаградим тебя за твои беды.
Сердце Филарета радостно забилось. Известно, что чувствительность к мелочам жизни и бесчувственность к вечным ценностям в бедственное время овладевают душами людей, словно моровая язва. То, о чём говорил самозванец, казалось Филарету законной правдой.
— Но прежде тебе надлежит наказать крамольников духовного сана, — говорил самозванец, ощущая себя великим благодетелем Филарета.
В лице «Димитрия» появилось что-то свирепое, предвкушающее задуманную им казнь, и выражение лица стало столь гнусным, что Филарет невольно отвернулся.
Он знал, о каких крамольниках говорит самозванец. В это тяжёлое время участь большинства священников была трагической. Были обречены на гибель: суздальский архиепископ Галактион, коломенский святитель Иосиф и псковский святитель Геннадий.
— Теперь, — продолжал самозванец, — предашь церковному проклятию всех еретиков и мятежников духовного сана.
— Государь, ныне время не проклятий, но благословений.
Лжедимитрий помрачнел: он не ожидал от Филарета сопротивления своим словам.
— Мой родитель, царь Иван Васильевич, был крепок в святой вере и нам завещал высокое служение. Когда будешь служить литургию, не поминай во здравие коломенского святителя Иосифа, архиепископа суздальского Галактиона, святителя псковского Геннадия, не вели служить заупокойную службу по убиенному Феоктисту.
— Государь, — тихо начал Филарет, — сии лица священного сана ныне предстали перед Богом, и людям завещано Богом почитать, яко святыню, принявших мученическую смерть.
— Филарет, или пристало славить мятежников как принявших мученический венец? Или тебе неведомо, сколько невинных душ погубили сии христопродавцы? Анафема им, анафема! Или ты забыл о злых деяниях епископа тверского Феоктиста, когда он собрал духовных лиц, детей боярских и посадских людей и сам встал во главе мятежа?!
Филарет молчал, опустив голову. Тушинский вор понял это так, будто Филарет винится. Мог ли он допустить даже мысль, что назначенный им патриарх не исполнит его повелений! На всякий случай он решил укорить Филарета оплошкой, но не прямо, а намёком:
— Сказывают, ростовский владыка, прибыл ты к государю не своей волей.
— Так было угодно твоей милости, — уклончиво ответил Филарет.
— Ну да ладно... То наша вина: мои люди не предуведомили, какие почести тебя ожидают. Твои седые волосы увенчает золотая святительская корона. Ныне отпразднуем посвящение в патриархи.
Вор знал по себе, что несчастья обостряют честолюбивые побуждения людей, и уверенно играл на слабых струнах Филарета. Он произносил длинные тирады, дабы походить на первого «Димитрия». Многие его высказывания были некстати и невпопад, и Филарет подумал, что наделённый величайшим хитроумием «государь» был человеком недалёкого ума.
Снова вошла Марина.
— Государь, я велела затопить баню для нашего патриарха, — произнесла она, избегая смотреть на Филарета.
Он почувствовал, как и в прежние годы, что не угоден этой гордой полячке, однако она искусно скрывала своё нерасположение к нему. Тон её был самым любезным, когда она, обернувшись к нему, сказала:
— О, как кстати ваш приезд! О вашем святейшестве у нас было много разговоров.
Её притворство было таким изысканным, что Филарет ощутил, как от её слов немного потеплело у него на душе, Марина продолжала говорить Филарету что-то приятное и, казалось, забыла о своём супруге.
В это время «Димитрий», привыкший, чтобы кто-то зажигал ему папиросу, нервно вертел её в руках и кривил тонкие губы, время от времени поглядывая то на Марину, то на Филарета. Возможно, он опасался, как бы его «государыня» не сказала чего-нибудь лишнего.
Марина поднесла огонь к его папиросе. Втянув в себя дым, самозванец успокоился и начал надменно-презрительно высказываться о татарах, что служили в его войске. Марина слушала его с сочувствием и тоже кривила губы.
Филарет подумал, что эту пару подобрал, видимо, сам дьявол — так они подходили друг другу. Словно забыв о Филарете, они заговорили о делах, и можно было понять, что Марина была в курсе всех событий. Обоих беспокоила смута, мятежи и волнения, нараставшие в понизовых сёлах и городах, «государь» не мог скрыть своего раздражения против «смутьянов». Было ясно, что досаждали ему не только воеводы, вызывающие смуту излишними поборами, но и сами «смутьяны», которые донимали государя своими челобитными.
— Ваше святейшество, помоги нам найти управу на подданных, дабы не чинили беспорядки.
— На кого именно? — спросил Филарет.
— Имя им легион. Не успеваю читать челобитные.
— И что в тех челобитных?
— Изволь, ваше святейшество, сам взглянуть.
Филарет стал читать первую поданную ему самозванцем челобитную: «Царю-государю и великому князю всея Руси Димитрию Ивановичу бьют челом и кланяются сироты твои государевы, бедные, ограбленные и погорелые крестьянишки. Погибли мы, разорены от твоих ратных воинских людей. Лошади, коровы и всякая животина побранна, а сами жжены и мучены, дворишки наши все выжжены, а что было хлебца ржаного, и то сгорело, а остальной хлеб твои загонные люди вымолотили и развезли. Мы, сироты твои, теперь скитаемся между дворов, пить и есть нечего, помираем с женишками голодною смертью, да на нас же просят твои сотные деньги и панский корм, стоим в деньгах на правеже, а денег нам взять негде».
Филарет отложил в сторону челобитную и сказал:
— Ты бы, государь, учинил сыск на этих ратных людей.
— Да разве найдёшь управу на казаков? — удивился самозванец.
— Вижу, что свои хуже поляков. Бога, видно, забыли.
— «Забыли Бога...» Вот и мы також думаем и надежды многие на тебя возлагаем.
— Да много ли может один человек, хотя бы и патриарх?
— Много, Филарет, много. Для начала составь патриаршую грамоту, а мы разошлём её по твоему патриаршеству.
Речь шла о том, чтобы довести слово патриарха Филарета до тех областей, которые признавали самозванца. Большинство же уездов и волостей были в духовной власти патриарха Гермогена.
В первых патриарших грамотах Филарета говорилось об освящении церквей, о церковной службе, о чтении проповедей и молитвенном служении Богу. Но Филарет понимал, что этого недостаточно, ибо крестьяне, замученные поборами, оставались равнодушными к церкви и хладнокровно смотрели на осквернение церквей, на поругание священнического сана. Зная об этом, Филарет пытался убедить «царя» облегчить положение крестьян.
— Государь! — приступил он к нему. — Отмени безбожные поборы с крестьян и неправый правёж.
До него дошло немало случаев о жестокой расправе с людьми во время так называемых правежей. Правёж — это взыскание денег с истязанием человека. Взыскание зачастую было неправедным. А не отдаст человек денег, которых у него нет, — забивают до смерти. Этим истязаниям подвергали только бедных. Сохранилась поговорка тех времён: «Что с богатым делать станешь? На правёж не поставишь».
Слова Филарета не понравились самозванцу.
— Ты, Филарет, правь дела духовные, в мирские — не мешайся.
Филарет умолк, и разговор перешёл на другое. Самозванца больше беспокоили воеводы и казаки, которые своими злодействами вредили успеху его дела. До Тушина дошли слухи о восстании в разных местах. Не помогла и помощь известного своей жестокостью польского полковника Лисовского.
Неожиданно вошёл дворецкий с донесением о мятеже, который учинили татары.
Самозванец зло дёрнулся и приказал вызвать к нему начальника татарской стражи князя Урусова. Тот не замедлил явиться — молодцеватый, подтянутый. Филарета поразил его небрежный поклон «Димитрию». В эту минуту он почувствовал себя лишним и, почтительно поклонившись, вышел. От бани он отказался, сославшись на усталость, и поспешил в свои покои. Ему хотелось одиночества. Он подошёл к окну и долго стоял, удручённый видом унылых домов с пустыми окнами. Иные были заткнуты тряпьём, палками, и не поймёшь, есть ли там люди или нет. Пустота, тишина и всё это недалеко от «царского дворца». Приближалась осень, а за ней зима, холод и голод. И никакой надежды. Пришли на память слова: «Ваше время и власть тьмы».
Долго ли сие продлится? Вспоминая разговор с Тушинским вором, Филарет отметил про себя, что в нём появилось беспокойство. Беспрерывно курит, так что весь угол стола, за которым сидел, усыпан пеплом. Пепел и на каменных плитах пола. Отчего «Димитрий» не снимает шапку? Случайно сдвинул её набекрень, и в густых чёрных волосах заблестели седые волосы. Зачем-то сказал князю Урусову: «Смерти я не боюсь, она не застанет меня врасплох». Хитрый татарин Урусов кольнул его:
— Государь чем-то встревожен?
— Никак. Во все дни моей жизни уповаю на Господа.
Филарет представил себе князя Урусова, его небрежный поклон и странное выражение глаз в разговоре с «Димитрием». Перед сном впервые пришла отчётливая мысль: «Ты связал свою жизнь с человеком, который кровавой жестокостью превзошёл Григория Отрепьева...» Но тут же он утешительно подумал: «Но и его жизнь тоже висит на волоске...»
ГЛАВА 55 НЕВОЛЬНЫЙ КРАМОЛЬНИК
Зима 1608-1609 годов была на редкость тяжёлой для царя Василия. Он видел, что в то время как у него были проблемы с войском, в тушинский лагерь люди всё прибывали и прибывали и войско самозванца росло, словно питаемое неиссякаемым источником. Как сообщают современники, в Тушине было 10 тысяч польской конницы, 2 тысячи польской пехоты, свыше 25 тысяч казаков, а также множество воровских шаек, которых опасались даже поляки. Но самозванец не умел воспользоваться своим преимуществом и ради надежд на будущее упускал возможности, сами шедшие в руки.
Казалось, Москву можно было взять одним ударом, но «Димитрий» медлил, ждал от бояр заговора, видимо, обещанного ему. Как и первый самозванец, он хотел воспользоваться плодами крамолы. Как и Григорий Отрепьев, он медлил войти в Москву, пока сидевшего там царя не убрали с престола. Плохо ли прийти на всё готовенькое? Говорили, что когда поляки предложили ему взять Москву приступом, он возразил: «Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? Если сожжёте мою казну, то чем же будет мне награждать вас?» Скорее всего, у него не было надежды взять Москву с боя, отсюда и большая уверенность в крамоле и измене боярской. Он терпеливо ждал смерти Василия Шуйского, не сомневаясь в ней.
Казалось, ждать самозванцу оставалось немного. Москва была в осаде. Все трудности этого тяжёлого времени легли на плечи небогатой части населения, которая больше других пострадала в смуте. Среди москвитян постепенно поднимался ропот возмущения. С неудачным царствованием Василия они связывали все тяготы, выпавшие на их долю.
Однако подготовленная боярами попытка руками народа свергнуть Василия Шуйского с престола не удалась. Москвитяне видели силу его духа, твёрдость, уверенность в собственных действиях, «вся Москва как бы снова избрала Шуйского в государи», писал Н.М. Карамзин.
В тушинском лагере тоже было неспокойно. К весне 1608 года до мятежников дошли слухи о победах, одержанных князем Михаилом Скопиным-Шуйским, который шёл на помощь Москве с севера, и о продвижении с юга России хорошо вооружённого и подготовленного отряда Фёдора Шереметева. В конце года оба войска встретились. Победы Скопина и Шереметева воодушевили народ: казалось, удача снова повернулась лицом к несчастному царю.
Но в это время в судьбу русского государства вмешался Сигизмунд Польский. Напрасно пан Мнишек, спешно покинувший Тушино, и его сторонники твердили королю о необходимости помощи «Димитрию» войском. У Сигизмунда была иная цель — сесть на престол Рюриковичей. Эта цель совпадала с желанием многих князей и бояр, мечтавших о падении Шуйского и об избрании нового царя, может быть, представителя Польши.
Осенью 1609 года польское войско двинулось к границам Руси. В это время удача решительно отвернулась от Лжедимитрия. Против него начали восставать города, прежде ему верные. Одновременно его и преданных ему поляков встревожила весть о выступлении польского войска. Королевские послы, прибывшие в Тушино, объявили волю короля: Сигизмунд поднимает меч на Шуйского и зовёт всех приверженных ему под свои знамёна, обещая большое жалованье и награды.
Второй самозванец, в отличие от первого, не был беспечным, но теперь он был вынужден ожидать решения своей судьбы от бывших своих соратников, сносить их презрение и наглость. Русские вельможи, жившие в Тушине, одобрительно относились к планам Сигизмунда занять московский престол. «Среди этих «крамольников»,— пишет Н.М. Карамзин, — присутствовал и Филарет, невольный и безгласный участник».
В Тушине Филарет мог, не опасаясь преследований, обвинять царя Василия во всех бедах. Он не уставал корить Василия за то, что тот не умел водворить мир между подданными, хотя бы подобный тому, что установился в Тушине. Хорошо зная историю, Филарет любил к случаю повторять слова древних авторов. Отправляя в Москву священника, он сказал ему:
— Передай царю: «Лучше и надёжнее мир, чем ожидаемая им победа».
Филарет так привык быть в оппозиции к царю Василию, что не замечал собственного лукавства. На самом деле Василий вместе с патриархом Гермогеном неоднократно писали грамоты мятежникам, призывая их к согласию. Царь прощал князьям и боярам их измены, прощал коварство «блудных сынов», награждал «перелётов», вернувшихся в Москву из тушинского стана.
Самозванец одобрял действия Филарета и радовался, что нашёл в нём деятельного помощника. В это время, как известно, в Тушино съехалось много родственников и друзей Филарета. Они нередко встречались за трапезой, беседовали и принимали нужные решения. Особенно часто Филарету случалось обсуждать дела с родственником жены, старицы Марфы, Михаилом Глебовичем Салтыковым.
В тот день Михаил Глебович вошёл особенно радостный и возбуждённый. Его одутловатое пучеглазое лицо сияло нетерпением начать беседу.
— Челом бью, брательник.
— Буди и ты здрав, Михаил Глебович.
Салтыков выложил кучу новостей и с особым удовольствием хулил царя Василия. Доставалось и Гермогену. Но Филарет всякий раз перебивал его, чувствуя свою вину перед законным патриархом. Он был смущён в душе, что, наречённый в Тушине патриархом, он выступал как бы в роли самозванца. Видя, как Филарет остерегает его от хулы на Гермогена, Салтыков был недалёк от догадки о причине столь попечительного отношения своего родича к московскому патриарху.
— Прошу тебя, Глебович, — настоятельно произнёс Филарет, — не говори дурно о Гермогене.
Салтыков недовольно уставился на него светлыми выпуклыми глазами.
— Молчи, Филарет. У нас с тобой один враг — царь Василий, и пока Гермоген остаётся патриархом, он будет поддерживать Василия. Ныне не пришло ещё наше время, но духовным владыкой на Руси должен быть ты, Филарет.
В Салтыкове кипела злая энергия. Ему было всё равно, на кого опираться — на поляков ли, на самозванца ли, лишь бы ославить именитые княжеские и боярские роды и утвердить силу своей фамилии. Впоследствии он неоднократно добился у Сигизмунда особых привилегий для себя перед другими боярами. Сила этого нетерпения — привести к власти свой род — была такова, что во время смуты в Москве он поджёг собственное подворье, чтобы сильнее пылал огонь, охвативший деревянную Москву.
Салтыков долго колебался, как сказать Филарету, не вызвав его гнева, что он с сыном Иваном и боярами решили отправить грамоту Сигизмунду. Михаил Глебович начал с того, что в грамоте к королю особо будет оговорено требование о неприкосновенности православной веры.
Но Филарет на удивление спокойно ответил:
— И как ты думал такое великое дело постановить и утвердить?
— Как твоей милости угодно, так и надумаем. Веру нашу греческого закона в обиду не дадим. Сигизмунд нам первая подмога, дабы разорить и искоренить до основания царя Василия с братией.
Самозванец, как замечалось многими, вёл себя нерешительно, с ним перестали считаться. Тушинские поляки называли его мошенником, срывали на нём свои неудачи. Войско было недовольно тем, что ему задолжали жалованье. Самозванец решил уйти из Тушина с преданными ему донскими казаками, но польский гетман Рожинский вернул его назад в Тушино, где обстановка ухудшалась с каждым днём. В Тушине готовился мятеж, и «Димитрию» ничего не оставалось, как, переодевшись в крестьянское платье, 29 декабря 1609 года бежать в Калугу. Вскоре туда за ним последовала и Марина. Бывшая «властительница народов», она не захотела как жалкая изгнанница и простая дворянка вернуться в родительский дом.
...После этих событий русские тушинцы, в их числе и Филарет, вступили в соглашение с польскими комиссарами. Готовность Сигизмунда взять тушинцев под своё покровительство была воспринята ими как величайшее благо. Собравшиеся в круг тушинцы с восторгом выслушали речь польского посла Стадницкого и поцеловали подпись польского короля на грамоте, удостоверяющей «го покровительство. Было решено послать ответную грамоту Сигизмунду, чтобы от имени всех людей духовного и светского чина просить его королевское величество и его потомство на русский престол. Поставлено было лишь одно условие — неприкосновенность православной веры.
Вот текст грамоты, к которой приложил руку и наречённый патриарх Филарет: «Мы, Филарет, патриарх Московский и всея Руси, и архиепископы, и весь священный собор, слыша его королевского величества о святой нашей православной вере радение и о христианском освобождении подвиг, Бога молим и челом бьём. А мы, бояре, окольничие и другие, его королевской милости челом бьём и его потомство милостивыми государями видеть хотим; только этого вскоре нам, духовного и светского чина людям, которые здесь в таборах, постановить и утвердить нельзя без совета его милости пана гетмана, всего рыцарства и без совета Московского государства из городов всяких людей, а как такое великое дело постановим и утвердим, то мы его королевской милости дадим знать».
Послами к польскому королю для окончательных переговоров были отправлены сторонники первого Лжедимитрия: князья Рубец-Мосальский и Юрий Хворостинин, воевода Лев Плещеев, окольничий Никита Вельяминов, дьяки Грамотин, Витвотов, Юрьев и другие. Среди послов были и такие низкие люди, как Михайла Молчанов, Тимофей Грязной, Фёдор Андронов.
Чем же объяснить причастность Филарета к составлению грамоты, столь желанной для многих сомнительных людей?
В эти судьбоносные дни Филарет, подобно большинству русичей, очутился перед выбором. Кого видеть на русском престоле: бежавшего в Калугу Тушинского вора, Шуйского и его братьев, польского короля Сигизмунда?
Русские тушинцы были единодушны, вступив в конфедерацию с польскими тушинцами, они обязались целовать крест Сигизмунду и при этом не оставлять друг друга, держаться вместе.
Многие поступки Филарета как в эти переломные дни, так и позже убеждают в том, что это был человек, который действовал «по ситуации» и согласно принципу «Кошка против силы не пойдёт». Недаром впоследствии его назвали «московским Ришелье». Человек чести и немалых духовных возможностей, он в сложных положениях руководствовался исключительно соображениями дипломатии и личной выгоды. О его службе царю Василию Шуйскому не могло быть и речи, ибо Филарет не терял надежды увидеть на престоле собственного сына. Он и к Тушинскому вору пристал, рассчитывая, что тот раскачает трон под Шуйским.
Почему Сигизмунд был для Филарета предпочтительнее Шуйского? В грамоте к польскому королю явно чувствуется нерешительность, желание оттянуть окончательное решение, посмотреть, как пойдут события дальше («...только этого вскоре нам... утвердить нельзя», «...как такое великое дело постановим... дадим знать»).
Составлял эту грамоту, судя по всему, Филарет: чувствуется его уклончивая манера, его воля, ибо себя он объявляет не наречённым в Тушино патриархом, а патриархом Московским и всея Руси, что не соответствовало реальному положению вещей и было недостойно по отношению к Гермогену, здравствующему патриарху, который был против призвания на русский трон польского короля. Более того, Филарет состоял в дружеских отношениях с предателем русских интересов, одним из главных заводчиков смуты боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым.
Но кто может сказать, что было в душе Филарета?
Дальнейшие события показали, что он порвал дружеские отношения с Салтыковым и почитал память Гермогена. Тогда же, перед лицом польской опасности, он, очевидно, совершал какое-то насилие над своей совестью.
Видимо, Филарет принадлежал к числу тех людей, которые предпочитают действие сомнениям, уверены в своей правоте. Такие люди во всём видят промысел Божий. В Священном Писании есть слова: «Со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему разумению». Филарет ставил своего рода знак равенства между спасением из житейского плена и спасением души. Это укрепляло его шаги на дипломатическом поприще, помогало сломить чужую волю ради собственных целей, которые он считал высокими.
ГЛАВА 56 СУДЬБОНОСНЫЕ ДНИ
Филарет не мог не видеть лукавства поляков, обещавших сохранить в русском государстве православную веру. Всем было ведомо, что именно волей Сигизмунда была введена уния в западных областях. Что же касается обещания дать на престол сына Владислава, то это имя было лишь прикрытием откровенного желания Сигизмунда завладеть русским престолом. Почему он не прислал русским тушинцам свою грамоту? Филарету ничего не оставалось, как вместе с тушинцами демонстрировать свою обиду.
Однако большинство послов не думали о своих обидах, мнимых или реальных, а спешили встретиться с Сигизмундом. Месяц спустя делегация самозваных послов предстала перед польским королём. Речь держал всё тот же Салтыков, а закончили выступление его сын Иван и дьяк Грамотин.
— Бьём тебе челом от наречённого патриарха Филарета и от имени всего духовенства и благодарим за старание водворить мир в Москве, — низко кланяясь Сигизмунду, сказал Иван Салтыков.
Затем выступил дьяк Грамотин, прославившийся своей беспринципной дипломатией, и от «имени Думы, двора и всех людей» объявил, хотя никто в Думе его на это не уполномочивал:
— Венец Мономахов хотели бы мы передать королевичу Владиславу, и этим впоследствии две державы будут объединены под одной короной. Шуйский — беззаконный царь, а Руси нужен царь законный, а не наместник. Мы сами свергнем, истребим Шуйского как жертву, уже давно обречённую на гибель. Вся Россия встретит царя вожделенного с радостью, патриарх и духовенство благословят его усердно. Но Владислав должен венчаться на царство в Москве от русского патриарха, по старому обычаю; святая вера греческого закона должна остаться неприкосновенной.
Сигизмунд согласился на это условие, но добавил, что венчание произойдёт после водворения в стране полного порядка, и вынудил русских тушинцев пойти на эту уступку. Каждый из них принёс присягу: «Пока Бог нам даст Владислава на Московское государство, буду служить, и прямить, и добра хотеть его государеву отцу, нынешнему наияснейшему королю польскому и великому князю литовскому Жигимонту Ивановичу».
Неужели Салтыков, Рубец-Мосальский, Хворостинин и другие послы действительно надеялись, что Владиславу позволят принять православие? Ведь всего лишь год назад Сигизмунд нанёс жестокий удар по православному Виленскому братству, когда православных людей обвинили и в мятеже, и в оскорблении королевского величества и подвергли суду. Большая же часть православных церквей была передана униатам.
...Начало 1610 года — это период блестящих побед князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. 12 января была снята осада Троице-Сергиевой лавры, продолжавшаяся шестнадцать месяцев. Под Димитровой князь в союзе со шведами наголову разбил войско Сапеги и тем снял осаду Москвы. Скопин был совсем ещё молодой человек, его воинские таланты обнаружились рано, и имя его как талантливого полководца было широко известно.
Получив в восемнадцатилетнем возрасте при первом Лжедимитрии звание «великого мечника», позже, при царе Василии, он мужественно боролся против врагов отечества. Неудивительно, что для каждого патриота имя князя Скопина стало символом надежды на ближайшее избавление, с ним связывали веру в возрождение Руси, в её грядущую славу.
12 марта князя Скопина торжественно, как истинного победителя-освободителя, принимали в Москве. Звонили колокола всех московских церквей. У городских ворот его встретили хлебом-солью вельможи, а простые люди падали перед ним на колени.
Царь Василий с радостными слезами на глазах приветствовал племянника. После торжественного приёма воевода Скопин был приглашён на знатный пир. Не только царь, но и все вельможи, «славные мужи, велики мнящиеся пред Богом и людьми, богатством кипящие», желали видеть освободителя Москвы на своих пирах. Юного князя Михаила сравнивали с Давидом, ибо был он непобедим, велик ростом и красив. Как говорили современники, «сиял Божественной красотой» и был «выше всех сынов человеческих». Участие в пирах тяготило его. Он думал не о празднествах по случаю победы. Предстояло очистить державу от шаек самозванца и отбросить польские войска за её пределы, пока положение Сигизмунда было не блестящим, пока держался Смоленск и отчаянно сражались против иноземцев и их прислужников города Северной Украины.
Кто бы мог тогда подумать, что московское гостеприимство может таить в себе коварство и день 23 апреля будет роковым для воеводы, ставшего надеждой Руси? На крестинах у князя Ивана Воротынского воевода Скопин-Шуйский занемог и через две недели скончался. Что было причиной его смерти? Молва утверждала, что дочь Малюты Скуратова, княгиня Екатерина Григорьевна, супруга царского брата Дмитрия Шуйского, поднесла знатному гостю чашу с отравным зельем и будто бы она учинила сие злодейство, научаемая супругом, завидовавшим блестящим успехам племянника.
Однако очевиднее всего, что это был слух, пущенный врагами Василия, дабы навредить ему. Какой патриот станет желать смерти спасителю отечества! Князь Дмитрий Шуйский мог завидовать славе своего племянника, ибо сам он был бездарным полководцем, но злодеем он не был. Злодеев следует искать среди тех, кому было нужно убрать князя Скопина-Шуйского.
То было время, когда бессильные посягательства на трон царя Василия лишь усиливали злобу врагов русского государства. Поддержка многими боярами Тушинского вора, злобные высказывания боярина Михаила Салтыкова, сатанинское упорство, с каким он хлопотал, чтобы на русском троне был польский король Сигизмунд, ненависть, с какой он и его соратники преследовали патриарха Гермогена, хотя на словах они радели о православии, — всё это даёт основание думать, что заговор против державы и её царя Василия родился в Кремле, в самом сердце Москвы.
Сохранилось и письмо одного знатного поляка, в котором говорится о необходимости убрать князя Михаила. Об этом было известно и королю Сигизмунду.
Надо ли сомневаться, сколь уверенной была надежда поляков на успех заговора, если и сами бояре мечтали о владычестве польского короля? Вопрос в другом: почему царь Василий, зная о коварстве своих врагов, задержал воеводу Скопина в Москве? Или не знал, «сколь лихи в Москве звери лютые, пышут они ядом змеиным, изменническим», как написано в народной повести тех лет о смерти прославленного воеводы?!
Царю Василию казалось, что он всё разумно предусмотрел. Во-первых, необходимо было дать отдых и князю Михаилу, и его войску, утомлённому бесчисленными сражениями. Во-вторых, здравицы гостей-вельмож в честь героя могли способствовать их сближению с царём.
На мысли у царя Василия было ещё одно — смягчить недоброе, завистливое чувство брата Дмитрия к племяннику-герою. Ради этого и задумано было, чтобы жена Дмитрия, Екатерина Григорьевна, была кумой на крестинах сына-младенца князя Воротынского, а князь Михаил Скопин — кумом. Вот и дал царь Василий своим врагам сюжетную канву, на которой они могли расшивать любые небылицы.
Но, как говорится, человек полагает, а Бог располагает, и люди, верившие в Провидение, не знали, что подумать. Келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын писал впоследствии: «Не знаем, как сказать, Божий ли суд постиг его (воеводу Скопина), или умысел злых людей свершился?» Божий суд постиг всех русских людей, и первым пал именно воевода Скопин, потому что он был главной судьбоносной надеждой государства, той силой, на которой всё держалось.
Смерть молодого князя-воеводы была действительно трагическим ударом для всех россиян. Наступило время тяжёлых поражений для царя Василия. Все видели, что он стар и без Скопина ему не одолеть врагов. Общему упадку духа в те дни способствовали удачи самозванца. Тушинский вор встал в селе Коломенском, под стенами Москвы, лишая её подвоза продовольствия.
Василий Шуйский ждал своего жребия. Он устал, ибо видел, как бедственное положение страны ковало измену. Его надежды на примирение враждующих сторон не сбылись. Прокопий Ляпунов поднял восстание в Рязани, раскачивая тем смуту и усиливая недовольство царём Василием. Некоторые города начали отделяться от Москвы. Ляпунов посылал верных людей возмущать города, которые сохраняли верность царю, и требовал свержения царя Василия Шуйского, с издёвкой называя его «шубником».
Что оставалось Шуйскому?
Надежды на брата Дмитрия были плохи. Незадачливый полководец, он тщился заменить покойного Скопина, но его войско, обременённое тяжёлым обозом, было разбито гетманом Жолкевским. Шведы под водительством Делагарди, видя беспомощность князя, покинули место военных действий. Дмитрий Шуйский постыдно бежал в Москву.
Одно оставалось несчастному Василию Шуйскому — полагаться на Бога. Он, однако, не терял надежды собрать новое войско и ради этого пожертвовал в царскую казну, опустошённую самозванцем и длительной смутой, фамильные драгоценности Шуйских. Но уже мало кто верил в спасение Руси.
Единственным человеком, который поддерживал царя, был мужественный патриарх, святейший Гермоген. Но напрасно он призывал людей: «Измена царю есть злодейство и ещё глубже погрузит Россию в бездну ужасов». 17 июля 1610 года решением Боярской думы Василий Шуйский был свергнут и спустя несколько дней насильственно пострижен, и хотя патриарх Гермоген говорил, что он сорвёт с царя эти «ряски», сила была на стороне неправды.
Царь Василий ещё пытался перед обрядом пострижения образумить своих безгласных подданных, взывая к ним: «Вы любили меня!» Но присутствующие опускали глаза, не пытаясь хотя бы словом поддержать своего государя.
Для страны, раздираемой многолетней междоусобной войной и польской интервенцией, наступила более тяжёлая пора — междуцарствие. В грамотах, которые Боярская дума разослала по городам уже 20 июля, было сказано: «Видя междоусобие между православными христианами, польские и литовские люди пришли в землю Московского государства и многую кровь пролили, церкви и монастыри разорили, святыне поругались и хотят православную веру в латинство превратить; польский король стоит под Смоленском, гетман Жолкевский в Можайске, а Вор в Коломенском. Кровь христианская междоусобная льётся многое время, встал отец на сына и сын на отца, друг на друга. Били челом государю всею землёю, чтоб он государство оставил для междоусобные брани. И государь государство оставил, а мы целовали крест на том, что нам всем против воров стоять всем государством заодно и Вора на государство не хотеть. И вам бы всем, всяким людям, стоять с нами вместе заодно и быть в соединенье, чтобы наша православная христианская вера не разорилась и матери бы наши, жёны и дети в латинской вере не были».
Перед народом, измученным тяготами смутного времени, встал вопрос: что делать? Кого избрать на трон Рюриковичей? Патриарх Гермоген и его сторонники всеми силами противились избранию государем польского королевича и настаивали на избрании православного царя: Василия Голицына или Михаила Романова.
Сложные чувства, полные надежд и опасений, овладели Филаретом, когда он узнал о намерении Гермогена передать венец Мономаха его любимому, но столь юному ещё сыну. Близилось исполнение того, о чём Филарет втайне мечтал долгие годы и что, казалось, было особенно близко, когда умирал царь Фёдор.
Михаил был полной противоположностью своих родителей, людей с властолюбивыми характерами. Суровая опала, которой подверглись все Романовы во время правления Годунова, пришлась на то время, когда ему не исполнилось и пяти лет. Долгое время провёл он вдали от родителей, что наложило на него, тихого, нерешительного и робкого мальчика, особый отпечаток. Впоследствии он попал под сильное влияние матери, женщины крутой, честолюбивой и гордой. Марфа Ивановна души не чаяла в своём единственном сыне, но любовь её была деспотической. В покорности и страхе перед собой вырастила инокиня Марфа своего сына.
Хотя Филарет в последние годы редко встречался с сыном, он понимал, что Михаил слишком легко подчиняется чужой воле. Да и что видел он в жизни, кроме материнской кельи? Вынесет ли он бремя правления, этот тяжёлый крест, эту непосильную для его слабых плеч ношу? И хотя неуёмное честолюбие Филарета простиралось до почти невозможного желания получить сан патриарха для себя — из рук законного даря — и шапку Мономаха для сына, рассудок и сердце говорили ему: «Ваше время ещё не пришло!»
Да и трагический пример царствования Бориса Годунова и Василия Шуйского были перед глазами. На бояр надежда небольшая — даже верность крестному целованию не соблюдалась. Кто же станет решительно бороться за Михаила, кто будет стоять за ним, ежели его ближайшие родственники потворствуют Сигизмунду и Владиславу?
...Знаменательной в судьбе государства стала встреча патриарха Гермогена с Филаретом в Успенском соборе — в память воинов, погибших при освобождении Москвы воеводой Скопиным-Шуйским от нашествия Тушинского вора с ляхами. Патриарх Гермоген увидел Филарета, склонившегося над гробом святого Петра-митрополита, и, повинуясь неизъяснимому порыву, приблизился к нему. Филарет оглянулся на звук шагов и поклонился Гермогену. Это был случай, невиданный на Руси: патриарх, избранный священным собором, дружески подошёл к патриарху-самозванцу, получившему высший духовный сан из рук главаря мятежников — злейшего врага державы. Филарет был в митрополичьей одежде, и в Москву он приехал без всяких знаков патриаршей власти.
— Так тому должно было случиться, что мы свиделись с тобой, ростовский митрополит.
Филарет снова поклонился. Некоторое время эти два великана — оба были высокого роста — стояли молча, за них говорили взгляды — испытующе-строгие и мягко-доброжелательные одновременно. Снова первым заговорил Гермоген:
— Филарет, ныне мы пребываем в ожидании Божьего суда, и да свершится над нами воля Господня. Данным мне правом разрешения от греха освобождаю тебя от скверны, что вовлекла тебя в мятежные сети. Дьявол недолго искушал тебя. Ныне тебе надлежит растить сына Михаила и готовить его к принятию царского венца. Да смилуется Господь над Русью!
Филарет чувствовал, как дрожат его губы, глаза наполняются слезами. Слова замерли на устах. Ещё никто не говорил с ним так о его сыне. Он опустился на колени перед гробом святого Петра-митрополита и произнёс, подняв глаза на Гермогена:
— Да слышит святой митрополит Пётр мою молитву о твоём здравии! Да будет во всём твоя воля, святитель Гермоген!
А спустя некоторое время они стояли на Лобном месте, ибо пришли туда, повинуясь единому порыву — обуздать мятежную толпу, собравшуюся на площади. Увидев их, толпа загудела, не давая говорить. Гермоген оглядел толпу. Кто-то крикнул:
— Слушайте святейшего!
Раздался громкий, с повелительными интонациями голос Гермогена:
— Братья и сёстры! Благословляю вас встать на защиту православной веры, вижу ей поругание, вижу разорение святых церквей. Вера наших отцов спасала русский народ. Никогда не признаю православных подданными Сигизмунда Польского. Всех призываю стать за веру святую неизменно и за Московское государство. Да не убоимся смерти!
Стоявший рядом с Гермогеном Филарет поклонился ему в знак глубочайшего уважения и обратился к толпе:
— Не прельщайтесь, мне самому подлинно известно королевское злое умышление над Московским государством: хочет он с сыном завладеть им и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить.
Ни у Гермогена, ни у Филарета не было уверенности, что они убедили толпу. В молчании покинули они Лобное место, куда один за другим начали вскакивать смутьяны, которым в те дни была дана большая воля. Площадь огласилась выкриками:
— Повелению боярского даря послушны не будем!
— Не хотим Голицына! С ратного поля бегал и с трона небось убежит!
— Хватит с нас князей! Сами грызутся, а мы терпим!
— Мы боярского царя ляхам головой выдадим!
— А бояр из Москвы выдворим!
— Бояре нам — первые лиходеи!
Постепенно народ начал расходиться.
В тяжёлом раздумье ушёл Филарет с площади. Его одолевали тягостные мысли. Он шёл, не обращая внимания ни на шум толпы, ни на крики прохожих. Тут его окликнули. Оглянувшись, он увидел Михаила Глебовича Салтыкова. Филарет понял, что Салтыков тоже был на площади, слышал его речь-предостережение против Владислава и Сигизмунда.
Отношения между ними осложнились настолько, что боярин Салтыков из прежнего друга Филарета превратился в его недруга. Филарет замечал ещё раньше, как тот стремился к самовольному захвату власти. Это ему удавалось. Недаром на Москве его стали называть «правителем». В упорных думах зрело несогласие Филарета с Салтыковым. Они всё больше отдалялись друг от друга, и этот разлад вылился в их разговоре.
— Ну, здрав буди, Филарет. Что мрачен так? День-то Божий больно хорош. А как сынок твой поживает?
Сердце Филарета бешено заколотилось. Зачем спрашивает о Михаиле? Что ему в нём?
— Чай, сам знаешь. В стольниках уже.
— То хорошо. Глядишь, через полвека и боярином станет, — язвительно произнёс Салтыков.
Филарет смолчал на эту насмешку.
— А я надумал Сапеге писать, — продолжал Михаил Глебович, как бы не замечая несогласного молчания Филарета. — Пускай скажет государю королю идти к Москве не мешкая. А слух бы пустил, что на Вора идёт, к Калуге. Что королю под Смоленском стоять? Ежели король будет в Москве, тогда и Смоленск будет его!
Филарет продолжал хранить молчание. Что толку спорить?
— Здесь, в Москве, меня многие ненавидят, потому что я королю и королевичу во многих делах радею. Горло своё везде тратил: помогал с сыном своим Иваном Сигизмунду и Владиславу, — закончил Салтыков, пристально вглядываясь в лицо Филарета.
Может быть, он хотел этим показать, что к подобным людям причисляет и его, Филарета?
Они шли по направлению к Арбатским воротам. Улицы были оживлёнными. Люди спорили до хрипоты, старались перекричать друг друга. Иногда дело доходило до потасовки.
Филарет раскланялся с Салтыковым и повернул к дому, где жил его знакомый священник. Возле самых ворот его неожиданно остановил мастеровой.
— Не сетуй на нас, владыка. Мы не тати, не разбойники. Мы от голода да наготы такие гневные!
...Несколько дней спустя собралась Боярская дума.
— Ну, Фёдор Иванович, ты у нас первый боярин, тебе и речь держать, — сказал, обращаясь к Мстиславскому, Иван Никитич Романов.
— Сам не хочу быть царём и не хочу видеть царём кого-нибудь из своих братьев-бояр, — с несвойственной ему резкостью ответил князь Мстиславский.
— Уничижение страшное взять властителя от ляхов, молить их о спасении Руси и тем показать её постыдную слабость, — твёрдо, но не без горечи в голосе отозвался Андрей Голицын.
Ранее он верно служил царю Василию и ныне считал позором для себя присягать Владиславу.
— Православная вера превыше всего, превыше выгод государственных, — произнёс приглашённый боярами Гермоген, — не быть иноверцу на престоле московском.
— Ты, патриарх, занимайся своими церковными делами, а с мирскими мы сами как-нибудь справимся, — злобно перебил его Салтыков. — Не дело духовенству управлять государственными делами.
Наступило неловкое молчание, вызванное грубостью боярина Салтыкова. Его прервал голос дьяка Грамотина:
— Королевич Владислав юн, ему лишь токмо пятнадцать лет. Надо полагать, что в догматах латинства он не слишком навычен и легко склонится к нашей вере.
— Сядет на престол московский и сам поймёт, что для крепкого союза между царём и народом необходимо единоверие, — в тон ему отозвался князь Лыков, обычно нерешительный, но придерживающийся мнения сильной стороны.
— Да уж лучше служить королевичу, чем быть побитыми от своих же холопов и в вечной работе у них мучиться!
Эти слова князя Куракина изменили настроение колеблющихся, тех, кто ещё не принял окончательного решения.
— Если королевич Владислав крестится и будет в православной христианской вере, то я вас благословляю, — сказал Гермоген, обращаясь к боярам. — Если же не крестится, то во всём Московском государстве нарушится православная христианская вера, и да не будет на вас нашего благословения!
Верх одержала партия Мстиславского, активно поддерживаемая Салтыковым. Было решено передать царский венец королевичу Владиславу.
18 августа в Успенском соборе в присутствии патриарха Гермогена присягали на верность польскому королевичу. Его именем стали подписываться указы, за него молились в православных храмах. Пока же власть перешла к «семибоярщине». В неё вошли именитые бояре: Мстиславский, Воротынский, Трубецкой, Голицын, Лыков, Шереметев, Романов.
Иван Никитич Романов не носил княжеского титула и был избран в состав нового правительства из особого почтения к Филарету.
ГЛАВА 57 ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Присяга москвитян юному королевичу Владиславу не принесла мира и покоя многострадальной русской земле. Шведы, узнав о стремлении бояр избрать на российский престол сына Сигизмунда, превратились из союзников в новых врагов россиян и начали грабить северные окраины государства. Поляки стояли под Смоленском. Лжедимитрий II и его войско были в Калуге. Часть страны присягнула королевичу, другая не желала признавать своим царём католика.
Для быстрейшего избрания королевича Владислава гетман Жолкевский отправил из Москвы многочисленное посольство. Во главе посольства были митрополит Филарет и князь Василий Васильевич Голицын. Как позже признавали сами поляки, «их выслали из Москвы как людей подозрительных».
Гетман был пожилым человеком, немало повидавшим на своём веку. Ему было известно о тайных стремлениях Сигизмунда занять московский престол, но он не сочувствовал этим намерениям. Гетман, знавший москвитян, понимал, что только неимоверной ценой, а именно продолжительной и кровопролитной войной, королю удастся осуществить свою цель. Он был уверен, что при нынешних обстоятельствах лишь юный Владислав, и только после принятия им православия, может занять трон Рюриковичей.
Гетман Жолкевский сделал, казалось бы, невозможное. Без единого выстрела и сопротивления поляки заняли Кремль и Белый город. Не было ни ропота, ни возмущения москвитян. В столице царил строжайший порядок. Любая попытка нарушить спокойствие жестоко каралась.
Подчинив Москву, гетман поспешил вслед за московским посольством. С собой он вёз пленниками бывшего царя Василия Шуйского и его братьев.
Между тем усилия послов пока не приносили никаких результатов. Позиция поляков становилась всё более жёсткой. Большинство из них поддерживали стремление Сигизмунда завладеть Смоленском, который мужественно оборонял воевода Шеин, подчинить Московское государство и занять престол. О том, чтобы отпустить Владислава и о принятии им православия, поляки уже не вели и речи.
Со смутным чувством ехал Филарет к польскому королю. Вместе со смоленским архиепископом Сергием ему предстояло крестить Владислава в православную веру. Но свершится ли сие? Едва ли Сигизмунд даст согласие на крещение сына. Страна была разграблена. Филарет видел неубранные поля, толпы нищих. Отдал бы он, Филарет, своего единственного сына туда, где нет мира и порядка? Кто победит в Сигизмунде: король или отец? А разве предок Сигизмунда, первый из Ягеллонов, не был православным и не переменил православную веру на польскую корону? Почему бы его потомку не поступить таким же образом? Ведь понимают поляки, что никогда католик не сядет на трон Рюриковичей.
Вместе с этими беспокойными думами о судьбе государства, о крещении Владислава в душе Филарета не угасала надежда, что некогда всё образуется и на трон сядет его сын Михаил, как того хочет патриарх Гермоген. Филарет привык во всём полагаться на Бога. Он не переставал уповать на то, что Божьей волей трон будет за Романовыми. Но прежде надо водворить мир в державе, а тому есть лишь один выход — крещение Владислава. Он, Филарет, дал патриарху обет умереть за православную веру. Он не нарушит данного обещания.
...Приезд гетмана Жолкевского под Смоленск поначалу обрадовал московское посольство, но, увидев царившую в королевском окружении обстановку и правильно оценив ситуацию, гетман, как истинный царедворец и политик, к великому удивлению и негодованию послов, начал отрекаться от всех принятых и согласованных условий договора, главным из которых было крещение королевича.
Остановившись в стане под Смоленском, Филарет отыскал Сапегу. Тот встретил его хмурым взглядом. Филарет заметил, что со времени их последней встречи Сапега значительно постарел и как-то усох. Лицо сморщилось в кулачок, но держался он так же прямо, взгляд был проницательным и как будто недружелюбным. Филарет помнил завет отца: «Первая добродетель — избегать ошибок». Он знал, как легко рассердить Сапегу и сделать его своим врагом. Но и малейшая уступка полякам тоже может стать неисправимой ошибкой.
Поприветствовав канцлера дружеским объятием и спросив о здоровье, Филарет осторожно начал разговор о том, что Сапега мог бы помочь поправить дела в русском государстве, если поговорит с Сигизмундом о крещении королевича. Ничто не изменилось в лице канцлера, даже дружеское приветствие Филарета не смягчило его черты.
— Об этом, преосвященный отец, поговорим в другой раз. Когда будет время, я к тебе специально приеду; а теперь одно скажу: королевич крещён и о другом крещении нигде не писано, — ответил Сапега.
Филарет не ожидал от канцлера такой категоричности; забыв о предосторожностях и о том, что собирался говорить с Сапегой дружески, он вспомнил слова Гермогена и ответил столь же решительно:
— Греческая вера — мать всем христианским верам, все другие веры от неё отпали и составились. Вера есть дар Божий, и мы надеемся, что Бог благодатью своей коснётся сердца королевича и пожелает он окреститься в нашу православную веру.
— В вере и женитьбе королевича волен Бог да он сам, — резко возразил Сапега.
— Никак не может статься, что государю быть одной веры, а подданным другой, — твёрдо произнёс Филарет. — И сами вы не терпите, чтоб короли ваши были другой веры.
Помолчав минуту и сдерживая природную запальчивость, он добавил:
— А тебе, Лев Иванович, больше всех надобно радеть о том, чтобы государь наш, королевич Владислав Жигмонтович, был в нашей православной вере греческого закона, потому что дед твой, и отец, и ты сам, и иные многие вашего рода были в нашей православной вере, и неведомо каким обычаем ты с ними теперь порознился.
Не слушая Филарета и как бы отвечая своим собственным мыслям, Сапега проговорил, и в его голосе был металл:
— Не думал я, что ты так дурно думаешь о моих соотечественниках. Поляки ценой своей жизни водворяют мир среди ваших граждан.
— Мир ли? Я хочу тебе напомнить, Лев Иванович, мудрое изречение древних: «Никто не торжествует долго, начав неправедную войну».
Словом, дружеская дипломатия Филарету не удалась. Он видел другого Сапегу — неумолимого в своих выводах.
В нём уже угадывался тот человек, который на склоне своих дней многих удивит карьерой иезуита.
Между тем отношения между московским посольством и королевским окружением всё более ожесточались. С послами обращались как с подданными, от них уже требовали, чтобы они приказали Шеину сдать Смоленск под тем предлогом, что жители города хотят предаться Лжедимитрию.
Не убедив Филарета подчиниться требованию короля, Сапега вышел к послам. Вид у него был торжественный и важный.
— Мы хотим, — сказал он, — чтобы Смоленск целовал крест королю для одной только чести.
Этой заранее обдуманной хитростью он думал обмануть послов: по опыту он знал, сколь доверчивы русские люди.
...Стояла холодная дождливая осень. Склонный в такую пору к простуде, Филарет занемог. Переговоры шли без него. Хитрые доводы Сапеги отвёл дьяк Томила Луговской. Его поддержал князь Василий Голицын, которого возмутило, что их принимают за простецов. Он произнёс с достоинством родовитого князя:
— Честь короля будет большая от всего света и от Бога милость, если он Московское государство успокоит, кровь христианскую уймёт, сына своего посадит на русский престол, и тогда не только Смоленск, но и всё государство станет за сыном его.
Видя неудачу канцлера, положение решил поправить гетман Жолкевский:
— Для спасения Смоленска есть лишь одно средство: впустить в него польское войско, как сделано было в Москве, и тогда, может быть, государь наш не будет принуждать Смоленск целовать ему крест.
Жолкевский рассчитывал на успех своего предложения, памятуя, что поляки в раздираемой грабителями Москве навели порядок. Но и этот довод не произвёл должного впечатления на послов. Рассудительный дьяк Томила Луговской достойно отвёл его:
— Попомни Бога и душу свою, Станислав Станиславович! В записи прямо написано, что когда смоляне королевичу крест поцелуют, то король отойдёт от Смоленска, порухи и насилия городу не будет, все порубежные города отойдут к Московскому государству по-прежнему.
Переговоры были прерваны до выздоровления Филарета. Однако пан Сапега не унимался. Он отвёл дьяка Луговского в особую комнату и начал с ним доверительную беседу:
— Томила, я хочу тебе всякого добра, ты меня выслушай: сослужи государю прямую службу, и его величество наградит тебя всем, чего только захочешь. Надеясь на тебя, я уже уверил государя, что ты его послушаешь. Смоляне требуют, чтобы к ним прислали кого-нибудь из вас, послов. Они вас послушают и государеву волю исполнят. Возьми с собой Василия Сукина и поезжайте под Смоленск, скажите жителям, чтобы целовали крест королю и впустили в город королевских людей.
Было ясно, что поляки не отступятся от своего. Как бы они не возобновили осаду города!
Послы добились от гетмана, чтобы до прибытия из Москвы гонца от бояр и патриарха не предпринимались новые боевые действия против осаждённого города.
Противостояние продолжалось. Гетман Жолкевский объявил русским послам, что для спасения Смоленска есть одно средство: впустить в него польское войско. У Филарета вырвался горький смешок:
— Скажи уж прямо, гетман: велите сдать Смоленск без боя. А далее вы прикажете целовать крест вашему королю.
Жолкевский несколько замялся.
— Король, может быть, не будет принуждать жителей Смоленска целовать ему крест, однако ратные люди нужны там для порядка.
— Отчего бы не послать в Москву гонца? — предложил Томила Луговской.
Жолкевский пошёл посоветоваться к королю и, вернувшись, объявил:
— Король по доброте своей соглашается на отправление гонца в Москву, но прежде надобно впустить ратных людей в Смоленск.
— Подождём с посылкой в Москву. Мы ничего не можем сделать без нового наказа из Москвы, — настаивали послы. — Так ли, Филарет?
Паны смотрели на Филарета, словно хотели взглядами перевести его в свою волю. Слово митрополита имело особенный вес. Уже никто не поминал о «наречённом патриархе», но все знали митрополита.
— Паны радные, — начал Филарет, — того никакими мерами учинить нельзя, чтобы в Смоленск королевских людей впустить. Ежели лишь раз они в Смоленске будут, то нам его не видать. А ежели король возьмёт Смоленск приступом, помимо крестного целования, то положимся на судьбы Божии. Только бы нам своей слабостью не отдать города...
Поляки увидели в этих словах вызов Сигизмунду. Русский митрополит посмел напомнить, что их славный король нарушил крестное целование — не объявлять войну! Более других кипел гневом пан Сапега:
— Увидите, что будет завтра под Смоленском!
— Жители сами сдадут город, — добавил Жолкевский.
Услышав эти угрозы и предостережения, русские послы призвали для совета всех посольских людей и дворян и получили обстоятельные ответы:
— Однолично стоим на том, чтобы в Смоленск польских и литовских людей не пускать ни одного человека!
— Ежели они какими неправдами проникнут в Смоленск, то города нам не видать!
В этом согласны были смоленские дети боярские и дворяне:
— Пусть в Смоленске наши матери, жёны и дети погибнут, только бы на том крепко стоять, чтобы польских и литовских людей в города не пустить!
Тогда паны затеяли новый съезд. Сапега встретил русских послов надменно, с видом человека, теряющего терпение:
— Ну что, надумали? Впустите в Смоленск королевских ратных людей? Или не знаете, что он не взят лишь по просьбе гетманской и нашей? Король показал милость, чтобы не пролить кровь невинную вместе с виновной!
Вот он каков, пан Сапега! Уже провёл и различие по «крови» меж поляками и русскими! Или забыл, что ещё недавно и король Сигизмунд, и паны радные называли русских братьями?
Русские послы стояли на своём, и тогда решено было отрядить в Москву гонца. Как выяснилось позже, поляки дали согласие на это не без тайного коварства. Гонцу было наказано добиться от московских бояр присылки новых, более сговорчивых послов, а Филарета, князя Голицына и Томилу Луговского отстранить от переговорных дел.
Поляки добивались своего с истинно сатанинским упорством. Но не мужество, а хитрость и коварство были их помощниками. Оттого-то и выпала на долю героического Смоленска многострадальная судьба. Осада его длилась двадцать месяцев. Это был богатый многолюдный город. Семьдесят тысяч жителей — по тем временам, когда и во всей-то России было около шести миллионов жителей, было величиной внушительной.
К концу же осады людей в нём осталось не более восьми тысяч. Из-за недостатка продуктов и отсутствия соли в городе свирепствовала цинга. Умирали от болезней, вызванных простудой. Из-за недостатка дров дома едва отапливались.
И тем не менее город-герой продолжал держаться. Судьбу его решило предательство. Некто Андрей Дедешин, решив, очевидно, что услуга, оказанная им полякам, озолотит его, перебежал к королю и сказал польским военачальникам, что есть часть стены более слабая, где легче пробить «ворота» для польских ратных людей. Орудийными залпами поляки сделали в ней пролом и с наступлением ночи начали приступ.
Мужественные смоляне, видимо, были готовы к любому исходу сражения и решили не отступать даже перед силой, значительно их превосходящей. Они собрались в соборном храме Святой Троицы и запёрлись там. Творили святые молитвы, укрепляли себя в душе не сдаваться врагу, а ежели их смерть угодна Богу, то взорвать себя.
И то, о чём думали люди как бы между прочим, ибо думать об этом не пристало (взорвать святой храм?!!) — случилось, однако. Недаром говорится, что голос судьбы подсказывает тихо. Под храмом находился порох. Было ли это предусмотрено заранее? Сложить под храмом порох и, ежели наступит беда неминучая, взорвать его, дабы враг не осквернил святыни? Видимо, так. Взрыв был такой силы, что после не нашли и останков людей. Словно вместе с дымом они улетели в небо.
И вся осада Смоленска войдёт в историю легендами многими. Сам воевода Шеин запёрся в башне и сражался с врагом до последнего патрона. Чтобы не сдаваться в плен, он решил броситься с башни, но его удержал находившийся при нём сын.
О, какая плачевная судьба была уготована им! Воеводу в оковах бросят в одну из литовских тюрем, предварительно подвергнув тяжёлой пытке.
ГЛАВА 58 «СТОИТЕЛЬНО[35] И НАВЕКИ!»
У трагических событий существует роковая преемственность. Самосожжению смолян предшествовал пожар Москвы и гибель в огне многих её жителей. Засевшие в Кремле и Китай-городе поляки и немцы, чтобы изгнать из Москвы русских, подожгли Замоскворечье. Умышлено было это по-злодейски: Москву поджигали в нескольких местах, чтобы люди не успели спастись.
По свидетельству польского дворянина Маскевича, жечь Москву поручено было двум тысячам немцев и отряду польских гусар... Деревянный город запылал мгновенно. «Пожар был так лют, что ночью в Кремле было светло, как в самый ясный день, а горевшие дома имели такой страшный вид и такое испускали зловоние, что Москву можно было уподобить только аду».
Довольные тем, что выжгли «крамолу» в Москве, завоеватели решили, что им удастся сломить волю русских послов. С этой целью была составлена боярская грамота, предписывавшая послам подчиниться королевской воле. Среди бояр нашлись предатели, и среди них самым рьяным сторонником польской силы был боярин Салтыков, первый «зачинатель злу». Он подвигал на злодеяние и поляков, кричал во время пожара: «Огня! Огня! Жги домы!» Таким усердным было его рвение, что он велел поджечь и собственный дом: не жалко, лишь бы сгорела Москва.
Однако среди князей труднее было найти польских союзников. Князей Ивана Воротынского и Андрея Голицына взяли под стражу и силой заставили приложить руку к боярской грамоте. Сломить волю патриарха Гермогена, однако, не удалось.
— Я таких грамот не благословляю и прокляну того, кто их напишет! — твёрдо заявил он.
Боярин Салтыков бросился на него с ножом. Гермоген осенил его крестным знамением и громко произнёс:
— Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа! Будь ты проклят в сём веке и в будущем!
Салтыков, наверно, не раз вспомнил об этом проклятии, когда был убит его любимый сын Иван.
Раздосадованные отказом патриарха поставить подпись на боярской грамоте, поляки отправили гонца с этой грамотой в королевский стан. В запасе у них были хитрые аргументы в пользу боярской грамоты. На этот раз доводом было привезённое дьяком Чичериным известие о гибели Тушинского вора.
Послов вновь позвали на переговоры. На этот раз к ним вышел вельможный пан, воевода Яков Потоцкий. Он объявил:
— По великому Божьему соизволению королевским счастием убит злодей тушинский, прозываемый Вором!
Послы склонили головы в почтительном молчании перед «счастием королевским», всё на самом деле хотя свершилось своим ходом: Вор был убит из чувства мести. Когда по его приказу был утоплен царь Касимовский, князь Пётр Урусов поклялся отмстить его за смерть. Он позвал самозванца на охоту, убил его и бежал в степь. В отместку казаки, верные самозванцу, побили татарских мурз и разграбили многие татарские дворы. Тем эта история и кончилась. Хотя и родился новый «царевич», сын Марины и Лжедимитрия, но кто взялся бы именем младенца собирать новое войско и вести его на Москву!
После Потоцкого торжественную речь повёл пан Сапега. Сначала он прочёл боярскую грамоту и сказал:
— То, о чём мы говорили с вами на съездах, Дух Святой внушил и вашим боярам! Или не в тех же самых словах они велят вам исполнить то, чего мы от вас требовали? Значит, сам Бог открыл им это!
Сапега обвёл взглядом послов.
— Я не вижу среди вас Филарета.
Послав слугу узнать о здоровье русского владыки, Сапега обратился ко князю Голицыну. У него была репутация человека непоследовательного, он, случалось, крамольничал в синклите. Сапеге было о том известно, и сейчас он смотрел на князя, явно рассчитывая на его сговорчивость.
Василий Голицын, видимо, угадал мысли Сапеги. Он слегка откинул назад гордую красивую голову и ответил с некоторой галантностью, которая на Руси ещё не вошла в моду:
— Пожалуйте, моё челобитье безкручинно выслушайте идо королевского величества донесите. Вы говорите, чтоб нам слушаться боярского указа: в правде их указа слушаться я буду и рад делать, сколько Бог помощи подаст, но бояре должны над нами делать праведно, а не так, как они делают. Отпускали нас к великим государям бить челом патриарх, бояре и все люди Московского государства, а не одни бояре: от одних бояр я и не поехал бы, а теперь они такое великое дело пишут к нам одни, мимо патриарха, священного собора и не по совету всех людей Московского государства.
Сапега слушал его с таким видом, словно каждую минуту собирался оборвать, но сдерживался. Он хотел что-то сказать, но его опередил дьяк Луговской:
— Это от бояр к нам первая немилость, да и всем людям Московского государства, думаем, будет в том великое сомнение и скорбь: чтоб от того кровь христианская вновь не пролилась! Другая к нам боярская немилость: в наказе написали и бить челом королю велели, чтоб королевское величество от Смоленска отступил и всех своих людей из Московского государства вывел, и бить челом о том нам велено накрепко.
Помолчав немного, дьяк добавил:
— А бояре нам не указ. Мы отпущены из Москвы не от одних бояр и должны отчёт давать сначала патриарху и властям духовным. На том и стоять будем.
Сапега почувствовал знакомый приступ раздражения, но снова сдержался. Руки его дрожали. Почему так упёрлись проклятые послы! И почему самое трудное достаётся ему? Какой сумрачный день! Резкая туманная сырость на дворе, казалось, проникала в окна.
Он отпустил послов и, проводив их на крыльцо, сказал:
— Вы ещё раскаетесь в своём упорстве!
Это слышали поляки из гусарского отряда, стерегущего королевский стан, и тотчас же поддержали своего соотечественника:
— Эй, послы! Хотелось своровать, да не вышло?
— Воры!
— Пся крев!
Но и послы не остались без защиты. Откуда-то сверху посыпались ругательства на поляков:
— Лайдаки! Жупаны!
— Враны чёрные!
— Катитесь назад, откудова пришли!
Голоса были детские и доносились они со стороны дуба, стоявшего через дорогу, сразу за воротами. Привратник кинулся с палкой к дереву, но на нём никого не было. Ближе к вершине чернело дупло. Прежде там водились пчёлы, но когда многие сучья высохли, а кора покрылась зелёным лоснящимся мхом, пчёлы покинули свой старый дом. Привратник вгляделся в засохшую листву, прикрывавшую дупло, и увидел сверкавшие детские глаза.
— А ну, геть видтуля! Вы пошто, окаянные, соромите панов, Богом вам данных?
Мальчики тут же отпарировали:
— Богом данные — дурни давние!
— Голодранцы, пся крев! — взорвался привратник.
Он стал думать, не позвать ли гусар, но сверху раздался рассудительный голос:
— А ты, ругатель, вели дать мне свитку да одень мою спинку...
— Поговори ещё! Я тебя кнутом одену!
Эту перебранку слышал Сапега, и она не показалась ему смешной. Ишь, бесенята! Каковы батьки, таковы и детки. Быдло, оно и есть быдло. Не признает ни законного порядка, ни старшинства. Он долго жил среди этого народа, и у него было достаточно времени проникнуться презрением к нему. Русские должны благодарить благородных поляков за то, что те берут их под своё покровительство. Кто ещё, зная их слабости, даст им хорошую выучку!
С этими мыслями Сапега пошёл к вновь занемогшему Филарету, укрепляя себя надеждой, что они побеседуют мирно, по-дружески, как в добрые старые времена. Или тот вновь станет упорствовать? Сам же вспоминал, как его предок говаривал: «Кошка против силы не пойдёт». После поражения под Клушином и ныне под Смоленском русским уже не подняться. Судьба всегда на стороне разумных. Так-то.
Как всегда в дни болезни, Филарет предавался покою и размышлениям. О, как хотелось ему тишины и хоть немного счастья! Как рвался он и мыслями и душой к родным пределам! Перед его глазами вставали то поместье на Варварке, то милое Преображенское. А сегодня он всё утро беседовал про себя с Мишаткой, сидел с ним за трапезой, учил держать к себе бережение великое. Везде хозяйничают поляки. Нельзя жить приятно, не живя разумно и сторожко. Мать учить тому не надо: велико её попечение о сыне.
Заботясь о мире в душе, Филарет не сетовал на судьбу. Да, в его жизни много жестокости и вражды, но он не в силах её изменить. Да и кто в силах? «Пути Господни неисповедимы. Мы не ведаем, что принесёт нам грядущее, и надобно жить, как заповедовал Христос, а не горевать, как то было в ссылке, когда я находился в монастыре», — думал Филарет.
Но сердце Филарета было гневливым, и потому, забывая о заповедях Христовых — «Не судите, да не судимы будете», — он судил тех, по чьей вине был в северной ссылке, а ныне обречён ехать на чужбину пленником. Многие князья и бояре всегда были его великими недругами и что выгадали для себя? Ныне поляки живут под их родными крышами, а им, русским боярам, хоть бы что. Надели на себя скоморошьи маски, а иные и бороды сбрили. Веру новую, латинскую готовы перенять.
Филарет перевёл взгляд на висевшее над столиком распятие. Оно не было похоже на православный крест, перед которым по православному обычаю, верующие давали обеты Богу, а священные особы осеняли крестным знамением. Распятие было объёмистее, и в его очертаниях было что-то языческое. От горящей свечи по нему скользили лиловатые блики, и казалось Филарету — от распятия исходит холод неверия. Он вспомнил, как накануне входил слуга заменить сгоревшую свечу и как-то странно взглянул на него. Ясно, что неспроста, понимал, значит, зачем повешено это распятие. Недаром в стан понаехало много ксёндзов. Всем ведомо сатанинское упорство, с каким католики тщились обращать православных в свою веру.
Митрополит быстро отвёл взгляд от распятия, словно там таилась опасность. Тоска и дурные предчувствия овладели им. Он, однако, не давал им воли, знал по опыту, что скрытое неведомое зло кажется более страшным, чем на самом деле. Всё-таки он не мог отделаться от мыслей, что сегодня случится что-то особенное, он знал, что пришла боярская грамота, а его не позвали. Почему? Болезнь — одна лишь отговорка. Значит, жди пришествия Сапеги...
Филарет поднялся со своего ложа и, чувствуя слабость, медленно приблизился к окну. О, какой безжизненный вид! Казалось, что холод лёг и на дома, и на деревья, и на прошлогоднюю траву. Душа стосковалась по солнцу и теплу. Терпение, душа, терпение! На память пришли слова Демокрита, которые слегка взбодрили его: «Быть верным долгу в несчастье — великое дело».
За дверью послышался знакомый стук посоха. Филарет в ожидании пана Сапеги повернулся к двери. Он знал, с какими вестями шёл к нему литовский канцлер. Ни разу за всё время их знакомства Лев Иванович не приходил к нему спроста.
— A-а... Мы уже на ногах! Похвально, похвально! — воскликнул Сапега, входя в комнату, — А я тебе грамоту боярскую принёс.
Сапега развернул перед Филаретом свиток.
— Сам король Сигизмунд читал сию грамоту. Она искусно составлена, и столь же искусны подписи, кои поставили вельможные русские князья и бояре.
— Я не вижу здесь подписи патриарха Гермогена. Исполнить сию грамоту невозможно, ибо писана она без патриарха и всего священного собора и без ведома всей Русской земли.
— Эх, велика важность! У вас без ведома всей земли Шуйский на троне сидел...
— Не равняй одного с другим! Я — лицо духовное и послан сюда от патриарха, В грамоте пишется о деле духовном, о крестном целовании королю и королевичу. Тем более без патриарха нам ничего сделать нельзя!
Сапега укоризненно покачал головой.
— У нас, поляков, другой расклад. Государственные дела у нас решают паны радные вместе с королём.
— Однако у вас и вера иная...
Филарет невольно кинул взгляд на распятие. Сапега уловил этот взгляд и, кажется, был доволен тем, что русский владыка сам заговорил об этом.
— У вас и ксёндзы мало что значат перед королём. Ему не указ и папа Римский.
Сапега снова принял укоризненный вид.
— Не ожидал я, что русский владыка станет хулить христианскую веру!
— Помилуй, пан Сапега! В чём ты увидел хулу?
— В неправде слов твоих увидел я хулу на нашу церковь, Филарет! Великий иезуит Пётр Скарга ещё при короле Батории проповедовал подчинение светской власти — духовной. Он говорил, что если в стране управляет не одна, а несколько голов, то это признак тяжкой, смертельной болезни. Також и в сфере духовной. Мудрый Скарга обличает русских за раскол с церковью Божией, за то, что они утратили правду Божию, впали в суеверие и грехи, на небо вопиющие. Разве ты не видишь, Филарет, что на ваш народ напала глупая гордость, отчего на латинов он смотрит как на поганых?!
Филарет некоторое время молчал, потрясённый столь наглым выпадом.
— Ты мне ответь по правде, Сапега, — тихо начал он. — Или не Скарга воспламенял в польском народе религиозную нетерпимость к православным братствам? Или ваши ксёндзы не тщатся насильно обратить православных в свою веру? Или ты забыл печальную историю православного Виленского братства?
Сапега побелел от гнева.
— Тебе ли, поп, судить о наших государских делах! Я ошибся, думая, что на тебя снизойдёт свет нашей Божией церкви и ты узришь святую истину. Я велю снять в комнате это распятие! Ты недостоин его!
Неизвестно, чем бы закончилось это ожесточение, если бы не раздался стук в дверь. Это был прискакавший из Москвы гонец. Он подал Сапеге депешу. Пробежав её глазами, Сапега отпустил гонца и подошёл к Филарету.
— Уведомляю тебя, русский митрополит, о великом пожаре. Вся столица московская сгорела с великим кровопролитием и убийством, ибо сами москвитяне с жёнами и детьми кидались в огонь... Всё творилось яко на Страшном суде... Что ты смотришь так на меня, Филарет? Или я поджигал Москву?
Филарет чувствовал, что задыхается. Он ухватился за плечо Сапеги, выговорил наконец:
— Скажи, Лев, что попугать меня хотел, что сие неправда!
Сапега всмотрелся в лицо Филарета и, отведя его к ложу, бережно усадил.
— Не бери близко к сердцу, Никитич. Твои-то целы, и поместье не выгорело. Я за поляков боюсь. Что станет с нашим бедным рыцарством!
— В уме ли ты, Сапега? Ты жалеешь не людей, сгоревших в огне, а пожогщиков!
— Москва не Париж и не Рим, — словно не слыша Филарета, продолжал Сапега. — Она занимает такое обширное пространство, что там могло схорониться ещё много наших врагов. А поляков там — всего какая-нибудь горстка...
В эту минуту вошёл князь Голицын, и Сапега, как-то странно оглядев их обоих, удалился. Филарет и князь Голицын обнялись и горько заплакали. Они плакали о многострадальной Москве. Частые вражеские нашествия и не менее частые пожары были её бичом. Плакали они и о своей горькой судьбе — изгнанников родной земли. Оба понимали, что в их изгнании повинны не только поляки, но и свои отечественные злодеи, а это для души самое большое зло. Поляки первые язвили их этим. И оба с тревогой думали о своих сыновьях: не было бы им какого-либо зла, не отмстили бы их родным вороги за то, что они, послы, продолжают стоять за отечество.
— Где чаем спасения, Василий? — спросил Филарет Голицына. — Может, вести какие имеешь?
Князь, у которого был шире круг общения среди вельможных поляков и, значит, было больше знания о том, что творилось дома, справедливо опасался гибели державы от изменников. Но он воздержался говорить об этих опасениях, щадя и без того убитого горем Филарета. Голицын знал его тревоги о сыне Михаиле. Полякам ведомы пожелания Гермогена, чтобы на троне был потомок Романовых. Не извели бы они отрока... Поэтому князь ответил Филарету уклончиво:
— Станем уповать на Бога, Филарет... Авось пошлёт нам спасение там, где и не чаем.
— Верно ли, что на Москву идёт ополчение? — озабоченно спросил Филарет.
— К полякам попали грамоты Гермогена, подвигающие Минина и Пожарского идти на освобождение Москвы соединёнными усилиями. Ныне действуют малые отряды атамана Просовецкого. Но есть вера великая, что подымутся люди всей земли. Только вот беда: урону много от своих изменников. Сказывают, Салтыков в день Вербного воскресенья увещал Гонсевского перебить всех жителей Москвы. И когда поляки не согласились, он выговаривал им: «Нынче был случай, и вы Москву не били. Ну так они вас во вторник будут бить».
— Кто был злодеем, тот таким и остался, — тоскливо заметил Филарет.
Любое упоминание об этом родственнике со стороны жены было неприятно ему. Он боялся, что Михаил Глебович первым наведёт злодеев на Ипатьевский монастырь, где находится жена с сыном Мишаткой.
— Поляки, однако, опасаются, что после смерти Вора русские обрушат на них всю ярость своего гнева. Чтобы не озлоблять их, разрешили Гермогену шествие на осляти, дозволили москвитянам ходить за вербой.
— Так Гермоген на воле? — радостно вскинулся Филарет, но, встретившись с сумрачным взглядом князя, осёкся.
— Гермоген ныне заперт в келье под присмотром приставов. Он, великий радетель о православной христианской вере, стоит твёрдо, аки столп непоколебимый. Велел передать послам своё благословение: пострадают за веру и отечество...
Голос Голицына дрогнул, и оба снова заплакали.
Филарет поднялся, снял с груди владычный крест, благословил им князя.
— Да не будут напрасными надежды святейшего на нас! Ежели Господь даст нам силы, пострадаем и мы за веру и отечество! Стоятельно и навеки!
Князь поклонился владыке Филарету и повторил:
— Стоятельно и навеки!
ГЛАВА 59 ПОМНИ БОГА И ДУШУ СВОЮ
На другой день князь Голицын и дьяк Луговской были приглашены к панам радным. Лев Сапега встретил их словами:
— Надеюсь, теперь вы не станете противиться воле короля?
Послы молчали. Это можно было принять за согласие, если бы молчание их не было столь многозначительным. Сапега спросил:
— Хотите ли сейчас же впустить в Смоленск людей короля?
Князь Голицын лукаво усмехнулся, но тут же спрятал усмешку под усами и ответил примиряюще:
— Ты, Лев Иванович, сам бывал в послах. Можно ли послу что-нибудь сверх наказа сделать? И надо сказать, ты был послом от государя к государю, а мы посланы от всей земли.
— Никаких сношений с Москвой более не будет! — сердито перебил Сапега. — И то надо взять в толк, что Москва сгорела. Там ныне шатание и разброд.
— Однако же для смолян это новые отговорки. Москву-де сожгли, и нам то же будет...
— Что сделано в Москве, о том говорить нечего! — вновь сердито перебил Сапега. — Говорите, что делать вперёд?
Рассудительный Томила Луговской ответил на это:
— Другого средства поправить дела нет, как то, чтобы король наши статьи о Смоленске и время своего отступления в Польшу назначил на письме, за вашими сенаторскими руками...
Среди сенаторов раздался гул возмущённых голосов. Дав вылиться этому общему негодованию, Сапега сказал, как отрезал:
— Коли так, вас всех пошлют в Вильну, к королевичу!
— Не стращай нас, Лев Иванович, — громко проговорил Луговской. — Надобно думать, как кровь христианскую унять, а Польшей нас стращать нечего, Польшу мы знаем!
Однако через несколько дней русским послам дали знать, что их действительно повезут в Польшу. Послы решительно отказались выполнить это решение на том основании, что у них нет наказа ехать в Польшу, нет и запасов питания на столь длительный путь. Но их не стали слушать и насильно посадили в ладью, небольшое судно, сопровождаемое двумя лодками. Посольских слуг прогнали прочь, а запасы вещей и продовольствия отобрали. К счастью, более находчивым удалось кое-что припрятать. Особенно повезло Филарету. Слугой при нём был ловкий и смелый казак Устим, человек незаменимый в трудных обстоятельствах. Когда Филарет вернулся в Москву из тушинского стана, Устим, отвыкший за это время от хозяина, снова подался было в казаки, но многое там оказалось не по нему. Филарет, которому он обо всём поведал по приезде в Москву, позвал его к себе. От судьбы, как говорится, никуда не уйдёшь.
Филарет ещё не раз поблагодарил судьбу, пославшую Устима. Изо всех слуг он проявил себя самым находчивым. Редкого чутья был человек. Словно знал, что при погрузке на судно поляки станут грабить, договорился с корабельным слугой и загодя погрузил на судно припасы и необходимую одежду. А для Филарета добыл ещё и жупан: снег только что сошёл, по воде ещё плыли льдинки, и ночи на судне покажутся холодными.
Выехали 12 апреля. Утро было хоть и свежим, но тёплым. Двигались на юг, ближе к солнцу. В чистых струистых водах Днепра весело плескалась рыба. Кругом вдоль берегов стеной темнели леса, а небо было таким прозрачно-голубым, что казалось, если долго в него смотреть, можно проникнуть в его глубину. В такие минуты душа человека стремится к Богу.
Филарету хотелось хоть на время забыть о том, что едет он на чужбину и будет находиться под строгим надзором. Одному Богу ведомо, что уготовано ему впереди! Вспоминал, что в его комнате, когда был в королевском стане, висело на стене распятие. То было ему недобрым знаком. Видно, думают обратить его в чужую веру, когда привезут в Польшу. Филарета угнетали необоримые мысли о своём бессилии перед наглой и жестокой силой, так легко берущей верх в этом мире. Сапега — преданный своей вере католик. Да христианин ли он? Ему неведом страх перед Богом. Из учения Отцов Церкви да и по своему опыту Филарет знал, что человек, не ведающий страха Божьего, никогда не познает и Бога истинного. Такой человек ничего не боится и тем страшен.
Везли их, словно арестантов. Охранники обращались с ними грубо и заносчиво. Хоть и ехали водой, но её не хватало, чтобы умыться. На просьбу сделать остановку, набрать воды да помыть помещение отвечали бранью. Ссорились они и меж собой, особенно когда играли в карты либо напивались.
Судно, однако, остановили, когда подъехали к имению Жолкевского. Охранники были наиболее оживлённы. Многие из них ещё недавно воевали под стягами гетмана и сейчас не сомневались, что он выкатит им бочку вина. Спор был лишь о том, какого вина пожалует им гетман.
Филарет и князь Голицын решили сойти с трапа, но стражники не дозволили, и путникам ничего не оставалось, как рассеянно смотреть на хатки, что лепились одна к другой, окружённые плетёнными из ивы заборами и пирамидальными тополями.
Неожиданно на берег вылетел всадник, и, увидев стоявших возле борта послов, учтиво снял шляпу и спросил от имени гетмана, здоровы ли послы и нет ли у них какой просьбы к сановному пану Жолкевскому. Послы молчали. Всадник повторил вопрос. Тогда Филарет, обменявшись взглядами с князем Голицыным, ответил:
— Вели передать Станиславу Станиславовичу, чтобы он помнил Бога и свою душу!
Поляки онемели от такого дерзкого ответа. Они хотели что-то сказать посыльному, но его и след простыл.
...Получив отповедь на своё дружеское приветствие, Жолкевский не разгневался, хотя и был озадачен. В глубине души он осознавал свою вину перед русскими послами. Он помнил, как слукавил перед ними во время переговоров. Да, он целовал крест на том, чтобы не воевать Смоленск, и заповедь сия нарушена. Так ведь и смоляне её нарушили. Они хотели бы присягать Владиславу, да кто же отца с сыном разделяет?!
Думая так, гетман понимал, что он хитрит. Но со Смоленском покончено и что о том думать!
И всё же думы не оставляли его, потому что в глубине души он был честным человеком. Совесть не давала ему покоя. Он сознавал, что невежливо поступил с послами, уклонившись от разговора о царе Василии, и, поколебавшись немного, решил послать за Филаретом панскую колымагу, принять его с честью и доверительно побеседовать с ним. Видит Бог, он не хотел ему зла. Да и О князе Голицыне он не думал ничего дурного, подобно иным панам, готовым окончательно порушить добрые отношения с Русью. Из окна гетману было видно, как из колымаги, будто невольник, вышел Филарет. Плечи его были опущены. Со стеснённым чувством Жолкевский вышел к нему навстречу, почтительно поклонился. Филарет слегка наклонил голову.
— Что угодно пану гетману?
— Рад видеть тебя, владыка. Надумал потолковать с тобой.
Радушным жестом он пригласил Филарета к столу.
— Ты устал в дороге, а вино у меня доброе. Выпьем за мир меж поляками и русскими! Да за добрые речи между ними.
Филарет отодвинул налитый ему бокал.
— Или поляки пришли на Русь с миром? Или ты, гетман, не сам порушил свою клятвенную запись не разорять её?!
— Я готов поклясться тебе: ничего не помню, что было в этой записи. Я, не читавши, руку свою и печать к ней приложил. Да и волен ли я от себя решать государские дела?
— Согласен, что не волен. Ты всё делаешь по указу и воле королевской. Но до твоего приезда под Смоленск король сохранял договор, к городу не приступал, а как ты приехал, так Смоленск взяли...
Жолкевский опустил голову.
— Ты сам сказал, что я всё делал по указу и воле королевской...
— А царя Василия ты вывез в Польшу тоже по воле короля? Или по своей воле?
— Вашего царя Василия я взял не по своей воле, а по воле бояр, дабы предотвратить народное смятение... А в Иосифове монастыре, куда его отвезли, он умирал с голоду.
— Или не ты настоял, чтобы Василия отправить в Иосифов монастырь? И ты дал слово не брать его из Иосифова монастыря. Знал, что в записи утверждено, чтобы ни одного русского человека не вывозить и не ссылать. Ты на том крест целовал и крестное целование нарушил. Надобно бояться Бога!..
— Воистину так: Бога надобно бояться. Но король — наместник Бога на земле, и его волю следует исполнять.
Помолчав немного, Жолкевский предложил:
— Выпьем, владыка, за правду речей твоих? Только не всё в нашей воле, — примиряюще сказал он.
Филарет почувствовал вдруг, как сильно ослаб он за последнее время. Бокал с вином он всё же взял, но как дрожит его рука... И глаза увлажнились слезами. Если бы во всём были виноваты лишь поляки, на душе не было бы такой тяжести. Свои же бояре разорили державу, и ты, Филарет, не причастен ли к этой общей вине? Может быть, ты сказал поперечное слово жадным до наживы боярам? Или не видел, что они стали врагами своего отечества? Но где они — друзья отечества? Царь Василий... Да, он хотел блага стране, но понимал его по-своему и сам избрал этот путь — мученика за правду... Однако его поддерживал святейший Гермоген, называл «царём правды»...
Кто разберётся в этом, сведёт одно к одному? Единый разве Господь Бог!
— Не всё в нашей воле, — машинально повторил Филарет, чувствуя, как от выпитого вина по жилам пошло тепло.
Жолкевского поразили измученные глаза Филарета, и что-то дрогнуло в его душе.
— Не бери всё близко к сердцу, русский владыка!
— Ты, однако, жил на Руси, Станислав Станиславович, и тоже был русским...
— Ныне ты тоже волею судеб переменишь обычаи и в Польше станешь поляком...
Филарет поднялся. Обида и гнев сменялись на его лице.
— Ты волен шутить надо мной, гетман, но над верой не шутят!
— Что тебе помстилось, Филарет? Я и не думал шутить над твоей православной верой! Или мы не христиане с тобой?
Филарет подумал, что гетман лукавит. Или не чаял он, подобно Сапеге, что иезуиты обратят его в католическую веру?!
Жолкевский проводил его на крыльцо, положил ему на плечо руку.
— Какой день, а? Славная ныне охота в здешних местах... Запомни этот день, владыка, а всё дурное забудь...
Филарет обвёл глазами подворье, заросшее жасмином. Его кусты уже распускали первые клейкие листочки. Возле крыльца густо зеленела мурава. По ней, что-то лопоча, важно похаживал индюк.
Оба спустились с крыльца. Жолкевский вдруг обнял своего гостя.
— Не поминай меня лихом, Фёдор Никитич! Мы с тобой уже старики. А я и того старее тебя.
На глазах Жолкевского показались слёзы. Он молча проводил Филарета до колымаги. Сидевший на козлах кучер с любопытством наблюдал эту сцену, чтобы рассказать о ней охранникам русских послов.
На судне многие были разочарованы. Гетман не пожаловал охранникам столь долгожданную бочку вина. Приуныли забубённые головы, зато ни скандалов, ни драк. А Филарету как будто прибавилось уважения: его чествовал сам гетман. Князь Голицын его не понимал: молчит, будто беда нежданная свалилась.
— Дозволь спросить тебя, владыка: не обещал ли тебе пан Жолкевский похлопотать за нас перед королём?
— Или тебе неведомо, князь, что просить о милосердии недруга — значит, отдать ему свою душу? — хмуро ответил Филарет и вновь погрузился в молчание.
Он сожалел, что принял приглашение Жолкевского и пил с ним вино в том самом поместье, которое король пожаловал ему за одоление Руси. Перед глазами стояла разорённая и сожжённая Москва. Где её богатства, коим завидовали иноземцы?! Где величие её дворцов, палат купеческих и садов? Всё пепел и пыль. Вспомнились слова Жолкевского: «Не бери всё близко к сердцу...» Да кто не заплачет о таком великом разрушении родной земли! Каменносердым ляхам чуждо горе русских и не понять их бед нестерпимых, печали нашей горькой! Думают, видно, что навеки поразили душу нашу православную. Радуются, что прервалась святая литургия, не стало приношения святой просфоры, не слышно ни молитвенного пения, ни звона колоколов. Напрасно, однако, чают они конечной погибели Русской земли, ибо велика она и неисповедима её сила! Не однажды возрождалась она из пепла милосердием Божиим.
Плыли они мимо густонаселённых и обильных литовских земель. Хутора и хуторочки лепились один к другому. Остановились для загрузки дров и провизии в небольшом городке. Из церкви доносились голоса поющих. Всюду видно церковное благосостояние. Ксёндзы в пышных богатых одеждах. Вид доволенный. Духовные особы чином поменьше тоже держатся важно. Всё это так далеко от благопристойной скромности православного служения.
Сойти на берег послам не позволили, и Филарет рассеянно наблюдал у борта за городской суетой. Он помнил, что эта земля не раз посылала на Русь отряды своих завоевателей. Не одно поколение русичей было посечено их мечами. Сии беды насылались за грехи — не о том ли сказано у пророка?
Неожиданно подошёл Голицын.
— Филарет, разреши меня от немоты. С отроческих лет хранил в памяти слова пророка. Будто бы и сейчас помню, но слова не идут. Память не служит мне, как прежде. Но начало помню: «Боже, пришли враги во владения твои и осквернили церковь святую твою...»
Филарет посмотрел на князя, удивлённый, что им в одночасье пришли одни и те же слова. Да чему, однако, удивляться, ежели оба воочию видели, как сбывались пророческие слова. Именно, именно: «...осквернили церковь святую твою...» Филарет помолчал немного, вспоминая:
«...Стал Иерусалим подобен овощному хранилищу, оставили трупы рабов твоих в пищу птицам небесным, плоть преподобных твоих — зверям земным, пролили кровь их, словно воду...»
— Видно, что не своей волей едут...
Разговаривая, они не заметили, как на берегу запестрела толпа любопытных.
— Везут-то их неволею. Вишь, как нудятся с печали-то...
— Це дуже велики людины. Кафтаны на них дуже важные.
— Да куда ж их визуць?
— В тюрьму...
— Царь-то их Василий, слышь, кару смертную принял...
— Ужели и этих покарают?
— А то! Ежели злодеи повинились в умышлении противу короля!..
Князь и Филарет, до которых долетали эти речи, не сговариваясь, перешли на противоположную сторону судна.
— Вот нас и назвали злодеями! Глас народа — глас Божий, — горько пошутил Голицын.
Помолчав немного, он спросил:
— Слышал, владыка, как латины высказывались, будто царь Василий «кару смертную принял»?
Филарет ничего не ответил. Чувствовалось, что обоим было как-то не по себе. Или не были они причастны к горькой судьбе царя Василия? Не родственники ли Филарета вынесли свой суд над венценосцем? Не князь ли Голицын стоял на Красной площади, ожидая, когда мятежники сведут царя с престола? И кому теперь досталось царство? Страшно и подумать!
Оба стали говорить, какой дорогой повезли в Польшу царя Василия, как будто это имело значение. Голицын, водивший знакомства среди смолян, рассказывал с их слов, с каким достоинством держался русский царь в польском плену. Он отказался поклониться королю Сигизмунду и не признавал себя пленником. Как же должен был ненавидеть его Сигизмунд! Не мог простить ему разгрома самозванца Гришки Отрепьева, который, сидя на царском троне, проводил политику поляков. Князь Голицын и Филарет хорошо помнили те опасные дни, когда Василий Шуйский организовал ополчение против самозванца и поляков. Паны ещё не раз припомнят ему гибель соотечественников. И кто из бояр и князей поддержал в те дни подвиг Василия Шуйского? Никто.
Позже Филарет написал об этом в своих воспоминаниях. Но они уже в те дни тревожили его. В душе Филарета, склонной к высоким чувствам, постоянно жило сознание святой законности возмездия, необходимого торжества над злом. Он верил, что любое зло беспощадно карается в свой срок. Это чувство проистекало из истинной глубочайшей веры в Бога. В предчувствии возмездия душа Филарета вместе с унынием от сознания своей греховности и вины испытывала некий сладкий трепет в ожидании торжества правды.
Они с князем Голицыным долго толковали об этом, что ещё больше сблизило их в дороге. Филарет думал о том, что они с князем Василием вместе поддерживали наследственную дружбу незабвенного родителя Никиты Романовича с домом князей Голицыных, когда у них был общий друг — дьяк Андрей Щелкалов, всесильный канцлер при Иване Грозном.
Вскоре Филарета разлучили с князем Голицыным. Князя отправили на жительство в небольшой городок Мариенгоф, а Филарета повезли в Варшаву и поместили в доме Сапеги, где он и жил многие годы под неусыпным присмотром сего добровольного пристава.
ГЛАВА 60 ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ
С польским пленом для Филарета начались годы тяжких испытаний. Одиночество и неизвестность по поводу сына Михаила — тревога о нём была более острой и мучительной, чем в годы монастырского заточения на севере под Холмогорами. Сугубая опасность для сына была в том, что патриарх Гермоген счёл его достойным русского престола.
Страх Филарета усилился, когда он узнал, что после победного вступления в Москву ополченцев Минина и Пожарского было принято соборное решение об избрании на царство его сына Михаила. Всё ли было правдой в тех слухах — Филарет не ведал.
Поляки обвиняли его в том, что им нарушена клятва. Он-де целовал крест на верность королевичу Владиславу, а сам всеми силами способствовал утверждению сына на царстве; из-под Смоленска, где обещал провести обряд крещения польского королевича, он-де писал смутные грамоты в разные города против Сигизмунда. Во всём ростовский митрополит королевичу Владиславу «неправду и измену учинил».
На эти упрёки поляков в «измене» Филарета бояре отвечали: «Если бы митрополит Филарет государство сыну своему подыскивал, то в то время, как мы, бояре, с гетманом Жолкевским договаривались, он бы дело портил и на то не производил, потому что он был тогда в Москве самою большою властью под патриархом, а братья его и племянники — бояре большие же, и в послах к государю вашему он бы не пошёл, и сына своего в Москве с вашими людьми не оставил».
Филарет справедливо опасался, что поляки посадят его в тюрьму. Этого боялись и бояре: «У вас наши не пленники, но послы, митрополит Филарет и князь Голицын, разлучены, по разным местам сидят в темницах; а у нас пленники ваши, Струсь с товарищами, живут в Москве, дворы им даны добрые, пищу и питьё получают достаточно, людям их вольно ходить по делам господским, скудости и тесноты нет никакой».
Вскоре в Польшу прибыл посол Желябужский. В беседе с ним в присутствии Сапеги Филарет был осторожен. Он спросил посла:
— Как Бог милует сына моего?
— Государь в добром здоровье.
— Не гораздо вы сделали, что послали меня от всего Московского Российского государства с наказом к Жигимонту-королю просить сына его, Владислава-королевича, на наше государство государем; я до сих пор делаю во всём правду, а после меня выбрали на Московское государство государем сына моего, Михаила Фёдоровича; и вы в том передо мною неправы: ежели вы хотели выбирать государя, то можно было не только моего сына, а вы это теперь сделали без моего ведома.
Тревожась за будущее, Филарет радовался счастливой звезде сына, которая хранила от смертельной опасности и в период опалы на Романовых, когда погибли многие и старшие, и сильные представители этой семьи, и в смутное время разгрома Ростова Тушинским вором, и во время страшного пожара в Москве 19-20 марта 1611 года, когда Михаил с матерью находились в Кремле, и в ту пору, когда считавший себя московским царём королевич Владислав стоял под стенами Москвы и бои шли уже в самой столице.
Сам Господь оберегал от опасностей его сына, который не искал трона, не был к нему подготовлен и не приложил никаких усилий, чтобы его занять. Всё в его жизни решалось за него Небесными силами.
Избрание первого из Романовых — Михаила Фёдоровича — это своеобразный прецедент в мировой истории. Где, в какие века, в какой стране случалось такое, что из двух представителей одной семьи, соединённых самыми близкими, кровными узами, младший, сын, зван на царство, а отец — пленник в чужой стране, пленник короля, сына которого он обязан был крестить в православную веру и привезти государем в собственную страну, и оба, и отец и сын, крест на том целовали.
Можно неоднократно задавать один и тот же вопрос, почему избрали именно Михаила Романова, пусть связанного родственными узами с предыдущей династией, но в свои семнадцать лет ничем не примечательного? Почему он, тихий, покорный чужой воле — особенно материнской, начисто лишённый честолюбия, удержался на троне в тяжелейшую для Руси эпоху (польская интервенция, шведская оккупация, восстание Заруцкого на юге)? Ведь в подобных условиях зашатался трон и Годунова, и Василия Шуйского.
Филарет-отец не без оснований опасался за сына. Для семнадцатилетнего юноши сам факт избрания был полной неожиданностью. Боязнь, испуг, страх переполняли его робкую душу. Позлее Филарет с гордостью узнал о достойном и твёрдом слове своего сына. С «великим гневом и плачем» ответил он послам Земского собора: «Отец мой, митрополит Филарет, теперь у короля в Литве в большом утеснении, и как сведает король, что на Московском государстве учинился сын митрополита, то сейчас же велит сделать над ним какое-нибудь зло. Без благословения отца моего мне на Московском государстве быть нельзя».
В Варшаве Филарет жил у Сапеги, непримиримого врага русского государства, и именно в его доме проходили все встречи митрополита с посланцами сына-царя. Прочитав послание Михаила, Филарет спросил:
— Вы подлинно говорите, что сын мой учинился у вас государем не по своему хотению, а изволением Божиим да вашим принуждением?
Посол вежливо ответил на это:
— Сделалось то волей Божией, а не хотением сына твоего.
Филарет помолчал немного, затем, обратившись к Сапеге и присутствующим в комнате полякам, сказал:
— Как было то сделать сыну моему? Остался сын от меня молодым, всего шестнадцати лет, и без семьи: нас только и осталось — я здесь да один брат мой в Москве, Иван Никитич.
Сапега вытерпел всю эту сцену, но под конец, не выдержав, ответил грубо, хотя в его словах всё же была доля правды:
— Посадили сына твоего на Московское государство одни казаки-донцы.
Слушать такое не пристало московскому послу, особенно в присутствии отца русского государя:
— Что ты, пан канцлер, такое слово говоришь! То сделалось волей и хотением Бога нашего. Бог послал своего святого духа в сердца всех людей.
Но Лев Сапега не был бы Львом Сапегой, если бы язвительно не добавил:
— Ещё где-то у вас ненастоящий государь! Два у вас государя — один на Москве, а другой здесь — Владислав-королевич: ему вы все крест целовали.
Последовало тягостное молчание. Его прервал пан Олешинский:
— Весной пойдёт к Москве королевич Владислав, а с ним мы все пойдём Речью Посполитой. Королевич сделает вашего митрополита патриархом, а сына его — боярином.
Это было сказано как бы между прочим, будто речь шла не о Филарете и его сыне-царе.
Сдерживая возмущение, по возможности твёрдо Филарет ответил:
— Я в патриархи не хочу.
Когда король Сигизмунд приказал Филарету написать сыну грамоты, нужные для Польши, Филарет столь же решительно отказался. Вообще поведение Филарета после избрания сына резко изменилось. Об этом свидетельствует и поляк Гридич: «Как сведал Филарет, что сын его учинился Государем, то стал на сына своего надёжен, стал упрям и сердит, к себе не пустит и грамот не пишет».
Тем не менее начало было положено, и последовали долгие и тяжкие переговоры о мире. Они шли с переменным успехом. А пока в феврале 1617 года был подписан вечный мир со Швецией.
Вернув Новгород и заставив шведских королей навсегда отказаться от трона Рюриковичей, русское государство уступило Швеции ряд городов (Ивангород, Копорье, Орешек), что лишало его выхода к Балтийскому морю. Но этот мир был тогда необходим ввиду враждебных действий со стороны Польши.
Два месяца спустя, в апреле 1617 года, королевич Владислав предпринял первую попытку похода на Русь. Благословляя его, архиепископ-примас Варшавы сказал:
— Мы не только станем молить Господа Бога, чтобы он благословил ваше королевское высочество в этом деле, но также, если окажется нужда в дальнейших пособиях, будем стараться, чтоб республика наша помогала вам; только, ваше высочество, старайтесь направлять дела к её благу.
На что Владислав ответил:
— Я иду с тем намерением, чтобы прежде всего иметь в виду славу Господа Бога моего и святую католическую веру, в какой воспитан и утверждён. Славной республике, которая питала меня доселе и теперь отправляет для приобретения ещё большей славы, расширения границ своих и завоевания северного государства, буду воздавать должную благодарность.
Позднее королевич вынужден был рассылать по всем русским городам грамоты, где говорил, что советники Михаила Романова утверждают, что он-де идёт «на истребление православной веры», а у него этого «и на уме нет».
Несмотря на всё благолепие, первая попытка окончилась неудачей. Вторая попытка, предпринятая в сентябре того же года, была более успешной. Владиславу как царю Московскому сдались Дорогобуж и Вязьма. Королевич шёл к Москве. Снова в столице появились подмётные грамоты от «истинного царя» Московского — Владислава Жигимонтовича.
Но времена были не те. Прежние грамоты — и первого, и второго Лжедимитрия — как-то волновали, возмущали москвичей, эти же не произвели никакого впечатления. Вражеское кольцо вокруг Москвы сжималось. Весь 1618 год прошёл в безрезультатных переговорах и тяжёлых сражениях. Вновь поляки принесли русскому народу великую беду, сжигали деревни, грабили города. На помощь Владиславу с двадцатью тысячами казаков шёл гетман Сагайдачный.
9 сентября 1618 года Михаил собрал Собор. Он объявил:
— Прося у Бога милости, за православную веру против недруга своего Владислава обещаюсь стоять на Москве, в осаде сидеть, с королевичем и с польскими и литовскими людьми биться, сколько милосердный Бог помощ подаст, и вы бы, митрополиты, бояре и всяких чинов люди, за православную веру, за меня, государя, и за себя с государем в осаде сидели, а на королевичеву и ни на какую прелесть не покушались.
Ответ был единодушный. Все дали обет Богу стоять за православную веру, за государя стоять и поклялись биться с врагом до смерти, не щадя жизней своих.
К концу сентября положение усложнилось. 20 сентября королевич был уже в Тушине (казалось, возобновляются прежние времена Тушинского вора!), а Сагайдачный — у Донского монастыря. Бояре с войском вышли было из Москвы, но их вдруг охватил такой страх, что они не смогли помешать вражескому объединению и без боя пропустили гетмана. Ужас москвичей усиливала комета, которая буквально висела над столицей. Начавшиеся переговоры снова ник чему не привели. Бои возобновились и шли уже у Арбатских ворот, но все приступы были отбиты.
Королевич был вынужден отступить к Калуге. Жестокие морозы пришли на помощь русскому войску.
Вновь начались переговоры. Надо было думать о размене пленных, но неожиданно трагические обстоятельства помешали переговорам, которые и без того зашли в тупик.
ГЛАВА 61 СМЕРТЬ КНЯЗЯ ГОЛИЦЫНА И НОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
Переговоры с поляками о размене пленных были прерваны внезапной смертью князя Василия Голицына. «Не отравы ли дали князю?» — заметил, обратившись к Филарету, склонный к подозрительности воевода Шеин. Об этой подозрительности доблестного защитника Смоленска вспомнили впоследствии как о даре судьбы, позволявшем ему предугадывать многое. Предвидел он и свою погибель от каверзников.
Сам Филарет порой не чаял добра и для самого себя. В душе боролись бессильная усталость и надежда. Знал он по слухам о первых шагах сына-государя. Это давало ему силы терпеть и надеяться, что воля всё же придёт. Или мало вынесли Романовы в ссылке, уготованной им Годуновым? Не за их ли великие страдания Господь пожалел и сохранил последнюю отрасль древнего рода — сына милого Михаила, ныне государя Русской земли?
Эти мысли не оставляли Филарета и в те минуты, когда он молился за упокой души князя Голицына. Хоронили его в Вильне по приказанию короля. Почитаемый соплеменниками именитый князь мечтал вырваться на волю, а нашёл могилу в чужой земле. Он был похоронен в суровые январские морозы...
Возле гроба была всего горстка людей, которые могли поплакать о нём. Надгробное слово говорил архимандрит чужой земли. Далее прозвучало изречение греческого философа, что жизнь человеческая подобна комедии...
И ни одного доброго слова об усопшем. Зато почтенный отец призвал слушавших его благословлять Бога за «доброго короля», который разрешил похоронить чужеземца «так хорошо, как не могли бы похоронить его и в Москве». Архимандрит и сам растрогался от этих слов и призвал усопшего благодарить короля за то, что приготовил ему такое мягкое ложе на такой долгий сон...
А слушавшие эти чудные для них слова соотечественники несчастного князя думали о том, как бы перенести его тело на родину, ибо только на родине упокоится его душа.
Долго ещё с недоумением вспоминали русские пленники эту похвалу польскому королю, произнесённую архимандритом:
— Нашёл что хвалить. Крепка могила, да чёрт ей рад!
После смерти князя Голицына в стане русских пленников воцарилось тревожное уныние. Всяко опасался за самого себя. Разговоры меж собой вели редко и осторожно. Казалось, люди дали обет молчания. Да и как не бояться? Рядом шныряли приставы и литовские люди. Когда московские уполномоченные прислали к Филарету нужного человека Андрея Усова, он так и не смог добиться тайного свидания с ним. Филарету надо было остерегаться более других: поляки обвиняли его в «измене». Могли и удержать его в плену, и расправиться с ним, как они сделали это с царём Василием и его родными.
Все осознавали беду Филарета и знали, что любое неосторожное слово повлечёт общую беду. Когда-то они любили вспоминать поговорку: «Красное слово — серебро, а молчание — золото». Иногда добавляли: «А хорошие дела — золото». Ныне же ни «красных слов», ни «хороших дел». Никто не ведал, как одолеть хитроумных планов, которые медлили с разменом пленных и всякий раз находили затейные отговорки. Филарета и его товарищей обнадёживало то, что их разменивали на пана Струся. Господарчик он сам по себе был ледащий, но родство у него имелось знатное: приходился племянником важному польскому вельможе Якову Потоцкому.
Между тем в польском стане можно было заметить непривычное оживление. На плацу то появлялся, то исчезал Александр Гонсевский — главное лицо предстоящих переговоров. Что ещё задумал этот каверзник?
Как заранее разгадать его хитрости? Бог вроде бы не обидел русских умом, да поди ж ты! Хоть и говорят, что хитрость не заменяет ума, так ведь и ум не заменяет хитрости.
Для начала надо было подумать, чего ожидать от пана Гонсевского. Знали его ловкость и затейливость ещё по Москве, когда пан приехал в стольный град как посланник Сигизмунда, чтобы поздравить ложного Димитрия, а попросту Гришку Отрепьева с восшествием на престол. Сменились самозванцы, а Гонсевский оставался в стране наместником Сигизмунда. Это он сыграл роковую роль в гибели главы русского ополчения Прокопия Ляпунова, он учинил расправу над москвитянами в годы Смуты. Всем был памятен тот страшный день, когда пан сгонял людей в поле в жестокий мороз и расстреливал всех, кто отказывался целовать крест королевичу Владиславу. Позже Гонсевский со смехом вспоминал, что он велел своим прислужникам из русских подпоясываться полотенцами в «знак» верной службы польскому королю. Как давно это было и как недавно...
Настала, наконец, та минута, когда откладывать переговоры было не резон. Но Гонсевский нашёл «резон», сыскал повод для отсрочки переговоров. Пан вышел перед русскими пленниками при сабле, с торжественным видом. Филарет отметил, что Гонсевский, похоже, собирается вершить дела по правде. Речь свою он начал не то с жалоб, не то с угроз:
— Бояре делают не по договору. Немногих литовских пленников везут на размен, а на Москве по боярским дворам и по тюрьмам немало их пленников засажено, иных бояре и дворяне разослали по своим поместьям и вотчинам. Бояре творят неправду, чего никогда в христианстве не делается: иных пленников роздали в подарки татарам в Крым, иных — в Персию и к ногаям. Разве так христиане поступают — христиан поганцам отдают?
Среди русских начались перешёптывания.
— Ты, пан, не наводи тень на ясный день, — заметил воевода Шеин, когда Гонсевский на минуту смолк. — На Руси кто христианина обидит, тот себе обиду чинит. Виданное ли дело, чтобы христиан посылать в подарок неверным!
Но Гонсевский, словно не слыша возражений, продолжал:
— В Московии в одной тюрьме держат по сто пятьдесят человек католического вероисповедания, принуждают креститься в московскую веру и целовать крест государю. А тех королевских людей, немцев, французов, англичан, испанцев, нидерландцев, которые взяты в плен, бояре на размен отдать не хотят, и всё это будет нарушением посольскому двору.
— Вся твоя речь затейная, — возражал воевода. — Ни одного слова правды.
Но литовские уполномоченные не стали слушать москвитян и назначили съезд представителей двух сторон на 27 мая. Тут произошло небольшое замешательство, вызванное несогласованностью. Московские уполномоченные сами потребовали отсрочки, чтобы определить число провожатых.
Это рассердило Филарета, и, не скрывая досады, он сказал дворянам:
— Для чего бояре с литовскими послами съезд отложили и приурочили его к воскресенью 30-го? Нам и так уже здешнее житьё наскучило, не год и не два терпим нужду и заточение, а они лишь грамоты к нам пишут и передают с вами, что им подозрительно, отчего из Дорогобужа к ним от меня никакой грамоты не прислано. А о чём нам больше к ним писать?
Филарет остановился. До него вдруг донеслись произнесённые тихим шёпотом слова московского дьяка: «Резон ли из-за такого малого срока спор затевать? Отчего не потерпеть до воскресенья? Терпели и более». Филарет метнул на дьяка строгий взгляд и продолжал:
— И так от меня писано трижды. Боярам давно уже известно, что меня на размен привезли, а ежели бы меня на размен отдать не хотели, то меня из Литвы не повезли бы или из Орши назад поворотили...
После речи Филарета смельчаков поддержать его не нашлось. Все опасливо помалкивали. Но поляки не стали спорить, и литовские гонцы отправились за паном Струсем для размена. «Что значит царёв батюшка: силу за собой чувствует, — подумал дьяк Томила Луговской и, словно возражая самому себе, добавил: — Впрочем, он и прежде был посмелее бояр. В нём всегда было превосходство и упорство, за что и невзлюбил его Годунов. Да и другие бояре его не особо жаловали».
Однако помехи и тут случились. Когда польские гонцы и русские приставы прибыли в Вязьму, они наши пана Струся в сильном подпитии, и он по обыкновению полез драться. Приставы стерпели его грубость и начали по-доброму уговаривать. Благодушный пристав Акиндин убеждал его:
— Бояре, жалея тебя и оказывая тебе свою доброту, присылают к тебе литовских гонцов, а ты, напившись пьян, дуришь и нас, царского величества дворян, позоришь!
На эти слова Струсь выругался и ударил пристава:
— Пся крев!
Тогда другой пристав, Зотов, крепкий детина, стал унимать его:
— Нам с тобой драться не честь. Кликнем с караула стрельцов и велим тебя опозорить, если уж ты сам над собой чести держать не умеешь. Завтра же над тобой тесноты прибудет, и вперёд так напиваться и дурить не станешь.
Струсь кинулся к сабле, но его удержали литовские гонцы.
Наконец 30 мая съехались все уполномоченные для последнего, как думалось, «торга». Но Гонсевский снова принялся за свои затейные речи:
— Ваши бояре обратили в холопье и крестили силой наших людей, женили их и держат в неволе...
Его остановил воевода Шеин:
— Сановный пан, ты скажи по чести, какие бояре и кого из ваших литовских людей обратили в холопы?
— Боярин Дмитрий Пожарский многих наших людей разослал по своим поместьям и у себя держит на цепях, а тех, которые из тюрем выпущены, в морозы злые отпустили нагих и босых и всех поморили.
Шеин строго заметил:
— За князем Дмитрием Пожарским от века не замечали дурных дел. Ваш же пан Жолкевский добром говорил о нём.
Но Гонсевский начал кипятиться ещё больше, возводя хулу на именитого князя. Дело вновь затягивалось. Польские послы выдвинули «новые статьи», чего так опасались русские. Хитроумные каверзники действовали наверняка, зная, сколь хлопочет о своём отце Филарете юный государь в Москве. Оттого он и прислал им свой царский подарок: воз соболиных шкурок, что ценились в Польше на вес золота. Поляки подарок приняли, но продолжали навязывать русским «новую статью»: оставить вольной дорогу мимо Брянска между уступленными Польше городами.
Филарет не стал перечить и о «новых статьях» поляков не обмолвился ни словом, только заплакал, проговорив:
— Позволил бы мне Бог видеть сына моего, великого государя, и всех православных христиан в Московском государстве...
В конце концов уполномоченным было наказано «не медлить с обменом, но чтоб в обозе у бояр было бережно». Уполномоченные поняли это как предупреждение — опасаться обмана — и отказались отпустить Струся прежде Филарета, Тогда Филарет вмешался сам:
— Высылайте вперёд Струся и худа никакого не опасайтесь!
Сделаны были два моста: одним должен был ехать Филарет со своими московскими людьми, другим — Струсь с литовскими пленниками. У съезжего места Филарета дожидались московские дворяне и выборные из других городов. У всех был праздничный и торжественный вид. Свершилось!.. Они тоже долго томились ожиданием и тревожились. Молили Бога даровать крепость пленным страдальцам. Кто-то тихонько пел псалмы: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес».
ГЛАВА 62 ПЕРВЫЙ ГЛОТОК ВОЛИ
Как же он торопил события, как, скрывая внутреннюю тревогу, настоятельно повторял: «Высылайте Струся! Не опасайтесь худа!» Хотя как было не опасаться... Опасностей было много. Его ещё могли вернуть. Недаром же в Польше толковали о якобы живом сыне Марины Мнишек. В народе его называли Ворёнком, и смуту он мог вызвать великую. Филарету не раз приходили на память слова Марины Мнишек: «Вы хоть умрите от злости, а мы дадим вам Димитрия». Видно, любы были полякам этим слова, ежели они поддерживали слух о живом Ворёнке. Оттого и тянули время с разменом пленных, оттого и хитрили.
Мучителен всякий плен, но этот — особенно. Филарет не без основания Думал, что трон под сыном Михаилом непрочен. Поляки знали это, и их угрозы вернуть Филарета назад, к пленным, таили в себе опасность.
Но, слава богу, возок с митрополитом Филаретом, за которым шли остальные пленные — воевода боярин Шеин, дьяк Томила Луговской и все дворяне, — переехал мост и остановился возле группы встречавших его знатных людей из Москвы. Боярин Фёдор Иванович Шереметев начал речь, обращённую к Филарету:
— Государь Михаил Фёдорович велел тебе челом ударить, о здоровье спросить, а про своё велел сказать, что твоими и материнскими молитвами здравствует...
Слушая боярина, Филарет думал, что оставит его в приближении к себе. Ему понадобятся верные и надёжные люди. Шереметевы, древний боярский род, были в особом почёте при Иване Грозном, который жаловал их из молодых стольников прямо в бояре. Честь особая. Ни дородством, ни умом, ни храбростью не обидел Бог Шереметевых: они и ближники царя в делах его, и надёжные воеводы. В этом роду сыскал царь Иван невесту своему старшему сыну — Елену, да плохая ей досталась доля...
Отогнав от себя эти так некстати пришедшие воспоминания, Филарет продолжал слушать, как боярин бил челом от матери царской, Марфы Ивановны. Филарет спросил о здоровье царя и его матери, потом благословил Шереметьева и справился о его здоровье.
Никто не заметил поспешности, с какой Филарет невольно для себя оборвал собственные расспросы о здоровье жены. Непростые беспокойные чувства обуревали его, и он старался не давать им волю. В его мыслях и заботах некогда милая его жена Ксения Ивановна ныне существовала отдельно. Потому ли, что оба давно были пострижены и злой рок разлучил их? Потому ли, что долгая разлука охладила душевные порывы и сердечную привязанность? Нет, тут было ещё и то, что великая старица, как теперь её называли, посягнула на сокровищницу русских цариц и многое присвоила себе, словно лёгкую добычу. Слышал он также, что её ближние родственники, Салтыковы, пользуясь её покровительством, старались опорочить и лишить всякого достояния освободителя державы от поляков — князя Дмитрия Пожарского. Не оттого ли пан Гонсевский так позорил князя Пожарского, что прознал о немилости к нему со стороны царёвых родичей? Для него же, Филарета, князь Дмитрий был и помощником и соратником и ныне также во всём способствовал ему.
За Шереметевым к Филарету подошёл князь Мезецкий и бил челом от бояр и всего государства. Филарет благословил Мезецкого и спросил о здоровье послов. С честью был встречен и воевода Шеин.
К тому времени стемнело, и ночевать пришлось в осторожке, как в то время называли небольшие селения. Подобный осторожен обычно строился на скорую руку и был обнесён частоколом, а домики были бревенчатыми.
Сон Филарета был крепким. Когда он проснулся, майское утро было таким свежим и само пробуждение таким радостным, что все чёрные мысли как-то забылись. На душе стало просторно, и хотелось всем делать добро. Он послал польским людям жалованье от себя, первым делом снедь — баранов, кур, вина, мёда, калачей. Впервые за эти годы с аппетитом позавтракав, он, не мешкая, отправился в Вязьму.
Возле Можайска снова начались торжественные встречи. Рязанский архиепископ Иосиф и князь Дмитрий Пожарский после церемонных поклонов говорили речи. Святой отец не мог сдержать слёз.
— Служба твоя, радение и терпение за нашу православную веру, за святые Божии церкви, за нас, за великого государя и за всё православное христианство Московского государства ведомы были...
Речь князя Дмитрия Пожарского была короткой, и говорил он о самом главном:
— Всё наше отечество и великий государь радели и промышляли о том, чтобы тебя из такой тяжкой скорби высвободить...
И так от одного города к другому, от села к селу Филарета встречали многие чиновные люди. Во время пути радовали зелень ещё не заколосившейся пшеницы и обилие луговых цветов. И на сколько хватало глаз, простирались незасеянные пустоши.
Неслись, неслись мысли, как обустроить землю. Филарет знал, что в закромах не хватает зерна, что люди забыли вкус калачей, пухли от голода, что население катастрофически убывало — и в сёлах, и в городах.
Поднять ли землю своими руками? Везде, где проезжал Филарет, до него доходили вести, что насиженные места покидали не только крестьяне, но и посадские люди. Даже в более благополучном селе Никольском, опустевшем всего на треть, оставалось лишь двое посадских. Многие горожане подавались в сёла и там смешивались с жителями, так что их было не отличить. Главная причина такого переселения — высокие подати за дом. Даже если он разрушился либо сгорел во время пожара — всё равно плати. А что в селе? Подати ещё кабальнее. Вот и бегали селяне от владельца к владельцу, ибо принцип жизни был всюду одинаковый: спасайся кто может.
Спасались в лесах, шалашах. Более отчаянные уходили в разбойники либо в казаки. Попасть к казакам было труднее: требовался вклад. Оставалось покоряться чужой воле, а в не своей воле та же нищета и ужас.
Оглядывая подворья, заросшие бурьяном и лебёдкой, и не находя там признаков жизни, встречая на дорогах одиноких стариков, протягивающих руки за милостыней, Филарет не то чтобы проникался жалостью к людям, но как опытный и строгий хозяин видел, что эта разруха может погубить государство, что положение надо менять.
Русскому государству ныне более всего надобна твёрдая рука. Эта мысль поднимала в душе Филарета энергию. В нём словно бы напрягались мускулы действия. Он вырвет державу из нищеты и разора, в который её ввергли самозванцы, смута и поляки. В голове Филарета роились многие дельные мысли, и многим из них он вскоре дал ход.
Позже Филарет благословлял про себя эти дни возвращения в Москву и счастливый возок, где он впервые почувствовал, что очутился на воле, и в замыслах своих ощутил себя крепче, чем прежде. При виде разорения отеческой земли в нём проснулся хозяин, которому не терпелось взять дела в свои руки. Ни клобук, ни чёрная мантия, в которую он был облачен, не стали ему помехой. Привычки светской жизни, честолюбие и воля преобразователя были в нём сильнее требований духовного сана.
Но вот показалась речка Ходынка. Памятные с детства места... Туда некогда прибегал он с боярскими отроками, и затевались потешные сражения. Здесь был луг, а ныне домики сложили из брёвен. Загородки, заборы. Острожек под боком, у самой Москвы. Видимо, недаром иноземцы называют стольный град большой деревней. Тут всё вперемешку: и сельские строения, и дворцы из кирпича.
«Что за насельники здесь волю себе взяли, — продолжал думать Филарет, — но видно, что строились с разумом, подальше от московской грязи, тесноты, пожаров. А всё же придётся потеснить вас, люди добрые. Место это для фабрики самое пригодное. Фабрику тут будем ставить, — решил Филарет, — и хоть говорят: «кто первее, тот правее», да ныне по-иному мыслят. Ныне правее сила да нужды государевы».
Филарет вспомнил разговоры в польском плену. Паны похвалялись, что задумали ставить фабрику в Московии. «Добро. Теперь мы сами поставим фабрики».
Когда подъезжали к мосту через речку Ходынку, к Филарету приблизился Шеин.
— Гляди, государь, сколь московского люда собралось на Ходынском поле. Любовь и почёт тебе великий.
А Филарет подумал: «Не договариваешь, воевода. Это московские власти первые прознали, чья сила будет ныне на Москве».
Встречали Филарета бояре московские, дворяне, приказные люди. Все кланялись и сторонились, давая дорогу возку. И далее снова люди — торговые, жилецкие.
Когда доехали до речки Пресни, показалась царская свита. Он, его сын Михаил, ныне государь, и с ним митрополит.
Филарет вышел из возка, и царь Михаил поклонился в ноги отцу. Затем ему поклонился Филарет. Они смотрели друг на друга, не в силах сказать ни слова, лишь плакали оба. И плакали все, кто видел это. Позже вспоминали, что картина эта была жалостливой.
Рядом дожидались сани, куда должен был пересесть Филарет. Таково было условие этикета для встречи высоких гостей. А так как июнь не был предназначен для санной езды, русскими умельцами были изготовлены особые колёсики, обеспечивавшие движение саней.
Встреча великого пленника была торжественной. Впереди саней шёл сам царь с боярами, шествие замыкал боярин Шереметев с товарищами.
День памятный, незабываемый. Но отчего так мало москвитян-простолюдинов? Любопытствующие предпочитали не выбегать на улицы, а больше выглядывали из окошек да калиток. Зато много было стрельцов, и долго звонили колокола. Филарет прикрыл глаза. Лицо его было сухим и строгим. Колокольный звон утомлял его.
А вот и Кремль. Слава богу!
Красная площадь многоголосо гудела, хотя можно было заметить, что всякая торговля на этот час была остановлена. Оттого и показались ему во время пути улицы обезлюдившими, что все устремились сюда. Многие надеялись на даровое угощение. Вина в таких случаях не жалели, и радостные крики были тому свидетельством.
Взор Филарета задержался на толпе. Слух его уловил радостный плач. Это ему радуются! Кто-то молился. Слышалось пение псалмов, и глаза Филарета снова увлажнились. Целое море крестов и хоругвей. Они высились над головами людей. Вперёд выдвинулись бояре и духовенство, расположились по чину.
Филарет вышел из «санной кареты», поддерживаемый сыном и боярами. Впервые за многие годы нога его ступила на московскую землю. Отец и сын шли, держась за руки, и это зрелище было великим потрясением для толпы. Седой старик в тёмном клобуке и мантии и царствующий сын — молодой государь. Послышались ликующие крики: « Государь-батюшка!»
Филарет приложился к вынесенным иконам и пошёл к забору, где его должен был встретить Иерусалимский патриарх Феофан. Но к нему неожиданно приблизились люди в тёмных монашеских одеждах. Опытным глазом Филарет сразу выделил среди них старого иеромонаха с суровыми чертами лица. Он держался прямо, с достоинством. Остальные явно робели. Были тут молодой протодьякон с жидкой бородкой и монастырские служки. Все низко поклонились ему.
— О чём просите?
— Спаси людей твоих от хулы и неправды, что творят злые беззаконники, — произнёс иеромонах.
— Кто сии беззаконники?
— По злобе их узнаешь.
— Да будет благословенно имя преподобного Дионисия! — воскликнул молодой монашек, словно бы превозмогая свой страх.
— Владыка, государь-батюшка, соверши суд над архимандритом Дионисием по правоте, — снова обратился к Филарету суровый иеромонах.
И, будто чувствуя прилив смелости, монахи заговорили все разом:
— Доколе станут поносить его враги!
— Обложились гордостью и злобой!
— Проведи, государь-батюшка, суд по правде.
Филарет обвёл всех строгим взглядом, спросил:
— Или нет крепких среди вас?
— Крепкие стали добычей.
Филарет некоторое время молчал. Большой смелостью должны были обладать эти люди, чтобы выступить в защиту «крамольного» архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия, осуждённого великим судом, где заседала и правила дела сама царская мать — инокиня Марфа. А разбираться в этом запутанном деле, о котором он слышал ещё в польском плену, придётся ему, Филарету, как только будет посвящён в патриархи. Он чувствовал, что тут было нечисто. На какие-то оплошки в этом деле намекал ему и иерусалимский патриарх Феофан, а это значит, что ему, Филарету, предстоит борьба с великой старицей Марфой, которая взяла большую власть при сыне-царе. Догадывался он и о неуёмной корысти келаря Авраамия Палицына. Явно позарился келарь Авраамий на сокровища Сергиевой лавры, самовольно забрав из монастырской сокровищницы золото, серебро, драгоценности и подарив их польскому королю Сигизмунду, за и что и был освобождён из плена. Марфа знает об этом и держит его руку. А за всё в ответе чистый душой и бескорыстный Дионисий.
Благословив склонившихся перед ним монахов, Филарет вошёл в собор.
...После службы и горячей молитвы в соборе Филарета поместили на Троицком подворье. Таков был этикет, такова была воля самого Филарета. Это место в Кремле, рядом с царским дворцом, отвёл под монастырское подворье Дмитрий Донской ради Сергия Радонежского, ибо святому старцу по прибытии в Москву надо было находиться ближе к великому князю.
Филарету тоже было удобно на этом подворье — рядом с сыном-царём. Со временем, когда его посвятили в патриархи, он переместился в патриарший дом, а пока к его приезду были поставлены каменные кельи в шесть дверей. Деревянные постройки были снесены: опасались пожара. В Москве пожары случались довольно часто, а у Филарета было немало зложелателей.
Троицкое подворье было к тому же мило душе царя Михаила. Сюда в судьбоносные дни, когда решался вопрос о царстве, стекались люди разных чинов и выражали своё благое изволение, чтобы на царство был избран Михаил Романов.
У Михаила Фёдоровича и его отца, только что вернувшегося из плена, было много забот. Но если строгое величавое лицо Филарета казалось непроницаемым для досужих догадок, то нежные иконописные черты Михаила сияли откровенной гордостью за великого отца, и лицо его заливала радость долгожданной встречи с ним.
Всё же следы какой-то душевной смуты лежали на милом лице молодого царя. Если бы в эту минуту его видела мать, она бы всё поняла. Ей ли не знать, сколь чуток был её Мишенька! Чистое дитя. Она бы догадалась, что он опасался строгого разговора между нею и отцом. Михаил знает её волю: чтобы его властолюбивый отец не мешался в государевы дела сына, а скрытно будет править она. Но чуяло её сердце, что крутой и решительный Филарет возьмёт бразды правления в свои руки.
Михаил Фёдорович думал в те дни не о государевых делах. Душа его горевала о судьбе несчастной невесты Марьи Хлоповой. Лихие люди силой заставили её покинуть царский дворец, где она жила наверху как царская невеста, а затем сослали вместе с родными неведомо куда. Он сокрушался, что у него не нашлось воли, дабы укоротить злобу ворогов, не дать свершиться безбожному делу.
Но почему его нежно любимая матушка оказалась заодно с его недругами? Почему Салтыковы, невзлюбившие его невесту, так завладели волей матушки, что она не хотела слышать даже имени невесты?
Только недавно дознался он, что Марьюшку сослали в неведомый Тобольск, основанный не столь давно, в правлении Бориса Годунова. Город ли, крепость ли. Несколько деревянных домишек, да тюрьма, да крепостной вал, да сторожевые стрелецкие посты. Для арестантов место в самый раз. Кругом непроходимые леса и болота. Чай, много волков и медведей. Сказывали, Годунов думал ссылать туда опасных людей, оттого и обнесли город высоким валом. Зимы там суровые, а ночи долгие. Каково там будет его Марьюшке, выросшей в довольстве да ласке? Дают ли ей свечи, чтобы коротать вечера за шитьём?
И за что она, его красивая добрая невеста, должна терпеть смертные муки? Или не он сам назвал её царской невестой? Ему вспомнились девичьи смотрины в царском дворце, куда привезли невест со всей земли. Марья была краше всех: высокая, статная, румяная, с русой косой. Прошло три года, как их разлучили, но и сейчас нет лучше и желаннее, чем она.
Михаил Фёдорович возлагал все надежды на отца, но был смущён тем, что станет невольным виновником смуты между матерью и отцом. Да и до него ли нынче батюшке! По его виду можно было понять, что он чем-то крепко озабочен. Когда пришли на Троицкое подворье, не поглядел даже, ладно ли обиты сукном двери его кельи. Цвет сукна — коричневый, а батюшка любит синий. Но он, кажется, ничего не замечал. Бегло и равнодушно оглядел убранство кельи и тотчас опустился в кресло.
Молодой царь рад был первой возможности побыть с отцом наедине, поговорить о своих делах. Он живо повёл беседу, но был остановлен странным видом отца. Тонкие черты заострились, застыли, а лицо побледнело так, что Михаилу Фёдоровичу стало страшно при мысли, не приключилась ли какая беда с государем-батюшкой. Он опустился перед ним на колени и осторожно приложился губами к руке. Тёплая... Слёзы полились из глаз молодого царя.
«Батюшка родимый! Да благословит тебя Господь на подвиг, предуготованный для тебя!»
ГЛАВА 63 ВЕЛИКАЯ СТАРИЦА
Ксения Ивановна Романова, в девичестве Шестова, с которой был повенчан Филарет ещё при царе Фёдоре, принадлежала к тому типу людей, которые на резких поворотах судьбы рождаются как бы заново. Круто изменяется облик таких людей, словно кто-то невидимый рвёт нить, связывающую их с прежним житием. Зная инокиню Марфу, трудно было поверить, что она была покорной и милой жёнкой, с весёлым покладистым нравом и вечной заботой о здоровье супруга.
Куда всё это делось?
Любые испытания, как бы они ни терзали человека, не могут дать ему другую душу, разве что подпортят характер. Душа даётся Богом. Может быть, за какие-то великие прегрешения Бог отнимает её, и тогда во владение человеком вступает дьявол. Наверно, так, ибо во все времена дьявол почитался отцом злобы и мучения людей радовали его.
Зло, творимое инокиней Марфой, когда сын её стал царём, было непоправимым для многих людей, потому что действия её не подлежали никакому суду. Она так бурно обрушивала свою волю на несчастных, что, казалось, родилась на свет поборницей зла.
Вернувшемуся из ссылки Филарету пришлось разбираться во многих неправдах, творимых Марфой. Известно, что злая воля не терпит инакомыслия. Становясь тиранией, она попирает всё, что перечит ей. Поэтому неудивительно, что возвращение Филарета Марфа встретила с ревнивой тревогой и заранее настроилась на борьбу с ним. Она знала его горячий нрав и решительный характер, предчувствовала, что он захочет единовластно управлять действиями сына-царя.
К тому времени Марфа жила в Вознесенском монастыре, в Кремле. Из костромских владений она прибыла в Москву ещё 2 мая 1613 года. В то время царский дворец был разорён. Не было полов и дверей. Сами хоромы стояли без кровли. Для великой старицы отделали палаты в Вознесенском монастыре, где прежде жила царица Марья Нагая. Михаил хотел обустроить для матери хоромы прежней царицы, жены Василия Шуйского, но не было ни леса, ни плотников, поэтому инокиня Марфа выстроила себе избушку, где и справила новоселье в июне 1616 года.
Вначале она занималась делами исключительно царицына дворцового обихода, но понемногу вошла во вкус править за сына «словом государыни». Отныне дела решались «по именному приказу государыни». Она резко изменилась и внешне. Ничто в ней уже не напоминало прежнюю печальную инокиню. Носила она опашень, украшенный драгоценными каменьями, шубу из горностая и соболью шапочку. Пальцы её рук были унизаны перстнями.
После сына для неё не было никого ближе племянников Салтыковых, Михаила и Бориса, и их матери — инокини Евникии. Они-то и были первыми её советниками в делах. Всё это семейное вече насторожилось с приездом Филарета. Как удержать власть над молодым царём? Марфа надеялась, что сын её, привыкший к послушанию, не станет противиться материнскому слову. Или мало отдала она ему сердца и заботы? Вместе с нею он ездил по монастырям, бывал на богомолье и в Сергиевой лавре, и в церкви Николая на Угреше. Недаром старые люди говорили, что Михаил похож на покойного царя Фёдора, своего двоюродного дядю: такой же усердный молитвенник.
И всё же с приездом Филарета Марфой овладело уныние. Она видела, как забеспокоились её дорогие племянники и их матушка, старая Евникия.
В тот день Евникия вошла в её келью с поникшим видом. Когда-то красивая женщина, Марфа вся ссохлась в монашестве. Кожа на скулах приобрела коричневый оттенок, глаза были спрятаны под тёмными веками.
Взглянув на вошедшую, она поняла, что её родственница что-то проведала.
— Нынче была на площади возле Успенского собора. Люди там недоброе баяли.
— Недобрым ныне не удивишь.
Евникии хотелось понять, о чём думает Марфа, но она не видела её лица. Марфа сидела в кресле с высокой спинкой, в самом углу, под образами. Келья была тёмной, свеча стояла лишь перед иконой Богоматери.
— Какое тут добро! Тюрьмы открыли, людей с правежа свели, злодеи волю взяли. И что будет на Москве, когда упьются вином. Сказывали, бочки многие выкатили...
— Так радость великая, — перебила Евникию Марфа, — чай, сын отца встречает.
— Верно, верно говоришь, государыня-матушка, — поспешила поправиться Евникия, — и все люди ныне радуются. Всё же... Отец с сыном, за руки взявшись, пошли на Троицкое подворье.
Марфа поджала губы, подумав: «Могли бы для начала зайти в мои палаты».
— И все склонялись перед ними в молитвенном поклоне: «Благослови, государь-батюшка!»
— Что же тут дивного?
— А то дивного, что государем величали не токмо царя, сына твоего, но и монаха Филарета.
Евникия тут же спохватилась, увидев, какое неприятное действие имели её слова на Марфу, и сказала:
— В народе бают, что скоро Филарета рукоположат в патриархи.
— Знаю...
Иерусалимский патриарх Феофан рукоположит Филарета. Про то нам ведомо.
Зная обычай Евникии не вдруг выкладывать самое главное, Марфа выжидательно глядела на неё. Чувствуя на себя её взгляд, Евникия с тревогой заметила, что лицо Марфы в последние дни осунулось, постарело, тонкий рот ввалился, глаза запали. Только большой, орлиный нос заметно выделялся на этом поникшем лице, которое, казалось, ещё недавно радовало живым блеском глаз. Старица знала, как взбодрить Марфу: вызвать её сопротивление опасностям и неправде.
Евникия затараторила:
— Новые беды ныне насеваются, матушка. Слух идёт, будто Филарет перемолвился с боярами и слово его было гневным. Бориску моего хочет под суд подвести.
— Какой ещё суд? Пошто слушаешь людей? Непотребное говорят, а ты слушаешь.
— Дай-то Бог. — Евникия перекрестилась. — Да сама ведь ведаешь: князь Пожарский в силу вошёл, при особе Филарета состоит. Как бы Филарет не выдал моего Бориску на расправу князю Дмитрию.
— Пустое! — резко бросила Марфа.
— Дай-то бог! — Евникия снова перекрестилась. — Не допусти, Господи, свершиться суду неправому.
Обе знали, но умалчивали о главном. Всё затеял сам Борис Михайлович. Не будучи боярином, он хотел потеснить князя Пожарского, уповая на своё родство с царём. Матери было чего опасаться. С возвращением Филарета, который и раньше не любил Салтыковых, прежнее дело могло принять иной оборот. Филарет мог опалиться гневом на её сына.
— Пустое думаешь, пустое. Ступай!
— Не пустое, матушка. Станешь с Филаретом о делах говорить, не забудь сказать ему, что злые люди возводят напраслину на Бориса за родство с царём. Попроси у него защиты.
— Или его сам царь не защитит? Или сын мой не любит брата своего Бориску? А теперь ступай.
Марфе хотелось побыть одной. Она собиралась с мыслями, чтобы отправиться к Филарету, благо они сейчас вдвоём с Михаилом. В душе она была глубоко уязвлена, что Филарет не зашёл в её покои. Послать за ним, сказавшись нездоровой? Но она тут же отвергла эту мысль и решила пойти к нему сама скрепя сердце. Или не найдётся у него доброе слово для неё? Сколько мук и тревог приняла она на себя, пока Филарет был в плену! Сколько страха натерпелась, когда до неё довели, что поляки прознали про Ипатьев монастырь, где укрывались они с сыном! Да староста домнинский Сусанин спас. Сколько раз потом она отказывала ходатаям дать своего сына на царство! Да, видно, на земле дела совершаются волей не людей, а Бога.
Она любила вспоминать дни своего мужества и крепости духа. Ныне Филарет гордится сыном-царём, а чьими молитвами и чьей волей взошёл он на царство? Марфа часто тешила себя воспоминаниями о тех днях, будто и в самом соборном избрании Михаила царём была её личная заслуга.
На Троицкое подворье она отправилась в сопровождении монахинь.
— Здесь царь-батюшка? — обратилась Марфа к встретившему её игумену.
— Царь-батюшка Михаил Фёдорович у государя-батюшки в палатах.
Марфа строго взглянула на игумена, словно хотела спросить его: «А бывают ли два государя в одном царстве?» — но не спросила.
Михаил Фёдорович сам вышел ей навстречу: похоже, увидел её из окна.
— Матушка! Государь-батюшка притомился с дороги и тотчас уснул в приготовленной ему палате.
На лице Марфы обозначилось знакомое Михаилу нетерпеливое недоумение, которое у него часто переходило в гнев. Михаил Фёдорович с тоскливой тревогой наблюдал за дорогим ему лицом матушки. Но гнева не последовало. Марфа привычным движением отворила дверь и пошла в палату.
Филарет сидел в глубоком кресле. Лицо его было очень бледным и выражало покой. Михаил Фёдорович тревожно всмотрелся в его неподвижные черты, потом опустился перед ним на колени и поцеловал руку.
Филарет открыл глаза. Лёгкая улыбка тронула его губы. Он благословил сына. Боковым зрением увидел Марфу, повернулся к ней.
— С чем пожаловала, мати?
— Мог бы и сам пожаловать в мои покои. Али не об чём нам с тобой толковать?
— Ныне не время, мати. Недосуг мне. А толковать будет об чём. Сама знаешь, сколь дел накопилось. Верно, сын мой?
Михаил Фёдорович поклонился отцу.
От Филарета не ускользнула усмешка Марфы. Он пытливо глянул на неё, но она успела скрыть свои небольшие пронзительные глаза под тёмными веками.
«Она что-то таит от меня», — подумал Филарет и, поколебавшись немного, спросил:
— Мати, ты пришла потолковать со мной либо спросить о чём-то?
— Не к спеху, — заметила Марфа, взглянув на сына. — Ныне ты с дороги, притомился...
Она чувствовала, как волнуется сын, как беспокойно переводит взгляд с Филарета на неё, и, сдержав себя, сказала:
— Так я пошла. У меня дела ныне. Да вот проведать тебя надумала, — добавила она как можно миролюбивее.
Ей не хотелось показывать свою обиду на Филарета при сыне, хотя не в её правилах было уйти, ни о чём не дознавшись.
Филарет удовлетворённо откинул голову на спинку кресла, едва за Марфой затворилась дверь.
ГЛАВА 64 ПОСТАВЛЕНИЕ В ПАТРИАРХИ
Фёдор Романов был старшим сыном Никиты Романовича, негласного «первого министра» при Иване Грозном. Фёдора называли Никитич-старший, но старшим он был и по характеру, самостоятельному и смелому, и по складу своей волевой и цепкой натуры, по независимому уму, склонному к верным догадкам и наблюдательности. Отец всюду брал его с собой. Сам царь хвалил его ловкость и красивую выправку.
Удивительно ли, что в Фёдоре рано родилось тщеславие. Он дружил с царевичем Иваном и старался во всём подражать ему. Но самые большие уроки давал ему отец. Фёдор видел, как тот унижался перед царём, дабы возвышаться над боярами. Позже и сам Фёдор, уже именитый боярин, унижался перед самозванцем — Григорием Отрепьевым — и ради будущей славы принял от него сан митрополита. Унижением была для Филарета и служба его Лжедмитрию II, которого он презирал в душе ещё больше, чем первого, однако же принял от него сан патриарха и, прибыв в польский плен, представился королю Сигизмунду как патриарх.
Тут действовал властный импульс рода: все Романовы были честолюбивы. Природный ум подсказывал Филарету, как поступать. Он знал, что никому ещё не удавалось добиться успеха без ущерба для своего достоинства, а также соблюсти правду и сохранить совесть незапятнанной.
Но в этом Филарет давал ответ лишь Богу. Если он и был грешен, то давно искупил грехи безмерными страданиями. С пострижением в монахи он понял, что это было угодно Богу, Он думал, что Бог для великих дел сохранил его и сына. В мире ничего не происходит без воли Божьей. Как ни хитёр был Годунов, лютый враг Романовых, но силы небесные низвергли его.
Но если на всё воля Божья, то во сто крат спрашивается с того, кто призван вершить эти великие дела. Сын Михаил ещё молод и слаб характером. Недаром бояре говорили Филарету, что при Михаиле в державе угнездилось многовластие. Соправителями царя были не только его мать, но и ближние родственники Салтыковы, и значит, сам Бог велел Филарету взять в свои руки дела и установить единовластие.
Укрепившись в вере, что сама судьба благоприятствует его чаяниям, он спешил принять сан патриарха. Зная, что так сподручнее будет править государством.
И такова была воля этого человека, что всё задуманное им заладилось с первых же дней его приезда. Сын начал советоваться с ним о делах, а когда Филарета поставили в патриархи, его стали величать великим государем. Отныне во всех грамотах и протоколах закрепился за ним этот высокий титул. Послы иностранных государств представляли верительные грамоты не только царю Михаилу, но и его отцу. В Европе Филарета называли русским Ришелье, хотя полномочия Ришелье были слабее, чем полномочия патриарха при царе-сыне.
Уже через неделю после возвращения Филарета, 22 июня 1619 года, состоялось торжественное официальное наречение его в патриархи, хотя сам Филарет приличия ради многократно отказывался принять сан. А ещё через два дня, 24 июня, состоялось торжество поставления Филарета в патриархи.
В тот день он усердно молился Богу в домашней молельне. Радостно отзывались в его душе слова любимого псалма: «Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесёт тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь».
Едва прошли торжества поставления в патриархи, как Филарет приступил к обновлению запустевшего патриаршего двора. Было отчего ему запустеть. После того дня, как злодеи свели с патриаршего престола святейшего Гермогена, а затем уморили его голодом в темнице Чудова монастыря, прошло восемь лет. Кто здесь только не хозяйничал: и поляки, и казаки. Обветшавший к этому времени патриарший двор нуждался в возрождении.
Между тем и царская и патриаршая казна по бедности средств не могла обеспечить необходимые работы. Для начала надо было построить жилище патриарху. Филарет сам приказал «срубить» самые простые, почти первобытные кельи размером с крестьянскую избу. Внутренности этой избы составляли три комнаты: первая — передняя, вторая — «кабинет», третья — опочивальня. Оконца были слюдяные, пол — дощатый.
Словом, своя изба была срублена. Это напомнило Филарету древние заботы его прадедов, ибо он хранил в памяти переходившие от поколения в поколение рассказы о том, кто из его предков и в каких вотчинах рубил себе избу.
Ныне дело оставалось за «малым» — восстановить порушенные строения Кремля. В поправлении нуждались даже старинные каменные церкви. Где брать деньги, из каких источников? Было бы с кем посоветоваться, но Филарет видел — не с кем. Князь Фёдор Иванович Мстиславский по-прежнему занимал первое место в Думе, был именным представителем боярства. И теперь, как и в старину, писалось: «Бояре — князь Мстиславский со товарищи». Но первый представитель боярства не мог играть первенствующую роль, слово его не имело большого значения, да он и не спешил его молвить. Второй по положению — князь Воротынский, но вся его энергия уходила на протесты против унижения старинных родов.
Неудивительно, что Дума и двор находились во власти смуты и беспорядка. Кругом слабые, беспомощные люди, развалины старины, лишённые необходимых подпорок. Всё было, как после бури. Чувствовалось отсутствие твёрдой руки.
Филарет знал, что люди возлагали на него надежду и чаяли избавления от многовластия и смуты. Да самому-то ему на кого надеяться? Буря пронеслась не только над подворьями, но и над головами людей. Слабость воли и беспомощность показывали и некогда сильнейшие. Оттого-то все важные интересы вытеснил родовой интерес, которому Филарет не мог сочувствовать, ибо ещё при Грозном, а тем более при Фёдоре не терпел местнических распрей, Но обстоятельства понуждали его разбираться в местнических спорах. В эти сутяжные дела втянули даже князя Дмитрия Пожарского.
Началось с того, что Михаил Фёдорович пожаловал в бояре Бориса Михайловича Салтыкова, а свидетелем, излагавшим царскую милость, был поставлен боярин князь Дмитрий Пожарский. Но Пожарский бил челом, что он, князь, Салтыкову боярство сказывать не может. Дело затянулось. Припомнили, что когда отец Бориса Салтыкова получал боярский чин, то товарищами, которые сказывали ему боярство, были люди родовитее его. Князю Дмитрию нечего было возразить, но он считал ниже своего достоинства оказывать честь человеку, коего он не мог уважать. Князь сказался больным и уехал домой, а наглый Борис Салтыков бил царю челом за бесчестье, которое нанёс ему князь Дмитрий Пожарский, и требовал, чтобы его выдали ему головой. Он, Филарет, вернулся вовремя. Спасителю отечества грозила верная погибель от руки новоиспечённого боярина Бориса Салтыкова.
Ныне выдвигались новые заботы, и самой главной из них были деньги. Для набора воинов и сбора податей, наложенных собором, в понизовые города и сёла были посланы бояре с писцами и дозорщиками. Переписывали годных для службы людей, положение плательщиков, устанавливали правильную раскладку налогов. Но всеобщий беспорядок, истощение страны и подкупы делали безрезультатными все попытки. Ничего нельзя было поделать, не помогал и кнут. Чиновники открыто присваивали подати, их не страшили даже наказания палочными ударами. Деньги тут же пропивались в кабаках. Не было денег — вымогали магарыч.
Филарет не видел иного выхода, как возвращение к политике Ивана Грозного. Для начала собор принял установление новой описи земель, опустошённых налогами, создание специального учреждения. Филарет видел необходимость открыть новые приказы, которые могли бы выработать реальный расчёт прихода и расхода для государства, а пополнив казну, надо было создавать войско, ибо то, которое изгнало поляков, было непрочным сборищем. До приезда Филарета казну поправляли увеличением числа кабаков. Но этот род промыслов давал ничтожную прибыль, и тогда ввели смехотворные подати — за соху и даже на пятую часть дохода с каждого двора, так называемую «пятину».
Филарет вспоминал опустевшие наполовину сёла, мимо которых он возвращался из плена, и думал о том, что нужно изыскивать иные статьи дохода. Что взять с нищих, умиравших на дорогах от голода? Крупных торговцев и собственников не было, если не считать Строгановых, которые, слава богу, уплатили в казну 56 тысяч рублей. Между тем надо было искать средства на поправление сильно пострадавших в лихолетье каменных храмов Кремля. Но сокровищница самого богатого монастыря — Троице-Сергиевой лавры — была истощена. Царь Михаил пожаловал на восстановление храмов последнее, что мог, — золотые и серебряные сосуды и немного драгоценностей. Может быть, пособят казаки? Многие из них радели о православии и могли помочь патриаршему двору личными пожертвованиями. На это намекал келарь Сергиевой лавры Авраамий Палицын, и, пожалуй, с его энергией и знанием людей он бы это дело наладил. Но не лежала душа Филарета к келарю, предавшему его и других в польском плену.
С этими мыслями патриарх направился к церкви Ризположения, чтобы посмотреть, чем заняты рабочие, прибывшие из пригорода Ростова Великого. Филарету их представил старый привратник Чудова монастыря: он помнил, как они восстанавливали Кремль после пожара.
Одет Филарет был просто: белый клобук и тёмная мантия. Не мог он привлекать богатой патриаршей одеждой внимание нищих, которым ему было нечего дать: вся мелочь давно разошлась.
Возле лестницы, ведущей в церковь Ризположения, ему встретился немолодой высокий монах с испитым лицом. Во взгляде его были вместе дерзость и мольба. Неожиданно монах коснулся плеча патриарха. Филарет отшатнулся от него и пошёл дальше. Что может быть непристойнее пьяного монаха!
— Стой, владыка! Слово важное надо тебе сказать.
— Поди прочь, винопийца, и вели своему духовному отцу наложить на тебя епитимью!
Монах дерзко рассмеялся.
— Ныне никто никому не указ. Кто кого смог, тот того и с ног, — произнёс он и со злобным упорством загородил дорогу.
Между тем с лестницы спускались заметившие эту сцену церковные сторожа.
— Велишь повязать этого расстригу-бродяжку, государь-батюшка?
С губ Филарета готово было сорваться грозное приказание, но он молчал, каменея лицом. Странные мысли и чувства осаждали его. Ещё некоторое время назад он думал о возвращении к временам Ивана Грозного, отчего же в эту минуту он медлил с суровым приказом и властный голос не повинуется ему? Или забыл, как при Грозном и Годунове холопа не считали за человека? И не был ли он сам свидетелем жестоких расправ со смердами?
Филарет и прежде замечал за собой приступы неожиданной слабости, когда требовалось безотлагательно решать судьбу холопа. Он объяснял эту слабость наследством своей доброй матушки. Отец его, Никита Романович, был сурового нрава, каким и должен быть ближний вельможа грозного царя. Но в жилах матушки текла кровь Шуйских, прямых потомков Александра Невского, умевших, когда требовал долг, казнить, но чаще — миловать. Его деда, Александра Борисовича Горбатого-Суздальского, царь Иван Васильевич считал «потаковником», и мужественный воевода, прославившийся геройством во время покорения Казани, был казнён не за вину, а за жестокое нелюбие к нему царя.
Филарету часто приходили на ум мысли о «двойном» наследстве в его душе. В минуту, когда требовалось действовать решительно, он корил себя за уступчивость и слабость, но ничего не мог с собой поделать.
— Отвести монаха в патриаршую избу и посадить под караул, — приказал он.
Посмотрев, как идут работы в церкви, патриарх вернулся на подворье и, войдя к себе, увидел сидевшего в прихожей на скамейке связанного монаха. Двое приставов караулили его.
— Кто таков, не сказывает, — доложил пристав, — мы-де из болотца да из заднего воротца.
Филарету почудилось в лице монаха что-то знакомое.
— Развяжите ему руки и ступайте.
Когда приставы вышли, монах вдруг бухнулся в ноги перед Филаретом. Тот от неожиданности отшатнулся.
— Встань. О чём просишь?
— Прости, что давеча согрубил тебе.
— Бог простит. Ныне многие люди в шатости пребывают.
— Пред Богом все человецы повинны.
— Ты сам в чём повинен?
В лице монаха снова появилось что-то грубое.
— Я не на исповедь к тебе пришёл.
Помолчав, он добавил:
— Вижу, не признал ты меня. А ведь это я к Тушинскому вору тебя провёл.
Филарету вдруг припомнились подробности унизительного дорожного досмотра, когда его везли в тушинский стан. В памяти возник казак в красном жупане. Он придирчиво оглядел его, потом обшарил все уголки кареты и приказал: «Давай бумагу!» — «У меня бумага к самому государю». — «Ты не отнекивайся, а подавай бумагу».
Припомнив эту сцену, Филарет сказал:
— Однако ты весьма изменился за это время. А был бравый казак, ещё гривну с меня потребовал.
— То не я, то Сенька Бесталанный. Он со всякого проезжего гривну требовал: мол, даром ныне лишь зуботычину получить можно.
— К чему сказ свой ведёшь?
— А к тому, что ты запамятовал, как я тебе жизнь спас.
Филарет резко взглянул на монаха.
— Не веришь? А помнишь, как на тебя пьяный пан с кинжалом кинулся? И кто схватил его за руку?
— Помню. Приставы обоих увели. Того, кто схватил пана за руку, тоже посчитали заводчиком.
— Вот оно как, значит, решили.
— Тебя-то как зовут?
— Федот.
— Чем тебя пожаловать, Федот, за твоё добро ко мне?
— А ничем. Хочу попросить тебя за людишек беглых, за бессчастных. На них напраслину возводят. За воровство. И будто зло умышляли и бунтовали. Бояре присудили их в тюрьму: мол, достойны смертной казни. Так ты, государь-батюшка, их зло на милость положи.
Монах помолчал и добавил:
— Может, они и виновны, а ты их прости.
— А ежели они станут снова зло умышлять?
— Ежели что, так можно и высечь за грехи, а мы будем тебе служить радостной душой и радетельным сердцем.
Монах снова упал на колени и поцеловал край рясы патриарха.
Филарет велел подать бумагу об этих людях и обещал исполнить просьбу Федота.
Проходят недаром такие минуты!
Но, увы, жизнь суровее наших сердец, и добрые благостные минуты в жизни Филарета случались всё реже и реже.
ГЛАВА 65 «ДВУГЛАВОЕ» ПРАВЛЕНИЕ И ДЕЛА ВНЕШНИЕ
Эмблема двуглавного орла, утвердившаяся за русским троном при Иване III, получила особый смысл в царствование Михаила Романова. «Двуглавым» было само правление. Позже говорили о двоевластии, но это было лучше, чем обременительное многовластие при старице Марфе и её родственниках. Ныне же Марфа до времени затаилась и лишь иногда не могла сдержать злой досады, слыша, как Филарета величали государем.
Подданные же царя скоро привыкли к двоевластию и считали его делом обычным. Все дела докладывались одновременно царю и патриарху. Послов иностранных тоже принимали оба в одно время, и дары им приносили двойные. Под грамотами ставились две подписи. Отец и сын и разлучались редко, только в тех случаях, когда один ездил на богомолье, а другой оставался в Москве.
Но это двоевластие не было формальным. Отца и сына связывала самая нежная дружба и деликатность. Через некоторое время после поставления в патриархи Филарет писал сыну-царю, отъехавшему на богомолье: «О крымском, государь, деле как вы, великий государь, укажете? А мне, государь, кажется, чтоб крымским послам и гонцам сказать, что вы, великий государь, с братом своим, государем их с царём, в дружбе и братстве стоишь крепко, посланника с поминками и с запросом посылаешь и их всех отпускаешь вскоре».
Эта нежность и приязнь сохранятся между ними до последних дней их совместного правления. Позже царь Михаил писал отцу: «Написано, государь, в твоей государевой грамоте, что хотел ты, великий государь, отец наш и богомолец, быть в Москву в Троицын день; но в Троицын день тебе быть в Москву не годится, потому что день торжественный, великий, а тебе, государю, служить невозможно, в дороге порастрясло в возке, а не служить от людей будет осудно. Так тебе бы, великому государю, в пятидесятный день отслушать литургию в Тайнинском и ночевать там же, а на другой день, в понедельник, быть к нам в Москву с утра; и в том твоя, великого государя-отца и нашего богомольца, воля, как ты, государь, изволишь, так и добро. Молимся всемогущему Богу, да сподобит тебя, великого государя, достигнуть к царствующему нашему граду Москве на свой святительский престол поздорову, а нас да сподобит с веселием зреть святолепное и равноангельное твоё лицо, святительства твоего главу и руку целовать, стопам твоим поклониться и челом ударить».
Совместное правление царя Михаила и патриарха Филарета было подсказано не одним лишь властолюбием Филарета, а государственной целесообразностью. Время было тяжёлое. Владислав не отказался от своих прав на московский престол, а польское правительство не признавало Михаила царём. Поляки продолжали язвить москвитян за то, что они нарушили крестное целование. Между тем русские дипломаты справедливо требовали, чтобы польские державники называли в своих грамотах царя Михаила Фёдоровича великим государем. Однако поляки не только отказывались величать русского царя, но и говорили о нём непригожие речи, порочили его избрание.
Началась перепалка, которая перешла впоследствии в настоящую войну между царскими воеводами и боярами и королевскими властями. Суть этих споров была в том, что титул великого государя всея Руси поляки присваивали Владиславу, сыну Сигизмунда.
В 1619 году бояре отправили к панам радным посланника Киреевского с грамотой, в которой корили поляков за то, что те не отпустили на родину князя Ивана Шуйского, брата покойного царя Василия, и его товарищей, нарушив тем самым посольский договор. Между тем князь Иван находился в бедственном положении. Его заставляли служить сторожем у гайдуков, и князь Юрий Трубецкой тоже немало натерпелся страхов от поляков. И хотя поляки обещали удовлетворить челобитье бояр, но Михаила Фёдоровича продолжали называть уничижительным полуименем, подвергая сомнению законность его избрания.
Русских бояр и воевод особенно оскорбляло, что Михаила Романова поляки именовали «жильцом государя царя Владислава Жигимонтовича». Дело доходило до брани. Русские не оставались в долгу. Калужский воевода Вельяминов так отвечал на грамоту поляков: «Из вашего письма видно, что вы не шляхетского, а холопского неучтивого ложа дети, и по своей неучтивой, последней, наипростейшей природе скверные ваши уста на великого государя нашего, помазанника Божия, отверзаете, подобно бешеному псу».
Эта грамота вызвала ответ ещё более дерзкий. Начались конфликты, которые едва не привели к новой войне. Понадобились мудрость и твёрдость Филарета, чтобы не дать спуску радным панам и доказать, что притязания польского короля на Московское государство были ложными.
Хотя внутренние распри немного поутихли, задорные дела и обиды длились. Противная сторона продолжала рассылать списки с листов, где русский государь по-прежнему назывался полуименем, а королевич царём всея Руси. В ответ русский царь приказал послать в города свои грамоты о «неправдах литовского короля и панов радных». Боярам, воеводам, дворянам и детям боярским всех городов и всем служилым людям царь Михаил приказал быть готовым идти на службу и ждать царских грамот.
Однако время шло, а грамоты о выступлении в поход не приходили. Причиной тому была неготовность к совместному походу союзников. Выпад султана Османа против Польши кончился неудачно, сам Осман возвратился в Константинополь и был убит янычарами. Польша поспешила заключить со шведами перемирие и тем ослабила позиции русских.
Само же Русское государство справлялось с собственными бедами. С юга наседали крымские разбойники. Они безнаказанно опустошали южные уезды, а русские воеводы тем временем отсиживались, ожидая царского указа. Политика быстрого реагирования на опасность была им неведома. Царь вынужден был обратиться к ним с укоризной: «Вам и без вестей надобно было быть со всеми людьми наготове, потому что вы воеводы походные и как скоро про татар весть придёт, то вам было тотчас идти наспех и воевать им не дать. Да и то сделали простотою и глупостью: пришедши к татарским станам близко, ничего им не сделали, в станах их не застали, подъездов за ними не послали...»
Это бывало и прежде: война с татарами учинялась либо оплошками, либо нерадением воевод. Не последнюю роль в этих бедах играло и их корыстолюбие: воеводы распускали ратных людей по домам «ради посулов». В войске не было порядка, обучением воинов занимались кое-как.
Филарет понимал, что такое положение дел в войске не могло продолжаться. Государство нуждалось в военной реформе. Обсуждая эти дела с сыном-царём, Филарет рассказывал ему о польской армии, которая была обучена по иностранным образцам. На Руси же воевали по старинке, и, главное — не было денег ни на закупку оружия, ни на литье пушек. Брать наёмников, как это делалось прежде, и вовсе было не по карману. Создать постоянную отечественную армию тоже было не по силам.
Эти заботы ещё долго терзали русских правителей. Мыслимо ли было при таких обстоятельствах отправлять войско против поляков! Недруги возводили на Филарета напраслину, будто он ведёт дело к войне с поляками. Напротив, он был озабочен тем, как привести его к мирному концу, понимал, что начинать надо с мелочей, не вызывающих спора и ожесточения. С этой целью он отправил на литовский рубеж своего родственника князя Василия Черкасского для встречи с польским посланцем князем Самуилом Сангушкой. Оба оказались неплохими дипломатами: каверзных вопросов не касались, а спорные порубежные дела быстро уладили. Мирная жизнь с Польшей после этого посольства продержалась ещё девять лет.
Филарет, который занимался внешними сношениями, был рад этой передышке. Необходимо было наладить деловые связи со Швецией и Англией, которые тормозились из-за неспокойных отношений с Польшей и оттого, что эти страны принимали её сторону. Швеция, напротив, была давнишним врагом Польши. Но как заниматься делами в немирных условиях! Всё и сводилось главным образом к денежным займам.
Английский посол Мерик приехал в Москву в июле 1620 года, когда война с Польшей была окончена. Радость по этому поводу выразили обе стороны. Но сначала Филарет решил произвести на английского посла впечатление пышностью и богатством приёма, и делал он это, вероятно, из соображений государственной целесообразности. Не хотелось, чтобы иностранцы думали о Руси как стране, истощённой войнами и потому впавшей в нищенство.
Посла принимали одновременно царь и патриарх. Бархатное патриаршее место было сдвинуто с государевым местом, но патриарх выделялся особо. По правую сторону от него на окне стоял крест на золотой мисе. Лица духовного сана — митрополиты, архиепископы, епископы — сидели справа от патриарха. По левую сторону от царя расположились бояре и дворяне, одетые в золотые шубы и чёрные шапки.
Мерик говорил речи и обращался к обоим государям. Грамоты посол тоже дал две — царю и патриарху — и царя назвал кесарем, тем самым признавая его державные права. И подарки посол подал двойные, очень богатые.
Такая щедрость и внимание английского посла к русскому двору были вызваны надеждами Англии на свободную торговлю на Руси своих торговых людей. Завязались переговоры. Мерик обещал щедрые приношения в русскую казну. Но его обещания обставлялись многими условиями, и главное из них было разрешить торговлю с Персией через Русь, по Волге.
Царь Михаил обратился за советом к русским купцам, которых собрали со всей Москвы. Однако совет царя с купцами походил скорее на просьбу об их согласии пойти на уступку англичанам. Он говорил о скудости государственной казны. Разорённым городам дана льгота, и в казну поступают лишь кабацкие деньги да таможенные пошлины. Служилым людям и стрельцам нечем платить жалованье. Не дай бог новая война, как быть без казны? Не дать ли английским купцам дорогу в Персию?
Купцы вначале отмалчивались, опасаясь царёва гнева, но князь Борис Черкасский начал убеждать их говорить прямо и сам стал спрашивать каждого поодиночке. Общее мнение было не в пользу англичан. Купец Иван Юрьев сказал:
— У торговых людей промыслы отымутся, потому как им с англичанами не стянуть...
Купец Твердиков привёл другой резон:
— Английские гости станут торговать русскими товарами: соболя, кость, кожи. Да из немецких государств ефимки привезут, и ежели они пойдут в Персию, то государевой казне будет убыль многая...
Речь шла о том, что с ефимков государство получало большую пошлину, и какой резон лишиться её взамен на посулы англичан?
— В Московском государстве серебра будет мало, и торговым людям помеха и оскудение...
Хотя от англичан и отделились, на смену им пришли шведы, потянулись датчане, голландцы, и всяк хотел урвать от русского гостеприимства. Филарет понимал необходимость поддерживать торговые связи с иностранцами. Дружба с ними была важной не только в экономическом и финансовом отношениях. Филарет-отец лелеял планы личного порядка: женить Михаила на иностранной принцессе. И потекли новые переговоры с иноземными соседями.
ГЛАВА 66 НЕВЕСТА ДЛЯ СЫНА
Завести дружбу с иностранным государством, упрочить трон, обеспечить спокойствие в державе было первой заботой Филарета. Мог ли он первое время думать о женитьбе сына на Марье Хлоповой? Но, будучи заботливым и внимательным отцом, Филарет не мог не видеть, как невесел его сын, а тот и не скрывал, что тоскует по своей бедной невесте, что тревожится о её тяжком житье в сибирской земле.
Филарет, едва одолев первые неотложные заботы, велел перевезти Марью Хлопову из Тобольска в Верхотурье, ближе к Москве, и выделить ей на содержание десять копеек в день. По тем временам сумма эта была для прожитка немалой, да ещё на севере, где всё дёшево. Было начало осени 1619 года, а в следующем году, лишь спал снег и установились дороги, Хлопову повезли в Нижний Новгород, а это почти рядом с Москвой.
Многие тогда строили догадки, что за резон держать незадачливую царскую невесту близко от Москвы. Старица Марфа пробовала приступить к Филарету с допросом, но он отмалчивался. В клане Салтыковых заволновались: не думает ли Филарет женить сына на Хлоповой? Страшились опалы. Знали крутой нрав Филарета и его давнюю нелюбовь к отцу племянников Марфы — боярину Салтыкову.
Но мысли Филарета были в это время далеки от догадок Марфы и её родни. Взор его мысленно устремился на датский королевский двор. У датского короля Христиана были две родные племянницы, и Филарет готов был сосватать своего сына за любую из них. В Данию отбыли князь Львов и дьяк Шипов с наказом «промышлять, родственникам и ближним людям невесты говорить всякими мерами, веру православную хвалить и на то невесту привести, чтобы она захотела быть с государем одной веры и приняла святое крещение».
Продумано было всё до деталей: давать ли племяннице короля особые города и доходы, как того требовала в своё время Марина Мнишек; сколько дадут за невестой земель и казны; как держать себя послам, если королева позовёт их к руке; как вежливо разглядеть невесту...
Но хлопоты и приготовления были напрасными. Сватовство кончилось ничем. Под предлогом болезни король отказался говорить с князем Львовым, а князь, в свою очередь, отказался объясняться с ближними королевскими людьми.
Было о чём подумать Филарету. Послы привезли из Дании досужие разговоры о том, что при царе Борисе Годунове в Москву отъехал датский принц Иоанн, предназначенный в качестве жениха для Ксении, дочери Годунова. Но московское «гостеприимство» свело его в могилу. В Дании уверенно говорили, что принц Иоанн был отравлен. И ещё говорили, что поехал он в Московию не в доброе время, что, когда его везли в Кремль, жители умирали от голода: на улицах валялись трупы и их штабелями укладывали на подводы. Мор, голод, разбои были дурным предзнаменованием в судьбе принца Иоанна. Так оно и вышло. Хотя с той поры минуло двадцать лет, но этот срок после великого потрясения, вызванного внезапной смертью принца, был для Дании не столь большим. Там всё помнили. И также знали, что в Московии и ныне разруха великая. Что ожидает принцессу в обнищавшей стране?
Видимо, Филарет не скоро оправился от обиды, если второе посольство сватов — теперь уже в Швецию — было отправлено через два года после первого. Сватали за царя Михаила сестру бранденбургского курфюрста Георга — Катерину. Но сватовство это было прервано, как только русские послы поставили своё первое условие: невеста должна принять святое крещение православной веры. На это шведский король Густав-Адольф отвечал, что её княжеская милость не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения, даже ради царства.
Теперь, когда заграничные сватовства не удались, оставалось искать русскую невесту.
Мысли Филарета вновь вернулись к Марье Хлоповой. Он помнил, что вся её родня была добра к Романовым и не забывала их в самое бедственное время. При Годунове Хлоповы впали в немилость за то, что сочувствовали Романовым. Сам Филарет видел много участия к себе и подмоги от Желябужского — родича Хлоповых: бабушка Марьи была Желябужской. Желябужские принадлежали к роду именитых людей, которые служили отчизне в то время, когда не было настоящего государя.
Забудет ли Филарет, как в опасные для него дни польского плена Желябужский, рискуя собой, вёл дело к его, Филарета, пользе, как умно сослужил службу державе и царю Михаилу? В те дни он приехал послом с грамотой от московских бояр. Иной на его месте справил бы дело государское и был таков, а Желябужский нашёл Филарета, сидевшего в доме Сапеги под надзором хозяина, ударил ему челом от сына Михаила и назвал его великим государем, что было по тому времени опасной дерзостью, ибо сами поляки не признавали Михаила царём. Они даже побелели от злости, когда Желябужский правил челобитье Филарету:
— Великий государь, сын твой тебя, великого государя, велел о здоровье спросить, а про своё здоровье велел сказать: «Твоими отеческими святительскими и государыни моей матери старицы-инокини Марфы Ивановны многоусердными к Богу молитвами на наших великих и преславных государствах здравствует, только оскорбляемся тем, что твоих отеческих святительских очей не сподобляемся видеть; молим милосердного Бога, и радеем, и промышляем, и хотим того, чтоб милосердный Бог твою святыню из такой тягости высвободил».
Воспоминания о Желябужском были отрадными душе Филарета. Как не признать, сколь ловок и отважен был этот человек, ежели сумел улучить момент, когда они остались наедине, и сообщил важные вести из Москвы. А затем снова выбрал минуту, когда мог прилюдно в присутствии поляков назвать царя Михаила великим государем. Лев Сапега на это резко заявил:
— Это Михаил-то великий? Он ещё и не настоящий царь.
Обратившись к Филарету, Сапега добавил:
— Посадили твоего сына на царство казаки-донцы.
Но Желябужский сумел его обрезать:
— Что это ты, пан канцлер, такие слова говоришь? Михаил пришёл на царство волею и хотением Бога нашего. Бог послал Духа своего святого в сердца всех людей.
Сапега замолчал: не хулить же ему Бога.
И Марфе всё это было ведомо... Не могла же она запамятовать, как сама посылала ему поклоны с Желябужским. Что же случилось? Отчего родня Марьи Хлоповой стала у неё в немилости? Она Хлоповых прежде привечала, а ныне пошла войной против них. Или ей кто-то из Марьиной родни чинил обиды? Так об этом было бы известно.
В этот январский день Филарет сидел у себя в патриаршем кабинете. За окном едва серело. Филарет почувствовал утомление. Они никогда не признавался, что устал спорить с судьбой: опасался расслабиться. Но как не признать, что он устал терпеть людское коварство, приспосабливаться, хитрить! Чего требовала от него Марфа? Чтобы, подобно ей, он окружил себя Салтыковыми и делал всё по их подсказке и разумению?
Нет, он разрубит этот узел, завязанный не без самого сатаны. Недаром же говорят: если сатана захочет навредить мужу, он посылает бабу. Как упорно и неотвязно завладевала его волей Марфа! А теперь она не одна. Сказывают, едва ли не каждый день собираются в её келье её родичи и пособники. Ему больно было, что они бередили душу его доброго и послушного Михаила. Продолжаться так далее не может. Он поднимет дело о Марье Хлоповой, это его прямой долг перед Богом и ни в чём не повинными людьми. Разведав истину, он выведет Салтыковых на чистую воду и наконец избавится от их вмешательства в державные дела, от наследства многовластия, ставшего государственной бедой.
ГЛАВА 67 МОСКОВСКИЙ РИШЕЛЬЕ
Подобно людям волевым и целеустремлённым, Филарет действовал решительно и безоглядно. Он знал, что долгие размышления ослабляют волю, и не позволял себе сомневаться в благоприятном исходе дела.
Так было ещё в те далёкие времена, когда на своём подворье он готовил грозу на Бориса Годунова. Ему удалось внушить Григорию Отрепьеву, боярскому сыну, служившему у него, что тот сядет на царство, а царя Бориса «пихнёт взашей». В то время, почуяв недоброе, Борис Годунов сослал Романовых. Но Филарет и в неволе не падал духом, уповая на свою счастливую звезду. До него доходили слухи об успехах самозванца, о победах его войска, и он мысленно обращался к своему злому недругу: «Ну что, Бориска, ты меня в ссылку, а я тебе — ложного Димитрия. Как ты посеял ветер, так пожнёшь и бурю».
И позже судьба не раз помогала Филарету одолеть невзгоды. Он взял верх над Тушинским вором показным повиновением, злобу поляков отвёл от себя хитростью. Даже такого опытного и вездесущего человека, как канцлер пан Сапега, он сумел обвести вокруг пальца и внушить доверие к себе. Жизнь научила Филарета побеждать умом там, где нельзя взять силой.
А сколько тревожных и опасных случаев, сколько всяких бед выпадало на его пути, и ни разу он не сплоховал. Ошибки хотя и были, да он умел вовремя исправлять их. Учился и у недругов, и у своих доброжелателей. Недруги, пожалуй, были лучшими его учителями. Он научился у них, как из двух зол выбирать меньшее. Собственный же опыт наставлял его полагаться на волю Бога, на судьбу и верить в своё предназначение. А коли веришь, то и люди тебе помогают, научись лишь извлекать пользу из чужого опыта.
В жизни Филарета много значили беседы с французским послом. Филарет любил слушать его рассказы о кардинале герцоге Ришелье. В ту пору Ришелье стал первым министром при дворе Людовика XIII. Филарета особенно заинтересовали действия кардинала по укреплению государственной системы. Положение Франции тогда чем-то напоминало положение Русского государства: та же бездеятельность вельмож и их нерадение к делам страны, то же хищническое поползновение опустошать казну, то же печальное состояние хозяйства.
Деятельность Ришелье привлекала внимание Филарета своей решительностью и умением применяться к любым обстоятельствам. Филарет внимательно следил за укреплением государственной и королевской власти во Франции. Для него представляли интерес сами способы, какими Ришелье стремился укрепить страну. От французского посла Филарет слышал о внутренней борьбе во Франции, вызванной тем, что кардинал перестал считаться с наследственными правами на власть герцогов и пэров Франции и назначал новых министров и секретарей.
Это и укрепило Филарета в его решении выдвигать новичков из дворянства и чиновничьего сословия. Ему нужны были люди деловые и лично ему преданные.
Однажды на заседании Боярской думы Филарет рассказал о делах во Франции и тамошних реформах. Думцев особенно заинтересовало, как пополняется королевская казна. Народ там бедствовал, как и в Московии, но налоговое бремя не только не снижали, а, напротив, увеличивали. Боярам понравились слова Ришелье: «Если бы народ чересчур благоденствовал, было бы невозможно удержать его в границах его обязанностей, ибо народ — это мул, который привык к нагрузке и портится от долгого отдыха больше, чем от работы».
Это было сказано словно бы о самой Руси. Именно, именно... Народ испортился. Чтобы не платить налоги, крестьяне покидали свои дворы, иные рискуя своими головами, уходили в разбойники, иные подались в казаки, лишь бы уклониться от налогов и податей. Филарет, в свою очередь, поведал о своих впечатлениях о русской деревне, когда возвращался из польского плена.
Дума присудила: повысить налоги и подати. Боярам было выгодно разорение крестьян землевладельцами, ибо беглые крестьяне искали спасения в боярских вотчинах, а бояре получали даровых холопов. Хотя Филарет впоследствии старался убедить себя в том, что такой ход событий был на пользу казне, на самом деле она пополнялась плохо, а деревня нищала всё больше.
Не лучше было и положение в городах. Чиновники всеми правдами и неправдами стремились стать нахлебниками государства. Меж сословиями часто возникали большие трения, и Филарету вместе с царём приходилось заниматься многими спорными делами. Филарет никому не давал поблажки, на всей державной жизни чувствовалась власть его крепкой руки.
Не все, однако, хотели быть под его рукой, и он ощущал это. Знал, что Марфа «вербовала» сторонников своей партии из тех, кто недолюбливал властного патриарха. Филарет делал вид, что не замечаем этого. Впрочем, он не терял надежды, что самые разумные бояре сами придут к нему.
Поэтому он не удивился, когда на другой день увидел входившего к нему князя Воротынского. После смерти в минувшем году князя Фёдора Мстиславского первым, именным представителем бояр стал Воротынский.
На князе Иване Михайловиче был богатый боярский охабень, держался он важно, но всё выдавало в нём угасающие силы: потухший взор слезящихся глаз, тонкогубый ввалившийся рот. Рука, опиравшаяся на посох, дрожала. «Тебе не делами бы заниматься, а собороваться пора», — подумал Филарет, но тут же усовестился своего холодного приговора. Ему и горько было, что старинные роды уже были неспособны играть в жизни деятельную роль. Их славные дни были позади.
Филарету припомнились дела князя Ивана на литовской границе. С каким достоинством держался он, когда приехал туда уполномоченным послом! Филарет, находившийся в то время в соседнем стане, слышал, как паны негодовали на слова князя Ивана о «неправдах польского короля». Поносил князь и своих бояр-изменников. Возмущался Михаилом Салтыковым, который «мимо своего дворишка» прихватил чужую усадьбу, а именно Ивана Годунова, и изменником Федькой Андроновым, посягнувшим на двор благовещенского протопопа. Воля такая дана была им поляками.
Вспомнились Филарету и мудрые слова, какими обличал князь Воротынский злой позор поляков: от вас-де большая смута, а бесчестите вы нас тем, что поставили над нами худых людишек да воров. Этого прежде на Руси ни при каких опалах не бывало. И с горечью думал Филарет, что и ныне на Руси, по польскому обычаю, за худыми норовят идти худшие: подобные братьям Салтыковым, ловкие и бессовестные, дерзкие и неразборчивые в средствах. Они брали такие взятки, за которые прежде сурово карали.
Все эти мысли и соображения заставили Филарета отказаться от подозрения, что князь Иван пришёл посланцем от Марфы. Он помог боярину скинуть охабень, довёл его до кресла.
— Сказывай, князь Иван Михайлович, что за думка привела тебя ко мне?
— Думка аль сомнение, а всё же не даёт мне покоя.
— Ты не о братьях ли Салтыковых пришёл со мной говорить? — на всякий случай спросил Филарет.
— Нет, не о них. Но коли помянул своих племянников, скажу: люди они для державы опасные, и мой совет тебе: не дозволяй им в силу войти.
Филарет ответил:
— Думки наши с тобой одинаковые, князь Иван Михайлович. В наше время в делах государских крепость надобна.
— Вижу, патриарх, как ты о державе заботишься. Однако и тебе совет нужен, как далее государить. Как думаешь, что на нас близится?
— Войны с Польшей не миновать. С полуденной стороны и турки могут урон учинить, и хан, и татары. А казна пустая.
Филарет многозначительно смолк.
— Ведаю: ты затеял военную реформу, да полумерами тут не обойтись. Кого думаешь над войском поставить?
— Князя Дмитрия Черкасского и князя Бориса Лыкова.
Воротынский покачал головой. Это были ближники Филарета и его любимцы. Да не такие головы нужны были, чтобы с бедой справиться. Но как сказать об этом Филарету? И всё же князь решился:
— Князья Черкасский да Лыков всё больше меж собою воюют вместо того, чтобы думать, как против ворога стоять.
Князь Иван долго излагал Филарету свои соображения о реформах, какие надлежало провести в государстве. Филарет слушал, посмеиваясь про себя. Ужели бородатые мужи взялись за ум? Вот и француза, хоть и незнатного, но досужего в политике, поместил боярин на своём подворье и речь повёл непривычную, начал со слов француза хвалить Ришелье. Видимо, знал, о чём было говорено в Боярской думе.
— Ты, князь Иван, пошто ныне на заседании не был?
— Али не сказывали тебе? Болезнь да старость так скрутили, что и не чаял больше спасти живот свой. Молитвами токмо и остался жив. Тяжко было на душе, и мрак застилал очи, а губы шептали: «Господи, не дай мне скончаться, даруй мне жизнь». Припомнил, как Езекия был болен и принял причастие перед смертью, однако же дано было ему ещё пятнадцать лет жития...
— Чаял и ты, что Господь услышал твои молитвы.
— Думаю ещё пожить с вами некоторое время.
— Дай-то Бог! Руси нужны такие мужи, как ты...
Помолчав немного, Филарет спросил:
— О французе том что думаешь? Верные ли вести привёз он о Ришелье?
— Приведу его к тебе, коли хочешь. Человек он досужий. О жизни в Московии також много наслышан. Сказывал мне, будто ты и обличьем и твёрдым характером с тем кардиналом схож и дороги ваши одинаково крутизну набирают. Дивное совпадение: Ришелье, как и ты, имеет духовный сан и, почитай, одновременно с тобой утвердился первым лицом на государской службе. Ныне он входит в регентский совет и ведомо, что скоро войдёт в совет королевский.
Филарет с некоторым удивлением посмотрел на князя Воротынского. Ему ещё никто не говорил с такой откровенностью, что он был первым лицом на государской службе. Принято было считать, что с первых лет поставления в патриархи он в совете у сына-царя.
Воротынский, казалось, понял, о чём подумал патриарх.
— Герцог Ришелье, — заметил он, — на многие годы вперёд определил судьбу и величие Франции.
Наступило многозначительное молчание.
— Что же говорят о короле? Не умаляется ли его роль при всемогущем кардинале?
Филарет помнил слова французского посла о том, что министр Ришелье считает своей первой целью величие короля, а второй — могущество королевства.
— Посол Франции полагает, что в стране всё вершится одной волей кардинала, но величие Людовика Тринадцатого и его роль в судьбе государства не умаляются, — произнёс Филарет.
— Жизнь научила уму-разуму не только нас грешных, но и французов. Я помню, как «крепила» у нас державу Семибоярщина. Брат твой Иван Никитич тоже заседал в Семибоярской думе и, чай, рассказывал тебе о наших делах...
— Ты к чему это о Семибоярщине вспомнил? Ныне Салтыковы её тоже поминают.
— Сам ведаешь, отчего эта Семибоярщина так люба твоим родичам. Твёрдая рука им не по нраву.
— И как думаешь, отчего?
— Знаешь поговорку: «Все хотят порядка, да разума нехватка»?
Воротынский погладил бороду, улыбнулся.
— На тебя, патриарх, ныне вся надёжа. Твоё доброделание — на многие годы... Ну а коли кто супротивничает, так ведь недаром говорится: «Глупый осудит, а умный рассудит».
Филарету хотелось поговорить о Салтыковых, о том, что не одни лишь они перечат ему, но он чувствовал, что князь Иван деликатно уклоняется от этого разговора, и потому спросил только:
— Как думаешь, князь Иван, на кого ныне полагаться?
— Ищи верных людей. Ришелье поступает мудро, ибо укрепляет положение дворян, выдвигает новых.
— В иностранных державах привыкли к порядку. У нас как заставишь служить державе добром?
— А во Франции, мыслишь, просто? Герцог умно придумал, он продаёт почётные должности. Чуешь расчёт? Люди не станут разрушать порядок, в который они вложили деньги.
— Оно, конечно, мудро придумано с продажей мест. И деньги в казну потекут, — согласился Филарет. — Да какие должности способны занимать наши бояре и дворяне? К какой службе они годны?
— Подумай, как открыть школы, либо за границу людей посылай на выучку.
— Подумать-то я подумал, но кто скажет — где взять деньги?
— Во все времена казна богатела народным достоянием да трудами праведными.
— Народ поначалу нужно вывести из нищенства. Во Франции не было такой смуты.
— Созови дворян. Послушай, что скажут.
— Что скажут — заранее ведомо. Крестьяне в бегах, а те, что остались в поместьях, отвыкли крестьянствовать.
— Земли на Руси обширные — создай иностранную колонию.
— Да будет ли толк? Иноземцам свой карман дороже.
— Зато русичи за ум возьмутся.
Долго ещё толковали Филарет с князем, и немало было предусмотрено ими для укрепления государства и монархии. Речь шла о создании новой государственной системы. Оба понимали, что на это потребуются многие годы.
Филарет проводил гостя, низко кланяясь ему за добрые советы. После беседы с князем Воротынским Филарет решил подготовить указы, реформирующие не только государственное устройство страны, но и быт и внутренние отношения. Он хотел отказаться от застарелых пережитков местничества, от засилия семейных кланов.
Однако вначале ему надо было одолеть сопротивление его воле со стороны родных. Салтыковы снова стояли на его пути, он чувствовал, что сломить домашних врагов ему будет трудно. Сколько раз, думая о братьях Салтыковых, он вооружал себя словами Библии: «Так знайте же: какою мерою мерите, такой будет отмерено вам». Но потеснить Михаила и Бориса Салтыковых ему всё же не удавалось. Их «мера» была слишком весомой, ибо за ними стояла мать царя и сам Михаил, сын его, был дружен с ними с детских лет.
Упорная воля Филарета была словно птица в тенётах. Его домашние недруги выдвигали против него, казалось бы, разумные доводы, внушали царю Михаилу: отец твой-де поставлен в патриархи и ведать ему надлежит духовными делами, а в мирские дела пусть не мешается. «Ловки же вы на затейные доводы, да посмотрим, как дела ваши обернутся», — думал Филарет.
В любого рода трудных обстоятельствах он находил опору в бескомпромиссности собственного решения. Чувствуя себя правым, он шёл напролом, не зная отклонений. А ныне он чувствовал себя правым, как никогда.
Речь шла о верности взятого на себя принципа. Вернувшись из плена, Филарет поставил себе за правило одаривать людей, послуживших отечеству в безгосударское время, и наказывать врагов отчизны. Едва он был поставлен в патриархи, как защитнику отечества Дмитрию Пожарскому были подарены большое село, сельцо, посёлок и четыре деревни за «крепость и мужество». Ему было поручено ведать Разбойным приказом, а при дворе ему оказывали постоянные почести. Позже, в 1628 году, он был назначен воеводой в Новгород Великий, затем его снова взяли в Москву в Судный приказ.
Могла ли примириться душа Филарета, что ко двору были приближены недоброхоты отечества Салтыкова? Филарет знал, что они поддерживали отношения с отцом-изменником, бежавшим в Литву, и когда он, Филарет, выказал своё недовольство этим, Марфа не дала ему и слова вымолвить против Михаила Глебовича Салтыкова. Когда он говорил о винах этого изменника, Марфа возражала:
— То дела давние, и стоит ли их поминать!
Филарет не соглашался:
— Поминать и не стоило бы, ежели бы Михайла пришёл с повинной.
Помолчав, он продолжал:
— Сама знаешь, сын наш, царь Михаил, отдал бы ему вину.
Марфа молчала, ибо возражать было нечего. Михаил Глебович до конца дней своих оставался недругом отечества и ни разу не выразил раскаяния в содеянном.
Если бы в ту пору была защита от таких людей! Если бы он, Филарет, не был свидетелем их изменнических дел! Но и в Москве, и в Польше он был очевидцем того, что Михаил Глебович с товарищами Федькой Андроновым, Иваном Грамотиным да Василием Яновым были первыми начальниками всякому злу на Москве и разорителями государства. Они пограбили царскую казну и всякое достояние, и чудотворные образа отправили в Поль-, шу. Михаил Глебович был советником Гонсевского в Москве, писал Сигизмунду тайные письма. Он больше всех суетился и кричал, чтобы царём на Руси сделали не Владислава, а Сигизмунда. В Думе он вершил дела самоуправством, решал их без приговора бояр, чего на Руси никогда не водилось. Ещё похвалялся при этом, что он служил « короне Польской и Великому княжеству Литовскому и горло своё везде тратил, чая себе милости».
Живя у Сапеги, Филарет видел грамоты Салтыкова, в которых тот торопил Сигизмунда идти к Москве: зачем-де королю стоять под Смоленском, если король будет в Москве, то и Смоленск станет его. Филарет знал, как ненавидели Салтыкова русские люди, но эта ненависть не пугала его. Сам же и признавался: «Здесь, в Москве, меня многие люди ненавидят, потому что я королю и королевичу во многих делах радею».
...Весь вечер накануне задуманных дел Филарет читал Евангелие, искал ответы на свои вопросы в «Послании к римлянам святого апостола Павла». Многие места этого «Послания» он знал наизусть, но часто перечитывал заново. Святые слова бодрили и врачевали душу, вызывали всякий раз новые раздумья. Что значили слова «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце»?
В душе рождались вопросы. Так ли понимает он свой долг? Не «осуетился» ли он в «умствованиях своих»? Решив поднять дело Марьи Хлоповой, не причинит ли он ущерба душевному покою сына? Скандала, видно, не миновать. Марфа и её племянники не поступятся своей правотой, и поднятый ими шум будет великим соблазном для московского люда.
Представив себе самое худшее, Филарет стал молиться: «Господи, да убоятся они страха. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Уповаю на тебя, Господи». Молитва успокоила его. Он подумал: «Нет, истина дороже страха перед молвой и сильнее неправды, и ради истины надобно вооружиться терпением. Или не терпением сносил я свою судьбу, не терпением ли приобрёл опытность? И ежели выйдет какая оплошка, одолеем грех свой також терпением».
Однако оплошки Филарет мало опасался. Ведь прошло много лет, а Марья Хлопова пребывает в здравии. За что же очернили её, создали ей дурную славу «порченой девки»?
Нет, не ради отмщения затеял он это дело, не для того, чтобы воздавать злом за зло. Как представитель высшей власти, он должен разобраться в этом деле и наказать виновных. Это его долг, ибо, как сказано у святого апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; и нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению...»
Филарет ещё долго молился Богу, пока на душу его не сошла благодать. В состоянии душевной тишины и благоденствия он снова подумал о Марфе. Как-то она воспримет его решение? Племянников она любит не меньше сына родного. Когда он сделал её игуменьей, она как будто даже не обрадовалась этому — столь омрачена была её душа многими заботами. Кажется, впервые за свою жизнь Филарет так проникновенно понял её одиночество, почувствовал, какие страсти бушевали в ней.
Увы, натуры сильные и властолюбивые самонадеянные. К тому же Марфа меньше, чем он, бывала на людях и свой клан часто заслонял ей отчий. Она не научена приноравливаться к людям. Повинен ли он в этом? Такими жёнами, как Марфа, трудно верховодить. Она всегда бывала настороже и уступала ему лишь в мелочах, в больших же делах норовила главенствовать сама. Всю себя она отдавала борьбе за здоровье детей, на них были сосредоточены все её страстные чувства. И что оставалось супругу? Он, кажется, довольствовался бы малым, если бы только нрав у Марфы был помягче.
И сейчас, вспоминая прожитую жизнь, Филарет думал о том, что встретит с её стороны злое сопротивление. Она, видимо, станет корить его бездушием, скажет, что «судный совет» по делу Марьи Хлоповой будет судить не по правде.
Филарет перешёл в кабинет, где предстояла встреча с Марфой. Внутреннее устройство кабинета, именуемого Комнатой, напоминало деревянную избу. Но в углу был богатый иконостас, полавочники бархатные, на полу — дорогой ковёр. В малой стене Комнаты небольшое оконце, из которого видно, что делается на площади.
Заслышав в сенях знакомые тяжёлые шаги, Филарет перекрестился и поднялся с кресла. Дверь отворилась. Сопровождавшие игуменью две старицы помогли ей снять горностаевую шубу и удалились. Марфа поклонилась патриарху большим поклоном, но он запросто приобнял её за плечи и провёл к большому креслу.
Он не видел Марфу больше месяца и был поражён переменой, происшедшей с ней. Лицо осунулось, посуровело, под глазами отеки.
— Зачем звал? — отрывисто спросила она.
— Хлоповы челом бьют. Просят милостивого суда.
— Волю дали, вот и затевают смуту. В Нижний, вишь ли, перевели. Да на этом они не остановятся. И пристало ли тебе, патриарху, поднимать старое дело!
— На то было согласное решение совета бояр и духовных особ. Ныне никто не держит сторону Салтыковых.
— Иль воля государя ничего не значит?
— Отчего же? Родственный совет созван волей государя.
— «Родственный совет», — скривилась Марфа. — Или брат твой Иван Романов не послушает тебя? Или князь Иван Черкасский станет тебе перечить? Иль Фёдор Шереметев не будет искать совета у тебя?
Недовольная молчанием Филарета Марфа поднялась.
— Подай мне, однако, посох. Вижу, хочешь по-своему поставить. Думаешь, я не знаю, почему злую немилость против племянников моих затаил? Знаю: Михаил и Борис были послушны воле своего отца. — Она быстро и пытливо глянула на Филарета. — Умирись, Филарет. Михаила Глебовича Салтыкова уже нет в живых. Царство ему небесное.
Она перекрестилась и строго посмотрела на Филарета, видя, что он не крестится.
— Али ты не одной веры с ними?
— Видно, что так.
— В Литву, куда отъехал Михайла, чай, тоже православные живут. Накануне он, бедный, плакал, прося Сигизмунда сохранить православную веру.
— Бог ведает, что было у него на душе. Я вот думаю: мог ли православный человек кинуться с ножом на своего пастыря?
— Пастыря? — вскинулась Марфа. — Или не по воле Гермогена лилась православная кровь?
— Не гневи Бога, Марфа. Твой Михайла Салтыков требовал от Гермогена подписать изменнические грамоты польскому королю и принуждал его скрепить своей подписью ложную грамоту князю Пожарскому, чтобы он ушёл от Москвы со своим ополчением. Михайла Салтыков хотел пролития христианской крови и, когда увидел, что не вышло по его воле и хотению, кинулся с ножом на Гермогена. Чем это закончилось, ты знаешь.
Марфа опустила голову. Она знала, что Гермоген проклял Михаила Глебовича, и это сыграло роковую роль в его кончине. По слову Гермогена приключилась скорая смерть и Мстиславскому, и детям его. В душе Марфа боялась проклятий и для своих племянников. Она часто твердила слова из Библии: «От беззаконных исходит беззаконие». Она шла к Филарету, надеясь на мирный исход беседы. Как смягчить его?
— Прости, Филарет, коль что не так сказала. Умягчи свою душу. Когда будут чинить суд над Борисом да над Михайлой, ты уж посмотри, чтобы не переусердствовали. И сам прости их, коли что не так.
Филарет проводил её до двери, с тревогой думая о том, что с нею не оберёшься хлопот. Он знал, что Марфа не удовлетворится этой беседой и поднимет на ноги многих бояр, которые в Смутное время держали сторону польского короля. Она постарается прикрыть своих племянников.
ГЛАВА 68 ПИР НАКАНУНЕ БУРИ
Мог ли Филарет когда-либо помыслить, что беседа с князем Воротынским оставит в его душе такое отрадное чувство! Романовы и Воротынские никогда не водили дружбу. Воротынские издавна были вместе с Шуйскими, а те косо смотрели на Романовых. Тут была давняя родовая неприязнь, где нет ни правых, ни виноватых. То, что князь Иван сам пришёл к нему, было для Филарета добрым знаком: представитель древнего княжеского рода благословлял его государственные начинания.
Лишний раз убедился Филарет и в своей правоте, когда задумал оттеснить от кормил власти братьев Салтыковых. Он поднимет дело Хлоповой не только ради праведного его решения. Все должны убедиться, что худые люди не могут иметь силы в государстве, что зло наказуемо.
Однако Филарет понимал, что ему надобно отвести от себя подозрения в недобрых чувствах к племянникам Марфы, и о чём станут говорить и Марфа со своей роднёй, и все его недруги. Лучше всего это сделать открыто, прилюдно. И где, как не на пиру, по русскому обычаю, показать свою приязнь и любовь к ближнему! Да и сам Филарет, подобно представителям многих родов, поднявшихся при Иване Грозном, любил пиры, удовольствия и роскошь. Конечно, времена были ныне не те. Царская казна обеднела. Но и сейчас пиры были не редкость.
Зная, как Марфа и её родичи питали слабость к пышности и торжественности, Филарет с сыном-царём решили поставить пиршественные столы в Золотой государевой палате. Накануне Филарет позвал особо Марфу и братьев Салтыковых на литургию. Он видел, как они шли, о чём-то тихонько переговариваясь, и на лицах Бориса и Михаила можно было прочитать тщеславие. Вид их не понравился Филарету. Когда же они подошли к нему с поклоном, он приветливо встретил их. Но вот благовещенский поп начал службу. Марфа в окружении родичей оказалась поблизости от него. Он слышал, как она прошептала:
— «Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»
Филарету показалось, что она особенно заботилась о том, чтобы слова эти долетели до него.
После окончания службы патриарх направился в Крестовую палату. Все шествовали следом за ним, и казалось, что многие ожидали чего-то. В этом ожидании более других, как думалось Филарету, была Марфа. Он помнил, что ещё в давнем их житии она любила говорить: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдёте, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят...»
Далее патриарх пригласил собравшихся пройти в Крестовую палату. Это была особая честь, ибо Крестовая палата была соборной молельней самого святителя, куда обычно допускались лишь избранные: митрополиты в белых клобуках, архиепископы и епископы в чёрных клобуках. Здесь решались важные дела по духовному управлению и происходили заседания духовных властей вместе с патриархом. Сюда, в Крестовую, должен был явиться посланный от государя — звать к царскому столу.
Ждать на этот раз не пришлось. Окольничий Снетков обратился к собравшимся и особо к патриарху с поклоном и сказал, что государь жалует царским угощением бояр, духовных лиц, а также чиновных лиц. Многие, ещё не остыв от божественной службы, склоняли головы, с благостным видом выражая признательность.
После окончания церемонии патриарх сел в сани, ибо в зимнее время он шествовал в царский дворец в санях. Остальные спускались по большой лестнице и, пройдя до западных дверей соборной церкви, направлялись в сторону Красного крыльца. Патриарх же ехал в Ризположенские ворота к южным дверям собора и далее площадью к Благовещенскому собору, откуда папертью проходил на Красное крыльцо и в Золотую палату. Во дворец его под руки вели архиереи, сопровождая до дверей царских покоев.
Гости поднимались позже и стояли у стен, ожидая выхода царя и патриарха из внутренних комнат. Едва собравшиеся успели оглядеться, как появились царь с патриархом. На Михаиле Фёдоровиче был кафтан, пошитый матушкой Марфой у иноземных мастеров и весь унизанный драгоценными каменьями, шапка наподобие Мономаховой. На патриархе была бархатная мантия вишнёвого цвета, расшитая жемчугом и подбитая тёмно-синей камкой. Тёплый лисий клобук был покрыт белым бархатом. На клобуке высился низанный жемчугом херувим, наверху — золотой крест.
Дворецкий и двое окольничих помогли царю и патриарху удобно расположиться в креслах. Остальные расположились на лавках за большими столами: бояре — по правую сторону от царя, духовные чины — ближе к патриарху. У боковушки кресла стоял посох Филарета, убранный яхонтами, бирюзой, изумрудами. В паникадилах горело множество свечей — ещё одна статья дорогих по тем временам расходов. А сколько будет выпито на этом пиру вина — тому свидетель поставец для питьевых сосудов у дверей палаты, винные же запасы в сенях. Там и романея, и рейнское, и белое, и меды всех сортов, и медовые квасы...
Перед царём и патриархом стояли особые чаши. Стол казался небогатым, ибо подали поначалу не более двух блюд. Начали, по древнерусскому обычаю, с холодных закусок. На первом месте — икра зернистая либо поросёнок под хреном, осетрина. Далее шли закуски на выбор, то есть по вкусу. Для закусок и первых блюд посередине палаты возвышался особый поставец.
Однако вначале внимание гостей было занято отнюдь не закусками. Меню привычное, да и многие из приглашённых имели добрых поваров, что тебе кулебяку испечь, что уху стерляжью приготовить. А какие пироги пекли к ухе! К каждой ухе — особые. А такой крупитчатый хлеб ни в одной державе не умели испечь...
Нет, сегодняшний пир для многих гостей был не закусками красен. Люди соскучились по новостям, и все чего-то ждали. Слышали, что на Салтыковых надвигается гроза, но они пришли на этот пир, чая милости для себя. Чего доброго... Родичи царской матери, сколько лет правили они «словом государыни». Казной государя она пользовалась как своей собственной. Да и собственная была немалой, ибо Марфа получала оброчные доходы с галицких волостей, полностью ей принадлежащих.
Думая об этом, гости пристальнее вглядывались в Марфу. На пир, как было замечено, она явилась в горностаевой шубе и собольей шапочке. Инокиня даже двери и окошечки в своей колымаге отделывала соболями. По ней ли иноческое житие? Филарет сделал её игуменьей, но где видно, чтобы игуменьи украшали себя драгоценностями? Пальцы унизаны перстнями... Нет, ей снятся не кельи, а царицыны хоромы, и хочется ей взять большую власть не по мере своих сил.
Марфа сидела немного поодаль от Филарета. Что они думали оба? Розно думали, как видно. А царь что-то бледен и смутен лицом. Гости с нетерпением ожидали, кого пожалует царь своей чашей. С кем будет милостив Филарет? Кого обнесёт первыми своей чашей?
Наготове были стольники, чтобы разносить напитки и вина, наготове был кравчий, главный радетель о царском питье. Чего гости, однако, ожидали? Они незаметно переводили взгляды с царя на патриарха, затем на Михаила Салтыкова. Ещё, казалось, не так давно он наряжал вина царю, потом его сменил новый кравчий. Но почему же Михаил Михайлович держится как-то особенно уверенно? Вот, подбадриваемый взглядами игуменьи Марфы, он приближается к царю с поклоном.
— Дозволь, государь, службу тебе сослужить! Государыня-матушка сказывала, какое целение надобно тебе от простуды. Чаша романеи да молитва матушки любую хворь сымут...
Царь улыбнулся и, встретившись с сочувственным взглядом матери, велел стольнику, который особо прислуживал ему, передать свою чашу Михаилу Салтыкову. Тот взял её и вышел, но вскоре вернулся и протянул царю чашу, до краёв наполненную вином.
— Жалую своей чашей братьев моих Бориса и Михаила! И да снизойдёт на нас доброе согласие! — произнёс государь.
Марфа одобрительно наклонила голову, а лица братьев просияли. Эта честь, оказанная им на миру, была добрым знаком. Авось гроза, кою предвещало им вмешательство Филарета в дело Марьи Хлоповой, минует их. А Борис к тому же ожидал ещё и поставления в боярский чин.
Наблюдавший эту сцену Филарет ничем, однако, не выдал своих чувств. Он пожаловал свою чашу князю Воротынскому. Может быть, он хотел этим показать своему сыну-царю, что жаловать надо достойных? Многие увидели в этом поступок, как бы поперечный ему.
Князь Иван низко поклонился Филарету и принял чашу. Пир пошёл своим ходом. Посыпались заздравные тосты, весёлые шутки. Лишь князь Воротынский казался безучастным к общему оживлению. Он грустно всматривался в лицо царя. Это было лицо дитяти, которому дали желанную игрушку. Он улыбался, но с лица его ещё не сошла как будто тревога: а вдруг отнимут? «Старшее поколение бояр, что всегда поддерживало царя, уходит. Их место занимают лихоимцы, жадные до власти и денег. Добро ещё, что у патриарха твёрдая рука...» — думал князь Иван.
Неожиданно раздался непонятный шум. Отворилась дверь в палату, и в ней показались скоморохи. Стража и кинувшиеся на помощь слуги гнали их обратно, но двое скоморохов, державшиеся ближе к стене, юркнули в залу. Охранники тотчас же кинулись к ним, но вдруг прозвучал властный голос Филарета:
— Пусть войдут!
Один из скоморохов, в пёстрых лохмотьях, разрисованный красками под кота, сделал несколько шагов в сторону патриарха.
— Чашник, подай скомороху вина! — велел Филарет.
Скоморох, похожий на кота, не спешил, однако, принимать чашу.
— Низко кланяюсь тебе, высокий владыка, на добром слове.
Оглядев присутствующих, он добавил:
— Всякий пьющий вино мудрее не делается.
Филарет рассмеялся.
— Не преподносишь ли ты, скоморох, и нам свою мудрость?
Раздался смех. Пирующие оживились. Скоморох снова оглядел их и с насмешкой произнёс:
— Не отрицаюсь, высокий владыка.
— И в чём же твоя мудрость? — смеясь, спросил Михаил Салтыков.
Скоморох смерил его долгим взглядом.
— Ты никак Михалка Салтыков будешь? Тот самый Михалка, что своей волей тягловые поборы делал. А намедни сёла норовил себе отписать. Ты да ещё брат твой Бориска. Глаза завидущие, а руки загребущие...
Последние слова скомороха покрыли гневные вопли братьев Салтыковых:
— Государь, вели гнать скоморохов! Они бесчестят тебя!
Марфа остановила на Филарете гневный взор, очевидно, считая его главным виновником происходящего. И хотя скоморох удалился, Михаил Салтыков продолжал кричать о бесчестье, нанесённом государю.
Тогда Филарет голосом, не терпящем возражений, повелел ему перестать:
— Холоп не может обесчестить господина, тем более царя!
Гомон стих. Пир пошёл своим порядком.
ГЛАВА 69 СУД И НОВЫЕ РАСПРИ
История со скоморохами породила много кривотолков. Одни винили Филарета: это он-де позвал на пир скоморохов, дабы обесчестить братьев Салтыковых. При этом жалели сердобольную игуменью Марфу, говорили о её добром влиянии на царя. Иные даже называли её страдалицей, которой приходится терпеть обиды и незаслуженные укоризны от жестокосердного Филарета. Лишь редкие люди осмеливались высказать истинное суждение о наглых и вороватых Салтыковых и мирволившей им царской матери.
Филарет знал о превратности изменчивой молвы. Он давно примирился с тем, что даже люди из его окружения считали его одни лисой, другие — волком. До него дошёл такой разговор о нём:
— Филарет-то думает нам укорот дать.
— Это как же?
— А так... поначалу отменит старину, а там и вотчины лишит да в казну и отпишет.
— Это как же?
— А хитростью.
— Навряд ли хитростью. Кто вошёл в чин волком, тому лисой никогда не бывать.
В такой обстановке, наперекор недоброжелательной к нему молве, Филарет решил дознаться истины, обелить правых и наказать виноватых.
В Нижнем Новгороде дожидалась своей судьбы несчастная царская невеста Марья Хлопова. У Филарета были основания думать, что её пытались отравить.
Обговорив со своим сыном Михаилом предстоящее судное дело, Филарет решил совместно с ним созвать совет из людей, которые не стали бы кривить душой. Туда вошли Иван Никитич Романов — брат Филарета, князь Иван Борисович Черкасский и князь Фёдор Иванович Шереметев.
Совет призвал для начала главного свидетеля — отца невесты Ивана Хлопова. Тот объявил, что дочь заболела во дворце, а в ссылке она была совершенно здорова. То же самое свидетельствовал и духовник.
Какие же были у братьев Салтыковых основания провозгласить болезнь царской невесты неизлечимой? Царь и Филарет решили послать боярина Фёдора Шереметева и чудовского архимандрита Иосифа вместе с врачами в Нижний Новгород, чтобы убедиться подлинно, что Хлопова здорова. Следователи нашли царскую невесту в полном здравии. Боярин Шереметев спросил её, отчего она занемогла, когда была во дворце, и Марья Хлопова ответила, что супостаты задумали её извести. Отец её Иван тоже утверждал, что дочь отравили Салтыковы.
Проделки Салтыковых и их злой умысел были очевидны. Был составлен указ об их ссылке. В этом указе было написано, что Салтыковы учинили помеху «государской радости и женитьбе». «Вы это сделали изменно, — говорилось в указе, — забыв государево крестное целование и государскую великую милость; а государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере; пожалованы вы были честью и приближением больше всей братьи своей, и вы то поставили ни во что, ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что себя богатили, дома свои и племя своё полнили, земли крали и во всех делах делали неправду, промышляли тем, чтоб вам при государской милости кроме себя никого не видеть, а доброхотства и службы к государю не показали».
Однако наказание было милостивым. Старшего Салтыкова, Бориса, сослали в Галич, пригороды которого считались имением Салтыковых, Михаила — в Вологду, а их мать — в Суздальский монастырь.
Но дальнейшие события приняли неожиданный оборот. Царь объявил, что хотя Марья Хлопова и здорова, он на ней всё равно не женится. Филарет понимал, что тут были интриги Марфы, которая в делах семейных была прозорливее и сильнее его. Для начала он обратился с укоризной к сыну. Михаил плакал, но твердил одно и то же:
— Жениться на Марье Хлоповой не стану.
— Ты понимаешь ли, сын, что и свои люди, а тем более иноземные станут говорить: «Такова-то у русских честь царская»?
— Не могу, государь-батюшка, жениться на Хлоповой. Что хочешь делай — не могу.
— Поверил в затейливые доводы матушки? — осторожно наступал Филарет.
Михаил подавленно молчал.
— Как пойти против родительской воли? Или я тебе не родитель?
— Виноват, государь-батюшка. Отпусти мне мою вину. Нет у меня воли прекословить матушке.
— Грозилась проклятием? — строго спросил Филарет.
В лице Михаила что-то дрогнуло. Филарет сокрушённо опустил голову. Он видел, что сын его устал от злобной суеты Салтыковых, от борьбы за невесту. Его мягкая натура хотела покоя и мира. А покоя не было, и этим Марья Хлопова стала ему немилой.
Филарет понял, что Михаилу надо искать другую невесту. Но с Марфой у него будет разговор особый. Ей лишь спусти — снова оседлает и его и сына.
Неожиданно Марфа сама пришла к нему. Деспоты по натуре обычно отличаются нетерпеливым нравом, а может быть, она не была уверена в своей окончательной победе.
Филарет сидел в своём кабинете и читал письмо из Казанской епархии, когда вошла Марфа.
— Садись, матушка, — кивнул он.
Отложив в сторону письмо, он добавил:
— Знаю, зачем пожаловала. Нелегко идти грозой на собственного сына, тем более на царя.
От этого укора Марфа зло прищурила глаза.
— Это ты навёл грозу на всю державу. В галичских деревнях холопы умирают с голоду, а недоимки тебе плати. Когда это было, чтобы налоги брали даже с сохи? За ведро воды, принесённое с речки, плати, за поваленное дерево — опять же прибавка к пошлине. Зато ярыжкам да целовальникам раздолье.
В злобе своей Марфа всё смешала: и правду, и прямую ложь. Филарет слушал её в немом изумлении, потому напомнил ей, что все решения принимались собором. Так было принято установление нового перечня земель, обременённых налогами. Надо было собрать недоимки и дать укорот чиновникам за злоупотребление властью. Впервые была сделана правильная государственная роспись доходов и расходов. Или Марфе неведомо это? Или она не знает, сколь бедна государственная казна?
— Дивлюсь тебе, Марфа. Или ты запамятовала, сколь суров был сын твой царь Михаил, когда дело шло о недоимках? И не ты ли сама повелела связать верёвками и кинуть в холодный овин холопа, который не осилил возложенное на его двор тягло? Мне сказывали, что того холопа спасли от смерти бродяги, услышавшие стоны из овина. Так в чём же ты хочешь меня обвинить? Да, я бывал суров, но бывал и милосерден. Спроси о том галицких крестьян... «Зачем я об этом? Словно оправдываюсь перед ней... Ужели она взяла надо мной такую силу?» — мелькнуло в уме Филарета. Марфа тут же поймала его на слове.
— Вот о ближних наших крестьянах я и хочу спросить тебя. Не ты ли наложил запрет на их обельные[36] грамоты?
— О каком запрете ты говоришь, Марфа?
— Вот и выходит, что не у меня, а у тебя короткая память...
Он терпеливо молчал, зная её манеру «тянуть душу».
— Да, ты наложил запрет на обельную грамоту для семьи домнинского старосты Ивана Сусанина.
Филарет изумлённо слушал.
— Ну, что молчишь? Теперь моя очередь сказать: «Дивлюсь тебе, Филарет». Или ты запамятовал, что Иван Сусанин жизнь положил, чтобы отвести ворогов от Ипатьевского монастыря, где укрывалась я с Михаилом?
Так изматывать душу ложными словесами могла только Марфа.
— То дело давнее, и меня на Москве не было. Что же ты сама не порадела семье домнинского старосты? Мне ведомо, что она обращалась к тебе, уповая на твоё доброе сердце.
Марфа несколько смутилась. Укоряя его, она не знала, что ему известно о хлопотах семьи Сусанина. Филарет понял, что она попала впросак, и решил наступать дальше.
— Или ты не дала обельную грамоту крестьянам Тарутиным после поставления сына на царство за то, что они в дни твоей ссылки были добры к тебе? Или это больше заслуги Сусанина перед отчизной? Тарутины ничем не жертвовали, а Сусанин отдал свою жизнь за нашего сына... И ещё спрошу тебя: разве тебе неведомо, что зять Сусанина, Собинин, обратился с просьбой о выдаче ему обельной грамоты вдругорядь — после моего возвращения из плена?
Марфа некоторое время молчала. Ей было неприятно, что Филарет как бы принизил её, упрекнув за самоличное решение поставить Тарутиных выше Сусанина. Но она скоро нашлась:
— Так Тарутины живут одной семьёй, у Сусанина же сын помер, а дочь — отрезанный ломоть.
— Не о том говоришь, Марфа. Заслуга Сусанина перед державой столь велика, что имя его прославится в веках. А про Тарутиных никто и ведать не будет. Вот почему я дал зятю и дочери Сусанина обельную грамоту.
— То не ты дал, а царь.
— У тебя, Марфа, память стала слабеть. Ты сегодня не помнишь, что говорила вчера. Так вот: грамоту семье Сусанина царь дал по моему слову. Да, по моему слову. Ты же молчала. И ещё должен сказать тебе, ибо мы с тобой об этом ни разу не толковали: без меня ты теснила достойных людей отечества. Ты князя-героя Дмитрия Пожарского принизила перед своими племянниками, которые ничего не сделали для страны. О дочери Сусанина сама поведала, что она отрезанный ломоть. Ужели не понимаешь, что внимание к его дочери — это память о её незабвенном отце? И это ещё не всё. Умолчу ли? Ты едва не погубила невинно человека: поддержала происки каверзников против архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия.
— Дионисия?! — в гневном изумлении воскликнула Марфа.
Филарет видел, что она не то испугалась, не то встревожилась.
— И об этом у нас с тобой ещё будет беседа.
— Супостат! Кровопийца!..
Губы её побелели от злобы. Она задыхалась. Филарет изумлённо поднялся и позвонил в колокольчик. Явился прислуживший ему келейник.
— Позовите матушку Александру и проводите игуменью до колымаги. Да велите подать ей в сенях вишнёвого кваса.
Оставшись один, Филарет сжал голову руками, словно старался заглушить звучавшие в ушах грубые слова. До такого дерзкого исступления Марфа ещё ни разу не доходила. Он понимал, что дело тут не только в его спорных словах. Прорвалась ещё и злоба на него за то, что сослал её племянников и лишил их вотчин. Однако сын её Михаил тоже был твёрд в своём решении, и многие говорили, что суд был милостивым. Боярин Шереметев так и сказал: «Иван Грозный за такие дела головы рубил».
Припоминая беседу с Марфой, Филарет отметил про себя, что «последней каплей» для неё стало упоминание имени Дионисия. Дело было прошлое, и суд снял с него всякую вину. Марфа же продолжала твердить о его вине, ссылаясь на то, что он якобы и сам покаялся.
Но он, патриарх, не слышал, чтобы Дионисий каялся. К тому же опыт научил его разбираться в тонкостях человеческого поведения. Не всякий кается, кто виноват, и не всяк виноват, кто кается. Дионисий явно не виноват, но Марфа и слышать об этом не хочет, твердит своё. То и дело приступает к сыну Михаилу, сеет смуту в его душе: мол, Дионисий самовольно вычеркнул из молитвы слово «и огнём».
Подстрекаемый Марфой, Филарет обратился за разъяснениями к иерусалимскому патриарху Феофану: «Есть ли в ваших греческих книгах прибавление «и огнём»? Феофан отвечал: «Нет. И у нас тому быть непригоже. Добро бы тебе, брату нашему, о том порадеть и исправить, чтоб этому огню в прилоге и у вас не было».
Так выходит, Дионисий был прав. Более того, он показал себя архимандритом, радетельным к истине. Но Марфа стояла на своём.
Как «доказательство» виновности Дионисия Марфа привела затейливый довод. Она ставила ему в вину, что на грамоте 1613 года «Об избрании Михаила Фёдоровича на всероссийский престол» нет его подписи. Филарет отмахивался от этого обвинения Дионисию: мол, не принесли ему грамоту на подпись либо он был в то время в отбытии. Важно, что Дионисий торжественно встретил Михаила у ворот своего монастыря и в числе именитых духовных лиц присутствовал при венчании его на царство. Однако Марфа стояла на своём. Пришлось созвать собор, на котором враги Дионисия заставили его стоять в ответе целый день. Но Дионисий обличил своих противников, доказал свою правоту, и Филарет вернул ему сан архимандрита.
Это решение ещё больше разгневало Марфу. Атакуемый противниками Дионисия, Филарет снова обратился с запросом к Феофану и вселенским патриархам, дабы прислали подтверждение из греческих книг древних переводов. Пришёл ответ, вновь подтвердивший правоту Дионисия. Тогда Филарет решил собрать митрополитов, архиепископов, архимандритов, чтобы при их поддержке предотвратить дальнейшие нападки на Дионисия.
Всё это случилось на днях. Вот почему он, Филарет, решил оповестить Марфу о предстоящей беседе с ней. Он не ожидал с её стороны такой ярости и не понимал её причины. Не думает ли она, что он собирается начать против неё дело, как это было в истории с её племянниками? Ведь её вина в преследовании Дионисия была очевидной. Это в Вознесенском монастыре, в её кельях, состоялся допрос Дионисия, и после поклёпа на него злые недруги подвергли его бесчестью и мукам.
Нет, он, Филарет, не станет расследовать это дело. Даже имя Марфы не будет упомянуто на предстоящем совете с духовными чинами. Но с ней он должен поговорить. Ему надо было много понять для себя самого. Почему она стала едва ли не главной гонительницей несчастного Дионисия? Ясно, что остальные были её приспешниками и выполняли её волю. Но как всё это могло приключиться?
ГЛАВА 70 БЕДА ИСТИННО РУССКАЯ
Со свойственной ему дотошностью Филарет собрал много известий о Дионисии. Позже он не раз упоминал о нём в своим проповедях и нашёл в его жизни пример для личного мужества и подвига.
История Дионисия — это повесть о том, как местечковый поп возвысился до архимандрита, преодолел тяжкие превратности судьбы, прошёл все круги ада, поднялся до высот духа, доступных немногим из смертных.
Дионисий, в миру Давид Зобниновский, родился в Ржеве в 1570 году. Его отец и мать были посадскими людьми. Семи лет Дионисий переселился с ними в Старицу, где отец был старостой ямской слободы. В 1595 году Дионисий был поставлен в священники церкви Богоявления Господня в селе Ильинском. Здесь он прослужил шесть лет и после смерти жены и детей постригся в Старицком монастыре. Был там назначен архимандритом, а в 1610 году его перевели архимандритом в Троице-Сергиеву лавру. В дни осады обители поляками он сумел превратить её в крепость, писал и рассылал «поучительные грамоты» к народу, бесстрашно появлялся в сёлах, где хозяйничали враги. «Станем называться именем чудотворца Сергия и будем спасены», — говорил он в таких случаях. Монахам и жителям окрестных сёл он проповедовал: «Мужайтесь в Боге и крепитесь. Если ныне не постраждем за правду, потом всё равно умрём без пользы и награды. Воистину милостивый и человеколюбивый Владыка избавит нас от латинского порабощения».
Приехавший из Москвы посыльный вручил архимандриту грамоту царя и патриарха за верность отечеству.
Патриарх Гермоген ценил Дионисия и поддерживал во всех его начинаниях. Когда Филарет узнал об этом, он с особенным интересом ознакомился с грамотами, которые архимандрит рассылал окрестному населению в годы польского нашествия, а затем и осады монастыря. Он приравнивал подвиг Дионисия к подвигу Минина и Пожарского и искал человека, которому можно было бы доверить написание истории защитников лавры.
Но как изменилось всё в Троице-Сергиевом монастыре после тех героических лет! Падение нравов и духовная шаткость привели к тому, что силу взяли люди корыстолюбивые и ничтожные. Дорвавшись до власти, они задумали погубить Дионисия, зная, что их поддержат сверху.
А что же Дионисий? Ужели он был лишён проницательности? Или не видел, как стали ополчаться против него недостойные людишки? Филарет понял, что архимандрит допустил ошибку, присущую многим русским православным людям. Доведённая до крайности евангельская заповедь о любви к врагам своим может иметь обратный результат: зло одолеет добро и обесчестит его. Злу лишь дай послабление...
Многое тут зависело и от нрава. Будучи от природы мягким и кротким, Дионисий часто не находил в себе необходимой твёрдости в обращении с подвластными ему людьми и был излишне деликатен. Его повеление звучало как просьба: «Брат, если хочешь, сделай...» Естественно, что многие приказания его не исполнялись и дисциплина ослабевала.
Впрочем, имей Дионисий и твёрдый нрав, ему не избежать бы злой судьбы, ибо стоявшие над ним силы хотели его погибели. Сокровища Троице-Сергиевой лавры, самого богатого на Руси монастыря, давно были соблазном для корыстолюбивых людей, получивших силу в державе. Дионисий явно им мешал.
Как избыть его? Избран был непростой, но надёжный способ: обвинение в ереси. Однако у Дионисия была высокая репутация духовного пастыря, некогда его чтил святейший Гермоген. Оттого и медлили вначале, пока не решились обесчестить его и принизить как «неучёного сельского попа».
Ход дела был предрешён заранее. Главным обличителем архимандрита был монах — клирошанин Логин, которого в монастыре называли «горланом», видимо, за громкий голос во время пения на клиросе и крикливый тон в обращении с монашеской братией.
Предметом преследований Логина и стал Дионисий с той разницей, что в них чувствовалась не просто грубость, но преднамеренность. Так Логин искажал смысл духовных стихов, которые он пел на клиросе, а его товарищ-подельник тем временем произносил богохульные речи. Всё было рассчитано на то, чтобы вызвать гнев Дионисия. Но кроткий архимандрит ограничился внушением ослушникам:
— Подите, не принуждайте меня ко греху, ведь это дело всей церкви Божией, а я с вами по любви наедине беседую и спрашиваю вас для того, чтоб царское величество и власть патриаршая не знали, чтоб нам в смирении и в отлучении от церкви Божией не быть.
На эти слова Логин нагло отвечал:
— Погибли места святые от вас, дураков. Везде вас теперь много — неучёных сельских попов. Людей учите, а сами не знаете, чему.
Сам Логин самоуверенно поучал Дионисия, требуя, чтобы тот не читал поучения святых отцов и не пел на клиросе. Он так и заявил:
— Не ваше это дело — петь или читать. Знал бы ты одно, архимандрит, чтоб с мотовилом своим на клиросе, как болван, онемев, стоять.
Но и эту грубость Дионисий пропустил мимо. Тогда Логин от грубых слов перешёл к грубым действиям. Когда Дионисий сошёл с клироса и хотел читать, Логин подскочил к нему и вырвал книгу из его рук. Налой с книгой полетел на землю. Дионисий лишь молча перекрестил своё лицо и пошёл на клирос. Логин читал сам и, когда закончил чтение, подошёл к архимандриту, начал ругать его и плевать ему в лицо. Дионисий, отстранив его посохом, мирно сказал:
— Перестань, Логин, не мешай божественному пению и братию не смущай.
Но кроткий тон Дионисия не смирил взбесившегося клирошанина. Он выхватил из рук архимандрита посох, изломал его на четыре части и бросил ему на колени.
Дионисий был вправе наложить епитимью на святотатца, наконец, изгнать его из стен лавры. Вместо этого он стал молиться Богу и просить прощения за грех Логина.
Прощение архимандрита подвигло Логина на новые злодейства. Вместе со своим подельником он стал писать в Москву жалобы на Дионисия, наполненные клеветой и поношениями.
Дальнейшим шагом, рассчитанным на вовлечение архимандрита в западню, было поручение исправить «Потребник», куда переписчики внесли немало искажений.
Этот труд был возложен на Дионисия царской грамотой. «И мы, — писал царь, — указали исправление «Потребника» поручить тебе, архимандриту Дионисию, и с тобою Арсению и Ивану и другим духовным и разумным старцам, которым подлинно известно книжное учение, грамматику и риторику знают».
Это почётное, казалось бы, царское поручение обернулось, однако, для Дионисия великой бедой. Он удалил все неточности и ошибки, в том числе и ненужную прибавку «и огнём». Кто сделал эту прибавку, неизвестно. Возможно, и сам Логин — переписчик многих уставов. Но умысел этой прибавки был очевиден. Дионисия, который её удалил, начали обвинять в великом смертном грехе, хотя поступил он правильно: прибавка была ненужной.
Обнаружив, что Дионисий вычеркнул слова «и огнём», Логин со своими подельниками отправил новый донос в Москву, обвиняя архимандрита в том, что он еретичествует: «Духа Святого не исповедует, яко огнь есть».
Дионисия и его товарищей вызвали на патриарший двор. Их волокли туда с бесчестьем и позором, плевали в них, кидали каменьями. Потом начался допрос в Вознесенском монастыре, в кельях инокини Марфы. «Доказав» вину Дионисия, с него потребовали пятьсот рублей якобы за неё. Дионисий ответил, что денег у него нет. Его заковали в цепи и подвергли издевательствам. Дионисий с достоинством отвечал:
— Денег у меня нет, да и давать не за что. Сибирью и Соловками грозите мне? Но я рад пострадать за Бога и правду. Это мне и жизнь.
Против Дионисия возбудили не только монахов, но и чернь. Распустили слух, что архимандрит Троице-Сергиевой лавры решил «вывести» огонь. Это вызвало злобу простых людей, особенно ремесленников, которые без огня ничего не могли делать. Голодные люди, поверившие, что в их несчастьях повинен архимандрит, выходили против него с дрекольем и камнями. А он стоял скованный, не в силах даже уклониться от ударов, от бесчисленных пинков и кулаков. Глаза его запорошило песком, которым кидали в него.
Между тем стояли жаркие дни июня, затем июля, и не было человека, который подал ему хотя бы воды. Пить ему приносили тайно, когда он лежал в застенке.
Эти публичные истязания были рассчитаны ещё и на то, чтобы оторвать от Дионисия его учеников и поборников. Одного из них, Арсения Глухого, судя по всему, принудили написать отречение, а по существу донос на Дионисия. Это отречение было составлено сбивчиво, бессвязно и бездоказательно. Он обвинял архимандрита в том, что он не выдаёт бедным клирошанам денег на платье и обувь, а рукоделье велит уничтожать.
Письмо это было адресовано на имя боярина Бориса Михайловича Салтыкова, хотя боярином в 1615 году он ещё не был. Тут явная лесть. Существенна также оговорка о «незлобливом сердце» Марфы Ивановны, которое «на ярость подвигнули». Снова лесть, теперь уже по адресу Марфы Ивановны.
Всё это происходило до приезда Филарета, и, прочитав по возвращении из плена письмо старца Арсения Глухого, он понял, что старица Марфа находилась как бы в одной связке со своими племянниками Салтыковыми.
Первое, что сделал Филарет, — он освободил Дионисия, явно невиновного, и вернул ему сан архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Далее Филарет потеснил противников Дионисия, а о Логине доподлинно выяснил, что ещё при царе Василии Шуйском он печатал уставы с грубыми ошибками, видимо, преднамеренными. Филарет повелел убрать эти уставы, ибо их печатал «вор, бражник, Троицкого Сергиева монастыря крылошанин чернец Логин, и многие в них статьи напечатал не по апостольскому и не по отеческому преданию, а своим самовольством».
Беда, случившаяся в Сергиевой обители, была, однако, всеобщей. В ряде монастырей дерзкие людишки грабили монастырскую казну, били архимандритов и брали их под стражу. А в Хутынском монастыре монах Юрюханов пришёл в буйство, напал на своего архимандрита, а затем подал на него донос, обвиняя в непригожих речах. Митрополит, получивший этот донос, увидел, что дело было вздорным, и хотел его затушить. Всё было напрасно.
Архимандрита повели к допросу, жгли огнём, пытали. Более того, митрополиту в самом Софийском соборе, при всём народе, строго выговорили как потакателю «непригожих» речей, а это было равносильно неисполнению святительской обязанности.
Немирные случаи были делом нередким в самой духовной среде. Требовалось много сил, чтобы справиться с этой общей бедой. Разбои, насилие и прямые надругательства над верой были довольно распространённым явлением, особенно на Севере и в Сибири. Но Филарет видел в этом не только вину отдельных людей, но и следствие Смуты. Люди привыкли обманывать, присваивать чужое и даже убивать из корысти. Чья сила — тот и прав. Миром правил грех, и само правосудие было у него в услужении.
Как лицо духовное Филарет видел спасение в вере, как мирянин — в правосудии. Он сурово преследовал всякое беззаконие и прославлял святых людей, подобных Дионисию. Он хорошо знал историю Руси и понимал, что во многих испытаниях её спасали не только рука великого князя или царя, но и величие духа её церковных пастырей, подобных митрополитам Петру и Алексию, преподобному Сергию Радонежскому, святейшему патриарху Гермогену.
Удивительно ли, что в Смутное время был подъём религиозного чувства, который и спас Русское государство. Этому способствовали и многие духовные пастыри: патриарх Гермоген, подвигнувший на подвиг ополчение Минина и Пожарского, за что и был брошен в темницу; архиепископ Феоктист Тверской, замученный поляками за то, что его паства сохранила верность присяге; Иосиф Коломенский, которого пан Лисовский, прославившийся своей жестокостью, приковал к пушке; архиепископ Смоленский Сергий, погибший в польском плену...
Святейшего Гермогена Филарет особенно почитал и в трудные минуты часто пытался представить, как поступил бы тот на его месте. В молитвах своих Филарет всякий раз вспоминал подвиги отцов церкви и повторял: «Да будет благословенна Русская земля, что святится такими людьми!»
ГЛАВА 71 МИРСКИЕ ЗАБОТЫ
В конце утомительного дня Филарет часто спрашивал себя: «Кто из русских людей, облачённых высших духовным саном, имел на своих плечах ещё и сына-царя?» По многим признакам Филарет догадывался о влиянии на сына его матери. С этим приходилось мириться. Филарет уже подосадовал на себя, что пробудил в Марфе мнительность и гнев, когда бросил ей упрёк за её вину в драматической судьбе Дионисия. А всё нрав его — запальчивый: каким был в прежние годы — таким и остался. Марфа, видно, сыну пожаловалась.
Между тем предстояло сватовство сына. Хлопова продолжала жить в Нижнем Новгороде, лишь «корм» ей увеличили вдвое. Семейный выбор остановился на княжне Марье Владимировне Долгорукой. Но Марфа весьма нерадостно принимала участие в заботах о сватовстве, и это было дурным знаком. Род князей Долгоруких — древний и знатный, и Марфа, по-видимому, опасалась, что Долгорукие потеснят её родню — Салтыковых.
Свадьба, однако, получилась на славу. Было 19 сентября 1624 года. Сам патриарх соединил руки молодых. Праздновали не один день. Ликовала вся Москва. На площадь выкатили двести бочек мёда и триста бочек пива. Москва оглашалась радостными кликами. И во дворце давно не помнили такого пира. Столы были поставлены в четыре ряда по двести человек. Под балдахином за малым столом сидели царь с царицей и патриарх.
Потекли первые счастливые дни. Михаил души не чаял в своей царице — доброй, ласковой, красивой. Только отчего была в ней какая-то неуверенность и боязнь? Вскоре она занемогла и скончалась. В народе говорили, что царица была «испорчена».
Позже Филарету часто представлялись милые черты царицы, и долго не покидали его смутные мысли, что он словно бы повинен в этой беде. Удивительно, что несчастье с Хлоповой случилось до его приезда, и смерть царицы Марьи приключилась тоже в его отсутствие. Будто кто-то выжидал удобное время, чтобы совершить злое дело.
После смерти Марьи Долгорукой Филарет как-то опал душой. В домашние дела не мешался, и выбор третьей невесты прошёл как бы мимо него. Он знал, что Марфа сама выберет невесту незнатную, чтобы после можно было верховодить царицей, а значит, и царём.
Так оно и вышло. Скликали шестьдесят невест, именитых да красивых, назначили смотрины, но близким людям было известно, что это делается для порядка, невеста уже выбрана. Мать ещё загодя, до смотрин, показала Михаилу дворцовую прислужницу, дочь незначительного можайского дворянина Евдокию Лукьяновну Стрешневу. Всем взяла эта избранница Марфы — высокая, статная, краснощёкая, со светло-русой косой. Она покорила Михаила ласковым притягательным взглядом и мягкими манерами.
После женитьбы сына на Евдокии Стрешневой Марфа утихомирилась: видимо поняла, что сумеет влиять на сына-царя через покладистую невестку и станет делать всё по-своему, но только похитрее.
В эти дни Филарету было не до семейных дел. Из Новгорода Великого, из Спасского Хутынского монастыря продолжали приходить тревожные вести. Он знал, что мятежники и смутьяны пытали архимандрита Феодорита — по ложному доносу и вопреки воле митрополита. Глумились и над самим митрополитом — в Софийском соборе, прилюдно. И вот новая весть: митрополит Афоний тяжело занемог, не вынеся позора и надругательств. И ещё одно тревожное известие: к буйному монаху Брюханову приехал неведомо откуда взявшийся монах, и они чинят беспорядки в монастыре. Ясно, что в Новгороде взяли волю опасные тёмные силы.
Филарет решил поехать в Новгород, с тем чтобы самому во всём разобраться. Некогда, в ранние свои годы, он скакал туда с незабвенным царевичем Иваном, своим братом, и грудь распирало от гордости, что едет в царской свите бороться с крамолой, свившей себе гнездо в Новгороде. Какой же короткой показалась ему в те дни дорога!
А ныне карета подпрыгивала на каждом ухабе, и казалось, не будет конца пути.
Он не стал останавливаться в Хутынском монастыре, а проехал через детинец прямо к Софийскому собору. На месте ему сообщили, что митрополит после пережитых потрясений лежит больной и более суток не приходит в себя. Филарет велел позвать лекарей и вылечить митрополита за щедрое вознаграждение. Затем он поднялся по соборной лестнице и, минуя папертный навес, прошёл к двери, ведущей в особый притвор, где, как сказали ему, митрополит принимал и монастырскую братию и прихожан.
Войдя, он перекрестился на иконостас и оглядел притвор, похожий на келью; небольшой стол ближе к углу и скамьи возле стен. В своей богатой треволнениями жизни Филарет привык действовать, судя по обстоятельствам. Так выходило и теперь. Предстояло навестить больного митрополита и пришедшего в себя после тяжёлых пыток архимандрита. Откушать Филарет решил в этой келье, поручив своим прислужникам разобрать дорожные корзины.
Не успел он распорядиться, как резким рывком открылась дверь и вошёл высокий седой монах. Поклонившись, он оглядел притвор и, остановив странный взгляд на Филарете, произнёс громким, приятно-певучим голосом:
— Удостоен чести звать в гости святейшего патриарха в Хутынский монастырь.
Филарет не сразу распознал в седом старике знакомые черты. «Не тот ли это неведомый монах, что прибыл в Хутынский монастырь?» — мелькнуло у него.
— Авраамий Палицын? — не совсем уверенно уточнил он.
— Твоя милость угадала.
— Но ты был сослан в Соловки.
— Или в приговоре было сказано: «На вечное житие»?
— И всё же по чьей воле ты здесь? — строго спросил Филарет.
В больших сумрачно-тёмных глазах Авраамия мелькнул и тотчас погас злой огонёк.
— А по Божьей воле... Яко всё в мире творится по Божьему соизволению.
«Увёртлив, как и прежде, — подумал Филарет. — Однако придётся допросить». Он понимал, что такой опасный и хитроумный человек прибыл в Новгород с заведомо губительной целью. С виду он ещё крепок. И всё-таки кто бы мог подумать, что он способен проделать столь долгий путь от Соловков? Далёкий Север. Белое море. У самого входа в Онежскую губу расположен Соловецкий остров, на котором более века назад и был построен Соловецкий монастырь. Места труднопроходимые. Почва то каменистая, то болотистая, то густо покрытая кустарниками. Без помощи монастырской братии Палицыну не решиться бы на столь отчаянный шаг. Во многих же монастырях, что стояли на пути, водились лошади. Как не помочь своему человеку! Авраамия многие монахи знали ещё по тому времени, когда он был келарем Троице-Сергиевой лавры.
Филарет оглядел Авраамия. На его широких плечах сидела новая ряска, а поверх опашень, явно с чужого плеча: где-то добыл, не иначе как силой отнял. Такому богатырю и лихие люди на дороге нипочём, недаром его предок получил прозвище Палица за то, что действовал в боях железной палицей весом в полтора пуда. Филарету рассказывали, что Авраамий часто вспоминал своего предка и гордился им. Что касается самого Авраамия, то у него в жизни была иная «палица». Всесильный келарь Троице-Сергиевой лавры, он многих подмял под себя. Будучи хозяйственным управителем богатого монастыря, он везде имел своих клевретов. Не они ли подсобили ему добраться до Новгорода?
Наблюдая за переменчивым выражением лица Авраамия, Филарет хотел понять: неужели он не опасался, что рано или поздно побег его откроется? Сколько помнил Филарет, келарь Палицын не боялся рисковать. В Польше, когда они находились в составе русского посольства, Палицын пошёл на прямую измену ради личной выгоды. Забыв о долге, он вместе со своими подельниками — дворянином Сукиным и дьяком Сыдавным — били челом королю Сигизмунду, чтобы наградил их поместьями, если они откажутся от посольских дел. Получив желаемое, трое изменников, презрев просьбы остальных послов, стали собираться в Москву. Филарет и его соратники уговаривали их: «Нигде не слыхано, чтобы послы, покинув государское и земское дело и товарищей своих, отъехали домой».
Филарет приглашал Авраамия для беседы, но он не явился. Отступники так и отбыли, не простившись с товарищами.
Вернувшись из плена и ознакомившись с положением дел в лавре, Филарет понял, зачем келарь Палицын добивался от Сигизмунда охранной грамоты на святую обитель. При ближайшем знакомстве с делами он обнаружил расхищение монастырской казны, сомнительные сделки и много беспорядков, которые способствовали падению монастырских нравов. Филарет не посмотрел на то, что подпись Авраамия стояла на избирательной грамоте Михаила Фёдоровича, и сослал келаря в Соловецкий монастырь.
Таким образом, обстоятельства в судьбе Авраамия повторялись. Тремя десятилетиями ранее он был отправлен в Соловки, а его имение конфисковано и отписано в казну, надо думать, не за добрые дела. Вот и ныне он отважился на дерзкий побег тоже, видно, не ради добродетельного жития. И что ему в Новгороде? Ужели задумал поменять один монастырь на другой?
Филарет догадывался, что в бегстве Авраамия из Соловков были заинтересованы духовные лица, и, может быть, не только духовные. Он решил допросить беглого монаха, не выдавая своих подозрений, но не мог принудить себя к мягкому, спокойному тону и произнёс резко:
— Высоко ты, однако, мнишь о себе, Авраамий. Пошто надумал величать свой побег яко Божье соизволение?
— Ошибаешься, владыка, называя мой путь в Новгород побегом. Ныне пребываю в Спасском Хутынском монастыре по приглашению братии.
— То нарушение устава. Такие дела решаются патриаршей волей, с согласия собора.
— Поведёшь злое дознание? — Авраамий обнажил крепкие ещё зубы.
Филарет с минуту спокойно наблюдал на ним, потом сказал:
— Ты напомнил мне о злых пытках казначея Иосифа Девочкина, к которым, как говорили, ты имел касательство.
Филарет знал, что Палицын отрицал свою причастность к делу казначея, отрицал даже сам факт пыток. Он, видимо, рассчитывал, что дело это уже забыто, оттого и вскинулся так протестующе, когда Филарет упомянул о злосчастной судьбе казначея. Филарет и сам не предполагал напоминать о событии более десятилетней давности, но, видя, как повёл себя этот странный монах, понял, как тяготит его душу это вызванное словно из небытия трагическое дело.
История замученного на пытке Иосифа Девочкина ещё тогда показалась Филарету загадочной. Очевидным было одно: похищение монастырской казны, которой ведал келарь Палицын. Неведомо чьё преступление решили переложить на плечи кроткого бессребреника монаха Иосифа. За руку, что называется, никого не схватили, но строить верные догадки помогал вопрос: «Кому это выгодно?»
Когда на Девочкина возвели обвинение, его сторону приняли люди, вызывавшие полное доверие: ливонская королева старица Марфа, сам архимандрит и большинство монахов. В защиту невинно обвиняемого выступило всё окрестное население. Тем не менее казнь состоялась. Бедный монах не выдержал жестоких пыток и скончался.
Когда Филарет начал разбираться в этом деле, он понял, что келарь заметает следы. Палицын заявил, что никаких пыток не было, хотя в скором времени в своём «Сказании» написал об этих пытках, как если бы сам на них присутствовал, и даже не скрывал своей радости по поводу кончины казначея.
Филарет ожидал, что Авраамий начнёт отрицать своё касательство к делу казначея, но тот неожиданно спокойно произнёс:
— А ты, патриарх, не будь злоречив к убогому монаху. Дело-то давнее, кругом была измена.
Он словно бы намекал на что-то.
— Ты, Авраамий, забыл ответить на вопрос, зачем прибыл в Новгород.
— А о том уже была речь — по приглашению монастырской братии.
— Но для какой надобности?
— Дело-то ещё не успели обговорить, — уклончиво ответил монах.
— Тебя одного позвали?
— Как же! Ожидают прибытия братьев духовных из Калягина да Звенигорода. Меня, однако же, первого почтили.
Филарет знал за Палицыным эту черту: он любил выставлять себя деятелем. В своё время он даже приписал себе некоторые героические дела Минина и Пожарского, и люди поверили, пока не дознались об истине. Может быть, и ныне он усердствует из тщеславия.
— Не опасаешься ввязаться в крамолу?
— Полагаюсь на Бога, который не единожды спасал меня не токмо от позора, но и от смерти.
— А ты в Бога веришь по православному нашему учению? — неожиданно сурово спросил Филарет.
— Люди не могут жить без веры. А где она — вера? Где надежда? Где любовь? Где евангельские заповеди? Где апостольская проповедь? Где непорочное священство? Где житие иноческое? Архимандриты, епископы сделались богами, высшими от Бога.
— Ты о ком говоришь, Апраамий?
Но тот, не отвечая, продолжал:
— Да будут прокляты владыки, архиепископы, игумены, которые монастыри запустили, со слугами и служителями скотскую жизнь проводят, на местах святых лежа. В монастырях иноческого чина нет, вместо молитвы и песнопения псы воют.
Он был вне себя, на губах его выступила пена. Глаза побелели и, казалось, выступили из орбит.
Но вдруг, словно опомнившись, он остановился.
— Что же ты о святой церкви забыл? — строго спросил Филарет. — Или она тоже во грехе великом пребывает?
— И церкви також запустили, людей злыми поборами обложили. Весь народ в убожество привели.
— А не кажется ли тебе, Авраамий, что ты впал в святотатственное буйство?
Авраамий помолчал, что-то обдумывая, потом ответил:
— То же самое, что и я, князь Хворостинин говорит.
— Князь Иван, и про то все ведают, был в особом приближении у Гришки Отрепьева. Первый любимец Расстриги был. Оттого впал в ересь и в вере пошатнулся. Святую веру поносил, христианских обычаев не хранил. За это царь Василий сослал его в Иосифов монастырь. Государь Михаил Фёдорович помиловал его, но князь Хворостинин снова стал приставать к польским и литовским попам и в вере с ними соединился. Держал у себя латинские образа и книги и стал промышлять, как бы отъехать в Литву. Продал и дом свой и вотчины. А государя стал называть деспотом русским. Ды ты-то, русский православный монах, по какой нужде спознался с князем-еретиком?
Не получив ответа, Филарет спросил:
— Не задумал ли и ты побег в Литву с монастырской братией, забыв про государское милование?
— Требуешь от меня обещания и клятвы? Ныне у многих поползновения в вере, да не на мне сыскивать эту вину. Я в православной вере родился и вырос, её обряды исполнял и держал непоколебимо, никакой ереси не принимал и книг латинских не держал.
Видно было, что Авраамий струсил, оттого и изворачивался. Вся жизнь этого человека — свидетельство отпадения от православной церкви. Многие люди замечали, что он не соблюдал посты, не стоял у заутрени и обедни, ссылаясь на то, что молится У себя в келье. И Филарет в эту минуту подумал, что бывший келарь святой обители поддался католическому учению, но скрывал это. Не дивно ли, что он, скупой по природе, одарил Сигизмунда ценными дарами? Не брату ли своему, духовному единоверцу радел? «Велю ему вернуться в Соловки, — решил Филарет, — чтобы не мутил братию. А самых главных горланов из неё позовём в Москву на собор. Пускай допрашивают попы».
Он и сам не мог постичь, почему столь мягко обошёлся с бывшим изменником. Может быть потому, что, струсив, Авраамий стал тихим и покорным.
— Отпусти мне мою вину, патриарх. Поступи со мной по овечьему незлобию, мудрости змеиной и чистоте голубиной, как Христос научил.
...Филарет думал, как привлечь к участию в соборе простых людей. «Пусть будет холоп, портной, сыромятник, но вспомните, что он вам брат родной, ибо в триединое божество крестился. Надобно дать волю всякому человеку. И простолюдину пособить, дабы увеличивались прибытки в доме. Зла не надо, — размышлял Филарет, — долг мудрых — испытать все способы благоразумия. Держава крепится верой, однако ежели не будет внутреннего спокойствия, не станет ни крепости, ни мира внешнего».
Вернувшись в Москву, Филарет получил несколько писем. Одно было из Соловецкого монастыря. Филарет сразу принялся его читать. В нём рассказывалось о многих бедах и бесчинствах среди монастырской братии, и первая беда: в монастырь с берега привозили вино и мёд, и крамольные монахи готовили медовую брагу. Соборных старцев отставили, их слово не имело силы. Чёрный собор не собирали, а выбрали своих келарей и казначеев из потаковников, которые молчали, когда бунтовщики чинили смуту. А старцев, кои чтили чудотворцев Зосиму и Савватия, бесчестили, на соборе им говорить не давали. И многое в монастыре непотребное творится, указывалось в письме, «чего прежде не бывало и чего быть не должно».
О том, «чего прежде не бывало», сообщалось и в других монастырских письмах: самовольный захват власти и монастырской казны, мятежи и поношения высших духовных чинов. Во всех обителях монахи держат питьё пьяное и табак, друг друга бранят позорной бранью, архиепископов и архимандритов ни во что не ставят, монахи сговариваются между собой, чтобы на них шуметь.
На фоне всех этих бед бегство Палицына из монастыря, как и постыдное издевательство над Дионисием, выглядело делом обычным. Беззаконие в церквах и монастырях, ставшее соблазном для прихожан, словно дурное поветрие охватило всю державу.
Для общественной безопасности были созданы чёрные сотни[37] и поставлены старосты чёрных соборов. Сам Филарет навещал понизовые церкви и монастыри и посылал туда своих подопечных. Но много ли они могли сделать? И что было в силах самого Филарета? В Новгороде он посадил под арест буйных монахов, велел беглецам вернуться в свои монастыри. Важной для него была беседа с Палицыным, который помог ему понять некоторые тайны монастырской жизни. Вопреки первоначальному намерению он милостиво поступил с ним, дал денег на обратный путь. И вот неожиданное известие: Авраамий умер вскоре после возвращения в монастырь. Филарет поставил свечку за упокой его беспокойной души и послал денег на похороны и поминки. Жизнь Палицына была скитальческой, но каких только странников не водилось на русской земле!
Тем временем Филарет начал переписку со многими обителями и церквами. Особенно беспокоила его Сибирь. Общение Москвы с Сибирью было непрерывным. Ходоки из сибирских мест, торговые люди привозили много вестей, и случалось, он, патриарх, знал о сибирской духовной жизни больше, чем тамошние архимандриты и епископы.
Особенно беспокоило Филарета опасное для духовной среды падение нравов в мирской жизни: содомский разврат, торговля людьми, особенно женщинами, пьянство, грабежи и бесчинства. Дошло до того, что некими лицами сибирякам дана была грамота, по которой им дозволялось уводить жён и девиц из других городов. Филарет приказал доставить эту грамоту в Москву для суда и следствия.
Филарет писал сибирскому архиепископу Киприану о том, что многие бесчинства в сибирских городах творятся из-за пренебрежения к вере. Иноземцы, крещённые в православную веру, крестов на себе не носят, христианских обетов и обрядов не исполняют. «Многие служилые люди, которых воеводы и приказные люди посылают в Москву и в другие города для дел, жён своих в деньги закладывают у своей братьи, у служилых же и у всяких людей на сроки, и те люди, у которых они бывают в закладе, с ними до выкупа блуд творят беззазорно, а как их к сроку не выкупят, то они их продают на воровство же и в работу всяким людям, а покупщики также с ними воруют и замуж выдают, а иных бедных вдов и девиц беспомощных для воровства к себе берут силою...»
Забота Филарета об исповедовании православия соединялась у него с борьбой за чистоту нравов. Знакомясь с делами, он начинал понимать, что беззаконие и беспорядки — это не только последствия Смуты. Ясно, что кому-то выгодно, чтобы смутные времена продолжались. Кому же?
Сколько Филарет помнил, часто вспыхивали мятежи. Иногда они ограничивались волостью, а порой охватывали ряд понизовых городов. В стране всегда была бродильная среда для недовольных. Оттого так часто бывали в ней пожары, разбои, грабежи. Меж людей легко насевалась злоба, зависть. Но паче всего не любили на Руси повиноваться властям, чем пользовались внешние недруги, навязывая русским людям свои обычаи и веру. На державу время от времени накатывались волны религиозного дурмана: создавались секты, возникали еретические учения, а на территории, захваченной противником, внедрялась уния.
Однако Филарета особенно тревожило, что на государство надвигается опасность со стороны католического Запада. В этом убеждали донесения таможенных властей и духовенства на местах. Католиками составлялся заговор против православной Руси. Но готовили этот заговор и внутренние недруги державы. Служилые люди из Польши совращали православный народ, отторгая его от веры отцов. Вот о чём докладывал князь Иван Голицын: «Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести: одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины лучших русских людей, не только что боярских людей, останется кто стар или служить не захочет, а бедных людей не останется ни один человек».
Главное было в том, что в годы Смуты перестали преследовать нарушителей отцовских обычаев как изменников. Простые люди не всегда умели отличить внешние признаки веры — обряды, посты, одежду — от сути вероучения и поэтому легко попадались на удочку заезжих проповедников. Не понимали простолюдины и того, что, изменяя вере, они изменяют и отечеству. Между тем католики — и в этом было их преимущество — умело опирались на догматы веры и власть, которая помогала их внедрять. На Русь они приходили со своими обычаями и своим крестом.
В своё время это хорошо понимал Александр Невский. Когда папа Римский хотел прислать к нему двух кардиналов, чтобы на русской земле были услышаны их речи о законе Божьем, князь не пустил кардиналов, ответив: «...а от вас ученья не примем».
Но с того времени католики стали хитрее. Под предлогом соединения церквей они «изобрели» унию, означавшую признание православием главенства папы Римского. Православным разрешалось сохранять некоторые обряды, но и это зачастую запрещалось. Уния вводилась жестокими методами.
Филарета беспокоила уния, которая взяла большую силу на окраинах Руси. Уния отторгла от Русского государства Новгород-Северский, Стародуб, Козелец и другие города. Люди православной веры терпели великие притеснения от миссионеров, насильно насаждавших унию. Дело дошло до того, что даже на сейме стали выступать в защиту православных людей, ибо насильственное введение унии вредило самой же Польше. Отмечались такие факты: в больших городах церкви запечатаны, в монастырях нет монахов, там запирают скот; дети умирают без крещения; тела умерших вывозят без церковного обряда, как падаль; народ уходит из жизни без исповеди.
Волынский воевода говорил: «Скажу, что во Львове делается: кто не униат, тот в городе жить, торговать и в ремесленные цехи принят быть не может; мёртвое тело погребать, к больному с тайнами Христовыми открыто идти нельзя. В Вильне, когда хотят погрести тело благочестивого русского, то должны вывозить его в те ворота, в которые одну нечистоту вывозят. Монахов православных ловят на вольной дороге, бьют и в тюрьмы сажают».
Наконец в защиту православных людей подал голос старый приятель Филарета литовский канцлер Лев Сапега, который сам же до этого хлопотал о введении унии, а теперь не знал, как избыть недостатки, которые она вызвала. Он сослался на слова верующих, что им лучше быть в турецком подданстве, чем терпеть притеснения своей вере. Он опасался, что гнев православных, которым навязывают унию, угрожает «всеистребительным пожаром». Уже отказались повиноваться казаки, а между тем государству Польскому от них больше пользы, чем от унии. Вывод из речи Сапеги был впечатляющим: «Если бы вы посмели сделать что-нибудь подобное в Риме или в Венеции, то вас бы научили там, какое надобно иметь уважение к государству».
Сапега был прав, предупреждая о «пожаре». Через год вспыхнуло восстание в Киеве и в некоторых северских волостях. В свою очередь казаки поднялись в защиту православных людей в Турции.
Что тут было делать Московской патриархии? Церковно-государственная поддержка православных на чужой территории была невозможна. На долю Филарета приходились лишь частные беседы с православными людьми, приезжавшими в Москву. Но, будучи человеком мужественным, он верил, что Божьими судьбами всё устроится.
ГЛАВА 72 ПРОРОЧЕСКИЙ СОН
С рождением первой внучки, Ирины, Марфа словно бы помолодела. Лучики морщин под глазами светились добротой, движения стали более живыми, а речи приятными. С Филаретом у неё установился добрый мир, хотя порой в её словах он улавливал настороженность. Она как будто ждала от него чего-то.
Невестка Евдокия, как некогда и сама Марфа, была плодовитой и чадолюбивой, и Марфа молила Бога, чтобы он даровал её внукам долголетие. Она помнила свои муки, когда её собственные дети умирали во младенчестве. Тогда она обвиняла себя, что не умела молиться, не могла угодить Богу. А ещё больше она винила своего супруга Фёдора, ибо он помнил лишь о себе да своих делах, как и ныне.
И вдруг её внучка Пелагея тяжело захворала и умерла в раннем детстве. Марфа горевала о ней, кажется, больше, чем о кончине своих детей. Лишь рождение наследника престола Алексея — 9 марта 1629 года — понемногу смягчило её скорбь. Она вся отдалась новым волнениям и заботам, строго надзирала за действиями мамки царевича и в первые три месяца дважды меняла ему кормилицу. Куда только делись её собственные хвори! Она три раза в день поднималась на Красное крыльцо, чтобы проведать ненаглядных внуков: Ирину, которой было уже более трёх лет, и младенца Алексея.
Филарет радовался тому, что Марфа целиком ушла в заботы о внуках и совсем утихомирилась.
Но однажды царевич Алексей заболел. Марфа места себе не находила. Первые двое суток не ела, лишь молилась, а вечером её, вконец обессиленную, отнесли в царскую спальню и уложили в постель.
Царь Михаил Фёдорович позвал отца.
— Государь-батюшка! Матушка занемогла.
Во дворце началась суета. Марфа, казалось, никого не видела и не слышала и всё порывалась подняться и уйти. Филарет перекрестил её и прочитал молитву. Марфа открыла глаза.
— Пошто убиваешься, Марфа? Царевич выздоравливает, горя, слава богу, нет, и тебе надлежит быть в твёрдой надежде, уповая на милость Божию.
И вдруг она произнесла тихо, но жёстко:
— Уйди, Фёдор.
В словах её Филарету почудилась ненависть. Он был поражён. Ужели мир в их отношениях был столь ненадёжным? Ежели это действительно ненависть, то за что? Вспомнились слова его любимого апостола Павла: «От скорби происходит терпение».
В скором времени ему приснился сон, который встревожил его, ибо он имел обыкновение верить снам, хотя и считал это грехом. А привиделось ему, что он плывёт по реке, а сбоку, ближе к берегу, водяная круговерть. «Затянет», — опасливо подумалось ему. И видит он, что на берегу стоит Марфа. Она по-деревенски повязана чёрным платком и манит-манит его к себе. Усилием воли он уклоняется от водоворота и плывёт вперёд, а там плотный водяной накат. Как одолеть эту преграду? Он выбивается из сил, и вдруг впереди появляется спокойная река и плыть уже легко.
Утром Филарет стал обдумывать этот сон. В какую погибель хочет затянуть его Марфа? И почему на ней чёрный платок? Впрочем, он вскоре забыл про свой сон, осталось лишь смутное чувство облегчения, что избежал какой-то опасности. Иная круговерть вскоре завертела его.
На Филарета навалилось много дел, и его сильный деятельный характер не оставлял места для праздных раздумий. Человеку, занимавшему столь высокое положение, тяжелее всего было сознавать, что он не успел чего-то сделать. Эту его черту не понимали даже самые близкие к нему люди. Сын Михаил как-то с великой заботой сказал ему:
— Государь-батюшка, не отдохнуть ли тебе от хлопот тяжких? Митрополит Иоасаф сядет за тебя на патриаршем престоле и станет во всём творить твою волю.
Филарет уклонялся от этих разговоров и переводил их на другое. Его царственному сыну не понять, что в исполнении чужих задумок мало проку. Мысли дано упреждать дела, но никому не дано знать, когда Господь осенит человека разумной затеей. А в сумятице едва-едва утихающей смуты в державе как распознать разумное, как угадать то, чему надлежит свершиться?
Когда на время болезнь отпустила Филарета и он обдумал с Михаилом ближайшие дела, стало очевидным, что первостатейной заботой оставалось пополнение царской казны. Нужда в деньгах была крайняя. Частые московские пожары истощили последние худые запасы. А всё-таки хлопотами его, Филарета, удалось обойтись без разорительных иноземных займов.
Но тут — другая беда. Надо было восстанавливать нарушенный обычай тягловых сборов. Как получать тягло с погорелых дворов? После пожаров пустели целые слободы, на погорелых дворах строились чиновные люди, которые тягла не тянули. Московскому государству грозили разгром и оскудение посадских тяглых людей. Многие бросали свои промыслы и шли в подьячие, а дворы отдавали в заклад или продавали. Это было сущим бедствием, ибо подьячие не только уклонялись от поборов, обогащавших казну, но ещё и сами кормились за её счёт.
За время болезни Филарета это стало почти неуправляемой стихией. Места подьячих распределялись за взятки. Пришлось принимать строгие государственные меры, ввести запрет на приём в подьячие всех без разбора посадских и пашенных людей. Добро, ему помогал в этих делах родич, старый князь боярин Борис Лыков, которому был хорошо знаком чиновничий мир. Он толково написал донесение царю о том, какие надлежит принять меры, дабы крестьяне не разбегались от непомерных поборов. Эти меры касались положения помещиков, забиравших подати себе, почти ничего не отписывая в казну. Был составлен государев указ, ограничивающий помещичьи поборы, разоряющие не только отдельных крестьян, но и весь мир. Особенно обременительными были налоги за пустые дворы, где никто не жил и не обрабатывал землю, а платить было должно всем миром.
Однако и взявшийся за эти дела князь Лыков не знал, на чьи плечи переложить недоплаченные дворовые деньги. Между тем крестьяне продолжали разбредаться, и князь Лыков докладывал, что заселёнными остались лишь города и сёла, отданные Польше и Швеции.
В московском правительстве не было людей образованных, подготовленных к тому, дабы обустроить государство. Поэтому Филарет решил сосредоточить свои помыслы на образовании. У него было много задумок, но он успел положить только начало делу. Филарет понимал, что, если не дать людям знаний, они будут бессильно делать своё дело, будут непостоянны, нерешительны. Он пробовал поговорить с боярами, но они либо отмалчивались, либо отделывались пустяками. Невосприимчивость к трудностям и сложностям жизни была всеобщей.
В науке нуждалась и церковь — для чистоты своего учения. Вот почему на Руси так часто поднимала голос ересь. Просвещённые попы были редки. Многие из них плохо знали буквенное учение и не умели довести до прихожан смысл Священного Писания. Между священнослужителями и прихожанами нередко завязывалась брань. Ругательные слова были делом обычным. Не хватало церковных книг, а те, что были, нуждались в исправлении.
Филарет, посоветовавшись с высшими духовными чинами, решил завести в Чудовом монастыре греко-латинское училище, руководство которым было поручено Арсению Глухому, справщику Печатного двора, который при архимандрите Дионисии занимался исправлением книг и вместе с ним попал в беду. Не хватало учителей, но надо было спешить. Очевидное непросвещение даже лучших людей мешало внешним делам и было помехой в сближении с иностранцами, которые к тому времени начинали играть значительную роль во внутренних делах русского государства.
На человека, утомлённого постоянными недомоганиями, одновременно свалилось немало дел. Филарет не выдержал, и в самом разгаре деловых забот его вновь настигла болезнь. К счастью, она оказалась недолгой, но кризис был тяжёлым. Видно, за него кто-то постоянно молился, ибо Филарету беспрерывно досаждали свои же близкие люди.
Однажды к нему наведался родич. Филарет не любил его за необразованность, грубые шутки и пустые разговоры. Он и на этот раз донёс до Филарета сомнительную весть, которая, однако, ранила патриарха:
— Марфа-то уже праздновала твою кончину. Не по её вышло, вот она ныне злая и ходит.
Филарет прогнал родича, но на душе осталась неясная тревога. Он опасался таких тревожных минут, зная, что за ними обычно следовала беда.
Его снова начали мучить тревожные сны, и снились ему чаще всего слова. Однажды он отчётливо услышал библейское изречение: «У коварного и действия гибельные». Кто же сей коварник? Свой же, родич, что пришёл к нему с наветами? И он подумал с досадой на себя: «Почему меня, патриарха всея Руси, задели грубые слова невежды, и как я мог поверить, что Марфа прилюдно радовалась моей болезни?» Да, злоба в ней была, и она просыпалась всякий раз, когда Марфа не понимала его замыслов и дел. Может быть, потому он и поверил родичу, что всякий раз после огорчений, связанных с Марфой, на память ему приходили слова Писания: «Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, всякую злость, только не злость женскую». Последнее время Марфа как будто помягчела сердцем, да надолго ли? Может быть, он не всегда понимал Марфу и не умел убедить её в своей правоте?
Он гнал от себя эти мысли, ибо от них в душе его насевалась смута. Не в его привычках было сомневаться в себе.
ГЛАВА 73 ВРАГИ ЧЕЛОВЕКА — ДОМАШНИЕ ЕГО
Как ни была Марфа занята внуками, но дела, связанные с открытием училища в Чудовом монастыре, живо заинтересовали её. Она была лучшей советчицей Филарета в подборе учителей, помогала ему собирать по церквам и монастырям нужные книги, иногда сама привозила их в своей колымаге, и при этом с прибауткой: «Кто знает аз да буки, тому и книги в руки». Она была полна энергии, порой, как думалось Филарету, излишней. Марфа по-прежнему продолжала вмешиваться в дела духовные, которые к тому времени стали осложняться по причине иноземного влияния на внутренние дела Русского государства.
Произошли события, связанные с особыми правами иностранных купцов на беспошлинную торговлю, точнее, со злоупотреблением этими правами. Торговые люди из-за рубежа часто действовали украдкой, чтобы не платить пошлин. Царь Михаил дал строгий указ воеводам на местах, чтобы чужие люди не торговали по сёлам и деревням, где им легче, чем в городах, уклоняться от пошлин. Беда была не только в том, что царская казна недополучала денег от вороватых людей, — они чинили великое стеснение русской торговле.
Одно из таких событий случилось на Псковской земле. Немцам разрешили поставить в Пскове торговый двор.
Между тем псковитяне видели, что немцы привезли с собой ещё и самозванцев, у которых не было жалованной государевой грамоты на торговлю. Свои товары они доставили тайно. Когда псковитяне выявили это, немцы сказали, что то их родня, братья, племянники да служилые люди.
Псковитяне скоро почувствовали, сколь убыточным будет для них подобное нашествие. Немцы вели себя как хозяева на завоёванной земле. Они перехватили у псковитян торговлю их главным товаром — льном, не гнушались и прочими товарами. Никто из псковитян не смел без немецкого указа ни купить, ни продать. От этого были большие убытки не только торговым людям Пскова, но и монастырям, и всей духовной братии, и чиновному люду.
Горожане послали в Москву челобитную. Составили её обстоятельно, со смыслом. Перечислили все свои беды, пересчитали да прикинули, какие будут недоборы в казну. Бил челом сам архиепископ Иоасаф. Но псковское челобитье в Москве не приняли, а у самого Иоасафа отняли благословение и службу. В Пскове начался мятеж.
Случилась эта история во время болезни Филарета. Когда же он во всём разобрался, то без особого труда обнаружил нити, связывающие псковских доброхотов немцев с Марфой и людьми её духовного окружения. Для Филарета это было полной неожиданностью, хотя он хорошо знал склонность Марфы к интригам. Всё же ему казалось, что она последнее время присмирела.
Непонятно было, однако, почему Марфа держала руку немцев. Он послал за ней — не пришла. В другой раз послал — опять не пришла. Пошёл к Марфе сам в её монастырские покои игуменьи, но вокруг неё собралось столько братии, что и подступиться к ней было нельзя. Он сказал:
— Марфа, поговорить надобно. У тебя в келье али ко мне зайдёшь?
Она произнесла, даже не взглянув на него:
— Ныне к спеху беседы многие.
Когда они встретились во дворце, она отошла от него, не дав ему и слова вымолвить. Он спросил насмешливо:
— Опять дела?
Марфа ответила тоном старой хлопотуньи:
— Али велишь дитё без присмотра оставить?
Она не отходила от новорождённой внучки Анны.
Филарет ограничился тем, что послал в Псков свою грамоту, велел поместному собору решить дело с Иоасафом по правде. Поговорил и с сыном Михаилом, как отец и государь. Беседовал осторожно, без укора матери. Впрочем, и без слов было ясно, что вся эта смута в Пскове дело рук Марфы.
Однако с ней он так и не поговорил. Истории, подобные псковской, затевались и в других городах. Многие духовные лица терпели по службе наравне с чиновным людом. За одно лишь радение отеческой поместной торговле людей отстраняли от дел, а в монастырях накладывали епитимью.
Надо было разбираться в этой смуте, чтобы принять соломоново решение: и отеческую торговлю не утеснить, и купцов иноземных не обидеть.
А на очереди были ещё и другие, более важные дела: нужно было ставить заводы. Но как без иноземцев? Как не дать им воли? Филарет смотрел в будущее, а там было много для него неясного.
И надо было следить за Марфой, чтобы она вновь не учинила какой-нибудь смуты. У него не было гнева против неё. Пора было ему примениться к характеру Марфы, утвердить в себе спокойное отношение к её делам. Ему помогали слова святого апостола Павла: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его... Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы».
Вдруг его позвали к ней, сказав, что она умирает. Пока он был в отлучке, она соборовалась, над ней было совершено таинство елеосвящения. В народе говорят: «Соборованный что отпетый».
Марфа лежала у себя в келье. Как неузнаваемо изменилась она за эти несколько дней, что он не видел её! Черты лица истончились, тонкие губы ввалились и были едва заметны, запавшие глаза закрыты. Филарет припал к её руке.
— Отпусти, мати, мою вину, в чём согрешил али обидел.
Он ожидал, что она произнесёт обычное в таких случаях: «Бог простит!» — но вместо этих слов она неожиданно твёрдо промолвила:
— Сам-то ты какую вину передо мной видишь?
— Ссылку по моей вине терпела и скорби многие, замучилась. С той поры и здоровьем ослабела.
— Ну то дело давнее.
— И позднее прости, коли чем докучал тебе. Ты ни разу не сказывала, какую вину на мне видишь.
Некоторое время длилось молчание.
— Ты вспомни. Давно это было. Умирали-то первые детки наши все во младенчестве.
— И какими болезнями болели, тоже запамятовал?
— Не сердись, мати. Деток наших я блюл, как умел, да, видно, Богу было угодно их прибрать.
— И я також ране думала...
Она, казалось, собиралась с силами, чтобы продолжать, и вдруг произнесла слова, которые он не мог от неё ожидать:
— Да есть ли он, Бог-то? А ежели есть, пошто он был так немилостив ко мне и моим деткам?
— Марфа, опомнись! Это святотатство! — ошеломлённо воскликнул он. — Или наш сын Михаил не помазанник Божий, или он не сын нам, Богом данный?
— Не пугайся, Филарет, я уняла ропот души. Но послушай и ты меня. Помнишь Федюньку, сыночка нашего? Он уже в годы входить стал, как глоточная на него напала.
— Не соблюли мы его, — печально откликнулся Филарет.
— И я про то же. Да Господу он был угоден, оттого и сохранил его земной лик.
Она помолчала, что-то шепча, словно подкрепляя свои силы молитвой, потом проговорила:
— В Бориске Салтыкове сохранил. Оттого и блазнился мне сынок мой покойный, когда я на Бориску смотрела.
Марфа подняла глаза на Филарета, проверяя впечатление от сказанных ею слов. Он молчал, догадываясь, что она неспроста затеяла эту речь. И точно: она пришла в сильное волнение, даже ожила вся, когда послышались её слова:
— Фёдор, вороти их. Верни мне племянников моих. Я погожу умирать. Умолю Господа, чтобы даровал мне эту радость — увидеть их, родных моих, у моего смертного ложа.
— Я велю, Марфа, привезти Бориса и Михайлу Салтыковых попрощаться с тобой.
— Верни их, — повторяла она, точно заклинание. — И поклонись мне, что не воротишь их назад, в ссылку.
Она пристально смотрела на Филарета, ожидая его решения.
— Не сердись, мати. Ныне война с Польшей идёт. Или я забыл, как Салтыковы угождали полякам?
Но глаза Марфы не просили, они требовали, и Филарет сказал:
— Я поговорю с Михаилом. Всё будет в его государской воле.
Марфа сразу успокоилась, вздохнула и перевела разговор на другое:
— Я скоро уйду. Ты, Фёдор, поминай деточек наших, что померли во младенчестве. Они у меня все в синодике записаны. На своё поминовение я оставляю шесть тысяч рублей. Следи, чтобы все соблюли по правилам.
— Погоди, Марфа. Один Господь знает, кто из нас кого переживает.
— Не лукавь, Фёдор. Я покину этот свет ранее тебя. Мне ведомо, что не токмо дни, но и часы мои сочтены. Не перебивай меня более. Мне осталось дождаться срока, когда приедут Борис и Михайла.
На её лице обозначилась тревога.
— Ты слышал, что Борис занемог, как только сослали его?
Филарет молчал, ибо о болезни Бориса он не слышал.
— Вижу, забыл. Чужое горе не болит.
— Зачем ты сейчас сказала о хвори Бориса?
— Чтобы о злодействе твоём напомнить.
— Отчёт в своих делах я дам Господу Богу нашему, как соблюдал я державу и чистоту веры нашей. И Ему, а не нам решать, в чём я согрешил перед Ним и перед людьми.
Он понимал, почему она язвила его душу: добивалась от него, чтобы вернул племянников. До последних своих минут на земле хочет верховодить им, дабы всё поставить по-своему. Нет, он не судил её строго. Она — жинка, мати. Ей ли понимать дела государские? Она-то думает, что он держит зло на Салтыковых за несчастную Хлопову. Но то дело давнее. А вот польские дела завариваются снова. Салтыковы не посмотрят, что царь — их двоюродный брат и что он должен соблюсти интересы Руси. Они станут склонять его к союзу с Польшей — хотя бы ценой умаления интересов Московского государства. Москвитян они называли не иначе как туземцами. Да кто они сами-то, и что будет далее — они тоже не знают и не мыслят.
Однако как быть с Марфой? Она и вправду верит в их возвращение. Да, слава богу, сын считается с решением отца-патриарха и признает его разумным. Марфа, видимо, надеется на царицу Евдокию, которая ей во всём послушна.
Правдиво и бесспорно твоё слово, Книга святая: «От беззаконных исходит беззаконие».
И ещё Филарет подумал, что всякий, кто говорит притчами, может сказать: «Враги человека — домашние его».
ГЛАВА 74 И СНОВА КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ
Филарет думал, что насаждение унии было возможно главным образом из-за Дейлинского перемирия с Польшей, согласно которому Владислав не отказался от своих прав на московский престол и польское правительство не признало Михаила Фёдоровича царём. Удивительно ли, что поляки продолжали порочить его избрание?
Это упорство польской стороны, а также спорные порубежные дела и послужили началом приготовления к войне, но отнюдь не желание Филарета отомстить полякам за обиды, как утверждали его недруги. Царь приказал всем боярам, воеводам, дворянским детям и служилым людям всех городов быть готовыми идти на службу и ожидать царской грамоты.
Однако ввиду слабости русского войска и нехватки вооружения пришлось набирать иноземных солдат и покупать мушкеты с зарядами и шпаги. Наняли немецких мастеров лить пушечные железные ядра.
После переговоров и многих приготовлений были посланы к Смоленску и Дорогобужу бояре и воеводы князья Дмитрий Черкасский и Борис Лыков. Время для русских было удачное: после смерти короля Сигизмунда в Польше началась смута. Но русские воеводы не сумели воспользоваться моментом, ибо были заняты не соображениями государственной важности, а местничеством. Князь Черкасский бил челом на князя Лыкова, что он, князь Лыков, не хочет быть с ним в товарищах и тем бесчестит его.
Не к добру затеяли князья спесивый спор. Шло драгоценное время. Князь Лыков сказал, что он стар перед Черкасским и привык ходить «своим набатом, а не за чужим набатом и не в товарищах». Царь Михаил Фёдорович и Филарет обвинили князя Лыкова «в бездельной гордости и упрямстве», но сломить воевод не удалось. Два месяца ушло на то, чтобы заменить их боярином Михаилом Шеиным и окольничим Артемием Измайловым.
Воеводы получили наказ — возвратить русские города, некогда взятые силой, «за саблею»: Смоленск, Дорогобуж, Новгород-Северский, Почеп, Трубчевск и другие.
Первый поход был предпринят с целью вернуть Смоленск и Дорогобуж. В Москве тем временем собирали деньги — кто сколько даст, лишь торговые люди платили обязательно — пятую деньгу с прибытка. В сборе денег принимало участие всё население: бояре, духовенство, служилые люди, простолюдины. Кроме того, сосредоточивались хлебные и мясные припасы.
В Москве сбор денег был поручен князю Пожарскому. В помощь ему были даны архимандриты и дьяки. К Пожарскому поступали деньги со всей Руси. По городам их собирали архимандриты, игумены, дворяне. Все они давали присягу и должны были объявлять, сколько у кого имения и промысла. Это были выборные люди.
Кремль в эти дни был самым оживлённым местом в Москве. Сюда съезжались посланники со всей страны и на лошадях, и на подводах, что прежде запрещалось. Ныне было не до запретов.
И на Красной площади давно не существовало столь оживлённого торга. Каждый старался что-то продать. По причине долгих лет смуты и беспорядков у москвитян ощущалась нехватка денег. Кормовые для холопов и служилых людей были в то время очень скудные, и многие промышляли, как добыть копейку. Дешевизна продуктов была баснословной. Курица стоила две копейки, десяток яиц — копейка. Да где было взять эти копейки! Поэтому в Москве было много разбоев и грабежей.
Но в эти дни всеобщего единения перед началом военных действий в Польше всё плохое как-то сглаживалось. Люди помнили, как натерпелись они от поляков, были наслышаны от ходоков с окраин о горькой доле тех, кого католики приводили к унии. И народ шёл на сборные пункты, чтобы внести свою лепту в земское дело.
Когда Филарет вышел на Соборную площадь, там был такой гомон и такое количество съехавшихся людей, что ему тотчас же захотелось повернуть назад. Он только что оправился от болезни, и к новым впечатлениям приходилось и привыкать. В глаза било яркое апрельское солнце, и он не сразу заметил пробиравшегося к нему князя Пожарского. На князе был лёгкий опашень, он успел загореть от долгого пребывания на солнце, и Филарету было приятно смотреть на мужественное открытое лицо князя. Он был приветлив и как будто несколько смущён. Пожарский низко поклонился патриарху и поцеловал его руку.
— Как продвигаются дела твои праведные? — спросил Филарет.
— Да вот сижу над разрядными книгами. Их уже накопилось — и на двух подводах не увезти. А я и за писца, и за дьяка.
На лице князя вдруг прорезалась усталость, смягчившая его резкие правильные черты. Филарет коснулся его плеча.
— Ну кто же, кроме тебя. Тебя помнят, тебе доверяют.
— Спасибо на добром слове, государь, много чести.
Филарет смотрел на Пожарского, на что-то решаясь.
— Мне, князь, надобно обдумать с тобой одну затею. Зайди ко мне через час.
Князь Дмитрий Михайлович снова поклонился патриарху.
Несогласие князей Черкасского и Лыкова накануне битвы тревожило Филарета, словно знак беды. Настоятель Чудова монастыря сказал ему: «На посмех нашим ворогам затеяли недоброе дело князья-бояре». Да в первый ли это раз? И в последний ли?
Филарет давно обдумывал, как отменить местничество, но чувствовал себя одиноким в своей затее. Против него восстанут все именитые князья и бояре. Поднимется Марфа. Хоть и в болезни тяжёлой лежит, а поднимется. В памяти всплыла история, как она старалась подвигнуть на тяжбу с князем Пожарским своих племянников — Салтыковых.
Сейчас Филарету хотелось подбодрить себя после болезни беседой с князем Пожарским и обсудить с ним предстоящие дела. У Филарета было особенное чувство почтительности к человеку, имя которого стало легендарным. В последнее время он искал советников себе среди героев-ополченцев, коих посылал на битву с врагами святейший патриарх Гермоген.
Князь Пожарский, однако, задерживался. Вскоре к Филарету пришёл монах с нижайшей просьбой от князя — перенести беседу на другой день. Наехало много понизового люда, а спехом дела не сделать. Не соизволит ли государь Филарет принять его после заутрени? Филарет ответил согласием и после утренней молитвы принял князя в своём кабинете.
Дмитрий Михайлович был несколько смущён особой честью — быть приглашённым в святые покои патриарха. Он перекрестился на многие образа в углу и низко поклонился Филарету. Хозяин ласково обошёлся с ним, посадил в кресло, сказав:
— Надобно обговорить с тобой, князь, одно важное дело, но до того хочу спросить тебя: как ты понимаешь тяжбу между князьями Черкасским и Лыковым?
— Как понимать... Дело недоброе да сутяжное, недостойное государственных мужей.
Помолчав, он добавил:
— Негоже и опасно для державы искать своих прав перед лицом неприятеля.
— То так... Негоже, — согласился Филарет. — И не токмо во времена немирные. Ты, князь, искал ли своих прав, когда спесивые бояре норовили отодвинуть тебя на шестнадцатое место?
— Бог им судья. Бояре думали: Пожарские-де люди не разрядные, при прежних государях, кроме городничих да губных старост, нигде не бывали.
— Знаю. Наверх шли люди хотя и менее знатные, да приобвыкшие выталкивать других. А спроси их, все ли они истинные Рюриковичи? Покойный князь Бельский сказал мне, что дьяк Щелкалов ещё при Иване Грозном, а после при Годунове за большую мзду вписывал иных безродных бояр в разрядные книги, в Бархатную книгу. Не слыхал об этом?
— Кто нам скажет! Мы-то сами Мономаховичи и знаем про себя, что род наш древний и славен подвигами великого князя Всеволода Большое Гнездо. А идём мы от корня Мономахова да от младшего сына — Юрия Долгорукого.
— Тот-то и оно, что от младшего. Старшие братья испокон веков выталкивали младших. Оттого вы, Пожарские, и не имели важных вотчин, оттого и не бывали выше городничих и губных старост.
Филарет немного помолчал.
— Да ныне эта старина нам ни к чему. От неё одна помеха да тяжбы.
— Оно так, да бояре твёрдо стоят на отеческом обычае, — неуверенно произнёс Пожарский.
— Однако местничество мы пресечём и отменим особым указом.
— Да благословит тебя Бог, государь, на дело многотрудное. Рука у тебя твёрдая.
— Теперь война — великое препятствие в делах. Но местничеству мы дадим укорот, и о том говорено с царём Михаилом Фёдоровичем. А ныне царь даёт тебе наказ — идти против ворогов под Можайск с князем Черкасским.
— Кланяюсь тебе, великий государь, за честь, мне оказанную. Да не пойдёт ли князь Дмитрий Мамстрюкович встречь меня с обидой? Захочет ли он быть со мной в товарищах? Он родня Ивана Грозного и с вами, Романовыми, також породнился.
Филарет тихонько рассмеялся.
— А мы напомним ему, как он бил челом на князя Лыкова.
Считая это дело решённым, патриарх приветливо отпустил князя Пожарского.
Филарет внимательно следил за событиями в Польше по донесениям и по рассказам свидетелей. Война как будто началась счастливо. Города, находившиеся под властью поляков, сдавались русским воеводам один за другим. Царь и патриарх велели боярину Шеину идти из Дорогобужа под Смоленск. Успешно действовали князь Прозоровский и другие воеводы. Но Филарет не особенно тешил себя надеждой. В отличие от сына-царя и окружавших его бояр он объяснял эти успехи «бескоролевьем» в Польше. После смерти Сигизмунда там возникла смута, и полякам было не до войны. Но смута длилась не более восьми месяцев. Королём был избран Владислав, который со свойственной ему решительностью тотчас же отправился к Смоленску с большим войском.
Филарет предчувствовал, что русские окажутся в кольце бед. Он помнил коварство поляков, знал, что их действия могут посеять рознь в русском войске. А воевода Шеин хоть и опытный воин, да всё же простоват. Где мужество и храбрость требуются, там он первый, но предвидеть происки врага не сумеет.
Так оно и вышло. Паны дозволили казакам ворваться в московские пределы, а крымские татары были наущены опустошать русские поместья. Нетрудно было предугадать, чем это кончится. Многие ратные люди самовольно выехали в свои поместья — спасать их от недругов. Немало иностранных наёмных солдат перебежали к полякам.
Смоленск, таким образом, был открыт для врага. И что было толку винить поляков в коварстве — они им похвалялись. Литовский канцлер Радзивилл писал впоследствии в своих «Записках»: «Не спорю, как это было по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан, но по земной политике вышло это очень хорошо».
Видя необходимость укрепить позиции, Филарет предложил отрядить на помощь воеводам под Смоленск князей Дмитрия Пожарского и Дмитрия Черкасского. Царь Михаил согласился с этим предложением. Решено было также послать воеводе Шеину царский наказ — идти в обоз и всем русским воинам стоять в одном месте. Царь писал: «Мы всё это дело полагаем на судьбы Божии и на его праведные щедроты, много такого в военном деле бывает, приходы недругов случаются, потом и милость Божия бывает. Ты бы нашим царским делом промышлял, чтоб наряд уберечь».
К сожалению, поляки и в этом случае оказались предусмотрительнее русских. Они разрушили все их планы. Они обошли Шеина с тыла и сожгли Дорогобуж, где были сложены все съестные запасы для войска и корм для лошадей. Мало того, неприятель перерезал дорогу, и подвозить продукты было нельзя.
Вскоре в Москву понеслись донесения самые безотрадные: голод и болезни в русском стане, высокая смертность воинов. Царь не дозволил докладывать об этом больному Филарету, дабы не нанести урона его здоровью.
Воеводы князья Пожарский и Черкасский стояли в Можайске, не зная, что делать. Им бы ратных воинов иметь побольше, да где их взять? Нанять — денег не было. Соединиться с русскими ратными людьми, которые находились под Смоленском? Но воевода Шеин не отвечал на послания, а доходившие до князей известия были ошеломляюще-безотрадными. Князья дважды посылали за советом к царю и патриарху, но послания до Москвы не дошли.
Князь Пожарский был особенно невесел: его тяготили тяжёлые предчувствия.
Увы, эти предчувствия оправдывались. Бегство русских ратников из-под Смоленска в свои поместья, чтобы защитить их от нападения крымцев, и предательство иностранных наёмников побудили Шеина пойти на мирные переговоры с поляками. Видя слабость и безвыходность положения Шеина, польские сенаторы предложили ему бить челом королю о милосердии, отдаваясь на его волю. Русскому воеводе были поставлены унизительные условия: выдать безвозмездно всех пленных, присягнуть на отказ от военных действий против Польши, передать ей весь народ, оружие, все русские знамёна и жизненные припасы.
Когда Шеин согласился, русским вновь предложили унизительные церемонии: они должны были положить свои знамёна к ногам короля, сидевшего на лошади в окружении сенаторов, затем королевским именем поднять знамёна и с барабанным боев возвратиться по московской дороге.
Шеин с воеводами сошли с лошадей и низко поклонились Владиславу.
Об этом ещё не знали ни в Можайске, ни в Москве. Князья Пожарский и Черкасский, стоявшие в Можайске, послали под Смоленск своих ратников для связи с воеводой Шеиным. Оставалось терпеливо ожидать. Чего? Безделье было особенно невыносимо для князя Дмитрия Михайловича, привыкшего к действиям решительным и простым. Десять лет назад, в дни ополчения, он знал, что надо делать. Промедление было смерти подобно. Но тогда у него был надёжный и верный товарищ — Козьма Минин. Когда понадобилось собрать деньги, он мог и с шапкой по кругу пойти, и жизнью своей не раз рисковал. Не то что склонный к покою, отяжелевший князь Черкасский. Не очень-то был рад князь Пожарский такому «товарищу», но воля Филарета была для него законом.
Однако молчание Филарета всё более тревожило князя. Он ждал от него обещанного письма, как в своё время ждал грамот от святейшего Гермогена. Господь послал ему дружбу двух великих патриархов. Гермоген поддерживал его грамотами до конца дней своих. Он писал ему даже из подземелья Чудова монастыря, куда был брошен врагами и где Михаил Салтыков уморил его голодом.
Когда князь думал о московских делах, напоминавших ему о Филарете, на душе у него теплело от одного этого имени и он благодарил Бога, что дал Русскому государству великого сына.
Но отчего же от патриарха нет никаких вестей? И долго им ещё сидеть в Можайске, словно в западне, в стороне от славных дел — возвращения отчизне городов, захваченных неприятелем?
Вскоре князья-воеводы получили повеление царя Михаила готовиться к наступлению, но было уже поздно, ибо Шеин пошёл на перемирие с Владиславом. Что передумал, что перечувствовал князь Пожарский? Видел ли он в русской беде вину воеводы Шеина? Но что он видел и знал несомненно — это неспособность обезлюдевшего наполовину русского войска к наступательным действиям. Знал он также о клевете завистливых бояр на Шеина. Из Москвы воевода получал грамоты лишь с осуждением да опалой. Князь Пожарский не предвидел для него ничего спасительного. Много было промахов у неудачливого защитника Смоленска, но в измене он был неповинен. Об этом писал и литовский канцлер Радзивилл в своих «Записках».
Душа князя искала успокоения от тяжёлых вопросов в словах народной мудрости: «Край земли, конец моря — везде много горя».
ГЛАВА 75 ПОСЛЕДНЯЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Как ни тревожили Филарета польские заботы, а всё ж дела свои, внутренние, были у него, что называется, и на уме и под рукой. Похоронив Марфу, он с новой энергией принялся за строительство заводов. Хотя вначале ему пришлось победить в себе некоторые сомнения: не навредить бы державе. И всё-таки никуда не уйти от мысли, что придётся поступиться национальными интересами. В казне не хватало денег даже на войну с поляками, и Филарет думал, что если иностранцы возьмут на себя денежные хлопоты да завезут своё оборудование, то даже при стеснённых для москвитян условиях в царскую казну потекут деньги. Он спешил, ибо опасался собственной неуверенности, что не успеет вовремя сделать задуманное.
Размах у него, однако, был широким. На Руси давно было поставлено «самопальное дело» — выделка тульского оружия. Тульские кузнецы славились своим мастерством, были свои ствольники, замочники, мастера по обработке неблагородных металлов. В Московском государстве появились свои первые рудознатцы.
Но этого было уже недостаточно. Ещё в 1629 году в страну выписывали прутовое железо, а голландский купец Виниус с купцом Вилкенсоном подал и царю Михаилу челобитную, чтобы им было позволено в окрестностях Тулы поставить завод для отливки чугунных вещей и выделки железа по иностранному способу. А1632 году Виниус получил государеву грамоту для литья пушек, ядер и котлов. Установлены были дешёвые цены для приобретения литейных изделий, что сулило прибыль государственной казне.
У Филарета были планы по обработке драгоценных металлов и камней. И в иноземных странах и на Руси на эти изделия был большой спрос, что обещало новое обогащение казне. Поэтому англичанину Гловеру дали субсидию на устройство фабрики бриллиантов и золотых вещей. К сожалению, там господствовали иноземные интересы, работали исключительно иностранцы, и только один русский, Мартынов, попал туда, очевидно, случайно.
Филарет, видимо, понимал, какой ущерб причинялся Московскому государству от вторжения иноземцев, но допускал такое. В этом убеждает и контракт с Гольштинской компанией, который отдавал страну на эксплуатацию иностранцам. Выгоды были сомнительными, а ущерб — очевидным. В Москве основывались многочисленные иностранные колонии, ставились немецкие дворы и протестантские церкви.
Но это было лишь начало. После смерти Филарета нашествие чужеземцев приобрело почти неуправляемый характер. Михаил начал окружать себя врачами, алхимиками, фабрикантами из многих стран. Одному только голландскому мастеру он заплатил 2675 рублей за музыкальный инструмент, «заставляющий петь птиц». Делались попытки строить каменный мост через Москву-реку, были основаны стеклянный завод и дубильня шкур, но всё это тоже было отдано на откуп иноземцам.
Филарет уже не принимал участия в этих процессах. Он соборовался до срока, ибо опасался умереть внезапно. И хотя смерть щадила Филарета, но внезапная болезнь надолго уложила его в постель. В тот день он лежал без сознания, и врачи после говорили, что он выжил просто чудом. Но если бы Филарет сам сказал, отчего случилось это «чудо», многие бы подумали, что он по причине старости начал «мешаться в мыслях своих».
Однако, напротив, ум его продолжал упорно работать. Он отправил в Польшу послов, чтобы они получили согласие польского короля отправить на родину останки царя Василия Шуйского и его братьев. Филарет считал это делом большой государственной важности. Царь Василий крепил державу, а бояре-изменники свели его с трона и силой вывезли в Польшу. Они же и оклеветали Василия, объявив, что он-де царь незаконный, ибо «своим хотеньем вскочил на царство».
К этому времени Филарет закончил свои «Записки», где доказал законность царя Василия, ибо он был избран советом всей Земли. Не вина, а беда его, что бояре-изменники поддержали самозванцев. И хотя Григорий Отрепьев освободил Филарета из ссылки и дал ему сан митрополита, Филарет назвал его в «Записках» «овчеобразным волком».
Филарет, может быть, первый из русских правителей и государей понял значение исторической памяти для образования русских людей, для державного крепления в самом государстве. Чувство гражданской справедливости, нравственная чистота позволили Филарету выдвигать людей, служивших отечеству, и накладывать опалу на изменников. К сожалению, после его смерти бояре-изменники все повернули по-своему. Они возвратили из ссылки не только братьев Салтыковых, но и прямых предателей, таких как дьяк Грамотин. А мужественного воеводу Шеина из окружения Филарета казнили, его ближника князя Бориса Репнина отправили в негласную ссылку в Астрахань.
Недаром на душе Филарета камнем лежал вопрос: «Что будет, когда меня не станет?» Он пытался осторожно поговорить об этом с сыном-царём, зная, как тот обидчив. В невестке же патриарх угадывал скрытого недруга.
И по-прежнему тревожили дела польские. Филарет не понимал, почему Пожарский и Черкасский стоят в Можайске в бездействии. Он написал царский наказ, чтобы воеводам идти под Смоленск, но всё это переиначили. Вместо царского наказа отправили в Можайск князя Григория Волконского посоветоваться с боярами: можно ли им идти к Вязьме и Дорогобужу? Терялось драгоценное время. Ясно, что кто-то решал эти дела за спиной у царя. Очевидно, видя бессилие больного Филарета, бесчестные люди спешили отомстить ему за то, что некогда он в чём-то притеснял их. Честь родины и русского войска стала разменной монетой в мести мелких людишек.
Случилось то, чего больше всего опасался Филарет. Ему об этом, однако, не доложили. Он же тем временем старался укрепить свой дух: авось удастся выздороветь. К счастью, возле него находился человек, который облегчал его жизнь в последние дни.
Накануне к нему пришёл старый монах, суровое лицо которого показалось Филарету знакомым. И вдруг он вспомнил: да это же тот монах, что спас ему жизнь под Тушином!
— Ты никак Федот?
— Он самый.
Филарет посмотрел на его опорки, покрытые пылью.
— Издалека ли и для каких дел ты пришёл в Москву?
— А сердце привело.
— Ну да, а на сердце что у тебя было?
— А тебя повидать. Вижу, вовремя пришёл.
— Ишь ты. Сны какие видел али знахарь нагадал?
— Этого не скажу, да только ты из мысли у меня не выходил.
— Что так?
— Человек, говорят, не ведает о том, о чём знает его душа.
— Верно...
— Ты правду утвердил на Московской земле. Ты первый понял: не будет правды — и дела не будет.
— Да дело-то, видишь, не шибко идёт.
— Дай срок... Всё наладится. Всё в руках Божьих. Господь будет милостив к тебе. Ему угодны и дела твои и молитвы. Но по наущению дьявола зло снова возьмёт силу.
— Чего же стеречься?
— Не ведаю. А стеречься надо.
— Ты всё загадками говоришь.
— Сам вижу, что загадками, да кабы мог их отгадать...
— Оставайся при мне, сколь пробудешь...
Федот стал ходить за больным Филаретом. Царица смотрела на это косо и, видимо, довела до царя Михаила. Сын пришёл к отцу невесёлый, недоверчиво посмотрел на Федота, но ничего не сказал.
А Федот взял на себя самую чёрную работу. Он подавал Филарету пищу и пробовал прежде сам, будто не доверял кому-то, выносил отбросы. Филарету было легко вести беседу с монахом.
— Скажи, Федот, ежели бы тебя призвали на суд Божий да предъявили тебе твои грехи, что бы ты ответил? И какой грех свой ты считаешь самым главным?
— Во всём-то как оправдаешься. Мало ли грехов за жизнь собралось.
— А всё же, какой была бы твоя речь в Божьем суде в своё оправдание?
— Я сказал бы, что никому не желал зла.
— Так-таки и никому?
— Никому.
«Я бы хотел быть так прост душой, как Федот, — подумал Филарет. — Но ведь сама жизнь его проще и ум проще».
— А в державе видишь какой непорядок?
— Мочи нет от иноземцев да своих злодеев.
— Ты, Федот, знаешь, что нам своими силами не обойтись.
— Да ты всё ли испробовал, государь-батюшка?
Утомлённый этим разговором, Филарет незаметно задремал. Когда он открыл глаза и увидел Федота, тревожно всматривавшегося в него, он вспомнил их неоконченную беседу и вдруг сказал:
— Всего-то испробовать человеку не дано, так-то, Федот. Всех нас подкарауливает последнее, неизбежное — смерть.
— Не поминай её, проклятую! — взмолился Федот.
Но Филарет, кажется, не слышал его. Губы его шептали: «Последняя неизбежность».
Умер он 1 октября 1633 года.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Около 1554
В семье боярина Н.Р. Захарьина-Романова родился сын Фёдор — будущий патриарх Московский и всея Руси Филарет.
1586 год
Фёдор Романов — боярин и нижегородский наместник.
1590 год
Фёдор Романов назначен дворцовым воеводой в походе на Швецию.
1593-1594 годы
Фёдор Романов — псковский наместник.
1596 год
12 июля. Рождение сына Михаила — будущего первого русского царя из династии Романовых.
1601 год
Пострижение Фёдора Романова в монахи под именем Филарета и ссылка в Антониев-Сийский монастырь после разгрома Романовых Борисом Годуновым.
1685 год
30 июня. Возвращение из ссылки и возведение в сан ростовского митрополита Лжедмитрием I.
1606 год
Май. Участие в свержении Лжедмитрия I.
1609 год
Нападение войска Лжедмитрия II — тушинского вора — на Ростов; отправка Филарета в Тушино, назначение патриархом всея Руси.
1610 год
Отступление отряда польских тушинцев к Иосифо-Волоколамскому монастырю с захватом Филарета; отъезд Филарета в Москву; участие в посольстве к польскому королю Сигизмунду для заключения договора о вступлении королевича Владислава на русский престол.
1611-1619 годы
Пребывание Филарета в польском плену.
1613 год
21 февраля. Избрание сына Филарета — Михаила русским царём по инициативе боярства Земским собором.
1619 год
1 июня. Обмен Филарета на польского полковника Струся.
14 июня. Торжественный въезд Филарета в Москву.
24 июня. Посвящение в патриархи, совмещение с саном великого государя.
1620 год
По воле Филарета возобновлена работа типографии на Никольской улице в Москве, устроена «правильна», создана типографская библиотека.
1622 год
Изданы устав для отправления праздничных богослужений и церковных торжеств, «Поручение великого господина на поставление митрополитом, архиепископом и епископом» и другие акты.
1625 год
Возникновение патриарших приказов (судный, церковных дел, казённый, дворцовый).
1629 год
9 марта. Рождение внука Алексея — будущего царя Алексея Михайловича.
1631 год
27 января
Смерть Ксении Ивановны (в монашестве Марфы).
1633 год
1 октября. Смерть Филарета.
ОБ АВТОРЕ
Наполова Таисия Тарасовна — современная российская писательница, доктор филологических наук, профессор.
Автор ряда книг документальной и художественной прозы: «Творчество писателя-реалиста», «История и современность», «Боль памяти», «Несчастливый брат мой» и др.
Исторический роман «Московский Ришелье» — новое произведение писательницы.
Примечания
1
Ближник — товарищ, друг, приятель.
(обратно)2
Смерд — здесь: презрительное название крепостного крестьянина, а позднее простолюдина, человека незнатного происхождения.
(обратно)3
Содомия (содом) — здесь: крайняя распущенность, разврат.
(обратно)4
3ернь — старинная игра в кости.
(обратно)5
Тафья — монашеская шапочка.
(обратно)6
Скуфейка (скуфья) — остроконечная бархатная шапка у православного духовенства, монахов; круглая шапочка, ермолка.
(обратно)7
Золотный (золотной, золотняный) — вытканный из золота, шитый золотом.
(обратно)8
Толока — вытоптанная земля, поле, на котором пасётся скот.
(обратно)9
Синклит — собрание духовных лиц.
(обратно)10
Шлык — головной убор, имеющий коническую форму.
(обратно)11
Халдеи — семитические племена, жившие в первой половине I тысячелетия до н. э. в Южной Месопотамии.
(обратно)12
Ведомости — сведения, известия, роспись на бумаге, именной список чего-либо.
(обратно)13
Епитимья — род наказания, налагаемого церковью на нарушившего религиозные нормы.
(обратно)14
Сенник — задняя комната в избе, холодная горница; клеть, чулан.
(обратно)15
Ферязь — старинная русская распашная одежда без воротника и перехвата в талии.
(обратно)16
Рында — великокняжеский и царский телохранитель-оруженосец в Русском государстве XIV-XVII вв.
(обратно)17
Начальный — старший, являющийся начальником.
(обратно)18
Челиг — молодая ловчая птица, кречет.
(обратно)19
Должник — ремешок.
(обратно)20
Лепко — липко, вязко, цепко.
(обратно)21
Опашень — старинный долгополый летний кафтан с короткими широкими рукавами.
(обратно)22
Однорядка — старинная русская мужская одежда в виде однобортного кафтана без воротника.
(обратно)23
Галлон — мера объёма жидкостей и сыпучих тел в Англии, США и других странах с английской системой мер; английский галлон — 4,546 л.
(обратно)24
Галенок — английская мера жидкостей, перешедшая к нам через порты или гавани: пол-осьмухи, полштофа, полкружки, бутылка; бочоночек, баклажка.
(обратно)25
Ектенья — часть православного богослужения.
(обратно)26
Конюший — здесь: придворный чин в Московском государстве в XV-XVII вв., лицо, ведавшее Конюшенным приказом.
(обратно)27
Парсуна (искажённое персона) — произведение русской станковой портретной живописи конца XVI — начала XVII в., сохранявшей ещё ряд условностей иконописи.
(обратно)28
Клирос (переделанное крылос) — место для певчих в церкви на возвышении перед алтарём по правую и левую сторону царских врат.
(обратно)29
Десная — правая, шуйца — левая рука.
(обратно)30
Ментик — гусарский мундир с меховой опушкой, который носился большей частью внакидку.
(обратно)31
Клир — в христианской церкви совокупность священно- и церковнослужителей.
(обратно)32
Гривна — с XVI в. денежно-счётная единица, в которой заключалось 10 копеек.
(обратно)33
Саккос (греч.) — архиерейское облачение сверх подризника.
(обратно)34
Аксамит — вид старинного плотного узорного бархата.
(обратно)35
Стоятельно — постоянно, стойко, твёрдо, упорно.
(обратно)36
Обельный — освобождённый от податей и повинностей.
(обратно)37
Чёрные сотни — здесь: соединения из одних монахов.
(обратно)




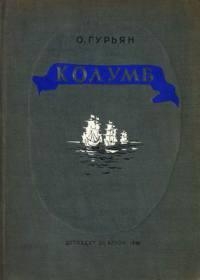
Комментарии к книге «Московский Ришелье. Федор Никитич», Таисия Тарасовна Наполова
Всего 0 комментариев